Илья Львович МИКСОН СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ
ШЕСТЬ СТРОК (Вместо предисловия)
Худые вести обуты в тысячемильные сапоги. Трагическое сообщение из Вьетнама догнало грузовой теплоход «Ваганов» в Северном море.
В рубке стоял полумрак. Горела лишь надстольная лампа в нахлобученном алюминиевом колпаке. Вытянув гибкую шею кронштейна, лампа близоруко уставилась в пишущую машинку. Каретка машинки от качки съехала до упора в сторону и спрятала в тень густо заполненный лист бумаги, словно напечатанные строчки заключали тайну.
Принятая радиограмма не была ни секретной, ни служебной. Очередной радиобюллетень газеты пароходства. Урезанной, предельно сжатой, втиснутой в жёсткие рамки отпущенного эфирного времени. Всё второстепенное отброшено, факты очищены от лишних слов, как орехи от скорлупы.
Встреча высокого гостя из братской страны.
Досрочный пуск домны в Сибири.
Открытие новой станции метро в Ленинграде.
Зарубежная хроника.
И эти шесть строк из Вьетнама…
Сеанс радиосвязи кончился. Николаев имел право спуститься в свою каюту на отдых. И время — самый сон, два часа после полуночи. Справа и слева по курсу ни огонька. Европа спит. Не засветились ещё окна и в Ленинграде, но там в прошедшую ночь в одной из квартир, наверное, и не смыкали глаз. Женщина, во всяком случае…
Николаев лежал на диване, упёршись длинными ногами в подлокотник. Крутые волны заваливали судно то на один борт, то на другой. Николаев тоже качался, но не замечал этого. Из головы не выходили шесть строчек.
И думал он вроде бы не о них, не о том, что случилось во Вьетнаме, вспоминал давнишнее, полузабытое, занесённое давним слоем времени. Копался в памяти, словно археолог на раскопках. Попадалось драгоценное, существенное и нечто случайное, забытые пустячки. Но теперь всё имело значение, было важным и дорогим.
Мысли Николаева обращались по замкнутым орбитам, как спутник вокруг Земли, то удаляясь, то приближаясь к главному центру.
Над головой, насторожённо выпучив рубиновое око, приглушённо урчал автомат SOS. Случится в море беда — автоаларм сработает, поднимет тревогу, зазвонит-затрезвонит, вызовет в рубку радиста. Сейчас автоматический приёмник сигналов бедствия молчал. Тому, что произошло во Вьетнаме, уже никто и ничем не мог помочь…
Через приоткрытый иллюминатор ветер трепыхал накрахмаленную занавеску. Она билась и шуршала, как светомаскировочная штора в разбитом окне.
Как тогда, в Ленинграде, в сорок втором…
Надо было встать. Встать во что бы то ни стало. Встать, преодолеть бесконечное расстояние между диваном и окном, прижать нижнюю кромку бумажной шторы к стене, приколотить гвоздями, сделать что-нибудь. Не для затемнения: электричества в городе давно не было, а последняя плошка сгорела.
Надо встать, закрыть амбразуру окна. Через раму с выбитыми стёклами врывались снежные заряды, сугроб дорос до дивана.
Он замерзал. Не мёрз, а замерзал. Насовсем, навсегда.
В одурманенном сознании билась несбыточная мысль: выбраться из-под вороха одеял и пальто. Они не грели, лишь давили на истощённое, сморщенное от холода и голода тело.
Выбраться, отгородиться от метели, спастись от лютого мороза. Изрубить бабушкин буфет с аппетитными тетеревами и виноградом на дверцах, разжечь железную печку-«буржуйку». (Бабушка и мама, когда ещё были живы, называли печку «буржуйкой».) Набрать в чайник снегу, поставить на огонь и потом медленно, обжигаясь, отхлёбывать животворный кипяток.
Всей жизни уже не хватит на эту работу! Руки, ноги — будто и нет их совсем. И не было никогда.
Разве эти ноги — неподвижные тонкие жерди — били когда-то по мячу? Возносили без передышки на пятый этаж?
Разве эти руки — тонкие ветки засохшего деревца — водили пером, держали паяльник? Отрывали киркой и лопатой щели-убежища у дома?
Разве была когда-то мирная жизнь? Без войны, без блокады, без смерти?
Он не сразу сдался: пережил всех в квартире и подъезде, а быть может, и во всём доме. Вокруг — мёртвая тишина.
Говорят: толстые больше страдают от голода. Но у тощих ведь никаких внутренних резервов! Вася с рождения худой и тонкокостный, вот и обессилел. На шестом месяце блокады.
Встать. Надо встать. Помог бы кто, одному не справиться. Верный друг Коська Смирнов исчез куда-то, неделю не виделись. Или две. Или месяц. Дни считать — тоже силы нужны.
Встать. Надо встать…
От мучительно долгого напряжения опять помутилось в голове. Тетерева на дверцах буфета ожили, принялись клевать виноград, защебетали:
«Вася… Вась, ты жив?»
Бред, конечно. Тетерева не попугаи, не разговаривают. Тем более деревянные. Это Коська зовёт. Стоит, наверное, внизу, на тротуаре, задрал вихрастую голову, приложил ладони рупором и кричит на весь Васильевский остров:
«Ты жив?»
Подбежать бы к окну, навалиться на подоконник, помахать рукой, ответить:
«Жив! Заходи! Ты где пропадал так долго?»
Вася собрался с силами и приоткрыл глаза.
Раскачиваясь, как белый медведь, мохнатый с головы до ног от инея, кто-то медленно-медленно приближался к дивану.
«Смерть пришла», — равнодушно подумал Вася и закрыл глаза.
Смерть тяжело присела на краешек дивана и заговорила немощным, старческим голосом:
— Вася, ты жив?
«Не видишь, что ли?» — хотел ответить Вася, только не смог.
Смерть наклонилась к самому уху.
— Ты жив?
Вася слабо шевельнул смёрзшимися ресницами. Теперь он точно знал, что жив. Перед ним был Коська Смирнов.
— Держись, — сказал Коська и опять исчез.
Через какое-то время явились два старика. А может быть, и не старика. Тогда все выглядели дряхлыми — и дети и взрослые.
Коська ждал в подъезде, выдохся. Первый день из госпиталя. Коську ранило осколком на Университетской набережной, рядом с госпиталем. Если бы его не ранили, он бы, наверное, просто умер от голода. И не пришёл бы за Васей.
Санки — на таких возили раненых, воду с Невы, мёртвых — потряхивало и качало на неровностях и ледяных торосах проспекта. Когда удавалось разлепить веки, виднелось серое небо в снежной кутерьме или заиндевевшее лицо Коськи. Он часто спрашивал:
— Вась, ты жив?
Он всё молил, требовал: «Живи… Живи. Живи!»
Ветер срывал верхушки сугробов, как пену с морских волн. Санки переваливались с холма на холм, и Васе казалось, что он на пароходе в штормовом Индийском океане. Стоит тропическая жара, и совсем не хочется есть. Нисколечко не хочется, как до войны.
Пароход качает, в лицо хлещет белая пена. Но ничего, стальной корпус не такой шторм выдержит, и машина сильна.
«Полный вперёд!» — капитанским басом командует Вася.
— Полегче, полегче, — хрипит кто-то, — перевернём…
А Коська одно и то же твердит:
— Вась, ты жив?
Он увидел в белом тумане Коську и снова провалился в небытие. Спустя несколько минут воспалённый мозг опять заработал, но теперь Вася очутился не в будущем, а в прошедшем. Они с Коськой третьеклассники и уже связаны нерушимой клятвой, сверхсекретной. Никто и не догадывается, что они посвятили свою жизнь морю. Никто, разве что дома…
«А это откуда? — упавшим голосом спрашивает мама, разглядывая вывернутый манжет рубашки. Там лиловое пятно. — А ну покажи руку, безобразник!»
Этого он не сделает и под страшной пыткой! На левом запястье «вытатуирован» чернильным карандашом матросский якорь.
…Огромный вал с такой силой обрушился на палубу, что застонали переборки. Теплоход затрясся на пенистых обломках волны, как на ледяных торосах.
Николаев крепче упёрся ногами.
— Вконец озверели, — пробормотал он вслух.
И было непонятно, кого он имел в виду: штормовые волны, атаковавшие «Ваганов», фашистов, вцепившихся в горло Ленинграда в ту войну, или тех, кто напал вчера на советское торговое судно в мирном вьетнамском порту.
Если бы он был в ту минуту там! Броситься на помощь, подхватить оседающего, залитого кровью Костю. «Коська! Друг! Живи, Коська! Живи!»
А Костя ответил бы, наверное, умирающим голосом блокадного мальчика: «Поздно, Вась… конец».
Николаев так живо представил себе последний разговор с другом, разговор, который не был и уже никогда не мог состояться, что на лбу выступила испарина. Он покрутил головой. Плакать Николаев не мог: разучился в блокадные дни и ночи.
В детдоме на Урале Вася Николаев и Костя Смирнов уже не рисовали якоря на запястьях, но остались мечта, клятва, верность намеченной цели жизни.
Константин стал механиком, Василий — радистом. Друзья плавали одну навигацию вместе, затем морская служба разъединила их.
Годами не встречались, только и обменивались праздничными телеграммами и радиограммами.
Когда у Кости с Мариной родился первый сын, Лёшка, Николаева, как ближайшего друга, объявили названым отцом. Но Николаев впервые увидел своего крестника, когда тот уже топал по комнате. Потом появился Дима. Костя был счастливым отцом.
И вот эти шесть строк… Военный лётчик с американского самолёта «Фантом» сбросил бомбу за много тысяч миль от берегов Америки.
Советский теплоход доставил во Вьетнам одежду и хлеб для городов и селений, уничтоженных напалмом. Доставил с трудом и риском, почти как доставляли когда-то в осаждённый Ленинград продовольствие по Ладожской «Дороге жизни».
«А Костина семья! — горько подумал Николаев, и сердце его сжалось. — Им каково? Жене — вдове теперь, детям — сиротам отныне, Лёшке и Диме. Конечно, Лёшке уже восемнадцатый пошёл, а всё равно не взрослый».
Николаев рывком поднялся с дивана. Пока нагревались лампы передатчика, заполнил бланк радиограммы. Перечитал, скомкал. Написал заново. Опять не то!
— Словами не поможешь, — сказал вслух Николаев. — Отпуск надо брать.
Глава первая КАЛЫШКА
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
— Отдать кормовой!
Загудела лебёдка. Продольный швартовый обвис дугой, и двое на причале стянули с лобастой головы кнехта толстую петлю.
Последний трос, связывавший судно с берегом, плюхнулся в воду.
— Вирай!
Конец спешно вытянули на палубу.
Портовый буксир натужно вскрикнул и потащил судно от пирса. Тёмная полоса между кормой и стенкой расширилась, заиграла отражёнными огнями.
Второй штурман перегнулся через оградительную цепь, посмотрел на воду и доложил в микрофон на капитанский мостик:
— Корма чисто!
В ответ прозвучал охрипленный мегафоном голос:
— Хорошо.
Лёшка стоял поодаль от работавших. От его помощи отказались. Он обиделся, но промолчал.
Отход судна, как и швартовка, момент серьёзный. Не до просвещения новичков, только поспевай выполнять команды, несущиеся из динамика, и приказы второго штурмана, который находится здесь же, на корме. И старший матрос рядом. Распоряжения следуют одно за другим, промедление недопустимо, и без твёрдых навыков, без опыта не управиться.
У Лёшки не было ни навыков, ни трудового опыта. Официально он палубный практикант, а на самом деле всего-навсего матросский ученик. Настоящие занятия начнутся, наверное, завтра. Сейчас тоже урок, но, как выразился боцман, оглядный.
Лёшка и стоял без дела, стоял и глядел. Никто не обращал на него внимания. Лёшка тихо удалился. Он прошёл на нос и поднялся на полубак.
Матросы сматывали на барабан вьюшки тонкий стальной трос. «Шпринг», — отметил про себя Лёшка. Что-что, а морские термины он усвоил с детства. Отец даже дома называл лестницу трапом, порог — комингсом, пол — палубой, стены — переборками.
Кряжистый, плотный человек, боцман Зозуля хозяйственно распорядился:
— Манилу завтра уложим. Обмакнули всё-таки. И калышек полно.
Лёшка напряг память: «Манила» — манильский трос, свит из волокон абаки, дикорастущих бананов. Прочен, намокает мало. Странное слово «калышка» встретилось впервые. Что оно означает?
Спросить было некого: все заняты. Лёшка спустился обратно, вернулся на корму, а оттуда забрался по наружным стальным трапам на самую верхнюю палубу, именуемую пеленгаторным мостиком. Здесь было промозгло и безлюдно, как на плоской крыше высотного дома.
Ночь и туман скрывали город. Фонари пакгаузов и подъездных путей, высокие, как звёзды, оградительные огни портовых кранов светились расплывчато и тускло.
Судно казалось частью города, одним из его островов, населённым, густо застроенным, но уплывающим в море.
Название судна было написано на носу и на корме — «Ваганов». На корме стояло ещё одно слово — имя прославленного города. «Ваганов» носил его как отчество — Ленинград. И так же, как Ленинград, «Ваганов» был частицей всего Отечества.
В каких бы водах мирового океана «Ваганов» ни плыл, в каких бы чужеземных портах ни стоял, все члены экипажа, от капитана Астахова до матросского ученика Лёшки Смирнова, чувствовали себя полномочными послами, дипломатами, представителями Советского Союза.
Торжественный, полный высокой значимости акт выхода в заграничное плавание сейчас никого не занимал на «Ваганове». Привычное дело, очередной рейс, по горло срочной, ответственной работы.
И Лёшка не впервые уходил в море — несколько раз совершал малый каботаж на судне отца. Вернее, на судах: отец плавал и на пароходах, и на турбоходах, и на теплоходах. Лёшка ездил с мамой, а позднее и с Димкой в Ригу, Таллин, Калининград. Они встречали отца. Судно не каждый раз возвращается в порт приписки. Бывает, что доставленные товары удобнее или выгоднее разгрузить в другом месте.
Вот тогда Лёшке и удавалось пожить несколько дней в отцовской каюте. Потом судно уходило в Мексику, Канаду, Францию. Или ещё куда-нибудь, на другой край земли.
Последний рейс отца был во Вьетнам…
Лёшка вздохнул.
Справа остался последний береговой огонь. Буксир прощально гуднул, отвалил в сторону и круто развернулся на обратный курс.
Палуба под ногами задрожала сильнее и чаще, вдоль бортов запенились и зашипели белые волны. Казалось, судно не плывёт, а едет по заснеженной дороге и, словно бульдозер с треугольным ножом, расчищает путь.
Главный двигатель набирал обороты, входил в полную мощь, а Лёшка внезапно ослабел, припал грудью к планширу, зашмыгал носом, замотал головой, чуть не заревел в голос. Так ему вдруг тошно, так одиноко и тоскливо на свете стало! Но он тотчас опомнился, пугливо оглянулся: нет ли кого?
На мостике не было ни души. Закутанные в брезент, стояли по бокам тумбы навигационных приборов.
Согнутая ладонь антенны локатора непрерывно вращалась, озирая туманное море. На верхушках двуногих мачт горели топовые огни.
Залезть бы туда, сложить ладони рупором и закричать, чтобы дома услышали: «Ма-ма!»
«Тебе так хорошо-о, — сказал Димка, прощаясь, — ты та-ак уезжаешь, а мы так не-ет».
Привычку взял такать и завидовать! Стоило Лёшке собраться куда-нибудь, Димка сразу хныкал: «Ты та-ак…» Сейчас, в эту минуту, Лёшка не злился, как обычно, на брата. Свершись чудо и окажись он тут, на мостике, Лёшка бы, наверное, поклялся никогда и никуда не уходить без него.
Из распахнутого светового люка машинного отделения сочилась блёклая желтизна. Остеклённые створки люка похожи на парниковые рамы, но снизу пахнет не огурцами, а перегретым машинным маслом. Так пахли отцовские рубашки, белые нейлоновые рубашки, которые мама перестирывала, хотя отец и уверял, что отмачивал их в специальном мыльном растворе сутками.
«Но ты же в них спускался в машину!» — говорила мама.
«Один раз, Мариночка! — оправдывался отец. — И я всегда закатываю рукава!»
Когда привезли отцовские вещи, они тоже пахли маслом. Они и до сих пор пахнут машиной и морем.
Трудно сказать: если бы отец был жив, пошёл бы Лёшка в матросы или нет? Скорее всего, нет. Отец и мама и заикаться о море не разрешали. «Думать не смей! Куда хочешь: в сапожники, художники, астрономы — только не в море!»
Но Лёшка мечтал только о море. Это было не просто возвышенное и туманное желание, а неодолимая сила. Всё остальное — рисование, гитара, футбол — было второстепенным увлечением. Он не отдавался им и наполовину, быстро охладевал, не достигнув сколько-нибудь заметных успехов. Причиной тому была всё та же страсть к морю, единственно настоящая. Все же считали, что мешала леность, и с детства попрекали его. Лёшка не был лодырем, он не питал отвращения к работе, но страдал замедленностью во всём, что делал. Это проявлялось и в походке — вперевалку, нога за ногу, в манере говорить — тягуче, с паузами, даже в улыбке — растянет немного губы да так и застынет.
Округлое лицо с широко поставленными глазами и ямочкой на подбородке выражало постоянное благодушие и доброту.
Выше среднего роста, широкий в плечах, крепко сбитый, Лёшка по всем статьям годился в моряки, но дома об этом и слышать не хотели.
«Хватит нам и одного вечного бродяги!» — категорически заявляла мама, выразительно поглядывая на отца.
С раннего детства Лёшка только и слышал: «приходит», «уходит», «в рейсе». Не сосчитать, сколько раз встречали и провожали отца.
Сегодня провожали Лёшку. Впервые — в море, в самостоятельную жизнь. Расставание было тяжким, мучительным. Отход затянулся, и Лёшка — стыдно признаться! — с тайным нетерпением ждал, когда наконец объявят по судовой трансляции: «Внимание! Всем посторонним покинуть судно».
Это значит: на борт прибыли пограничники и таможенная комиссия, члены экипажа обязаны разойтись по своим каютам, а посторонние — жёны, дети, родители моряков — сойти на берег.
Трап превращается в пограничный мост. На пирсе, как на государственной границе, стоят солдаты в зелёных фуражках.
Судно уходит в дальнее плавание, за границу.
«Посторонним покинуть судно». Холодные, строгие, обидные слова, а ничего не сделаешь: граница! «Ваганов» ещё стоял у родного причала, но граница уже разлучила моряков с семьями, с «посторонними». Они остались по ту сторону трапа, на земле.
Когда этот мост вновь соединит их: через месяц, два, полгода? И отец, бывало, уходил как будто ненадолго. «Ерунда, Мариночка! Трамвайный рейс — в Амстердам и назад». Но из Голландии прилетала радиограмма: «Пошли на Кубу». Или в Марокко. Или ещё куда-нибудь за семь морей и океанов.
Лёшка тоже уверял маму, что скоро вернётся, но она-то знает, каким долгим сроком оборачивается это «скоро». Всю жизнь мама ждала отца. И Лёшка ждал. У других ребят отцы как отцы — все триста шестьдесят пять дней в году дома. Дети моряков не видят отцов месяцы и годы.
Ничего нет на свете хуже, чем расставание! Когда в конце концов защёлкал динамик, Лёшка вздрогнул, словно и не ждал этого момента.
Мама не плакала, но и по глазам было видно, что у неё всё внутри плачет. Димка затянул было своё «Тебе та-ак…» и осекся. Мама обняла обоих, Лёшку и Димку, громко прошептала:
— Всё будет хорошо, мальчики мои. Всё будет хорошо…
Так всегда говорил отец: «Всё будет хорошо, мальчики мои, всё будет хороню, Мариночка». А мама напутствовала: «В добрый путь!» Потом от отца приходили короткие вести с разных концов земли, и Лёшка перетыкал на большой, в полстены, карте мира красный флажок, отцовский след.
Не так часто видел Лёшка своего отца, чтобы забывать его слова. И умел отец говорить так, что помнилось.
Накануне последнего рейса отец долго стоял у карты мира, вспоминал свою жизнь по тонким цветным линиям рейсов, которые с малых лет старательно вычерчивал Лёшка.
— Это мои следы на земле, — задумчиво проговорил отец.
Трассы проходили по голубому и синему, они лишь начинались и оканчивались у коричневых, жёлтых и зелёных берегов. Лёшка хорошо знал карту, он и читать научился по географической карте, а не по букварю.
— На море! — поправил Лёшка.
Отец покачал головой.
— Нет, сын. На воде следы не остаются, только на земле. Всё, что творит человек — в океане, на берегу, в небе, — всё для людей. Человек оставляет свой жизненный след на земле.
На другой день отец ушёл в свой последний рейс.
После гибели отца Лёшке всё как-то сделалось безразличным. Мама почувствовала, поняла его настроение и потому, наверное, дала согласие. И дядя Вася сыграл важную роль. С другим мама не отпустила бы. Будто Лёшка отправлялся в турпоход, а не на работу.
Отец и дядя Вася плавали матросами, пока не поступили в высшее мореходное училище. Отец — на заочное отделение, а дядя Вася на дневное. И Лёшка будет учиться, но не на радиста или механика, а на штурмана и станет капитаном, капитаном дальнего плавания.
До этого ещё далеко, ох как далеко!..
Лёшка протяжно вздохнул и зябко повёл плечами.
Бак обезлюдел, никого не было уже и на главной палубе. Пора было укладываться, но уходить не хотелось.
— Так я и думал, — раздался за спиной голос Николаева. — Не спишь, конечно.
Он положил руку на Лёшкино плечо.
— Всё правильно. И я, когда впервые попал в море, сутки проторчал здесь. Не один, правда…
О той ночи и отец рассказывал: до самого рассвета простояли тогда на верхнем мостике два друга.
Когда отец уходил в рейс вечером или ночью, мама до утра не ложилась.
Приедет домой из порта, сядет в кресло и вяжет. Свитер для отца, пуловер Лёшке или Димке что-нибудь. И перед возвращением отца не спит никогда.
— Мама, наверное, новый свитер начала, — сказал вслух Лёшка.
— Всё будет хорошо, не тревожься. — Николаев притянул его к себе.
Они постояли молча. У Лёшки немного отлегло от души.
— Всё будет хорошо, — повторил Николаев и отстранился. — А теперь — отдыхать, Лёша. У тебя завтра нелёгкий день будет. Рабочий…
Иллюминаторы в каюте были зашторены плотными занавесками. В темноте Лёшка опрокинул складной стул с одеждой соседа. Тот мгновенно зажёг у изголовья свет. Лицо оставалось в тени, а рыжие волосы засветились, как неоновые.
— Кто? Что?
— Это я. Спи.
— Да-да, — пробормотал сосед.
— Ты не знаешь, что такое «калышка»? — спросил вдруг Лёшка.
— Кто? Что?
— Ка-лыш-ка, — по слогам сказал Лёшка.
— Калышка… — Сосед сладко почмокал губами, будто варенье пробовал. — Загогулина такая.
Лёшка невольно заулыбался. Сосед помедлил секунду и нашарил выключатель.
«Загогулина… — повторил про себя Лёшка, опять оставшись в темноте. — А что значит загогулина-калышка?»
КАЛЫШКА
Розовое небо светилось над розовым морем.
Тесно прижимаясь к стальному корпусу, неслась от форштевня тугая белая волна. Дойдя до середины, она косо отходила в сторону, гофрируя зеркальную гладь. От кормы до неразличимого горизонта тянулся клокочущий пенный след.
Лёшка глубоко вдыхал полной грудью ароматный, йодистый воздух, жмурился от солнца, улыбался, сам не замечая этого, — так хорошо ему было.
Прекрасное утро предвещало прекрасный день. Не только день — будущее.
Впереди белые заморские города, легендарные тропики Рака и Козерога, синяя бесконечность. Впереди удивительные приключения, необыкновенные встречи и события.
Впереди ураганные ветры, свирепые штормы, жизнь отчаянного риска и схваток с необузданной со дня сотворения мира водной стихией.
Вёсельные галеры, парусные фрегаты, колёсные пароходы, турбоходы, теплоходы и атомные корабли… Техника мореплавания проделала путь, не меньший, чем живая природа от червя до альбатроса, а морская профессия — одна из самых древних мужских профессий на земле — по-прежнему одна из самых мужественных.
Он думал о море красивыми, возвышенными, но чужими словами, ибо своих слов у него ещё не было. Ему лишь предстояло познать настоящую цену матросского хлеба, не самого лёгкого хлеба на свете.
И всё-таки Лёшка думал о море и своём будущем светло и радужно не потому, что пребывал в полном неведении о трудностях жизни моряка. Напротив, они-то, трудности и опасности, привлекали его романтическую душу, жаждавшую приключений и героических действий. Конечно, он никому не признавался, что мечтает о подвигах, как и не задумывался над тем, способен ли на это. Просто он считал: сын героя не может быть трусом. Не должен. И уж во всяком случае сын обязан быть достойным своего отца, а Лёшка хотел этого больше всего. Отец сказал когда-то: «Ты моё будущее». Слова запомнились и после гибели отца приобрели особенный смысл: Лёшка заменит отца.
«Не держи его, Марина», — сказал дядя Вася.
«Как я могу отпустить его? Опять бояться и ждать, ждать и бояться!»
«Море и его призвание, Марина. Один рождается математиком, другой — композитором. Лёша — прирождённый моряк. Отпусти его. Увидишь: и тебе легче будет. Ты уже не можешь не ждать».
За неделю до вступительных экзаменов Лёшка забрал из института свои документы. Молодая секретарша уставилась на него как на сумасшедшего: «В матросы? В простые матросы?! Эх, ты… Матрос вроде чернорабочего…»
Лёшка не удостоил её ответом. «Чернорабочий…» Все великие мореходы и адмиралы начинали с простых матросов!
«Чернорабочий…» Слово-то какое брезгливое, высокомерное. Вспомнил, и сейчас противно стало.
Лёшка сплюнул за борт. Белый комочек утонул в белой кипени и умчался назад.
Посмотрим ещё, кто чёрный, кто белый, кто настоящий, кто «эх ты!»…
— Эй, ты! — окликнул с верхней палубы грубый голос Зозули. — Чего расплевался!
Море для моряка, что колодезь в деревне. Плевать за борт — невоспитанность.
Лёшка отпрянул назад, повернулся и встретился лицом к лицу с соседом. Он выглядывал в иллюминатор.
Каюта практикантов была на главной палубе и выходила иллюминаторами в открытый коридор правого борта. Палуба второго «этажа» нависала над коридором, словно крыша веранды.
— Койку прибирать не думаешь?
— Думаю.
— Живее! На завтрак опаздываем.
Лёшка равнодушно отмахнулся: человеку настроение испортили, а тут какой-то завтрак.
Он переступил высокий комингс и дёрнул ручку. Дверь не подалась. Лёшка дёрнул сильнее, ещё сильнее.
Сосед выглянул из каюты:
— Защёлку подними. Сверху, в уголке. Вот-вот. Впрочем, не закрывай, тепло на улице.
— На улице, — пробормотал Лёшка и пошёл застилать постель.
— Живее, на завтрак опоздаем! — опять напомнил сосед.
В рабочих брюках на лямках и разодранной на тощей груди тельняшке он выглядел забавно. Звали его Павел, а фамилия — Кузовкин.
В столовой команды людей было немного. Ночная вахта ещё не освободилась, утренняя уже поела и ушла. Первый стол от двери занимало непосредственное матросское начальство: боцман, старший матрос, старший моторист, артельный. Все гладко выбритые, причёсанные, в белоснежных рубашках с туго закатанными рукавами. И не подумаешь, что несколько часов назад они тащили тяжёлые мокрые канаты, ворочали бочки, орудовали гаечными ключами, сматывали промасленные стальные тросы.
У Павла развязался шнурок на ботинке.
— Иди, я догоню.
Перед входом в столовую Лёшка столкнулся с высоким блондином, матросом первого класса Федоровским. Лёшка вежливо пропустил его вперёд.
— Доброе утро, приятного аппетита! — поздоровался Федоровский, сразу обращаясь ко всем.
— Доброе утро. Приятного аппетита, — повторил вслед Лёшка.
Кто сказал «спасибо», кто — нет, но все ответно кивнули.
Лёшка опустился в удобное вращающееся металлическое кресло с подлокотниками и мягким кожаным сиденьем.
Место ему отвели такое, что он всё время видел перед собой боцмана. Ел Зозуля степенно, домовито, основательно. И молча. Вдруг он опустил кружку с чаем и уставился на Лёшку.
Сзади заученной скороговоркой невнятно произнесли:
— Доброутроприятноаппетит!
— Паша, — врастяжку сказал боцман.
Федоровский коротко хмыкнул: «Ну даёт твой сосед!»
— Распустилась молодёжь! — прокурорским тоном изрёк боцман.
— Чего, товарищ боцман? — невинно спросил Паша.
— Сейчас ему дракон задаст на полный максимум-минимум! — предсказал Федоровский.
— Далеко собрался, Паша? — ласковым голосом поинтересовался Зозуля.
— Завтракать и на работу.
— На работу, значит. А я думал, на праздник Нептуна. Только далековато ещё до экватора, Па-ша.
— Далеко, товарищ боцман.
— Ну, тогда сходи да переоденься в человеческое, Паша. Сделай такое одолжение, уважь компанию.
Паша исчез.
— Распустилась молодёжь. — Зозуля так и сверлил Лёшку чёрными глазами.
У Лёшки хлеб в горле застрял.
— Паштет бери. — Федоровский пододвинул раскрытую консервную банку.
— Спасибо, — прохрипел Лёшка.
— Напрасно отказываешься: до обеда проголодаешься как зверь.
С трудом проглотив застрявший хлеб, Лёшка заторопился вон.
— Смирнов!
Всё в Лёшке замерло. Сейчас дракон ославит его на весь экипаж: «Распустилась молодёжь! Только на борт поднялся, заплевал всё море!»
— Спецовку получи. После чая сразу к шкиперской подходи.
Лёшка перевёл дух.
— Я уже, я готов.
— А я — ещё нет, — спокойно сказал Зозуля и взялся за чайник. На облупленном носу боцмана блестели капельки пота. — Распустилась молодёжь, — повторил он. — Разве такие матросы раньше были?
— В русско-японскую? — насмешливо подал кто-то голос из угла.
— Перед Отечественной.
Лёшка стоял, не зная, уходить или оставаться. «Сколько же Зозуле лет, если он ещё до Великой Отечественной войны плавал? Меня тогда и на свете не было». Зозуля не досказал, какие раньше матросы были, занялся очередным бутербродом.
Лёшка вышел в коридор и стал дожидаться боцмана. Откуда знать, куда идти? Много у боцмана кладовых: всё палубное судовое имущество на его ответственности. Тросы, краски, ветошь, инструменты, чехлы, запасные части, шлюпки, плотики, даже запасной якорь, что лежит на корме, в ведении боцмана. И спецодежда, и обувь…
Выдав Лёшке тёмно-синие брюки, куртку, ватник, тяжёлые ботинки и лёгкие туфли, похожие на домашние шлёпанцы, но на резиновой подошве, Зозуля повёл его на корму, в тросовую. Там держали мыло и порошки.
Стиральный порошок хранился в деревянной бочке; Зозуля насыпал с полкилограмма в бумажный кулёк.
— Для нейлона малопригоден, а робу отстирывает добела.
Лёшка подумал, что отец, наверное, замачивал свои белые рубашки в растворе из такого порошка.
— Прачечная знаешь где? Внизу, да. Там две стиральные машины. Пользуйся. Выключать только не забывай… Ну, лады. Переодевайся — и на полубак. На нос, значит. Да, как устроился?
«Почему его драконом зовут? Никакой он не дракон. Боцманы-драконы давно вывелись на флоте, вымерли, как динозавры. Это ещё отец говорил».
— Спасибо, товарищ боцман, нормально.
— Ну, лады.
Сделать калышку ничего не стоит. Перекрутился трос, запетлил — вот и калышка. Разгоняй теперь, распрямляй, вытягивай в нитку.
Жёсткий швартовый манильский трос толщиной с руку боцмана Зозули. Распутать манилу и уложить не просто. Впятером бились. Лёшка с напарником разворачивали калышку в петлю диаметром с колесо самосвала, ставили вертикально и перекатывали до конца троса. Петля исчезала, а вместе с ней и калышка. Федоровский и Паша вытягивали всё удлиняющийся участок манилы по палубе.
Разделавшись с одной калышкой, приступали к следующей. Манила, будто гигантский удав, вырывалась, изворачивалась, сопротивлялась яростно и жестоко. Матросы бились с ней, как с живой. Петля то и дело заваливалась, её снова ставили торчком и, напрягаясь всем телом, катили вперёд.
Катить с каждым разом всё дальше и дальше, а калышкам числа нет. Вперёд, опять назад, опять толстенный золотистый жгут петлёй-колесом, опять — навались! Ноги напряжены до дрожи, немеют пальцы, жилы на шее вздулись.
— Давай-давай! — подгонял Зозуля. И помогал то одним, то другим.
Осенний балтийский ветер продувал до костей. Пот высыхал, как на морозе. Разлохмаченные волосы прилипли ко лбу.
Осталась треть бухты, а силы — все, выдохся Лёшка. Не разогнуть спины, мышцы, как порванные струны, в глазах чёрные мухи.
— Давай-давай!
Зозуля наладил швартовую лебёдку. Трос ещё нужно пропустить через барабан со смешным названием «турачка» и аккуратно уложить в специальный ящик под палубой. А сил уже нет, но стыдно жаловаться, просить пощады, отдыха, чтобы свалиться и лежать, не шевелясь, минуту, две, час…
— Давай, молодёжь!
Ему что, Зозуле, любая тяжёлая работа — пустяк, натренировался за четверть века. И в те четыре года, которые не плавал, а воевал в морской пехоте, тоже закалялся. Лёшка не приучен к физической работе. Пусть Зозуля думает и делает что хочет, но Лёшка — всё.
Он поднял голову, продышался и вдруг посмотрел на Пашу. У того с Федоровским задача не легче, и — ничего. Тянут себе. Не вспотели даже. Или вспотели, да не видно.
Неужели Лёшка слабак в сравнении с таким тощим, хилым цыплёнком?
Лёшка сцепил зубы и с какой-то яростной, отчаянной силой набросился на проклятую закалышканную манилу.
Зозуля загонял в гнездовье швартовый манильский трос, будто индийский факир змею в корзину.
— Понял, что такое калышка? — придыхая, как астматик, спросил Паша.
Последний рывок окончательно опустошил Лёшку — и кивнуть не смог, — но едва присел, новая команда:
— Кузовкин, Смирнов — люки задраивать!
Федоровский покажи. Федоровский взял небольшой ломик, вставил острый конец в гнездо откидного стопорного зажима и с усилием повернул его. Стальная шарнирная лапа прижала закраину трюмной крышки к резиновой прокладке, чтоб и в сильный шторм ни капли внутрь не проникло.
С первым и вторым трюмами управились к одиннадцати. Лёшка даже часы к уху поднёс: идут ли? Неужели они работают всего три часа? Руки, ноги — всё тело ноет, а до обеденного перерыва целая вечность, три тысячи шестьсот секунд!
— Смирнов, Кузовкин, Федоровский — на корму, баки опорожнить.
К железным бакам с пищевыми отходами привязали для страховки прочные лини и опрокинули за борт.
Сразу же налетели чайки, с криком набросились на объедки.
Водворив баки на место, взялись за бочки с машинным маслом. Каждая бочка — четверть тонны.
— Так эти не наши, дедово хозяйство, — слабо запротестовал Паша. Не хотелось ему ворочать тяжеленные цилиндры, связывать их, крепить к палубе. И бочки и трос — в масле.
— Тельняшечку свою жалеешь? — угрюмо пошутил Зозуля. — Перетрудился! Деду с его ребятами работёнки хватит.
«Дед» — старший механик. После рейса во Вьетнам Лёшкиного отца должны были повысить. Он заранее посмеивался:
«Вот так-то, Мариночка, станешь ты скоро женой деда!»
Раньше, чтобы дослужиться до высокой должности старшего механика, обрастали дедовской бородой.
Отцу не исполнилось и сорока…
Лёшка первым взялся за бочки с машинным маслом.
— Вот это по-молодёжному, — негромко похвалил Зозуля.
Затем подметали и скатывали водой из шланга всю кормовую палубу.
Точно в двенадцать Зозуля объявил довольным голосом:
— Перекур с макаронами по-флотски!
Лёшка ел не разбираясь: давно он таким голодным не был. И таким усталым. Последний раз, наверное, в прошлом году, когда на спор трижды подряд переплыл туда и обратно озеро Красное, а ширина его почти километр. Лёшка вылез тогда на берег чуть живой, но счастливый. Ребята смотрели на него как на героя. Герой не герой, но не всякий столько часов продержится на воде! Лёшка потом даже перед дядей Васей похвалился, по секрету: выдала бы мама за такое!
И дядя Вася не очень-то восторгался: «На миру, конечно, и смерть красна. А стоило ли рисковать? Из-за чего? Во имя чего? Подвиги не на пари, не для личной славы свершаются».
Лёшка пытался оправдаться: не в пари главное, он себя проверял, осилит или нет. И кроме того, это же тренировка! «Разве что тренировка», — уступил дядя Вася.
Чёрта с два выдержал бы Лёшка такую «тренировку» без свидетелей! Он бы и сейчас, работая в одиночку, давно с ног свалился.
Как же не хотелось натягивать после обеда робу!
Опять задраивали трюмы, наводили порядок в тамбучинах — кладовых внутри коробчатых оснований грузовых мачт, расклинивали и заливали цементным раствором якорь-цепи в палубных клюзах.[1]
На полдник уже никто не переодевался, расположились табором в коридоре и напились чаю с галетами. Лёшка еле добрался до койки и заснул мертвецким сном. И на ужин не пошёл.
— Ну и здоров ты спать! — с искренним восхищением сказал на другое утро Паша. — Я так больше двенадцати часов не улежу.
— Сколько я проспал? — пробормотал Лёшка. Он повернулся на бок и тихо охнул: всё тело ломило.
— Семнадцать часов ноль восемь минут! — торжественно объявил Паша, словно передавал по радио новый олимпийский рекорд. — Поднимайся, а то на завтрак опоздаем.
И начался новый день, такой же нелёгкий и не героический, как и первый. А за ним третий, четвёртый… И снились Лёшке не кокосовые архипелаги, не синие дали, а бочки, тросы, скребки, ржавая пыль, вёдра с краской, суровые нитки для сшивания брезента, снилась швартовая манила с калышками.
ПАПИН ПАРОХОД
Перед Гамбургом, на правом берегу северного рукава Эльбы, лежит на зелёных холмах небольшой городок Ведель. Таких городков много в Европе и в других частях света.
Не меньше и яхт-клубов. Но каждый раз, когда судно приближалось к Веделю, Николаев выходил на крыло мостика, смотрел и слушал.
Яхт-клуб Баухор-Ведель издавна торжественно приветствует все корабли, идущие в Гамбург и обратно. Встречает и провожает мореплавателей флагом и гимном их родины.
За двенадцать ли миль от родного берега, где проходят морские границы территориальных вод, за двадцать ли тысяч, где кончается географическая карта, — всюду и везде символы твоего народа, твоей земли, твоего дома волнуют остро и сильно.
Николаев смотрел и слушал, пока не смолкал последний звук и Ведель не скрывался за элеватором, похожим на неприступный средневековый замок.
И сегодня, как всегда, едва на траверзе показались мерцающие огни Веделя, Николаев покинул радиорубку и вышел на крыло.
Где-то наверху тихо переговаривались.
— Паренёк ничего, подходящий, — хвалил кого-то Зозуля. — Толк будет. Вспомните моё слово: максум через год до первого класса дойдёт.
— Максимум, — привычно поправил артельный Левада.
— Без тебя знаю, — мирно выговорил Зозуля. — Мне «максум» привычнее. А из Смирнова толк будет, будет. Молодой он ещё, конечно, малорасторопный, но не сачок. И море любит.
— Это верно, — подтвердил Федоровский. — Вот о Паше такого не скажешь.
Зозуля тяжело вздохнул:
— Паша — другой. И дело вроде бы освоил, поднаторел за практику, а в матросы производить рано.
— Устав бы ему дочитать, — с усмешкой произнёс Левада. — Права усвоил, а обязанности на чужие плечи перекинуть старается.
— Права качать он умеет, — опять вздохнул Зозуля и твёрдо закончил: — Но ничего, час придёт — дурь из него выйдет. Море не таких обламывает.
— И ломает, — сказал Федоровский. — Кого — и надвое, не склеить потом.
— Бывает, — философски согласился Зозуля. — Поплаваем — увидим.
«Где же Лёша? — подумал Николаев. — Наверху его, ясно, нет. Неужели спит? После такой радиограммы!»
Лёшка ещё ни разу в жизни не получал в море радиограмм. С моря на берег — не счесть, с берега — никогда. Уже это одно возбуждало тревогу. Что там случилось? С мамой что-нибудь? У неё последнее время болело сердце, и сосед, доктор Фёдор Фёдорович, делал ей уколы.
— Читай, — торжественно сказал Николаев и сунул в руку жёлтый листок.
Лёшка крепко сжал его, но взглянуть не решился.
— Читай.
Лёшка отступил, испуганно замотал головой.
— Всё хорошо, Лёша, всё хорошо.
И он прочёл. Раз, другой, третий… Прочёл и ничего не понял.
ДВАДЦАТОГО СПУСК НОВОГО БМРТ КОНСТАНТИН СМИРНОВ ВЫЛЕТАЕМ НИКОЛАЕВ ЦЕЛУЕМ МАМА ДИМА.
Что значит БМРТ? При чём тут имя и фамилия отца? Какая связь между этим и Николаевым?
— Почему ты молчишь, Лёша? — Николаев обнял его за плечи и потормошил. — Не мрамор, не бронза, не деревянный обелиск — живой пароход!
И до Лёшки дошло: именем отца названо новое судно, большой морозильный рыболовный траулер, БМРТ, мама с Димкой вылетают в город Николаев на торжественный спуск «Константина Смирнова» на воду.
Именем отца… Нет, сразу не понять, не осмыслить. Именем отца! Лёшка волновался всё сильнее, не зная ни что надо сказать, ни что делать…
И позднее, когда его поздравляли все ребята палубной и машинной команд, штурманы, механики, помполит, сам капитан, Лёшка отвечал на рукопожатия, улыбался, говорил «спасибо», голова всё ещё шла кругом и никак не удавалось вообразить пароход с крупной надписью «КОНСТАНТИН СМИРНОВ». По носу и на корме, а на верхнем мостике, на белых щитах, для всего мира латинскими буквами — KONSTANTIN SMIRNOV.
За ужином он что-то ел, пил, не ощущая ни запаха, ни вкуса, далёкий от происходящего вокруг. Вернул его на палубу «Ваганова» боцман Зозуля.
— Значит, так, — объявил он на всю столовую, — к полуночи в Эльба-реку войдём, ошвартовка в два тридцать. Ты, Смирнов, спокойно отдыхай себе, без тебя обойдёмся. Такому делу при солнце учиться надо.
«Да, конечно, — подумал Лёшка. — И я… У меня сегодня…»
— И поспать перед вахтой положено, — закончил Зозуля. — С восьми к трапу заступишь. Инструктаж на месте. Сменит тебя Шавров.
— Понятно, — без особого удовольствия отозвался матрос Шавров. — А я в город собирался.
— Значит, не пойдёшь.
— Значит, не пойду, — вздохнул Шавров.
Тут только Лёшка понял, что и ему не выбраться в Гамбург.
— Я тоже, — поднявшись с кресла, упавшим голосом произнёс Лёшка, — и я в Гамбург…
Чёрные брови Зозули сдвинулись вплотную.
На помощь Лёшке неожиданно пришёл Федоровский.
— Вы же знаете, товарищ боцман, — сказал он укоризненно, — такое событие у него, а вы…
— Что я? — искренне удивился Зозуля. — Я его поздравил, все видели. А дальше что? Что дальше? В рамку его портретную вставить? От работы освободить, пыль сдувать? Он есть матрос, а судно, между прочим, не в его честь названо.
— Но Константин Смирнов отец его! — напомнил Паша.
— Ты, Паша, не шуми. — Голос Зозули сделался спокойным и рассудительным. — Разберём с максумальной вдумчивостью. Итак, назвали траулер именем Константина Смирнова. А какая в том личная заслуга Алексея, сына его? Ни-ка-кая. Сын героя. Это, конечно, гордость и почёт, можно сказать. Но! — Зозуля высоко поднял руку с отставленным пальцем. — Но и ответственность. Персональная! Тем более в данном случае: Алексей наш не только сын героя-моряка, но и сам моряк, матрос. А что есть вообще матрос?
Никто не отозвался. Зозуля принял молчание за полное согласие.
— То-то, — удовлетворённо заключил он и принялся за компот.
Выйдя из столовой, Лёшка прошёл мимо своей каюты и забрался на спардек. Но и там показалось не очень укромно.
На корме, между рабочей шлюпкой и бочками с машинным маслом, лежал принайтовленный к палубе запасной якорь. Лёшка присел на него, как на скамью. Здесь его никто не мог увидеть. И почти не дуло. «Хорошее местечко», — отметил Лёшка. Он вспомнил, как когда-то играл на отцовском пароходе в прятки с капитанским сыном и чьей-то девочкой.
Лёшку и взрослые не смогли сразу найти. Подняли на ноги всю команду. Мало ли что могло случиться! Обнаружили его часа через два спящим под брезентовым чехлом рабочей шлюпки. Капитан сердито сказал, что если ещё раз повторится нечто подобное, он очистит борт от всех посторонних.
Лёшка засопел, набычился и с вызовом выкрикнул:
«Это папин пароход!»
Все рассмеялись. Мама крепко схватила Лёшку за руку и потащила в отцовскую каюту. Лёшка не плакал, он упирался и упрямо твердил: «Это папин пароход, папин!»
Рыболовные флотилии Советского Союза промышляют во всех широтах, от Ледовитого океана до Огненной Земли, от Балтики до Японского моря.
По всему миру пролягут голубые трассы «Константина Смирнова», большого белого парохода.
Почему-то Лёшка представлял себе теплоход имени отца только белым. Белым-белым.
На душе вдруг стало горько и защипало глаза. Зачем ему пароход? Пусть самый большой, самый новый, самый белый! Ему нужен отец, живой, здоровый, весёлый. Родной человек. Ты его редко видишь, долго ждёшь, но он возвращается. Теперь ждать нечего, отец уже никогда не спросит: «Как дела, сын?» И ты, как бывало, не скажешь: «Нормально, папа».
Разве нормально ставить человека к трапу, когда у него такое на душе? А завтра все отправятся в Гамбург, он же, этот человек, останется!
Обида сдавила горло. Лёшка сознавал, что всё это ничто в сравнении с большим и настоящим горем, которое вновь переживал сегодня, но боль от обиды на боцмана не стихала. Он чувствовал себя одиноким, заброшенным, никому не нужным, как в ночь отхода из Ленинграда.
Судно сбавило ход. Вода за кормой клокотала тише, не так вздрагивала палуба. Лёшка вылез из своего убежища и огляделся. Море кончилось. «Ваганов» медленно двигался по широкой полноводной реке. От тёмного берега с проблесковым маяком быстро шёл катер.
— Федоровский, на руль! — дважды сказало радио.
На входе и выходе из порта, в узкостях и других сложных для плавания местах к штурвалу становился Михаил Федоровский, лучший рулевой. Федоровский не только первоклассный матрос, он и английский язык хорошо знает. Лоцманы — немцы, датчане, голландцы, шведы, турки — все отдают команды по-английски.
— Подать люстру! Выбросить штормтрап! — скомандовали сверху.
За борт вывесили большой рефлектор с сильными лампами и спустили верёвочную лестницу с деревянными ступеньками.
Лоцманский катер вплотную прижался к борту, и человек в плаще ловко вскарабкался по штормтрапу наверх. Яркий свет за фальшбортом погас. Катер быстро отдалился, и «Ваганов» опять набрал скорость.
У берега в тёмной воде Эльбы змеились отражённые огни. Их становилось всё больше. Вскоре показался целый городок, холмистый, зелёный; редкие огни и цветные лампочки над верандой ночного ресторана светились сквозь кружево ветвей.
На открытом пригорке, за яхтными причалами, стояло двухэтажное здание с обзорной вышкой и мачтой, серебряной в луче «юпитера». Вдруг вспыхнуло пламя. Оно отделилось от крыши, затрепыхало на ветру, взлетело к рее на мачте.
«Красный флаг!»
Зазвучала музыка.
Он узнал мелодию, но не поверил себе: слишком неожиданной и невероятной была она здесь, на Эльбе. Невидимый оркестр вступил в полную силу. Берег, река, небо в неярких звёздах — всё запело вокруг, и гордо откликнулся тифонный бас «Ваганова».
«Наш гимн, советский!»
Лёшка невольно принял стойку «смирно».
Сотни раз слышал он Гимн Советского Союза, но никогда не испытывал такого глубокого волнения.
Ему почудилось, будто стоит он на виду у всего мира и весь мир смотрит на него, словно он, Лёшка, не палубный практикант, не матрос, а Чрезвычайный и полномочный представитель СССР Алексей Константинович Смирнов.
Всё смолкло. Лишь мерно колотил под палубой главный двигатель.
Лёшка очнулся от волшебного видения.
Зелёный городок исчез за элеватором. Тёмное небо, тёмные берега, тёмная Эльба.
Стало до жути одиноко. И как совсем ещё недавно Лёшка бежал от всех, так сейчас он бросился к людям. На одном дыхании взобрался по наружным трапам наверх и задержался у радиорубки. Двери были настежь открыты. Николаев убирал в стол пишущую машинку.
— Видели? — взволнованно спросил Лёшка. — Здорово! Кто это?
Выслушав объяснение, Лёшка повторил с чувством:
— Здорово! — Но тут же сник и произнёс опечаленно: — В Гамбурге, наверное, всё очень здорово.
— Увидишь завтра.
Лёшка помотал головой.
— Не пускают меня! — с отчаянием сказал он. — На стояночную вахту с утра боцман назначил. — Он жалостливо и моляще взглянул на Николаева. Полные губы обидчиво задрожали. — Разве он имеет право? Паша говорит, что практикантов в загранпортах к трапу не ставят.
Так это или нет, Николаев не знал. Он слабо разбирался в трудовом законодательстве и в том, какую и кому можно давать работу. Работа есть работа. Надо — значит, надо. Если в море или на берегу каждый вздумает перекладывать свою ношу на чужие плечи, далеко не уплыть, не уехать.
— Ты поменьше своего Пашу слушай.
— Я не слушаю, дядя Вася. Но — Гамбург!
«Ничего не случится, если через сутки в Гамбург сходишь, — подумал Николаев. — Не убежит! Впрочем, суда здесь обрабатывают быстро…»
— Хорошо, потолкую с боцманом, — неопределённо пообещал Николаев, недовольный и крестником и самим собой.
Надо было прямо сказать, что и как, но трудно отказать Лёше, да ещё сегодня.
— Вы тоже пойдёте в Гамбург? — повеселел Лёшка.
— Нет.
— Почему? — искренне удивился Лёшка.
— Дело есть, — сухо ответил Николаев.
В Лёшкиной душе зашевелилось сомнение: верно ли он поступил, обратившись за заступничеством? Но желание посмотреть Гамбург пересилило.
— Дядя Вася, а что там самое интересное?
Николаев искоса взглянул на Лёшку: «Мальчишка ещё совсем и сирота…»
— Много чего интересного, за день всего не увидеть.
— Жаль…
— Матрос — не турист.
«Палубной команде приготовиться к швартовке!» — загремело судовое радио.
— Пора сворачивать музыку. — Николаев стал выключать аппаратуру. Во всех портах мира выход в эфир категорически запрещён, можно только слушать и принимать, а принимать сегодня уже нечего.
«Палубной команде приготовиться к швартовке».
— Я пойду, — спохватился Лёшка и побежал вниз, но на полдороге остановился: боцман же велел отдыхать.
Вся палубная команда участвует в швартовочной операции. Даже штурманы рукавицы надевают. Нашлось бы и Лёшке где силы приложить. Просто пожалел его боцман: отправил отдыхать перед вахтой…
«Нехорошо получилось», — с поздним раскаянием подумал Лёшка. Зачем он сказал о Гамбурге? В столовой и теперь дяде Васе. Конечно, боцман начальнику судовой радиостанции не откажет, но…
А может, Паша и прав? Не полагается… И рейс только-только начался, навахтится ещё Лёшка и за себя и за других, а в Гамбурге посчастливится ли ещё раз побывать, загадать трудно.
«Как решат, так и…» — успокоил себя Лёшка и отправился в каюту.
Заснул он не скоро: ворочался, вздыхал, мысленно перечитывал мамину радиограмму. И когда, наконец, уснул, привиделся ему во сне не Баухор-Ведель, не таинственно-заманчивый Гамбург, а белый папин пароход.
В ГАМБУРГЕ
Практиканты наряжались в город, когда вахтенный передал им вызов боцмана.
— Обоих? — переспросил Паша и умчался первым.
Лёшка провозился с галстуком. Придя почти следом, он застал уже конец разговора.
— Вот так, Кузовкин, — официально и назидательно сказал Зозуля. — Слово моё твёрдо.
— Но, товарищ боцман, — заканючил Паша, — я же не успею!
— Успеешь. Такую бородёнку и без лезвия снять ничего не стоит. Цыплячий пух.
Паша с Ленинграда не брился, отращивал шкиперскую бородку.
— Но борода же — личное дело! — в отчаянии выкрикнул Паша.
Зозуля многозначительно крякнул, подумал немного и уверенно заявил:
— Вообще-то, конечно. Но в частности — не совсем. Каждый матрос есть лицо экипажа. Ты на берегу не какой-то там вольный бродяга, а советский человек, представитель коллектива, нашего коллектива, Паша. И позорить себя мы не дозволим. Ясно?
— Но, товарищ боцман…
— Вот что, — рассердился Зозуля. — Или остаёшься на борту с бородой и «но», или в полном порядке увольняешься в Гамбург. Всё.
Паша, не препираясь больше, ушёл. Зозуля проводил его хмурым взглядом и обратился к Лёшке:
— Теперь с тобой, Смирнов. Как пишут в газетах — «идя навстречу»… В общем, заступаешь с ноля. День свободный, разрешаю увольнение.
— Спасибо! — порывисто поблагодарил Лёшка.
— Благодарности для других придержи, — недружелюбно сказал Зозуля, и Лёшка покраснел.
За завтраком он успокоился и ликовал, что всё так удачно кончилось. Спросил Федоровского:
— В Гамбург идёшь?
Тот странно взглянул на него и усмехнулся:
— Кто бы спрашивал…
Лёшке сделалось жарко… Значит, вместо него Федоровского на вахту назначили… Кое-как покончив с едой, Лёшка пошёл к боцману, потупившись, заявил:
— Я не пойду в город.
— Твоя воля, — равнодушно согласился Зозуля. Он, видимо, не понял Лёшку.
— Пускай Федоровский идёт. Не хочу, чтобы он за меня…
— Вон что! — сказал Зозуля и вдруг напустился: — Раньше думать надо было! А ты как же полагал: святой дух за тебя отвахтит! Ничего менять больше не буду. Всё. И заруби себе: на судне мамок-нянек нету. Приказано с ноля — значит, с ноля. Всё.
Матросы гуськом сходили на берег. Трап пружинисто раскачивался.
Паша уже стоял внизу.
— Порядочек? Я же говорил! — победоносно шепнул он Лёшке. — Ты меня слушай, со мной не пропадёшь!
Лёшка сосредоточенно разглядывал свои остроносые туфли. В душе противоборствовали чувства неловкости, вины перед Федоровским и неодолимая тяга увидеть знаменитый Гамбург.
— Не страдай. — Паша поддел Лёшку плечом. — Они тут сто раз были, а мы — впервые.
— Все в сборе? — громко спросил четвёртый штурман Кудров. — Пошли.
…Яркое, надраенное, словно для адмирала, судёнышко наискось мчалось через Эльбу.
Впереди разворачивалась панорама большого портового города.
Мощные краны вытаскивали из трюмов горы мешков, ящиков, кип, бочек, тюков, рулонов, пакетов. Заводское оборудование в огромных, добротно сколоченных ящиках взмывало над палубами, как секции крупнопанельных домов. Из танков[2] наливных судов насосы перекачивали в береговые ёмкости нефть.
Плавучие паровые установки перегоняли в вагоны, баржи и хранилища сыпучие грузы: зерно, цемент, сахар. По лязгающим транспортёрам неслись потоки руды и угля.
На причалах угорело метались юркие автопогрузчики. Жёлтые, красные, нагруженные, как муравьи, они развозили грузы по пакгаузам и к бортам судов.
Сотни теплоходов, отдавая груз, всплывали всё выше и выше над причальными стенками. Другие, наполняясь тяжестью, опускались, приседали в маслянистой воде гаваней.
Гавани и причалы тянулись в глубь Эльбы сколько видел глаз.
Впечатлял и город. Большой, зелёный, всхолмлённый, с острыми пиками готических кирх, белой телевизионной вышкой, унизанной кольцевыми ярусами ресторанов и обзорных площадок.
Пассажирские причалы для морских судов и местного водного транспорта ярмарочно пестрели красочными рекламами бесчисленных портовых киосков.
У Паши захватило дух.
И Лёшка никогда не видел такого большого города сразу, почти целиком. Ленинград красивее и крупнее Гамбурга, но посмотреть на него так нельзя, разве что с самолёта.
— А то что за церковь? Вон, без креста, на берегу, под зелёным куполом!
— Въезд в Эльба-тоннель.
— Крутой спуск?
— Нет, лифтом опускают.
— Здорово!
— Подумаешь, невидаль! — осадил Лёшкин восторг Зозуля. — Гремит, грохочет, точно сотню якорь-цепей враз травят. Преисподня железная.
Боцман не терпел, когда расхваливали что-нибудь чужое: город, судно, страну — всё едино.
Катер широко развернулся и прошёл вблизи белоснежного нарядного лайнера.
— Наш, — горделиво отметил Зозуля, — «Сибирь»!
В советском порту он и взглядом бы не удостоил «пассажира»: «Подумаешь, невидаль! Морская гостиница интуриста!» Но здесь, в чужом порту, «пассажир» был своим, частицей Родины.
Людей на набережной было относительно мало. Можно разглядеть каждого. Смотреть только нечего: люди как люди, обыкновенные. Ничего в них иностранного нет. Разговаривают, правда, на непонятном языке. Так и твой язык не всем доступен.
Моряков было много. Англичане, американцы, поляки, русские, скандинавы — полный интернационал. Покупали в киосках открытки с видами Гамбурга, пивные стаканы с трафаретными рисунками, разные сувениры. Играли в автоматическую лотерею.
Небольшой ящичек, похожий на кассу бескондукторного автобуса в Ленинграде, даже верх такой же — прозрачный. Сквозь толстый плексиглас видны: разноцветное драже, миниатюрные складные ножички, крохотные зажигалки, брелоки для автомобильных ключей. Всё вперемешку.
Паша не устоял перед соблазном приобрести гамбургскую зажигалку за десять пфеннигов. К тому же Кудров заверил: автомат — беспроигрышный, что-нибудь да выпадет в окошко внизу.
Выпали три шарика — три конфетки. Паше не терпелось попробовать выигрыш на вкус. Конфетка оказалась такой крепкой, что её едва удалось разгрызть. Рот наполнился лекарственной горечью, лицо исказилось гримасой.
— Перекусил? — с серьёзной миной спросил Кудров. — Тогда пошли дальше. Куда двинем? К Хагенбеку?
Лёшка решил, что Хагенбек — какой-нибудь нумерованный кайзер, германский царь. Нужны ему эти цари!
— А здесь есть музей Тельмана?
Зозуля хмыкнул:
— Забыл, где находишься, Смирнов?
Ничего Лёшка не забыл. Гамбург — старый центр революционного рабочего движения. Здесь вождь пролетариата Германии поднимал на восстание народ.
— В ФРГ ты, Смирнов, а не в демократической республике. Тут одному «железному канцлеру» монумент стоит, Бисмарку. Вот там, на холме…
— Можно подняться, — предложил Кудров, — вид оттуда хороший.
Лёшка был с фотоаппаратом, отцовским.
На холме узкая асфальтированная дорога перешла в лесную аллею, извилистую и крутую. У вершины деревья и кусты почтительно остановились, словно не решились приблизиться к суровому канцлеру. Вокруг памятника было голое пространство.
Монумент поражал не величием, не искусством зодчих и архитекторов, а размерами: от основания до макушки Бисмарка — с трёхэтажный дом.
Закопчённый гранит цвета парадного нацистского мундира, нарочитая грубость форм подчёркивали резкую, солдафонскую натуру бывшего премьер-министра кайзеровской Германии.
Каменный великан в накинутом на плечи военном плаще тяжело опирался обеими руками на рыцарский меч.
Бисмарк никак не вписывался в кадр фотоаппарата. Лёшка приседал на корточки, отходил в дальний угол площадки — ничего не выходило!
— С косогора спустись немного, — посоветовал Кудров.
На обрывистом склоне — Лёшка открыл рот от неожиданности — росли белоствольные деревца с кружевной зеленью.
Лёшка обрадовался так, словно встретил друзей детства:
— Берёзы!
Позабыв о Бисмарке, он погладил шелковистую кору. Подошли остальные. И каждый прикоснулся к берёзке.
— Как же они попали сюда? — дивился Паша. — Немцы в войну вывезли?
— Берёзы по всему миру растут, — сказал боцман. — Но, конечно, не такие, как дома, на родине.
Возвращались другой дорогой — пологой, сразу перешедшей в улицу. Дома сплошной стеной; на первом этаже пивные, закусочные, крохотные магазинчики: войдут четверо — не повернуться.
Тесная улочка вдруг оборвалась. На открытой зелёной лужайке до войны, наверное, были дома. Неподалёку стояла высоченная церковь, двухцветная: внизу — красный кирпич, верх и купол со шпилем — сизые, будто окисленная бронза.
— На колокольню, что у нас на Владимирской стоит, похожа, — заметил моторист.
— Собор Михаила, — пояснил боцман. — Внутри лифт есть, до самого верха поднимает.
Лёшка, задрав голову, смотрел на открытый балкон с колоннами. «Забраться бы туда и сфотографировать сверху весь Гамбург».
Двери-ворота собора были заперты.
Впереди, справа и слева от широкой улицы, над старыми, в шесть — восемь этажей, зданиями и современными небоскрёбами из стали и стекла возвышались вековые кирхи, остроносые, как ракеты.
Никто на русских моряков не обращал внимания, как на туристов в Ленинграде. Лёшка шагал спокойно и уверенно. Он как-то быстро освоился здесь. Даже не верилось, что это заграница. Надписи только всюду немецкие. Лёшка читал и мысленно переводил их. Получалось!
Улица вывела моряков на просторную и пустынную площадь со станцией метро в центре.
— Отсюда до Хагенбека остановок восемь, — сообщил боцман.
— Погуляем ещё, — попросил Паша. — В универмаг бы какой заглянуть.
— Можно, — согласился штурман Кудров.
— Тогда на Риппербан надо. — И боцман свернул на красивый проспект, тянувшийся до самого горизонта.
Всё здесь было иным, чем в портовом районе. Роскошные отели, рестораны, магазины с зеркальными стёклами во всю стену, надраенная бронза дверных ручек.
«Игрушку Димке купить надо», — подумал Лёшка, и, словно по щучьему велению, сразу же возникла перед ним витрина с пистолетами, ружьями, винтовками. Они лежали, висели, покоились в коробках-футлярах, совсем как настоящие, не отличить!
— Зайдём в игрушечный?
— Какой тебе игрушечный! — обозлился неожиданно для Лёшки боцман. — Доподлинное боевое вооружение. Вон и парабеллум лежит. Меня из такого в сорок четвёртом ранили.
— Вы и в Гамбурге воевали? — спросил Лёшка.
— Нет, наша дивизия только до Дрездена дошла. Там и победу отпраздновали… А этим, фашистам недобитым, потише вести себя надо. Нечего им опять парабеллумами обзаводиться.
Гамбург — почти двухмиллионный город, портовый, торговый, промышленный. Город как город, но люди…
Лёшка пристально приглядывался к встречным, стараясь угадать, кто они: моряки, рабочие, чиновники, бывшие эсесовцы?
По внешнему виду фашиста от нормального человека не отличить. Лёшка пристроился к боцману и не отставал ни на шаг. Туристская беззаботность кончилась. Почему-то вспомнился монумент Бисмарку. Странно он как-то стоит: ни к морю лицом, ни к городу…
— Товарищ боцман, — обратился Лёшка, — отчего Бисмарк спиной к Гамбургу поставлен?
— Чего не знаю, того не знаю.
— Не к Гамбургу, а к востоку, — вмешался в разговор Кудров. — Символика. Бисмарк неоднократно предупреждал немцев: «Не вздумайте идти войной на Россию!»
— Не дурак был, — с уважением произнёс Зозуля.
Универмаг занимал четырёхэтажное угловое здание.
У входа — маленькое кафе, жевательную резинку на лотках продают всех видов, поштучно и наборами, как шоколадное ассорти.
На первом этаже торговали сувенирами и галантереей. Паша потащил Лёшку с собой: «Ты хоть немножко по-немецки шпрехаешь».
Переводчика из Лёшки не вышло: стоило лишь подумать, что нужно заговорить с настоящими немцами, как из головы мгновенно улетучивались все немецкие слова до единого. Хорошо, что на всех товарах были пластмассовые ценники.
Они купили многоцветные шариковые карандаши и брелочки для ключей, а Лёшка ещё и набор открыток с видами Гамбурга.
На верхние этажи подниматься было уже некогда, хотя Паша и рвался:
— Ничего, обождут малость.
— Нет! — твёрдо заявил Лёшка.
Никто из своих ещё не подошёл.
— Я же говорил! — прошипел Паша. — А-а, ну тебя! Сам сбегаю. Я мигом!
Пашин «миг» затянулся, и ребята куда-то подевались. Лёшке надоело ждать. Он вышел из магазина и стал глядеть на улицу.
Народу было немного, как в рабочие часы на Невском. Машин — негусто, в большинстве грузовые.
Прошло ещё минут пятнадцать. Никто не появился. Лёшка забеспокоился, возвратился в вестибюль, опять вышел. Никого. Не могли же его бросить, забыть о нём! Почему не могли? Запросто даже. Компания большая. Собрались в вестибюле. «Все?» — «Все». И пошли себе…
Неприятно засосало под ложечкой. Мысль о том, что он отстал от своих, привела его в полную растерянность.
Входили и выходили люди. Никто по-прежнему не обращал внимания на Лёшку, но он ощущал теперь, что вокруг него не незнакомые, а чужие, совсем чужие люди, другой мир.
Надо было что-то предпринять. Бежать вслед за ребятами? В какую сторону? Спросить, как проехать к «Ваганову»? Он не запомнил номер причала, а их в порту десятки, если не сотни. И название станции метро не вспомнить.
Бисмарк! Вот кто может выручить. Монумент каждый гамбуржец знает, а от Бисмарка рукой подать до пристани. Там «Сибирь», свои…
Свои… А может быть, они и не покинули его? Ждут, волнуются, ищут по всем этажам.
Лёшка кинулся к эскалатору, но кто-то грубо схватил за плечо и дёрнул назад.
— Хватит, Смирнов, — процедил сквозь зубы боцман.
У Лёшки мгновенно отошли все страхи. Он так обрадовался, что чуть не бросился Зозуле на шею.
— Улыбочки ещё строишь, — процедил боцман и потащил Лёшку за собой.
— Да я…
— Оправдываться потом будешь.
Теперь ничего не страшно, никакие угрозы и наказания. Нашлись, свои нашлись!
Зозуля вывел Лёшку на улицу. Он пошли вокруг здания. Миновали ещё два вестибюля. И там продавали кофе, булочки, жевательную резинку. Как же Лёшка не додумался, что в таком огромном универмаге не один, а много выходов! Растерялся, как таёжный парень, впервые очутившийся в большом городе. Но куда Паша делся?
Паша и ещё двое матросов стояли у того входа. Остальные, очевидно, искали Лёшку.
— Скажу, что нашёлся! — скороговоркой выпалил Паша и хотел юркнуть в универмаг.
— Куда? — сверкнул глазами Зозуля. — Не расходиться, а то и до вечера не соберёмся. Сказано быть здесь — значит, быть.
Последнее относилось к Лёшке.
— Я… — виновато начал он. — Я думал, что вы ушли…
Чёрные брови Зозули полезли на лоб.
— Как это «ушли»? Кинули тебя, значит, одного? Эх, ты! — Боцман огорчился и оскорбился. — Плохо же ты о моряках думаешь, Смирнов, если посмел допустить такое в мыслях. Разве моряки бросают товарищей? В море, на берегу — всё едино.
Лёшка густо покраснел.
— Совесть иметь надо, если голову потерял.
— Извините, — промямлил Лёшка.
— Почему от напарника отбился?
Это уже было несправедливостью. Разве Лёшка отбился? Паша его бросил. Лёшка выразительно посмотрел на Пашу, но оправдываться не стал.
Паша спешно оборвал невыгодный для него разговор:
— Чего купил?
— Ничего.
— Ну да, ничего! Покажи.
— Отстань ты! — в сердцах отмахнулся Лёшка.
Зозуля тяжело посмотрел на одного, на другого.
— Что, что? — смешавшись, робко спросил Паша.
Боцман не удостоил его ответом.
Один за другим подошли остальные; последним — штурман Кудров. Он ни о чём не стал расспрашивать, с ходу объявил приговор:
— В жизни со мной на берег не ступишь, Смирнов!
— Заблудился он, Геннадий Нилыч, — заступился боцман. — С кем не бывает!
Лёшка уже не раз подмечал: Зозуля мог распекать подчинённых как угодно, но при начальстве всегда вставал на защиту.
Кудров сменил гнев на милость:
— Перетрусил, салажонок?
«Салага» — презрительная кличка молодых, «желторотых» матросов. Но штурман не издевался, он посмеивался, и не было сейчас у Лёшки права обижаться. Не его оскорбили, а он оскорбил. Оскорбил недоверием своих товарищей. Они тоже улыбались, но сдержанно. Лучше бы его отругали!
Он шагал понурив голову.
Ничего не было мило, всё потеряло интерес для него: зеркальные витрины, средневековые готические храмы с цветными витражами стрельчатых окон и позеленевшими фигурами бронзовых святых, дома из красного кирпича, армированного тёмными деревянными балками и откосами, ухоженные скверы, даже знаменитый на весь мир зоопарк Хагенбека.
Глава вторая ТРАМПОВОЕ СУДНО
СВАЙКА
Лёшку разбудили без четверти двенадцать. Полусонный, он натянул на себя робу и отправился на вахту.
В коридорах горело дежурное освещение. Лёшка с полузакрытыми глазами брёл вперевалку к выходу.
Матросы и мотористы умывались перед сном: в каютах журчала вода.
В глубокой шахте машинного отделения тонко звенели вспомогательные электрические генераторы. Главный двигатель отдыхал после многосуточной непрерывной работы.
На открытой палубе было прохладно, и Лёшку сразу зазнобило.
— Телогрейку надень, — сказал Зозуля, он ждал у трапа.
Пришлось возвращаться в каюту за ватником.
Инструктировал боцман недолго.
— Значит, без разрешения — ни единой души. Вахтенного помощника этой вот кнопкой вызывать. Или по чёрному телефону. Второй аппарат, цветной, немцы поставили, городской. Тут и справочник есть, можешь родственникам и знакомым звонить.
— У меня никого нет в Гамбурге, — объяснил Лёшка.
Чёрные глаза Зозули заискрились.
— Проснись, Смирнов. Шуток не понимаешь… Дальше. Эти две кнопки — от лебёдки трапа. «Верх», «Низ» — не спутаешь. Вирать и майнать значит. Уровень воды меняется; прозеваешь — зависнет трап или, наоборот, съедет куда-нибудь. И за щитками от крыс посматривай, заваливаются они.
— Какие, где?
— Забыл, с кем дело имею, — пробурчал Зозуля. — Вон на швартовых кружочки такие, чтоб крысы не лазали. Утром подъём объявишь, меня первым подними.
Как объявлять подъём, Лёшка знал. Заглядывает в каюту вахтенный, кричит во всё горло: «Доброе утро!» После такого приветствия и мёртвый встанет.
— Ну, счастливой вахты. — Зозуля шагнул к двери, но задержался: — Выспался?
— Да я…
— Отстоять с ноля до восьми иметь привычку надо. Паша через раз в сон впадает. Лады ещё, только себя подводил, выговоры хватал.
— Разве что-нибудь должно случиться?
— Не должно, но может. Не у себя дома, за границей. А случай на то и случай, чтоб случаться.
Судно ошвартовалось левым бортом в неширокой прямоугольной гавани. Пакгаузы с оранжевыми светильниками и множество океанских судов загораживали вид на город.
Вдоль стенки выстроились тесной шеренгой двуногие портовые краны. Стальные руки грузовых стрел выброшены под углом над тихим, безлюдным причалом.
Замерло всё и на судне. Лёшка потоптался у трапа с полчасика и присел на широкий комингс в дверях надстройки. Скрестил руки, ладони — под мышки, привалился плечом к косяку, пригрелся и заскучал. Вскоре он ощутил под собой холод и подложил толстую телефонную книгу Гамбурга. Стало совсем тепло и уютно. Убаюкивающе пели генераторы, мерно поскрипывали толстые деревянные сваи под натиском стального борта.
Задремал Лёшка на минуту. Или чуть больше: время остановилось. Когда он открыл глаза, над портом висел густой туман. Оранжевые фонари едва угадывались по расплывчатым пятнам. Краны придвинулись к судну вплотную, над головой призрачно нависли громадные стальные руки.
Лёшка тряхнул тяжёлой головой и вскочил на ноги. Уснул! Уснул на вахте в чужой стране!
Он прошёл быстрым шагом в сторону кормы, потом на главную палубу. Нигде никого, всё спокойно.
Лёшка с облегчением вздохнул и зорко оглядел причал, сжатый туманом до маленького пятачка у трапа.
Ничего не случилось. А что могло случиться? Он стал припоминать разные истории, всё, что читал или слышал. Как чанкайшистские пираты угнали советский танкер и взяли в плен экипаж, как в южноамериканском порту на борт «Мичуринска» нагрянули солдаты и полиция, как на палубу мирного грузового судна посыпались напалмовые бомбы…
«На то они и случаи, чтобы случаться», — вспомнились слова Зозули. Хорошо ещё, что боцман не застал его спящим на вахте!
Вдруг Лёшке почудилось, что кто-то ходит у самого борта. Он напряг слух и зрение. Шаги совсем близко.
— Кто? — сдавленно выкрикнул Лёшка и сжал кулаки.
— Кофейку не желаешь? — раздалось за спиной.
Лёшка вздрогнул и оглянулся. Перед ним стоял моторист. В лицо Лёшка знал его, но фамилии не помнил.
Моторист подал горячую фаянсовую чашку. Пахнуло кофейным ароматом.
— Спасибо, — с трудом выговорил Лёшка.
— Погрейся, — сказал моторист и стал закуривать. Даже в тумане было видно, что он потный и в следах мазута. — Не мало сахару?
Кофе прилипал к губам, как патока.
— Нет, спасибо… Дежуришь?
— Ага.
— Скучно, наверное, там, внизу? — из вежливости спросил Лёшка, поддерживая разговор.
— Да не очень. Работы много.
В бортовую обшивку тяжело бухнуло. Моторист перегнулся через планшир, высмотрел что-то и протяжно свистнул.
— Трап завис.
Забыл Лёшка наставления боцмана!
— Давай вниз, — распорядился моторист. — Оттянешь, а я смайнаю.
Через несколько минут запыхавшийся Лёшка — дюралевый трап оказался не таким уж лёгким — опять был наверху.
— Вот спасибо тебе! — с чувством признался он. — Попало бы мне на «полный максум»!
Мотористу такое высказывание не понравилось.
— Ты не для боцмана старайся, для себя.
Пристыжённый Лёшка не нашёлся что ответить.
— Который час? — спросил моторист, докурив сигарету. — О, надо поднажать! Пока, счастливой вахты.
— Счастливо, — эхом отозвался Лёшка и вернулся к трапу.
Спешить некуда, боцмана и команду будить рано.
Боцман явился к нему сам.
— Как дела, Смирнов?
— Нормально. — Лёшка с сожалением сменил удобную позу.
— Нормально, значит, — многозначительно произнёс Зозуля и неожиданно спросил: — Отыскались знакомые? — Зозуля показал носком ботинка на телефонную книгу. Она так и осталась с ночи на комингсе. Лёшка поспешно убрал её на место.
— Извините…
— Может, и извиню, — сумрачно пробасил Зозуля. — Не люблю, когда книжки не там, где надо, читают. Вахтенному сидеть не положено! Ясно?
— Ясно, — виновато пробормотал Лёшка.
— Спал?
— Задремал чуть…
Откровенное признание охладило боцманский гнев.
— Добро, что не отпираешься. И не поверил бы. А так… — он выдержал долгую, мучительную для Лёшки паузу, — прощаю. В первый и наипоследний раз. Знаешь, что за это полагается? — Опять долгая пауза. — Должен знать, не малое дитё, в матросы записался. А матрос на вахте — что солдат на боевом посту. Тем более в загранпорту. Ясно?
— Ясно, товарищ боцман! — с облегчением выпалил Лёшка.
— Положим, не очень тебе ясно, но прояснишься ещё, дойдёт до тебя, что есть матрос! Иди, поднимай народ.
Заглянув во все матросские каюты, Лёшка весело прокричал «доброе утро». Он радовался, что кончилась бесконечная вахтная ночь, что всё обошлось и боцман проявил к нему «максумальное» снисхождение. За минутную слабость на вахте — Лёшка это отлично понимал — Зозуля имел полное право наказать по всей строгости Устава морской службы.
«Нет, — окончательно заключил Лёшка, — наш дракон — человек!»
Лёшка, наверное, больше и не вспомнил бы о своей первой стояночной вахте у трапа, если бы не собака.
Её обнаружили сразу, как вышли в открытое море. Боцман отправил Лёшку на корму брезент подтянуть на рабочей шлюпке. «Подует сильнее — сразу захлопает. А нам такие аплодисменты ни к чему».
Под шлюпкой Лёшка её и увидел. Маленькую, заморённую, грязную, неопределённой породы и масти собачонку. Она свернулась калачиком и старалась стать ещё меньше, а выпуклые блестящие глаза были наполнены, как слезами, голодной тоской и мольбой о милосердии.
— Соба-ака! — удивлённо протянул Лёшка. — Ты чья? Откуда?
Через несколько минут на корму сбежалась половина команды.
Собачка сидела в центре толпы и мелко дрожала всем телом.
Боцман Зозуля допытывался, откуда она взялась на судне. Никто ничего толком не знал. Одни считали, что её пронёс шутник докер, другие — кто-то из своих, третьи — что собака сама сиганула на палубу, когда, в отлив, фальшборт почти сравнялся с пирсом.
— Всё равно дознаюсь, чьих рук это дело! — угрожал Зозуля, буравя глазами матросов. — Чья собака? Последний раз спрашиваю!
«Моя, наверное», — печально подумал Лёшка. Когда же ещё могла пробраться незамеченной собака, если не в ту несчастную минуту, когда он дремал, сидя на телефонной книге города Гамбурга.
Боцман почему-то не смотрел на Лёшку, допытывался у других:
— Сознавайтесь, по-хорошему говорю.
— За борт её, и вся недолга! — озорно выкрикнул кто-то из толпы.
— Но-но! — сразу отступил Зозуля. — Живое существо, друг человека, можно сказать…
На стоянке неизвестную и незаконную пришелицу выдворили бы с судна в два счёта. Но в море… Кто прикажет: «За борт!»?
Зозуля критически оглядел несчастную собачонку.
— Хоть бы путное что-нибудь привели, а то…
— Ни шерсти, ни вида! — опять крикнул тот же голос.
— Артист! — процедил Зозуля, высмотрев поднатчика. — Лады, доложим помполиту, он тебя в самодеятельность художественную включит.
«Сознаюсь. При всех!» — пересилив себя, решил Лёшка и выступил вперёд.
— Смирнов! Сбегай на камбуз, принеси чего-нибудь. Покормить её всё равно надо.
Лёшка, так и не сделав публичного признания, побежал вниз, к повару.
— Что за порода? — ни к кому не обращаясь, произнёс моторист, воспользовавшись временным затишьем боцманского гнева.
— Терьер, что ли? — будто самого себя спросил Федоровский. Он сидел на корточках и в упор разглядывал собачонку.
— Разве у терьеров такие морды? Они тупоносые, а у этой остренькая, как свайка, — сказал Зозуля.
Нос у собаки, загнутый и острый, и в самом деле напоминал шило для сращивания пеньковых концов.
— На овчарку она тоже не похожа.
— Пудель это, но без завивки.
— Что вы ей всё благородные звания придумываете! — рассердился Зозуля. — Обыкновенная дворняга, хотя и немецкая.
— Начальника надо, — подсказал моторист.
— Верно, — поддержал Зозуля. — Он — мастер в этом деле. А ну, Паша, пулей!
— Чего пулей? — Паша не участвовал в разговоре. У него были свои счёты с собачьим родом. Сорок уколов от бешенства вкатили, на всю жизнь запомнилось. И обиднее всего — зря искололи: собака оказалась здоровой, просто ей не нравилось, когда на хвост велосипедом наезжали.
— Ты слыхал, о чём речь?
— Ясно, товарищ боцман! — И Паша потрусил выполнять приказание.
«Из-за какой-то твари мастера звать!» — злился он про себя, поднимаясь к капитанской каюте.
«Мастер» и «капитан» по-английски одно и то же.
— Ешь, собачка, ешь!
Собачонка пугливо присела и есть не стала.
— Сытая, значит.
— Не сытая, а забитая. Боится она.
— Стесняется! Ишь какая застенчивая Свайка!
— Какая она свайка! — оборвал Зозуля. — Один ляпнул, а другой как имя повторил! Если назвать, так «Прибой», хорошая морская кличка.
— Она же она, а не он, — напомнил Федоровский. — Какая же она «Прибой»?
Пришёл Паша, красный от смущения.
— Товарищ боцман! К мастеру, немедленно!
— Иду. — Зозуля привычно одёрнул куртку, словно китель. — А начальник где? Придёт?
Паша замялся.
— Занят?
— Занят и… Я сказал, что… А он как глянет через очки! «Это ещё что за новость? С каких это пор боцман капитана к себе вызывает?»
Наступила мёртвая тишина. Лицо Зозули покрылось пятнами.
— Па-ша… — сдавленным голосом заговорил он наконец. — Паша, тебя за кем посылали, Па-ша? За начальником. За начальником, Паша. А кто на судне начальник? Один на судне начальник — начальник радиостанции. Так в судовой роли и записано. А ты куда попёрся, Паша? К кому?
— Вы же сами сказали — «мастера».
— Уйди с глаз!
Пашу проводили таким хохотом, что и в капитанской каюте, наверное, слышно было. Не успел Зозуля и шага ступить, как появился капитан Астахов в сопровождении хмурого старшего помощника.
Матросское кольцо разомкнулось и выгнулось подковой. Собачонка предстала перед капитанскими очами. Они не метали молнии, но и не сияли счастьем при виде такого сюрприза. И тут собачонка поднялась вдруг на задних лапках, передние же свесились на тёмно-серой груди с таким покорным смирением, с такой трогательной доверчивостью, что капитан не сдержал улыбки. И это послужило сигналом.
— Товарищ капитан! Сергей Петрович! — взмолились матросы.
Старпом предостерегающе поднял руки: «Не митинговать!»
— Отмыли бы её, в порядок привели, а уж потом за капитаном посылали, — сказал капитан, не глядя на Зозулю. Тот рыскал сузившимися глазами в поисках виновника своего позора, но Паша исчез бесследно.
— Кого нам благодарить за этого «зайца»?
— «Зайчиху»! — со смешком поправил кто-то.
Капитан холодно взглянул на остряка, и все притихли. Шуточки кончились.
— Боцман!
— Пока не ясно, Сергей Петрович, — хрипло доложил Зозуля. — Может, вахтенные проморгали, может, с грузом как попала. Работали здесь, на пятом номере.
— Кто тальманил?
Счётчиком груза в Гамбурге был Федоровский.
— Я, — спокойно отозвался он и выступил в круг.
У Лёшки мгновенно пересохло горло. Опять за него Федоровскому отдуваться. Собака не иначе как ночью пробралась на судно. Федоровский ни при чём.
— Это я виноват! — почти выкрикнул Лёшка и встал впереди Федоровского. — Это я! — И добавил внезапно осевшим голосом: — Ночью уснул я…
Сказал, и так ему легко и грустно стало — не передать. Легко потому, что не стыдно в глаза людям смотреть. Да, виноват, утаивать, на других сваливать не хочу. Сам в ответе за свой проступок. Наказывайте по всей строгости, но… Но не разлучайте с судном! Без моря не будет мне жизни.
Лёшка с тоской поглядел через головы на надстройку. Перегнувшись через поручни спардека, Паша выразительно крутил пальцем у виска: спятил, мол, какой нормальный человек собственную голову под меч подкладывает! Лёшка отвернулся и встретился глазами с Зозулей. Тот, видимо, находился в смятении. Неудовольствие тем, что раскрыта маленькая обоюдная их тайна, переживание за честь палубной команды, удовлетворение честным признанием ученика — всё это одновременно отражалось на смуглом лице боцмана.
Федоровский неожиданно оттеснил Лёшку в сторону и заявил:
— Могла и с грузом проникнуть, Сергей Петрович.
— Я разберусь с этим делом, — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, объявил старпом.
— Товарищ капитан! — бросился на выручку боцман: — Смирнов взыскание уже понёс, а собака, она свободно могла на корму сигануть. Туман и отлив большой был. И освещение у них слабое.
— Понятно, — усмехнулся капитан, — немцы виноваты!
— И морские отливы, — язвительно добавил старпом.
— Да, и морские отливы.
Лицо Лёшки горело пятнами. Но он не жалел, что принял вину на себя.
— Как нам поступить? — обратился ко всем капитан.
— На первый раз, Сергей Петрович, можно бы… И опять же чистосердечно… — не договаривая, но вполне определённо высказал свою просьбу боцман.
Старпом недовольно повёл носом.
— Неприятности с карантинной службой наживём.
— Документы мы на неё выправим, как домой придём! — горячо заверил боцман.
— Вы, я вижу, сразу за двоих хлопочете. — Капитан улыбнулся, повеселели и остальные. Кроме старпома и Лёшки. — Что ж, придётся покончить миром.
— Спасибо, Сергей Петрович, — широко осклабился Зозуля и расправил богатырские плечи.
— Вахте спать никак нельзя, Смирнов.
— В первый и наипоследний раз! — ответил за Лёшку боцман.
— А сам он как думает?
— На всю жизнь урок, — твёрдо сказал Лёшка.
— Надеюсь, — неопределённо произнёс капитан и удалился со старпомом. У них и без собаки забот вдоволь.
Собачонка, будто поняв, что судьба её решилась благополучно, опустилась на все четыре лапы и спокойно принялась есть хлеб.
— Соображает, перед кем навытяжку стоять! — рассмеялся Левада.
Зозуля, вытерев пот на лбу, отрывисто бросил:
— Кончай травить! По местам.
— Василий Яковлевич идёт, — первым увидел Николаева Федоровский.
Паша исправил свою ошибку — пригласил кого надо.
Николаев не стал ничего спрашивать, обошёл вокруг собачонки, оглядел её со всех сторон и позвал:
— Ко мне! — и похлопал себя по бедру.
Собачонка, сразу признав нового хозяина, покорно последовала за Николаевым.
Лёшка улучив момент, когда Зозуля остался один, попросил его:
— Разрешите отлучиться? Ненадолго, товарищ боцман.
— Куда? Зачем?
— Собаку вымыть, — тихо ответил Лёшка.
— Н-да… — Зозуля прокашлялся, помолчал немного. — Это по совести. Вообще-то, по совести если, тебе самому шею намылить следует. Но действие твоё одобряю. По-честному поступил, по-моряцки. Да, Василию Яковлевичу подсобить придётся, тоже по справедливости будет. Иди.
— Что, Лёша? — спросил Николаев, когда тот прибежал в каюту.
— Я… Меня в помощь прислали, боцман.
— Да я и сам управлюсь.
— Позвольте, дядя Вася! Это… это моя вина.
— Ах, вот в чём дело! Тогда конечно.
Николаев спрятал улыбку. Безволновое матросское радио уже рассказало ему о том, что произошло.
Белоснежная фаянсовая раковина умывальника стала чёрной, а чёрная собака волшебно превратилась в рыжую с белыми пятнами — настоящий лисёнок!
Её и предложили назвать Лиской, но это встретило возражение.
Над кличкой для нового члена экипажа думала вся команда. Какие только не предлагались имена! Самые что ни есть простые, собачьи: Тобка, Жучка, Джулька. Аристократические: Фрези, Герда, Стелла. Пошли в ход морские термины: Юта — от названия кормовой части — ют; Ёлочка — так именуют обычно сигнальную мачту: она увешана антеннами, фонарями и прочими вещами, как новогодняя ёлка игрушками.
Строгий коллективный суд отверг и «Незнакомку», и «Русалку», и «Корму».
Моториста с его «Гайкой» просто осмеяли. Собаку нашли на палубе, а не в машинном отделении, нагоняй из-за неё получили матросы, значит, имя должно отражать что-то палубное.
В самый разгар спора пришёл Николаев с собакой на руках.
— Ремешка хорошего не найдётся? — обратился он к боцману.
Выпросить у боцмана какие-нибудь материальные ценности — дело не простое. Перед Гамбургом обновляли покраску на баке. Старший матрос посылал за новыми кистями Лёшку, Леваду — всё безрезультатно. «Нет, вышли все», — один ответ. Пришлось дотирать старые, полувытертые, лысеющие при каждом мазке.
— Длинный? — осторожно поинтересовался Зозуля.
— Ошейник сделать для Свайки.
«Ав!» — звонко тявкнула собачонка.
Все рассмеялись: поняли — лучшего имени не придумать. Свайка! Морское, палубное, весёлое, ласковое имя.
— Для Свайки найдём, — степенно объявил Зозуля.
И Свайка стала Свайкой.
ЧТО ЕСТЬ МАТРОС
— Теория без практики — мёртвый труп. — Боцман Зозуля любил афористичность. — Слыхал?
— Доводилось. В школе когда-то проходили.
За эти несколько дней школа и всё, что было связано с ней, отодвинулось так далеко, будто Лёшка закончил десятилетку в дошкольном возрасте.
— Грамотный, значит. А практика без теории?
— Тоже мертва.
— Не совсем! Практика без теории не более, но и не менее, как заячья самодеятельность. Бывал в цирке? Видел, как зайчик на барабане играет? Это и вся его специальность, бесперспективная. — Зозуля выдержал паузу и многозначительно изрёк: — Матрос без теоретической подготовки — заяц в тельняшке.
Лёшка сразу представил себе зайца в рваной Пашиной тельняшке и растянул губы. Никто другой, кроме Паши, на судне тельняшек не носил.
— Не смешно это, а грустно, Смирнов, — вздохнул Зозуля. — Возьми, к примеру, меня. Из-за этой самой научной отсталости я только до боцмана дослужился. А старшим матросом я был, когда ещё наш капитан Сергей Петрович Астахов практикантом плавал. Ну, о капитанских нашивках заботиться тебе рановато ещё, но о матросском звании подумать надо всерьёз. Практика практикой, а за теорию браться пора.
Зозуля достал с полочки тонкую брошюру, раскрыл в самом начале и прочёл вслух:
— «Квалификационная характеристика.
Профессия — рабочий плавсостава морских судов.
Специальность — матрос».
Простенько вроде, а? Рабочий, матрос… А что есть матрос? Какая это специальность? Тут всё сказано, в «Программе». У меня, правда, только для первого класса, но это не страшно. Одолеешь программу-максум — сдашь и за минум.
Лёшка с трудом сдержал улыбку: так вот почему Зозулю называют «Максум-минум»!
— Ну иди читай. Если чего — заходи.
Кто бы мог подумать, что от простого матроса, палубного рабочего, требуется столько знаний и умения!
Что только не должен уметь матрос! Нести вахты, выполнять все судовые работы — такелажные, плотничные, парусные, малярные; обслуживать ходовые, рейдовые и сигнальные огни; ставить-убирать механический лаг для измерения скорости хода; знать электронавигационные приборы, средства малой механизации…
Само собой разумеется, надо хорошо изучить устройство судна.
Да всё это и за год не вызубришь!
Когда же Лёшка прочёл расшифровку общих требований, то совсем скис.
Матрос должен мастерски управлять шлюпкой, быть квалифицированным маляром, уметь шить и ремонтировать чехлы из парусины и синтетических плёнок, должен бороться за живучесть судна, запускать сигнальные ракеты, участвовать во всех тревогах — от пожарной до «человек за бортом»…
Пожалуй, единственное, чего не боялся Лёшка, была азбука Морзе. С детства знал её. Дядя Вася, конечно, научил. Он и приборчик специальный сделал. Небольшой ящичек, похожий на транзисторный приёмник, но с радиотелеграфным ключом на верхней панели. Нажмёшь на ключ — вспыхнет весёлым зелёным огоньком сигнальная лампочка и на всю комнату мелодично звякнет электронный колокольчик. Для Лёшки это было любимым занятием. Потом дядя Вася приобщил его и к радиолюбительству.
Вот флажный семафор — тёмный лес для Лёшки. И за год, наверное, не одолеть 80 и 100 знаков в минуту. Одуреть можно!
Но Зозуля, Федоровский и все другие не одурели же. И Паша Кузовкин не бог, а научился.
«Ничего, — подбодрил себя Лёшка, — выйдем в океан — целыми днями заниматься буду».
В самом деле, что делать палубным матросам в долгом переходе? Механики, машинная команда, штурманы, рулевые, электрики несут ходовые вахты. У шеф-повара, камбузника, артельного нет вахтенного расписания, но четыре раза в сутки экипаж кормить надо. А палубным матросам?
Матросская работа бесконечна, как океан.
— Значит, так, — сказал Зозуля. — Нашему гвардейскому отделению поставлена боевая задача: выкрасить верхнюю палубу от надстройки до первого трюма. Потом и корму. Борта и мачты обновим на стоянке. На ходу, как известно, это запрещено.
— Погодка смирная, можно бы, — как бы про себя заметил Федоровский, щурясь на ртутно сверкающую ширь.
— Там видно будет. — Зозуля тоже посмотрел на океан. — Атлантика. От неё всего жди. Сейчас шёлковая, через час — дыбом. И по технике безопасности не положено.
— Сорвёшься, Федоровский, и… — вставил незаметно подошедший Левада. — Тебе ничего, с почестями похоронят, а боцману — выговор!
Зозуля сверкнул на артельного чёрными молниями:
— Юморист!
— Не я придумал, — сознался Левада.
— Тем более. Нахватался чужих слов и соришь на палубе.
— А она ржавеет, — заметил Лёшка.
Это Зозуле не по нутру пришлось. Он считал вмешательство практиканта в разговор боцмана и артельного грубой невоспитанностью.
— А от чего палуба ржавеет? Скажи нам, если ты такой учёный!
Лёшка повёл плечами, нехотя перечислил:
— Морская вода, солёные ветры, резкие перепады температуры и влажности… электромагнитная коррозия, в общем.
— Коррозия и ржа — одно и то же. Не такой я тёмный, как некоторые думают себе. — Зозуля покосился на Леваду. — А ещё?
— Есть и другие факторы…
— Эх, молодёжь! Главная причина, — Зозуля поднял руку с отставленным пальцем, — скрывается в том, что краска лупится! А на голое место ржавчина сразу и садится. Ясно?
— Абсолютно! — опять выступил Левада и, подмигнув Лёшке, почтительным голосом обратился к Зозуле: — Но почему она лупится, краска? Вот в чём вопрос.
Боцман и глазом не повёл в сторону артельного.
— Потому, Смирнов, что краской по ржавому месту мазать — есть мартышкин труд и чистый перевод материала. А раз так… — Зозуля выдержал короткую паузу и гаркнул: — Готовить палубу со всей добросовестностью! От-шкрябать до мак-сума!
Ох, какое же это нудное, нелёгкое дело — шкрябать палубу! Отбивать молотком ржавую коросту, сдирать её стальными скребками, зачищать проволочной щёткой. Весь день на корточках, весь день гул, звон, скрежет в ушах, рыжая пыль на лице и в горле.
Зозуля действовал пневматической турбинкой. Стальная дисковая щётка высекала искры и завывала сиреной.
Оглохнуть можно от такой адской какофонии!
И — солнце. Немилосердное, субтропическое.
Стёкла защитных очков пылились и запотевали, протирать надоело.
Вжи-и-
и-
ии-
хр-
рр…
Турбинка захрипела и смолкла.
— Алексей, Смирнов! Тебе очки для форса или для техники безопасности дадены?
Ни к чему Зозуле выговор! И Лёшке собственные глаза поберечь надо. Ржавая шелуха и острые стальные песчинки летят во все стороны шальными осколками.
Лёшка натянул очки. Турбинка опять взвилась.
Вжи-
и-
ии-
иии!
Уши ватой заткни — не поможет.
…Они отдыхали, разлёгшись на крыше трюма: Паша — на животе, Лёшка — лицом к небу.
Над судном на разных высотах парили крупные чайки, белогрудые, с жёлтыми клювами, на концах сильных крыльев чёрная бахрома. Таких чаек Лёшка прежде никогда не видел. А может быть, то и не чайки?
— Паша!
— Чего? — не сразу ответил разморённый голос.
— Это чайки или альбатросы?
Паша слегка повернул голову, приоткрыл один глаз.
— Я в них не разбираюсь. Для меня они все чайки…
— Интересно же, — сказал Лёшка.
— Кому как! — Паша опять уткнул лицо в руки и замолчал.
Чайки висели над головой будто в невесомости. Непостижимо, каким чудом им удавалось не отставать от судна. Широко распластанные гнутые крылья едва-едва пошевеливались. Чайки неслись, словно планёры на буксире.
— Хорошо! — с чувством произнёс Лёшка. Губы его запеклись, на зубах похрустывала ржавая шелуха, но на душе было вольно и хорошо. Ему нравился океан, чайки, жизнь. Он много работал, каждый день: в море нет ни суббот, ни воскресений.
Судно идёт безостановочно, и каждый в экипаже на своём посту, как железнодорожная бригада в поезде дальнего следования, как сталеплавильщики в мартеновском цехе. Но случись что-либо в дороге или на заводе — вблизи или рядом тысячи людей и машин, готовых немедленно прийти на помощь. Судно от берегов в тысяче миль, в тысяче миль от других людей.
— Паша!
— Ну чего?
— Паша… — Лёшка заколебался: говорить или не говорить?
— Ну?
— У тебя не бывает чувства затерянности?
Паша перевернулся на спину, недоуменно хлопая белёсыми ресницами, странно поглядел на Лёшку.
— Какой затерянности?
— Затерянности, одиночества. Будто один ты в океане, совсем один.
— Тут затеряешься, — пробурчал Паша. — Зозуля на дне морском найдёт и работёнку подкинет.
— А на берегу разве проживёшь без работы?
— На берегу другое дело. Отбарабанил смену и гуляй сколько влезет.
— Почему же ты в матросы пошёл?
— Сказать по-честному?
— Скажи.
— Приодеться хочу, в заграничное. Джинсы чтоб с «молниями», заклёпочками…
— И всё?
— Ну, не всё, по мелочи ещё кое-чего. И потом, разные страны посмотреть. А ты что, на всю жизнь в матросы записался?
«На всю жизнь», — мысленно ответил Лёшка. Ему расхотелось откровенничать. И Гамбург вспомнился. Подвёл его тогда Паша: сам ведь сбежал да ещё всю вину на него свалил.
— Чего молчишь? — напомнил о себе Паша.
— Да так…
— Вообще, — со вздохом признался Паша, — сдуру я в море подался. Не моя это стихия.
Он опять вздохнул и перевернулся на живот. Лёшка задумался. С морем он теперь никогда не расстанется. Это — на всю жизнь. Не матросом, конечно. Матрос — первая ступенька крутого и длинного трапа, ведущего на капитанский мостик. А он, Лёшка, ещё даже не матрос.
Как другие успевают заниматься? В техникумах, институтах учатся. Федоровский, например, Иванцов-электрик, Дед… Сила воли, наверное. А тут намаешься за день, поужинаешь сытно, самое большое, на что хватает, — кино посмотреть. В Ленинграде получили в рейс двадцать фильмов, все уже пересмотрели, выбрали лучшие и гоняют теперь: «Дети капитана Гранта», «Твой современник», «Я вас любил…». Последний особенно часто. Во-первых, про любовь, во-вторых, снимали в родном Ленинграде.
Вчера комсомольское собрание было. Нет, позавчера. Идут дни за днями, плывут, сливаются.
— Какое сегодня число?
— Октябрь кончился.
Октябрь кончился… На Невском развешивают гирлянды, фонарные столбы на Кутузовской и Дворцовой набережных украшают бантами. Уже и стоянки военных кораблей на Неве обозначили бочками.
Мама с Димой вернулись из Николаева — радиограмма была.
Жаль, что не пришлось самому увидеть первый подъём флага на отцовском теплоходе. Возможно, там были товарищи отца, свидетели трагедии. Расспросить бы о подробностях, обо всех деталях…
Лёшка много раз пытался вообразить последний день отца. Теплоход стоит под разгрузкой. Портовые и судовые краны выкладывают на берег ящики с консервами и лекарствами, мешки риса и картонки с конфетами, упакованный в прозрачную плёнку шёлк и сатин. Растут на причале кипы одежды для вьетнамских детей и женщин. И вдруг с рёвом проносится самолёт с белыми звёздами в кольцах, брызжут пулемётные очереди, с леденящим визгом косо летят бомбы. Одна вонзается в палубу.
Иссечённая осколками надстройка, развороченные тюки и ящики. Отец в белой сорочке, неудобно подогнув руку, лицом вниз. На спине быстро расплывается красное…
А над портом и морем стонут в тревоге и горе сирены, фабричные гудки, тифоны теплоходов. И бьют запоздало зенитные пушки.
Да что же такое делается на белом свете! Как могут люди, гордясь своей цивилизацией, хвастаясь демократией и свободой, расстреливать других людей, крушить их города и сёла, отравлять ядами деревья и травы?!
Отец и дядя Вася мальчиками пережили страшную блокаду. Но тогда была всемирная война, тогда свирепствовал фашизм. А сегодня, сейчас?
— Паша, — окликнул напарника Лёшка.
— Ну-у… — лениво отозвался Кузовкин.
— Что ж это делается на планете? Война давным-давно кончилась, а мира ни дня нет. То в Корее, то во Вьетнаме, то ещё где-нибудь каждый день люди гибнут.
Паша знал о судьбе Лёшкиного отца, но мировые проблемы его мало трогали, своих забот полон рот.
— Сплошное гадство, — туманно выразился.
Надо было сказать ещё что-то, конкретное, сочувственное, однако Паша не успел подыскать нужные слова. Неслышно подошёл боцман.
— Кончай загорать!
Зозуля в армии, наверное, старшиной служил, натренировался командовать!
— А ты, Смирнов, отложи шкрябку — и на верхотуру. Второй ждёт.
— Зачем?
— Ну молодёжь! Его второй помощник капитана вызывает, а он — «зачем». Пулей!
Лёшка отряхнул порыжевшую робу, побил об коленку шапочку с прозрачным козырьком, натянул на голову и отправился наверх.
Второй штурман, устойчиво расставив ноги, целился через окуляр секстана в солнце.
— Явился, — доложил о себе Лёшка, но второй, не шевельнувшись, довёл свою работу до конца и быстро скрылся в рубке.
Лёшка пошёл за ним. Второй проследовал в штурманскую, а Лёшка задержался в ходовой рубке.
Тишина, прохлада, безлюдье. Большие прямоугольные иллюминаторы опоясывали лобовую часть рубки от края до края. Было светло и чисто. Вся задняя переборка словно огромный пульт: сигнальные глазки, тумблеры, шкалы приборов, подвесная аппаратура.
Стрелки машинного телеграфа показывали «ПОЛНЫЙ». И вёл судно по заданному курсу автомат.
Лёшка приблизился к тумбе гирорулевого, коснулся пальцем чёрного колесика.
Оно называется штурвалом, хотя кажется игрушечным и совсем не похоже на большой обод со спицами и рукоятками, что стоит на паруснике в фильме «Дети капитана Гранта».
На полке под иллюминатором лежал большой морской бинокль. Лёшка взял его и вышел на крыло.
Горизонт волшебно раздвинулся, но и за новой далью не было ничего, кроме воды. Океан казался безжизненным, как, наверное, миллионы лет назад, когда на Земле ещё не народились ни рыбы, ни первые черви. Пройдут ещё тысячелетия, а океан останется океаном. Лёшка впервые как бы прикоснулся к Вечности и вздрогнул.
Ему опять почудилось, что он один в голубой пустыне, совершенно один. Нет ни судна, ни товарищей — никого. Живая, дышащая густая вода притягивала, манила, завораживала.
— Чисто? — спросили за спиной будничным голосом.
Лёшка вздрогнул и мгновенно обернулся.
— Явился!
Он выкрикнул это так, будто не он, Лёшка, пришёл по вызову второго помощника, а второй помощник явился к нему в безлюдном океане как спаситель.
Глаза второго сделались насмешливыми.
— Являются прекрасные феи и злые духи в сказках. Матросы, как солдаты, прибывают. «Матрос такой-то прибыл».
— Я ученик ещё, — совсем уже по-детски оправдался Лёшка.
— Вот и учись, ученик. Учись и докладывать и обстановку понимать. Видишь ведь: занят. Потерпи, не являйся под руку. Я ведь не зайчики ловил, а солнце. Знаешь для какой цели?
— Секстаном высоту светила определяют, а потом узнают, где находится судно.
— Верно! А ещё как можно определиться в море?
— По звёздам, маякам…
— В открытом море маяков нет. И звёзды не всегда видны.
— Тогда… — Лёшка запнулся.
— Самый точный способ местоопределения в океане — опрос местных жителей!.. — И второй сам заулыбался старой штурманской шутке. — Так, побалагурили — и довольно. Перейдём к делу… Алексей?
— Практикант Алексей Смирнов!
— А меня — Павел Павлович, сокращённо — Пал Палыч. Запомнишь?
— Конечно, Пал Палыч.
— И прекрасно. Главное — имя начальника — ты уже знаешь, а остальную морскую науку мы как-нибудь одолеем общими усилиями. Ежедневно ровно в восемнадцать ноль-ноль ко мне в каюту. Ясно, Алексей?
— Ясно.
— Далее. По сигналу тревоги надлежит тебе стоять здесь на правом крыле мостика. Задача: наблюдать и докладывать. И вообще, если взял в руки бинокль, то не любуйся безбрежной гладью, а наблюдай. Океан нельзя оставлять без присмотра. Знаешь, сколько под нами затонувших кораблей всех времён и народов? Сотни! А почему? — И опять в глазах второго смешливое выражение. — Потому, что не соблюдали ППСС — правила предупреждения столкновения судов. А это, Алексей, целая наука — как не столкнуться лоб в лоб в безграничном океанском просторе. Странно, но факт. И ржавчину очищать — наука. Иди учись! Боцман заждался тебя, Алексей. Жду в восемнадцать ноль-ноль.
— Есть, Пал Палыч!
С этого дня Лёшке стало не до капитана Гранта. Работа, учёба, работа, учёба.
ТРАМПОВОЕ СУДНО
«Море — это когда много воды», — объяснил когда-то трёхлетний Лёшка. Теперь он мог сказать:
«Океан — это когда много моря».
Теплоход «Ваганов» шёл по Атлантике десятые сутки. Десятые сутки только вода и небо, небо и вода.
Океан бесконечен, как матросская работа.
— Любопытно, — интригующе произнёс Кудров, искоса следя за капитаном, — куда нас пошлют из Японии?
Час назад получили радио — принять на Кубе сахар для Японии, выгрузка в Кобэ и Иокогаме.
До Кубы ещё двое суток, потом — разгрузка, погрузка, Панамский канал пройти, пересечь Тихий океан, стоянки в Японии, а Гену Кудрова уже интересует дальнейший путь!
Линейные суда ходят как междугородные автобусы: по строгому расписанию, определённому маршруту. Трамповые же — вроде грузовых такси: куда подвернётся груз. В голландский порт Роттердам — в Роттердам, в Монреаль — в Монреаль; зафрахтуют судно в Канаде для перевозки товара в Индию — пойдёт в Индию.
Сухогрузовой теплоход «Ваганов» работал как трамповое судно, и экипаж иногда по году не бывал дома, в Ленинграде. Такова моряцкая судьба, морская работа. И этот рейс планировался скромно: Ленинград — Куба — Ленинград. Теперь всё изменилось: Ленинград — Куба — Япония. А Япония на другом краю света…
— Всё же любопытно: куда потом? — гадал вслух Кудров. Он стоял у радиолокатора, держался для устойчивости за поручни, но смотрел не на экран, а на капитана. — Наверняка в Сингапур. Или в Коломбо?
— В Сингапур бы хорошо! — мечтательно сказал Пал Палыч. — В Коломбо — не знаю, не приходилось на Цейлон ходить.
— Красота! Но — задохнуться можно.
— Пойдём обратно, хлебнём жаркого и без Цейлона. Суэц закрыт. Африку огибать придётся.
— Смотря куда из Японии ещё погонят. Если в Новую Зеландию, например, то выгоднее идти в Европу вокруг Южной Америки, через Магелланов пролив. Верно? — Кудров беседовал со вторым, но смотрел на капитана. Тот — ноль внимания.
Лёшка мысленно представил карту земных полушарий и маршрут, проложенный четвёртым штурманом. Выходило полное кругосветное путешествие. Здорово! С первого раза — и кругосветка, да ещё с переходом через экватор!
— Заканчивай, — проходя мимо, бросил вполголоса Пал Палыч.
До конца вахты оставалось минут десять. Лёшка натирал мягкой фланелью и без того сверкающую золотом бронзовую рукоятку машинного телеграфа.
Отправляя Лёшку впервые на холодную вахту, боцман строго предупредил: «Не на прогулочную палубу идёшь — на капитанский мостик!»
Первые три часа вахты они провели на мостике вдвоём. Лёшка и Пал Палыч. Второй подробно знакомил ученика с оборудованием рулевой рубки и штурманской. Потом судно облетела весть о рейсе в Японию, и на верхотуре стало людно. Примчался Кудров, за ним третий штурман — готовить для капитана карты. Капитан долго раздумывал над ними. Теперь он сосредоточенно смотрел вдаль и молчал, как ни старался Кудров вызвать его на откровенность. Конечно же, капитан знал ещё какие-то важные подробности нового задания.
— А в Новую Зеландию могут вполне! Заходил же «Новодружеск»! Причём после Японии. Верно?
Поскольку капитан продолжал молчать, а южнее Новой Зеландии простиралась ледяная Антарктида. Кудров перенёс свои прогнозы севернее.
— Или — в Австралию!
— «Там кенгуру, там эму бродят… Коала на ветвях сидят!» — неожиданно для всех продекламировал капитан.
— В Австралию? Точно, Сергей Петрович? — обрадовался Кудров. Нет не зря он битый час вынуждал капитана открыть тайну!
— Что — в Австралию? — невозмутимо переспросил капитан.
— После Японии — на Австралию?
— Мне это пока неизвестно.
— А стихи?..
— Стихи сочинил Пушкин А. С, переиначил их доктор с «Врангеля».
«Как — с «Врангеля»?» — чуть не спросил Лёшка. В учебнике истории было сказано, что барон Врангель командовал белой армией в гражданскую войну. Не могли же назвать советский теплоход именем царского генерала!
Капитан, будто догадавшись, о чём Лёшка думает, повернулся к нему и спросил:
— А кто такой был Врангель, а?
— Не знаю… Вернее, знаю, но то другой.
Капитан рассмеялся:
— Да, тот другой! А этот, Фердинанд Петрович Врангель, жил в прошлом веке, русский мореплаватель, первопроходец, учёный.
— Остров Врангеля есть, — вспомнил Лёшка.
— Остров, горы Врангеля в южной Аляске — всё в честь него.
Разговор уходил всё дальше от главного, и Кудров снова направил его на желанный курс:
— Сергей Петрович, вам приходилось бывать в Австралии?
— Нет. По-моему, только Николаев туда ходил.
— Что ж, — бодро воскликнул Кудров, — придётся ему в Австралии гидом поработать!
— Если попадём туда, — снова озадачил капитан.
— А куда?
— Куда пошлют…
…Спустя два месяца, на подходе к японскому порту Кобэ, Николаев принял служебную радиограмму. Капитан удалился к себе и опять вернулся в рубку.
— Ну, четвёртый помощник, — сказал он Кудрову с необидной усмешкой, — теперь можно и погадать. Приказано бункероваться в Находке… — И закончил невесело: — От Японии до Находки — в балласте.
Вахтенный штурман Кудров чуть не присвистнул, но вовремя вспомнил: свистеть в ходовой рубке не полагается. Это не суеверная примета — дурной тон.
Через шесть минут рассекреченный секрет знал весь экипаж. В машинное отделение и то кто-то сообщил, не поленился пробежать вниз-вверх пять палуб-этажей.
Двухсуточный переход в балласте, то есть порожняком, никого, конечно, не обрадовал. Чистый убыток. А то, что заправляться топливом, пресной водой, в общем, бункероваться в Находке — это хорошо. По родной земле походить можно, среди своих побыть, поговорить по телефону с Ленинградом. И кинофильмы обменять.
В конце февраля теплоход «Ваганов» вошёл в бухту Находка и стал на якорь на дальнем рейде. Вскоре капитан Астахов уехал на пограничном катере в порт. Возвратился он озабоченный и раздражённый. В трансфлоте для «Ваганова» не было никаких дальнейших распоряжений и, что хуже всего, не запланированы никакие грузы.
Никого, кроме артельного, старпома и других, кому необходимо было выполнить в порту служебные дела, на берег не отпустили. До выяснения обстановки. А обстановка не прояснилась и на другой день.
Капитан опять вернулся не в духе, с ходу отчитал вахтенного помощника за обледенелые якорь-цепи и скрылся в своей каюте.
Вахтенный понял: причина капитанского негодования не в наледи. Сколько ни скалывай, всё равно намёрзнет: семь градусов ниже ноля, да ещё с ветром. Кудров вызвал боцмана.
— До клотика обрастать сосульками будем или ещё выше? — начальственным голосом спросил Кудров.
Клотик — верхняя часть мачты, самая вершина, выше точки на судне нет.
Зозуля повертел борцовской шеей, поглядел в одну сторону, в другую.
— Чисто, Геннадий Нилыч. Спозаранку кололи-драили.
— «Спозаранку»! Капитан три минуты назад с песочком вахтенного помощника драил! Перегнись, на якорь-цепи посмотри.
— Так они же…
— Выполняйте, — железным голосом приказал Кудров и демонстративно поправил нарукавную повязку вахтенного помощника капитана.
Обеденный перерыв ещё не закончился. Матросы курили в коридоре, на второй палубе надстройки, в подветренной стороне. Разговор не клеился: неважное настроение было у всех. До берега и мили нет, а не попасть. И неопределённость мучила: куда пошлют? Скорее бы домой! Уплывали в октябре, февраль уже кончается…
От ближайшего к Находке аэропорта Озёрные Ключи до Ленинграда шестнадцать лётных часов.
По воде — два месяца, если никуда не заходить, конечно.
— Да, — тяжело вздохнул моторист Быков, тот, что угощал в Гамбурге Лёшку горячим кофе. — Раньше июля — августа не вернёмся.
Несмотря на холод, Быков стоял с непокрытой головой.
Никто не отозвался, каждый думал: успеть бы к ноябрю!
— Надоела мне эта музыка, вот здесь сидит! — Быков провёл ребром ладони по горлу. — Спишусь без возврата.
И опять никто не отреагировал на его слова.
— Повезло Шаврову, — произнёс в пространство Паша Кузовкин. Он был в новых джинсах, выстроченных светлыми нитками, с золотыми заклёпками; на заднем кармане кожаная фирменная нашивка с лихим ковбоем.
Матросу Шаврову предоставили очередной отпуск и прислали замену.
— Уже в Ленинграде, наверное, — сказал Лёшка и тоже позавидовал.
До сегодняшнего дня Лёшка не очень-то рвался домой. Конечно, хорошо бы увидеть маму, Диму, со знакомыми ребятами встретиться, спросить кое о чём, о себе рассказать, а рассказать есть что. Пятый месяц в плавании, полсвета обошёл. Слетать бы на денёк в Ленинград и опять хоть на год в море.
— По времени оно бы и пора, но по средствам рановато, — откровенно высказался Паша. — Купить ещё кое-что надо.
Моторист Быков хотел возразить Паше, но тут пришёл боцман. На голове лыжная шапочка с помпоном, тёплая форменка, брюки заправлены в кирзовые сапоги с подвёрнутыми голенищами. Настрой, сразу видно, не лучший. Густые брови сдвинуты. Глянул в лица и понял, о чём разговоры идут.
— Грусть-тоска заела? Скучаем, а судно, между прочим, до клотика льдом обрастает. Все на бак! Чтоб и сосульки не осталось! Практикантам — к трапу: катер с провизией подходит.
— Повезло нам, — шепнул Паша и поддел Лёшку плечом.
Таскать ящики с продуктами не мёд, но легче, чем скалывать лёд с якорь-цепей.
— Переодеваться придётся, — сказал с сожалением Паша. Очень ему не хотелось расставаться с новыми джинсами. — Так ты и не высказал, как они тебе.
Двадцать раз, не меньше, похвалил Лёшка приобретение, но Паша никак не мог нарадоваться и заставлял других выражать восторг.
«Не сядут после стирки?» — спросил практичный Зозуля. «Что вы, товарищ боцман!» У Лёшки тоже такое подозрение зародилось, как у боцмана, но он промолчал.
— Зря ты себе не отхватил такие! — В глубине души Паша был доволен, что только у него такое чудо с ковбоем.
Лёшка неопределённо повёл плечами. Половину своих денег он отдал за разборную модель старинного парусника «Джеймс Бейнс». Стоил клипер почти столько же, сколько джинсы. Но какой это будет великолепный подарок для Димы!
Паша побежал в каюту, а Лёшка вышел на главную палубу. Там он увидел Николаева.
После Гамбурга Лёшка ни разу не искал его покровительства. Никто не мог упрекнуть Алексея Смирнова, палубного матроса-практиканта, в том, что трудится он не как все. Не было для него ни льгот, ни поблажек — учили, но не нянчили. И Лёшка имел полное право на ту гордую самостоятельность, которую может испытывать только настоящий рабочий человек.
Трижды в неделю Николаев занимался с Лёшкой английским. Дело подвигалось, хотя и не так быстро, как хотелось. Рулевые команды и счёт Лёшка усвоил твёрдо. «Это минум, как говорит боцман, — сказал Николаев. — Язык надо знать по-настоящему».
Лёшка уже испытал в Гамбурге, что значит не уметь объясниться. Зозуля как-то напомнил об этом:
«Ну, в Гамбурге ты заблудился, спросить куда-чего не мог. Но как ты Свайку на борт пропустил? Она бы по-русски поняла».
Почему его боцман так и не отругал за Свайку, Лёшка до сих пор не понимал. То ли не хотел изменять своему слову, то ли просто был втайне доволен, что на судне появилась собака. Животных боцман любил. Лучшие куски своего обеда Свайке таскал. Все её баловали. Лёшка специально взял в артельной «Цитрусовых» конфет для угощения.
«Испортите вы мне Свайку», — ворчал недовольно Николаев, а всерьёз не противился. Свайка жила в его каюте, но принадлежала всему экипажу.
Подняв узкий воротник непромокаемого плащ-пальто и низко натянув фуражку с «крабом», Николаев мерил журавлиными шагами главную палубу. Сто пятьдесят четыре метра туда, сто пятьдесят четыре — обратно. Мерил и с затаённой грустью поглядывал на берег. Свайка, не отставая, семенила рядом. Из-за высокого фальшборта она ничего не могла увидеть, но тоже гуляла со скучающим видом. Или землю чувствовала…
Всякий раз, возвращаясь из дальнего рейса на родной берег, Николаев размышлял о списании с флота. Осесть на берегу и жить, как миллионы других людей. Намерения оставались намерениями. Он и отпуска положенного не догуливал — уходил в море раньше срока. Моряк в океане мечтает о земле, на берегу страдает без океана.
«Спишусь, — думал и сейчас Николаев. — Спишусь, останусь здесь, на Дальнем Востоке. Буду на береговой станции работать или в училище каком-нибудь».
Рыжей подковой лежали в студёной воде сопки. Дальние — голые, облезлые; те, что у моря, — усеянные кирпичными и деревянными домами. Вдоль причалов тянулись навесы, пакгаузы, склады-холодильники для рыбы. Справа возвышались элеваторы. Слева, за мысом, ощетинился стрелами кранов судоремонтный завод. Над судами у причальных стенок реяли советские и иностранные флаги.
По густой морозной воде бухты плыли мелкие льдины. На них, как на плотиках, отдыхали серые чайки.
Вдали от рыболовного причала отвалил крупный океанский траулер. Николаев читал в одном из последних бюллетеней, что Дальневосточное пароходство получило несколько новых судов. Наверное, это было одно из них. Николаев облокотился о фальшборт и стал смотреть на приближающийся траулер.
Судно, конечно, новое. Формы, грузовой такелаж, антенна радиолокатора на сигнальной мачте — всё по последнему слову техники.
Траулер сопровождали лоцманский катер и стая чаек.
«Может быть, он?» — заволновался Николаев и бросил взгляд на бак, где матросы скалывали наледь. Лёшки среди них не было. Николаев опять посмотрел на траулер.
«Нет, не он. Название короткое, из одного слова».
С чувством сожаления Николаев продолжил прогулку. У надстройки встретил Лёшу.
— Новый БМРТ идёт. Видел? — с хрипотцой спросил Николаев и показал рукой в сторону траулера.
— Где? — Лёшка побледнел: «Папин пароход?»
Судно приблизилось настолько, что уже без труда читалось — КОТЛЯР.
«Вероятно, «Котляр» и «Константин Смирнов» суда одного типа».
— Папин такой же?
Николаев молча кивнул.
— Домой бы позвонить…
— Выяснится обстановка, съездим на берег, позвоним.
— Да я так… — отступился Лёшка. Получилось, что напросился. — Почему залив «Америкой» называется? Американцы его открыли?
«Очень тебя сейчас этот вопрос мучает!» — подумал Николаев и ответил:
— Русские. Судно имя такое носило, клипер «Америка».
— Смирнов! Кузовкин! — донёсся зычный голос боцмана.
Лёшка извинился и поспешил на зов. Паша успел переодеться в рабочие брюки и стёганку.
— Сетку готовить! — приказал Зозуля.
Они вытащили из тамбучины тяжёлую канатную сетку, растянули её на палубе, затем нацепили на грузовой крюк — гак по-морскому.
Лебёдкой управлял Федоровский.
— Вира! — Зозуля поднял руку. — Помалу!
Сетка зависла над палубой.
— Хорош.
Портовый катер прижался кормой к борту «Ваганова».
— Давай! — крикнул снизу Левада. Он стоял у большого штабеля ящиков, коробок, мешков, бочек.
«Неужели мы всё это съедим?» — с сомнением подумал Лёшка.
— Майнай! — скомандовал Федоровскому боцман.
Сетка взметнулась над палубой и понеслась за борт.
— Смирнов, на катер!
Лёшка полез по шатающемуся трапу вниз — помогать Леваде загружать гигантскую авоську. Через несколько минут она была на палубе.
Когда весь провиант подняли на борт, начали перетаскивать его в трюм, в кладовые. Трапы туда крутые, как пожарные лестницы.
— Осторожнее! — покрикивал Зозуля. — Шеи не сломайте.
— Тихо! Тихо-тихо! — умолял Левада. — Там же стекло!
Ящики с сухими винами и бутылями фруктового сока для тропиков без напоминания артельного несли бережно, словно младенцев.
Упарились, как в бане.
— Шабаш, — объявил Зозуля. — Сетку на место, стрелы закрепить, зачехлить лебёдку, подмести палубу — и шабаш.
Во время ужина в столовую вбежал вахтенный:
— Ветошь и паклю подвезли! На выгрузку!
Зозуля глянул на Лёшку, на Пашу. Лёшка, не ожидая словесного приказа, поднялся с кресла. Паша, сделав вид, что не понял боцмана, уткнулся в тарелку, но это его не спасло.
На третий день стоянки в бухте Находка залива Америка Лёшка с Николаевым сели на катер.
— Василий Яковлевич! — крикнул вслед вахтенный помощник. — Капитан велел зайти в трансфлот.
— Понято.
Матрос с катера пригласил спуститься в салон: «Продует тут».
В небольшой каюте находился пожилой моряк явно лоцманского звания. Николаев молча кивнул и прошёл с Лёшкой к задней скамье.
Катер шёл ровно, потом его закачало. Мимо плыли две самоходные баржи, низко осаженные в воде.
— К вам, — сказал, обернувшись, лоцман.
Николаев тоже подумал, что бункеровочные баржи направляются к «Ваганову».
— Значит, сегодня уходите, — не то спросил, не то сообщил лоцман.
— Пока неизвестно.
— Известно. Распоряжение пришло. Пойдёте в Австралию. В трансфлот, наверное, за документами?
— По своим делам.
— Не опоздайте, сниматься скоро.
— Во сколько? — заволновался Лёша. Он уже настроился поговорить по телефону с Ленинградом, и вот…
— Часа через два — два с половиной.
— Срочный закажем, — сказал Николаев.
Едва катер ткнулся в бревенчатый частокол стенки, они спрыгнули на пирс и бегом устремились на гору, к почтамту.
К окошку междугородного телефона стояла очередь, преимущественно из моряков.
— Срочный, — сказал Николаев, пробираясь вперёд.
— У всех срочный! — заволновалась очередь.
— Мы с «Ваганова».
— Они с «Ваганова»! — громко крикнул кто-то. — Как по тревоге уходят.
Безволновое матросское радио действовало и на берегу. Молодая девушка-телефонистка запела в микрофон:
— Дежурненькая! Я — «Кабинка». Ленинград мне, срочненько! Морячок тут один. Очень просит. Минуточек пять.
— Десять, — поправил Николаев.
— Дежурненькая, десять!.. Что? Ни минуточки? Только от двадцати двух? — Она отвела от губ микрофон и виновато сказала обыкновенным голосом: — Только с двадцати двух. Будете ждать?
— Из Австралии поговорю, — с досадой и раздражением бросил Николаев.
Теплоход «Ваганов» выбрал якоря в 22 часа 05 минут.
Глава третья ПОД ЮЖНЫМ КРЕСТОМ
ВОЛНА № 21
Переход через экватор — событие. Для тех, кто впервые пересекает границу полушарий Земли, — событие чрезвычайное. Но и бывалые моряки любят переплывать экватор. Праздник Нептуна — традиционное морское веселье.
Весь экипаж деятельно готовился к торжественному дню. Старший матрос, он же судовой плотник, выпилил из фанеры трезубец, подновил бронзовой краской старую корону. Боцман выделил паклю для бороды и усов царя и пеньковые концы на дьявольские хвостики для свиты. Главный судовой художник Левада выпустил специальный номер стенной газеты с рисунками и стихами.
Газету держали в секрете, в каюте первого помощника, но все, конечно, наизусть уже знали дружеские эпиграммы. А вот список звёздных имён, которыми Нептун — Кудров окрестит каждого персонально, и не пытались выведать. Неинтересно потом будет. Моряк, пересекший экватор, получает новое имя, будто заново родился.
Но все приготовления оказались напрасными. В тропиках, особенно в полосе экватора, обычно стоит устойчиво хорошая погода. Жарко, влажно, душно, а океан тихий, небо чистое. Тут же, как нарочно, такая зыбь пошла — не до празднеств.
Сверху горы видятся застывшим морем, с ходового мостика океанская зыбь кажется ожившей горной страной. Хребет за хребтом, цепь за цепью идут из-за горизонта на судно. Зыбь — последствия шторма. Где-то за тысячи миль бушевали вода и небо, сюда докатились высокие длинные волны.
Стальная махина «Ваганова», от киля до клотика высотой с десятиэтажный дом, беспомощно взлетала на крутые вершины, низвергалась, проваливалась в жуткую зелёную пропасть. И шага не сделать, не держась за поручни. До карнавала ли?
А небо синее-пресинее. Ни тучки, ни облачка. Установки для кондиционирования воздуха нагнетали в каюты прохладный воздух, но столбик термометра не опускался ниже +28°. В коридорах — все тридцать пять. Иллюминаторы и двери накрепко задраены, помещения отгорожены от тропической парной, но в закупоренной коробке недостает кислорода, по утрам ломит виски.
На воле не легче: не воздух, а влажная вата, не дышишь — жуёшь. Стальная обшивка запотела, словно кафельные стены в бане. Деревянные части — планширы, банкетки, поручни — волглые, осклизлые.
И всё и вся качается, валится, уходит из-под ног.
Многие лишились аппетита, сна. Артельный Левада вторые сутки пластом лежал. Он не переносил длительной монотонной качки. В шторм — ничего, терпимо, а в зыбь — хоть на берег списывайся! А зыби этой ни конца ни края. Идёт и идёт, треклятая, как вражеская рать в психическую атаку. Падают ряды, а за ними всё новые, шеренга за шеренгой, шеренга за шеренгой…
Отдельные валы — их замечали ещё издали — возвышались над остальными, будто конница над пехотой. Они были длиннее, выше, круче.
— Вон, вон, опять девятый вал! — измученным голосом предупредил Паша. Его поташнивало, работать он не мог, и в каюте не сиделось, не лежалось.
— Девятая не самая страшная, — сказал Федоровский. — Четырнадцатая — хуже её нет.
Зозуля не согласился, авторитетно изрёк:
— Самая максумальная идёт под двадцать первым номером.
Лёшка пробовал установить закономерность появления пиковых волн, но ничего из этого не вышло. Волны-гиганты шли с горизонта неравномерно.
Чтобы увеличить осадку, заполнили балластные ёмкости, но трюмы забортной водой не нагрузишь. Теплоход раскачивался и нырял, как лёгкий поплавок.
Столы покрыли влажными скатертями, но тарелки с макаронами по-флотски скользили от бортика к бортику, словно по паркету.
К вечеру третьего дня вроде бы поутихло. Спать легли с полной уверенностью, что к утру океан угомонится.
Лёшка с ноля нёс ходовую вахту с Пал Палычем. Двери с обеих сторон сдвинуты до отказа, но никакого движения воздуха не ощущалось. Рубашка пластырем липла к телу.
Судно взбиралось на невидимый холм, спускалось в ущелье, к подошве очередного вала, опять лезло вверх. Жёлтое пятно сигнального огня на грузовой мачте пристраивалось к звёздам, затем срывалось, стремглав летело вниз, чтобы снова потянуться в небо. Каждый раз, когда палуба уходила из-под ног, замирало сердце.
Внизу, в каюте или тросовой, спокойнее. Обычно Зозуля давал на ночь задание вахтенному матросу: парусину отремонтировать, чехол подшить, распустить на каболки кусок пенькового троса, сплести из них мат или сделать новую швабру. В эту ночь Пал Палыч не разрешил отлучать вахтенного матроса с мостика: очень неспокоен океан.
Лёшка стоял рядом с Пал Палычем на правом крыле и с затаённым волнением всматривался в чёрный океан. Конечно, на экваторе нет никаких обозначений: столбов, финишной ленты, табличек. Экватор — условная линия на карте, нолевая широта, ничего сверхъестественного.
О нет! Экватор — это экватор! Не каждому выпадает счастье пересечь поперечный рубеж земного шара. Лёшке неслыханно повезло.
— Когда экватор? — придав лицу выражение деловой озабоченности, спросил Лёшка, хотя понимал: Пал Палыч всё равно ничего не мог увидеть.
— Миль тридцать — тридцать пять.
«Через два часа», — мысленно подсчитал Лёшка. Он с утра вынашивал одно особое желание, да всё не решался заговорить о нём с Пал Палычем. В запасе два часа, можно ещё потянуть, но не опоздать бы!
«Волна — в корму. А если и течение попутное? Пожалуй, осталось меньше двух часов. Не прозевать!»
— С какой мы сейчас скоростью идём?
— Узнай и доложи.
Лёшка воспринял приказ с радостью.
На указателе лага, как на автомобильном спидометре, счётчик пройденного пути и указатель скорости. Судно делало 17,2 узла, 17,2 мили в час.
Пал Палыч «для интеллигентности», как он выразился, научил Лёшку не только считывать показания приборов, но и определять расстояние и время пути.
«Сколько же точно осталось до экватора?»
После тропической черноты карта на столе в штурманской показалась сверкающей и ослепительной.
На мореходных картах глубокие места не закрашиваются: «Плывите спокойно, воды под килем предостаточно». У берегов и на отмелях — густая синь: «Внимание, опасность!» На листе, что лежал перед Лёшкой, ни земли, ни рифов — белая гладь в пересечении меридианов и параллелей. Наискось, через весь лист, карандашная линия — курс, прочерченный капитаном. До экватора было всего девять с половиной миль. Ходу около получаса. Лёшка высчитал время с точностью до сотой.
— Не может быть, — уверенно сказал Пал Палыч. — Такую комариную точность наш прибор не даёт. Всё, Алексей, относительно в мире. Изучал философию?
— Мы её не проходили.
Нужна ему сейчас эта философия! Экватор через…
— Философию не «проходят», Алексей. Её изучают. Как всякую серьёзную науку — навигацию, теорию остойчивости и непотопляемости, например… Не забыл, что такое «остойчивость»? Экзамен на носу!
— Пал Палыч, экватор! — почти застонал Лёшка и наконец выложил своё желание: — Пал Палыч, можно я экватор перерулю?
Судном управлял гирорулевой. Что ему экватор! Бездушному автомату плевать на всё, кроме заданного курса. А Лёшке…
— Пожалуйста, — преспокойно разрешил Пал Палыч.
«Пожалуйста». Будто его просили о самой малости.
Царская щедрость! «Пожалуйста, Алексей, ведите судно через экватор». Добрый, умный Пал Палыч!
— Так что значит остойчивость?
«Пожалуйста, Пал Палыч, на любой вопрос отвечу! Только бы не прозевать экватор».
— Остойчивость — это способность судна возвращаться из крена или дифферента в прямое положение!
— По прекращению действия причины, которая вывела его из этого состояния, — дополнил Пал Палыч. — Так. Уточните, товарищ Смирнов Алексей, что такое крен и дифферент.
«Если он будет гонять меня по всей программе, мы и Австралию прозеваем!»
— Крен — бортовой наклон; дифферент — продольный.
В этот момент судно так тряхнуло, что оно сперва зарылось носом, потом завалилось на борт.
— Полная комбинация, — хладнокровно отметил Пал Палыч.
Лёшка чувствовал себя как на огне. Будто под ногами не мокрая деревянная решётка, а раскалённые чугунные колосники.
— Пал Палыч, — напомнил он страдальчески, — экватор…
— По географии вопросов не будет, а вот как у тебя с английским?
«Бесчувственный человек! Или притворяется, шутит. Какие сейчас шутки!»
— Пал Палыч!
Кажется, этот вопль души достиг цели.
— Присмотри за океаном, — деловым тоном сказал Пал Палыч и исчез в темноте рубки.
Лёшка высматривал экватор. Здесь, где-то здесь, рядом!
Чёрный океан хранил тайну.
Опять появился Пал Палыч.
— Как у тебя с английским, Алексей?
Лёшка готов был завыть от отчаяния. Всё погибло, не перерулить ему экватор!
Пал Палыч, глядя на светящиеся стрелки часов, продолжал безжалостную пытку:
— A hand to the helm.
— «Рулевого на руль», — перевёл Лёшка.
— Ahandtothehelm! — властно повторил Пал Палыч.
«Хэлм» — «руль»; «э хэнд ту зэ хэлм» — «рулевого на руль». Правильно перевёл, чего он?»
— На руль! — крикнул Пал Палыч.
— Что? — Лёшка прирос к месту.
— На руль! — Пал Палыч оторвал его от планшира и подтолкнул к двери. — Живо!
Лёшка очумело бросился к рулевой колонке.
Штурвальное колесо не поддавалось.
— Заклинило!
— Спокойно. Переключи на ручное управление. До экватора одна минута.
«Есть ещё время, есть!» — заликовал Лёшка. Он перевёл управление с автомата на ручное, усилил освещение картушки компаса и уверенно взялся за штурвал.
Теплоход «Ваганов» был в его, Лёшкиных, руках.
— Экватор!
«Экватор» прозвучало, как «финиш», «победа», «слава»!
Лёшка стоял на банкетке, словно на пьедестале, волшебно подсвеченный снизу приборными лампочками. И ему почудилось: сам Нептун поднёс к поверхности Тихого океана яркий факел, гремит зычный фанфарный голос:
«Здравствуй, мореход Алексей Смирнов! Владыка морей и океанов приветствует тебя в своих владениях! Отныне и навсегда признаю тебя дорогим гостем и нарекаю новым именем, звёздным — ЦЕНТАВР.
Ходи по моему царству безбоязненно и беспрепятственно! Гей вы, ветры дикие, волны штормовые, зыбь коварная! Всем вам, бедам и опасностям, повелеваю: не играть зло с мореходом ЦЕНТАВРОМ, не губить его судно, не топить его шлюпку, не дать упасть на дно океанское ни единому волосу с его буйной молодой головы!»
Северное полушарие осталось за кормой. Ах, как легко дышится в Южном! И как светло и радостно на душе! Тысячи калышек можно распутать, зачистить кардощёткой всю главную палубу, перетаскать на своих плечах тринадцать тысяч тонн груза, умирать и воскресать от зыби, сутками стоять на вахте — лишь бы испытать такое необыкновенное счастье! Ты перерулил экватор, ты — в Южном полушарии, ты — первооткрыватель! Ничего, что до тебя открыли его другие, для тебя это впервые.
— Пал Палыч! — Голос Лёшки подрагивал от волнения и ещё не пережитого до конца сладостного и острого восторга. — Пал Палыч, можно позвонить ребятам?
— Звони. — Пал Палыч крепко пожал руку: — Поздравляю, Алексей!
— Спасибо.
Он позвонил мотористам:
— Экватор прошли!
«Кому ещё сообщить великую новость? Дядя Вася совсем недавно ушёл отдыхать. Жаль тревожить…»
— Можно отлучиться на минутку?
— Пять минут, не больше.
— Есть не больше!
Он стремглав полетел вниз. «Кого разбудить, кого обрадовать? Федоровского? Пашу? Зозулю?»
У самой столовой, в нескольких шагах от боцманской каюты, он услышал низкий нарастающий рёв.
Титанический удар потряс судно. Раздался хруст, треск. «Ваганов», будто ему переломили стальной хребет, рухнул носом вниз. Лёшку оторвало от палубы и швырнуло на переборку. Ухватиться за штормовой поручень он не успел и, свалившись, вкатился через распахнутые двустворчатые двери в столовую.
Погас свет. Где-то произошло короткое замыкание. Мрак и невесомость длились секунды, но почудились вечностью.
«Ваганов» зарылся в воду до тамбучины грузовой фокмачты. Корма вздыбилась; сверкающие лопасти гребного винта беспомощно завертелись в воздухе.
Где-то рядом завопили странным и жутким голосом: «В-в-вв!»
Цепляясь за столы и кресла, Лёшка выбрался в коридор.
Зозуля, в одних трусах, мокрый с головы до пят, изо всех сил тянул на себя дверную ручку. Будто там, как в клетке, бесновалось хищное страшилище, океанское чудо-юдо, которое пыталось вырваться.
Из вентиляционной дверной решётки по ногам боцмана хлестала вода.
Не соображая, что произошло, Лёшка стал помогать Зозуле и закричал:
— Вода!
Первым примчался артельный Левада.
— Коля! Николай Филиппович! Что с тобой? — Левада судорожно ощупал боцмана. — Ушибло тебя? Ранило?
Как ни очумел от всего происшедшего Лёшка, но столь неожиданное проявление Левадой тревоги за боцмана поразило его. Ведь они вечно подтрунивали друг над другом. И никогда ещё Лёшка не слышал, чтобы Зозулю называли по имени или по имени и отчеству.
Убедившись, что с боцманом ничего не случилось, Левада оторвал их от двери и навалился на неё плечом.
В коридор хлынул целый водопад.
Со всех сторон уже бежали матросы.
В боцманской каюте по самый комингс плескалась вода.
Волна вдавила двойную обшивку и выжала иллюминатор. В какие-то доли секунды в каюте всё перевернулось вверх дном. Боцман вылетел из койки вместе с матрацем. Нижний рундук открылся, и оттуда, как прибоем на песчаную отмель, вынесло меховой жилет, стёганку, вязаную шапочку и… малярные кисти.
Новенькие, нетронутые, дефицитные кисти! Макловицы, плоские, трафаретки, филёночные, флейцы. Боцман выхватывал их из воды и не выпускал из рук.
— А-а-а! — мстительно протянул Левада, возвратившись к прежнему тону. — Вот он где, твой загашник. «Нету, вышли все», да? А они тут! Обман всегда на чистую воду выйдет!
Боцман, не слушая его, вылавливал судовое имущество.
Старший матрос пробрался к повреждённому иллюминатору. Когда пришёл капитан, он доложил ему:
— Заделаем, вмятину подрихтуем, но герметичности не будет, хотя и постараемся.
— Постарайтесь. — И капитан Астахов ушёл наверх принимать доклады: что там ещё натворила волна № 21. Или четырнадцатая, или девятая.
Зозуля полностью овладел собой, узнал Лёшку.
— Почему здесь?
— Экватор, — невпопад объяснил тот.
— Марш на верхотуру!
Пал Палыч сделал Лёшке строгое внушение.
— Место вахтенного здесь. Там и без тебя управились бы.
С брюк стекала вода. «Надо переодеться или отжать набухшие штанины», — подумал Лёшка.
— Смотреть внимательней!
— Есть смотреть внимательней!
«Откуда она такая взялась?» — подумал Пал Палыч о водяной громадине, наделавшей столько шуму.
— Что там стряслось? — позвонил из машинного отделения вахтенный механик. — На кита наехали?
— Об экватор споткнулись.
Когда в боцманской каюте навели порядок — относительный, после-аварийный, — появился Паша Кузовкин. Босиком, в джинсах и спасательном жилете на голом теле. Увидев его, Зозуля начал заикаться:
— Пригот-товился уж-же?
— Готов, товарищ боцман, — трясясь мелкой дрожью, ответил Паша.
— Ну и иди. Иди! — рявкнул боцман.
— Куда? — Глаза Паши, круглые от страха, совсем выцвели.
— Куда собрался, Паша!
— Не бойся, не утонешь, ты же лёгкий, — ввернул артельный Левада.
— Почему? — Паша пугливо отпрянул назад.
— Тебе лучше знать, Па-ша. О своей шкуре только и хлопочешь. Иди, спасайся!
Паша дал ходу.
— Стой! — опомнился Зозуля. — Дело сперва сделай. Швабру в руки, Кузовкин! Чтобы ни пятнышка, ни капли в коридоре! — И уже спокойно, обращаясь к остальным: — Спасибо, ребята. Дальше я и сам управлюсь.
— Дай одну трафаретку и два флейца! — Левада не попросил, а потребовал.
— Принесу, потом… Сказал — значит, будет.
Не дал боцман сразу дефицитные кисти! Знал, что теперь уже всё равно: сколько ни проплавай на «Ваганове» или других судах, эпизод с кистями будет преследовать его всю моряцкую жизнь. Попробуй не дать что-нибудь, сразу получишь в ответ: «Потопа ждёшь? Ну-ну!»
Он услышал эту фразу очень скоро. Соломоновы острова оградили «Ваганова» от буйного тихоокеанского простора. Заштилило, будто в озере под Кавголово. Можно было заканчивать окраску главной палубы. Боцман, старший матрос и Федоровский работали валиковыми кистями, остальные красили малярными ручниками труднодоступные места: широким цигейковым валиком на длинной палке в щель не залезешь.
Из трёх обещанных новых кистей Зозуля принёс лишь две.
— А флейц? — язвительно напомнил Левада. — Опять двадцать первую волну ждать?
МОБАЛИШТО
В океане нет почтовых ящиков. Моряки не пишут писем, а посылают радиограммы. И ответы получают только по эфиру.
Связь судна с пароходством, портами, другими судами, связь моряка с домом — всё в руках радиста. Он посвящен в служебные и семейные тайны, официальное лицо, личный поверенный.
За восемнадцать лет плавания Николаев передал и принял десятки тысяч депеш, миллионы знаков.
Письма измеряются страницами, телеграммы — количеством слов, радиограммы — знаками. По международному коду Морзе, радиоазбуке, буква состоит из нескольких знаков. «А» — из двух, «Б» — из четырёх… И цифры из знаков. Чтобы передать «1», надо пять раз нажать на радиотелеграфный ключ. Единица «пишется» одной точкой и четырьмя тире. Точка же, как и другие знаки препинания, закодирована шестью знаками! Вот такая азбука.
Для непосвящённого «морзянка» — сплошной писк. При атмосферных помехах, слабой слышимости и короткой точки от длинного тире не отличить: разница между ними — десятые, а то и сотые доли секунды. Но опытные радисты слушают, будто глазами текст видят или под диктовку пишут, от руки, а то и сразу на машинке печатают. Это не просто, требует большого нервного и физического напряжения.
А пробиться сквозь плотное месиво радиосигналов всей планеты к своей, единственной для тебя станции? Тут нужны большое профессиональное мастерство, настойчивость и сильная воля.
Часто приходится радировать не на прямую, а через посредника. Вот и сейчас какой-то танкер, долго и бузуспешно добивавшийся Ленинграда, наткнулся на «Ваганова».
«Выручи, друг! Перекантуй в центр парочку депеш!»
«Срочное?»
«Очень!»
«Давай».
Перепоручив начальнику радиостанции «Ваганова» свои радиограммы, неизвестный Николаеву Сидоров Сеня, из молодых видно, спросил:
«Вы где сейчас?»
«К Австралии подходим».
Танкер раз в двадцать был ближе к Ленинграду, чем «Ваганов».
Сеня Сидоров онемел, потом стал оправдываться.
Николаев быстро отстучал:
«Всё. Не мешай мне. Привет!»
Ленинград велел ждать. Восьмая очередь.
«Я из Австралии! — напомнил Николаев. — Приём».
«Ты, Николаев?»
«Я. Анюта?.. По почерку узнал».
«Привет. Третья очередь. Раньше не смогу».
«Понятно».
Он снял с головы наушники, расстегнул рубашку до самого пояса, повернулся вместе с креслом к дивану.
Свайка, высунув язык, насторожила уши.
— Жарища, а?
Свайка приподняла острую мордочку и опять уронила на лапы.
— Тропики. Никуда не денешься, дружок. Но тебе-то чего здесь страдать? Шла бы в каюту, там прохладнее.
На несерьёзные разговоры Свайка не отвечала. Совместная вахта с хозяином стала для неё служебной обязанностью.
— Ну спасибо за компанию. Завтра Брисбен, по твёрдой земле погуляем. Может, на звёзды поглядим?
Они вышли на крыло, под чужое, незнакомое небо. Перевёрнутый ковш Большой Медведицы лежал на горизонте. Серебряное лунное «С» завалилось на спину, выставив вверх острые рога. Полярной звезды не было. Исчезла и Малая Медведица. В иссиня-чёрном небе сверкали мириады других светил, невидимых в Северном полушарии.
Над грузовой фок-мачтой висел Южный Крест.
— Вон оно, знаменитое созвездие! Туда смотри, дружок. Вперёд и выше.
— Где-где, Василий Яковлевич, крест этот самый?
После светлой рубки глаза не сразу освоились с темнотой. В двух шагах стоял Паша Кузовкин.
— Фу-ты! — выдохнул Николаев и рассмеялся: — Подумал, что Свайка заговорила… Почему не спишь?
— Джинсы стираю, Василий Яковлевич. А собаки, они по-человечески не могут. У них рефлексы условные, академика Павлова.
— Образованный ты парень! Только каким же образом у собак рефлексы академика?
— Не точно я выразился, Василий Яковлевич.
— Ты и в радиограммах путаник великий. Номер почтового отделения забываешь, а слов лишних — целый вагон. Часами разгружаю.
За редким исключением, все радиограммы, с берега в море, с моря на берег, походили друг на друга, как близнецы. Особенно праздничные. И сейчас на столе лежала стопка листков, заполненных разными почерками, всевозможными чернилами, но об одном и том же: «Перешли экватор».
Только Лёша написал не «перешли», не «пересекли», а перерулил.
— Я, Василий Яковлевич, в этот раз очень даже коротко сделал. Учёл ваши замечания, — сказал Паша довольным голосом.
— Да? Поглядим. Не читал ещё твоей депеши.
Через несколько минут Николаев позвал из рубки:
— Паша! Зайди. Ну-ка, продекламируй вслух своё сочинение.
— «Дорогие МОБАЛИШТО прошёл экватор ваш моряк Павел Кузовкин». Восемь слов. Не считая адреса, конечно. Короче не получилось. Разве что фамилию свою вычеркнуть? В семье-то один я моряк.
Паша потянулся к ручке.
— Не спеши. Фамилию убрать недолго. А вот что такое МОБАЛИШТО?
— МОБАЛИШТО?
— Оно самое.
— Мама, отец, бабушка, сестрёнки: Аня, Лиля, Ирина, брат Шурик и тётя Оля, — с обезоруживающей простотой расшифровал Паша.
— А других родственников у тебя нет?
— Есть, Василий Яковлевич! Но они в деревне живут, далеко. — Жаль. Сразу бы весь твой род в одно слово втиснули.
Ти-ти-тии, тии-ти, ти-ти-ти, тии-тии-ти-тии!.. — полилось из динамика.
Николаев взял наушники.
Паша почтительно, на цыпочках вышел из святая святых.
Ленинград вызывал теплоход «Ваганов».
Две точки и тире; тире и точка; три точки; два тире, точка, тире. Четыре буквы азбуки Морзе: unsq, у-эн-эс-кю.
В мировом океане десятки тысяч судовых радиостанций, ещё больше их на берегу. И у каждой свои позывные. Из цифр и букв или только из букв. Радиостанция теплохода «Ваганов» значилась под шифром UNSQ.
Николаев отзывался на уэнэскю, как на собственное имя. Случалось ждать своей очереди часами. Не выключая приёмник, Николаев вытягивался на диване, отдыхал. Глубокой ночью лёжа заснуть не долго. Динамик ни на минуту не умолкал, но морзяночная какофония не мешала. Николаев как бы не слышал её. Стоило же хоть раз промелькнуть звуковой молнией unsq, он вскакивал мгновенно. Будто в самое ухо крикнули: «Вася!»
Ещё не проснувшись толком, Николаев хватался большим и указательным пальцами за белый рычажок ключа и, как скрипач, склонив голову набок, с неуловимой для глаз скоростью отстукивал:
«Unsq слушает!»
Ответив Ленинграду, Николаев сказал через плечо своей помощнице: «Будем принимать».
Свайка громко зевнула: долгая, мол, история. Она удивительно быстро освоилась в рубке и обычно дремала в уголке дивана. Гудение аппаратуры, щёлканье реле, разновысокий писк, цоканье, заунывное свистенье, похожее на короткий вой, треск атмосферных разрядов не вызывали никакой реакции. Для Свайки все эти звуки были чужими и недоступными.
Хозяин выбивал из серой коробочки рычание: «Тыр-тырр-тыр». Низко, сердито. Отвечал ему высокий, писклявый голосок: «Пи-пии-пи-пи». Ластится, оправдывается, уговаривает, подлизывается. А хозяин опять: «Тырр-тыр-тырр».
Первое время и Свайка помогала рычать, но ей запретили вмешиваться в разговоры с другим миром, откуда не проникали даже запахи.
Из Ленинграда радиограмм было немного, только служебные. Николаев принял их на машинку. Потом отстучал свои.
«Какой «мобалишто»?» — переспросил Ленинград.
«Обыкновенный МОБАЛИШТО. Поняли правильно. У меня все».
Свайка зажмурила глаза и тотчас погрузилась в очередной собачий сон. Нежно повизгивая, она слабо шевелила пушистым хвостом, но вдруг приоткрыла один глаз, второй, и хвост вовсю заходил по дивану. Пришёл Лёшка, друг хозяина, и значит, её друг.
Николаев поднял брови:
— Радиограмму? Опоздал, теперь до утра пролежит.
— А ту, что… уже передали?
— «Перерулил экватор»? Конечно. Изменить хотел? — догадался Николаев. — Вместо «перерулил» — «пересек», конечно?
— Ага. — Лёшка и головой мотнул утвердительно. Поразмыслив, он решил, что «пересекли» скромнее и понятнее.
— Не расстраивайся! Так даже лучше: пе-ре-ру-лил. Присаживайся, Лёша. Опять в ночь с Пал Палычем?
— Меня освободили от ходовых вахт. Пока экзамен не сдам.
— Ну и правильно. Готов?
Лёшка неопределённо повёл плечами.
— Пал Палыч говорил, что ты хорошо подготовился. С английским у нас тоже нормально. Азбуку не забыл? Ну-ка. — Николаев быстро отстучал что-то карандашом по столу.
— Ещё раз, — попросил Лёшка. Он понял все буквы, но слово — абракадабра какая-то!
Николаев, откровенно улыбаясь, застучал медленно: тук, тук-тук, тук, тук-тук, тк, тк, тк-тк, тук…
— М — о — б — а… Не выходит, опять ерунда.
— Плохо, плохо, — деланно строго сказал Николаев и встал. — Семафором попробуем. Принимай.
Лёшка тоже поднялся на ноги.
Николаев помахал над головой руками: «Вызываю!» Лёшка тотчас отсемафорил: «Принимаю!»
Руки Николаева замельтешили, как крылья у мельницы. Лёшка описал правой рукой замкнутую окружность: «Принять не могу». И тогда Николаев рассмеялся, чем ещё больше смутил Лёшку.
— А Ленинград принял! Что у тебя получилось?
— МОБАЛИШТО какое-то…
— Не какое-то, а какие-то. Впрочем, и не какие-то, а известные люди, родственники, полная семья.
— Чья? У нас такого нет на судне. Митрохин, Макаров…
— Есть, да не скажу. Служебная тайна.
Возвратившись в каюту, Лёшка спросил Пашу:
— Кто у нас Мобалишто?
— А что? — насторожился Паша.
— Ничего. Фамилию такую сегодня услыхал.
Паша сообразил, что Лёшка слыхал, да не всё.
— Не знаю такого. — Он притворно зевнул. — Травля, не иначе.
— Мобалишто. Сроду фамилии такой не встречал.
— И я, — сказал Паша, отворачиваясь к переборке. — Вырубай свет.
— Я ещё посижу. Экзамены ведь.
— А-а, — протянул, зевая, Паша и засопел.
В третьем часу ночи, когда Лёшка, отзанимавшись, вышел глотнуть свежего воздуха перед сном, он встретил Быкова. Моторист поднялся наверх покурить. В шахте курить запрещено, да и без табачного дыма дышать там нечем, потом все обливаются.
— Скорее бы уж тропики кончились, — посочувствовал Лёшка.
— И не говори! Ты что, санитарную ночь устроил?
Лёшка не понял.
— Постирушку, говорю, затеял? Я мимо проходил — на полную мощность агрегат работает.
— Нет, это не я сти… — Лёшка остановился на полуслове.
Сразу после ужина Паша загрузил в стиральную машину свои джинсы, щедро обсыпав голубым японским порошком. Должен помочь: на правой штанине Паша пятно посадил — за промасленный трос зацепился.
— Пашины джинсы! — ахнул Лёшка и побежал в прачечную.
Моторист из любопытства пошёл следом.
В баке, в мутном водовороте, металось что-то серо-фиолетовое. Отключили ток. Быков вытащил щипцами жалкие, измочаленные джинсы.
— Да-а, заклёпки проржавеют, ковбой уже испарился, — скорбно произнёс Быков.
Но всё это было ещё полбеды. Джинсы сели по длине и ширине.
Паша горевал остаток злополучной ночи и весь день.
— Шорты сделай, — посоветовал боцман.
— Верно, — воспрянул Паша, — будет в чём показаться в Австралии. Там же все в шортах ходят!
— Насчёт Австралии мы ещё посмотрим, — туманно ответил боцман.
Из урезанных джинсов вышли отличные шорты, плотные, с четырьмя карманами и задубевшей кожаной латкой.
В СТРАНЕ КЕНГУРУ
Через открытые иллюминаторы вливался забортный шум и плеск. На пластиковом белом подволоке играли солнечные блики.
Лёшка сладко потянулся и спустил ноги. Вчера улёгся поздно; забираться на койку не стал, устроился на диване.
Прошлёпав к дверям, он снял с крючка новую фуражку и глянул в зеркало над умывальником. Лёшка видел своё отражение лишь по грудь. А больше и не надо было. Главное — фуражка с якорем в овале из золотой канители и полосатая бело-синяя тельняшка.
Матросскую фуражку торжественно вручил капитан.
— Поздравляю вас, — сказал он, пожимая руку.
— Теперь ты настоящий матрос, Алексей. — Пал Палыч был доволен своим учеником. Лёшка и в самом деле отлично выдержал экзамен.
От капитана Лёшка первым делом забежал к Николаеву. Каюта начальника судовой радиостанции рядом.
Дверь была открыта. Николаев ждал, выглядывал Лёшку. Увидел расплывшуюся от неуёмного счастья загорелую, розовощёкую физиономию, новенькую фуражку и понял без слов. Обнял, притянул, похлопал по крепким, налитым мускулам, потом оттолкнул от себя. Руки сплелись в сильном мужском рукопожатии.
— Поздравляю. Поздравляю, Лёша! Не простой экзамен выдержал ты — профессиональный. Вот теперь и ты полноправный рабочий океана. Теперь, как говорится, держись! И — так держать! Всё будет нормально, всё будет хорошо!
Лёшку обдала горячая волна. Так, наверное, сказал бы и отец. И про рабочего сказал бы. «Мы, — любил повторять он, — моряки, рабочий класс океана». Отец очень гордился этим званием.
«Всё будет хорошо». Точно такими словами напутствовала Лёшку мама…
— Дядя Вася… Радиограмму бы…
— Непременно! Через час в эфир выхожу и твою в первую очередь перешлю в Ленинград. А боцман знает уже? Сходи обрадуй Николая Филипповича.
— Да, да-да! — горячо подтвердил Лёшка (а Николаев про себя отметил, что крестник его и говорить веселее стал, не тянет, как бывало). — Я сейчас, я быстро!
Лёшка убежал. Николаев опустился на диван, вздохнул. Эх, не дожил Костя до этого дня!
Боцмана, как обычно, на месте не оказалось. Его только ночью, да и то спокойной, можно застать в каюте. Лёшка отыскал Зозулю в малярке.
— Ну? — нетерпеливо спросил тот.
Счастливо улыбаясь, Лёшка браво приложил руку к фуражке.
— Ну, молодец, Смирнов, — с облегчением выдохнул боцман, тщательно вытер паклей руку и протянул Лёшке. — От всей души рад за тебя.
— Спасибо. Большое вам спасибо, товарищ боцман… Николай Филиппович…
— Чего там! — махнул Зозуля, откровенно довольный и Лёшкиным успехом и его признательностью.
Не первого, не двадцатого практиканта и ученика вывел он в люди, но каждый раз волновался в день экзаменов, будто сам выходил один на один к аттестационной комиссии. Он и сегодня ушёл в малярку — занять чем-нибудь беспокойные руки, скрыть от других свои переживания.
— Чего там, — повторил Зозуля и гулко откашлялся. — Зайди ко мне после ужина…
Боцман подарил Лёшке тельняшку.
— Хотя и не в моде на торговом флоте тельняшки ныне, а традиция есть традиция. Лично я, Смирнов, полжизни относил полосатенькую. — Зозуля нежно провёл по целлофановому пакету с тельняшкой. — Первую кругосветку в ней сделал, в первую атаку в ней пошёл. Так что носи на здоровье.
Он говорил так, словно это была та самая заветная его тельняшка, просоленная морем и солдатским потом, застиранная и простреленная.
— И помни завсегда, Смирнов, что ты есть матрос, звание оправдывай с максумальной честью, усердием и мужественностью…
Судно ещё шло в тропиках, однако жара спала и не было уже изнуряющей влажной духоты, хотя ртутный столбик показывал +25. Более, чем тепло, но Лёшка на ночь не снимал тельняшки.
Теперь из зеркала глядел загорелый парень в матросской фуражке и матросской тельняшке, плотно сидевшей на широких плечах и груди. Парень самому себе нравился и улыбался.
«Дома бы в таком виде показаться! И в школу зайти! — Лёшка оторвался от зеркала, посмотрел на босые ноги и засмеялся: — Да, именно в таком виде!»
Спохватившись, что может разбудить Пашу, он быстро натянул брюки, обулся и вышел на палубу.
Спокойная пологая зыбь отливала перламутром, зеркально вспыхивала: солнечные зайчики прыгали на судно, зажигали стёкла иллюминаторов.
Вдруг, в нескольких метрах от борта, выскочили два дельфина. За ними ещё один, опять пара, ещё трое… Дельфинья стая легко и весело играла в воде, не отставая от судна и не обгоняя его.
Точёные глянцевые тела, искрясь и сверкая, грациозно пролетали по воздуху и плавно, без всплесков, уходили в воду, чтобы вновь взлететь над океаном. Дельфины резвились в такой близости, что Лёшка видел блестящие умные глаза, улыбчивые, добродушные мордахи. Казалось, что вот сейчас, в очередном прыжке, дельфины сравняются с планширом, подмигнут и крикнут задорно: «Привет!»
— Привет! — Лёшка перегнулся через фальшборт и замахал рукой.
— Привет матросу второго класса! — раздалось над головой.
Лёшка задрал голову. Сверху улыбался Федоровский.
— Доброе утро, Лёша.
— Доброе утро. Здорово, а?
— Ещё бы! Афалины. Они из дельфинов самые умные, пожалуй. Поднимайся сюда. Земля скоро должна показаться.
— Сейчас.
Дельфины, будто по команде, резко увеличили скорость и изменили курс. Золотистые дуги вспыхивали и гасли всё дальше и дальше.
Землю увидели лишь к вечеру, на закате.
Над оранжевым горизонтом медленно всплывали синие верблюжьи горбы — горы.
— Австралия! Австралия! — завопил Лёшка срывающимся голосом.
Наверное, португальцы или голландские моряки, которые открыли Пятый материк; вели себя сдержаннее. А может, и нет.
Свободные от вахты толпились на верхнем мостике, смотрели во все глаза на синие горы, оживлённо переговаривались.
Объяснить что-нибудь, рассказать подробно об Австралии никто не мог. Так, обрывочные сведения, отдельные названия: кенгуру, эвкалипты, аборигены.
Кенгуру — сумчатые животные, передвигаются большими скачками; на всех картинках у кенгуру из сумки на брюхе выглядывают смешные мордочки детёнышей. Эвкалипты — гигантские деревья. Аборигены — коренные жители, те, что охотятся с бумерангами.
Вспомнили ещё, что в Австралии уйма кроликов. Завезли их европейцы, теперь и сами не рады: все поля объедают. Но главное в Австралии, конечно, сумчатые животные.
— А верно, что там кенгуру в городских садах пасутся?
Пашу подняли на смех, но тут подошёл Николаев и подтвердил:
— Только в пригородных, в заповедниках специальных. Кенгуру в Австралии не так много осталось.
— Вымерли?
— Перестреляли. Раньше за них даже премии охотникам выплачивались. За коала не награждали, но и их почти уничтожили.
— А что это — коала?
— Не что, а кто, — поправил Николаев.
О коала он впервые узнал от Брема, из книги, подаренной ему и Косте стариком продавцом букинистического магазина на Литейном проспекте, в начале войны. Потом пришлось побывать в Австралии и увидеть живых коала — маленьких сумчатых медведей. Забавные, ушастые, бесхвостые толстячки, на короткой мордочке сонные глазки, как бы кожаный нос. На воле коала ведут ночной образ жизни. В зоопарке днём не уснёшь. Только малыши, обхватив передними когтистыми лапами шеи родителей, спали на их спинах крепко и безмятежно. Мамы и папы лазали по обглоданным стволам, жевали листья, а дети хоть бы что — спят!
— Вот бы такого на судно! — сказал Лёшка.
— Коала вывозить нельзя.
— Не продают? — удивился Паша.
— Кормить нечем. Коала едят преимущественно листья и молодые побеги эвкалиптов.
— Так у нас же в Крыму и в Колхиде эвкалиптов этих! — вспомнил Зозуля.
— Этих, что коала едят, нигде нет, кроме Австралии. Потому и коала-эмигрантов не бывает.
— Патриоты, — с уважением отметил Зозуля.
Быстро стемнело. Все разошлись по каютам. И Лёшке поспать надо было: с ноля на вахту.
Он забрался на койку, включил ночничок в изголовье, взял с полочки-сетки «За бортом по своей воле» Алена Бомбара. Никак не дочитать. Работа, работа, работа… И служебную литературу надо изучать. «Ты, Смирнов, — назидательно сказал боцман Зозуля, — только минум выучил. Так что не останавливайся». И дядя Вася, и второй штурман подталкивают. Каждая вахта с Пал Палычем не только работа, но и занятия.
— Так, Алексей. Чему посвятим сегодняшнее ночное бдение?
Пал Палыч и Лёшка стояли на левом крыле мостика и вглядывались в ночной океан.
— Мне всё интересно, — с готовностью ответил Лёшка.
— Глобальная эрудиция — вещь заманчивая, — усмехнулся штурман. — Но «обо всём понемногу» хорошо для общей интеллигентности, для светских бесед, а для работы, товарищ Алексей, необходимо и обязательно вникнуть до тонкостей, до самого… Куда повернулся! Не на меня, на океан гляди. Я тебя и так услышу, а океан…
— Нельзя оставлять без присмотра, — отчеканил Лёшка.
— Ну то-то. Своё дело надо знать до самого «максума», как научно выражается наш боцман. Итак, в прошлый раз мы говорили о морских течениях. А что у нас творится в сфере небесной?
В астрономии Лёшка ещё и азбуки не знал. Учил что-то в школе, только всё почему-то начисто забылось.
— В общем, — заключил Пал Палыч, — сия древнейшая наука для тебя — сплошная «инкогнита», как Австралия в своё время для европейцев. Так её и называли — Аустралия терра инкогнита, Неведомая южная земля.
— Нет, — смутился Лёшка, — астрономию мы проходили…
— Про-хо-ди-ли! — с паузами повторил Пал Палыч. — Мимо, стало быть, прошёл, если никаких зарубок в памяти не осталось. А предки-мореходы, тёмные люди, считавшие, что Земля — пуп вселенной, очень даже хорошо разбирались в небесных светилах. Без карт, без атласов, звёздных глобусов. И не было у них ни маяков, ни радиопеленгаторов, по звёздам в морях-океанах ориентировались! Небо для них было главной и единственной книгой. А ты — «проходил». Кстати, пора отметить, сколько мы уже прошли за этот час.
Он удалился в штурманскую.
Чёрно-бархатное небо, казалось, окружало теплоход от самого борта. Фосфорисцирующая отвальная волна выглядела звёздным потоком, и вокруг, сколько видел глаз, блистали крупные звёзды. Короткие лучи помаргивали, словно ресницы, и Лёшке впервые так близки и понятны стали проникновенные лермонтовские строки: «и звезда с звездою говорит…»
Мама с детства прививала ему любовь к поэзии, но далеко не всё доходило до Лёшкиного сердца. Мама увлекалась и старинными русскими романсами. Слушать их было приятно, хорошо и чисто становилось на душе, и всё же Лёшка с большим удовольствием подпевал отцу, когда он брал гитару, а мама тихо подыгрывала на пианино:
Берегите мужчин, берегите мужчин, но не надо их кутать и холить…Мужественно, азартно звучало в два голоса:
Пусть уходят в моря, в небеса и в тайгу, пусть мужчинами будут мужчины!Неслышно появился Пал Палыч.
— Все спокойно?
«Порядок», — хотел ответить Лёшка и вдруг увидел низко над горизонтом крупный голубой фонарь. Свет его то пропадал, то опять горел во всю.
— Справа маяк. Проблесковый! — доложил Лёшка.
— Похоже, — неуверенно и встревоженно проговорил штурман. — Откуда здесь мог объявиться береговой маяк? Ритм засёк?
Тысячи маяков на свете, рисунки и характеристики маяков составляют толстую книгу. Ни один маяк не похож на другой, хоть чем-то да отличаются, и проблесковые, мигающие, если сказать проще, имеют каждый свой строго установленный ритм, определённое число и продолжительность вспышек и тёмных пауз.
Маяк, обнаруженный Лёшкой, вёл себя престранно. То часто помаргивал, то исчезал надолго, то безостановочно полыхал ярким голубым шаром.
— Чертовщина какая-то, — пробормотал штурман и, бросив: «Смотреть!» — опять убежал к приборам и картам.
Как ни старался Лёшка засечь ритм маяка, ничего не получалось.
Пал Палыч возвратился из штурманской со смешком.
— Не трудись, Алексей. Вообще-то тебе простительно. А я, старый штурманяга, ракушками уже оброс! Как я мог так вляпаться? Венера это, планета Венера, а не маяк! Откуда тут береговая башня может быть? До Австралийской земли ещё плыть и плыть.
И Лёшка узнал, что фазы у Венеры, как у Луны. В «нововенерье», когда виден полный диск, Венера светит ярче самой яркой планеты Сатурн. В тринадцать раз ярче!
— А проблёскивание? — спросил Лёшка.
— Дымка от далёкого пожара. Буш, наверное, горит. Карликовый австралийский лес. Лето ведь, жарища.
— Как лето? — удивился Лёшка. — Март же.
— Мы уже в Южном полушарии, Алексей. Здесь всё наоборот. Март не ранний весенний месяц. Начало осени.
Последующей ночью уже нельзя было спутать Венеру с маяком. Зарево отсвечивало вполнеба.
Ещё через сутки подошли к Брисбену. Ошвартовались вдали от города, почти в самом начале длинного и мутного канала-гавани. Причал был тихим и пустынным. Оранжевые противотуманные фонари на пакгаузах мягко освещали асфальтированный пирс и вереницу автопогрузчиков, замерших, словно жуки на булавках.
Палубной команде побудку объявили раньше обычного, чтобы успеть к началу работы утренней смены докеров подготовить к загрузке трюмы.
Когда люки задраены, кажется, что на палубе лежат большие плоские ящики. Трудно вообразить: внутри судна вмещается груз пяти железнодорожных составов. Но вот разъехались стальные крышки, сложились, встав торчком, разверзся люковый просвет; заглянешь в стальной провал — поверишь. Отвесный трап — как пожарная лестница шестиэтажного дома.
На переходе из Японии в Находку боцман не разрешил Лёшке участвовать в зачистке трюмов, не пустил вниз. Сегодня сам приказал:
— Федоровский, Смирнов — во второй номер!
Трюмы на судне имеют номера.
Надо было осмотреть льяльные щиты. Теоретически, по учебникам и схемам, Лёшка знал, что льяла — вроде жёлоба вдоль бортов для стока воды, которая может попасть в трюм. Но где они здесь, эти льяла? «В натуре», как сказал бы штурман Пал Палыч.
Палуба трюма была ровной и гладкой от борта до борта.
— И не увидишь. Они же крышками закрыты, — пояснил Федоровский. — Начнём. Ты — по левому, я — по правому борту.
«Каждую доску поднять — осмотреть! Дорогой груз повезём, шерсть мериносовую!» — строго наказал боцман.
Работал Лёшка и думал: учиться ему ещё и учиться, чтобы по-настоящему узнать своё судно.
— Лёша! Лёш!
Над люком свесилась рыжая голова Паши Кузовкина.
— Завтракать? — догадался Лёшка.
— Само собой! — Паша оглянулся, опять свесился и выпалил скороговоркой: — Делоесть.
— Какое?
Но тут в просвете люка появился боцман, и Паша исчез.
— Ну что?
— У меня порядок, — доложил Федоровский.
— Нормально пока, — сообщил Лёшка.
— С этого трюма погрузку начнём. Закончите, потом на завтрак. Расход заказан.
— Ясно.
Когда Лёшка с Федоровским поднялись наверх, на палубе уже стояли докеры. В большинстве люди пожилые. Формен, бригадир докеров, разговаривал по-английски с Пал Палычем.
— Алексей, — подозвал он Лёшку, — тальманить не нужно, будешь для связи и на подхвате.
Тальманить — считать груз. Лёшке уже приходилось выполнять такую работу. Тальманщик не просто учётчик, он следит и за состоянием груза, маркировкой на таре, за правильностью укладки по плану, разработанному вторым штурманом.
— Здравствуйте, — сказал по-русски формен и представился: — Герман.
— Очень приятно, — вежливо улыбнулся Лёшка. — Вы говорите по-русски?
— Ноу! Здравствуйте, до звидания, харашё — всё.
— Ясно, — вздохнул Лёшка.
— Ничего-ничего, — подбодрил Пал Палыч, — договоритесь. Практика тебе полезна.
— Москва, спутник, Ленинград! — дополнил свои познания формен Герман.
— Сенкью, спасибо, — сказал Лёшка.
— Да! Спасибо!
— Прекрасно! — похвалил Пал Палыч. — Действуй, Алексей. Следи, чтоб не курили. Но смокинг!
— Но, но-о! — подтвердил формен.
Автопогрузчики вывозили из пакгаузов тюки шерсти — большие серые кубы, опоясанные лентами из тонкой жести. Тюки висели на стропах по восемь штук. Судовые стрелы переносили гроздья в трюм, где их принимали докеры и укладывали, как кубики. При этом они ловко действовали острыми ручными крюками. Воткнут в тюк и перекантовывают куда нужно. Со стороны кажется легче лёгкого. Позднее Лёшка убедился, что без сноровки и напряжения шерстяной тюк с места не сдвинуть.
— Лёша, — опять объявился Паша Кузовкин, — тебя что, тальманщиком поставили? Ну и влип ты!
— Почему?
— Торговый агент был. Толстый, в шортах и при галстуке, а на ногах белые гетры.
— Гольфы, наверное.
— Не в них дело. Фирма автобус даёт. Бесплатно, презент. В зоопарк поедем. Лоне-Пине называется.
— Когда?
— Сразу после обеда. Я уже записался.
— Не смогу, — сказал Лёшка. — Они в две смены работать будут.
— А ты к Василию Яковлевичу…
— Нет, — твёрдо отверг предложение Лёшка. — Отпрашиваться не стану.
— Почему?
— Ты меня подменишь?
— Я? Что ты! Я же в английском ни бум-бум. И я же записался уже. Неудобно перед помполитом.
— Вот и мне неудобно.
— Конечно-конечно, — быстро согласился Паша. — Я расскажу тебе потом всё.
— Ладно, — усмехнулся Лёшка. В Лоне-Пине побывать хорошо, но…
Все, кто ездил в зоопарк, возвратились в восторге. Особенно понравились коала и кенгуру. Ребята рассказывали, что в Лоне-Пине были представлены все виды кенгуру. Рыжие исполины, серые коротышки, желтоногие, скалистые кенгуру, кенгуру-крысы, даже древесные кенгуру, самые удивительные. Они лазали по деревьям, как белки. И было странно наблюдать этих крупных темношёрстных, длинноногих и длиннохвостых зверей, когда они с необыкновенной лёгкостью двигались по колеблющейся ветке.
Исполинские и серые кенгуру с подкупающей доверчивостью ели с ладоней кукурузные зёрна — их продавали в пакетах у входа.
Кенгуру охотно принимали рукопожатия, ласково тыкались в животы и колени моряков.
Все фотографировались в обнимку с кенгуру и веселились, как дети.
— А приборочка? — напомнил моторист, и все подтвердили: «Приборочка что надо!»
Вытряхнув на землю крохотное глазастое существо, мама-кенгуру наводила в сумке чистоту с такой тщательностью, что никакой боцман не придрался бы!
— Попки-то, попки! — вспомнил Паша и даже рассмеялся от удовольствия.
Пернатых в Лоне-Пине было такое множество — ни сосчитать, ни запомнить. Райские птички, золотые и серебряные фазаны, попугаи — белые с жёлтым хохолком какаду, зелёные разеллы, красные, синие, чёрные, пурпурные. Самые разговорчивые — какаду. Завидев посетителей, перебираются, помогая себе загнутым клювом, по жердям, задушевными, с ласковым придыханьем голосами просят:
«Хэль-лё! Хэль-лё! Урль, оррль!» — «Алле, привет, дружище! Угости попку орешками!»
Орехи никто не купил, а кукурузу отдали до последнего зёрнышка кенгуру. Какаду обиделись, возмутились, разбушевались. В вольере поднялся шум, гвалт. Задребезжали сетчатые стены. Какаду трясли их, хлопали крыльями, улюлюкали, кричали вслед:
«Х-хл-лё! Хх-хх-хал-лё! Ульр-гульр-вульр!»
— «Нахалы, жадины, варвары!» Так прямо и кричали! — сказал Паша.
— Умеют свои права качать, — с подковыркой сказал Федоровский, и все вокруг засмеялись.
Паша тоже понял намёк, но сделал вид, что его это не касается.
— Завтра в Мэринленд поедем, дельфинов смотреть! — сообщил он последнюю новость. Паша всегда в курсе таких событий.
— Кто поедет, а кто и повахтит, — пробасил боцман. — Не всё коту масленица.
В Мэринленд, Морскую страну, отправились всего восемь человек. Общество австрало-советской дружбы предоставило две легковые машины.
— Я тебе потом всё расскажу, — пообещал Лёшка Паше.
Тот лишь вздохнул…
По обеим сторонам дороги мелькали низкорослые эвкалиптовые рощи, похожие на осинники. Эвкалипты меняли кору; с выкрученных мускулистых стволов свисали коричневые ленты. Обнажённые стволы матово отливали белой с прозеленью кожей.
Акации не обращали внимания на австралийский календарь и зеленели сочно, по-летнему. На магнолиях кое-где сохранились цветы, белоснежные, с жёлтыми розетками внутри.
Вдали синели пологие горы, облысевшие и курчавые от обильной растительности.
Ехали долго. Наконец показался океанский берег — длинная золотая полоса, прилизанная волнами и приливами. Ярко-синяя гладь воды прочерчивалась белопенными валами прибоя.
Курортный городок Саутспорт сплошь состоял из отелей, пансионатов, мотелей. Первые этажи заняты ресторанами, кафе, пивными барами. На жухлой траве вдоль берега — разноцветные палатки, единственное дешёвое жильё в Саутспорте.
На высоких флагштоках небольшого стадиона плескались на ветру разноцветные вымпелы Мэринленда.
Очередное представление в дельфиньем театре начиналось в четверть первого.
Времени было достаточно, пошли смотреть океанарий.
В высокой круглой башне, пронизанной солнцем и люминесцентными светильниками, плавали обитатели океана. Каких только не было здесь рыб! Плоские, как камбала, шаровидные, горбатые, подслеповатые, глазастые, гладкие, словно змеи, покрытые крупной чешуёй, с осетровыми ромбами вдоль всего тела, серебряные, золотые, синие, полосатые, в крапинку…
Отделённые толстым смотровым стеклом, по-коровьи жевали губами толстогубые групперы, громадные океанские окуни с бездумными глазищами.
Великанша черепаха плавно и величаво, словно в невесомости, парила в прозрачной воде, то всплывая до самой поверхности, то опускаясь до песчаного дна. На дне — Лёшка не сразу и разглядел — лежали серые лопухи морских скатов.
Одуревшие от долгого тюремного заточения аквариума, монотонно кружили две акулы, не очень длинные, но и с такими лучше не встречаться в открытом море.
— Если хотите посмотреть настоящих акул, пойдёмте туда! — сказал шофёр, указывая на невзрачное здание.
Все подумали, что там специальный акулий бассейн. Оказалось — кинотеатр. Сеанс начался, но здесь можно входить и выходить когда вздумается.
Фильм был цветной. Мужчина и женщина, отчаянные храбрецы, аквалангисты, поочерёдно приближались вплотную к гигантской китовой акуле. Скользили вдоль двенадцатиметровой туши, касались руками высокого, словно яхтный парус, спинного плавника, подплывали к широченной пасти. Человек выглядел при этом крохотным, жалким лягушонком, настолько ничтожным, что акула и не замечала его.
Чудовищных размеров манта, чёрная сверху и бледно-жёлтая снизу, рогатая, с острым хвостом-рапирой, колыхая гибкими крыльями, казалось, прошла над головами зрителей и исчезла, словно привидение в кошмарном сне.
Показывали и других диковинных океаножителей, но наибольшее впечатление оставила китовая акула.
— Она не такая страшная, — сказал Николаев. — Китовая акула питается планктоном, рачками, всякой мелюзгой.
— Не такая страшная, пока в кино смотришь, — мрачно заметил боцман. Как все старые моряки, Зозуля люто ненавидел акул всех видов и названий. — Уже и к дельфинам, пожалуй, пора?
Всем не терпелось попасть к дельфинам.
Театр Бена Кропса вернее было бы назвать цирком. От прямоугольного, довольно глубокого бассейна, выложенного светлым пластиком, уходили веером многоярусные ступени — сиденья.
К бассейну примыкали, отделённые сетчатыми калитками, несколько коротких, узких загонов — артистических уборных. В них томились две афалины.
Солнце сушило гладкие тёмно-серые спины. Овальные отверстия дыхал открывались и закрывались, как аварийные клапаны. Громкое, надсадное дыхание, хрипы, всхлипы, бульканье. Дельфины изнемогали, как загнанные цирковые лошади.
Лёшке почудилось, что он узнал в одном из дельфинов весёлую афалину, которая встречала судно на подходе к Австралии. Лёшка так и не сделал ни одного снимка.
Прозвучали фанфары. Седоголовый мужчина в цветастом пляжном костюме объявил в переносный микрофон о высших достижениях дрессировки дельфинов в его театре. И представление началось. Дельфины молнией носились в зелёной прозрачной воде бассейна, прыгали, резвились, проделывали сложные акробатические номера и трюки. И всё это — с радостью, с упоением! Дельфины упивались свободой. Временной, но свободой. Даже на душе легче стало.
Дельфины играли в кегли, доставали в вертикальном прыжке мелкую рыбёшку, насаженную на кончик палицы, которую держала в вытянутой руке блондинка в ярком купальнике. Дельфинам надевали на глаза тёмные колпачки, и артисты вслепую точно и безошибочно находили в воде цветные колечки.
— Вот это локатор! — профессионально оценил четвёртый штурман. — На судно бы такой.
— Смотрите, смотрите! — Лёшка даже привстал.
Крутолобая гринда плясала твист. Четырёхметровая красавица, стоя, опираясь только на хвостовой стебель, из конца в конец пересекла бассейн, бурно вспенивая плавником воду.
Зрители аплодировали, свистели, требовали новых зрелищ.
— Фантастическое чудо дрессировки! — полился из динамиков баритон мистера Кропса. — Выступает звезда Мэринленда Лилли.
Над водой повисло на цепях большое кольцо, обмотанное паклей. Блондинка поднесла горящий факел, и кольцо вспыхнуло.
Афалина с человеческим именем Лилли вылетела из воды и пронзила огненное кольцо. Ещё заход… Челюсти плотно сомкнуты, застывший взгляд.
Дельфин проскакивает кольцо почти мгновенно, пламя не успевает обжечь мокрую кожу, но дельфин в огне — зрелище, жестокое своей противоестественностью.
Лёшке опять померещилось, что Лилли — та самая афалина, его морская знакомая.
Коронный номер Мэринленда произвёл и на остальных тягостное впечатление.
— Я б тех дрессировщиков!.. — сурово процедил Зозуля, — Для дельфинов это ж максумальная ненатуральность.
Обратно ехали молча. Дорога была забита машинами. На перекрёстках образовывались пробки. Многорядное бензиновое стадо подолгу топталось на месте, судорожно дёргалось на несколько метров вперёд и снова останавливалось.
На судно возвратились в полную темень.
На проходной, как и при выходе, вагановцев не проверяли, в сумки не заглядывали. Во всём мире знают: советские моряки не занимаются ни спекуляцией, ни контрабандой. Великое дело — честное имя!
Полицейский дружески помахал рукой и отстопорил турникет: плииз, пожалуйста!
Заполнив доверху все пять трюмов австралийской шерстью, «Ваганов» отдал швартовы, обогнул с юга материк и взял курс на Африку.
Глава четвёртая ИНДИЙСКАЯ ГРОБНИЦА
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когда Николаев вошёл в штурманскую с метеосводкой, там находились старпом и второй помощник.
Выражение лица у старпома всегда было недовольным, даже если он выигрывал в нарды у судового чемпиона Гены Кудрова.
— Что там? — неприветливо спросил старпом.
Он советовался с помощником, в какой последовательности лучше красить главную палубу. За месяц погрузочных работ в Австралии опять вытерли и ободрали лючины, крыши трюмов и палуб до голого металла.
— Штормовое предупреждение.
— Ну вот! — вконец расстроился старпом. — Привели судно в порядок!
— Индийский океан не зря снискал недоброе имя «Индийской гробницы», — философски заметил Пал Палыч. — Кстати, вы не читали американскую статистику? За последние десять лет в Мировом океане происходило ежесуточно двадцать одно кораблекрушение. Каждые сутки! Двадцать одно!
Вся эта статистика и философия о гробницах были совсем некстати. «Ваганов» шёл Индийским океаном, и поступило штормовое предупреждение.
— Не каркай, Пал Палыч! — оборвал старпом. — Капитану докладывали, Василий Яковлевич?
— Нет ещё, сейчас пойду.
— Я сам.
Старпом вышел, и Пал Палыч повёл разговор с Николаевым.
— Двадцать одно в сутки! В наш век! Нет, что ни говори, Василий Яковлевич, профессия морехода не самая безопасная.
— Извините, — сказал Николаев, — мне антенны по-штормовому натянуть надо.
— Пожалуйста, пожалуйста!
Через несколько минут приятный, сильный голос Пал Палыча сурово гремел по трансляции:
«Вниманию всего экипажа! Получено штормовое предупреждение. Всем подготовить индивидуальные спасательные плавсредства. Задраить иллюминаторы, наружные двери — деревянные и водонепроницаемые! Палубной команде проверить крепление чехлов, задраить тамбучины, люки, надёжно закрепить такелаж. Натянуть штормовые леера…»
Судовое радио ещё давало указания, а матросы уже взялись за работу.
Переложить из нижнего рундука в изголовье спасательный нагрудник, завинтить бронзовые барашки иллюминаторов, убрать со стола и полок книги, лампу, бритвенный прибор и прочую мелочь можно и потом. В первую очередь — на палубу, в машину, на мостик.
Каждый знает свои обязанности. Всё быстро, умело, на совесть. И — бегом. Только бегом! Как солдаты по тревоге.
Время от времени раздавался сдавленный мегафоном голос капитана:
— Боцман! Посмотрите клюзы у брашпиля.
Зозуля оборачивался к надстройке, знаком докладывал, что приказание понято, и бежал на бак, к брашпилю. Отверстия, через которые идут внутрь судна якорь-цепи, плотно забиваются ветошью и заливаются цементом.
— Левада! Товарищ Левада! Леер по правому борту натянут слабо!
Страховочные канаты протягиваются вдоль главной палубы на всякий случай. Выходить в шторм на открытую палубу разрешается при крайней необходимости и только по приказу вахтенного штурмана.
В машинном отделении царствовал «Дед». Он сам лично опробовал крепёж запасных частей, материалов, инструмента в токарке, облазил по решётчатым лестницам и площадкам главный двигатель, осмотрел, прослушал: не подведёт ли? Остаться в шторм без хода — гибельная опасность.
Старпом лично проверил шлюпбалки, стопора и лебёдки спасательных шлюпок и сами шлюпки, горючее в баках движков, аварийные радиостанции, сигнальные пистолеты с ракетами, дымовые шашки, цинки с запасами продовольствия и воды.
Всё должно быть в полной боевой. С морем не шутят.
Николаев спустился в каюту, всё закрепил. Надо бы придумать что-то и для Свайки. В рундук не закроешь, с дивана — обещают десять-одиннадцать баллов — скатится…
— А мы вот что соорудим! — сказал Николаев. — Принайтуем вот эту сумку — и порядок. Ну-ка, залезь, попробуй! Удобно? И надёжно. Моднее, чем у кенгуру: на «молнии»! Не будешь из угла в угол летать. А потрясти, конечно, потрясёт. Тут уж, друг, всем достанется. В океане штормоубежищ нет. Кое-кто в ближайшей гавани укроется, другие в порту на приколе отсидятся, а нам и некуда и некогда. По расписанию идём, как линейный пароход.
Говоря всё это, Николаев привычно готовил каюту к штормовым условиям, проверил яркий оранжевый нагрудник — жилет из пенопластовых пластин, обтянутых непромокаемой тканью. В специальных кармашках лежали фонарик и батарейка особого устройства. Она начинала действовать, только хорошо напитавшись морской водой.
Ветер заметно усилился, но пока ещё не было явных признаков надвигающегося шторма.
— Ведь отчего люди в море гибнут? — Вернувшись в радиорубку, Николаев опять заговорил со Свайкой. Его всё сильнее охватывало непонятное, странное беспокойство. Заметно и всё больше нервничала Свайка.
Собаки чуют приближение непогоды, говорят, даже предчувствуют беду. Свайка непрестанно ворочалась на диване, коротко подвывала.
— Так отчего же гибнут люди в море? — Вопрос этот, как наваждение, преследовал мысли Николаева. — Главным образом от страха, Свайка. От безысходного страха, от чувства безнадёжности. Думаешь, «Ваганов» в настоящих передрягах не бывал? Сколько раз! Но посудина крепкая. И ребята и капитан что надо. В море плохих долго не держат. Да они и сами не держатся за море, слабодушные… Ну, хватит травить! Полное молчание, Свайка. Три минуты молчания.
Эфир будто вымер. Во всех морях и океанах, на маяках и в портах одновременно смолкли передатчики. На шкалах всех приёмников — 500 килогерц, волна катастроф и несчастий, волна призывов о помощи, волна SOS. Каждые двадцать семь минут все коротковолновые радиостанции мира настраиваются на 500 килогерц. Море и земля только слушают. Выйти в эфир можно лишь с мольбой о помощи.
Минутная стрелка медленно, словно ощупывая циферблат, двигалась по красному сектору. Бесшумно перематывалась с бобины на бобину магнитофонная лента. Нельзя упустить ни одного знака, ошибиться и на единицу в координатах беды.
Стрелка вышла из красного сектора и, казалось, завертелась быстрее.
— Всё в порядке, — с облегчением опять заговорил Николаев. — Пока всё нормально. Но мы всё-таки врубим автоаларм, пускай сторожит. Чёрная беда случается и в белом секторе… Давай-ка проветримся немного, дышать в рубке нечем… И двери аккумуляторной задраим. Лёшу, может быть, увидим, чем он там занимается…
Наконец-то он признался самому себе, отчего нервничает. Он тревожился за Лёшку: как он выдержит настоящий шторм?
Ветер резко усилился. Дымовая труба гудела, завывала, словно внутри её бесновались ведьмы и черти, слетевшиеся сюда из всех страшных сказок. Телеграфными проводами свистели ванты.
Внизу, на юте, между рабочей шлюпкой и пятым трюмом, старший матрос и Лёшка подтягивали тросовую обвязку бочек. Работал Лёшка сноровисто, уверенно, и Николаев с удовлетворением отметил это. На душе стало поспокойнее.
Паша Кузовкин, часто оглядываясь на океан, крепил нок, верхнюю часть грузовой стрелы. Стрелы опущены по-походному, ноки лежали в гнездах под намётками. Очевидно, Паше приказали на всякий случай усилить крепление стропом. Если тяжёлая многометровая труба стрелы вырвется и пойдёт «гулять» по палубе, беды не оберёшься.
Багровая полоса на горизонте отделяла чёрное небо от чёрной воды. Вблизи, над вспаханным океаном, дымилась белая пена.
— Погодка! — громко сказал Николаев, но ветер смял и бросил за борт его голос.
В рубке он задраил иллюминаторы стальными крышками, повернул завёртки на водонепроницаемых дверях.
Резкий, пронзительный, оглушающий звонок забился в красноглазом автомате. Николаев прыжком метнулся к столу, запустил магнитофон, защёлкал переключателем диапазонов, установил на глазке «500», прижал к уху наушник.
Из динамика и наушников жалобно полилось:
«Пи-пи-пи, пии-пии-пии, пи-пи-пи».
Три точки, три тире, три точки. SOS!
SOS
«Ваганов», получив дополнительную сводку о силе и направлении урагана, изменил свой курс на семь румбов, почти на девяносто градусов.
«Можем отделаться лёгким испугом, — полчаса назад оптимистично предположил Гена Кудров. — Стороной пройдёт».
Капитан ещё заметил тогда: «Не загадывай, четвёртый!»
Теперь, вместо того чтобы дальше бежать от пекла, неслись к нему на высшей скорости. Машина работала на полную мощность.
Координаты бедствующего судна почти совпадали с центром штормового района. Что там произошло, неизвестно. Сигналы о помощи явно подавал автомат: SOS, позывные судна, координаты. И всё.
Николаев по справочнику определил, что гибнет «Биг Джон», торговое, Либерия. Последнее вовсе не означало, что «Биг Джон» — либериец. Под флагом маленькой страны плавают суда многих пароходных компаний.
Ветер уже не завывал — ревел тысячей сирен. Волны вздымались всё выше, и судно карабкалось наверх, словно к высокогорным снежным перевалам. На гребне судно на миг застывало, будто вывешенное на остром трёхграннике.
Весы океана могли перетянуть в любую сторону. Океан мог и разломить стопятидесятичетырёхметровый теплоход надвое, сбросить обломки в бездонный провал.
Стальные переборки стенали, скрипели, как рассохшиеся стулья. Палуба и борта гудели набатом. Надстройка содрогалась, тряслась будто в ознобе.
Взбесившийся океан захлёстывал пеной иллюминаторы.
Хлынул тропический ливень, с громом, с молниями. Сверкало, грохотало, заливало снизу и сверху.
— Всем надеть жилеты. Аварийным командам быть в полной готовности, — распорядился капитан.
Пал Палыч взял микрофон:
— Внимание всему экипажу! Немедленно надеть нагрудники! Аварийным партиям быть наготове! Внимание всему экипажу!..
Водяные громады обрушивались на палубу, расшибались о тамбучины, мачты, захлёстывали кипящими брызгами надстройку до пеленгаторного мостика.
— Завсегда в этом коридоре сквозняк, — хмуро и осуждающе сказал Зозуля. Он сделал пять «кругосветок», раз десять обошёл с юга Африку и был достаточно близко знаком с «ревущими сороковыми».
Полоса Индийского и Атлантического океанов между сороковой и тридцатой параллелями печально славится штормами и ураганами.
Вдоволь набесновавшись на раздольном океанском просторе, разбойные циклоны, словно полчища варваров после набега, собираются в колонны и с завыванием и свистом уносятся на северо-восток, в коридор между Африкой и Мадагаскаром.
— Завсегда, — повторил Зозуля.
Никто не отозвался. Матросы аварийной партии, как десантники перед высадкой, напряжённо прислушивались к штормовой канонаде. Все были в спасательных жилетах. Пенопластовые пластины распирали оранжевую обшивку. Нагрудники казались рыцарскими доспехами, высокий воротник на затылке — откинутым перед поединком забралом.
— Смирнов, — обратился боцман к Лёшке, — ты на верхотуре был, что там?
— Автомат строчит.
— А морзянка?
— Не отзывается. Только автомат.
Автоматический сигнализатор SOS висит в штурманской. Небольшая металлическая коробка с радиопередатчиком. Под стеклянной крышкой — два цифровых набора. В случае опасности надо разбить стекло, установить координаты и нажать кнопку. S-O-S и позывные судна заложены в программу заранее.
— Может, там никого и нет уже? — предположил Паша Кузовкин.
— Как это нет? — вскинулся Лёшка.
— На шлюпках спаслись, а мы зазря идём к ним…
— Ты!.. Ты думаешь, что говоришь?!
— Спокойно, Смирнов, — осадил Зозуля. — Идём мы не зря, Кузовкин. Шлюпки ещё не спасение при таком волнении и ветре. А может, у них радиостанция из строя вышла? Кто знает.
В красном уголке и столовой, как и на всём судне, иллюминаторы были наглухо задраены. Матросы ничего не видели, да и ничего нельзя было увидеть, даже из ходовой рубки. Гром не утихал. Гигантские магниевые вспышки молний, словно белые ракеты, ослепляюще били в упор.
Зозуля поднял глаза к динамику. Судовая трансляция молчала.
— Ежели не поутихнет, на спасательные шлюпки рассчитывать трудно, — высказал вслух свою тревогу старший матрос. — Опрокинет или о борта расшибёт.
— Залить может, — дополнил Зозуля. — Море — оно такое. А насчёт автомата тоже бывает. Помню, танкер один на подводные скалы наскочил. Команда на шлюпках ушла, от взрыва подальше. На борту ни души, а автомат стрекочет: не выключили.
— Летучий Голландец, — сказал Лёшка.
— То выдумка, призраки кораблей только в старых книжках и легендах плавают. А про танкер, что я рассказал, натуральный факт. — Зозуля повернулся к Паше: — Насчёт же твоего «зазря» — это брось, из головы выкинь. Когда дело жизни касается, максумальная вера нужна. И тому, кто спасает, и тому, кто помощи просит. Выдохлась вера, запаниковал — пиши пропало. Моряк завсегда до последнего стоять должен. За себя, за других. За судно — наперёд всего. Оно твой дом и главная защита.
Что-то щёлкнуло. Все, как по команде, вскинули головы к динамику.
Но оттуда — ни звука.
В ходовой рубке был почти весь командный состав: капитан, первый помощник, штурманы.
Там же находился и Николаев, пытался связаться с либерийцем по радиотелефону «Корабль».
«Корабль» — средство ближней связи с портом, другими судами, со шлюпочными радиостанциями.
— «Биг Джон», «Биг Джон», я — «Ваганов». Отвечайте. «Биг Джон», «Биг Джон»…
— Молчат, Василий Яковлевич? — спросил из темноты капитан.
— Молчат.
— Третий штурман, продолжайте вызывать. Василий Яковлевич, возвращайтесь к себе.
— Да, — сказал Николаев, — вдруг морзянка заговорит.
— На румбе?
— На румбе 108 градусов! — доложил Федоровский.
«Ваганов» двигался на юго-восток.
— Так держать. Четвёртый, есть что?
Четвёртый штурман Кудров, широко расставив для устойчивости ноги и цепко держась за поручни, не отрываясь вглядывался в экран.
Дымчато-зелёный круг сплошь в фосфоресцирующей ряби. Как озеро в ветреную лунную ночь.
По экрану кружила тонкая световая стрелка, зажигая зелёным огнём отражённые от волн сигналы. Когда стрелка отдалялась, вызывая новые всплески радиоэха, прежние затухали плавно, протяжно. Описав полный круг, стрелка опять возвращалась, притрагивалась, словно волшебная палочка, к угасшему эху и вновь возрождала его.
Волны, волны, волны…
— Пока не видно, Сергей Петрович! Волна забивает.
— Искать. Пал Палыч, за мной в штурманскую.
Они прошли в штурманскую рубку и плотно задёрнули за собой портьеру.
— Порядком ещё, — вздохнул Пал Палыч, отложив циркуль, — и волна встречная.
Он поднял глаза на контрольные приборы. Извилистая кривая на ленте барографа изменила направление.
— Давление повышается!
— Хорошо бы, — сказал капитан. — Машину загоним. При такой волне, на таких оборотах.
Капитан переживал за машину, за судно в целом, за сорок шесть жизней, которые он подверг сейчас серьёзному, быть может — смертельному риску. Но судно приняло сигнал SOS. Судно шло на помощь.
В штурманскую ворвался Кудров:
— Вижу! — и бросился обратно к локатору.
Капитан и Пал Палыч поспешили вслед. В ходовой рубке, как обычно, стояла тьма. От резкого перехода из света в темень перед глазами замельтешили золотые мухи. Капитан на ощупь добрался до камеры радиолокатора.
— Справа по курсу! — взволнованно доложил Кудров.
В густой и мелкой чешуе волновых отражений выделялась крупная точка. Впереди и правее на десять градусов от курса «Ваганова».
— Право десять.
— Есть право десять! — принял команду Федоровский.
— Не выпускать!
Последнее относилось к Кудрову: неотступно держать «Биг Джона» на прицеле локатора.
— Курс 118. Руль прямо.
— Так держать.
— Сергей Петрович… — В голосе Пал Палыча недоумение и озабоченность. Он уточнил местоположение «Ваганова» и бедствующего либерийца. Получалось что-то не то. Координаты не совпадали с теми, которые передал автомат SOS.
— Намного?
— Значительно. Их не могло так далеко снести.
— Полагаете, что они на ходу?
Раздвинулась и сомкнулась портьера. В освещенном проёме тенью промелькнула фигура Николаева.
— Автомат замолчал.
— Н-да, — протянул капитан.
— До судна двадцать две мили! — доложил Кудров.
— Хорошо, продолжайте держать.
— Пойду к себе, — сказал Николаев.
— «Биг Джон», «Биг Джон»… — устало взывал голос третьего штурмана.
Капитан выпрямился, бросил через плечо:
— Не надо больше. Поставьте на «приём», и всё.
Атмосферный треск усилился. Третий штурман, очевидно, прибавил громкость.
— Сергей Петрович, Сергей Петрович! — взволнованно позвал Николаев и умчался обратно.
Капитан проследовал в радиорубку. Возвратился он минут через десять.
— Лево руля!
— Есть лево руля.
Звякнул телеграф. Стрелка перескочила на «средний».
— Руль лево на борту!
— Хорошо. Курс 288! — приказал капитан и обратился к помощникам: — Команду приняли на борт норвежцы. «Биг Джон» затонул.
— Всех спасли?
— Кажется, всех.
— На румбе 288 градусов! — доложил Федоровский.
— Так держать.
Прижавшись щекой к наружной переборке, Зозуля с минуту прислушивался, затем уверенно объявил:
— Сдаёт, утихомиривается. А вообще шторм что радикулит: никто не знает, когда начнётся, когда кончится.
И, словно в подтверждение боцманского изречения, невидимая громада со всего маха двинула теплоход в скулу.
— Ого! Стихает! — охнул Левада.
— Напоследок огрызается.
— Напоследок ещё и голышом из каюты выскочишь, — прозрачно намекнул на недавний случай Левада к неудовольствию Зозули.
— Подумаешь, невидаль — иллюминатор вышибло. Грузовые мачты надвое ломает!
Опять замолчали. Слушали. Вроде бы переборки не так скрипели, тише.
В закупоренном помещении становилось душно. И ожидание изматывало. Клонило в сон. Но тут заговорила трансляция:
— Вниманию всего экипажа!
Все вскочили на ноги. Дремоты как не было.
— Наконец-то! — вырвалось у Лёшки.
Боцман предостерегающе поднял руку:
— Тихо!
— Вниманию всего экипажа! Бедствующему судну помощь оказана. Отбой общесудовой тревоги. Отбой тревоги. Нагрудники не снимать. Повторяю…
Люди повеселели. Даже Паша приободрился:
— Я уже думал рубаху чистую надевать!
— Ты у нас известный герой, — беззлобно пошутил боцман. — Можно разойтись. Нагрудники не снимать!
— Кто же их выручил? — спросил Лёшка.
— Океан не без добрых людей, — сказал боцман. — Расходись по каютам. — И опять напомнил: — Нагрудники не снимать!
Пластмассовое ведёрко для мусора каталось под ногами, подушки упали с коек. Лёшка и Паша навели в каюте порядок и уселись на диване.
Было два часа тридцать пять минут по местному времени.
— Кто же их выручил?
— Выручили — и ладно, — безразлично ответил Паша.
— Как это ладно? — Лёшка хотел ещё что-то сказать, но замер.
И Паша насторожился. Откуда-то с кормы донеслись странные звуки, будто трещало под ветром расколотое сухое дерево.
— Что это? — шёпотом спросил Лёшка.
— Не знаю… — Голос Паши дрогнул.
Скрежет повторился.
— На корме, — определил Лёшка. — Идём.
— Куда? — Паша побледнел.
— Посмотрим.
— Что ты, что ты! — затряс головой Паша. — И не положено…
Они были ближе всех других к кормовой части. Остальные могли и не услышать.
— Встать! — с неожиданной для себя властностью приказал Лёшка, и Паша подчинился ему.
Ветер спал значительно, но взбудораженный океан ещё буйствовал. От дверей до трапа на ют пять шагов. И у трапа всего десять ступенек, но Лёшка и Паша сразу вымокли. Клокочущая, вспененная вода свободно перекатывалась по трюмным крышам. На юте нет ограждающей стены фальшборта, лишь релинги — стойки с прутьями в четыре ряда.
В воздухе снежными вихрями носились сорванные волновые гребни, будто мела яростная пурга.
В сердце вполз и зашевелился холодный, жгучий страх.
Скрежет исчез. Паша потянул Лёшку назад. Волна ударила в противоположный борт, судно накренилось, и что-то длинное, блестящее с металлическим визгом метнулось влево.
— Стрела сорвалась! — крикнул Лёшка и бросился вперёд.
— Убьёт! — завопил Паша.
Лёшка навалился всем телом на стрелу и прижал её книзу.
— Конец давай!
— Убьёт! — Паша от страха ничего не соображал. Руки приросли к поручням трапа.
— Конец давай!
Судно повалилось на противоположный борт. Стрела, обдирая лючины трюма, потащила Лёшку с собой.
Паша зажмурил глаза. Сердце вспорхнуло к самому горлу. Показалось, что оно выскочит совсем и улетит за борт.
Крутая волна обрушилась на корму. Всё скрылось в белой кипени. Пашу тяжело ударило в лицо и в грудь. Он хлебнул горькую воду, поперхнулся и, разжав пальцы, полетел назад и вниз. Волна протащила его между надстройкой и фальшбортом почти до самого камбуза и схлынула через шпигаты в море.
Пашу стошнило, он слабо застонал и пополз на четвереньках обратно, но сразу не отважился сунуться на трап.
— Лёша, Лёш!
Он и сам не слышал своего ослабевшего голоса.
«Пропал, пропал Лёшка!» — И Паша затрясся от беззвучных рыданий. Но тут его обожгла другая мысль — о себе. Ведь это он крепил стрелу. Это он виноват, что стрела вырвалась, сбросила накладку, оборвала застропку. Он, Павел Кузовкин, в ответе теперь за всё. За аварию, за гибель…
Он полез наверх, высунулся по грудь, но высокий комингс трюмного люка закрывал палубу от глаз.
— Лё-ё-ш! — как только смог громко позвал Паша.
Никто не ответил. Паша поднялся ещё на две ступеньки.
На корме было непривычно голо. Ни рабочей шлюпки, ни бочек. Не было нигде и Лёшки Смирнова.
Приближалась новая волна. Паша кубарем скатился вниз и ужом проскользнул в помещение. Охваченный ужасом, он никак не мог отыскать защёлку и закрыл только внутреннюю, деревянную дверь.
В голове билась подлая, предательская мысль: «Я ничего не видел, ничего не знаю, я не…» Но он не спрятался в каюте, а с воплем бросился по коридору:
— Помогите! Помогите!..
И впал в истерику. От него долго не могли ничего добиться.
— А где Смирнов? — первым хватился боцман и послал матроса в каюту практикантов.
Лёшки там не было.
— Объявить по трансляции, — приказал капитан. — Обыскать судно!
Лёшки не было нигде.
— Кто-то выходил на палубу, — доложил Зозуля. — Дверь отдраена.
Паша — доктор влил ему в рот микстуру и сделал укол, — клацая зубами, выговорил наконец несколько слов: «Лёша… корма… стрела…»
— Стоп машина!
По всему судну трижды длинно просигналил звонок громкого боя.
— Тревога! Тревога! Человек за бортом! Человек за бортом!
В три часа пятнадцать минут радиостанция UNSQ начала передавать на волне SOS:
«Всем судам в юго-западном районе… долготы… широты, пропал моряк советского теплохода «Ваганов». Прошу всех включиться в поиск. Ложусь на обратный курс. Мои координаты…»
Николаев с окаменевшим лицом стучал и стучал телеграфным ключом:
«Всем судам в юго-западном районе Индийского океана…»
Всем судам.
ТРЕВОГА
Океан фосфорически вспыхивал в голубых щупальцах прожекторов, кипел, бурлил, как расплавленный металл в ковше. Океан приходил в себя медленно. Шквальные порывы ветра обдавали судно водяными зарядами.
Чёрные кучевые облака, громоздясь и толкая друг друга, неслись в одном направлении — на северо-восток. Далеко блистали молнии. Звуки грома уже не долетали сюда или, ослабевшие, заглушались ветром и шумом океана.
Оранжевый поплавок в холмистом океане и днём не просто увидеть. Тем более ночью, даже в свете прожектора. Человека за бортом не запеленговать, не засечь локатором. Проще иголку найти в стоге сена.
Затеряться в океане легче лёгкого. Тысячи смертей подстерегают человека за бортом. Тысячи! А человек — один.
Почти весь экипаж, кроме вахтенных и дежурных наблюдателей, разместился в курительном салоне и в столовой команды.
Матросы и офицеры «Ваганова» спали сидя, тяжёлым, беспокойным сном, смертельно вымотанные двенадцатичасовым штормом и тревогами. Но стоило прийти за очередной сменой, коснуться плеча, моряки пробуждались мгновенно.
Во время тревоги «человек за бортом» вахтенные не меняются.
Командиры не покидали свои посты ни на минуту. Никому не уступил штурвала и Федоровский. Чередовались только наблюдатели.
Николаев, в наушниках, неотлучно сидел в рабочем кресле. На призывы откликнулся только норвежский рудовоз, который снял моряков с утонувшего «Биг Джона». Норвежец не имел возможности включиться в поиск или считал бессмысленным это дело. С либерийца пропала одна шлюпка с моряками, и то не нашли.
— А мы найдём. Мы своего найдём! — шептал Николаев, продолжая звать на помощь весь мир.
…Костя совсем недавно получил новую квартиру. Николаев поздравил друзей с новосельем по радио и попал в новый дом, когда хозяина уже не стало.
Он вступил в дом несмело, затаив дыхание. Боялся, что увидит на вешалке Костино пальто, куртку, фуражку — что-нибудь.
Вешалка была свободна. Николаев снял плащ и поднёс к левому верхнему крючку.
— Не сюда! — с каким-то испугом воскликнула Марина.
И Николаев догадался — нет, почувствовал: это его место, Костино. Оно навсегда останется неприкосновенным, словно Костя ещё мог вернуться из своего последнего, самого дальнего рейса — рейса без «обратно».
— Осматривайся, Вася, — тихо сказала Марина и ушла на кухню.
Николаев остался в гостиной один. Во всю стену, от пола до потолка, тянулись книжные полки. Костя со школьных лет был библиоманом. В июле или в начале августа — уже шла война — они гуляли по Невскому, потом свернули на Литейный. Костя не мог пройти мимо букинистического магазина. Его там знали: постоянный клиент. Старик продавец встретил их весёлой прибауткой:
«Здрасте, здрасте, книголюбы, огольцы и мудрецы! Что из древности хотите, толстосумые купцы?»
Он, конечно, шутил. У ребят никогда не водились большие деньги. Много ли сэкономишь на школьных завтраках! О старинных книгах и мечтать не приходилось. Зато современные издания стоили у букиниста дешевле. Костя купил «Жизнь и необыкновенные приключения капитан-лейтенанта Головнина». Название было длинное, всё не запомнилось.
В последний раз они зашли в магазин на Литейном проспекте в декабре. Это был один из магазинов, последних, где товары не перевелись. Напротив, прибавились. А покупатели исчезли.
«Здрасте, здрасте…» — привычно начал старик, но грустно замолчал: шутить стало неуместно и тяжело. Не с чего было веселиться. Фашисты обложили Ленинград смертельным кольцом.
Денег — ни копейки. Зашли просто так, по старой памяти. Но ушли счастливыми. Добрый старик продавец одарил их редкостными книгами. Томом «Жизни животных» Брема и первым русским переводным изданием «Робинзона Крузо».
Спустя десятилетие, по пути из Чили, Николаев случайно оказался на тихоокеанском острове Хуан-Фернандес, поднялся на гору и прочёл на скале надпись:
«В память об Александре Селкирке — моряке, уроженце Ларго в графстве Файф, Шотландия, проведшем на этом острове в полном одиночестве четыре года и четыре месяца».
Из других книг Николаев знал, что Селкирк, вдохновивший Даниэля Дефо на бессмертный образ Робинзона Крузо, значительно уступал своему будущему литературному образу. Прототип Робинзона не был ни таким изобретательным, ни таким трудолюбивым, ни таким твёрдым в уверенности победить все несчастья. Но всё-таки спасся.
…«Может быть, и Лёшу выбросило на какой-нибудь остров?.. Нет, в этом районе нет даже близких рифов…»
В рубку неслышно вошёл капитан, положил на плечо руку.
Николаев горестно покачал головой: «Ничего».
И у капитана не было ничего утешительного и обнадёживающего.
— Он хорошо плавает?
Николаев сдвинул один наушник.
— Он хорошо плавает?
— Да, шесть раз переплывал озеро Красное.
— Озеро…
Капитан глубоко вздохнул и ушёл.
«Озеро не океан. И там, на Красном, Лёша был не один. Но ведь без нагрудника!.. Что нагрудник? Утопленников находят и в спасательных жилетах…»
Свайка, не переставая, завывала в хозяйственной сумке. Николаев не выдержал, открыл «молнию» и выпустил собаку в коридор.
Эфир по-прежнему молчал. То есть не молчал — переговаривались десятки радиостанций, но о матросе с «Ваганова» не упоминали.
Николаев опять представил себе квартиру Смирновых, переднюю, вешалку. И два свободных, навечно свободных крючка…
«Нет! — запротестовал Николаев. — Нет, этого не может, не должно случиться! Лёша, мальчик мой, держись! Держись, Лёша!»
Часовая стрелка вползла в красный сектор. Николаев лихорадочно затрещал ключом:
«Всем судам! Всем!..»
Свайка будто понимала, что судьба одного из её лучших друзей всецело зависит от людей в ходовой рубке, от капитана. Она жалась к его ногам, задирала острую мордочку, стараясь встретиться глазами, тихонько скулила и подвывала. Или пробиралась на дрожавших от напряжения ногах к открытой двери и лаяла в темноту.
— Уберите вы её, наконец! — процедил старпом.
Свайка, ласковая, добрая, маленькая Свайка, оскалилась, зарычала.
Капитан поморщился:
— Оставьте собаку в покое!
Из штурманской появился Пал Палыч:
— Где-то здесь, Сергей Петрович.
— Ветер, волны — всё учли?
— Всё. Течение в этом районе можно в расчёт не брать.
— Стоп машина!
Старпом перевёл ручку телеграфа.
— Питание на все прожекторы. Тифон.
«Ту-у-у-у! — понеслось в океан. — Ту-у-у-у-у-у!.. Иду, товарищ, иду! Где ты? Отзовись!»
— Всему экипажу! Смотреть всем!
Ваганов стал описывать окружность, затем перешёл на скручивающуюся спираль.
Рыскали прожекторы. Монотонно басил тифон.
Небо на северо-востоке посветлело. Сначала виднелась узкая неровная полоса бледно-зелёного цвета. Снизу, тяжело опираясь на горизонт, клубились иссиня-чёрные тучи, над ними и выше разливался по чистому небу солнечный румянец.
Океан высветился фиолетовым, лиловым, сиреневым, палевым. Зеркальная гладь — словно во веки веков не бывало никаких штормов.
Взошло солнце. Огромное, яркое, щедро источая на мир свет и тепло.
Прожекторы выключили. Поблёкшие на солнце лучи исчезли незаметно.
Бескрайний слепящий простор выглядел безжизненной пустыней.
— Ещё лево руля. Помалу! Всем смотреть!
«Всем смотреть!» — разнесла по каютам и палубам судовая трансляция.
Смотрели все. Кроме вахтенного механика и его мотористов. «Дед» стоял на мостике.
Ни в одном уставе, инструкции, конвенции нет хотя бы ориентировочных сроков поиска человека за бортом. Нет даже неписаных, традиционных законов. Капитан сам назначает время, сообразуясь с конкретными обстоятельствами и условиями. Учитывается всё — от состояния моря до физических качеств человека за бортом. Есть и ещё один фактор. Его не измерить никакими приборами и индикаторами, не сравнить ни с какими земными и космическими величинами. Фактор этот — совесть.
Она не торопит объявить приговор человеку за бортом. Скольких не спасли, скольких не доискали! Может быть, и этот ещё жив?
— Послать человека на салинг. Подстраховать.
Капитан мог приказать любому из сорока пяти, и каждый из них — кто спокойно, кто скрывая боязнь — выполнил бы приказ не только, даже меньше всего, из чувства повиновения. Человек за бортом!
Нет, не из сорока пяти. Только из сорока четырёх. Сорок пятого, П. Кузовкина, экипаж «Ваганова» молча и единогласно исключил из коллектива. Кузовкин имел право работать, отдыхать, четыре раза в сутки питаться в матросской столовой, смотреть кино, но на судне он стал чужим. Для всех. Он ещё не знал об этом негласном и неписаном приговоре и беспробудно спал на своей койке. Судовой врач успокоил его каплями и снотворным.
Площадка на верху мачты, салинг — самое высокое ограждённое место на судне. Оттуда до клотикового фонаря рукой подать. Сверху виднее, может быть…
Океан — в полном штиле. Ветер упал почти до нуля. И всё же капитан не послал бы на ходу матроса на салинг, но тут — человек за бортом!
— Дозвольте мне.
Лицо Зозули не просто смуглое до черноты, а будто обуглилось за ночь.
— Да, боцман.
— Я подстрахую, Николай Филиппович, — сказал артельный Левада.
Зозуля равнодушно кивнул.
Океан дымил, сжимался, на глазах пропадал горизонт.
В посвежевшем воздухе «курилась» тёплая вода. Низкий, под планшир фальшборта, туман стелился, клубясь, над самой гладью.
Казалось, что судно бредёт в утреннем тумане по осеннему лугу. Внизу, по пояс, — сплошная молочная парь; наверху — небо без единого пятнышка.
— Всё, теперь всё… — убитым голосом сказал Левада.
— Ты чего? — нахмурился Зозуля. И рассердился: — А ну брось нюнить! Моряк ты или кто? Спасём Алексея! Иначе и быть не может.
— Извини, Николай Филиппович…
Нельзя терять веру, терять надежду спасти человека за бортом.
Боцман полез на мачту.
Ту-у-у!.. Ту-у-у!.. Ту-у-у! — равномерно, с короткими паузами затрубил тифон. Он посылал свой зов в непроницаемый туман как береговой ревун, как звуковой сигнал маяка.
Тифон будто отсчитывал время.
— Стоп машина!
Звякнул телеграф.
— Надо переждать, — сказал капитан.
— Да. Рискованно. Налететь можно.
Гена Кудров включил локатор.
Свайка выбежала на мостик и вытянула вперёд острую мордочку. Судно по инерции скользило вперёд.
— Малый назад!
Под кормой опять забурлил винт.
— Стоп машина!
Всё стихло.
— Наблюдение продолжать!
Ожил смолкнувший было тифон: ту-у-у!.. Ту-у-у…
Ту-у-у! Ту-у-у! — ещё раз пробасил тифон и затих.
— Полная тишина! Всем слушать!
И экипаж смотрел и слушал, слушал и смотрел.
Свайка будто взбесилась. Скачет, бегает туда-сюда, прыгает на банкетку, кладёт передние лапы на планшир, опять прыжком на палубу. Заливается, заходится лаем. Бросилась капитану в ноги, обратно стремглав на крыло.
— Хозяина чует, — сказал капитан и на этот раз не сумел скрыть волнение на осунувшемся лице.
— Первую шлюпку на воду!
Пал Палыч кинулся к трапу.
— Стойте! — крикнул вслед Кудров. — Свайку!
— Второй помощник! Взять в шлюпку Свайку!
Белая шлюпка с матросской дружиной в оранжевых нагрудниках погрузилась в туман.
Взревел движок, заглох, отчихался, зарокотал стойко и уверенно.
В синее небо жаворонком взлетел отчаянно весёлый лай.
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ
Он не успел даже крикнуть. Водяная гора навалилась, швырнула его вместе с длинной стрелой. Она была голой и мокрой, и Лёшка скользнул по ней, как по лестничным перилам. Конец трубы с маху оборвал штормовой леер, сбил стойку релинга. Волна подставила Лёшке спину — и понесла…
Сначала вверх, потом в сторону, оттолкнулась от судна и схлынула в океан.
Он беспомощно кувыркался в плотной белой кипени, судорожно хватал ртом воздух, когда на доли секунды оказывался на поверхности, и опять погружался с головой в бурлящую тугую массу.
Волна несла его, как перо чайки, как спортсмена на сорф-боте.[3] Только он не стоял, а лежал, и не на доске для сорфинга, а завёрнутый в оранжевый поплавок-нагрудник. Его несло с сумасшедшей скоростью, и волна могла домчать его до Африки или Мадагаскара или высадить, как Робинзона, на необитаемый остров. Но волна вдруг круто наклонила белую голову, и Лёшка по инерции полетел над водой, полетел и… провалился. Белогривая волна, словно лошадь, сбросившая наездника, легко устремилась дальше, а Лёшка остался позади, на малых волнах, как незадачливый седок на взрыхлённой земле.
Силуэт залитого огнями «Ваганова» маячил в недоступном далеке. И лишь тогда Лёшка до конца осознал, что произошло. Он был один в океане, и спасение, если только можно было рассчитывать на спасение, зависело от него самого. Прежде всего от него самого.
Сколько придётся или сколько он сумеет продержаться, трудно загадывать, но держаться надо до конца.
В голове промелькнули случаи, о которых Лёшка когда-то читал, слышал, видел в кино. Главное для человека, очутившегося за бортом, — выдержка.
«Беречь силы», — первое, что осмысленно приказал себе Лёшка. Всё, что он делал до этого — двигал руками, ногами, выплёвывал тёплую горькую воду, набирал полные лёгкие воздуха и хранил его, сжав плотно губы, — всё до этого он делал инстинктивно. Управлял автомат самозащиты, а не разум и воля.
Беречь силы. Не растрачиваться в бесполезном барахтанье, в безумной попытке доплыть куда-нибудь, догнать пароход. Максимально бездействовать. Но не впадать в шоковую безысходность, не поддаваться парализующему страху.
Беречь силы. Сигналить фонариком — впустую. На таком расстоянии и топовые огни едва желтеют во мгле. Никто не услышит и твои крики о помощи.
Всё-таки он изрядно наглотался горькой, как микстура, воды. В животе булькало, в горле стоял тошнотворный ком.
Наконец его вывернуло, всего, наизнанку.
Отдышавшись, он почувствовал облегчение, а вместе с ним слабость. На берегу от такой слабости подламываются колени.
Свинцовый груз ботинок тянул вниз.
Лёшка перевернулся на живот, скрючился, расшнуровал и сбросил с ног набухшие ботинки. Брюки он решил не снимать. Заштилит, объявятся медузы… В океане они всякие водятся.
Акул он пока не опасался. Просто не думал о них. И глубина не тревожила. Не всё ли равно, сколько под тобою: два, двадцать или две тысячи метров?
Беречь силы. Океан стихает, притворяется тихим и благонравным; сделал своё дело и спокойно укладывается на отдых. Ложись и ты, его жертва, лежи, пока можно. Раскинь крестом руки, выпрями ноги. Голова — на затыльнике. В таком жилете можно и сто раз переплыть озеро Красное…
Отлёживаться подолгу не удавалось: лицо захлёстывало. Плыл он «по-собачьи», лениво и плавно подгребая под себя руками, и чуть-чуть ногами пошевеливал. Лишь бы держаться на плаву.
Океан смирнел и смирнел. Остатки кучевых громад ушли за горизонт. Тропическое небо было всё в звёздах. Как в планетарии.
«Как в планетарии». Так пишут в книгах. Он вспомнил, что ни разу не побывал в планетарии. И в Казанском соборе не был ни разу. Не сосчитать, сколько раз проходил мимо. Проходил, на солнышке у фонтана перед собором грелся.
Отец рассказывал, что его маму, Лёшкину бабушку, недалеко от Казанского убило, там, где памятная надпись на стене дома. Белым по голубому:
ГРАЖДАНЕ!
При артобстреле
эта сторона улицы
наиболее ОПАСНА.
Бабушку убили на другой, менее опасной стороне Невского.
Теперь и отца уже нет, и…
«Стоп, матрос! — остановил себя Лёшка. — Нельзя о таком думать сейчас».
Он стал искать знакомые планеты и созвездия, которые показывал ему Пал Палыч.
Вытянутый ромб Ориона, тлеющий Марс, Скорпион с загнутым внутрь хвостом, созвездие Льва…
Звёздное небо похоже на огни большого ночного города, когда на него сверху, с самолёта, глядишь.
Огромный старинный город с кривыми запутанными улицами. Только главный проспект — Млечный Путь — широкий, просторный.
По Млечному Пути несли куда-то Южный Крест. Впереди шёл с двумя фонарями — звёздами Альфой и Омегой — Центавр.
«Центавр — это я. Меня так нарекли на экваторе…»
Звёздный проспект качался и пружинил. Тяжёлая дремота расслабляла тело.
«Не спать!» — вовремя очнулся Лёшка. Он потряс головой, проплыл несколько метров сажёнками.
Наступил рассвет. Небо линяло, звёзды, одна за другой, исчезали. Лишь блистательная Венера гордо встречала солнце.
Забавно тогда вышло: приняли Венеру за береговой маяк.
Пал Палыч, конечно, на крыле мостика, в бинокль смотрит, а четвёртый штурман Кудров воткнулся в чёрный наглазник радиолокатора, как фотограф в кабинетный аппарат.
Перед расставанием всей семьёй пошли в фотоателье: мама, Димка и Лёшка. Как предчувствовали, что больше никогда не увидятся…
Острая, безмерная жалость к матери охватила Лёшку. Он тихо заплакал, горько и безысходно, как маленький. Он был совсем один в океане, стесняться некого. Его не видят ни люди, ни звёзды — никто.
А товарищи с «Ваганова»? Товарищи не должны, не могут бросить его на произвол судьбы. Ищут, зовут. Капитан Астахов, Пал Палыч, Зозуля, Федоровский смотрят в океан. Дядя Вася не снимает наушники, выстукивает на весь мир SOS. Его ищут, верят: не сдастся, выстоит, победит матрос Алексей Константинович Смирнов. Моряки не оставляют товарища в беде. Надо выдержать — любой ценой!
Цена одна — жизнь, собственная жизнь. Только ли собственная? А мама? Разве она переживёт это?
Нет, он не имеет права сдаваться, не имеет права на безвестную гибель.
«Не отчаиваться! Отчаяние — смерть».
Он всё понимал, давал себе верные советы, строго требовал от себя правильных мыслей и действий, но тело и дух его слабели с каждой минутой.
Лёгкие, невесомые облака, вспорхнувшие выше кучевой массы, вспыхнули будто солома. Океан порозовел, заискрился, вода потеплела… Губы пересохли, покрылись солью, как белым лишайником.
Солнце породило новые муки: ослепляющую яркость и жажду.
Глаза воспалились и покраснели. Гортань, казалось, ссохлась от жажды. Сдавило горло, всю шею. В висках сильно билась кровь.
Вкрадчиво-ласковый плеск воды в ушах, бескрайняя живая водная гладь становилась пыткой, жестокой, изнуряющей, сводящей с ума.
Лёшка зажмурился: от солнца, от обвораживающей, притягательной, пагубной воды. И тут он вспомнил Алена Бомбара, который своей жизнью и даже смертью доказал, что человек может и должен выжить в океане. Бомбар в одиночку пересек Атлантический океан в маленькой резиновой лодке, утоляя жажду сырой рыбой и морской водой. Один-два глотка безвредны для человека…
Он набрал в рот воды, но выплюнул обратно. Не решился. Самое трудное — в первый раз переступить через собственное предубеждение. Но Бомбар ведь смог! Зачем же он рисковал и жертвовал собой? Для примера! Для тебя, для других, для всех потерпевших бедствие в море.
Один глоток. Один, иначе будет поздно, откажешься от самого себя, от жизни, лишь бы не испытывать больше адского мучения, избавиться от жажды, скрыться от неё на дне океана.
В раскалённой пустыне, наверное, легче, чем в открытом океане. В пустыне нет воды. Она мерещится, но её нет. Океан не мираж, вода — доступная реальность, ты весь в ней, в воде. Целый океан в твоей власти. Океан такой смирный, такой рабски покорный. Черпай его пригоршнями, бери, пей!
Руки болят, пальцы сморщились от соли. Соль! Вот в чём трагедия. Тебе нужна пресная вода. Самая обыкновенная, пусть из умывальника, не питьевая, но пресная.
В морской воде есть всё, даже целебные лекарства и драгоценные металлы. Речная, озёрная — пресная вода нищенски бедна по сравнению с морской.
Но что стоят все сокровища мирового океана в сравнении с глотком пресной воды!
Он отдал бы весь океан за глоток воды.
Океан не принадлежал ему, это он всецело принадлежал океану, стал его пленником, добычей.
Поблизости что-то стремительно вспорхнуло. Лёшка разлепил белые от соли ресницы. Над ним, распустив прозрачные и блестящие, как целлофан крылья, пронеслась радужная летучая рыба. За ней вторая, третья. Они шли на бреющем полёте несколько десятков метров и плюхались в воду. Потом вновь взлетали, как стрекозы.
«Крылатая рыба на три четверти состоит из пресной воды».
Вода носилась в воздухе дразняще и вызывающе.
Лёшка повернул голову и набрал в рот воды, совсем немного. Он проглотил её в два приёма. Вкуса не ощутил, а горлу сразу стало легче. И горлу, и голове, и сердцу.
«Почему они так разлетались? От врагов спасаются. Кто-то преследует их. Кто? Дельфины? Акулы?»
Об акулах не надо думать.
Шофёр, возивший в Мэринленд, рассказывал, что человек, который снимался в фильме, погиб. Не в тот раз и от другой акулы — тигровой.
«Нет, об акулах не надо думать!»
Он перевернулся на живот, оглядел всё вокруг. Нигде ничего. Океан размеренно вздымался и опадал, синяя грудь его слегка парила, как разгорячённое тело на свежем воздухе. Редкие низкие кудели тумана заволакивали горизонт, скрадывали расстояние. На миг показалось, что в белёсой дали сверкнула белой эмалью пароходная надстройка.
«Папин пароход! Откуда он здесь?.. Как — откуда! Дядя Вася позвал его: «Костя, с сыном беда!» И отец поспешил на выручку на своём белом пароходе. А Димка задержался, он ещё не закончил сборку клипера — столько парусов поднять надо!
Торопись, братишка!
«Да-а, торопись, тебе так хорошо! Ты скоро с папой будешь, а я так не-ет…»
«Глупенький ты, Димка…»
Лёшка очнулся, приподнял голову.
Нет никого, ничего…
«Опять галлюцинация, мираж. Не поддавайся обману, матрос!»
Он лёг на спину, но через минуту снова посмотрел в ту сторону. Никакого судна. Низкий сплошной туман.
Туман густел, рос, достиг, наверное, небесного зенита. Теперь, если пароход и не померещился, всё равно конец. Поиск в тумане бесполезен и опасен. В таком киселе молочном и корабли сталкиваются. Даже тифон не помогает. А разве услышишь за гулом машины, плеском воды у бортов и разговорами слабый человеческий крик? Не крик — стон, хрипение, жалобный скрип иссушенной гортани. А ты если и увидишь надвигающуюся опасность, не уйдёшь от неё. Недостанет сил оттолкнуться от борта, избежать смертельного удара бешено вращающихся ножевых лопастей винта.
«Капитан Астахов — опытный мореход. И старпом дело знает, и Пал Палыч, и Николай Филиппович Зозуля. Все сработают как надо…
А что с Пашей? Его не смыло? Нет, он же ушёл за концом. Если бы Паша успел принести конец, они бы, наверное, смогли закрепить стрелу».
Всё-таки то была не галлюцинация. Он видел, видел, видел свой пароход! Конечно, свой!
Он полностью убедил себя в этом потому, что не сомневался: свои ищут и найдут его. Моряки не бросают товарищей в беде.
Где-то там, за невидимым горизонтом, земля, Африка, мыс Доброй Надежды. Для многих и многих он стал мысом Крушения, но моряки верили, что найдут путь в Индию. Люди не теряли надежду и веру в успех и добились своего.
Кто и когда первым обогнул мыс Доброй Надежды? Капитан Диас, Бартоломео Диас. Но и он не открыл морского пути в Индию. Это сделал Васко да Гама. Пятьсот лет назад…
Пятьсот. Пятьсот килогерц, частота волны SOS.
«Товарищи, ребята, спешите! Скорее на помощь! Плохо мне, мысли начинают путаться. Скорее!
…Где дельфины? Неужели всех опутали стальными сетями, перетопили на жир, загнали в цирковые клетки Мэринлендов?
…В летающей рыбке много воды, а у соседа, доктора Фёдора Фёдоровича, бас как у пароходного тифона: ту-у-у, ту-у-у…»
Лёшка очнулся от горячечного бреда.
«Держись. Ты можешь, должен, обязан выжить, дождаться своих».
В густом тумане трубным басом звал пароход.
Ту-у-у, ту-у-ууу…
Он узнал бы этот голос в тысяче других, как рабочие — свой заводской гудок, как радисты — позывные своего судна.
«Иду-у! Иду-у!» — кричал ему «Ваганов». Сигналил, бодрил, поддерживал силы, укреплял уверенностью и надеждой.
«Жду-ждуу, ребята, жду-у-уу вас…» — мысленно кричал в ответ Лёшка.
Вода зарокотала, забила моторным грохотом голову. Бешено зудящим, воющим подводным пропеллером пробуравила воспалённый мозг.
Невидимая в белой мгле моторная шлюпка выла и лаяла, как собака.
«Здесь я, здесь!» — хотел отозваться Лёшка, но язык присох к нёбу, окаменели просоленные, растрескавшиеся губы.
МАТРОС СМИРНОВ, НА РУЛЬ! (Вместо послесловия)
Бункеровку разрешили в Лас-Пальмасе, на Канарских островах. В древности их называли Счастливыми.
К Лас-Пальмасу подошли на заре. Остров Гран-Канария лежал в море синими вулканическими холмами.
Лёшка стоял на пеленгаторном мостике и смотрел на приближающийся город.
За кормой выплыло солнце. Горы полиловели, зазолотились хребты, жемчужно высветились белые, розовые, голубые дома.
Высоко над морем стояла крепость — резиденция губернатора. Там полтысячи лет назад останавливался Христофор Колумб. На Гран-Канарии его каравеллы запасались продовольствием и пресной водой. Колумб готовился открывать новый путь к берегам Индии. Не через мыс Доброй Надежды, другой, ещё не изведанный…
За длинным молом серебрились цистерны с бензином и нефтью, торчали пароходные мачты и трубы. Десятка полтора больших и малых судов покачивались на внешнем рейде. Среди них выделялся красотой и размерами большой современный теплоход с двумя надстройками, высокими П-образными мачтами, настоящий флагман. Юркие СРТ, средние рыболовные траулеры, жались к нему, как утята к утке.
На большой скорости подлетел лоцманский катер. Федоровского вызвали на руль.
«Палубной команде приготовиться к швартовке! — загремело радио. — Повторяю…»
Повторять не было нужды: матросы гуськом двинулись к трапу.
— Смирнов!
— Слушаю вас, товарищ боцман! — бойко отозвался Лёшка.
— На бак пойдёшь, в мою бригаду.
— Ясно, Николай Филиппович.
При швартовке на носу интереснее. Всё видишь. Лёшка, привалившись грудью к планширу, разглядывал приближающуюся рыболовную флотилию. Уже были видны красные марки с серпом и молотом на дымовых трубах, алые флаги на мачтах.
— Наши! — глубоко вздохнув, произнёс Зозуля.
— Боцман! — позвал в мегафон с капитанского мостика старпом. — Подойдём правым бортом.
Зозуля поднял голову и кивнул: «Понято».
— Смирнов, Левада! Кранцы на правый борт!
Лёшка натянул рукавицы.
— Смирнов!
— Иду, товарищ боцман!
— Смирнов! На мостик!
Зозуля, Лёшка, все, кто стоял на баке, удивлённо переглянулись.
На правом крыле рядом с капитаном Николаев и старпом.
— Смирнов, на мостик! Срочно!
— Пулей! — заторопил Зозуля.
Лёшка на одном дыхании взлетел на верхотуру.
Дядя Вася протягивал бинокль.
— И так видно, — сказал, улыбаясь, капитан и пропустил Лёшку вперёд. — Смотри.
На носу флагмана уже легко читалось:
КОНСТАНТИН СМИРНОВ.
Лёшки перехватило горло. «Папин пароход!..»
— Матрос Смирнов, на руль!
Капитан положил руку на рычаг тифона.
Приветственный сигнал эхом отдался в скалистых берегах, торжественно разнёсся по всей акватории.
«Константин Смирнов» и его соратники ответили фанфарным хором.
— Midships! — бросил рыжеволосый, совсем не похожий на испанца лоцман.
— Мидшипс, — принял команду Лёшка и плавно повернул штурвал. — Руль прямо!
— Так держать! — сказал капитан. И добавил вполголоса: — Семь футов под килем.
Примечания
1
Клюзы — отверстия для прохода якорных цепей.
(обратно)2
Танки — внутрисудовые ёмкости.
(обратно)3
Сорф-бот — специальная доска для катания на волнах.
(обратно)


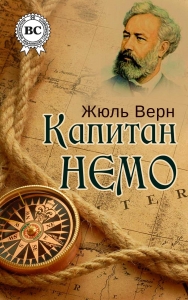
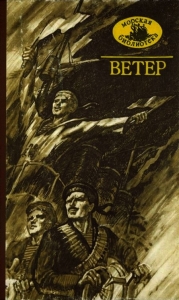
Комментарии к книге «Семь футов под килем», Илья Львович Миксон
Всего 0 комментариев