Александр Зорич Римская звезда
Переводчикам с латыни и древнегреческого посвящаю эту книгу.
Игра в Овидия Предисловие
Писать предисловия к здравствующим коллегам – непростая задача для писателя. Нормальный писатель норовит переписать текст, лезет в соавторы. Но поздно – всё сочинено.
Остаётся превратиться в оппонента – то есть в исходном, римском значении этого слова. Ибо оппонентом был человек, что бежал за колесницей триумфатора, выкрикивая всякую хулу, чтобы достойный муж не слишком возгордился. Вместо хулы можно поговорить о персоналиях, запахе истории, в котором пыль музейных хранилищ сочетается с пылью летней степи, по которой идёт конное войско.
Поговорить о месте текста среди прочих текстов автора, и о скрипучем, членистом механизме Империи.
***
Этот роман двухголового харьковского писателя Зорича – особенное растение среди тесного леса его книг.
Дело в том, что Александр Зорич отметился и в фэнтези, и в том мире фантастики, который живёт между звёзд. Мир, что по странному стечению обстоятельств называется фэнтези, у него наполнен тщательными описаниями войсковых операций и чёткими, как чертежи, рассказами о боевых машинах допороховой эры. Читателю приходится вместе с героями «…следить за изготовлением новой партии упругих блоков для метательных машин и восьми огромных коробчатых рам – сердец новых, улучшенных стреломётов. «Стреломётами» впрочем, эти машины именовались крайне условно. Эти машины метали не стрелы, а четырёхсаженные брёвна. Эти снаряды оковывались в первой, конической трети медью и могли пробить любой харренский корабль насквозь – от палубы до днища. Часть брёвен исполнялась в пустотелом зажигательном варианте… Упругие блоки шли на смену износившимся, и на расширение неприкосновенных запасов, и на новые орудия, которые изготавливались военными мастерскими уже на местах. Обычно не имело смысла изготавливать в глубине страны метательные машины проверенных конструкций целиком. Столярную и кузнечную работу могли выполнить и в гарнизонах.
Другое дело – сами блоки. Их выделывали по секретным рецептам, со строжайшим сохранением пропорций между телячьими жилами, конским и женским волосом, с многократным вымачиванием в растворах и сухим прокаливанием И процедура, и рецепт растворов, и то, что изготавливаются растворы на ключевой воде из Черемшиного Брода, всё это было тайной».
Так вот если это «фэнтези», то есть и иной мир – звёзд и реактивного оружия. В своих звёздных войнах Александр Зорич привил к умирающему дереву космической фантастики мир, где интонация ведётся от знаменитых межировских стихов, где «Мессершмитты» плеснули бензин в синеву, и не встать под огнём, и без кожуха бьёт из квартирного проёма «Максим» – оттого что об охлаждении и ресурсе ствола думать поздно и незачем.
Там пламя Вечного огня дрожит на скулах и бой на дальнем рубеже – впрочем, это уже из другого поэта. Там идёт нескончаемая межпланетная война, и давно на Земле «от традиционного архитектурного ансамбля Москвы остался лишь сильно поврежденный собор Василия Блаженного». С Землёй и Россией будущего воюют зороастрийцы-огнепоклонники с других планет.
До этого времени одна книга не вписывалась в этот ряд – «Карл, герцог».
Есть придуманные термины, которыми обсыпаются статьи о фантастической литературе. Среди них – альтернативная история и криптоистория. Альтернативная – это когда Наполеон празднует победу и ставит ей памятники в бельгийской деревушке Ватерлоо. Это когда плывёт в Чёрном море независимый Остров Крым. Это когда немецко-фашистская гадина доползла до Москвы, последние защитники Сталинграда бросаются в Волгу, будто Чапаев в Урал, а за Уралом действует подпольный обком.
Причины ясны, допущение введено, а история пошла по кривой дорожке.
Суть криптоистории другая – фантастическое допущение устранено в последний момент, конница Груши заблудилась в полях, попытка Корнилова взять Петроград пресечена вертолётной атакой, а немцы остановлены усилиями мистиков.
И в «Золотой звезде», которую вы держите в руках, и в романе «Карл, герцог» много от истории. Много исторического, слишком исторического. Здесь – Рим, там история бургундского герцога Карла, прозванного «Смелым». Костёр Жанны давно потух, Столетняя война кончена, но продолжают двигаться армии, горят города, льётся рекой игристое, одновременно нет глотка воды, история течёт своим чередом, мешая воду и вино, добавляя крови.
Современному читателю плевать на политическое объединение Франции, на Лигу общественного блага, на логику налогообложения и эволюцию производительных сил. Читатель получил прививку марксистской теории, и теперь ему приятнее смотреть на смешение струй – вина, крови, добавленной к ним спермы. Для него, читателя, орлеанская барышня – это переодетый Элемент V, что, вот-вот, развалит противника лазерным лучом.
Вот о чём и пишет Зорич – при соблюдении исторической канвы он начинает издеваться над обывателем, воспитанном исторической жвачкой Дрюона. Рядом с герцогом солдаты вдохновенно поют «Long way to Tipperery», на губах короля Людовика катается слово «фуфло», женщины дают , а не берегут цветок своей невинности … Жизнь Карла пересказана цинично, даже название книжки пародирует известную могильную плиту. Это язык, которым университетские преподаватели говорят о веренице других герцогов и королей Лысых, Жирных и Отважных в курилке между лекциями. Не «сорвал нежную розу», а «вставил». Ну, в общем, это – то же самое.
Но, даже не ввязываясь в битву анахронизмов, Зорич продолжает веселиться. Маленького Карла спасает от шмелиного яда волшебный пёс-хранитель. Волшебный пёс «после этого убежал, не дождавшись посвящения в рыцари Золотого Руна, ужина, придворной синекуры. Убежал на свою Дикую Охоту, оставив Карла счастливым обладателем волшебных блох».
Карл, вставший против Людовика, оказался у Зорича рождённым волшебством, за ним по следу идут адовы псы, а по кривым дорогам Европы бредёт пара глиняных големов, влюблённых друг друга.
Магия перетекает в реальность, в конце всё сходится. Мелочи и детали, рассеянные в тексте, сходятся вместе, кривобокие бумажные фигурки вминаются в пазл.
Но история неумолима, если она – крипто . Проклятый герцог ткнётся носом в лотарингскую землю под Нанси, Пикардию и герцогство утянет Людовик, а графство бургундское оттяпают Габсбурги. История возьмёт своё.
Теперь очередь «Римской звезды» – только вместо игры в медиевистику читателю предлагается игра в античность.
Это – игра в Овидия.
***
Овидий к большинству читателей, не искушённых филологическими науками, приплыл из шестой главы знаменитого романа в стихах.
В этой шестой главе Пушкин говорит о герое, что тот:
Познал науку страсти нежной Которую воспел Назон, За что страдальцем кончил он Свой век блестящий и мятежный В Молдавии, в глуши степей, Вдали Италии своей.Овидий – постоянный образ для Пушкина времён южной ссылки. Причём сразу в нескольких текстах Пушкина речь идёт о ссыльном римляне – но сам Пушкин знает, что география податлива по отношению к мифу: «Мнение, будто [бы] Овидий был сослан в нынешний Акерман, ни на чем не основано. В своих элегиях он ясно [описывает] назначает местом своего пребывания город Томы (Tomi) при самом устье Дуная».
Но для него важно соотнести себя именно с географией, он, вслед Овидию, назначает себе тоже место:
В стране, где я забыл тревоги прежних лет, Где прах Овидиев пустынный мой сосед…Многажды русские путешественники, а потом и странники с путёвкой от профсоюза поклонялись белым камням в разных местах Молдавии, потому что западнее проехать им мешали зелёные фуражки пограничной охраны.
Молдавскому призраку есть давнее объяснение – генерала и историка Ивана Петровича Липранди (1790—1880), который вспоминал в мемуарах о том, что Пушкин был знаком с трактатом Дмитрия Кантемира «Описание Молдавии», где говорится о сохранившемся в аккерманской степи надгробии с латинской эпитафией Овидию. Эта история перекочевала в книгу Кантемира из сочинений Станислава Сарницкого. Сарницкий же взял её Лоренца Мюллера: кругом степь, ветер шевелит ковыль – на дворе 1851 год, и поляк Войновский тычет пальцем в памятник среди высокой травы, указывая Мюллеру на место последнего упокоения поэта.
Однако мифология множится, и главным её признаком – неточность.
«Когда в конце XVIII в. границы России достигли низовьев Днестра, на левом берегу Днестровского лимана в 1793—1795 гг. была построена крепость Овидиополь. В 1795 г. военный инженер Ф.П. Деволан (брабантский дворянин, перешедший на русскую службу в 1787 г.), возводя укрепления Овидиополя, наткнулся на древнюю могилу. Возникло предположение, что это могила Овидия. Судя по зарисовке Деволана, это было захоронение в каменном ящике, сопровождавшееся вещами IV—III вв. до н.э. (т.е. не римского, а много более раннего времени). Доктор Метью Гетри послал из Петербурга три доклада о могиле Обществу антиквариев в Лондоне. О сенсационной находке русских солдат на Днестре оповестили мир и парижские газеты.
Рисунки Деволана и комментарии к ним опубликованы в двух книгах – англичанки Марии Гетри и русского академика П.С. Палласа. Гетри верила, что это останки Овидия; Паллас же резонно утверждал, что тот жил и умер значительно западнее».1
Ссыльный поэт – образ, который как нельзя лучше пришёлся ко двору русской культуры.
Спустя ещё полтора века бывший подневольный житель деревни Норенская, что под Архангельском, напишет:
Коль уж выпало в империи родиться Лучше жить в глухой провинции у моря.Ссылки Пушкина и Бродского не исчерпывают множественный круг ссыльных русских поэтов. Поэзия и Империя постоянно рядом, неразрывны, как два конца магнита.
Овидий в этом романе ближе ко времени Бродского и принципату Хрущёва. Он говорит с особой интонацией интеллектуального хулигана.
«Итак, – говорит герой сам себе, – я отправляюсь в пожизненную ссылку к варварам, в город Томы (Северная Фракия).
И моя Фабия со мной не едет. Не едет. Не. Едет.
Потому что перпендикуляр».
Настоящему Овидию было за пятьдесят, когда он отправился на восток. Причины высылки будут ясны ниже.
А Поэт, что живёт внутри «Римской звезды», просто увидел что-то важное, не полагающееся по чину. Будто одна из жён Синей Бороды, открыл не ту дверь. Оказался в ненужный момент в ненужном месте.
Овидий в этом романе продан и предан другом, поэтом Рабирием, что донёс о случайно виденном и преступно подсмотренном. Имя это известно в римской истории многажды.
Рабирием звался «сын богатого и ловкого публикана», как пишет о нём Рене Гиро2, что пытался давать деньги в долг одному из Птолемеев, да потом был рад, что унёс из Египта ноги, и которого потом защищал на суде Цицерон, Рабирием звали строителя дворца императора Домициана.
Но нас интересует поэт. Именно про него написано Веллеем «Лучшие поэты нашего времени – Вергилий и Рабирий».
Эта фраза удивительно совпадает по интонации со знаменитой резолюцией правителя другого Рима на письме одной женщины – «<Он> был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей <нрзб – подставь любую> эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление».
Но если отставить шутки в сторону, эту фразу, без всякой неразборчивости, оставляет на письме Лили Брик знаменитый правитель Рима Третьего Иосиф Сталин.
Рабирий, что был современником Овидия, неприступно забыт. Он оставил всего несколько стихов – переписанный обрывок-отрывок поэмы о победе Октавиана Августа над Марком Антонием.
Но именно Рабирий был удачлив – он попал в прокрустово ложе новой традиции.
Империи близки, и некоторые времена совпадают. Время принципата Августа – для Рима особенное. Это время, когда из рыхлого тела республики выламывается жёсткий стиль империи. Возврат к семейным и гражданским ценностям, особая стоимость символов и добродетелей – всё то, с чем не ужился Овидий из Сульмона.
Наш главный герой, вернее, его историческое отражение, появилось на свет в 43 году до н.э., около восемнадцати лет Овидий предпринял путешествие в Малую Азию и Грецию (это было чем-то вроде обязательного упражнения для образованного и возвышенного человека). Затем, свободный от государственной службы, Овидий пускает время через пальцы, переплавляя его в строфы.
И то, как он это делает, противостоит общему течению римской жизни не хуже иного заговорщика. Империя строится на жёстких правилах, на возврате суровой добродетели и прямоте линий жизни вкупе с линиями фронтонов.
Овидий диссидент в полном смысле этого слова, но не политический, а эстетический.
Ведь дело не в ассортименте первого периода овидиевской поэзии – «Медикаментах для женского лица», «Средствах от любви» и «Науке любви», которой, бывало, ограничивалось спекулятивное книгоиздание бурного десятилетия девяностых. «Все эти произведения Овидия трактуют не столько о любви, сколько о разных любовных приключениях и предполагают весьма сомнительную нравственность тех, кому даются все эти советы» – как писал в своё время Лев Лосев.
Овидий состоит не только из любовного озорства первого периода, но и из «Метаморфоз» второго, а затем из отчаянных «Скорбных песен» («Tristia») и «Писем с Понта» – того времени, когда Овидий крепко, по самую шляпку, вколочен в землю изгнания.
За высокий воздух поэзии, за бархатную вольность Овидий платил ужасом. Он не был стойким героем. Чем-то его жалобы напоминают мне историю про вестового Крапилина, что заносясь в гибельные выси – это ремарка Булгакова внутри знаменитой пьесы, кричит генералу: «Да что фамилия? Фамилия у меня неизвестная – Крапилин-вестовой! А ты пропадешь, шакал, пропадешь, оголтелый зверь, в канаве! Вот только подожди здесь на своей табуретке! (Улыбаясь.) Да нет, убежишь, убежишь в Константинополь! Храбер ты только женщин вешать да слесарей». И как не оправдывается генерал, что два раза ранен и ходил с музыкой на Чонгарскую Гать, правда гибельной выси за Крапилиным. Но вдруг Крапилин очнулся, рухнул на колени, забормотал жалостно «Смилуйтесь, Ваше превосходительство! Я был в забытьи!»
И тогда генерал, будто римский цезарь, верно говорит: «Нет! Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно. Валяешься в ногах? Повесить его! Я не могу на него смотреть!»
И мгновенно накидывают на вестового чёрный мешок и увлекают его вон.
Ссыльный в романе Александра Зорича не таков.
Это поэт, которому высокое искусство помогает избежать чёрного мешка. Овидий, отдав должное просьбам о помиловании, начинает творить свою историю сам.
И она, эта история, начинается в 12 году, в земле, ещё не знающей, что она – румынская: «Познакомившись с фракийскими землями ближе, я понял, что мои скорбные элегии – самое большее, чего заслуживают Томы и их окрестности. Сколько в болото ни всматривайся, там все равно лишь тина и лягушки».
Это пространство иронии и игры в античность – вот герой обнаруживает «устаревшую уже новость с северного театра военных действий»: «Оказывается, германцы три наших легиона полностью вырезали. Барбия, уверен, это заботило не больше, чем пожар Трои. Но он, уже немного зная меня, изобразил нечто вроде вежливой заинтересованности.
– Под чьим командованием?
– Какая разница?! Ну, Квинтилий Вар ими командовал. Будто это тебе о чем-то говорит».
Это игра в поддавки – Публий Квинтилий Вар зарезался, чтобы не попасть в плен в девятом году – через год после ссылки Овидия.
Так же в романе, будто в театре, пробегают мимо задника известные персонажи – фьюить! – и нет его: «Вскорости Зенон статую закончил. По этому случаю папаша Клодий соизволил приехать из Города. Цветов в дом нанесли, яств настряпали, одних благовоний столько извели, что потом отхожие места месяц чистым сандалом воняли! Терцилла, правда, к гостям не спустилась – притворилась больной. А Фурий очень даже вышел – волосы завитые, щеки нарумяненные, одежды тончайшие. Ходит, на кифаре бренчит. А гости вокруг статуи стоят, прихлебатели да параситы, и только знай нахваливают. «Гениально!», «опупительно!», «калокагатейно!».
Овидию из этого пространства деться некуда – даже вернувшись в Рим, он отброшен на восток, катится, будто генерал Хлудов к Константинополю, но попадает в знакомые места. Нет вестового, нет чёрного смертного мешка. Овидия укрывает если не шуба сибирских степей, как клянчил другой великий поэт, а лёгкий плащ степи, дурман травы на границах империи.
***
В известной пьесе Бродского «Мрамор» два героя, Публий и Туллий, меланхолично беседуют о сущем. Один из них бормочет: «С детства Назона любил. Знаешь, как «Метаморфозы» кончаются?
Вот завершился мой труд, и его ни Юпитера злоба не уничтожит, ни медь, ни огнь, ни алчная старость. Всюду меня на земле, где б власть ни раскинулась Рима, будут народы читать, и на вечные веки во славе ([ежели только певцов предчувствиям верить]) – пребуду.Публий. Да положить я хотел на «Метаморфозы»!..
Туллий ([продолжая]). Обрати внимание на оговорку эту: про предчувствия. Да еще – певцов. Вишь, понесло его вроде: «…и на вечные веки во славе…» Так нет: останавливается, рубит, так сказать, сук, сидючи на коем, распелся: «ежели только певцов предчувствиям верить» – и только потом: «пребуду». Завидная все-таки трезвость» – так эта пьеса ещё раз говорит о том, как долговечность поэта связана с долговечностью империи.
Оттого исторический опыт скрежещет в нашей голове, мешает мелодраме, заглушает политическую корректность сюжета.
Всё это интересно московитам в силу понятной имперской переклички. Всякий народ Старого Света понимает, что жизнь опровергла старца Филофея – к худу или к добру.
А тогда, по январскому хрусткому снегу 1510 года едут во Псков московские дьяки. Вечевому колоколу отбивают топорами уши – потому что не быть во Пскове вечу, не быть и колоколу. Полвека уже застраивается по новой Константинополь, и постепенно, как тускнеет старое серебро, теряет своё имя.
И вот, сидя во Пскове, в холодном мраке кельи Спасо-Елизаровского монастыря пишет старец Филофей письма Василию III.
Бормочет старец Филофей, голос его в этих письмах негромок, потому что он говорит с царём. Но с каждым годом слова его звучат всё громче: «Церковь древнего Рима пала вследствие принятия аполлинариевой ереси. Двери Церкви Второго Рима – Константинополя рассекли агаряне. Сия же Соборная и Апостольская Церковь Нового Рима – державного твоего Царства, своею христианскою верою, во всех концах вселенной, во всей поднебесной, паче солнца светится. И да знает твоя держава, благочестивый Царь, что все царства православной христианской веры сошлись в одном твоем Царстве, един ты во всей поднебесной христианский Царь».
Филофей родился тогда, когда судьба Второго Рима решилась – и уходил тогда, когда Третий Рим ещё не воссиял среди снегов, санного скрипа и спелой ржи в полуденный зной.
«Блюди и внемли, – благочестивый царь, что все христианские царства сошлись в твое единое, ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. Уже твое христианское царство иным не останется».
Эту фразу, как заклятие повторяют потом пятьсот лет, и вот, наконец, она теряет свою правду.
Бысти Четвёртому Риму. Вот он простирается прямо за женщиной с факелом, что стоит на крохотном острове в конце океана. Вот он – во множестве лиц, вот он – с оккупационными легионами по всему миру, огромная большая империя.
И мы, как варвары, сидим в болотах и лесах, в горах и долинах по краю этого мира. Иногда варвары заманивают римлян на Каталаунские поля и начинается потеха – и тогда не сразу ясно, кто победил. Чаще, правда, легионы огнём и мечом устанавливают порядок. И тут – происходит самое интересное: обучение истории. Мы знаем, что все империи смертны. Также понятно, часто гомеостаз мира сопротивляется полному контролю – что-то ломается в контролирующей машине, и вот она катится колёсами по Аппиевой дороге, и остаётся списывать неудачу на свинцовые трубы и Ромула Августула.
Мы, шурша страницами умирающих книг, пытаемся сравнить себя – то с объевшимися мухоморов берсерками, то с теми римлянами, что пережили свой Рим, и недоумённо разглядывают следы былого величия.
Первая роль оптимистичнее, вторая – реалистичнее.
Но, так или иначе, подобные конструкции альтернативной истории улучшают самооценку. Частные лица, упромыслившие подчинённых Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу, оказываются при своём праве – не римском. Или бывшие римляне лелеют в себе гордое восхищение своим имперским языком. Все на месте, все при деле.
Сейчас мир начал скрипеть, как старинный корабль, меняющий курс, жизнь ведёт к чему-то новому. Никого не удивляет, что троны наследуются в республиках – причём не только в Северной Корее. В Азербайджане и Чечне, да что там – Четвёртым Римом уже правит сын бывшего президента. Где-то к власти приходят два близнеца.
Скрежет корпуса, потусторонние звуки заставляют нас насторожиться.
Третий мир – Третий Рим. Подстать Риму Четвёртому и новый мир – с новыми правилами поэзии. Мы в нём – за границами империи, среди сарматов. Это и определяет наше восприятие образа Овидия. Не исторический холодный анализ в бесплодных попытках счислить реального поэта, а игра на краю пропасти. Будто взгляд варваров на римлянина, что заблудился в придунайской степи.
Они не то играют на его тунику, не то играют в него самого.
Владимир Березин
I. Поэт Назон гибнет от рук кочевников
Северная Фракия, Томы, 12 г. н.э.
1. Оттепель, заморозки, оттепель, заморозки. Переменчивость погоды заставила поволноваться всех: и сарматов, и местных, и меня. Хотя причины у всех были разные.
Поначалу казалось, что зима выдалась теплая, что Истр не станет, а если и станет – лед будет тонок и коварен, сарматы не решатся испытывать его на прочность и в этом году обойдется без войны.
Но январские календы показали такую лютую стужу, что море заискрилось твердью до самого горизонта. Наш полноводный Истр, в теплое время года надежно ограждавший эти дикие, сирые земли от голодной алчности еще более диких земель, превратился в звонкий мост, способный выдержать и варваров, и их лошадей.
Царские вояки пригорюнились. Вооруженные по римскому образцу, они, по мысли фракийского царя Котиса, имели шансы не только выстоять против сарматов, но и победить. И действительно, имели бы – будь они римлянами.
Бывший гладиатор Барбий не постеснялся произнести эту мысль вслух.
– Нет, вы только посмотрите на них! Да у них сигнальщики не знают, с какой стороны в трубу дунуть! Сброд свинопасов!
– Удивительно, что Котис вообще кого-то прислал, – заметил я.
– Даже на моей памяти такое впервые, – кивнул Маркисс, ссыльный-старожил.
– Ничего удивительного, – сказал Барбий. – Царь Котис просто боится! Боится увидеть здесь настоящие римские когорты. А ведь еще в том году поговаривали, что эти, новые сарматы пришли от самого Танаиса и намерены идти до тех пор, пока «не наедятся хлеба вволю». А где взять «хлеба вволю»? Здесь, во Фракии?! Не смешите меня! Сарматы перейдут реку, ограбят рыбаков, разорят свинопасов и двинутся дальше, на юг! А на юге у нас что?
– На юге всё, – вздохнул я. – Греция… Море, теплое…
– Гречанки обыкновенно дурны с лица. Но доступны в любви, – встрепенулся Маркисс.
– При чем здесь теплое море?! Гречанки?! Главное – там владения римского народа! Если Котис позволит сарматам пройти через его земли и разорить Македонию, Цезарь обидится и получит повод двинуть сюда легионы. И не будет царя Котиса! Будут наместник, цирк с ипподромом, термы, статуи императора под каждой березой и прочий SPQR.
– А я бы не возражал, – Маркисс вздохнул.
Я бы тоже не возражал – года два назад. Куда веселее жилось бы мне в Томах, если бы нас, настоящих римлян, было здесь больше, чем трое.
Но теперь я не собирался ждать, пока события последуют за прогнозами Барбия. Ведь даже если его прогнозы сбудутся, это не приблизит ко мне ни жены, ни моего заклятого врага.
В одном Барбий оказался прав: царь Котис отважился отдать две своих лучших когорты сарматам на растерзание.
На следующее утро закутанные в шерстяные плащи фракийские воины покинули Томы и направились в Макуну по единственной северной дороге.
Макуна – большое рыбацкое поселение на нашем берегу Истра. Каждую зиму его грабили и разоряли то пешехожие западные геты, то конеборные сарматы. Летом Макуну пытались обирать «камышовые коты» – разноязыкие шайки речных разбойников. Но этих рыбаки обычно били, а вот против воинственных сарматов средств у них не было.
Крошечная крепостца Макуны – не крепостца даже, а одинокая башня на холме, обнесенная валом и частоколом, – могла вместить от силы сотню защитников. Поэтому с наступлением зимы большая часть жителей переселялась к родственникам в Томы, чтобы не пасть жертвой сарматских жестоких ребячеств. Меньшинство (представленное самыми крепкими юношами и мужчинами) оставалось сторожить дома, готовое по первому сигналу опасности унести главные свои драгоценности – рыболовные снасти и лодки – под защиту частокола и самим укрыться там же.
Перед уходом они обязательно оставляли в своих домах и землянках откуп. Пригоршня монет на видном месте, хлеб, сыр… И, конечно, вязанки вяленой рыбы! Горшочки с соленой икрой! Бусы! Расписные глиняные лошадки для сарматских зверенышей обоего полу!
По молчаливому сговору с рыбаками, сарматы забирали все эти «брошенные в спешке вещи» и, уж конечно, что-нибудь сверх того. Но некое подобие благородства им было не чуждо: рыбацкую халупу они сжигали только в случае исключительной скаредности ее хозяев, а на людей, укрывшихся в крепостце, и вовсе не покушались.
В Макуне сарматы стояли ночь-две. Затем, в зависимости от ветров и своего сумасбродного нрава, либо шли вглубь страны, где вели себя по-настоящему буйно, либо поворачивали назад, за Истр.
Что случится теперь, когда тысяча фракийских, с позволения сказать, легионеров вмешается в полюбовные отношения между рыбаками и сарматами, было страшно вообразить. А ведь мне предстояло узреть это воочию.
Вскоре после того как знамена фракийцев исчезли за ближайшим холмом, вышел на дорогу и я – в сопровождении наемного носильщика.
2. В полдень нас почти одновременно нагнали две толпы моих поклонников. Вот какой популярностью я пользовался в Томах, кто бы мог подумать!
Первая толпа была не очень представительной и состояла из одного Барбия – как уже говорилось, бывшего гладиатора. Он ехал верхом на копытном существе, которое только из большого уважения к наезднику можно было назвать лошадью, ибо норовом и статью воплощало оно помесь лошака, онагра и азиатской гиены. Звалось существо Золотцем.
– Ты с ума сошел! Куда тебя понесло, друг Назон?! – завопил Барбий.
– Я шествую в Макуну, друг. Если же тебе интересно, как именно я шествую, я отвечу: как Гектор на бой с Ахиллом.
– В своей жизни я знал двух Ахиллов. Одного на капуанской арене проткнули трезубцем. Другого я задушил собственными руками. Жуткий мерзавец был. Все игральные кости у него были со свинцом и сам такой, знаешь, как… как говно.
– Великолепно. Ну?
– Что «ну»?.. А, ты меня своим Ахиллом закрутил! Я говорю: совсем ума нет у тебя, да?! Зачем тебе в деревню?
– Иду биться в сарматами.
Пока Барбий собирался с мыслями, чтобы спросить «А зачем тебе биться с сарматами?», показалась вторая толпа поклонников.
Эта была куда внушительнее первой: Кинеф, главный городской сикофант, уполномоченный городскими архонтами опекать ссыльного Назона, и с ним четверо городских стражников. Лошади у них были, конечно, получше Золотца.
– Что это мы задумали, уважаемый? – поинтересовался Кинеф в свойственной ему манере все затуманивать, размывать, присваивать себе часть собеседника, превращая его обособленное «я» в фальшиво интимное «мы». Допускаю, впрочем, что это шло не от подлости Кинефа (как я привык думать), а от изъянов его греческого.
– Я, лично я, задумал дойти до Макуны. Этот человек, – я указал на носильщика, – нанят мною, чтобы дотащить мое воинское снаряжение. Ну а Барбий здесь с тем же, с чем и ты: с вопросами.
Кинеф подозрительно прищурился.
– В Макуну?
– Определенно.
– И мы не боимся сарматов?
– Я римлянин.
– О да, да. SPQR! – иронично скривившись, Кинеф вскинул руку в воинском приветствии.
– Если ты хочешь меня оскорбить – ты можешь, – заметил я. – Но, сочетая эти непонятные для тебя буквы с приветственным жестом легионера, ты оскорбляешь не меня, а Рим. А значит – и Цезаря! Последствия могут быть самыми тяжелыми.
Кинеф – сам состоящий будто из киселя, расплывчатый и неопределенный – больше всего на свете боялся неопределенных угроз.
– Мы никого не хотим обидеть, уважаемый, – заверил он. – Но это очень необычная затея для мирного ссыльного: отправляться сейчас на Истр. Наш владыка Котис намерен дать сарматам хороший урок. Там будет жарко! И посторонним…
Я, не смущаясь, перебил сикофанта.
– Мне известно о грядущей схватке. И я намерен не только принять посильное участие в подвигах царских когорт, но также запечатлеть их в приличествующих случаю стихах.
– Так вот оно в чем дело! – лицо Барбия, который до этого буравил Кинефа грозным своим взором, внезапно просветлело. – Поэт Назон ищет вдохновения! А я думал, ты повредился в рассудке. Впрочем… я и сейчас так думаю. Ну хоть ясно стало что к чему. Но тебя же там убьют!
– Может быть. Но во сто крат лучше сарматская стрела, чем сластолюбивое нытье Маркисса, – («…И твои гладиаторские байки», – фразу я достроил про себя.)
Меж тем сикофант, мысленно взвесив все «за» и «против», принял вполне мудрое решение.
В круг его обязанностей, в числе прочего, входил надзор за мной и Маркиссом – таким же ссыльным, как я. К моим желаниям Кинеф не испытывал ни малейшего уважения, будь я хоть трижды поэт и четырежды римлянин. Во власти сикофанта было вернуть меня обратно в Томы – и что бы я мог ему противопоставить? Сразился с ним и стражниками сам-пять? Смехотворно!
Но что вменялось Кинефу в отношении нас? Лишь одно: следить, чтобы мы не удрали на юг, к теплым морям, и не смягчили себе, тем самым, условия ссылки, что было бы неслыханным подрывом авторитета двух владык, Цезаря и Котиса. Но куда мог убежать несчастный поэт, бредущий среди зимы прямиком на север, в дичь и глушь? Там его ждет смерть, но никак не теплые моря!
– Ну, хозяин – барин, – сказал Кинеф. – Чтобы оградить поэта Назона от превратностей пути, оставляю двух своих людей, они проводят его до Макуны. А мы, Барбий, как?
– Делать нечего, пойду с поэтом.
– Тоже драться с сарматами будем?
– Я ни с кем драться не собираюсь, у меня обет не проливать человеческой крови. Никак забыл? Просто мне без поэта тошно. Похожу у него в оруженосцах.
Оруженосцем я уже располагал, но был тронут. Искренне тронут.
3. На закате нам встретилась толпа беженцев из Макуны.
У стражников, которые теперь сопровождали нас по приказанию Кинефа, в толпе нашлись знакомые. Они остановились и принялись болтать, проявляя бессмысленное многословие, особенно часто одолевающее в пору невзгод простых людей, которым, если по совести, и сказать-то друг другу нечего.
Разговор ходил кругами: сарматы, что-то теперь будет, передай привет такому-то, все еще может обойтись, царские соколы в обиду не дадут, уж они им всыплют, а может лучше и не появлялись бы вовсе, оно бы глядишь и обошлось, раз собаки выли, так теперь не обойдется, потому что сарматы, но привет обязательно не забудь.
Я предложил стражникам возвращаться в Томы вместе с беженцами. Было видно, что идея им по душе, но ослушаться Кинефа они не посмели. Нет, сказали они, мы с вами, будем вас беречь как зеницу ока, сейчас вот только с друзьями попрощаемся – и идем дальше.
Как же, идем дальше. Если бы не ваше, дети природы, чириканье, мы бы, прибавив шагу, поспели вместе с последними отсветами заката на ночлег среди руин, которые именовались помпезно – Гекатополис.
Местные отчего-то пребывали в уверенности, что Гекатополис построили аргонавты, что над городишком тяготело проклятие и во времена Александра Великого его поразило моровое поветрие, которое выкосило всех жителей, после чего там уже никто не захотел селиться.
Я полагаю все это милой чушью. Едва ли руины имели столь благородное происхождение, но одним неоспоримым достоинством они все-таки обладали: пустующий дом привратника был починен, заново перекрыт и превращен в приют. Там можно было вполне сносно выспаться. А если бы выяснилось, что в Гекатополисе ночуют царские когорты и дом привратника занят их командирами, мы бы напросились в одну из солдатских палаток.
Меж тем мы топтались посреди дороги в обществе рыбаков и их домочадцев. Стемнело и над холмами зазвенел обманчиво жалобный волчий вой. Главное же, все мы, люди разностепенной набожности, но равно суеверные, не хотели испытывать вызывающим перемещением и стуком копыт терпение здешних духов ночи, о которых, как заведено, истории ходили наижутчайшие.
И что же? Не видать мне Гекатополиса! Мы заночевали вместе с беженцами из Макуны прямо у дороги. Жгли жалкий костерок, едва не замерзли насмерть. Заснуть не удалось.
Так прощалась со мной суровая снежная дева – Фракия.
4. Наутро я забрался в седло Золотца, Барбий повел лошадь под уздцы. Из-за всех перипетий мы основательно отстали от царских когорт. Но вот, около полудня, на гребне холма, который закрывал обзор именно в том направлении, в котором мы двигались, показались люди.
Они бежали.
Их было… пять… десять… пятьдесят!.. сто!..
Людские волны устремились к нам вниз по склону. Стало видно, что многие солдаты оставляют за собой цепочки кровавых следов.
Мало кто сохранил оружие. Все щиты были брошены. Копья – тоже. Самые бессовестные срывали с себя на бегу и мечевые перевязи. Надеялись, надо думать, на великодушие врагов.
Час пробил.
Когда говоришь «я был доведен до отчаяния», подобные слова обычно оставляют слушателя равнодушным. То ли дело «я был влюблен и искал встречи с предметом вожделения» или «я дрался за республику».
Влюбленный вызывает сочувствие, воин с идеалами – по меньшей мере, уважение. Отчаявшийся жалок, над ним погасли звезды, его сторонятся, как чумного. И даже если из отчаяния затем вырастает яростная решимость действовать, похвальное слово достается не священному пламени, в котором сгорели вера и упование, но лишь его свету. Прижатый германцами к лагерному валу центурион не спешит спасаться бегством, но, напротив, прорубает себе дорогу сквозь вражий строй к вождю из врожденной отваги – так отзовутся о нем в панегирике. На самом деле, отвага ведет его до и после, но в ту минуту, когда младшие дрогнули, а малодушные бегут, центурион, внутри себя, уже принял смерть от железа и надежда оставила его. Он бросает на землю отягощенный дротиками щит. Ему, мертвому, все равно. Наступает миг истинного отчаяния, беспримесного одиночества.
Для меня этот миг растянулся на три года, но закончился задолго до того дня, когда я покинул Томы ради войны с сарматами.
Потому, будучи некогда доведен до отчаяния, я пережил и превзошел его. Испугать меня теперь было непросто. Я действовал, я рвался к цели, а мои спутники, ошеломленные внезапностью, наперебой орали мне: «Скорее, бежим отсюда!»
– Доставай кольчугу, живо! – приказал я носильщику, соскочив с Золотца, к седлу которого был приторочен вьюк с моими пожитками и, что самое важное, сбережениями. Деньги я сразу же перепрятал за пазуху.
– Какую кольчугу?! – Барбия трясло. – Сейчас вдвоем на лошадь – и деру!
Сказав так, он принялся с неимоверной быстротой расседлывать Золотце. При этом, разумеется, на земле оказался и мой вьюк.
Носильщик и не думал помогать мне. Он бросился к тому воину городской стражи, лошадь которого была пошире, и завопил:
– Басид, возьми меня к себе в седло!
– Будешь должен, – хмуро бросил воин, сдвигаясь к холке своего мерина. Фракийцам такие переделки были не в новинку и они исхитрялись скакать вдвоем на одной лошади, не расседлывая ее. Тому способствовало устройство седла – длинного и гладкого. У Барбия же седло было, так сказать, одноместным.
Замерзшие пальцы плохо меня слушались. Чтобы извлечь кольчугу, пришлось распороть ткань вьюка мечом. Тяжелую, неподатливую рубаху из ледяного железа, похожую одновременно на рыбью чешую и на сброшенную змеей кожу, было не так-то просто надеть без посторонней помощи, но недаром я всю осень провел в упражнениях.
– Ты что, не понял?! Пора делать ноги! – надрывался Барбий, восседая на Золотце. – Свинопасы бегут от сарматов! Ну очнись же, Назон! Кто тебя околдовал?!
– Думаю, пора прощаться, – сказал я. – Благодарю тебя, мой друг, за всё, чему ты меня научил. Не поминай лихом, и да сопутствуют тебе добрые знамения.
– Опомнись, Назон! – Барбий почти рычал. – Если бы я знал, как все будет, ты бы у меня за городские ворота носа не высунул! Ну зачем, зачем я, дубина, вчера поверил, что эти сопляки успеют достичь Макуны и там укрепиться?! Я-то думал, мы с тобой дойдем до деревни, посидим там вместе с царскими солдатами, сарматы не отважатся идти на приступ и поскачут дальше! А там, глядишь, твое помрачение отступит и мы спокойно вернемся в Томы!
– Вот сейчас и вернешься в свои Томы. Только, пожалуйста, не медли. Поверь, я свою судьбу тщательно обдумал и буду счастлив принять ее во славу римского оружия.
Самые резвые беглецы были шагах в десяти от нас, когда показались наконец и сарматы. Всадники, перевалившие через холм, шли шагом, опасаясь ям и валунов. Зато второй отряд, державшийся дороги, несся прямо на нас во весь опор.
Надо признать, они были великолепны. Похоже и впрямь к нашим старым знакомым, присутствие которых за Истром здесь всегда воспринималось как данность, присоединилось родственное племя, прибывшее издалека и принесшее с собой невесть где перенятые парфянские обычаи войны.
Остроконечные шлемы, длинные, до колен, чешуйчатые панцири, внушительные пики, на которые можно было нанизать одним ударом двух, а то и трех человек. Не люди, а самодвижущиеся железные башни! Их выносливые лошади тоже были облачены в броню и, честное слово, я не знаю, какая сила в мире могла бы их остановить, кроме лучших легионов Цезаря.
За катафрактами шли конные лучники, защищенные не железом, а кожей. Они появились одновременно, на холмах слева и справа от дороги. Засвистели стрелы – скорчились на земле трое раненых фракийцев. Еще трое…
Участвовать в рукопашной я не собирался, поэтому за свой меч был спокоен. Качество кольчуги смущало меня куда больше. О том, что нечаянная стрела может угодить мне в глаз, я старался не думать.
– Последний раз тебе говорю: бросай все! У любой глупости должны быть пределы!
– Прощай, Барбий.
Я быстро зашагал вперед. Один из бегущих, крупный фракиец, чей пояс-цингулум выдавал в нем центуриона, а возможно даже префекта когорты, едва не налетел на острие моего меча. Он отшатнулся от меня, как от призрака, но дальше не побежал, замер, как вкопанный, и прохрипел:
– Римлянин? Здесь?
– Да, – ответил я, не останавливаясь.
Дорога гудела. Ей вторил гул сарматского знамени – шелкового дракона, который извивался под напором воздуха. Издалека он смахивал на жирную, насосавшуюся крови пиявку.
До катафрактов оставалось две сотни шагов.
Сделав еще шагов двадцать, я внезапно обнаружил себя в окружении толпы фракийцев. Они, только что представлявшиеся мне рассеянными по всему видимому пространству, вдруг оказались рядом со своим префектом – тем, который был препоясан цингулумом. А поскольку префект зачем-то увязался за мной, выходило, что я, сам того не желая, возглавил сотню внезапно отважившихся воинов, замещая знаменосца или, точнее, сам служа ходячим знаменем.
Вот уж к чему я не стремился!
Мое спокойствие перед лицом неотвратимой смерти было столь неуместно, что фракийцы, похоже, заподозрили во мне неведомое, но могущественное римское божество, посланное в подмогу не иначе как самим Цезарем и прибывшее в самый отчаянный момент. Божество, намеренное одним своим видом обратить в бегство сарматские орды.
Это предположение звучит дико, но как иначе объяснить внезапную перемену их настроений? Ведь большинство успело растерять оружие, на что же они надеялись?! Опрокинуть под моим водительством катафрактов голыми руками?
И я вдруг подумал: а что, если это правда? Если весь смысл моего трехлетнего пребывания в Томах заключался в том, чтобы сегодня, сейчас возглавить отчаявшихся фракийцев? Если рядом со мной незримо присутствуют божественные братья Диоскуры? Ведь наши анналы хранят не одно заслуживающее доверия свидетельство: Кастор и Поллукс много раз появлялись на бранном поле и обращали в бегство самых опасных врагов! Мне стоит только призвать их гласно – и мы, ведомые богами, переломим варварскую силу!
Но челюсти мои были намертво сведены. Какой бы невероятной ни была победа над сарматами, одержанная под водительством Диоскуров, я вдруг представил себе ее последствия: так, будто у меня открылся дар ясновидения.
За нашими спинами разрастается облако непроницаемой мглы, подымается ураган, способный усадить на землю быка. Однако, ревущий ветер щадит нас, он обрушивается на одних сарматов. Валятся лошади, под их весом трещат сломанные лодыжки и голени седоков. Те животные, которые удержались на ногах, сбрасывают всадников и в испуге бросаются прочь. Мы гоним сарматов до самой Макуны, воодушевленные фракийцы добивают раненых их же оружием. Горстка победителей в присутствии восторженных рыбаков провозглашает меня императором и Отцом Отечества. Дело принимает такой оборот, что я, вольно или невольно, оказываюсь во главе мятежа против царя Котиса.
Дальше я смутно, как будто сквозь пламя, видел картины совсем уже невероятные. Подымается Фракия, подымается Македония. Весть о чудесном римлянине, которому сопутствуют Диоскуры, приводит народы в волнение. Под знамена Публия Овидия Назона стекаются тысячи. Я веду их на запад… Я возвращаюсь из ссылки не инкогнито, нет. Я вступаю в Италию прославленным полководцем во главе гигантской армии Востока, воссоединяюсь с женой, приношу смерть сволочному Рабирию! И книги мои возвращают в публичные библиотеки не милостивым соизволением Цезаря, а по моему личному указу, потому что нет больше другой власти, кроме моей.
Самым поразительным было то, что все это не казалось бессмыслицей. Надо лишь призвать Диоскуров…
Что же меня удержало?
5. Поток катафрактов, ошеломленных происходящим, распался на два рукава, которые охватили нас и, схлестнувшись, замкнули ощетинившееся пиками кольцо.
Ровным счетом ничто не мешало им переколоть фракийцев с ходу, не теряя темпа. Но внезапное превращение трусов в смельчаков озадачило их.
Они с интересом рассматривали нас и перебрасывались одобрительными замечаниями. Которые, увы, не сулили ничего хорошего, потому что, как я мог понять, сарматы, воздавая должное нашему бесстрашию, обсуждали также кто сколько фракийцев нанижет на пику с одного удара. Самый рослый сармат вел речь, кажется, о пятерых.
К катафрактам также присоединилось большое число легковооруженных всадников с луками.
Эти, само собой, принялись похваляться друг перед другом своей меткостью и ловкостью. Один обещал двумя стрелами выбить префекту фракийцев оба глаза быстрее, чем тот рухнет замертво после самой первой стрелы, которая вонзится ему в горло. Другой – выпустить стрелу в небо так, чтобы она, воспарив в вышину и устремившись затем вниз, попала в темя наперед загаданному человеку.
Фракийцы, настроения которых швыряло из стороны в сторону, как корабль в бурю, стремительно впали в отчаяние. Они заподозрили, что римлянин – вовсе не посланный богами спаситель, а просто случайный гость из числа ссыльных, которым я и являлся в действительности. Разве что мое появление к северу от Гекатополиса нельзя было назвать совершенно случайным, но это уточнение едва ли могло их обнадежить.
Призрачный свет чуда, который привиделся фракийцам в моей седине, потускнел и погас.
Теперь их ждала смерть.
В просвет между двумя катафрактами из числа окружавших нас – весьма узкий просвет, не шире локтя – непостижимым образом протиснулся всадник.
Его лохматое ездовое животное было с виду еще гнуснее, чем Золотце, а всадник и подавно не мог называться красавцем. Согбенный, одетый в волчью шкуру с наголовьем в виде оскаленной морды, вооруженный колдовским жезлом с крохотным человеческим черепом, он воплощал само Варварство.
Стоило ему появиться – и сразу же большая часть сарматов уважительно спешилась – они хорошо знали человека в волчьей шкуре. Те, которые остались в седлах, скорее всего являлись сарматами пришлыми, «новыми», и не до конца осознавали важность этого визита.
– Воины фракийцев заслужили смерть, – изрек колдун. – Их надо убить всех. Но убить их нельзя – они несут болезнь. Так сказали духи.
Колдун, разумеется, говорил на сарматском языке, поэтому я разбирал только отдельные слова. Смысл его речи был непрозрачен и я не могу поручиться, что все понял верно. Но каков бы смысл ни был, тем, пришлым, сарматам, которые и составляли подавляющее большинство катафрактов, он пришелся не по душе. Раздались презрительные выкрики: «Что значит – убить нельзя?!», «Сам ты болезнь!», «Где твой хозяин, раб?!»
Волкоглавый царственно проигнорировал оскорбления и продолжал.
– Их надо взять в плен, а потом получить от родственников выкуп. Но пленить их тоже нельзя. Они несут болезнь, их болезнь придет к нам. Мы погибнем.
Тут уж вообще поднялся несносный гвалт, который, однако, сразу же утих, поскольку среди спешившихся лучников появился очередной сармат. Уже не колдун, но вождь собственной персоной, о чем было легко судить по помпезной золотой пекторали на его груди и такой же – на лошади. Я знал – его зовут Скептух.
– Этот римлянин тоже умеет говорить с духами, – волкоглавый указал пальцем на меня, – Вот его нужно убить. Это он сделал так, что сейчас нельзя убивать фракийцев. Он во всем виноват. Фракийцы показали вам, что они мужчины. Пусть идут домой и молятся за вас. С собой мы заберем только римлянина. Его смерть принесет нам самую большую пользу. И золото.
Вождь кивнул, подтверждая решение колдуна. После этого роптать никто не осмелился. Ряды сарматов расступились, выпуская фракийцев.
Никогда в жизни я не видел столько признательных и сочувственных одновременно взглядов, обращенных на меня – только по отдельности. Признательностью меня награждали слушатели за мои стихи, сочувствием – друзья, провожавшие в ссылку.
Волкоголовый колдун повалил меня на спину и зацепил мой широкий кожаный пояс железным крюком, который был приделан к прочной веревке. Затем он намотал веревку на седельную луку, хлестнул скакуна и потащил Назона по дороге – так охотники волокут домой крупную добычу.
Сарматы, поначалу с интересом глядевшие на мои мучения, вскоре пресытились и ускакали вперед, горланя «домой, братья! возвращаемся!» Тяжелый, ноздреватый снег залепил мне глаза, я ослеп.
II. Назона выгоняют из поэзии, и он учит сарматский
1. На дверях земляного дома, куда меня определил старший астином города Томы, человек с недержавным лицом огородника, рокочущее имя которого я за три года так и не сумел заучить, я повесил табличку: «Публий Овидий Назон. Ссыльный поэт».
Угольные буквы, выведенные на сосновой доске, были первым, что написал я после отъезда из Города. А ведь когда я получил несусветное известие о том, что должен тотчас отправиться в изгнание, я хотел наложить на себя руки. Клялся, что вообще ничего никогда не напишу. Как же, не напишу…
Помню, как терся о мою жирную тогда еще спину северный ветер, когда я трудился над змеиным изгибом буквы «S», предпоследней буквы моей фамилии «Naso».
Мне было не по себе от мысли, что, возможно, в этом угрюмом захолустье с замогильным, квазитомным именем Томы («расчлененка» в переводе с греческого) ни одна живая душа не умеет читать на латыни. И я утешал себя предположением, что, вероятно, здесь многие читают по-гречески – раз половину населения городка составляют потомки выходцев из Аттики.
Я заблуждался насчет «многих». Читать здесь не привыкли – ни по-гречески, ни вообще. Здесь царила природа, а не культура. Разве кто-нибудь видел читающего суслика или медведя?
А вот на лингве латине один житель Томов все-таки читал и даже писал.
Его звали Маркисс. Он был лыс, быстр, тщедушен, по-детски смешлив и по-девичьи пуглив. Больше всего он походил на состарившегося римского щеголя (да и был им). Комедиантское имя Маркисс родилось как сокращение от его настоящего: Марк Сальвий Исаврик.
Маркисс, как и я, был ссыльным. Как и я, он попал во Фракию, угодив под тяжкий молот закона о прелюбодеянии. Однако, на этом сходство между нами заканчивалось.
Если я, по официальной версии, не потрафил Цезарю, грозе римских прелюбодеев, своей «Наукой любви», научающей легкомысленной чувственности, то Маркисс провинился тем, что и без помощи книг обучился всем возможным легкомыслиям еще до того, как надел взрослое платье.
Дом Маркисса, отъявленного развратника, был не меньшей достопримечательностью курорта Байи, нежели сами целебные источники, а оргии, которые устраивал там Маркисс, впечатляли даже в скупых словесных описаниях.
«Представь, Назон, однажды купил я по дешевке раба-ливийца, который хвалился, что может услаждать разом восьмерых дев…»
«Я еще усов не брил, когда одна матрона положила на меня глаз и позвала погостить на своей вилле. А там обычай такой был – из этой виллы выхода тебе не будет, покуда всех женщин тамошних не полюбишь трижды. Женщин же там было – как зерен в гранате. Одних рабынь пятьдесят с чем-то. Так я когда своим домом жить начал, тоже правило такое завел. Только вместо женщин определил мужчин!»
«Вспомнил тут, друг мой Назон, как мы с сенатором одним проверяли, какова длина женского отверстия у львицы…»
И так далее.
Всю жизнь я считал себя человеком если и не распутным, то «ознакомленным». И хотя пылкий взгляд иной недоступной красавицы всегда оставался для меня более желанным трофеем, нежели красавицыны бели, к порядочным людям я себя не относил. Лишь сойдясь с Маркиссом, я понял: напрасно не относил. Никогда и не помышлял себе Назон того, что Маркисс и сопалатники играючи проделывали в тени смокв и под сенью тыкв. О том, что именно они проделывали, Маркисс кропал книгу воспоминаний «Сад».
Восьмая глава сей омнипедии называлась «Четверо отроков, ослица, отроковица и брадобрей с двумя детородными органами». Девятая – «Те же и садовник».
В общем, когда затеянная Цезарем борьба с падением нравов достигла Байев, жители города, тайно посовещавшись, решили выдать правосудию Верховного Распутника. На роль которого был назначен Маркисс. И разве не поделом?
Скажу по совести, быть признанным первым распутником курорта Байи, куда золотая молодежь и гуляки постарше ездят именно за этим, все равно что быть выставленным из дома терпимости за неразборчивость.
Будучи наказанным Цезарем пожизненной ссылкой с лишением гражданских прав и конфискацией имущества, Маркисс, однако, не роптал и не раскаивался.
Первое вызывало уважение. Второе скорее удивляло. Ведь природа северной Фракии, здешний климат и окрестности, мышасто-серые, скудные растительностью и видами, способны были склонить к раскаянию даже в не совершённых грехах.
Маркисс жалел лишь об одном – что в бытность свою прелюбодеем мало читал.
– Косноязычный стал, ужас! Теперь вот, когда писать сажусь, слов не хватает! Взялся считать, сколько раз написал я про мужской орган «эта штука», и за голову схватился! Получилось больше, чем мне отроду лет! – однажды пожаловался он.
– Хорошо еще, что не столько, сколько лет от основания Рима, – утешил его я. Некогда яростный хулитель всяческой графомании, в Томах я от души полюбил графоманов, поскольку понял: на них, как земля на слонах, стоит континент латинской литературы, где живем мы, гении.
Довольный Маркисс сложил губы сердечком и послал мне воздушный поцелуй:
– Я, Назон, когда табличку на твоей двери впервые увидел, сказал себе: «Тебя не пускают в столицу? Насрать! Столица сама приехала к тебе!»
– Прямо уж – столица… Я-то сам из Сульмона. Провинциал.
– Ну и скромник же ты, Назон! А ведь небось самого Цезаря знаешь! И жену его Ливию! Да и всех вообще…
В сущности, не знай я Цезаря и жену его Ливию, я никогда не оказался бы в Томах, в пропахшей плесенью хатке, на обтрепанном краю мира.
2. В год, когда я родился, Цезарь делал первые шаги к первенству среди равных.
Пока он расправлялся с врагами, я воевал с риторическими фигурами в школе ораторского искусства.
Когда Цезарь принялся делать из Города – Столицу Мира, я получил высокую должность триумвира по уголовным делам. Заботился о порядке в тюрьмах, наблюдал за ночной полицией (стеречь сторожей – тяжелый труд, доложу я вам), курировал пожарные казармы. Железной рукой выпрямлял я извивный жизненный путь площадных плутов, насильников и прочих напрасных людей, постигая ту же истину, которую двадцатью годами раньше понял и Цезарь: чем выше забираешься, тем больше находится низкого, с которым ты просто обязан иметь дело.
Как и Цезарь, я рано стал знаменит.
Первый цикл любовных элегий принес мне громкую славу в Риме. Второй – за его окрестностями. Третья книга подселила к имени Назон семейство ко многому обязывающих квартирантов: эпитеты «изящный», «любезный Венере», «непревзойденный» и многая прочая.
А уж мою «Науку любви» читали все, включая просвещенных погонщиков мулов. Один вольноотпущенник, иудей, как-то признался мне, что латинской грамоте научился исключительно дабы читать «Лекарство от любви», где я учил несчастливо влюбленных самому важному – забывать .
Кто мог знать, что пройдет десяток лет и «Науку» мою, книгу-шалунью, книгу-резвушку, книгу-утешительницу, изымут из всех столичных библиотек и нарекут похабной?
А ведь и самому целомудренному Цезарю некогда нравились мои наставленья. Царедворцы передавали: иные места он знал наизусть, а строки «пусть же из чистого рта не пахнет несвежестью тяжкой и из подмышек твоих стадный не дышит козел» использовал как свои, когда желал пристыдить неряху. Словом, все было хорошо, пока не случился в моей жизни Рабирий.
Мы с Рабирием молились одному богу – неистовому Вакху. Не в смысле что выпивали, а потом буянили (как наверняка подумал бы простец Барбий). Но в смысле «писали стихи».
Ведь не только застольям и виноделам Вакх покровительствует. Но и поэтам, что выжимают из железных дней веселящий нектар элегий.
Помню, мы познакомились с Рабирием в гостях у моего давнего друга Валерия Мессалы. Рабирий читал свои новые стихи, громоздкие и густо замешанные на крокодильно-могильной мифологии страны Египетской. Я, воротясь домой, записал в дневнике: «Рабирий. Умен невероятно. Но таланта не имеет. Зачем-то хочет дружить».
И да не примет читатель мое замечание насчет бесталанности Рабирия за ревнивое пустословие!
Здесь другое. Можно сказать – плод беспристрастных наблюдений.
Моя бабка, происходящая из жреческого рода, рассказывала, что в дедовские времена у опытных жрецов было в ходу выражение «иметь зверя».
«Он имеет зверя» – так говорили про гадателей, которые редко ошибаются, предсказывая судьбу и толкуя сновидения. Про врачей, которые мимоходом определяют истинную причину болезни. Про храмовых музыкантов, чьи флейты вызывают божественный ветер, вмиг сдувающий с лиц прихожан заприлавочное выражение и увлажняющий благоговением глаза.
Иные жрецы, говорила мне бабка, могли точно сказать, какой именно иноприродный зверь сопровождает музыканта или толкователя. У этого (кто бы мог подумать!) – лев, у того (как благородно!) – златорунный овен, а у того, ха-ха, морская свинка, ну скажите, какая милая…
Рассказы эти мне запомнились. Потому, когда я сам начал замечать призрачных, развоплощающихся под пристальным взглядом, зверей-спутников – правда, сопровождавших не гадателей, но таких же, как я, поэтов, – я воспринял это без истерик.
Вскоре обнаружились: то, что бок о бок с тобой ходит янтарно-дымчатый лев, вовсе не означает, что ты царь поэтов. А помойная крыса ничуть не указывает на то, что поэт не откровений муз, но отбросов взыскует.
Связи между тем, каков по виду и величине зверь, и тем, сколь дар силен и редок, я обнаружить не сумел. Зато уверился в другом: нет зверя – нет таланта.
Случалось мне видеть, как молодой поэт, размазня и пустобрех, вдруг, после выстраданной и выделанной на совесть элегии или паломничества в легендарное святилище, обзаводился верткой лаской или кошечкой и начинал писать не хуже раннего меня.
Бывало, наблюдал и поучительное: как обладатель откормленного волкодава вдруг являлся на поэтический пир сам-один, порвав с любимой содержанкой ради выгодной женитьбы.
Смешное тоже видал я: иной хозяин хорька годами пытался уверить весь Рим, что владеет иберийским жеребцом сияющей серой масти.
Но, возвращаясь к Рабирию, скажу: зверя при нем никогда я не видел. А вот он моего угадал быстро.
Он горячо нахваливал и безжалостно критиковал. Несусветно много читал, всюду бывал зван и первым знал все важные новости. Богач и проныра, он умел быть полезен и легко давал в долг, говорил то учтиво, то язвительно.
Словом, мы сошлись – или, точнее, это он сошелся со мной. Всюду мы появлялись вместе, дуэтом клеймили кропателей, в унисон хвалили небезнадежных. Всегда заодно, мы глумились над веком, который потом назовут Золотым – и не только потому, что за все хорошее нам приходилось платить чистым золотом.
Про нас даже вирши слагали:
Кто это там, по телам графоманов, к Парнасу Шествует важно, завистливым толкам на зло? Это Овидий-похабник, а с ним злоязыкий Рабирий. Эй, трепещите, ведь консульство их началось!Мы дружили шесть долгих лет. И за эти годы лишь единожды произошла между нами размолвка. Мой бывший шурин, заведующий канцелярией одного сенатора, которому Цезарь исключительно благоволил, тайно скопировал для меня письмо со стола патрона.
В письме этом Рабирий в свойственных ему едких выражениях бесчестил мою обожаемую жену Фабию. Поначалу я шурину не поверил. Но нет, почерк Рабирия, да и прочее, сходилось!
Я был настолько удручен этой мелкой низостью, вдобавок лишенной мотива, что не смог утаить свое открытие от друга. Учинил дознание.
Рабирий не запирался (он был умен и чуял: не поможет!). Напротив, подлец раскаивался. Да так бурно, что я едва осушил от слез его глаза.
Ногтями разрывая себе грудь, Рабирий объяснил, что писал о Фабии дурно, поддавшись низкому порыву, попросту – позавидовав мне, женатому на такой неописуемой красавице-и-умнице, и, что самое непереносимое, страстно любимому ею.
«Я же не был любим никем, кроме шлюх и своей матери», – рыдал он.
Меня тронула непритворная глубина его раскаяния. И его извинения я, конечно же, принял, вместе с приложенным к ним подарком – легкими носилками из драгоценного дерева и восьмеркой рослых рабов-носильщиков (плюс девятый, запасной).
Носилки я отдарил Фабии, которая, хоть о письме и не подозревала, но все одно оставалась вроде как пострадавшей стороной. Я счел ссору забытой и вновь начал звать Рабирия «сердечным другом».
Всесильные боги! На обиженных воду возят. А на доверчивых возят что? Я думаю, фекалии.
«Не позволяй себя тронуть слезам и рыданиям женским – Это у них ремесло, плод упражнений для глаз». 3Это я написал, между прочим.
3. Случай с письмом забылся. И если бы не предательство Рабирия, окончившееся изгнанием Назона из Города, я бы, клянусь, не вспомнил о нем. Ведь право на мелкую подлость украшает римского гражданина…
– Что ж, Назон, свершилось! – возвестил однажды Рабирий. Он ворвался в мою опочивальню с первыми петухами. Волосы его были взъерошены, лицо осунулось – наверняка скоротал ночь в бардаке.
– Что именно? – проворчал я, усаживаясь на кровати.
Мне стоило труда налепить на лицо хоть какое-нибудь выражение.
Меньше всего на свете я любил бодрствовать в эти недобрые пограничные часы, когда выцветает бархат ночных небес. Однако, я не дал хода недовольству. Я знал, умевший быть деликатным Рабирий не станет надоедать без причины.
– Цезарь зовет нас в гости! На виллу «Секунда»!
– Кого это – «нас»?
– Тебя и меня. Он зовет лучших поэтов Рима! – озвучив эту вопиющую ахинею, Рабирий виновато подмигнул мне, мол: «Уж я-то знаю, что лучший поэт – это ты, а я просто выскочка и прилипала, но они так сказали!»
– Слушай… Сходи-ка, наверное, один. Солги, что Назон простудился, болен проказой, что угодно… Тошнит уже от застолий!
– Речь идет не о застолье, – понизив голос, сказал Рабирий. – Но о деле!
– Какие дела могут быть между Цезарем, таксть, живым богом, – я криво усмехнулся, – и смертным поэтом Назоном? Если можно, переходи сразу к существу… Спать хочется.
– Цезарь хочет, чтобы ты написал поэму, – Рабирий сел на край моей кровати, его голос благоговейно дрожал. – Понимаешь, поэму!
– Разве у Цезаря мало придворных писак? После того как Вергилий подал всем пример и вылизал задницу Цезаря до златого блеска, желающих прильнуть к ней день ото дня становится только больше! Если завтра нужно будет популярно объяснить всем, что наш Октавиан ходит эликсиром, помогающим от всех болезней, поскольку этот дар ему пожаловал сам Асклепий, видя его радение о здоровье сената и народа Рима, десяток голодных провинциалов тотчас примутся взапуски строчить об этом обстоятельстве… Пройдет неделя – и готова первая поэма! И стихотворный цикл! И панегирик! И элегия! Две элегии! Три! Впрочем, что я тебе-то рассказываю, будто ты не в курсе…
– В курсе, – сухо кивнул Рабирий.
– Зачем тогда спрашиваешь? Ну не стану я воспевать Цезаря. Хотя бы потому, что не умею. И с его стороны предлагать мне это так же глупо, как заказывать столяру панцирь. То есть, заказать-то можно. Но на бой я в панцире, сделанном столяром, не вышел бы, – я так рассвирепел, что даже сон улетучился. – Кстати, лет двадцать назад я уже отметился в этом ремесле. Написал героическую поэму «Титаномахия», посвятил ее нашему Октавиану. Сравнивал его с Юпитером… С ума сбеситься!
– Мой пламенный Назон, Цезарь хочет от тебя совсем другую поэму, – сказал Рабирий елейным голосом.
– О нетрудной любви? – насколько можно язвительно поинтересовался я.
– Просто – о любви.
– Это даже интересно. Продолжай.
– Ты же сам недавно говорил, что… после знакомства с Фабией стал по-другому смотреть на все эти вещи… Что многое в «Науке любви» тебе теперь и самому не по душе… Ведь говорил?
– Говорил. И?
– Неужели тебе никогда не хотелось сделать что-то… не в опровержение «Науки», нет! Но как бы в развитие темы! Написать о чистом, о высоком… О любви к жене и домашнему очагу… О безгрешной сладости супружеского ложа.
– Хотелось.
– Вот и прекрасно! – Рабирий просиял, хлопнул себя ладонями по бедрам. – Вот о том же и Цезарь!
– ???
Я застыл в изумлении прямо над чашей для омовения лица. Рабирий же принял мой ступор за восторженную оторопь. И, перейдя с квазипатетического тона на деловой, продолжил:
– Итак, текст о святости семейных уз. Объем – на твое усмотрение. Но чтобы примеры были убедительные. С мифологией поосторожней, надоела она всем. Цезаря и Ливию упоминать не обязательно, но было бы кстати. За подробностями обращаться к секретарю Ливии Агерину, он ответит на любой вопрос по биографии. Сроки называешь ты. Цезарю лишь бы побыстрее, но я объяснил ему, что поэт – не сноповязальщик, у него вдохновение, метания, все дела. Он, кажется, понял. Когда мы закончим, Цезарь в долгу не останется. А уж о благодарности народа и говорить нечего. Имя твое воспоют как доселе не пели!
В какой-то момент мне показалось, что Рабирий сошел с ума.
Или безыскусно со мной шутит.
Невозможно было поверить, что это он, язва и ерник, тайный республиканец и египтоман (после победы над Антонием-Клеопатрой все египетское было у нас, считай, под запретом), закоренелый педофил и пьяница, говорит мне все эти невообразимые вещи про римский народ, который воспоет своего подневольного моралиста Назона!
Не объелся ли белены мой кудрявый Рабирий?
Быть может, на пирушках, по которым он шатается, вошло в обычай подавать пятнистые красноголовые грибы с пластинчатым исподом? Те самые, которыми, по свидетельству побывавших в Германии, обжираются матерые колдуны, когда хотят совершить путешествие на край ночи?
– Что ты имеешь в виду, говоря «когда мы закончим», милый друг? Что мы с тобой будем писать в соавторстве?
– Да отсохни мой язык, если я дерзну посягнуть на такое!
– Тогда что?
– Цезарь хочет, чтобы я… ну… как бы помогал тебе советом. Критиковал. Чтобы я был рядом!
– В качестве доки по сладостной чистоте супружеского ложа? – я подмигнул Рабирию (тот был женат, однако с женой своей виделся всего дважды – словом, чисто деловые отношения). – Или в качестве надзирателя?
– В качестве друга, – тут Рабирий небесталанно изобразил уязвленную добродетель. – Ну так что… соглашаемся?
Я зачерпнул ладонями воды из чаши и принялся умываться. Затем, удостоверившись, что вода в кувшине достаточно теплая – стал молча мыть голову, одной рукой поливая себе на темя. За окном пропел петух.
– Назон, – расслышал я сквозь плеск воды. – Что скажешь, а, Назон?
Увы, ехать на виллу «Секунда» нам все равно пришлось. Владеющий лучшей половиной мира Цезарь не тот человек, от которого можно отделаться запиской «не желаем, отвали».
4. Уже по дороге я узнал, что быть приглашенным в «Секунду» – невероятная честь, которой удостаивались не все именитые сенаторы.
Сам Цезарь наведывается туда частенько, но гостей не принимает. Зная склонность Цезаря к суевериям, я рискнул предположить, что тот боится прогневить гения места, позвав в гости кого-то «не того».
Нас поселили в просторных комнатах с видом на прекрасный сад. Клумбы в нем цвели душисто и пестро – не верилось, что на дворе поздняя осень. Будто в лето вернулись.
Я прошелся по саду, который был центром тяжести всей виллы. От него, словно лучи от солнца, нарисованного детской рукой, отходили еще четыре таких же флигеля, как наш – экседрами они глядели в кусты розового олеандра, что служили саду границей.
В котором из домов живет сам Цезарь, мы не знали. Но если судить по некоторым деталям (золотые ручки на калитках и ставнях) – он жил в том, что располагался напротив нас.
Над дверью, ведущей в тот «золоченый» флигель, была прикреплена золотая пятиконечная звезда. Должно быть, еще одно суеверие Цезаря.
Главк, слуга, который помогал нам устроиться и, к слову, единственный слуга, которого мы видели на всей «Секунде», сообщил нам следующее:
1) Во флигель с золотой звездой ходить нельзя. Под страхом смертной казни. И приближаться к нему менее, чем на двадцать шагов, тоже нельзя. («Ага, угадали, там живет Сам», – подумал я.)
2) Цезарь сможет уделить нам лишь восемнадцать минут своего времени. (Я вздохнул с облегчением.) Однако, мы вольны остаться на обед и даже переночевать в гостевых покоях «Секунды».
В воркотливом голосе Главка слышалось что-то жабье. Пункта третьего, к счастью, не последовало.
Цезарь задерживался. Как всегда, неотложные дела – интриги, высылки, проскрипции.
Чтобы нас развлечь, в комнату, где скучали мы с Рабирием, пригласили мима.
Мим изображал Человека-Какашку. Он гнулся и ломался, имитируя, как я понял, движение фекальных масс по кишечнику, от желудка – к свету в конце тоннеля. Окончив пантомиму, актер посмотрел на нас пристыженно: мол, не взыщите, сыграл что велели. Я давно заметил: у Цезаря нелады с чувством юмора.
Потом принесли обед. Простой и сытный, стилизованный под крестьянский. Будто готовили его не на императорской кухне, а в намалеванных рощах буколик-георгик.
Ни тебе сонь в меду, ни пятаков нерожденных поросят, ни даже тривиальной гусиной шейки с гарниром из лепестков африканских роз!
Каша, хлеб, баранина, моченые оливки – и все это в мисках из неглазурованной глины!
Впрочем, чего ждать от Цезаря, который любил похвалиться, что ходит в тоге, сотканной дома рукодельной женой? От человека, издавшего закон против роскоши? Это ведь он запретил тратить на пиршество больше 400 сестерциев! Вот приблизительно на 50 сестерциев мы с Рабирием и съели.
Я помрачнел: от жирной и тяжелой крестьянской пищи заныла избалованная печень.
«Вот же парадокс! От соловьиных язычков ничего никогда не болит!» – прошептал мне на ухо Рабирий. Судя по кислому выражению его лица, угощенье ему не понравилось.
Мысль о законах против роскоши плавно перетекла в размышления о законах против прелюбодеяний.
Ну какая, скажите, муха укусила Цезаря бороться за нравственность римских граждан?!
Ведь это же тебя, Цезарь, тебя, тогда еще Гая Октавия, смазливого рослого красавчика с золотыми волосами, метелил промеж галльских войн блистательный Гай Юлий!
Ведь это ты пришел в политику через черный ход, благодаря своей постыдной связи с незабвенным римским тираном Гаем Юлием!
Не ты ли, Цезарь, женился на чужой жене Ливии, на шестом месяце брюхатой и притом не от тебя? Весь Рим потом ходил ходуном от хохота, повторяя «везучие рожают за три месяца», разумея Ливию твою…
А теперь? Кто главный ревнитель благочестия? Цезарь. Кто у нас образцовая жена? Ливия. Кто самая плохая девочка в Риме? Юлия, дочь Цезаря от первого брака! У нее, страшно молвить, был любовник! Ой-ой-ой! Какой ужас, какое падение! Сослать ее с глаз долой! А кто у нас еще хуже Юлии первой? Юлия вторая, внучка Цезаря! Представляете, она тоже не девственница! Сослать и ее тоже! Не то разложение! Сумерки богов!
Никогда не вызывал у меня такого отвращения Гай Юлий Цезарь, за здорово живешь присваивавший имущество поверженных врагов.
Иное дело – кроткий лицемер Цезарь Октавиан. После битвы при Перузии приказал заживо сжечь на алтаре своего отца триста человек. А глаза такие голубые! Во время проскрипций не пощадил ни своего опекуна Торания, ни покровителя Цицерона – а лицо такое возвышенное! Толкнул на самоубийство своего лучшего друга поэта Галла – а поэмки сладенькие о древности слагает, муси-пуси…
Как можно писать для этого чудовища поэму о высокой любви?
Уже стемнело, когда появился Цезарь.
Сообщил, что располагает лишь девятью минутами, а не восемнадцатью, как сообщалось ранее. И что готов выслушать план моей поэмы (он говорил так, словно согласие мое у него уже есть). Кстати вспомнил, что душка Вергилий ни строки не писал в «Энеиду», пока он, Цезарь, предварительный план не утвердит.
Я красноречиво посмотрел на Рабирия. Не изменившись в лице, тот сказал, кивнув в мою сторону, что Назон еще не принял окончательного решения. И что Назон колеблется, сомневаясь в своих силах.
– Да что мы говорим о нем, как будто его здесь нет! Пусть скажет сам! – повелел Цезарь своим скрипучим занудливым голосом.
Я принялся врать, что совершенно не разбираюсь в вопросе!
– Узок мой кругозор, велики моя боль и усталость, в общем, отказываюсь, – сказал я. – Однако мой отказ следует расценивать как признание моей слабости, а не как попытку утвердить силу! Ведь, даже будучи ничтожеством, я люблю Цезаря больше, чем своих близких! Люблю как человека и как бога, – для убедительности я припал на одно колено и поцеловал его руку – всю в перстнях и старческих бурых пятнах.
– То есть, не будешь писать? – переспросил Цезарь ровным голосом раба-счетовода.
– Я не достоин такой чести, о божественный.
– Дело твое, – сказал Цезарь равнодушно и уже собрался уходить, однако у дверей обернулся и добавил: – Если останетесь на ночь, помните что говорил Главк. Это для вашей же пользы!
Ехать домой было поздновато и мы с Рабирием, оба взвинченные, решили совершить прогулку вокруг виллы. Полюбоваться парной тушей спящего Рима, на дальней северо-восточной окраине которого «Секунда» располагалась.
Прогулка не задалась – мы с Рабирием поминутно ссорились.
Он упрекал меня в недальновидности и отроческом, ослином упрямстве. Я его – в идиотском каком-то подхалимаже. Рабирий собачился все больше. Мне хотелось спать.
Наконец мы оказались у нашей двери. К счастью, было не заперто – видимо, жабогласый Главк уже отошел ко сну.
Мы прошли через неосвещенный вестибюль, пересекли сумрачный внутренний двор и, вдыхая по-осеннему тяжелый сырой воздух, поднимавшийся от имплювия, оказались в гостиной.
Там в наше отсутствие зачем-то передвинули мебель. В центре теперь стоял низкий столик с масляной лампой, а рядом со столиком – красивое деревянное кресло, похожее на старообразный царский трон.
В кресле сидел незнакомый старик. Ветхий и желтый, словно сделанное из дорогого пергамента чучело богомола-исполина.
Старик напоминал также седой пушистый одуванчик, которому каким-то чудом удалось пережить лето, осень и зиму, растеряв почти всех своих летучих отпрысков, но все-таки – не всех.
Старик читал. Когда мы ввалились в гостиную, споря о том, нужна ли материально обеспеченным поэтам милость царей, он отложил свиток и внимательно посмотрел на нас своими черными, живыми глазами.
– Кто… вы? – спросил старик. Его голос был как тихий скрежет ледника, потревоженного криком пролетевшего ворона.
– Мы поэты, – отвечал я.
Вопрос «А ты-то кем будешь? И что тут делаешь?» я старику задать не решился. Почтение к сединам как-никак.
– Поэты? Поэты хорошо. Я… люблю поэтов! А ведь когда-то не любил… Считал пустыми… людьми… Сотрясателями воздуха!
– Да мы и есть, в сущности, пустые! – усмехнулся я. – Или очень быстро становимся пустыми. Если мы будем полны, то станем непрозрачными для божественного ветра. И примемся говорить не о том, о чем нужно, а о том, что у нас внутри. То есть о том, что делает нас полными. Внутри же у нас в точности то, что и у других людей. Похоть, сожаления и мечты о неважном.
Рядом со мной переминался с ноги на ногу Рабирий. Он злился – дожигал в уме недавнюю перебранку. За нашей беседой он не следил.
– А ты… неглупый малый, – старик одобрительно кивнул, потирая свою лысину морщинистой, как у мартышки, и сухой, как у мумии, ладонью. – Хорошо объяснил! Поможешь мне?
– Охотно!
– Ты… ведь, верно, знаешь всех римских поэтов?
Я кивнул.
– Тогда послушай. Как-то в книжной лавке Париса… она тут, недалеко… мне случилось прочесть такие стихи:
Все уменьшается, мельчает каждый час: Отцы, которых стыд и сравнивать с дедами, Родили нас, еще негоднейших, а нас Еще пустейшими помянет мир сынами… 4Как ни странно, старик продекламировал эти строки внятно и с чувством – так читают учителя риторики и преуспевающие политиканы. Я невольно заслушался.
Вот еще что – его голос, сухой, как шорох плевел под сандалией, странным образом гармонировал с прочитанными строками. Возраст же чтеца делал поэтическую жалобу еще более безупречно-верной и сообщал ей привкус вселенского, омнического какого-то пессимизма.
– Скажи мне, поэт, кто написал эти умные стихи? – спросил наконец старик.
– Тит Гораций Флакк, – ответил я тотчас.
– В таком случае… скажите Гаю Октавию, чтобы немедленно доставил сюда этого… Горация! Желаю… посмотреть на него! – воскликнул старик, его глаза загорелись.
– Он умер в октябре. Его похоронили на Эсквилине.
– О боги! И этот тоже опередил меня… – старик скорчил досадливую гримасу.
Сколько же лет ему – восемьдесят, девяносто или, может быть, все сто? Я как раз собрался спросить, когда Рабирий что было дури дернул меня за край шерстяного плаща. Я недовольно посмотрел на него – ну и манеры!
Порочное узкое лицо моего товарища было искажено гримасой ужаса.
«Что случилось?» – спросил я одними глазами.
Рабирий взглядом указал мне на стену комнаты, по правую руку от сидящего старика. На ней сияла тусклым замогильным светом, отраженным светом лампы, золотая пятиконечная звезда.
Такая же, только размером меньше, отсвечивала от сплошной боковины кресла, в котором восседал старик.
Только тогда я наконец сообразил: мы с Рабирием зашли не в тот флигель.
Мы нарушили запрет Главка.
Мы не вняли предостережениям Цезаря.
Что теперь будет с нами?
– Куда же вы… поэты? – прошелестел нам в спину удивленный старик. – Клянусь, я ничего не скажу… этому негоднику… Гаю Октавию!
Я даже не попрощался с ним – сама речь мне отказала.
Мы с Рабирием стали вдруг бесшумными, ловкими и отчаянными, как ассассины.
Мы покинули проклятый флигель за считаные мгновения, ни разу не споткнувшись в кромешной темноте, ничего не опрокинув, не перепутав ни одной двери, не издав ни звука.
Это страх смерти сделал нас такими.
Промозглый осенний ветер подействовал отрезвляюще. Мы успокоили дыхание и поклялись забыть о старике. А также пообещали друг другу никому не рассказывать о том, что натворили. Возвратившись, мы молча разошлись по своим комнатам. Сомневаюсь, что Рабирий смог заснуть в ту ночь, да и я не смог.
5. Вскоре Рабирий рассказал о нашем проступке Цезарю.
Расчет его был прост: Цезарь славился снисходительностью к доносчикам. В конце концов, именно Цезарь изобрел закон о доносительстве: донес раб на хозяина – получай, умница, долю в хозяйском наследстве! Что ж… Расчет Рабирия оправдался!
Я гостил у Валерия Мессалы, когда меня письмом вызвали к Цезарю на виллу «Прима». Я сразу понял: дело пахнет элевсином.
Но на Рабирия не подумал. Грешил на случайного прохожего, который мог видеть нас с Рабирием, когда мы выходили от старика, на пронырливого раба-невидимку (а на таких виллах, как «Секунда», невидимок обычно поощряют), на жабу-Главка.
Назон застал Цезаря в апогее державного гнева. Отец Отечества глухо орал, обильно орошал приемную слюной и его лицо, красивое когда-то, красивое просто до невозможности, собиралось уродливыми складками на лбу и щеках.
Государыня Ливия, длинноносая, с маленькими глазками над восковыми яблоками щек, поддакивала мужу, сидя на низкой скамейке по правую руку от него – сходство с матерой дворовой сукой за то время, что я знал ее, к тому году лишь усилилось.
Цезарь говорил экивоками. Не называл явно нашего с Рабирием проступка. Но за каждым его обвинением сияли золотые звезды.
– Ты ослушался меня, Назон. Нарушил запрет. Теперь ты понесешь наказание! – гремел Цезарь. – В соответствии с законами Рима!
– Хотел бы я знать, о божественный, под какой закон попадает проступок человека, заблудившегося в чужом доме? – хмуро поинтересовался я.
– Под закон о прелюбодеянии.
– Помилосердствуй! Назон безгрешен, как капитолийский гусь!
– Подумать только! – Цезарь обернулся к Ливии, привычно ища ее поддержки. – И это говорит человек, растливший своей книгой великий Рим!
Ливия поощряюще кивнула мужу – мол, верной дорогой.
– Если речь идет о моей «Науке», то она, смею заметить, увидела свет десять лет назад! – попробовал защититься я.
– Десять лет – пустяки. С точки зрения справедливости.
Только дома, в приветственных объятиях Фабии, до меня дошел страшный смысл случившегося.
Итак, я отправляюсь в пожизненную ссылку к варварам, в город Томы (Северная Фракия).
И моя Фабия со мной не едет. Не едет. Не. Едет.
Потому что перпендикуляр.
А Рабирий?
Я послал ему записку, но раб-посыльный вернулся ни с чем – мол, двери не отпирают и дом словно вымер! Я послал еще одну – в тайное логовище возле садов Мецената, где Рабирий встречался с полюбовниками. Я все еще был уверен, что мой сообщник тоже понесет наказание. И боялся, что это наказание окажется более суровым, нежели мое.
Рано утром за мной пришли солдаты. Им велено было доставить меня и мои пожитки на корабль, отплывающий на Край Света.
По дороге в порт один из них шепотом признавался мне, что знает мое «Послание Сафо» наизусть и вообще без ума от лесбосской девы, а заодно – от меня. Не иначе как хотел подсластить мне пилюлю, а может и правда знал. Кажется, я обнял его перед тем, как взойти на судно.
На моих щеках высыхали горячие слезы любимой.
6. С Рабирием я так и не свиделся, однако первое же письмо с родины все объяснило: меня предал он.
Рабирий не только не считал нужным скрывать это обстоятельство, но и бравировал им.
Это добавило ему популярности в Городе – теперь Рабирий был осиян зарницей тех незримых земель, где в черных небесах с синими жилами молний парят, расправив облые крылья, демоны зла.
Из Просто Рабирия, сочинителя невнятных египетских виршей, он превратился в Человека, Предавшего Овидия Назона.
К Рабирию льнули молодые подлецы, желающие сделать быструю карьеру. Ему наперебой отдавались перезрелые матроны – они обожают совокупляться со всякой падалью, ибо в запахе тлена им чудится нечто, представляющее имморальную природу-как-она-есть, с ее птенцами, пожирающими друг друга в гнездах, и с жеребцами, способными покрывать по две дюжины кобыл за день. Глупые женщины надеялись, что, коль скоро пахнущий склепом Рабирий аморален, он будет покрывать их не менее раза в неделю! Ха-ха.
Я часто думал о Рабирии. Представлял, как взгляну в его карие глаза и припомню уверения в вечной дружбе, которые давали мы, когда были счастливы вместе. «Есть только одна причина, по которой мне по-настоящему не хочется умирать. Там, на другом берегу, я боюсь разминуться с тобой, Назон», – так он говорил, обнимая меня хмельной рукой. Я часто вспоминал его поддельную нежность, в голову мне не шло ничего, кроме двух коротких слов: «Будь проклят».
Я повторял эти слова десятки раз и мне становилось легче.
Помню, как однажды заполночь я стоял на вершине самой рослой башни города Томы.
Внизу бесновалось февральское море. Гнилой, голый лесок на ближайшем холме бил земные поклоны под напором ветра. Чу! Завыли нестройно оголодавшие волки – совсем недавно они обжирались непохороненными трупами, что остались после набега сарматов, а теперь, вместе с сарматами, ушла и пища. Сама Мать-Луна, обычно печальнолицая и оленеглазая, глядела люто. Мир был напоен злой силой и походил на бойцового пса, которого, дабы сделать свирепей, месяц поили свежей человеческой кровью и, посаженного на цепь, травили бичом.
Мир буквально исходил ненавистью, как весенние поля исходят влажными токами жизни, ожидая поцелуя восставшей из мертвых Персефоны.
Эта ненависть восходила вверх, к небу, образуя плотные, почти осязаемые вихри.
Неожиданно для себя я поднял обе руки и ощутил, как на ладонях у меня, между заскорузлыми моими пальцами, собирается вся эта ядовитая испарина мира, как она лентами обвивается вокруг башни, шавкой кружит у моих ног (обернутых по местному обычаю страховидными кусками медвежьих шкур). Причем эта колкая, созданная разрушать летучая тяжесть, вдруг почувствовал я, обладает собственной волей! И притом, я даже могу разговаривать с ней, вполне!
– Прикас-с-сывай! – послышалось мне в шумливом завывании вихря.
– Лети к Рабирию. Покажи ему себя. Сделай ему больно, – произнес я вполголоса.
– И-с-с-сполнню, гос-с-сподин! – вновь послышалось мне, тотчас колкое воздушное веретено отделилось от моей левой ладони и исчезло.
Мне стало зябко от страха. Но я смог успокоить себя самоуверением, что все это было лишь скверной шуткой, игрой воображения нервного полуночника.
Случалось, я вспоминал о старике на вилле с золотыми звездами.
Кем он приходился Цезарю? Почетным пленником? Узником? Отцом или, быть может, гостем? Отчего он называл Цезаря фамильярно Гаем Октавием и честил негодником?
Хотелось знать, ах, как хотелось это знать!
7. Со дня моего изгнания прошел год. И я понял, что одних проклятий в адрес Рабирия недостаточно.
Нет, в действенности своих проклятий я не сомневался. Сомневаться в них значило поставить под сомнение материальность чувств, укрощению и воспитанию которых в духе красоты и любви я посвятил свою болтливую лиру.
Однако по опыту я знал: жернова мстителя-Сатурна мелют слишком уж медленно.
Пока демоны возмездия расслышат меня в своих свинцовых безднах, пока поймут мою ненависть и мою кручину, пока удостоверятся в низости Рабирия, запишут в свои данники и примутся щекотать его душонку своими пальцами-паутинками, зудеть над его ухом слюдяными крыльями… Да ведь до того момента, пока обезумевший, одержимый духами Рабирий, побежит, не разбирая дороги, на утес, дабы броситься с него в море, не в силах более терпеть сатурналий внутри своей головы, я, проданный им Назон, могу попросту не дожить! На фракийских-то харчах…
Исподволь мною овладела мечта: сквитаться с Рабирием не так, как сквитался бы поэт Назон, дитя мраморных лесов, где блуждают красавицы, баловень застолий, милый лжец и свистун.
Но так, как сделал бы Назон-воин, которым Публий Овидий, чьи окна выходили на самый пафосный столичный лупанар, а вовсе не на площадку для кулачных боев, так и не удосужился стать. Поскольку был занят множеством других куда более элегантных дел.
Убить Рабирия не словом проклятия, но сталью меча. Убить – и все.
Однако, мечом-то я как раз и не владел.
Когда мои сверстники подражали знаменитым гладиаторам, я зачитывался греческими книгами. Они постигали азы фехтования в тридцати шагах от поляны, где я, под раскидистой смоквой, упражнялся в судебном красноречии, развешивая по ветвям неопровержимые аргументы. Потом я был любовником, служакой, параситом, отцом семейства, самым отъявленным клиентом римских ростовщиков, подающим надежды пиитом, зятем своего тестя, любовником любовницы своего тестя, отцом любовницы своего ростовщика… Но никогда я не был мужчиной – в том зверином смысле этого слова, который проступает за раздумчивым женским «настоящий мужчина»… Мужчиной, способным ударить.
Неужто пришла пора им стать?
Такую мысль невольно подал мне упражняющийся Барбий.
Собственно, экс-гладиатор Барбий, как и душка Маркисс, был римским гражданином.
Барбий отлично владел мечом, умел читать, писать и доить козу (к слову, коз у него было две, Андромаха и Елена).
Он был сдержан, благочестив, набожен до сентиментальности, приносил жертвы Марсу и Юпитеру, держал данный некоей богине обет (и, кажется, не один!). В остальное же время – огородничал и учил молодых дуроломов из городской стражи воинскому искусству. После трудов праведных любил «потолковать», причем в каждом рассказе страстно выискивал мораль. Словом, вел себя как персонаж, сошедший со страниц лубков про перворимлян, соратников Ромула и Рема. Для полноты картины ему не хватало только коровы-жены и выводка румяных чад.
Природа наделила моего гладиатора внешностью наипростецкой. Был он коренаст, густобров и мускулист. Барбий много жестикулировал, причем настолько патетично, что, казалось, говорит он не с горшечниками да кожевенниками, но втолковывает озабоченным патрициям Самое Важное перед лицом надвигающихся вражеских полчищ. Позже я сообразил, что вкус к размашистым, длинным жестам Барбию привили на гладиаторской арене, где первейшим требованием к убийству соперника была его наглядность.
Поначалу Барбия я сторонился по соображениям двоякого рода.
Во-первых, бывший гладиатор Барбий принадлежал, со всей очевидностью, к так называемым «простым» людям. Но я-то знал, что прилагательное «простой» может употребляться и в плохом, и в хорошем смысле. И не дай бог тебе нарваться на плохой!
Во-вторых, в отличие от нас с Маркиссом, Барбий не был ссыльным. И это внушало мне сомнения в здравости его ума. Разве по своей воле нормальный человек променяет многоэтажный Рим на обветшалые Томы?
Первое время мы с Барбием обменивались приветствиями, преувеличенная теплота которых только и способна была натолкнуть постороннего на мысль о том, что мы земляки.
Все изменилось в один день. Как-то я брел к пристани мимо домика Барбия и увидел, как он тренируется. Деревянным мечом Барбий лупил по истукану, обвешенному вязанками хвороста, пружинисто перемещаясь вокруг.
Глухо кряхтел Барбий, крошился хворост, было слышно размеренное дыхание гладиатора, мягко ступающего по крошеву, несмотря на медвежью комплекцию.
Я невольно засмотрелся – рисовалась в этом непритязательном, на первый взгляд, бою своя отчетливая драматургия. Казалось, бьется Барбий с невидимым, но опасным врагом, который лишь кажется непосвященному истуканом, а, может быть, прячется за ним.
Сочетание хладнокровия и страстного желания уничтожать, отпечатавшееся на лице гладиатора, меня также подкупило. С первого взгляда верилось, что врагов в своей жизни Барбий сразил настолько много, что кровожадность начисто ушла из его характера, а ненависть переплавилась в нечто высокое и роковое.
Не ненависть водила теперь его рукой, но как будто осознание того, что противника убить необходимо. Или так: осознание того, что противник уже уничтожен, осужден где-то там, наверху, на совете богов, и осталось последнее – выпустить дух из обреченного смерти тела.
Такая позиция, проговоренная каждым движением Барбия, вызвала мою жгучую зависть. Я очень хотел научиться ненавидеть Рабирия так, как, мнилось мне, может научить только бывший гладиатор.
Вскоре я уговорил его стать моим учителем – за скромную даже по местным дремучим представлениям плату. Я хотел овладеть искусством поединков.
После первого урока Барбия – мне было велено скакать боком вокруг столба, толкать истукана щитом и приседать с корзиной песка – я неделю не вставал.
Не было в моем теле ни одного сухожилия, ни одной самой тщедушной мышцы, которая бы не отзывалась болью в ответ на движение. Прислужника у меня не было, я почти ничего не ел и мало пил – чтобы оправляться как можно реже. Зато на второй урок к Барбию я явился уже не жирдяем, но толстячком.
Прошли месяцы, сало на моей спине переплавилось в мясо и я даже начал радоваться кинетическому безумию наших экзерсисов.
Ударным пунктом подготовительной программы Барбия был бег зигзагами. Пока я в кожаной набедренной повязке носился по его садику, с запаршивевшими яблонями и кургузыми абрикосами, то замирая, то проворно меняя направление, в зависимости от того, какие получал команды, он сидел на веранде своего глинобитного дома с одним косым окном и попивал местную ячменную бражку.
После бега следовали тяжести – колоду вверх, колоду вниз, и так до упаду. Затем он выкручивал мне руки и ноги – клялся, что лучшей тренировки для суставов и сухожилий не придумаешь. Разминал мне спину и плечи кулаками (он называл это массажем, однако на ласковые касания и щипки, к которым я привык в столичных банях, все это походило как фракийская зима на италийскую).
Лишь после длительного разогрева меня облачали в кожаные доспехи и допускали к истукану – вырезанному из дерева подобию галльского идола. Каждый раз идола полагалось обвешивать новыми вязанками хвороста.
Отношение к истукану у Барбия было благоговейным. Его полагалось приветствовать перед началом упражнений, его следовало благодарить после.
По мере того как пустел кувшин с бражкой, Барбий все более охотно комментировал мои ратные труды.
В основном его филиппики относились к моей технике: «Ну что ты ходишь со щитом наизготовку? Ты похож на торговца щитами, который предлагает свой товар на рынке! Щит к груди прибери, силы экономь, старый-то пень уже, не мальчик!»
Иногда его ремарки относились, так сказать, к философии боя: «Мой ланиста Пелоп говаривал, что даже плохой боец может выиграть поединок на силе характера. Вот смотрю я на тебя, Назон, и думаю: сила характера у тебя точно есть, и притом немалая. Но ни одного поединка ты на ней не выиграешь. Какая-то она у тебя не такая, не той кондиции. У тебя пока что шансов больше взглядом врага завалить, а не мечом».
Иногда его заносило совсем далеко: «Некоторые считают, что вершина благородства в том, чтобы иметь возможность надругаться над женщиной и не воспользоваться ею… Но я лично с этим не согласен. А ты? Слышь, Назон? А-а, ладно, не отвлекайся, не надо…»
Бывало, все это невыносимо наскучивало мне – и глупость научительных речений, и быстрый, полоумный ток крови в моих членах, и всё это вообще. Тогда я клялся: больше не приду. Но я всегда нарушал клятву. Промаявшись с неделю затворником, я вновь направлял стопы к дому своего учителя, радостно напрягая слух: вот сейчас Андромаха узнает меня, бросит вдруг жевать и проблеет приветственно.
«Втянулся», – удовлетворенно комментировал Барбий.
8. Живя в Риме, никогда бы не подумал, что мне придется чему-либо учиться в пятьдесят с лишним лет. В таком возрасте пристало учить…
Однако, изгнание поставило меня перед выбором: либо умереть от тоски и бездействия, либо преобразиться. Так вышло, что на деле я сделал выбор в пользу обоих вариантов – старый Назон умер и после смерти преобразился в нового.
Поначалу умирать Назону было боязно. Очень уж хотелось заслужить прощение Цезаря. Но как? Оказав государству ценную услугу. Варианты: раскрыть заговор, спасти в бою консула, расширить границы римских владений, заключить военный союз с далеким индийским царем, достичь Океана на востоке!
Ничего из перечисленного бедный Назон, предоставленный сам себе, сделать не мог. Только – воспеть чужие достижения и триумфы. Я и впрямь искренне радовался успехам нашего оружия и отзывался на них громовыми панегириками. Панегирики исправно достигали Цезаря и, судя по некоторым эпистолярным отзывам моих друзей, воспринимались им вполне благосклонно. Но и не более. Воспламенить его мраморное сердце, высечь слезу из хризопразовых глаз – я не мог.
Кто мог бы, я знаю – Эсхил.
Среди всех старинных греков я всегда ставил Эсхила выше прочих (Гомер и александрийцы вне обсуждения). Настоящий эллин, удивительный поэт-воин. В Марафонской битве Эсхил сражался плечом к плечу с братом Кинегиром. Брат оказался в числе павших, Эсхил так и не простил персам его гибели.
Спустя десять лет он бился за брата и отечество на море у острова Саламин и на суше – при Платеях. Он не просто узрел воочию баснословные полчища Востока, с которыми царь царей Ксеркс пришел в Аттику, он был одним из тех, кто обратил их вспять. Эсхил видел черный дымный гриб над Афинами, видел «прибой, засеянный телами», а потом своими руками жег на саламинском песке обломки – всё, что оставил после себя бежавший в панике флот персов.
В «Персах» у Эсхила азиатские корабли – «темногрудые», а греческие триеры идут «прекрасным строем». Персидский тысячник Дидак, «силе уступив копья», слетает с корабля «пушинкою». В «Главке Понтийском» не ветер сопутствует стреле, но стрела, распрощавшись с тетивой, увлекает за собой «ветры Аида». Если бы так написал человек, никогда на войне не бывавший, можно было бы назвать это пустой красивостью. Но Эсхил стоял под градом персидских стрел, его холодили те самые ветры Аида… А «пернатые всадники» из числа знатных персов, которые «мечут разящий кизил»? Лишь в Томах удалось мне понять это место, узнав, что именно из кизиловых жердей изготовлялись кавалерийские дротики.
Я часто примерял Эсхилов стих к себе. И каждый раз тяготился своим ничтожеством. Так, до встречи с дикими сарматами никогда не видавши настоящего боя, я именовал корабельный строй «грозным» и «ровным», но никак не «прекрасным». И моя стрела, увы, рассекала воздух с тем же унылым «свистом», с каким она делает это как в действительности, так и в десятках заурядных сочинений…
Но – к Цезарю. Когда я понял, что мои поэтические отклики на славу легионов и их вождей не имеют волшебной силы, мной овладело новое сумасбродство.
Поэма «Истрия»! Описательное, натурфилософское сочинение о достоинствах и богатствах края! Ведь это только на первый взгляд здесь нет ни богатств, ни достоинств. А если присмотреться как следует, познакомиться поближе…
«Коль уж я сижу здесь, как сыч в дупле, – думал я, – так ничто не мешает мне создать полный путеводитель. Сухопутный, с позволения сказать, перипл! И когда Цезарь решит расширить римские границы на северо-восток, у наших военачальников под рукой будут все необходимые сведения! Возможно даже, само решение о завоевании земель на великой реке Истр будет принято по прочтении моей поэмы. И вот тогда лавры своего рода первооткрывателя и как бы первопроходца новой провинции мне обеспечены. Тут уже можно будет говорить о подлинных государственных заслугах!»
У этого замысла, совершенно безнадежного, одно положительное свойство все же имелось. Чтобы расширить свои возможности по изучению Истрии, я был вынужден выучить вначале наречие фракийцев, а затем научиться понимать и сарматов. Так я смог общаться не только с полуэллинами, знавшими греческий, но и выпытывать различные подробности у местных поселян. Хороша ли дорога до Каллатиса? Можно ли проехать на груженой телеге к Дионисополю по весне? А получится ли накосить к востоку от Гекатополиса травы на пятьсот лошадей? А правду ли говорят, что выше по Истру есть узина, где один берег от другого отделяют лишь двести шагов?
Познакомившись с фракийскими землями ближе, я понял, что мои скорбные элегии – самое большее, чего заслуживают Томы и их окрестности. Сколько в болото ни всматривайся, там все равно лишь тина и лягушки. «Расчлененка» – она, как говорится, и в Африке…
Мне сделалось тошно, когда я признался себе, что употребляю свои ночи на то, чтобы выставить Островом Блаженных унылый пустырь размерами в пол-Италии.
«Истрии» не будет! Я сжег все наброски, благо не впервой.
Оставил лишь один забавный отрывок о ловле рыб – с ними у меня отношения особые, поскольку зверь мой горний – пара серебристых кефалей.
Я назвал отрывок «Хорошо ловится рыбка-мидянка», но, подозреваю, в историю он вошел как какая-нибудь занудная «Наука рыболовства». Если она еще не кончилась, эта история.
Но возвратимся же к моему ученичеству. Через полгода произошло то, что я, увидев Барбия впервые, обнюхав Барбия впервые своим аристократическим носом, наконец, услышав Барбия впервые со всеми его «лана» вместо «ладно», «покедова» вместо «до свиданья», никак не мог предположить. Мы с Барбием стали друзьями.
Гладиатор и Терцилла
9. – Кто ты? Поэт, говоришь? – спросил Барбий при нашей первой встрече. – Эге… А я, знаешь, большим человеком в Италии был. Ланистой!
«Ну уж конечно. Ланиста большой человек, куда до него какому-то поэту», – подумал я.
– Из гладиатора выслужился! – продолжал он. – И отца своего, которого в тюрьме держали, выкупить смог!
– Молодец. А что ты здесь делаешь, в Томах?
– Здесь… Да так, путешествую.
Я понятия не имел, куда Барбий намеревается путешествовать, обосновавшись в Северной Фракии.
Хотя ничего похожего на гладиаторскую школу в Томах не было, Барбий нашел себе работу, подрядившись за счет местной казны учить городскую стражу настоящему фехтованию. Совет архонтов был доволен – все как у людей!
Он происходил, несомненно, из безвестной провинциальной фамилии, но иногда вдруг принимался горячо уверять меня в том, что его отец – всаднического сословия. «Да и родительница моя, можешь считать, тоже, – добавлял Барбий, глядя на меня честными и по-мальчишечьи безответственными глазами. – Просто отцу во время гражданской не повезло, понимаешь?..»
«Просто не повезло» служило Барбию наипервейшим объяснением всех крупных и мелких жизненных пертурбаций.
Единственный наш с ним разговор на державные темы касался плачевной участи легионов Квинтилия Вара, изничтоженных германцами в Тевтобургском лесу. Подробности я узнал из письма Аттика с характерным опозданием на полтора года. Из этого срока две трети пошли на то, чтобы все обстоятельства катастрофы достигли идиллической глухомани, где Аттик сидел безвылазно, а последняя треть – на ожидание ближайшей летней навигации, с которой только и ходили письма.
Я был обескуражен известием. Конечно, я не рыдал и не рвал на себе волосы, но, живо представив себе тысячи молодых ребят, Марков, Децимов и Гаев, которые остались лежать в болотах непогребенными, я отказался в тот день от обеда и до ночи бродил по морскому берегу. Любовался играми дельфинов и думал о вечности.
Там, у моря, меня отыскал Барбий.
– Слышь, Назон, а я Кинефа научил третьему роду притворного отступления! Представляешь? Он таким ловкачом стал, что даже меня в подвздошье уколол! Далеко пойдет!
Я молчал.
– Идем, отметим это дело! Тебя уже обыскались! Все ждут! Компания – отличная! Кинеф, его брат, Маркисс, девчонки!
– У Кинефа твоего морда подлая. Ты с ним поосторожней.
– Да что ты такой кислый?
– А с чего мне быть сладким? Оказывается, германцы три наших легиона полностью вырезали.
Барбия, уверен, это заботило не больше, чем пожар Трои. Но он, уже немного зная меня, изобразил нечто вроде вежливой заинтересованности.
– Под чьим командованием?
– Какая разница?! Ну, Квинтилий Вар ими командовал. Будто это тебе о чем-то говорит.
И тогда Барбий расщедрился на роскошное утешение:
– Значит, просто не повезло твоему Квинтилию!
Так Барбий судил о делах государственных. А вот так – о делах частных:
– Я тебе так скажу: с бабами вообще лучше не связываться. Но не связываться с ними невозможно.
Я, навидавшись в своей жизни пошляков предостаточно, мог наперед представить себе все возможные «а потому». «А потому, друг, давай опрокинем свои чаши и пойдем к шлюхам». Или «а потому, друг, вся жизнь – это бабы и неприятности».
Но Барбий меня ошарашил:
– А потому, друг, если с кем-то и связываться – так с богинями.
– Буду знать. А с кем именно ты посоветуешь? Наверное, сразу с Венерой? Стоит ли размениваться на нимф и наяд!
– Про Венеру я тебе ничего не скажу, – Барбий без тени улыбки покачал головой. – Но Диана…
– Что же Диана?
– А вот послушай…
В тот день со мной расплатилась за притирания Лидия, сестра Кинефа, а я, в свою очередь, из полученных денег смог расплатиться с Барбием, которому был должен за месяц обучения. По этому случаю мы сменили масло в светильниках, взяли на рынке самое дорогое вино (по совпадению – лидийское) и закупили снедь не где-нибудь, а у царя местных колбасников, Пануя. Да-да, в Томах я, точнее мы, проделывали все это сами, будто бы очутившись в Золотом Веке рабских сказок, в котором не было ни господ, ни рабов, а главное – не было римлян! Благодаря чему все народы меж собой были братья! Страшно подумать…
Барбий подлил себе и мне вина – виночерпия при нас ведь тоже не было, потому как Золотой Век – и начал свой рассказ.
– Я, как ты знаешь, молодым продался в капуанскую гладиаторскую школу…
– В какую из трех?
– Э, друг, – Барбий нахмурился, – погоди. Я только начал, а ты мне уже не веришь!
– С чего ты взял?! Верю! Просто интересно.
– Нет, так я не согласен. С чего это тебе «просто интересно»? Какой интерес тебе в таких мелочах?
– Не хочешь говорить – не надо.
– Ладно, Назон, ты только больше не спрашивай. Я, знаешь, не люблю, когда меня так вот неожиданно спрашивают. Тебе говорили, что ты на судью похож?
– Нет. А что – похож?
– Очень. Когда ты вот так смотришь-смотришь, будто хочешь в самую печенку человеку вглядеться, а потом ка-ак спросишь!
– Но я же не судья! И не дознаватель!
– А когда-то был. Скажи: был?
Проницательность Барбия плохо вязалась с его обычным простодушием. Я был впечатлен.
– Служил немного. Триумвиром по уголовным делам.
– О! Триумвиром! Я же говорю!
– Раз ты угадал, значит ты прав: что-то такое во мне осталось. Впредь обещаю на твою печенку не смотреть. Ну так что там в Капуе?
– В Капуе… в Капуе… Погоди, а что там?
– Ты нанялся в одну из гладиаторских школ.
– Ага. Я, конечно, выбрал ту, где платили больше всего – Юлианову…
Действительно, есть в Капуе такая школа. Ее, между прочим, основал не кто-нибудь, а Гай Юлий Цезарь – как явствует из самого названия. Впрочем, факт этот достаточно широко известен. Я, к примеру, в Капуе сроду не бывал, а знаю.
– …И, надо сказать, поначалу все ладилось. Ланиста по имени Пелоп, который появился там незадолго до меня, учил на славу. Так вышло, что большинство других новобранцев, обученных предыдущим ланистой, мне уступали. Пусть и не очень, потому что какой-то опыт настоящих боев у них уже имелся, а у меня такого еще не было. Но тут как раз представился случай. То ли наши очередных пиратов в море извели, то ли снова Германию завоевали, только были заявлены пятидневные игры. Все как положено: и звериная травля, и убиение осужденных преступников, и уж, конечно, бои. И вот с преступниками-то мне и повезло, а остальным не очень. Потому что были они как раз пленные пираты… Ага, значит над ними победу и праздновали, точно. А эти подлецы свое дело знают. Меч, копье, кинжал, топорик – это все им как плуг для пахаря. И даже зная это, городские власти тогда постановили, что семерым пиратам, по жребию, будет разрешено взять мечи и биться с гладиаторами. Всех остальных, на кого жребий не выпадет, затравят львами. Потом на львов будет колесничая охота, а вот потом уже наш брат станет биться с вооруженными пиратами. Разумеется, насмерть. Наши похвалялись: «Что нам эти провонявшие селедкой разбойники? Они только на море храбрецы! А как на песок, залитый кровью их товарищей, выйдут – враз обмочатся!» Но тут они поторопились. Все катилось по наезженной колее, пока на арене не появились пираты. Из первой схватки молодчага Азиатик, был такой, вышел победителем, но с арены его пришлось уносить – так его изранили. Но во втором поединке победил пират! А когда публика потребовала, чтобы он пощадил своего поверженного соперника, он, подлец, все равно перерезал ему глотку! Да еще и смеялся! Так что пришлось нашим биться с ними всерьез. И пока еще пятерых упокоили, я не я буду, дюжину своих потеряли! Представь, что в цирке творилось! В Капуе со дня основания такого не видывали! И вот остается последний, самый страшный. Косматое чудовище невесть какого роду-племени. Может даже и не человек вовсе! А в руках у него – палица размером с настоящее бревно! Вся медью обита и гвоздями утыкана. Гладиаторы тут обступают ланисту со всех сторон и говорят: «Пелоп, а Пелоп. А давай-ка мы новенького, твоего любимчика, проверим. Жрет он за троих, только в деле его пока никто не видел». Пелоп на них прикрикнул, чтобы не мутили воду, но я решил, что если сейчас сам не вызовусь, то, раз я все это слышал, меня сочтут трусом. А уж если тебя, друг, гладиаторы трусом опредметили, то жизни тебе в школе не будет. Рано или поздно сам в петлю залезешь.
– И ты вышел на бой с пиратом…
Барбий, от которого я с затаенной скукой ожидал многословных подробностей, вдруг порадовал меня невероятным лаконизмом:
– Верно. И убил его.
Сказав это, он замолчал.
– Наверное, это было нелегко? – спросил я ради приличия.
– Это было бы нелегко, – уточнил Барбий, – если бы не удача. Пират-чудовище замахнулся своей палицей, которая, как показалось мне в тот миг, уперлась в солнце. Я ушел от удара – мне лишь слегка расцарапало локоть. Навершие палицы ударилось о землю… и, представь, эта штука, которая была немногим короче корабельной мачты, хрустнула и переломилась пополам! А из ее сердцевины посыпался дождь желтых муравьев!
– Муравьев? – переспросил я недоверчиво.
– Да! Мерзкие насекомые, которых я всю жизнь ненавидел, сделали мне подарок! Выгрызли палицу изнутри! Она, оказывается, держалась на честном слове!
– Так не бывает.
– Я что, по-твоему, вру?
– Нет-нет, что ты… Наверное, просто спутал их с какой-то другой зловредной мелюзгой.
Барбий был непреклонен:
– Знаешь, Назон, если я сказал «муравьи», так будь уверен: ты не ослышался. И на зрение я не жалуюсь. Ты прав: так не бывает. Но так – было. И, пока косматый болван, точно как ты сейчас не веришь своим ушам, не верил своим глазам, я подскочил к нему вплотную и нанес одну за другой восемь ран. Не менее трех были смертельными! Но мерзавец не умер и даже устоял на ногах! О, уверяю тебя: зрители взревели! Встали на уши! Если бы трибуны были деревянными – не миновать крушения!.. Кстати, я тебе не рассказывал, как на моих глазах в Вольтурниях рухнул деревянный цирк и заживо похоронил десять тысяч?
– Нет.
– Ха, про это надо рассказать обязательно! Но слушай же пока про мой знаменитый бой…
В конечном итоге, я не обманулся в своих ожиданиях: подробностей избежать не удалось. Согласно Барбию, раненый пират, с каждым вздохом проливая из ран «не меньше секстария» крови, сгреб гладиатора в охапку своими ручищами, сжал и немедля сломал половину ребер. Барбий еще раз ударил его мечом, вырвался и бросился бежать. Пират – за ним. На трибунах свистели, улюлюкали и умирали от хохота. Камни, из которых был сложен цирк – и те тряслись в экстазе.
Несомненно, Барбий рассказывал интереснейшую и правдивейшую из всех историй, какие мне доводилось слыхать в своей жизни. Но пора было уже как-то переходить к Диане, клянусь ларами!
– И вот тогда я, сквозь кровавый пот, застивший мне глаза, увидел её, – торжественно сказал Барбий.
– Диану? – спросил я, затаив вздох облегчения.
– Увидел Терциллу! Разряженная милашка сидела в дорогом ряду и пожирала меня глазами!
«Та-ак… Терциллы нам только не хватало».
Вообще, следует сказать, Барбий отличался восхитительной способностью без предупреждения вытаскивать на свет имена, примечательные случаи, а порою и целые жизненные пласты. Причем делал он это с такой непосредственностью, будто слушатель – его душеприказчик, да что там, биограф, и уж конечно все ловит на лету, с полунамека.
Меня в связи с этим не раз посещала мысль, что Барбий ведет себя как прославленный герой былых значительных дней. Деяния такого героя, его родня, возлюбленные и недруги, приходят к нам из поэм и гимнов. Они отпечатываются в нашей памяти, да так выразительно и четко, что их подлинность ставит иногда под сомнение подлинность нашу собственную. Представляю себе как Ромул вырвался из страны мертвых и зашел ко мне на огонек. Ромулу, а точнее – тени Ромула, – при упоминании Рема не потребовалось бы объяснять мне, что, де, у меня, друг Назон, был такой брат, а вскормила нас с ним – представь себе, примечательнейший факт! – одна благодетельная волчица. Именно волчица, да-да!
Ну так вот. Ромула вскормила волчица, а наш герой Барбий увидел Терциллу. Кому что неясно?
– Терцилла была… она была такой чистой, такой красивой, что у меня дыхание сперло. Лицо узкое, умное, как морда породистой иберийской кобылы. Нос сильный, правильный, а брови – как у царицы! Кожа – белая, лилейная. Глаза же – как два черных алмаза, как две звезды и взгляд такой вдумчивый… Кстати, взгляд Терциллы говорил о многом. О, уверяю тебя! Это придало мне сил! И тогда, друг Назон, я резко развернулся, бросился на догонявшего меня пирата и нанес ему девятый удар! Прямо в горло! Только после этого он упал на колени и был мною обезглавлен. Очень вовремя, потому что и сам я, признаться, уже мысленно распрощался с жизнью. Я стал героем дня, меня трижды обнесли на руках вокруг арены! Когда я залечивал раны, за мной ходил лучший лекарь Капуи! Обжирался я в те дни, как боров. Терцилла, как и многие другие богачки, отправляла мне в казарму громадные корзины снеди. Я, клянусь Марсом, мог бы спокойно открыть свою лавку и зарабатывать торговлей дареными деликатесами! На таких харчах я выздоровел за неделю.
– Как говаривал Меценат, – вставил я, – все люди делятся на две категории: одних обжорство убивает, других лечит. Похоже, ты относишься к счастливцам из второй.
– А то! Все раны зажили, как на собаке! И стоило мне выздороветь, я сразу же получил приглашение от Терциллы, переданное ею через служанку. «У всех баб одно на уме», так я тогда подумал. А потому, приняв приглашение, отправился к ней в гости, ничуть не сомневаясь в дальнейшем, так сказать, течении дел. У калитки меня встречает служанка, провожает в атрий и… что я вижу?! Назон, вижу я такую красоту, какую и за миллион не купишь! В центре атрия стоит статуя Дианы-охотницы. Белая, свежая, как вишневый цвет. Вокруг нее в стенах – три ниши. В одной – Юпитер, в другой – Феб, а в третьей… статуя из третьей ниши, похоже, разбилась, потому что там только чьи-то ступни на постаменте видны, а больше ничего нет… Что бы это значило, а, друг Назон? – Барбий озорно подмигнул мне.
Конечно же, предполагалось, что я отвечу «не могу знать». Но я был честен:
– Позволю себе высказать предположение, что твоя Терцилла решила заполнить пустующую нишу новым изваянием. А именно – твоим.
– Но как ты догадался?!
– Уж извини, я разбираюсь не только в поэзии и бывать мне приходилось не только в Томах. Новомодные причуды знати мне известны не понаслышке. То потребуют изваять Ганимеда с чертами популярного мима, то закажут Геркулеса с обличьем любимого возницы.
– Умный ты, Назон, как та корова, которая от трех быков за раз телится. Может, в таком случае, ты мне расскажешь что дальше случилось?
– Дальше не знаю. Но то, что в твоем рассказе наконец появилась обещанная Диана-охотница, пусть даже и в виде статуи, меня обнадеживает.
– Тебя-то обнадеживает, наверное. А вот я, когда узнал, зачем Терцилла меня позвала, поначалу обиделся. Я-то думал, она хочет того… А у нее, оказывается, к тому времени в гостях уже сидел скульптор… Гречишка, разумеется… Зеноном назывался. То ли отпущенник, то ли свободнорожденный, сама Кумская сивилла не разберет, но держался он царем царей. Так, будто это он, он сам, своими руками высек из горного хрусталя и море, и небеса, и всех людишек из глины налепил. А речь! Ты бы послушал! «Хайре, то есть приветайствую… Сейксяс я тебя посмотрейон… Тяк… Тяк… Повернийтесь, мюе гетайр… Наклонийтесь… Кякой занимайтельный фюзис…» Тьфу! Этот Зенон как нарочно кривлялся! А моя Терцилла благосклонно кивала каждому слову урода! Сущая пытка, друг Назон. Правда, душой кривить не стану: когда я узнал размеры вознаграждения, я сразу примирился с необходимостью слушать паскудного Зенона в течение нескольких месяцев. Вот так и получилось, понимаешь ли, что я намеревался связаться с бабой, а связался с богиней.
– Маловато логики. Из сказанного тобою вытекает, что ты хотел связаться с бабой, а связался с мужиком.
– Тьфу на тебя, Назон. Не расскажу больше ничего! Слишком ты легкомысленный! А история у меня серьезная, – подвел черту Барбий и на глазах помрачнел, как будто почернел даже.
Ни о богинях, ни о женщинах в тот день мы больше не говорили. Но я чувствовал: мне суждено узнать всю правду.
10. Так и вышло. Месяц на небе похудел и когда до новолуния оставалось два дня – тяжелых, как мельничные жернова – Барбия вновь прорвало. Видать, в новый лунный месяц он хотел вступить с чистой совестью, как выражались мои бывшие коллеги по уголовным заседаниям.
Как выяснилось, история, рассказанная Барбием, нисколько не относилась ни к гладиаторским побасенкам, ни к сказам о том, кто, где и как блудил. И конец ее настолько не вязался с зачином, что хочется предположить, будто вначале Барбий был в настроении красиво наврать мне, но потом отчего-то врать раздумал.
Итак, новоиспеченная звезда гладиаторской арены Барбий принялся ходить к Терцилле, позировать для статуи Геркулеса. Старую статую, по словам домоуправителя, разбили нерадивые рабы – устроили драку из-за одной беспутной девчонки, вот в пылу драки-то…
Скульптор Зенон показал себя человеком дельным, хоть и задавакой. Своей мастерской в городе он не имел, да и иметь не хотел, предпочитая исполнять сложные скульптуры прямо на дому у заказчика. Заказчиками же выступали сплошь знатные мироеды, дома у них были обширные, да и народу там толклось обычно столько, что одним зеноном больше, одним меньше…
В доме Терциллы Зенону отвели сарай, приставили к нему двух помощников и, считай, зачислили на довольствие. Кормили отменно, угождали, оказывали почести.
Такая жизнь скульптору нравилась, поэтому с Геркулесом он не спешил.
Терциллино семейство принадлежало к всадническому сословию. Патер фамилия по имени Клодий, отец Терциллы, был мужчина моложавый, толстомясый и веселый.
В меру сил занимался Клодий шлюхами, в меру сил – делами (и рудники у него имелись, и цветочные плантации, и лавки благовоний повсюду, даже несколько в Городе).
Первое в пороки записать было трудно, поскольку мать Терциллы умерла родами, жениться же во второй раз Клодий не стал. От добровольных сватов отбивался он цитатами из греческих философов – убежденных педерастов и лютых женоненавистников.
Батюшка Клодий проводил время в разъездах, души не чаял в Терцилле и Фурии (так звали брата-близнеца Терциллы), смотрел на все проделки детей сквозь пальцы и на средства не скупился, раздумывая лишь над тем, что бы еще такого подерзее выкинуть – в смысле денежных трат.
Это была его идея: заказать для дома баснословные росписи и дорогую скульптуру, чтоб как у самого Цезаря. Предшественник Зенона Никанор, тоже гречишка, был так рад щедрому заказу, что изваянию Юпитера придал черты Клодия – очень уж хотел подольститься.
Целые дни Терцилла проводила под надзором своего брата-близнеца Фурия.
Странным малым был этот Фурий.
Делами и службой не интересовался вовсе, женщинами – тоже, хотя был отчаянно красив лицом и прекрасно сложен. Казалось бы – влюбляйся сколько влезет. Но нет! С большой охотой Фурий бренчал на кифаре, читал какие-то сомнительные мистические книжки (судя по описаниям невежды Барбия – пифагорейские), любил гадания и безделье. При этом был чудовищно обидчив, нервен и болезненно привязан к Терцилле.
Стоило Терцилле задержаться на рынке на лишний час, как дома ее ждала гнусная сцена – Фурий рыдал и вопил, Фурий грозился покончить с собой и рвал на себе волосы – в общем, куда там Еврипиду с его трагедиями.
Проницательный Барбий отмечал, что именно из-за Фурия, а не из-за папеньки, Терцилла досидела в девках до двадцати семи годов.
– У нее и хахалей-то никаких не было, представляешь? Я девой ее взял! Невинной девой! – шептал Барбий и глаза его сумрачно блестели.
– Ты же говорил, она жрицей при храме Божественного Юлия состояла? Может, этим все и объясняется, друг? – предположил я.
В общем, Терцилла была не замужем. Терцилла была девственницей. Терцилла была красива и несчастлива.
Этих трех обстоятельств опытному в любовных делах Назону хватило, чтобы с гарантией предсказать: неприступная Терцилла обязана влюбиться в Барбия. Потому что боги создали плотины для того, чтобы время от времени плотины рушились, порождая водопады, наводнения и катастрофы, это вам любой вавилонянин подтвердит.
Катастрофой все и кончилось. Но – по порядку.
Вначале Барбий просто ходил к Зенону позировать. Скульптор рисовал, затем ваял отдельные части тела, для пробы. Молился Геркулесу, чтобы научил, какая нога лучше – номер первый или номер десятый? Капризно переставлял Барбия с места на место, вынуждал менять позы и гримасничать по-всякому. Работа не чета гладиаторской. Ни тебе вывороченных внутренностей, ни отрубленных ушей. Но Барбий не был бы собой, если бы его все это полностью устраивало.
– Умучил меня этот Зенон страшно! «Возлозись-ка, мюе гетайр, на кроватейон. Нет. Не тяк. Не возлозись. Восстань-ка там, на этот камень. Тяк! Тяк! Подними свою хейрос. Нет, левикос. Теперь правикос, хорош! Хейрос хорош!» И так целый день. А вот еще было, решили мы с ним в шутку побороться. Оказалось, хватка у него, как у нашего брата-гладиатора! Руки крепкие, пальцы как крючья! Я-то с ним шутя тузился, а он со мной всерьез. Синяков у меня было потом – как пятен на леопарде! И вроде старикашечка такой хилый, а руки стальные. Кто бы мог подумать!
– Сам дурак, – успокоил его я. – Мог бы и в самом деле минуту подумать. Скульпторы-то сызмальства глыбами мраморными ворочают.
Но основная причина недовольства Барбия скрывалась не в сарайчике Зенона, а в женских комнатах Клодиевого дома.
За два месяца его трудов натурщика Терцилла лишь дважды зашла в мастерскую, чтобы посмотреть, как продвигается работа!
Для мужского самолюбия Барбия это было хуже розог.
Он-то уже мысленно записал Терциллу в свои страстные (хотя, может, и платонические) воздыхательницы. И рассчитывал, что не только Зенон будет мускулами на его хейросах любоваться! А тут…
Один раз Терцилла поднесла скульптору и натурщику освежающее питье, исполняя долг хозяйки. Еще раз зашла просто так, поболтать. И все! Бывай здоров! Ни тебе записочек, ни подмигиваний.
Бедняга Барбий чувствовал себя дитятей, у которого обманом отняли сладкую тянучку.
До того дошло, что он даже начал подумывать, как бы контракт раньше времени расторгнуть. Потому что всем нам хочется получать большие деньги, а к деньгам впридачу – чтобы подавали язычки фламинго в винном соусе. И когда язычков не подают…
Угрюмый, скованный скукой Барбий простаивал часы перед Зеноном, изобретая, чем себя развлечь. И всякий раз когда Зенон отлучался по нужде или просто отворачивался, томящийся Барбий выкидывал очередное коленце, на мой вкус – странноватое, на вкус Барбия – отменно смешное.
Однажды Барбий подсадил в чашу с сухой, размолотой в пыль белой глиной цыпленка – когда Зенон появился, птенчик выпорхнул из миски и с отчаянным писком бросился наутек. Зенон, который был трусоват и суеверен, от неожиданности лишился чувств и набил на затылке шишку. В другой раз, когда Зенон заставил его позировать в атрии – там, мол, освещение подходящее – Барбий битых два часа вынужденно любовался статуей Дианы-охотницы. Изгибами ее восхищался, красотой сосцов и непорочностью взгляда. А когда Зенон пошел кликнуть рабов, чтобы принесли подслащенной медом воды, Барбий («сам не знаю что на меня нашло, друг!») изловчился и… поцеловал статую в губы!
– Я только недавно понял, что после этой шутки все началось, – сказал Барбий с тоскою.
«Шутил бы ты лучше с людьми…» – подумал я, но благоразумно промолчал. В конце концов, речь наконец-то снова зашла о Диане!
Через несколько дней уже знакомая Барбию служанка Терциллы ткнула ему в ладонь записку. Терцилла предлагала Барбию встретиться в священной роще за чертою города – неподалеку у семейства имелась еще одна вилла. Барбий ликовал. Барбий справлял триумф! Все-таки не обманулся!
– Я хочу, чтобы ты познал меня, Барбий. Потому что я люблю тебя. И буду всегда любить, – сказала Терцилла и сбросила одежды.
Вокруг было тихо, как бывает летом сразу после рассвета. Обочь, звякая о зубы грубым медным трензелем, жевал траву чубарый терциллин конь, две охотничьи собаки гоняли лягушек по камышам – пока домашние спали, хозяйка выехала на конную прогулку.
– Что ты думаешь я сделал тогда, а, друг? – спросил меня Барбий вкрадчиво.
– Наверное, сделал что она просила, – осторожно предположил я.
– Не сделал.
– Ну тогда… упал перед ней на колени и сказал все то хорошее, что о ней думал! А потом – …
– Нет же! – досадливо отмахнулся Барбий, нехотя выныривая из омута своих воспоминаний.
– Тогда – принялся скакать козлом, ударил ее палкой, показал ей стойку на руках… Да откуда мне знать!
– Я сказал Терцилле: будь моей женой.
– Опаньки!
– Так.
– А она?
– Она прошептала: «Еще не время».
– Да ты смел, друг! – искренне восхитился я. – Вот так сразу – и женой!
– Понимаешь, я вдруг понял, что я ее тоже люблю. И буду любить всегда. А поэтому все равно, станем мы сейчас вот это самое, или нет.
Потом Барбий и Терцилла все-таки сделались любовниками в расхожем смысле этого слова.
Терцилла призналась Барбию, что все то время, пока тот позировал Зенону, она наблюдала за ним через тайное отверстие в стене. И, вместе с мрамором, обретала форму ее любовь к гладиатору. Из-за врожденной застенчивости она боялась открыться, пока не увидела вещий сон, как будто она – Диана и все ей ни по чем. Сон поощрил Терциллу к смелости.
А Барбий рассказал Терцилле о том, как несчастен и одинок он был все то время, пока не знал Терциллы.
В общем, «ебля – ничто, любовь – все», как учили нас Платон и Аристотель, а также киники, софисты и досократики.
Богатый, разноцветный узор дальнейшей судьбы наших влюбленных уже явственно Назону рисовался – там и горячий шепот тайных встреч, и милые безделки в подарок, и поцелуи в ночном саду – это они волнуются в узоре бирюзовым, лазоревым и алым. А вот обугленными ежевичными лозами вьются грозные недруги с их шипами и кознями – ревнивый братец Фурий, маразматик-батюшка плюс доносчики-слуги, а в придачу к этому – Зенон что-нибудь там выкинет, подтвердив мысль о том, что все скульпторы психи. Понизу же бурой лентой вьются в орнаменте соображения общественные: мезальянс, бедность и безродность Барбия. Это Назону можно заливать про свое всадническое происхождение. А Клодию нужны бумаги с печатями.
Конфликт, я бы сказал, классический: как опрокинуть хрустальным копьем взаимного любовного чувства железного слона по имени Мир Людей?
11 . Терцилла и Барбий начали тайно встречаться.
Любовные утехи – тяжелый труд, говорю как ветеран. Но когда имеется муж или докучливый родитель, любовь – каторга.
Легче быть персидским шпионом, торговцем живыми скорпионами, банным вором, чем тайно любить.
Ты всюду опаздываешь, всем должен денег, ты вздрагиваешь среди ночи, озираешься на улице, в каждом незнакомце мерещится тебе соглядатай. Даже прижимая к себе любимую, ты не счастлив до конца, разве что одно мгновение – то самое мгновение.
Кому из тайно любивших не знакома изнуряющая, крестная тоска, ведь ее рядом нет именно тогда, когда больше всего хочется, чтобы была?
А совесть? Да, на твоей стороне сама ясноокая Венера. Но остальные-то боги – на стороне супротивной!
И еще вот что. Ты знаешь: не закончится это, не прекратится усилием твоей воли. Это как пьеса в театре – сюжет должен быть отыгран до конца, глупцы – посрамлены, виновные – наказаны, благородные увенчаны. И не прервать тебе представления, потому что зрители собрались, потому что представление вообще невозможно прервать, хоть благим матом ори. Остается только таиться и лгать, лгать, лгать. Ради того, чтобы еще раз взвесить на мизинце ее льняной локон.
О том говорил и Барбий.
А ведь кроме любви была у него еще и рабская его гладиаторская лямка! Крохотная комнатушка в казарме – величиной с клетку для пантеры – упражнения до седьмого пота, гастроли. Фортуна тоже положила глаз на Барбия и хотела сделать его не звездой – звездищей арены.
Но если бы только это.
– Когда мы впервые с Терциллой это самое… у них на вилле двое рабов ночью умерли, вроде как несвежей рыбой отравились. Мы тогда значение этому не придали. Но потом я назначил ей встречу в городе, каморку в одной инсуле снял, недалеко от нашей школы. Пришла Терцилла моя, я вина купил, закусок, цветов, украсил все – честь по чести. Устроили мы там с ней форменные острова блаженных! Хвала богам, Фурий как раз поехал за город, тетку навещать, и Терцилла почитай до утра со мной оставалась. Сколько буду жить – той ночи не забуду, друг! А утром раненько, затемно еще, я к своим засобирался, да и она со мной выскользнула. И как только мы из дому вышли, дом этот…
– Обвалился? – подсказал я.
– Ну вот! Опять ты перебиваешь! – лицо у Барбия стало багровым, гневным, будто это я лично уронил разнесчастную инсулу. – Да, взял и обвалился! Представь себе! И кучу людей угробил, спали ведь еще! Так и повелось. Где мы ни встреться – там несчастье. Сняли халупу у одной ткачихи, на окраине, так не успели мы с хозяйкой за постой расплатиться, как ее сынишку конь копытом насмерть зашиб, когда тот денник чистил. Однажды встретились на опушке леса, от людей подальше, от греха. Миловались от души – два месяца не виделись, ну, ты понимаешь… Думали, на этот раз сойдет без происшествий. Вышли на дорогу проселочную, мятые-перемятые, но радостные такие, спокойные! А навстречу нам, из деревни, старик ковыляет. Лицо перекошено, клюкой машет. «Слышали, – говорит, – только что волк девушку зарезал! Средь бела дня!»
– Плохи дела.
– И не говори… В такой-то компании нам уже и Фурий не страшен был. То есть страшен, но не так, чтобы ядом травиться. Прознал стервец про наши плутни, начал девочку мою поедом есть. Грозился отцу рассказать. Пугал, что оставит без наследства. По полу катался, орал. Терцилла все это мне рассказывала, а мне только в задницу Фурия трахнуть хотелось. Рукоятью гладиуса. Я так думаю, у него были какие-то мужские к ней претензии, к моей Терцилле. Иначе с чего бы это ему так ее девственность блюсти? А со мной гаденыш держался ровно, как будто ничего не происходит. Зайдет к нам с Зеноном, башкой своей ухоженной покрутит, дурость какую-нибудь блякнет, про искусство. И вежливенько так – к себе, как небожитель какой… Просто два разных человека! Что ты на меня смотришь так, друг? Вот скажи, скажи-ка, что мне было делать? Убить Фурия этого? Можно подумать, они Терциллу замуж за меня отдали бы! Ни в жисть! Вскоре начали мы о побеге думать всерьез. Решили в Карфаген урвать. Правда, одна мысль меня страшила – как бы кораблик наш вместе мореходами не того, в самом синем море… Но все равно – мечтали, я даже раба-пунийца купил. А Терцилла деньги принялась втихаря откладывать. Я тоже делишки принялся сворачивать, чтобы, когда срок придет, школу свою родную послать к цезаревой матери.
– Я думал, это сложно – уйти из гладиаторской школы.
– Смотря кому. Если ты – номер один, не очень сложно. Деньги в кассу – и краями! Ланисте тебя особого резону держать уже нет – знает он, что ты от славы и денег обленивел, да и публике поднадоел. Герои тоже приедаются, как бобы с подливой. Словом, из казармы я не выходил, деловой весь! Однажды так закрутился, что там и Терцилле встречу назначил, в каморке сторожа, который тварей для звериной травли стерег. К тому моменту я уже в авторитете был, все мне было можно… Ничего у нас с ней тогда не было, целовались разве только. Потом проводил я ее, как положено – слуг-то она с собой не брала никогда. А когда я вернулся… В общем, пожар у нас в школе случился. Шестнадцать человек сгорели заживо. Искали причины, да ничего не нашли. Будто сам Юпитер перун метнул – прямо в казарму. Гадали-гадали, виноватых ловили, распяли даже кого-то, для порядку. Но я-то знал, что всему виной… ну… мы с Терциллой.
– Может, всему виной Юпитер? – предположил я. – Ведь это он перун метнул!
– Но ведь гневался-то он на нас ! Терцилла моя была вне себя. Я такой ее не видел никогда, в конвульсиях билась. Рыдала так жалостливо, остановиться не могла, с лица спала. Из-за меня, говорит, из-за срамницы, погибли мои любимые бойцы! И Ликург Золотые Зубы, и Базилевс Галльский… В общем, по именам назвала покойников, и правда хорошие были рубаки, хотя большинство все равно шваль… Терцилла-то страстной поклонницей ремесла нашего была. Всех знала, Марсу каждый месяц жертвы, все как положено. В общем, кричала, металась – как одержимая! И ни за что успокаиваться не хотела! Сорок дней никого не принимала. Говорили, постилась, ездила на богомолье. Но потом мы все-таки встретились. И вот тут, друг, самое ужасное тебе поведаю. Сказала мне Терцилла, что знает наверняка: воля богов такая, что встречаться нам нельзя. И жить вместе нельзя. И любовью заниматься, понятное дело, тоже. Потому что проклятие. И что она именем богов клянется более никогда со мной не встречаться. Поклялась. И меня поклясться заставила.
– Что, вообще никогда-никогда не встречаться? – переспросил я ошарашенно.
– Да. Она сказала: пока какой-либо из богов сам лично ей не укажет, что с гладиатором Барбием ей жить надобно, она ко мне и на сто стадиев не подойдет!
– А ты?
– А что я? Ты думаешь, каково было мне в Капуе жить? Ноги сами к ее дому несли! Думал, свихнусь вообще. А тут еще этот Геркулес…
– Геркулес?
– Ах да, забыл сказать! Вскорости Зенон статую закончил. По этому случаю папаша Клодий соизволил приехать из Города. Цветов в дом нанесли, яств настряпали, одних благовоний столько извели, что потом отхожие места месяц чистым сандалом воняли! Терцилла, правда, к гостям не спустилась – притворилась больной. А Фурий очень даже вышел – волосы завитые, щеки нарумяненные, одежды тончайшие. Ходит, на кифаре бренчит. А гости вокруг статуи стоят, прихлебатели да параситы, и только знай нахваливают. «Гениально!», «опупительно!», «калокагатейно!»
– Статуя-то удалась? – спросил я. – Хорош был Зенонов Геркулес?
Ответ Барбия меня, не скрою, потряс.
– Не знаю. Откуда мне знать-то? Я на нее и не смотрел…
– Серьезно?
– А то! Ты что думаешь, я врать тебе буду? Да пес с ней, со статуей, подумаешь… И вот, когда от гостей уже не продохнуть было, когда Зенона к самому Гомеру приравняли – на ниве мраморной – в этот самый момент статуя взяла… да и упала!
– Сама?
– Сама! Здоровьем клянусь!
– И разбилась?
– И разбилась. Пол-то был каменный. Говорили, постамент сделали неустойчивый, торопились очень…
Барбий надолго замолчал. На его лице сменялись взволнованные гримасы.
– Жаль, – произнес я. – Статую жаль, времени потраченного. Да и Зенона тоже.
– А Зенона чего? Он-то свой гонорарейон получил. Дело не в Зеноне!
– А в чем? – я был сама кротость.
– Видишь ли, друг… Когда статуя упала, я внимательно так посмотрел вокруг себя. И увидел. Геркулес – разбился. А Диана, Юпитер и Феб – стоят как ни в чем ни бывало! Так сказать, божественный папаша и двое его божественных деток-близнецов. Мужеского полу и женского. Надменные такие, небожители. И тут дошло до меня, друг. Дошло! Что Юпитер – это как бы Клодий, даже рожа его, Терцилла моя – это, ясен пес, Диана-охотница, недаром ей тот сон был. А Фурий наш психический – это Феб!
– Хорошенький Феб, – скривился я, уж больно неприглядно выглядел в рассказе Фурий. – Ты хочешь сказать, что Феба с Фурия рубили?
– Нет, не рубили! Но все остальное – сходится! Кифара – это раз, – Барбий загнул мизинец. – Гадания, оракулы всякие, до которых он был охотником – это два, – Барбий загнул безымянный палец. – А потом еще обличье его! Ты бы видел этого Фурия на праздник. Красавец! Возвышенный весь! Однажды он венок получил на состязании музыкантов. Так вот, когда я его с венком на кудрях увидел, ко мне сразу подозрения закрались. Хоть и не по его лекалам Феба ваяли, что рядом с Юпитером и Дианой стоял, но главное с него могли бы ваять! Понимаешь?
– Понимаю.
– А Геркулес – это я. И я – разбился. Видать, никудышный из меня Геркулес, оттого меня Юпитер, Диана и Феб в свою божественную компанию решительно не приняли. И то, что статуя пропала – это знак.
– Но ведь и предыдущий Геркулес тоже разбился, – напомнил я Барбию.
– Гм… А ты наблюдательный, – процедил Барбий, почесывая пятерней затылок. – Я как-то об этом не подумал… Ну… значит тогда мораль такая, что Геркулес семейке этой божественной не нужен. Ни я, ни какой иной.
12. Так начались семилетние странствия Барбия.
Он все-таки оставил гладиаторскую школу и уехал на север, в Верону. Там, на озере Гарда, надеялся он, призрак любви наконец оставит его в покое.
Ради заработка он собрал гладиаторскую труппу и сам стал ланистой. А куда было деваться? Давали представления, угождали властям, трудились.
Однако, веронские воздухи не помогли.
Куда бы ни шел Барбий, в каждой красавице с уложенными венцом косами мерещилась ему Терцилла. В экстатическом визге завзятых болельщиц, коими полнились соты амфитеатра, слышался ему отзвук Терциллиной страсти. И глупое сердце его екало от всякой надушенной записки. А вдруг чудо, вдруг от нее?
Из Вероны труппа отправилась в турне по италийским городам – Барбий рассчитывал, хлопоты путешествия отвлекут его от любовного изнурения.
Куда там! Качаясь в кибитке, полупьяный от усталости и гнилой воды из бурдюков, лишь ее голос он слышал сквозь колесный стон.
На второй год взбешенный своей слабостью Барбий решил жениться. Клин – клином. Нашел себе молодую деву, из вольноотпущенниц. Красивую, домовитую и, как пишут в эпитафиях, добронравную. Отгнусили свадебные гимны и Барбий решил возлечь с женою своей.
– И, веришь ли, друг… Стоило мне взглянуть на эту Мирину на брачном ложе, голенькую такую, малую совсем, пигалицу, как вспомнилась мне Терцилла в тот день, когда она мне открылась. И такая тоска мне сердце сжала, смертная тоска! И понял я, что Мирину не люблю, и не полюблю никогда. А значит, ни к чему все эти матримонии. Короче, выгнал я ее. К такой-то матери.
– Жестоко, – сказал я.
Еще три года Барбий ездил со своей труппой по городам и весям – холостой, бешеный, незабывающий. Когда от Терциллы становилось совсем уж невмоготу, Барбий обращался к рыночным колдунам. Те исправно брали деньги, обрызгивали ланисту заговоренной водицей и снимали любовный приворот. Но спустя неделю Терцилла снилась Барбию опять.
Лишь один странствующий халдей отнесся к проблеме Барбия по-персидски основательно.
– Нужно принести той богине, что наказала тебя такой страстью, добрую жертву. Умилостивить ее. Что у тебя в жизни главное?
– Работа.
– Какая твоя работа?
– Убивать. Я гладиатор.
– Дай обет, что людей ты больше убивать не будешь. Это будет твоя жертва. И тогда богиня смилостивится над тобою. И вырвет из груди твоей жало любви.
Так Барбий дал обет не обагрять меча – до конца своей жизни. Но все одно не позабыл вкус терциллиных поцелуев.
Вскоре Барбий познакомился с одним пройдохой, который уговорил его продать дело, накупить товаров и отправиться с ним в Египет. Накупили. Отправились. Товары, никому не нужные там, да еще и траченые трюмной сыростью, распродали за бесценок. Вдобавок, Барбий еще и малярией заразился, едва не умер. А в бреду – одна Терцилла. Колокольчиками звенит, ножкой, в сандалию обутой, игриво крутит, укоряет, к себе зовет…
Я не разобрал, как именно получилось, что после Египта Барбий оказался в Риме, а потом – во Фракии. Ведь не ближний свет. Впрочем, Барбий и сам, похоже, толком этого не разобрал. По его мнению, слова «я просто путешествовал» все отлично объясняют.
И вот, последний акт нашей драмы. Город Томы. Хор тревожно ведет новую тему.
Постаревшему, погрубевшему Барбию нравится во Фракии. Он растит сад, доит козюлек, ездит на Золотце по холмам и кормит конопляным семенем птиц. Он водит дружбу с поэтом Назоном и ссыльным греховодником Маркиссом. Он считает себя человеком пожившим, никогда не отказывается от знаков почтения со стороны горожан, многие из которых прочат за него своих непристроенных дочерей. Он опытен и кроток. Он давно забыл что такое цинизм, он не боится быть наивным. В его шишковатой голове бродят безумные градоустроительские проекты, которыми он щедро делится с сикофантом Кинефом. Вот только…
– …каждый раз, когда я по городу иду и песню какую-нибудь слышу, я вспоминаю, как пела Терцилла. Как она пела, друг! Она пела так, что декурионы переставали браниться, цветы открывали бутоны, а младенцы пеленки пачкать прекращали и улыбались беззубыми своими ртами. Музыкальные они с братом были – страсть, этого у них не отнимешь… Так вот послушай, Назон. Только не делай это свое лицо, просто послушай! Мне кажется, до сих пор кажется, что когда-нибудь мы с Терциллой еще… обнимемся. Я головой-то понимаю, глупость это, борода вон седая уже… Смешно тебе? Смейся, ладно! Я разрешаю! Но все равно скажу вот что еще: если бы тогда, после пожара в казармах, я предположить мог, что я так сильно Терциллу люблю, я бы никуда не уезжал. Сгнил бы лучше в Капуе, у ее порога.
– Слушай, а может еще не поздно?
– Да ты что, друг? Семь лет прошло! У нее, наверное, уже муж. И дети. За подол ее тянут, мамкой зовут, – на глаза Барбия снова навернулись слезы.
Я отвел взгляд. Вопреки прогнозам Барбия, мне совсем не хотелось смеяться.
– История твоя меня растрогала. Но только понять не могу, почему ты говорил мне, что только с богинями связываться следует?
– Потому, друг, что, несмотря на все мытарства, счастлив Барбий. Не так счастлив, как был бы с Терциллой. Но все одно больше, чем до того, как гречишка Зенон Геркулеса начал ваять. И – гори оно все огнем, как казармы нашей Юлиановой школы.
Так мы и встретили молодую луну – двое пьяных, влюбленных мужичков. А потом Барбий погасил светильник и мы легли спать – вдвоем, на его широкую дощатую кровать без матраса. По давней гладиаторской привычке Барбий всегда стелил себе на жестком.
III. Назон идет в парфюмеры и получает по голове дубиной
1. Был месяц июль. В Томы прибыл долгожданный корабль из Города. Это был купеческий парусник – богатый, новый.
По его лощеной внешности можно было судить о том, что плавание выдалось для корабелов легким – Нептун избавил их от бурь, Юпитер оборонил от пиратов.
Сойдя на берег, купцы, капитан и команда тотчас помчали к ближайшему алтарю, благодарить богов за старые милости и просить новых.
Я уважаю чужие порывы. И все же был расстроен – ждать, пока вынесут почту, придется до самых сумерек, может быть, до утра. Но самое ужасное, если почты для меня не привезли, то получится, что я выцеливаю серых птиц разочарования. Так, не веря в удачу, я и заснул, прямо на берегу, на ушах баранья шапка, непогода на душе.
Но утром Назон был вознагражден. Солнце еще только завершало утреннее омовение, а я уже возвращался домой, прижимая к животу кожаную суму с драгоценной ношей. В суме лежали письма. От Фабии, от Котты Максима, от Цинны, да от всех! Неустрашимый Рим снова мне писал! Родные вы мои, мои столичные.
Мне написал даже Рабирий.
Его письмо я отважился прочесть лишь самым последним. Чувствовал: будут снова травить щелоком мою рану.
Лишь когда я выучил наизусть все, что написали мне жена и друзья, я отважился подступиться к его письму.
Я развернул свиток. Дохнуло щелоком. Сжалось все, заболело. Ну же, смелее, стреляй, о лучник, в мое распаханное горем сердце!
В письме были извинения. Полновесная, непритворная печаль в черном дегте боли.
Вот и дождался – мой сердечный друг решил на объяснение.
Письмо, короткое, впрочем, оканчивалось стихотворением – самым удачным из всех, что написал на моей памяти Рабирий. Верно, это отсвет раскаяния души, упавший на обычные слова, их преобразил.
Проступку моему кары не сыщешь в вере нашей, Все кары мелки в ней, все бледны наказания, Оракул известен – другую веру всесветную Провозвестят завтра крылатые вестники, посланцы небесные Злу мука верная будет в ней положена, А за мукой положено будет искупление. Я же мучусь напрасно, ведь знаю наверное Что умру, о твоем, мой Назон, моля прощении — Без надежды, без устали.Верите? Дойдя до конца, я заплакал, заревел как рыбацкая жена, благо не видел меня никто, кроме запечной мыши.
Понял вдруг, как тяготила меня моя обида, как надоело мне жалеть себя, проданного за грош, как невыносимо это – желать смерти другу, и не скажешь, что бывшему, поскольку бывшими настоящие друзья не бывают, они как настоящая любовь, врастают в тебя, и навсегда в тебе их пламя, а низость их – она как опухоль, как дротик.
Ответ Рабирию я сочинил без обдумывания, экспромтом – хотелось отправить его тем же судном.
Обещал, что попытаюсь простить. Прощение – нелегкий труд, но я не лентяй. Припомнил, что и сам совершил немало скверного. Сумбурно вспоминал наши с ним труды и дни. В довершение признался, что все это время зверски, тайно скучал по нему. И что мечтаю свидеться, ведь прав Барбий, нисколько я уже не мальчик, да и ты, мой Рабирий, не юноша. Поэтому если и впрямь представится тебе возможность тайно посетить Томы, как ты о том сообщаешь в своем письме, радость моя превзойдет даже мое горе от разлуки с Римом.
Бьюсь об заклад, Гораций, окажись он в моем положении, написал бы приблизительно то же. Да и Катулл.
Разве, Гораций отметил бы, что раздоры происходят из отсутствия умеренности в чувствах. А Катулл в сердцах назвал бы адресата пидором и сволочью. Любимой сволочью, понятно.
Когда подсохло на душе, я сложил в суму флакон с оливковым маслом, губку, мелкие деньги – плата за июль – и отправился к Барбию.
Шагал я с удовольствием, насвистывал. В листве придорожных абрикосов сквозили лазурь и празинь, солнечное золото и белый пух облаков.
Что же это выходит, коль скоро Рабирий теперь прощен и помилован, коль скоро убивать его отныне не нужно, фехтование для меня теперь искусство ради искусства?
Вот же забавно! Сколько раз я насмехался над столичными пиитами, что шли на бой с метрами ради самого боя! Как яростно глумился над юнцами с едва опушенным надгубьем, не знающими что сказать, когда спрашивают «И зачем только вы все это пишете?» А вот же и сам стал таким, не знающим зачем. И разницы нет, что искусство другое.
2 . Появление того благословленного Нептуном корабля означало для меня не только облегчение душевного бремени (временное, увы!). Но и нечто еще новое.
Получилось, что капитану этого корабля я отдал свои последние деньги – в уплату за доставку моих писем в Рим. И хотя я знал, что Фабия уже однажды платила – в том числе и за эту почту – жадный капитан стоял на своем. Мол, всё подорожало (что – «всё»? весла? портовые девки?), жизнь моряка тяжела (можно подумать, у поэта жизнь легка!) и без дополнительной платы никакой почты он не возьмет…
Я пробовал спорить, но сумел лишь сбить цену.
Тут вероятно нужно вернуться немного назад. По личному указанию Цезаря передавать мне в ссылку что-либо кроме писем было категорически запрещено – в ссылке не сонями в меду обжираются, а скорбят о совершенном, это ясно.
К счастью, я захватил в Томы некоторую сумму – хитрюга Фабия вшила мне монеты в подкладку меховой шубы (она стремительно купила ее у нашего соседа-легата, ветерана ретийской кампании, когда стало понятно, что моя судьба решена). И, не стану жаловаться, при скромной жизни мне надолго хватило тех денег. И вот – последний золотой с Энеем, выносящим папашу Анхиса на плечах, был извлечен из тайника и пущен в большой мир. Деньги кончились. Ступай, Назон, на подножный корм!
Но даже если я научусь пастись, как конь, на что мне покупать одежду, масло для светильников, чернила? Можно занять у Маркисса. Но как отдавать?
Впервые с молодых лет я вдруг столкнулся с необходимостью что-то этакое насчет своей жизни выдумывать. Первый поэт Рима – это, как выяснилось, не профессия.
Все эти думы нагрянули на пристани, подле корабля. Справа и слева матросы, разложив на земле товар, торговали галантереей и украшениями самого последнего разбора.
Цены были несусветными. Спрос – штормовым.
За позолоченные медные бусы здесь, в Томах, давали столько же, сколько в Риме стоили бы золотые!
Уходило все. Блеклые иконки юноши-Цезаря, пышнотелой Венеры и похожего на форумного менялу Меркурия. Сувениры. Кособокие статуэтки. Амулеты. Отрезы дешевой ткани. Матросы только руки потирали. Они, как и я, не ожидали, что у жителей облезлых Томов такое количество свободных денег и такая тоска по культуре. Это у вас что – серьги? Давайте мне ваши серьги. И еще вот эти, с камушками. А это что? Заколка для волос? Говорите, последняя римская мода? Гм… Беру! И эту заколку тоже беру. И вот эту шкатулку. Поломан замочек, говорите? Не беда, починим. Вот в нее серьги и положите…
Рядом с собой я заметил Лидию, младшую сестру сикофанта Кинефа, потную, крупную деву, с прямым сильным носом, изрядной грудью и нечистым лицом.
Сплетник Маркисс многословно рассказывал мне о ее матримониальных перипетиях. Она рано овдовела, к ней беспорядочно сватались, но она всем отказывала, что твоя Пенелопа. А Кинеф, желая сестре семейного счастья, все вербовал кандидатов в мужья – вода, мол, камень точит… При определенном освещении Лидию можно было бы счесть красивой – с поправкой на местные вкусы. Если бы только не россыпи розовых гнойничков на лбу и щеках.
– Это у вас что? – спросила у продавца снадобий Лидия, указывая на стеклянный кувшинчик с запечатанным воском горлом.
– Микстура от чахотки. Действует мгновенно!
– А вот это?
– Притирания для лица. Отбеливают кожу, устраняют морщины и прыщи! Прыщи как рукой снимает! Сама Венера сообщила этот рецепт нашему лекарю! – купчина многозначительно возвел взгляд к небесам.
– И сколько стоит? – глаза Лидии заблестели.
Прозвучавшая сумма заставила Лидию подавленно умолкнуть. Она лишь угрюмо кивнула – мол, конечно, если сама Венера, так оно, понятно, что цена кусается. Да я и сам дар речи потерял! Некогда за эту же цену я купил раба-африканца, плетельщика венков, в подарок Фабии.
– Можно понюхать ваше притирание? – вмешался я.
– Такому просвещенному господину разве откажешь! – льстиво осклабился продавец. Чмокнуло освобожденное от пробки горлышко кувшина.
«Если у каждой замарашки здесь водятся деньги, то у этого-то столичного хлыща их должно быть несметно!» – читалось в его алчных глазах. Я поднес кувшинчик к носу.
Ага, суду все ясно. Белая глина, измельченные водоросли, масло эвкалипта. Спрашивается, с какой стати драть с несчастных девиц три шкуры? Тут меня осенило.
– Послушай, Лидия, за вдесятеро меньшую сумму я изготовлю для тебя такое же точно притирание, – шепнул я на ухо девушке. – Даже лучшее.
Лидия испуганно глянула на меня – боялась ослышаться.
– Ну так что, голубки мои? Берем? – нетерпеливо поинтересовался продавец. В своем воображении он уже связал нас узами если не Гименея, то алькова.
Прошло два дня. Притирание для Лидии было готово. Вместе с двумя другими, совершенно незаменимыми в ее недуге средствами.
– Что еще ты умеешь делать? – спросила радостная Лидия.
– Отбеливающие средства. Отшелушивающие. Питательные. Очищающие. Мази и притирания. Примочки и маски. Мыло. Даже духи «Египетские ночи». Было бы сырье.
– А что такое – «духи»?
Прошел месяц и я обзавелся деньгами и тем, что мой столичный брадобрей называл емким словом «клиентура».
За Лидией потянулись состоятельные неряхи, все как одна – с прыщами да угрями. Других, постарше, привел Маркисс – с некоторыми из них он был знаком накоротке, с другими только перешучивался. «Мамочки мои» – ласково называл их Маркисс. Этим, как и Маркиссу, были потребны средства в первую голову молодильные. Легко! У Назона всегда в продаже наилучшее! Молодиться я умел и знал толк в этом занятии. Шутка ли угождать жене на двадцать лет младше тебя?! А войны с прыщами я вел всю мою юность и каждый раз оканчивал их громким триумфом.
Под надписью «Публий Овидий Назон, ссыльный поэт», теперь появилась еще одна:
«Притирания для лица».
3. Денег прибавилось, свободного времени стало меньше.
Вервие забот связывает тебя по рукам и ногам теми же перехлестами, что и вервие бед.
С бедами понятно: вначале сломал ногу, потом тебя бросила любовница (ты же к ней не ходил – вон значит из сердца!), потом кончились деньги (пошли на врачей) и насели кредиторы (эти чуют безденежье шестым чувством).
Дальше хуже: элегию, на которую ты возлагал надежды, изругали, потому что в ней, как выяснилось, перебор по визгу и мольбам, а они желают смеяться! влюбляться! а если и грустить –то совсем чуть-чуть, а не так вот, до дурных слез! А там уже и писать ничего не хочется, хочется удавиться.
То же с заботами. Наивно думать, что ты просто купишь себе домик в деревне – на последние, еще не проигранные в кости деньги – и будешь в нем жить-поживать да творить шедевры. К домику придется прикупить корову, чтобы пить ее молоко. И огород с садом – это твои овощи и фрукты. И обязательно двух злющих кобелей, чтобы охраняли корову, сад и огород. Потом ты обзаведешься женой – кто-то же должен кормить собак, огородничать и доить корову? Следом – дети, вторая корова, поле, плуг, наемные работники, бражка на праздники и пеленки полощутся стягами… Никто не пишет тебе – и правильно, ты и сам хрен себе написал бы.
В общем, пришлось пристроить к моему земляному домишке еще две комнаты и вырыть погреб.
В одной комнате я принимал клиентуру – вскрывал острой иглою девичьи гнойники, накладывал на морщинистые лица целебную грязь напополам с рыбьим жиром. В другой готовил снадобья – смешивал перетертую в пыль траву шалфея с медом, молол ручной мельницей абрикосовые косточки – соединившись с глиной и сметаной, они прекрасно очищали лицо.
В погребе я хранил травы, масла, сметану. Там же я скрывался, когда становилось невмоготу.
Назон чувствовал себя водовозным мулом. И в кувшинах на моей спине, подозревал я, не голубая колодезная вода, но речной песок – илистый, грязный.
Впрочем, так всегда бывает, когда ты начинаешь просить у небес не песен и золота, а золота и песен. Порядок тут важней всего.
Расплата не замедлила. В середине первого осеннего месяца я вновь получил почту.
Фабия не написала – что весьма огорчительно. Зато мой приятель Помпей переслал мне захватанную похабную карикатуру – видать, долго ходила она по рукам, прежде чем отправиться морем во Фракию.
Итак. Тучный, с порочным дегенеративным лицом мужчина стоит по-собачьи, на четырех конечностях, совершенно голый, с болтающимися между ног погремушками, отчего-то неоволошенными. В зубах мужчина сжимает палку, которая напоминает конский трензель. Края палки соединены с поводьями, поводья в руках у поджарого, мускулистого мужчины с несколько надмирным лицом (как у мраморных Фебов, что правят на фронтонах своими квадригами). Молодцеватый мужчина однако не сидит на тучном, как можно было бы подумать, мазнув по картинке рассеянным взглядом. Но, близко притершись к его вислому крупу, естествует его – посуху, по-спартански.
Я узнал в закусившем удила, объятом развратной радостью сластолюбце себя. В жестоком вознице я узнал Рабирия.
Силою женщину взяв, сам увидишь, что женщина рада И что бесчестье она воспринимает как дар, 5– было подписано под рисунком. Цитата из «Науки». Мои слова под моим портретом.
«И зачем только ты написал этому выродку? Неужто надеялся, что он раскается?» – укоряюще спрашивал меня Помпей.
Больше ничего не спрашивал.
Сдержанному Помпею вторил гневливый Руфин. «Рабирий всюду хвалится, что получил от тебя послание. Вроде бы даже демонстрирует его всем желающим. Ты, де, пишешь, что все еще любишь его! Умоляешь навестить! Клянешься, что не держишь зла! Только брезгливость удерживает меня от того, чтобы передать тебе, с каким бесстыдством сообщает обо всем этом сей нечестивый муж. Скажи, что он лжет, мой Назон! И я разорву лжеца в клочья! Иначе мне придется намотать его кишки на меч просто так».
Следующее письмо от осторожного Севера. Пробегаю глазами по строкам. «Новость эта тебя не обрадует»… «Рабирий клянется»… «письмо и впрямь написано твоим почерком»… «мне невдомек зачем»… «как тягостна эта бравада!»… «сам Цезарь недоумевает – как, впрочем, и весь Рим». И последнее – непереносимое. «Вчера Рабирия видели рядом с Фабией в театре… говорят, подлец побился об заклад, что соблазнит Фабию еще до зимы…»
Квириты! Соотечественники! Светлые боги!
Я никогда не думал, что одна и та же отравленная стрела способна поразить сердце Назона дважды. Что нет противоядий к той отраве. И ведь рождает же природа людей, подобных Рабирию, которые пьют свою низость как хиосское вино, а, упившись, решают, как в харчевне, «повторить» и предают даже собственное покаяние.
Может быть, произошло недоразумение? Положим, кто-то подставил Рабирия, написал за него «проступку моему кары не сыщешь в вере нашей» и отправил мне? А Рабирий, прочтя мои сбивчивые примирительные речи, действительно был удивлен и пустился во все тяжкие. И тогда Рабирий не дважды подлец, но единожды?
Увы, увы. Я вновь изучил письмо. Нет, сумасшедшие метры Рабирия с чужими не перепутаешь. Слово «всесветный» употребляет лишь он, его запинающаяся интонация, его стиль. Письмо вышло из-под руки его домашнего раба-переписчика, египтянина по имени Мекетра – почерк этой чернявой длинноголовой обезьяны, набившей руку на демотической скорописи, нисколько не похож на змеистые лианы буковок переписчиков-греков, к услугам которых прибегало большинство моих ленивых и состоятельных друзей.
Я закрыл глаза. Представил себе Рабирия – не того, который выставил меня из Рима и сделал посмешищем, но другого, настоящего, которого звал я другом. И прошептал: «будь проклят».
Тем же вечером я искрошил шесть вязанок хвороста, коими был обвешен истукан. И то сказать – фехтование вновь перестало быть чистым искусством и превратилось в средство достижения цели!
Я так истово молотил деревянным мечом, так яростно скакал по саду и так настырно ворочал тяжести, что даже Барбий не удержался.
– Небось, письмо из Рима получил? – спросил он, почесывая подмышку.
– Небось.
– Я тоже. От сестренки. Она сейчас тайно живет с одним папиком богатеньким. Пишет, с тебя весь Рим смеется. Правда, что ли?
– Правда, – буркнул я, с силой шмякнув колоду о землю.
– Тот мужик, – продолжал Барбий, – Как бишь его… ну не важно… даже гладиаторский бой в твою честь заказал. Это сестренке папик ее нашептал по дружбе – он в конторе работает, которая разрешения выдает. Так и записано в тугаменте. «В честь фракийского дурака». Это, значится, в честь тебя.
Да… Как говаривал один уважаемый астролог с иудейским именем Авешалом, «зло отличается от добра пышностью празднования своих побед».
4. С того дня меня влекло в Рим уже неумолимо.
Точнее так: раньше в Рим я лишь стремился. Теперь же чувствовал – меня словно бы медленные речные воды подхватили и несут к цели. И что бы я ни делал теперь, куда бы ни шел, в Город я все одно попаду – вынесет течением.
Начал откладывать деньги – Рим дорогой город. Приналег на книгу элегий, которые окрестил «Скорбными». Первые, самые душераздирающие песни я написал еще на корабле, который уносил меня от Фабии. Я жаловался. Взывал. Ныл. Вспоминал подходящие к случаю легендарные прецеденты и сравнивал свою долю с долей именитых мучеников – Приама, Ниобы, Тантала. Потом продолжил в том же ключе, благо мало было радости, много слез, черпай да заливай в размеры.
Многие месяцы я упивался своим горем, как пьяница.
Но потом словно бы что-то иссякло во мне. И я понял, что скорблю уже не столько из-за разлуки с Римом и Фабией, с сангиновой пылью улиц и грушевым, черешенным цветом римских окраин, не столько даже из-за предательства Рабирия, сколько по привычке, влекомый навыком скорбеть.
Потом я долго еще помалкивал. Радоваться было нечему. Скорбеть надоело.
Однако, когда я понял, ощутил вдруг, что в Рим обязательно попаду, я взялся за старое.
Принялся жаловаться вдвойне от прежнего. Стал громко сетовать на близкую безнадежную старость. Беззастенчиво жалеть себя, одинокого (уж простите меня, милые Маркисс и Барбий!) изгнанника. Зло клеветать на тихие серые Томы, честить зверьми своих простецов-соседей, звать невыносимыми местные зимы – искрящиеся, льдистые, бело-голубые.
Объяснялась эта перемена прагматически. Мне необходимо было спрятать свои намерения. Скрыть от всевидящего державного ока себя самого – обновленного, преображенного Назона.
Я писал, что дряхлею, а сам лишь розовел с лица да креп. Писал, что бедствую, и загребал злато лопаткой для смешивания перемолотых трав. Умолял Цезаря о пощаде, в то время как сам себе пощаду уж выписал.
И чем больше я ныл, тем сильней возвышался мой воинский дух. Чем настойчивей я убеждал друзей, что умру здесь, как глист, в этой неподмытой заднице мира, тем более уверялся, что скоро мы тайком обнимемся.
Не стыдно ли было мне принуждать к обману свой стих? Ничуть! Да и не принуждал я. Сам он невозбранно изливался – щедрый и сильный, невинный мой.
Только Фабии лгать не получалось. «Мой расшатался корабль, но ко дну не пошел, не разбился. Пусть и не в пристани он – держится все ж на воде», – шептал я ей. Верь, любимая, я скоро вернусь. Я уже кое-как возвращаюсь. Дождись, вывернись ужом из объятий Рабирия. Вытерпи искушение, хоть и умеет он искушать. Я повторял эти слова в земляной тишине спальни, зная: там, в Риме, меня услышали.
Случалось, однако, отчаяние-саранча выжирало дочиста тучные поля моих надежд. И тогда казалось – погибло все.
Рабирий соблазнит-таки Фабию, не за месяц, может быть, но за год, поскольку терпелив и прилежен всегда, когда речь заходит о новой подлости. И никогда не добраться мне до Рима, поскольку страшно это далеко, не хватит ни денег на взятки, ни изобретательности на ухищрения, да и следят за мной, будут следить – Кинеф и его ребята все как один глазастые. Стоит мне только сбежать, а в Риме уж и ждать меня будут. Под руки – и назад, в дикие степи. А волшебная река, что несет меня, не в Тибр вовсе впадает, но в сумеречный Стикс.
5. В состав одного из притираний, разглаживающего морщины, входил жир речной рыбы-спицы, мелкой, хитрой и редкой. Я промерил задом весь берег Истра, пока нашел место, где пятнистая, увертливая эта тварь добывалась в потребных мне количествах.
К несчастью, рыбное место находилось на изрядном расстоянии от самого дальнего поселения гетов под названием Дым, на ничьей земле. Читай, на земле кочевых сарматов.
Каждый раз, закидывая леску с наживкой с выдающейся в омут коряги, я с тревогой ожидал появления из кустов гнилозубого сарматского чудовища с топором наперевес.
Поначалу я страшился появления сармата с топором. Но после даже отчасти его желал, хотелось в деле опробовать Барбиеву науку. Когда же я кое-как овладел гладиусом и начал понимать, сколь многое я не умел раньше и сколь многого еще не умею, я вновь принялся страшиться.
Не только ради Маркисса и его «мамочек» я добывал рыбу-спицу, но и для себя. Мои морщины тоже требовали ласковой заботы. Не явлюсь же я на глаза Фабии этаким заветрившимся фракийским сухофруктом!
Однажды, как раз когда я складывал улов в суму, набитую пыльной по осени крапивой – стрекательная ее зелень должна была предохранить рыбу от порчи – в мой омут зашла длинная лодка с высокой изогнутой кормой и изящными, как у молодой самки оленя, боками.
В ней стоял во весь рост невысокий неопределенного возраста человек. С весла, которое он держал наперевес, срывались серые виноградины капель и кольчатой рябью бежала от них врассыпную речная гладь. Взгляд лодочника поразил меня – он был водянистым и в тот же час жарким, огневым.
– Напрасно ты рыбачишь здесь, – сказал пришелец на хорошем греческом.
– Но мне нужна рыба-спица!
– Страсть к насыщению чрева не к лицу воину. Тем паче, она может стоить воину жизни!
– Ну уж…
– Сарматы часто заходят в эти места. Если они застигнут тебя, то ограбят и убьют. Душе воина будет обидно до срока расстаться с хорошо обжитым телом из-за рыбы. И еще много раз она будет воплощаться на земле в обличье зловредного червя, живущего в брюхе у рыбьих королев и питающегося их икрой.
– Ну и объясненьице… – скептически усмехнулся я. Мне польстило, что он принял меня за профессионального служителя Марса. – К сожалению, я не воин. Я поэт.
– Вот как? – глаза незнакомца сверкнули и он воззрился на меня с живым интересом. – Поэт?
– Да, так.
– Не врешь?
– Зачем еще…
– Тогда, может быть, прочтешь что-нибудь из своего? – лодка уткнулась носом в мою корягу. Глаза гостя, синие и влажные, очарованно сияли.
– Я не пишу на греческом. Да и говорю поневоле. Мой язык – латынь.
– Тогда прочти мне чужое! – просительно промолвил человек. Он положил весло на дно лодки и полузакрыл глаза – приготовился слушать.
Я принялся декламировать – тем более, что одно стихотворение тотчас словно денницей засияло. Именно этой любовной эпиграммой, сочиненной некогда печальным греком Асклепиадом, я, опытный развратник, впервые склонил пятнадцатилетнюю Фабию к любовной игре, не ведая еще тогда, что влюбился насмерть.
Брось свою девственность. Что тебе в ней? За порогом Аида Ты не найдешь никого, кто полюбил бы тебя. Только живущим даны наслажденья любви: в Ахеронте После, о дева, лежать будем мы – кости и прах… 6Пока я читал, лицо моего нежданного слушателя – сложно вылепленное, чуток высокомерное – выражало внимание и радость.
– Еще! – потребовал он.
Я прочел из Каллимаха:
Не говори мне «Привет». Злое сердце, ступай себе мимо. Лучший привет для меня, коль не приблизишься ты… 7– Только там не «привет». А «люблю», – поправил меня лодочник. Правильнее так:
Не говори мне «Люблю!» Злое сердце, ступай себе мимо. Лучше любви для меня, коль не приблизишься ты…– Наверное, перепутал, – пробормотал я сконфуженно, а сам подумал: «Однако! В здешних ивах водятся диковины похлеще рыбы-спицы!»
Затем я вспомнил из Сафо – то, что всегда вспоминается первым. Затем озвучил собственный перевод на греческий Катулла – конечно, «птенчика Лесбии». Когда я сделал паузу, примеряясь к стихам посложнее, слушатель мой нехотя пробудился от грез и, щедро окатывая меня, как из ушата, своей лучистой синевой, произнес:
– Спасибо тебе, поэт!
– Да и тебе спасибо – что слушал. Здесь, в Томах, слушателей не густо.
– Значит, в Томах живешь? То-то я думаю, отчего я тебя в Дыме никогда раньше не видал.
– Ты сам-то из Дыма?
– Нет.
– Откуда тогда?
– Выше по течению есть одно местечко, – уклончиво отвечал человек.
– Греческое?
– Почти, – он произнес это со смешливо-печальной интонацией, будто хотел дать мне понять, что говорит неправду. И, помолчав, прибавил: – Тебе пора идти, поэт. Насчет сарматов – я ведь не шутил. Да и насчет червя в брюхе рыбьей королевы тоже.
– Жаль, – искренне сказал я. – Жаль, что ты уходишь. Я знаю еще много греческих стихов.
– И мне жаль, – ответствовал лодочник. Он оттолкнулся веслом от коряги и его лодка заскользила к середине реки – с невероятной, обманной какой-то скоростью, будто во сне.
– Эй, послушай, как тебя зовут-то? – крикнул я ему вслед. – Может, разыщу еще тебя?
– Угорь! – крикнул он мне из-за плеча. И стал грести усерднее. Серый плащ за его спиной хлопал на ветру, словно сорванный бурей парус.
– Как-как?
– Угорь! Меня так зовут! Если окажешься там, – он указал веслом в сторону сарматского берега, – назови лишь мое имя!
Встречу эту я счел хорошим знаком. В глазах Угря было что-то такое, что лишь в редкие мгновенья наивысшего душевного подъема видел я в собственных глазах, отраженных зеркалом.
Я был уверен: мы с Угрем еще свидимся. Ведь два любителя Сафо могут запросто разминуться в садах Помпея, но никогда – на одичалых фракийских просторах.
6 . Я все-таки попал в плен к сарматам. Однако, не на рыбном месте – как предостерегал Угорь. Но по дороге из Дыма в Макуну.
Память о том, какие демоны понесли меня туда – корысти ли, глупости ли, – начисто отшиб звонкий удар сарматской дубинки.
Вечерело. Я ехал на караковом жеребце Маркисса по тропе, вдоль опушенной туманом реки, перебирая, словно четки, строки намедни законченного письма моему самому молодому, но по-стариковски верному другу – Котте Максиму.
Эту привычку – мусолить в уме стих как только сыщется свободная минута – я так и не смог искоренить, как ни увещевал меня Барбий, неутомимый пропагандист жизненного кредо «думай меньше».
Но если на уроках Барбия я платил за раздумчивость синяками, то на той дороге… Впрочем, едва ли, даже будучи в полной боевой готовности, я смог бы противопоставить пяти вооруженным животным что-либо неотразимое.
Петля нежданного аркана со свистом метнулась ко мне из кустов. Притиснула мои руки к туловищу. Тотчас невидимая силища вырвала меня из седла. Земля стала близкой, небо обратилось деревянным молотом, чей удар гулко отразился от сводов моего черепа и стек в носоглотку соленым кровавым ручьем. В глазах помутилось и я даже не успел мысленно сказать Фабии «до встречи в краю теней!».
Я пришел в себя на берегу Истра. Стемнело, похолодало, я был наг. Руки мои, связанные за спиной грубой пеньковой веревкой, онемели. Страшно хотелось пить. Голова была отлита из раскаленной меди, и эта медь, казалось мне, никогда не застынет.
Нелепо извиваясь и помогая себе ногами, которые тоже были связаны, но не так тесно, я попытался поползти. Добраться до приплеска и напиться илистой зеленой воды – ни о чем большем я не смел и помыслить.
Моего внимания осталась всего одна щепоть. Что происходит вокруг – например, куда подевались разбойники-сарматы, – меня совершенно не заботило. Точнее, от того, кого это могло бы заботить, оставались только боль и жажда. Посему, когда рядом с моим залепленным холодной грязью лицом нарисовались пышная кудрявая борода и два мелких глаза, я скорее разозлился, чем испугался – борода претендовала на мое внимание, а его-то как раз мне и следовало экономить.
«Надо убить гладкого. Зачем оставлять?» – сказал, обращаясь к товарищу, человек-кудрявая-борода и два его мелких глаза свирепо сузились.
«Вот ты и убей. Если тебе не лень», – отозвались ему из темноты.
Не дерзну поручиться за каждое слово, но слова «убить» и «гладкого» прозвучали.
«Гладкими» сарматы величали всех греков, сколько-нибудь ухоженных в смысле телесном. Я же и среди греков был, наверное, самым гладким (после лысого как арбуз Маркисса). Я ежедневно брился, по столичному обычаю умащал тело маслом местных горьких олив, а избытком волос на теле не мог похвастаться даже в юности.
Бородач отправился к товарищам, вероятно, за топором. А я, влекомый жаждой, дополз-таки до воды и сделал несколько судорожных глотков.
Вместе с водой мои жадные губы втянули в рот прядь слизистой, тошнотворной зеленой тины с блесткими бусинами воздуха. Бывало, на пирах, после всякого рода излишеств, случалось мне пользоваться павлиньим пером, дабы щекотаньем его вызвать у себя рвоту. Теперь, уверен, случись мне лишь увидеть речную тину, меня тут же вывернет наизнанку.
Вывернуло и тогда – в основном кровью. Мой живот, который я считал доселе чем-то вроде бурдюка, оказался на поверку скорее мускулом. И этот мускул истерично сокращался. Ночной Истр безропотно принимал мои излияния – недаром изо всех божеств стихий божества рек считаются самыми терпеливыми.
«Этот гладкий – он как свинья, блюет и блюет», – заметил подоспевший сармат. В его голосе зазвучало неожиданное материнское умиление.
Он стоял надо мной и, опустив топор, нежно глядел на мои мучения. Уверен, начни я читать свои лучшие элегии, призывать в защиту светозарных олимпийцев или сулить ему богатства, он убил бы меня тут же. А так, наблюдая жалкие мои извержения, он лишь снисходительно улыбался и причмокивал губами.
«Чего медлишь? Бей его и поехали!» – послышалось со стороны реки.
Сплюнув, я с усилием поднял от воды голову – в основном, чтобы продышаться. Как оказалось, не зря. Из-под восходящей луны к нам приближалась шустрая лодка, чей изящный олений силуэт показался мне знакомым. В лодке, широко расставив ноги, стоял человек. Весло он держал наперевес, как некогда Угорь.
Тут мне словно хмель в голову ударил. Я вдруг обрел уверенность, что человек в лодке и есть Угорь. Это его плащ серебрится, его глаза синеют! Да-да, он лично приплыл за мной, чтобы меня спасти. Во имя греческой поэзии! Во имя Зевса-Юпитера! Во имя всех Имен, что говорили для нас и молчали для варваров – сутулых, смрадных, звероподобных!
– Аве, Угорь! Сами боги послали тебя! – воскликнул я на языке сарматов.
Мой голос, охрипший, опростившийся до мужицкого баска, показался мне чужим.
– Что он сказал? – ворчливо осведомился человек в лодке у моего бородача.
– Он сказал «Угорь», – ответил тот и, наклонившись ко мне, переспросил, отчетливо произнося каждый слог:
– По-вто-ри что ска-зал!
– Угорь – мой друг! Он приплыл, чтобы спасти меня!
– Он сказал, что Угорь спасет его, – повторил бородач, уже громче. Его голос дрожал.
– Наши дела плохи, – откликнулись из лодки. (Дословно было сказано «мы едим дерьмо».) – Он знает Угря. Не будем его убивать. Возьмем с собой. Подарим Угрю.
– Что если он врет?
– Тогда будем кормить им собак Угря. Они будут есть гладкого друга Угря!
– Буа-га-га! – вторили этой шутке из кустов.
Еще несколько дней мы провели в пути. Вначале поднимались по Истру, затем – петляли лесными тропами. Все это время на мою голову был накинут пыльный, пахнущий погребом мешок. Так что насладиться суровыми красотами края Назону не случилось. Зато я изрядно поупражнялся в языке сарматов – столь же похожем на язык собак, сколь и на язык кошек.
Куда мы держим путь, мне не сказали.
7. Наконец мы разыскали богатое, даже шикарное по сарматским меркам, жилище Угря – войлочный шатер, застланный поверху нежными, молочно-ржавыми шкурами рысей. И я подумал о том, что авторитет греческой поэзии у сарматов небывало высок. Даже выше, чем авторитет оной в Риме. Кожаный дом вождя Скептуха, который мы видели недавно, по сравнению с этим роскошеством – конура поселкового кабыздоха. Что ж, нашему Цезарю есть чему поучиться у варваров!
Второй моей мыслью была такая: Угорь, которого знают мои похитители, и Угорь, которого призывал в спасители я – два разных человека.
Вот сейчас тот, неправильный Угорь, выйдет на крики моих сарматов, и это затянувшееся недоразумение разрешится быстрой казнью пришибленного Назона.
В лучшем случае я буду до конца жизни мыть ноги Скептуху. Если только смогу уверить его, что гладкий знает толк в мытье ног и что иметь в рабах римлянина сладостно и престижно…
Дальнейшее укрепило меня в моих опасениях.
Узорчатая ткань, занавешивающая вход в шатер Угря, отошла в сторону. Показался сам хозяин – худощавый горбун в плаще из седых волчьих шкур и черной оборчатой юбке. Своеобразный капюшон у плаща тоже имелся – это была мастерски выдубленная и выделанная под живую волчья морда с носом из черного дерева и глазами-хризолитами. Угрожающе скалились желтые волчьи зубы с темени горбуна, а когтистые лапы животного спускались на его хилые предплечья – сходство с аквилифером в львиной шкуре напрашивалось само собой. Костюм довершал густо обсаженный красными, кое-как отшлифованными гранатами посох, навершием которому служил желтый череп младенца. Что ж, вероятно перед нами племенной колдун, управитель сарматского хаоса.
Фигура колдуна дышала грозной, недоброй тайной девственного леса и меня, пожалуй, пробрало бы некоторое трепетное благоговение, если бы не одна мысль: каждое утро горбун этот вынужден бережно снимать свой пахнущий лавандой волчий плащ с вешалки, причесывать мех особой жесткой щеткой из свиной щетины напополам с медной проволокой, бережно надевать волчий капюшон себе на голову, укладывать на плечи лапы… И этот туалет ему, должно быть, столь же привычен, как моей Фабии – завивка кудрей раскаленными щипцами!
– Зачем орете? – поинтересовался горбун, сверкнув глазами.
Мои сарматы упали на животы и закрыли вшивые головы руками. Я не понял – то ли этого требовала процедура, то ли они испугались, что прогневили хозяина шатра и решили раболепием упредить вероятные громы-молнии.
Я же остался стоять. Еще в Городе я усвоил: лебезить перед сильными – пустая трата сил. Все равно что дарить дешевые подарки баснословным богачам.
– Гладкий сказал, что знает Угря. Мы не убили его. Взяли его для тебя, – угодливо сообщил вожак.
– Вы сделали правильно. Он мой друг. Сейчас же верните ему то, что у него отняли… Вон с глаз моих, – бесцветным голосом произнес горбун. И, безо всякой паузы, добавил, уже по-гречески:
– Тебя же, ссыльный любимец муз, прошу к моему скромному очагу.
Я не сразу сообразил, что греческая реплика обращена ко мне, и что мой Угорь, знаток Каллимаха, и волкоглавый колдун – одно лицо. Сарматская дубинка и пять полуголодных дней не пошли на пользу моей догадливости.
8. Мы неотлучно сидели в шатре Угря до самой ночи.
Вначале рассказывал он, потом я. Оказалось, Угорь имел не только греческое имя – Филолай – но и греческую судьбу. Родился в Афинах, в семье преуспевающего купца. Сызмальства полюбил стихи, в пятнадцать – рассорился с семейством и перебрался в Фивы. Там, в перерывах между любовными интригами и поэтическими состязаниями, он сочинял надгробные надписи и свадебные гимны – как выражаются в Томах, «для поддержания штанов».
Рассудив, что поэзией можно заниматься и на сытый желудок, Филолай затеял дело на паях с младшим братом Хрисиппом. Во время одной из торговых экспедиций, конечным пунктом которой был далекий Херсонес Таврический, наш поэт попал в кораблекрушение, но чудом выжил – единственный из всей команды. Вскоре Филолая продали в рабство выходившие его фракийские крестьяне. Его хозяином стал просвещенный сарматский колдун, правая рука тогдашнего вождя кочевников Куксы. А когда колдун умер, Филолай сменил имя на имя своего бывшего хозяина. И стал называться Угорь. Он уже давно не был рабом. Но в родную Грецию возвращаться не спешил, чудак.
Неспешно текла наша беседа, подзвученная собачьими перебранками на окраине кочевой сарматской столицы.
– Но к чему это все, скажи? – допытывался я у Угря.
– К чему – что?
– Эти шкуры… Горб этот… Ведьмачий череп… Ведь ты был поэтом, Угорь! И сами Семивратные Фивы тебе рукоплескали!
– Я остался поэтом. Только раньше я складывал стихи из слов. А теперь я слагаю их из событий.
– Не понимаю.
– Не хочешь понимать, – пожал плечами он.
– А этика?
– Что – этика?
– Ведь ты сам говоришь, сарматы – бич божий!
– Верно, бич, – подтвердил Угорь.
– Тогда и ты, выходит, тоже бич?!
– Нет, не бич. Я – свинцовый грузик на этом биче, – невозмутимо отвечал Угорь. – Я делаю движения бича на одну толику более точными. В этом мое предназначение.
– Но ведь дикари-сарматы убивают греков, убивают римлян, убивают всех, кого встречают на своем пути! Не могу взять в толк, как тебе, ученому греку, не противно в этом участвовать?!
– А я не участвую, Назон.
– В смысле – не убиваешь?
– Нет, убиваю иногда. Но все равно не участвую.
– Объясни лучше.
– Я представляю здесь, в краю сарматов, Бога Смерти. Это он – убивает. А я просто смотрю. И чем внимательнее я смотрю, тем реже он ошибается, – с этими словами Угорь исподлобья глянул на меня так, что по моему хребту побежали мурашки. В его синих, как цветок василька, глазах, на миг отразилось нечто чужое и грозное, от чего даже самым бесчувственным людям становится не по себе.
– Это сложно как-то… – стушевался я. – Скажи лучше, ты за Фивами здесь не скучаешь?
– Фивы – они как шлюха. Сегодня отдаются тебе, завтра – случайному прохожему. Сарматы не таковы. Уж если полюбят кого, то навек. Умрут за свою любовь – неприхотливую, как воробей, широкую, как море. Я сам не заметил как к ним привязался.
– Понимаю. Я женился в первый раз из тех же примерно соображений, – сказал я. – Правда, сарматов полюбить я бы не смог. Даже в ответ на любовь, широкую, как море.
– Да тебе и не нужно. В твоей судьбе я не вижу такого предназначения.
– Ты про свое предназначение скажи мне, Угорь.
– Про Бога Смерти?
– Нет. Про этого утром расскажешь, если захочешь. Про колдовство скажи. Ты и впрямь колдуешь? Или все-таки жульничаешь? Обещаю, никому твоих тайн не раскрою!
К моему удивлению в ответ на этот вопрос Угорь расхохотался. Но не «зловеще» или как-нибудь этак, «со смыслом», а без всяких вовсе смыслов, окрыляюще легко. Так умеют смеяться только отроки и греки – недаром же последние комедию изобрели.
– Ох, Назон. Уморил, – прошелестел Угорь, утирая мизинцем слезу. – Я – жульничаю! Да ты пойди пожульничай в моем ремесле! Здешний люд не понимает шуток! Коли поймают на обмане, отрежут тебе руки, ноги и – в омут, раков кормить. Жульничать на ниве этой можно только в просвещенных краях, где легко обманывают, но и легко обманываются… Здесь, у сарматов, все серьезно, как в Аиде. Приходится работать на совесть – порчу на соседские стада насылать, духов-покровителей задабривать, в волка перекидываться…
– Сам выучился?
– Двенадцать лет ходил в подмастерьях.
– Я бы не смог. Особый талант нужен.
– Смог бы. Для колдунов поэты – самые способные ученики!
– Почему?
– Поэты приносят в мир имена вещей, – пояснил Угорь. – Иные имена – придумывают сами, иные – угадывают. А иные – даже воруют, как Прометей пламя. Сначала у людей появляются имена. А потом уже – сами вещи. В отрочестве мы читаем про любовь у Анакреонта, и только в юности – по-настоящему влюбляемся. Я говорю, конечно, про хороших поэтов. Потому что плохие лишь повторяют имена вещей, принесенные до них.
– Не понимаю.
– Тогда лучше забудь, – Угорь махнул рукой. – Но запомни: уж когда поэт о чем-то думает, что-то лепит в своем воображении, как гончар – горшок, это случается всегда. То есть горшок всегда потом появляется. Собственно, колдун занят тем же самым. Он лепит в воображении горшки, которые лишь после него обретут вещественность и тогда в них будут варить пшено обычные люди. Но бывает, что колдун разбивает горшки. И тогда никакой уже каши… Страшен и гнев поэта.
– Получается, если я, допустим, желаю кому-то смерти, то он непременно умрет?
Угорь кивнул. И, помолчав, добавил:
– И твоему врагу здесь не позавидуешь.
Мне стало не по себе – ведь про Рабирия я ему не рассказывал. В этот миг мой вопрос о жульничестве показался мне нелепым. Я поспешил увести разговор в сторону.
– То есть, ты хочешь сказать, что вначале я придумал идеальную возлюбленную, описал ее в стихах раз этак триста пятьдесят, наделив разными обличьями, а потом уже встретил Фабию?
– Насчет Фабии не знаю. С тех пор, как меня оскопили, женщин для меня не существует.
– Тогда скажи вот что, – от волнения мой голос стал шершавым, как наждак. – Если я постоянно думаю о Городе, мечтаю туда вернуться, значит ли это, что когда-нибудь я Город все-таки увижу?
– Волшебный корабль твоего бегства, считай, достроен. Осталось лишь столкнуть его в воду.
– Кто же его столкнет? – уныло спросил я.
– Твой почитатель Филолай.
– Ну уж нет. Я никогда не посмею просить об этом всемогущего колдуна Угря, одно имя которого спасло мне жизнь! – заявил я решительно.
– Только всемогущий колдун – это ты, Назон, – хохотнул Угорь.
– ???
– Да-да, ты. Представь себе опытного канатоходца, который пришел в восторг от грациозной походки знаменитой красавицы.
– Легко, – кивнул я. Еще бы нет – я, считай, лиру походкам этим посвятил!
– Наш канатоходец очарован. Ему кажется, что порхающая пробежка красавицы по рыночной площади – вершина искусства перемещаться. Он может даже влюбиться в девицу, ведь все вокруг твердят о том, как изящно и точно ступают ее нежные ноги, обутые в невесомые сандалии. Но! Мы-то знаем, что, если канатоходец захочет, он за день выучится ходить столь же грациозно. А вот красавица разобьется, не пройдя по канату и трех шагов.
– Слишком сложно, Угорь! – взмолился я. Голова моя требовала новой порции целебного зелья. Угорь сварил его для меня, чтобы облегчить боль, облепившую мои виски.
– Канатоходец это ты. Красавица это я. Мне никогда не написать «Науку любви». Мое имя начисто забудут внуки тех воинов, что привели тебя сюда. Даже если я принесу Скептуху охапку самых блистательных побед и возведу его на боспорский престол! А вот тебя будут читать даже когда умрет сама латынь.
– Что за вздор ты говоришь, любезный Угорь! Латынь никогда не умрет!
– Это верно лишь отчасти, – он грустно усмехнулся. – Словом, я помогу тебе.
– Благодарю тебя, друг… Но даже ты не сможешь сделать так, чтобы Цезарь не искал Назона. Да и моей Фабии не поздоровится, если в Городе станет известно, что я бежал из ссылки.
– Я сомневаюсь, что тебя станут искать за порогом Аида, – заметил Угорь и поглядел на меня со значением.
– Ты… можешь устроить так… чтобы я… временно… умер?
– Ну нет, это слишком. Мой патрон, – Угорь опасливо глянул в звездное небо, что просвечивало через дымоходную дыру в шатре, – может рассердиться. С ним вообще лучше не шутить. Но… когда свирепые степняки повлекут поэта Назона на крюке через лед Истра на нашу сторону, твои соплеменники будут уверены: следующей переправой для тебя станет переправа через Стикс.
– Мои соплеменники?
– Когда Истр замерзнет, я приду к Назону в гости. Но я приду не один. Со мной будет тысчонка-другая подопечных… Не перечь, даже если тебе не понравится мой план, мы придем все равно – зимой нам, сарматам, дома не сидится. Грабежа душа просит, разбоя. Желательно – с отягчающими обстоятельствами, или как там говорит ваше хваленое римское право.
– А я?
– Ты просто выйдешь мне навстречу. В кольчуге и с мечом наголо.
IV. Назон плывет домой
1. Остаток зимы и начало весны я провел в гостях у Филолая (Угрем я теперь называл его в основном при посторонних). Напишу, пожалуй, «в обществе Филолая», хотя это будет правдой лишь наполовину. Сейчас объясню.
После разорения земель, прилежащих к Томам, во время которого поэт Назон «был дерзко похищен и, вероятно, зверски умерщвлен» (из отчета архонтов города Томы), сарматы действительно двинулись дальше на юг, как и обещали.
Но не все сарматы. Крохотный отряд, состоявший из Филолая, его доверенного слуги Луга, дюжины всадников-телохранителей и поэта Назона, повернул назад – в столицу сарматов, ту самую, где я уже поневоле погостил.
Спустя неделю – дни в ней различались в основном глубиной преодолеваемых нами сугробов – я очутился в знакомом шатре, покрытом рысьими шкурами. Разве что количество шкур утроилось. Ведь морозы!
Филолай собственноручно устроил для меня теплое ложе, рядом со своим. Более того: приказал доставить для меня… стол и стул. Мебель была дорогой, даже шикарной. Но изысканная красота ее, тем более кричащая, что стояла она на земляном полу, покрытом хвоей, меня не обрадовала, от нее почти физически пахло прошлым, насилием, жутью. Так и видел я умилительную, меблированную по последнему слову греческую виллу, – одну такую дали за Фабией в приданное – изувеченной и оскверненной пришлыми разбойниками-варварами…
– Ты думаешь, стул этот кровью невинных полит? – тотчас поинтересовался чуткий Филолай.
– Думаю.
– А что если полит? Ты сидеть на нем не станешь?
– Стану, ведь больше не на чем, – сказал я угрюмо.
– Не переживай. Это моя мебель. Я купил ее для себя, когда стал Угрем. Заплатил большие деньги. Я думал, буду иногда писать как культурный человек. Думал, что понадобится…
– Не пишешь?
– Не пишу, незачем. Но видишь – мебель мне все-таки понадобилась, чтобы произвести на тебя впечатление! – Филолай улыбнулся.
Мы как будто с ним и не расставались. Всякий разговор, который мы вели, казалось мне, был лишь продолжением разговора, уже начатого раньше – летом, или в жизни прежней, как учит нас Пифагор, не суть… Словом, я, большой любитель тосковать по всякому поводу, в первый же день после своего похищения, опечалился от мысли, что ведь Филолая в Рим с собой не заберешь…
– Пока ты там в Томах с мечом упражнялся, я все для тебя разузнал, – сообщил мне он. – В начале мая один купец будет через наши места в Херсонес Таврический плыть. Поплывешь с ним.
– Постой-ка… Но ведь Херсонес Таврический – в Таврии?
– Так.
– Но ведь это совсем в другую сторону?!
– Не вижу других вариантов, Назон…
– А что в Херсонесе?
– Там живет мой брат Хрисипп. Он зерноторговец. Преуспевающий. Снаряжает суда. Обратишься к нему. Он поможет тебе добраться до Рима.
– А сколько это будет стоить? Ну, приблизительно?
– Постарайся в любом случае не давать ему денег. Даже если он попросит у тебя гроши.
– Почему?
– Иногда нужно делать кое-что задаром. Служить бесплатно. Этого мой брат не понимает, думает, это только на жрецов распространяется, а на купцов – нет. Ну невдомек ему, что зерноторговец – это жрец зерноторговли, точно так же, как я – жрец Бога Смерти, а ты – поэзии. Но так как я желаю ему добра, то считаю своим долгом устраивать ему возможности побыть хорошим жрецом зерноторговли. Не хочется мне видеть его на дне моря раньше времени. Не перечь. Мне виднее.
– А ты, оказывается, добрый человек, Филолай.
– С чего ты взял?
– Ну… Вот, допустим, тот случай, зимой… Когда твои люди меня и царских вояк окружили… Ведь вы могли их всех перебить, оставить в живых только меня. Благо, отличить меня от фракийцев просто – по отсутствию бороды. Но ты пощадил ребят… Я оценил это. Честное слово! О брате вот заботишься своем… Потому и говорю я, что ты добрый человек.
– Это ты добрый человек, Назон. Тогда, возле Макуны, я тебя постеснялся. Подумал, если позволю устроить резню, стану тебе противен. Так что себя благодари.
2. Итак, из Трансистрии – в Херсонес Таврический. Из Херсонеса Таврического в Синоп, из Синопа в Византий, из Византия в Пирей, из Пирея в Брундизий, из Брундизия в Остию, из Остии в Рим.
Невероятное путешествие с неопределенным исходом. Гигантские расстояния казались почти столь же непреодолимыми, как если бы я направился в Британию через Индию. И все же, душа моя пела. Унылые лица гетов? Нет! Скучные Томы? Никогда больше!
Купец, о котором говорил Угорь, оказался армянином по имени Артак. Повстречался я с ним и его людьми в начале мая в устье Гипаниса – полноводной реки, верховья которой, как меня уверяли, находились едва ли не в землях свебов.
Большинство спутников Артака, к моему ужасу, оказались германцами. Остальные были колхами, что, согласимся, немногим легче.
Караван Артака спустился по Гипанису с севера на двух угловатых, неказистых, но очень крепких либурнах. Везли меха неведомых мне зверей, везли янтарь и громадные ножевидные кости, которые отчего-то именовали «усами» некоей рыбы. Причем, по уверениям германцев, рыба эта достигала ста локтей в длину и водилась в «ледяном океане».
Узнав, что я римлянин (а скрыть это было возможно, только полностью одичав), германцы однако не схватились за ножи, а, наоборот, обрадовались как дети. Навалились на меня с расспросами и, пользуясь услугами раба-толмача, пытали битых три часа.
«А правда, что в Риме есть такие дома, где люди живут над головой у других людей? А над ними еще другие люди, и еще, и так в десять слоев?»
«А вот, говорят, у вас не только улицы мощены золотом, но на золотых деревьях сидят золотые птицы и гадят золотым песком?»
«Рассказывают, что римляне делают такие деревянные кресты, которые силой колдовства выбрасывают стрелы из цельного соснового ствола и стрелы эти пробивают насквозь скалу! Ты такой крест видал когда-нибудь?»
Также были и практические вопросы.
«Легко ли получить римское гражданство?»
«Далеко ли до Рима отсюда пешком?»
«Как наняться на службу к вашим вождям?»
Артак слушал наш разговор сперва вполуха, но потом возревновал к моему нечаянному успеху среди германцев и встрял со своими песнями.
– Ерунда все это. Послушайте-ка сторону Артака. В давние времена Рим был лишь захудалым городишком на задворках моей отчизны, Великой Армении. Вы знаете кто основал Рим? Беглый раб Энеян! И было это в те дни, когда войско Великой Армении, отправляясь в поход, уже стояло головными отрядами у ворот Вавилона, а обозы его еще теснились в ущельях седого Кавказа. Вы знаете про висячие сады Семирамиды? Нет? Вот то-то, олухи. Семирамида была воистину достойнейшая дочь армянского народа, царица семидесяти языков! Она завоевала Вавилон, Китай, Грецию, Трою и Египет, придумала счет, иероглифы, монеты, парфюмерию и астрологию. Но главное: царица семидесяти языков построила висячие сады. В серебряные лохани, каждая величиной с сорок кораблей, была насыпана отборная земля и высажены все самые лучшие деревья мира. Там были даже мирт и алоэ, не говоря уже о персиках и финиковых пальмах! Вы и названий-то таких не знаете, но Артак вам скажет и Артаку можно верить: там росли и Уримм, и Туммимм – те самые деревья, которым, как известно, иудеи поклоняются точно богам. Затем Семирамида приказала воздвигнуть сто столбов из чистейшей бронзы, а на каждом столбе изобразить свои ратные достижения и благодеяния народу армян. К этим-то столбам на цепях из электрона и были подвешены лохани с тысячами деревьев. Прямо над Евфратом! И когда деревья нуждались в поливе, лохани на цепях опускали вниз, в реку, а потом поднимали обратно.
Германцы внимали своему нанимателю, разинув рты. За бортом либурны плескалась вода. Я был счастлив.
Картины Великой Армении, нарисованные бессовестным Артаком, завораживали. Мне не хотелось перебивать его. И все же, один вопрос я задал.
– Скажи пожалуйста, уважаемый Артак, а что случилось с висячими садами потом? И владеет ли Великая Армения по сей день Китаем, который был завоеван Семирамидой?
– Потом? – лицо Артака исказила отчаянная трагическая гримаса, будто он собирался изобразить пантомиму «Прозревший Эдип». – Римлянин, ты знаешь, что было потом! Потом пришел Искандер и с ним – демоны земли и воздуха! Этот был негодный отброс армянского народа, мятежник, изверг, насильник, отцеубийца! Отец Искандера служил нашим наместником в Македонии, как тебе известно! На погибель себе в богопротивном союзе с местной шлюхой Олимпиадой он произвел этого предателя-полукровку! С семи лет Искандер обучался колдовству у фессалийцев, а к двенадцати натворил столько преступлений, что обычного человека уже давно засекли бы насмерть! Но все проделки разбойника сходили ему с рук! Более того, именно они принесли Искандеру известность среди бесчестных македонцев! Артак не хочет даже думать, не то что говорить об этом чудовище!
Германцы, нахмурившись, кивали в лад словам Артака.
И хотя купец, согласно своим же уверениям, не мог ни думать, ни говорить об Александре Великом, остановиться он не мог и подавно:
– Все закончилось тем, что его армия, – а ты знаешь, состояла она преимущественно из фаланг, это такие демоны, имеющие вид исполинских пауков, – дошла до Евфрата, где колдовством одолела благочестивых армян и наших добрых подданных, в первую очередь персов. Конец висячим садам! Бесценные деревья были пущены на дрова, а серебряные лохани разрублены алчными македонянами на драхмы. С тех пор уважающий себя армянин плачет всякий раз, когда ему в руки попадает серебряная монета!
Я пришел в восторг от мысли, что до Херсонеса Таврического путь неблизкий, и этак, за время нашего путешествия, я успею узнать от Артака всемирную историю в самом полном объеме.
Так и вышло. Либурны тащились медленно. Артак болтал без умолку. Кажется, он задался целью ниспровергнуть в моем лице сам Рим со всеми его легионами, понтификами, термами, портиками, акведуками, садами и клоаками.
Однажды нас потрепал шторм и нам пришлось чиниться, став лагерем на отлогом песчаном берегу.
Во время нашей стоянки на нас намеревались напасть две дюжины всадников невесть какого племени. Но, опознав в нашей охране германцев, тут же дали деру.
Затем у Артака закончились слова. Он молча сидел на скамье и задумчиво теребил бороду.
Так двигались мы на восток, будто зачарованные, под нежарким солнцем, обтекаемые незлым ветерком.
На десятый день плавания перед нами выросла из вод обширная песчаная коса. Кормчий объяснил, что эти места зовутся Эионами.
Эионы оказались царством розовых пеликанов. Гонористые птицы промышляли рыбу повсюду. Грузно, нехотя подымались в воздух при приближении наших либурн и, описав дугу, садились за кормой. Там и сям пойманная молодь скумбрии, сверкая боками, посылала своим рыбьим родичам последний привет.
Ближе к вечеру, когда мы остановились на ночлег в виду небольшого святилища, четверо германцев (их звали Рорих, Херих, Гесво и Месвинт) заговорщически переглянулись, взяли лук, стрелы, по пять дротиков и отправились гулять. Гвалт, поднимавшийся то и дело в местах пеликаньих ночевок, свидетельствовал о том, что Рориху и его друзьям возжелалось во что бы то ни стало отведать мясца чудесной розовой птицы.
Вернулись они уже затемно – с тремя жалкими тушками. Судя по пустым рукам и пришибленному виду Гесво, он был тем самым неудачником, чьи дротики так и не нашли добычи.
На птицеловов набросились гребцы-колхи, которые прежде производили впечатление людей, безучастных ко всему, происходящему за пределами их желудков. Выпучив глаза и ударяя себя в грудь кулаками, колхи возбужденно скакали вокруг германцев – точно свора шавок.
– В чем дело? – осведомился я у Артака.
– Колхи говорят, что эти птицы священны. Их убийство прогневит какую-то местную богиню. Или бога, я не понял. Это смешно. Откуда колхи, рожденные на другом берегу Понта, могут знать местных богов?
– По-моему, сейчас дойдет до поножовщины. Что, пожалуй, и будет прямым следствием божественного гнева.
– Вряд ли.
Купец не ошибся. Остальные германцы (около дюжины) поднялись со своих мест и молча встали между охотниками и колхами. Поскольку германцы были в среднем выше на голову, маневр возымел действие: вопли гребцов сделались сдержанней, прыжки перешли в нервное перетаптывание.
Вскоре Рорих, Херих и Месвинт уже ощипывали пеликанов, бережно складывая все розовые перья под ножны своих мечей, чтобы их не унесло ветром. Колхи же, рассевшись кружком, ворчали в отдалении.
К сожалению, последующие события доказали правоту этих диковатых людей.
Стоило германцам вонзить зубы в вонючее пеликанье мясо, как над морем встала черная стена – с такой быстротой, будто в глубинах Понта сработала гигантская сценическая машина, вытолкнувшая к небесам ширму рокочущего мрака. Резкий порыв ветра выхватил из костра пригоршню мелких угольков и швырнул их в лицо Рориху.
По глазам полоснула ослепительная вспышка. Молния!
Еще одна! И две! За раз – три!
Один из колхов вскочил, подбежал к германцам и молча плюнул им под ноги.
Ударил дождь. Бичи молний подбирались все ближе. В реве ливня и в трескучем громовом неистовстве потонули причитания Артака. Распорядительные кормчие набросились с руганью на германцев, чтобы те помогли гребцам оттащить либурны подальше от полосы прибоя.
Спасаясь от непогоды, мы все набились под парус, натянутый наискось от борта либурны до земли. Неразумные Рорих и Месвинт продолжили пожирать пеликана и здесь, под навесом. Херих отнесся к божественной воле с большим почтением и сидел спокойно, вцепившись обеими руками в амулет – бронзовую фигурку оленя, которую носил на шее. Гесво держался золотой середины: свой кусок пеликана он утащил с собой, но пока что от трапезы воздерживался.
Кара небесная приближалась.
Когда молния ударила в корабль прямо у меня за спиной, испугаться по-настоящему я не успел.
3. Из-за глупых пеликанов и не менее глупых германцев мы оказались перед необходимостью вновь чинить либурну. Если подумать, еще легко отделались.
В конце концов мы покинули злополучные Эионы, прошли устье огромной реки, носящей имя Борисфен, и спустя некоторое время повернули на юг.
«Таврия!» – возвестил Артак.
Нам требовалось обогнуть большой полуостров, поэтому мы снова двинулись на запад и, пройдя неказистый низкий мыс с очередным жертвенником, взяли к востоку.
Меня ожидал ряд открытий, плохо совместимых с моими представлениями о северных пределах Понта. Я полагал, что природа Таврии во много крат суровее фракийской, а безлюдье там царит полнейшее. Однако, по мере того как мы сползали вдоль полуострова к Херсонесу, край расцветал на глазах. Живущие там греки оказались незлобивы, прямодушны и производили впечатление людей, твердо уверенных, что вчера было хорошо, и завтра хуже не будет. Соседствующие с ними тавроскифы тоже не казались такими уж варварами: многие понимали по-гречески, их скотина знала ярмо и плуг, детишки были умыты и стрижены.
В середине июня нам открылась Керкинитида. Этот укрепленный городок являлся, так сказать, провинциальным центром херсонесских владений. Артак сделал в нем двухдневную остановку, чтобы распродать часть мехов.
– Понимаешь, южнее на них спрос будет ниже. А севернее продавать было глупо, цены невыгодные, – пояснил купец. – Не сыскать для торговли мехом места лучше, чем Керкинитида.
Там я впервые за несколько недель смог выспаться в доме с нормальными стенами и крышей. И даже кровать была настоящая! Девушки из гостиничной прислуги пытались оказать мне особые знаки внимания. Я уже почти сдался, когда на меня вдруг нахлынула волна удушливой горечи. Я выгнал девчонок вон, чтобы они не увидели моих слез – ядовитых слез скитальца, влюбленного в римскую красавицу Фабию.
Херсонес, каким он предстал предо мной, мог бы служить образцом для подражания иным италийским городам – особенно южным. Ухоженный, чистый, чопорный, он во многом напоминал мой родной Сульмон. Конечно, местная природа и греческое происхождение города накладывали свою печать, и все же, если сравнить с Томами, можно было смело возрадоваться: я попал в центр цивилизации!
Прощание с Артаком и его сорвиголовами вышло трогательным. Кажется, купец всерьез полагал, что смог убедить меня в полнейшей никчемности Города в сравнении с Вавилоном, Сузами и Персеполем (напоминаю: эти почтенные столицы древности, по мысли Артака, были выстроены армянскими зодчими и управлялись армянскими наместниками). Эта мнимая победа, одержанная на поле риторической брани, склонила его к великодушию. Так что на прощание от Артака мне достались две блестящих собольих шкурки и самые сердечные слова. В частности, он пожелал мне, чтобы «сны были безмятежны, а жизнь была лучше снов».
Германцы же, наслушавшись своего работодателя, прониклись ко мне смешанным чувством зависти и сострадания. Само собой, сострадали легковерные («А Рим-то, оказывается, захолустье»), а завидовали – более трезвомысленные («Что ни говори, но золота у римских вождей полным-полно»). Херих, Гесво и четверо их товарищей, составивших «партию сострадания», всерьез звали меня с собой.
– Давай, Назон, и дальше с нами! Ты старик еще крепкий, кольчуга у тебя сами видели какая, жизнь знаешь! Такие повсюду нужны! Будем вместе Артаку служить, а заскупится ловчила на деньги – перережем ему глотку и махнем в Боспор! На царскую службу!
Месвинт, возглавлявший «партию завистников», возражал им вместо меня.
– Дурни вы! Зачем человеку голову морочите? Что ему в Боспоре вашем вшивом делать?! У него в Риме дом такой, что под его крышей вся наша деревня поместится!
При упоминании дома, сколь бы ни был он переоценен фантазией Месвинта, сердце мое сжалось. Увы, судьба моей римской обители, что располагалась меж улиц Клодия и Фламиния, невдалеке от садов Лукулла, была мне известна: Фабия продала ее вместе с мебелью. Под моей любимой яблоней, на моей любимой кровати теперь не стихи составляет, но ведет хозяйственные ведомости разбогатевший сукновальщик по имени Цезоний Помпей. Как легко понять из имени – сын одного из многих тысяч отпущенников Гнея Помпея. Я лишен большинства предрассудков настоящего столичного жителя из старинного рода, но даже мне делалось не по себе при мысли, что мое гнездо обживает безродный деловар.
Был в этом недобрый знак. Знак эпохи, пока еще не наступившей, но лишь просвечивающей сквозь чащобу грядущих лет. Торговцы и домовладельцы, поставщики деликатесов и возницы, разбалованные обожанием зрителей, – весь этот ухватистый народ, если только его не остановят законы против роскоши (а ведь не остановят), с течением времени вытеснит из Рима то скромное величие, которое досталось нам от предков. Город наш превратится в подлинное захолустье. Огромное, раскинувшееся на девяти холмах и далеко за их пределами, самовлюбленное, полуграмотное, глухое к зову вечности захолустье.
Впрочем, что мне до того? Вышагивая по херсонесской пристани, я был пока еще очень далек от Рима даже в его теперешнем качестве.
4. На вопрос «Хрисиппа-зерноторговца знаешь?» всякий херсонесит считал за честь ответить утвердительно.
Когда я просил показать дорогу к его дому, я получал каждый раз невероятно многословное руководство к действию. «Отсюда направо, сразу будет улица Портовая, по ней вниз до второго перекрестка, там налево. Увидишь священную оливу, которую посадил собственноручно Гомер, когда посещал наш город накануне Троянской войны. За ней идешь прямо до статуи Диофанта, там кривой проулок, ты смело в него! – и сразу будет дом с красивыми расписными стенами. Там и живет твой Хрисипп. Привет ему передавай от Ламета Феодосийца, пусть будут ему здоровье, преумножение богатства и прирост в семействе. И ты здрав будь, чужеземец».
Так, наулыбавшись на тысячу ассов и наговорив ворох любезностей, херсонесит отправлял меня в безнадежные блужданья по нешироким улицам и тесным улочкам, которые либо приводили меня в глухой тупик, заваленный строительным мусором, либо к храму Херсонаса, городского божества-покровителя.
Я даже начал подозревать, что этот Херсонас чего-то от меня хочет, если с таким завидным постоянством приводит к себе снова и снова.
«Надеюсь, он не думает, что я должен принести в жертву самого себя, чтобы мое скромное желание повстречаться с Хрисиппом наконец исполнилось?» – уныло шутил я, отворачиваясь от храма в поисках нового советчика.
Я, конечно, не догадывался, что и на самом деле участвую в жертвоприношении, где на алтарь возлагается не нечто вещественное, а внечувственная умозрительная категория.
– Хрисиппа ищешь? Богатея? Радуйся, чужеземец, потому что мне известны и этот достойный человек, и дорога к его гостеприимному дому! – воскликнул очередной осведомленный прохожий. – Ты должен обойти вот этот храм слева…
У меня возникла спасительная идея.
– Погоди-ка, друг, – перебил его я. – А что ты скажешь, если я предложу тебе немного заработать?
– Только дурак не хочет заработать. Богоугодными образом, конечно. Впрочем, если Херсонасу было угодно, чтобы я встретил тебя прямо перед его священной обителью, то богоугодными можно счесть любые твои предложения!
– А ты софист, – я вымученно улыбнулся. – Это внушает доверие, ведь софисты разбойничают только на дорогах логики. Вот мое предложение: проведи меня к дому Хрисиппа – и получишь золотой.
– Какой золотой?
– Римский квинарий.
– Я не знаю сколько это будет на наши серебряные деньги. Может оказаться, что цена моей услуги выше – два или три римских квинария! Давай зайдем для начала к меняле, хочу знать курс!
– Хорошо. Три квинария – и никакого менялы.
– А если окажется, что моя услуга стоит пять?!
Я достал одну монету с квадригой на реверсе и профилем юного Августа на аверсе.
– Это свежий, неистершийся римский квинарий, ценою в двенадцать с половиной серебряных денариев. И ты хочешь пять таких? Да я за сумму вдвое меньшую могу нанять процессию с музыкантами и дрессированными слонами!
– Ладно, по рукам.
И что же?
Да, он отвел меня к большому дому, перед которым было выложено разноцветными камушками «Здесь живет Хрисипп». Как и следовало ожидать, выяснилось, что я уже несколько раз проходил неподалеку, наблюдая этот дом то с одного, то с другого перекрестка. Правда, на стенах жилища Хрисиппа не было и следа росписей, «красивых» и «роскошных», какие сулила молва, потому раньше я и не думал подходить ближе.
– Пришли. Давай деньги и будь счастлив.
– Погоди-ка… А где же росписи? Я слышал, что у Хрисиппа на стенах нарисованы аргонавты и подвиги этого… вашего местного героя…
– Диофанта? А, слушай дураков больше! У них в головах до того пусто, что ласточки могли бы строить там гнезда! У нас полгорода путает Хрисиппа с Хариппом! Вот уж у кого все размалевано, не исключая и кухни! Но ведь тебе нужен Хрисипп, а не росписи?
– Мне нужен Хрисипп, – терпеливо сказал я. – Главное, чтобы с Хариппом его не спутал ты.
– Никого я ни с кем не спутал! Скорее же выдай мне деньги!
С этими словами мой проводник крепко схватил меня за локоть и принялся препротивно теребить. Я терпеть не могу, когда меня хватают. Поэтому я сразу же ударил его по руке – чтобы он отцепился.
– Так ты драться! – заверещал он.
Не знаю, чем бы все закончилось, если бы на шум, поднятый нами, из дома не вышла богато одетая женщина. Из-за ее спины выглядывал долговязый юноша – вероятно, парасит, – с суковатой палкой.
– Что вы тут устроили?!
– Почтенная Евклия! Скажи этому бессердечному чужеземцу, что ты – супруга Хрисиппа.
Хозяйка, названная Евклией, посмотрела на меня долгим, испытующим взглядом мытаря.
Ответ ее меня потряс:
– Не знаю, не знаю… – («Она что, душевнобольная? – я испугался. – Как это понимать: «не знаю»?!») – А откуда ты, чужеземец?
– Я прибыл сюда с купцом Артаком из Истрии. И привез привет Хрисиппу от Филолая. Но что значит «не знаю», если тут, прямо вот тут, у меня под ногами, камушками выложено: «Здесь живет Хрисипп»? Скажи: ведь твой муж зерноторговец, так?
– Ах от Филолая… – протянула Евклия, проигнорировав мои вопросы. Она продолжала смотреть на меня с недоверием, но теперь к нему примешалась и капля любопытства. – А кто такой Филолай?
– Брат Хрисиппа, твоего мужа. Если, разумеется, твой супруг – зерноторговец Хрисипп.
– Ладно, проходи, – смилостивилась Евклия.
– Вот видишь, все разрешилось! – воскликнул мой проводник. – Так что плати – и будь счастлив!
Я нехотя выдал ему обещанные квинарии. О том, что во всем происходящем может таиться некий зловещий подвох (а вдруг софисты разбойничают не только на дорогах логики?), я старался не думать.
5. Хрисипп болел – таково было истинное положение вещей и таков был ключ к разгадке странного поведения большинства херсонеситов, в том числе Евклии. Правда, чтобы все это понять, требовалось знать кое-что из истории местных священных установлений.
– Это наш старый городской обычай, – объяснял хозяин дома. – Когда телом почтенного гражданина овладевает болезнь, надо принести жертву Херсонасу. В старые времена поступали просто: брали раба или осужденного преступника – и закалывали его. Потом стали ограничиваться бичеванием. Бичевали так, чтобы человеческая кровь окропила алтарь. Но все в мире меняется. В том числе и священные установления. Двести лет назад Дидим, один из городских архонтов, отравился грибами. Проверенное средство – настой луковиц лилии на вине – не помог. Дидим готовился отойти в царство теней. По традиции, жрецами Херсонаса было назначено бичевание одного из его рабов – жребий выпал на некоего Таврика. Но человеколюбие Дидима, которое уже тогда вошло у нас в поговорки, было столь велико, что он сам оделся в грубое рванье и, превозмогая недуг, отправился в храм Херсонаса. Он закрыл лицо и подражал просторечному выговору своего раба Таврика так искусно, что никто не заподозрил подмены! А на спину себе архонт подложил наполненный бычьей кровью бычий же желудок, закрыв его вывернутой козьей кожей, натертой мелом! Так что в полумраке храма казалось, что это и есть спина раба Таврика! И вышло, что бич рассек не человеческую кожу, но козью, а кровь, залившая алтарь, была бычьей! Потом Дидим, охая и ахая не для виду, ведь отрава медленно, но верно убивала его, вернулся домой и собрался с чистой совестью умереть. Однако на следующий день Дидим выздоровел!
Надо заметить, что, когда люди рассказывают подобную небывальщину, в их глазах слушатель обычно видит либо восторженную веру, либо тоску по прошедшим счастливым временам, когда было возможно такое, а сверх того еще и не такое. Таким рассказчиком, например, был Барбий. Да и Маркисс, пожалуй, тоже.
Хрисипп же, когда рассказывал об архонте Дидиме, поглядывал на меня взглядом испытующе-хитроватым. Учитывая, что я собирался просить у него помощи в путешествии через пять морей, а таковое путешествие могло состояться только в том случае, если бы он проникся ко мне доверием и разрешил сопровождать его товары на борту ближайшего корабля, мне следовало показать, что я вовсе не легковерный дурачок.
– История занимательная, – сказал я, – но не хочешь же ты сказать, что в нее веришь? Козья шкура, бычий желудок… Они что там – слепые были, храмовые прислужники, да и сами жрецы?
– Молодец! Молодец, Дионисий! Не верю! И тебя не заставляю! Но – уважаю городские предания, – уточнил он. – А потому: за что купил – за то продаю. И вот, когда Дидим вернулся с полдороги в Аид, он во всеуслышание объявил о том, что из человеколюбия решился на обман Херсонаса. А поскольку обман божества – прегрешение непростительное, он сам дивится тому, что воздалось за него не смертью, но избавлением от недуга. Тут, друг мой, едва не случилась в городе великая смута. Потому как если Херсонаса можно обмануть – а тебе за это ничего не будет, кроме хорошего! – то что же выходит: все позволено? Раб подымайся с топором на господина, сын с хулою – на отца?! До того, глядишь, дойдет, что жена возляжет за ужином вместе с гостями мужа?! Нет, шалишь! Но как успокоить народ? Как объяснить исцеление Дидима? Не было счастья, да несчастье помогло: скифы в том году в очередной раз усилились и вошли в херсонесские земли с разорительным набегом. В первой стычке наши были разбиты. Под угрозой оказались уже и сами городские стены! Про Дидима на время забыли и вышли против скифов, облачившись, как в последний бой. Все тщательно расчесали волосы, как следует натерлись маслом, начистили оружие. Был там и архонт Дидим. Правда, щит был слишком тяжел для него, истомленного болезнью, а потому его нес перед ним раб Таврик. Когда войска выстроились друг напротив друга, с моря налетел ураганный ветер и над бранным полем появился розовый пеликан. Пеликан нес в зобу плоский камень и, изрыгнув его, уронил на землю в точности между нашими и скифами. К этому камню бросились двое. От скифов – богатырь Палак, а от наших – раб Таврик, который, напоминаю, прикрывался щитом своего хозяина. Но панциря Таврик не носил, а потому бежал быстрее скифа. Когда он добежал до камня, Палак был от него еще в пятнадцати шагах. Скиф метнул в Таврика копье. Оно пробило щит и ударило отважного раба в висок. Однако, тот собрал в кулак все свои силы, поднял камень и, разозлившись, метнул его в Палака с такой силой, будто выпустил из пращи. Камень попал скифу точно в лоб и убил его. Таврик снял с убитого скифа холщовый панцирь, подобрал камень и вернулся к нашим. Этот поединок воодушевил защитников города и смутил скифов. Боя считай не было – стоило нашей фаланге выступить, скифы дрогнули и бежали.
– Какие впечатлительные скифы, – ввернул я.
Хрисипп предостерегающе поднял палец.
– Не это главное. Главное, что когда принесенный пеликаном камень, решивший судьбу сражения, внимательно рассмотрели, то увидели, что брызги крови Палака образовали на нем три греческие буквы «хи», «эпсилон», «ро»: ХЕР. А под буквами обнаружилось изображение змеи!
– ХЕР?
– Да. Начальные буквы имени Херсонаса! А змея – один из его символов, который ты можешь и по сей день видеть на наших монетах! Тут уже не составляло труда понять, что розовый пеликан появился над полем боя не случайно. А с другой стороны, никак нельзя было признать случайностью, что отчаянное геройство на глазах у всех мужей города совершил не кто-нибудь, а именно Таврик, чья кровь должна была бы окропить алтарь в храме Херсонаса ради здоровья Дидима, его хозяина!
– Хм. И впрямь, занятно. Готов биться об заклад, что все происшедшее было истолковано таким образом, что Херсонас принял обманную жертву от Дидима как бы авансом и исцелил доброго архонта. В то время как подлинная жертва – скиф Палак – обильно сдобрила кровью камень-»алтарь» Херсонаса, присланный божеством вместе с розовым пеликаном! Причем жрецом Херсонаса нечаянно выступил раб Таврик, убийца скифского богатыря!
– У тебя гибкий ум, чужеземец. Но мои соотечественники в те далекие годы не были бы греками, если бы не пошли в своих толкованиях дальше и не завязали бы свои мысли в Гордиев узел. Вот тебе вопрос: что же, все-таки, по их мнению, принес в жертву Дидим, когда отправился под жреческий бич вместо своего раба Таврика?
Хрисипп внимательно следил за мной. Ему, вероятно, показалось, что вопрос этот будет мне не по зубам. Но ответил я на удивление легко, не задумываясь ни на миг.
– Истину.
Зерноторговец удовлетворенно кивнул.
– Именно. Истину! После этого наши священные установления были переписаны. И отныне, когда какой-то знатный человек болеет, жрецы за отдельную – и довольно значительную – плату оповещают об этом херсонеситов. Тогда всякий, кто желает своему соотечественнику блага, лжет о нем напропалую. Чтобы тот поскорее выздоравливал. Особенно же поощряется лгать чужеземцам.
Я улыбнулся.
– Ну да, ведь вы тем самым потихоньку, безобидно приносите в жертву и терпение чужеземца! Честное слово, если бы я не встретил человека, который желал тебе зла, я бы окончательно заблудился в лабиринте ваших улиц!
– Какой это человек желает мне зла? – насторожился Хрисипп.
– Я не спросил у него имени. Такой светловолосый хлыщ, лет тридцати, я один раз назвал его софистом и он не возражал. Он проводил меня прямиком к твоему дому. Следовательно, он не солгал.
– А что он говорил тебе?
– Что куда-то торопится. И что многие горожане путают тебя, Хрисиппа, с Хариппом.
Хрисипп вздохнул с облегчением.
– Это, похоже, Эпимах. Как и все лодыри, он всегда торопится… Нет, он не желает мне зла. У него, видишь ли, натурфилософское восприятие вещей. По его мнению, божественная воля скрыта от разумения простых смертных. И потому наивно полагать, что жертва перед лицом Херсонаса – хоть истиной, хоть желудями – может кому-либо помочь с исцелением. Мир же состоит из неделимых частиц-атомов, каждый человек – вихрь из таких частиц. Когда в вихре случается разлад, человек болеет.
– Вихрь! Как там было у Аристофана…
Нет никакого Зевса, мой сынок. Царит Какой-то Вихрь. А Зевса он давно прогнал. 8Зерноторговец кивнул.
– Точно. Я думаю, Эпимах кончит тем же, чем и аристофановский Сократ… Но пришло время поговорить о тебе. Скажи, ты давно видел моего непутевого брата Филолая?
– И двух месяцев не прошло.
– Как он? Варварствует?
– По-моему, он счастлив. Знаешь, когда у человека все в жизни сложилось, это сразу видно.
– Даже если сложилось совсем не так, как хотелось бы его семье… – Хрисипп печально покачал головой.
– Даже если.
– Ну а сам-то ты чего ищешь? Что у тебя должно сложиться?
– Мне надо в Рим. Филолай говорил, ты можешь мне помочь.
– В Рим… Я отряжаю корабли только до Синопа и Византия. В лучшие годы – до Пирея.
– А сейчас какой год?
– Надеюсь, для меня – лучший. Когда в прошлом году взошел Пес, Луна находилась в знаке Весов. Это верная примета, что в Египте случился недород пшеницы и в Аттику наверняка не завезли зерна в должном количестве. Поэтому я намерен поспешить до египетского урожая этого года и отправить в Пирей часть своих старых запасов. Жду лишь подтверждения своих ожиданий, вестник прибудет со дня на день.
– Пирей меня вполне устроит. Мне главное вырваться из зачарованных вод Понта Эвксинского. А там уж как-нибудь.
– Из зачарованных вод? Почему ты так сказал?
– Тут есть места, где все совершенно… совершенно иначе… Не как в Риме. И даже не как в Томах. Когда я проходил Эионы на либурне Артака – знаешь, это…
– Эионы знаю. Артака тоже знаю.
– Так вот, когда мы прошли Эионы, я понял, всем сердцем воспринял, что такое… не дичь даже, и не пустота… А такая…
– Ну.
Хрисипп подался вперед, словно ожидал от меня невероятных откровений.
– Такая вечность, – наконец нашелся я, – которая сопутствует лишь природе, что предоставлена самой себе. Орды птиц над головой, рыбье царство в водной толще. Каждый год у них сменяются поколения. Поколения рыб приходят и уходят, но больше не меняется ничего. И люди там не появятся еще тысячу лет. Или две. А если и появятся, то растворятся в этой зачарованности без остатка. Там не будет ни дорог, ни городов. Никогда.
– Так что же, по-твоему, и Таврия зачарована?
– К северу от Керкинитиды – да. Дальше – нет. А Херсонес так вообще мало чем отличается от италийских городов.
– Я ничего не понял, – удовлетворенно сказал Хрисипп (мне показалось, он ждал от меня каких-то других слов). – Но вижу, что тебе и впрямь надо отсюда выбираться. Больно ты нежный для Понта. Как бы не растворился в зачарованности… Деньги-то у тебя есть?
– Деньги есть. Но платить, честно скажу, я не готов.
– А ты наглец.
– Понимаешь, я все тщательно подсчитал. Получается, что, если я буду оплачивать дорожные расходы, то на жизнь в Риме у меня останутся сущие гроши. А мне, скорее всего, предстоит провести там несколько месяцев. Что же до римской дороговизны, я даже не буду ее описывать. Обитатели закраин ойкумены, я заметил, о ней осведомлены куда лучше, чем иные римляне.
Зерноторговец поморщился и демонстративно отвернулся к стене, как будто от меня воняло.
– Ты хочешь, чтобы мой корабль вез тебя бесплатно? В Синоп, а оттуда еще и в Пирей? И это только потому, что ты якобы встречался с моим чудилой-братом?
– Я все продумал. Ты возьмешь меня на корабль не в качестве нахлебника, а – работником. Назначишь мне жалованье. А потом это же жалованье твое доверенное лицо вычтет с меня в качестве платы за путешествие.
– И что ты можешь? Плотничать?
– Нет.
– Ставить и убирать паруса?
– Нет.
– Великолепно! Гребец из тебя не получится – мяса на тебе слишком много, да и не в тех местах, где требуется! Помощник кормчего? Страшно себе представить! Ну? Еще мысли есть? Что ты вообще умеешь?
– Обучен приемам с оружием.
– Посреди моря это тебе пригодится! Ты готов сразиться с бурей и выйти из схватки победителем?
– Готов. Но ты мне все равно не поверишь, ведь так?
– С этим лучше к Филолаю… Скажи, ну есть же у тебя какое-то умение? Как ты заработал те самые деньги, которыми не хочешь со мной поделиться?
– Парфюмерия.
– Та-ак… Парфюмерия. Еще лучше. Будешь румянами моих матросов мазать? Глаза капитану сурьмить?
– Как скажешь.
– Ох, чужеземец… рассмешил… и утомил. Зря я прервал свой целебный отдых… Ступай, Евклия тебя накормит. Но, сдается мне, не взойти тебе на мою диеру. Никак не взойти.
Я благоразумно промолчал, памятуя настоятельное требование Филолая не платить Хрисиппу не гроша.
6 . На диеру, которая отплыла из Херсонеса через три дня, я все-таки попал.
Тому способствовали три обстоятельства – по одному на каждый день.
Вначале корабль из Синопа принес весть: неурожай случился страшный. Конечно, в Италию из всяких житных провинций вроде Мавретании ринулись корабли и кораблики с прошлогодним зерном (у кого оно осталось). Но все равно цены на хлебном рынке в Остии самые что ни на есть олимпийские – как в годы гражданской войны.
На следующий день все недуги Хрисиппа как рукой сняло.
Похоже, вопреки скепсису софиста Эпимаха имело место божественное вмешательство Херсонаса. Либо уж вихрь, коим являлся Хрисипп, вновь закрутился-засвистел как надобно по неким незримым, но естественным причинам. Впрочем, второе первому опровержением не служило. Если вдуматься, кружение Хрисиппа-вихря могло наладиться по воле Херсонаса, разве нет?
Зерноторговец заметно приободрился и принял решение: «Эх, была не была, снаряжу-ка я в этом году один корабль прямо в Остию! Не буду все сдавать в Аттике, попытаю счастья в Италии!»
И, наконец, утром третьего дня Хрисипп вновь обратил свое внимание на мою персону.
– Радуйся, Дионисий! У тебя появилась надежда доплыть до самой Остии. Я намерен поручить тебе надзор над товаром.
– Лучше и придумать ничего нельзя!
– Но – одно условие. Если мое зерно разворуют птицы, попортят черви или жуки, если оно заплесневеет или сгниет – я взыщу с тебя всю его продажную цену.
После чего Хрисипп назвал некоторую сумму. Не могу назвать ее огромной, но она была значительно больше той, которой я располагал в то время и на которую я мог рассчитывать в обозримом будущем.
– А если я не смогу расплатиться?
– А если не сможешь, то Телем, капитан корабля, продаст тебя в рабство.
– Продашь, даже не взирая на мою дружбу с Филолаем, твоим братом?
– Во имя Филолая я тебя привечаю в своем доме уже четвертый день!
– Но как я могу обещать, что твое зерно не пропадет?! Я же не агроном! И не ученый!
– Ты парфюмер. Так?
– Так.
– Ты собирал травы, делал мази и притирания. Так?
– Ну и что?!
– Справишься.
О том, как погибли крыса и Сарпедон
7. Так и получилось, что я взошел на борт «Бореофилы», отягощенный не только оружием и кое-каким провиантом, предусмотрительно закупленным в городе, но также двенадцатью лекифами, шестью пиксидами, тремя амулетами и вспомогательным снаряжением (пестик, ступка, котелок, сушеная тыква, тростниковые трубки, переносные мехи, запальные соломинки).
Сосуды и коробочки содержали вещества для приготовления отравленных смесей, хорошо известных любому ученому агроному. Амулеты же выступали в качестве преторианской гвардии. Их магическую силу следовало призвать на помощь в том случае, если другие средства не выдержат напора вредительских полчищ.
«Бореофилой» звалась грузовая диера, над которой начальствовал капитан Телем. Поскольку, в случае моей неудачи на поприще жукоборения, Телему предстояло продать меня в рабство, у нас сразу же установились особые отношения.
Капитан бросал на меня благосклонно-хищные взгляды, как сытый лев на ягненка, привязанного к дереву посреди глухой чащобы. Я же всякий раз приосанивался, расправлял плечи и возвратным взглядом отвечал: «Не дождешься».
«Да что с ним станется, с товаром?! – успокаивал я себя. – Амфоры заполнены здоровым, сухим зерном, сам видел. Они вполне прочны, на моих глазах были надежно запечатаны… И какие вообще в море могут быть воробьи? Какие жуки? Черви? Пусть Хрисипп спит спокойно, да и мне волноваться нечего… По крайней мере, пусть это будет моей последней заботой. Бури и пираты куда опасней!»
Поначалу все подтверждало мои ожидания. Жуки не наблюдались, черви тоже, а вот буря…. куда же без нее?
Трусливо прижиматься к берегу «Бореофила» не собиралась. Уже на второй день диера достигла мыса Бараний Лоб и, набрав полный парус столь любезного себе борея, устремилась от таврийских скал ровно на юг, в открытое море. Куда там топорным либурнам Артака!
– Если будет угодно Посейдону, через четыре дня мы снова увидим землю, – пообещал капитан.
«Четыре дня в открытом море! – ужаснулся я. – И то с милости Посейдона! А без нее – сколько?!»
Без милости, оказалось, полная декада.
Два дня мы шли по морю с попутным ветром, но затем благоприятный борей утих. Воцарился нежный штиль. Рею спустили, парус подвязали, но ненадолго. Ветер вернулся, однако был это уже не чистый борей, а фраский, который приходит из тех степей на северо-востоке, где прозябают наиболее свирепые, злокозненные сарматы.
К сарматам капитан Телем относился отрицательно: «Мой отец говорил, что летний фраский – дело рук сарматских колдунов». Зато с Римом он связывал самые радужные надежды: «Когда у Цезаря дойдут руки до наших краев, он должен будет первым делом расправиться с бубенаками. Уверен, уже близок тот день, когда степь заколосится крестами. На каждом кресте будет труп, а под трупом – табличка: «Здесь распят ветрогон-негодник Бубенак».
Бубенаками капитан звал всех сарматов без разбору. (Почему? Ну уж увольте, откуда мне знать.)
О том, что я дружен с одним из колдунов-бубенаков и, более того, этот колдун является братом уважаемого Хрисиппа, я предпочитал помалкивать.
Ветер крепчал от часа к часу. Когда мачта, а за нею и все корабельные сочленения начали натужно постанывать, парус пришлось убрать.
Что было потом?
Именно то, что случается, когда Нечто (или Некто) хочет тебя убить, либо просто напомнить о том, что убить тебя ему (Ему!) не составляет особого труда. Смерть, дескать, всегда рядом, не очень тут.
Сколько человек путешествовало на «Бореофиле»? Капитан Телем, его помощник, корабельный плотник, четверо матросов на парусе, двое кормчих, тридцать гребцов. Вместе со мной – ровно сорок.
Как выяснилось чуть позже, с нами путешествовала еще крыса. Крыса в обычном смысле слова: грызун с четырьмя лапками и предлинным хвостом.
Итого – сорок один.
Кому же из нас была адресована внушительная демонстрация небесной мощи? Тут можно строить самые разные предположения, но лично я склоняюсь в пользу крысы. По крайней мере, это единственное существо из присутствовавших на борту, о котором точно известно, что оно, во-первых, нуждалось в строгом педагогическом внушении, во-вторых, явным образом внушению не вняло и, в-третьих, было за свои преступления умерщвлено.
Но прежде, пять дней кряду, нас качало и крутило, болтало и заливало горькими волнами. Иногда мы получали короткую передышку, но затем стихии вновь брались за старое. Все двенадцать ветров боролись за право разбить диеру в щепки. При каждой перемене ветра капитан проклинал сарматов, бормоча: «Ну погоди, Бубенак, доберусь до тебя….»
Нас носило по всему морю. И я не взялся бы сказать, где наши поеденные крабами тела встретят рассвет нового дня: на песчаных отмелях Фракии или на скалах Колхиды.
Случались между тем чудеса и видения.
Матроса по имени Сарпедон смыло за борт, но вскоре, совершенно невредимого, забросило волнами обратно!
Неоднократно за кормою корабля возносились на тончайших шеях головы морских змеев с переливчатыми лилово-алыми гребнями на лоснящихся черных затылках. Змеи выглядели скорее восхищенными штормовым неистовством и любопытствующими в делах надводных, нежели алчущими нашей крови. Покрутив чешуйчатой головою туда-сюда, они исчезали так же внезапно, как и появлялись.
Несколько раз я видел дельфинов. Дельфины легко перепрыгивали через наш корабль, с левого борта на правый – но это уж точно примерещилось.
Когда же море вновь повернулось к нам своей лучшей, эвксинской, стороной, я обнаружил, что амулеты, которыми снабдил меня Хрисипп, пропали. Сосуды, ларцы и коробочки уполовинилось в числе – вторая половина благополучно превратилась в черепки и щепки. А в нескольких просмоленных тканевых крышках, которыми были запечатаны амфоры с зерном, сыскались свежие дыры. Пока я, привязав себя к скамье, катался на волнах вместе с кораблем, кто-то повадился воровать зерно!
Зерно Хрисиппа!
За которое я, неразумный, отвечал свободой!
А ведь через эти дыры в шторм могло нахлестать воды!
Зерну предоставлялась полная свобода отсыреть и заплесневеть!
Да… Было от чего прийти в возбуждение!
Пришлось Назону озаботиться теми самыми обязанностями, которых он надеялся счастливо избегнуть.
Капитан клятвенно заверил меня, что среди матросов воров нет и быть не может. Потому что в последнем плавании минувшего года (вместо «последнем» капитан, следуя моряцким суевериям, говорил «крайнем») он, Телем, показательно скормил морскому змею мерзавца, который был уличен в воровстве.
«Ищи крысу!» – таков был вердикт капитана.
Я не разделял его веру во всепобеждающую воспитательную силу публичных казней и потому продолжал подозревать одного из гребцов. Однако, имея некоторый опыт в уголовных расследованиях, я не собирался пренебрегать и конкурентными версиями.
«Либо вор – человек, либо – нет. Положим, не человек. Тогда кто? Либо существо высшей по отношению к человеку природы, либо – низшей. Положим, высшей. Что нам известно о существах высшей природы?.. Чем они питаются? Амброзией и жертвенным дымом. А зерном? Зерном – это вряд ли. Не говоря уже о том, что подозревать в хищении существо высшей природы – святотатственно. Стало быть, остаются существа низшей природы: рыбы, птицы, звери, гады… Разумно ли подозревать рыбу? Неразумно…»
И так далее.
«В общем, может и крыса, да», – нехотя согласился я с капитаном.
Я кое-как запечатал поврежденные крышки амфор и без особого энтузиазма объявил крысе войну. Хотя и продолжал сомневаться в самой возможности пребывания зловредного грызуна на корабле такого рода, каким являлась диера. Думалось мне, что выхожу я на бой с фантомом, порожденным моею мнительностью.
Я взял уцелевший лекиф, наполненный молотой сухой полынью, и другой, с селитрой. Обе эти субстанции я перемешал и засыпал смесь в высушенную тыкву. С одной стороны я подсоединил к тыкве маленькие мехи, а с другой – длинную трубку. Сверху я воткнул запальную соломинку, пропитанную смесью той же селитры с оливковым маслом, и взял свое оружие наперевес…
О, я был грозен! Теперь оставалось прогнать всех мореходов подальше из кормы в нос, чтобы не потравились, и применить дымометательную машину по назначению.
Я спустился на уровень ножных упоров для гребцов нижнего ряда. В воздухе колыхались рои наимельчайших мерзких мушек. Ощутимо пованивало – само собой, на днище диеры, под камнями балласта, стояла загнившая, черная вода. Вот именно туда, в эту вонь, в эти сумрачные пустоты меж камнями, я и собирался выпустить облака ядовитого сернистого дыма.
Я присел на корточки и принялся высматривать как бы посподручнее пристроить свою машину. Так, чтобы трубка вошла как можно дальше, а мехи обосновались на чем-нибудь плоском и надежном.
Как вдруг, самым краешком глаза, я уловил какое-то движение. Повернул голову…
Огромная черная крыса, то ли не замечая меня, то ли, скорее, пренебрегая моим присутствием, сидела совсем близко, на соседней доске – осклизлом ножном упоре.
У нее во рту что-то тихонько похрустывало, будто песчинки терлись одна о другую между жерновками. Один заслуженный фракийский крысолов, большой охотник послушать «садовые рассказы» Маркисса, как-то рассказывал мне, что этот звук называется крысиным мурлыканьем и производится трением верхних зубов о нижние.
Признаюсь, от неожиданности я даже испугался. И ударил крысу тем, что держал в руках: дымометательной машиной.
Тыква лопнула, обсыпав крысу смесью селитры и полыни. Грызун издал нелепый звук – будто бы испустил ветры – дважды брыкнул задними лапами и… издох. Что противоречило всем моим представлениям о баснословной живучести этих тварей.
Вскоре ко мне спустился капитан Телем.
– Да сколько же можно хохотать?! – спросил он. – Ты что, пьян? Что случилось?!
Ну что я мог ему ответить?
Что этот загорелый, обросший некрасивой бородой, немолодой человек в застиранном тряпье, который хохочет, завалившись на балластные камни, некогда ходил в славнейших поэтах Рима? Что носит он славное древнее имя Публий Овидий Назон, а вовсе не Дионисий – так я представлялся всем в Херсонесе, тщательно блюдя свое инкогнито? И теперь он, Назон, автор тучного сонмища знаменитых виршей, иные уже в «народные» угодили, вот этот самый автор, понимаешь ты, морда лесостепная, валяется рядом с трупиком крысы-воровки и хохочет?
Вот что смешно. Валяется и хохочет.
8. И увидели мы Азию…
Берег был скалист, темен, безлюден.
Мы трижды, как заведено, прокричали «Гайа!», отслужили скромный молебен Посейдону и пошли на веслах вдоль берега к Босфору.
Многодневное ненастье отнесло нас далеко в сторону от Синопа. К счастью, сносило нас к западу, а не к востоку. Путь наш до Босфора, таким образом, укоротился на пару сотен стадиев. И на том спасибо. Правда, почти сразу открылась острая нехватка провизии и пресной воды. Запасы Телем привык пополнять именно в Синопе, а к западу от этого города земли простирались довольно дикие. Но возвращаться Телем не захотел, а потому мы продолжили плыть на запад.
На следующий день скалы сменились холмами и мы наконец заприметили мутную речушку, от которой по морю расползалось уродливое буро-молочное пятно.
Хотя вода в реке после недавних дождей полнилась глиной и мусором, мы поспешили пристать к берегу близ ее устья – нас мучила жажда.
Мореходы сгрузили на землю несколько больших сосудов и наполнили их ужасающе грязной жидкостью. Затем они соорудили из подсушенной травы, уложенной в сито, нечто вроде винного цедила и пропустили воду через него. Не сказал бы, что после этой процедуры вода превратилась в родниковую.
– Ничего, за пару дней отстоится, – заверил капитан. – Но придется заночевать на берегу. Если сразу пойдем морем, даже самая слабая качка взбаламутит воду.
– Не вижу разницы, – заметил я. – Отстоянная на берегу, вода сразу же взбаламутится, как только мы отплывем…
– А ты дурак, братец, – хмыкнул Телем. – Разумеется, верхние две трети отстоянной воды мы перельем в другие сосуды. Для того и надо ее отстаивать! Зачем нам глину на борт тащить?
«В самом деле, дурак», – согласился я.
Впервые за десять дней засыпая на твердой земле, я еще не знал, что главное сражение за зерно Хрисиппа и за свою свободу мне предстоит дать уже завтра…
Говорят, Александр Великий в день знаменательной битвы при Гавгамелах, погубившей Персидскую монархию, спал до самого полдня. И лишь когда войска македонян и персов выстроились друг против друга, когда конница Дария уже двинулась вперед, соратники Александра разбудили-таки своего царя, который и привел их к победе.
Так и я – вскочил только тогда, когда враг уже стучался в ворота.
Да что там в ворота! Враг карабкался на стены, рыл подкопы и вообще: лез во все дыры.
Прибрежная полоса шевелилась, шуршала, поскрипывала.
Жуки!
Чуя беду, я вскочил на ноги и побежал к «Бореофиле», отдыхающей на берегу.
Днище и борта диеры были густо обсижены теми же жуками. Небольшие, длиной с ноготь, и совсем узкие, их блестящие панцири казались то ли смоляными брызгами, то ли осколками черного камня.
Полоса прибоя кишела той же гадостью! Повинуясь неведомым своим самоубийственным жучиным влечениям, миллионы насекомых устремлялись с холмов к морю, кружили над волнами, падали, барахтались в воде, погибали…
Собственно, если смотреть на поведение армии жуков в целом, оно виделось не более осмысленным, нежели роенье снежинок в колючем хаосе вьюги. Львиная доля черных жужжащих снежинок тонула в море, почти все остальные бесцельно копошились в песке, но даже та крошечная часть, которая облепила «Бореофилу», являла собой когорты неисчислимые. И когорты эти чуяли кучи вкусного зерна на борту корабля, а потому действовали уже вполне осмысленно.
Матросы и гребцы не мешкали. Прихватив каждый свою долю сухарей с воблою, они быстро очистили припасы от жуков, стянули с себя лохмотья и тщательно завернули в них еду.
А до пшеницы, Хрисипповой пшеницы – моей пшеницы, в конце концов! – дела им не было.
Я бросился к драгоценному грузу. И увидел самое страшное из всего, что можно было увидеть…
Амфоры облеплены смоляными исчадиями тартара. Крышки амфор – вчетверо от того. Лапки, челюсти, усики тварей неустанно шевелятся. Воск они живо пожирают. Тряпицы исчезают в их желудках как будто их и не было никогда. Кое-где уже наметились прорехи… И страшно себе представить что будет, если хотя бы десяток гаденышей закопается в пшеницу! Что мне, садиться все зерно перебирать? Да его тут сотни медимнов! Тысячи!
А если махнуть рукой, то, зная неутомимость насекомой мелюзги в размножении, рискуешь получить за месяц путешествия амфоры, наполненные одними жуками вперемешку с их же экскрементами!
При мысли о такой перспективе меня едва не стошнило.
– Где Телем?! – крикнул я мореходам.
– А зачем он тебе?
– Зачем?! Затем, друзья, что нам надо немедленно уходить в море!
– Еще чего! А что мы будем пить?
– Другую реку найдем.
Из кучки гребцов выступил тот самый Сарпедон, который пятью днями раньше в бурю вывалился за борт, но был заброшен волнами обратно. С Сарпедоном я и вел дальнейшую беседу.
– Не годится, – покачал он головой.
– Так, любезный, ты мне порассуждай тут еще! Порассуждай! Последний раз спрашиваю: где Телем?
– За холмы пошел. С кормщиком и еще двумя парнями. Сказал – на охоту. Но знаем мы ту охоту… Собрались, небось, пару козочек из ближайшего стада того…
– Что «того»? – зная повадки простого люда, особенно мореходов, привычных обходиться без женщин неделями, но вовсе не желающих обуздывать любострастие возвышающими размышлениями, я заподозрил в этой недоговоренности намек на радости скотской страсти.
– Ну того… Купить забесплатно… Жрать-то считай нечего…
(«О, идиот! Он слово «украсть» вслух произнести стесняется! Небось, очередное моряцкое поверие…»)
– Беги за капитаном.
– И не подумаю.
– Послушай, мерзавец. Если ты сейчас же не поспешишь за Телемом, мы не выйдем в море. А если мы не выйдем в море, жуки попортят весь наш товар. А если они попортят весь наш товар, Телем скормит тебя морскому змею. И всех твоих дружков тоже.
– Он тебя скормит. А нас – нет.
– Ленишься бежать за Телемом, подымись сюда и помоги мне расправиться с жуками!
– Жуки – твоя забота. Я гребу каждый день от рассвета до заката. А ты валяешься днями напролет в корме и чешешь яйца. Теперь твоя очередь хреначить!
Сарпедон сделал непристойный жест, энергично напружинив кулак на уровне своих гениталий. Обидный гогот его коллег довершил картину моего полного морального разгрома.
– Будь ты проклят! – в сердцах припечатал я и опрометью бросился обратно, к нашему зерну.
Мне предстояло победить или погибнуть. В одиночку, без всякой посторонней помощи и без надежды на отступление.
Первым делом я взялся смахивать жуков с крышек и безжалостно топтать тех, которые попадались мне под ноги. Но, пройдя таким образом примерно половину амфор, я обнаружил, что полусъеденные крышки в начале ряда вновь исчезли под живыми волнами неостановимой мрази.
Я горестно выругался, но все-таки, быстро-быстро заметая ладонями, прошелся по всем амфорам до последней. Голыми руками получалось не больно-то убедительно. Стоило мне очистить одну половину амфор, как другая сразу же вновь поглощалась новой волной нападающих.
Следовало немедленно обратиться к ядам в уцелевших сосудах и пиксидах.
После потерь, понесенных по вине ненастья и в ходе крысиной охоты, я располагал: молотым диким ориганом; смесью мяты, бессмертника и гипса; тертым оленьим рогом; сушеными листьями лавра; вонючей серой мазью, название которой забыл; ядреным уксусом с растворенным в нем винным камнем.
Касательно дикого оригана я помнил, что он помогает от муравьев. Смесь мяты, бессмертника и гипса именовалась Хрисиппом «червебойкой». Олений рог якобы не любили воробьи (не верю). Листья лавра предохраняли зерно от особого вида белой плесени. Назначение вонючей серой мази было мною позабыто вместе с ее названием. И, наконец, уксус сулил победу над теми муравьями, которые устояли бы перед ориганом.
Это было лучше, чем ничего. И все же, я был готов разрыдаться. Ведь среди прибранных стихией предметов значился крупный лекиф с синим порошком – действенным средством против жуков! И если бы только я не проявил преступной беспечности и закрепил свои вещи получше, синий порошок помог бы мне отразить нашествие одним смертельным ударом!
Оставалось уповать на то, что жуки, будучи до известной степени родственны муравьям, отступят под натиском пахучего оригана.
Действительно, когда я посыпал жуков душистой травой, черные налетчики забеспокоились, засуетились и почли за лучшее покинуть крышку амфоры. Воодушевленный успехом, я применил оставшийся ориган и добился успеха, но… Но зелье закончилось на первой трети сосудов.
Пришел черед уксуса. Уксус действовал лучше и его хватило на весь остальной товар.
Первый бой был выигран. Но ориган разносило ветерком, уксус обещал скоро выветриться… Расслабляться не следовало!
Я взялся за порошок из оленьего рога.
Увы. Воробьев он, может, и отпугивал, но жуки его проигнорировали.
Наконец, вонючая мазь и лавровый лист. Мази хватило ровно на то, чтобы пометить горловины всех амфор. Возымеет ли она действие, я не знал.
Что делать с лавровым листом? Отварить, разумеется!
Как ни противны мне были гребцы после их гнусного хамства, я все же потащился к ним, чтобы отобрать пару охапок собранного с вечера плавника, и занялся приготовлением лаврового отвара. Благо, ни малейших начатков поварского искусства в том не требовалось.
Когда кипящая вода уже приобрела заметный желтоватый оттенок, с макушки ближайшего холма с невероятной быстротой скатились Телем и его спутники. Помощник Телема тащил подмышкой отчаянно блеющего козленка. Самый рослый из гребцов волок на плечах окровавленную тушу овцы.
– Корабль на воду! Живо! – заорал Телем издалека.
Вот что значит капитан! Со мной его гребцы были готовы препираться часами, выказывая вопиющую, немыслимую в отношениях между полуэллинами и чистокровным римлянином непочтительность. (То, что они считали меня греком Дионисием, их, если вдуматься, не извиняло.) А вот Телема эти мастера ковыряния в море боялись нутряным страхом тягловых животных. Они разом подскочили и, хрустя жучиным ковром, бросились выполнять приказание.
– Скорее, если вам жизнь дорога! – подгонял Телем.
В мгновение ока «Бореофила» оказалась в воде.
Полетела через борт овца.
За нею – козленок. Кормчий ловко поймал его прямо на лету и прикончил, ударив с размаху головой о планширь.
Я, расплескивая дымящееся содержимое котелка, едва уговорил вскарабкавшегося на диеру Телема принять у меня драгоценную ношу. И, восхваляя Барбия за благоприобретенную в упражнениях, нестарческую свою силу, вполне успешно одолел шесть локтей надводного борта – последним из всех.
А по выцветшей азиатской траве, по островкам и рекам жучиного копошения, где только что пробежали Телем со своими подельниками, уже спешила погоня.
Толпа молодых людей верхом, на лошадях без седел, с одними уздечками, вооруженная луками и легкими дротиками. Наверняка – либо пастухи стада, обворованного Телемом, либо единоплеменники этих пастухов, либо просто разбойники. А то и без «либо»: разве разбойники не могут владеть стадами?
Употребляя невероятный, грязнейший греческий диалект, они поносили нас и призывали под страхом всех мыслимых морских несчастий вернуть украденное (как по мне – потеря не стоила таких страстей). Не прекращая браниться, они засыпали нас стрелами. Среди которых, к великому счастью, не было зажигательных.
И вот когда каждый гребец выкладывался за троих, стараясь превозмочь жестокий прибой и как можно быстрее отойти от берега, когда матросы прятались от обстрела под скатанным парусом, а Телем, загородясь единственным щитом, орал местным, что «еще вернется» и «закопает всех в морском песочке», я помнил лишь о своем долге.
На крышку каждой амфоры мною была вылита кружка свежего лаврового отвара. Горячая, пахучая жидкость текла по крутым бокам, убивая, калеча, внося смятение в ряды неприятеля.
Те жуки, которые не умерли на месте (а умерли многие!), впали в панику. Многие взлетели, закружились в воздухе и попадали на палубу, где и остались лежать, бессильно шевеля лапками.
Все они были мною безжалостно раздавлены.
Некоторое время еще прибывали жидкие отряды новых охотников до нашей пшеницы – из числа опоздавших. Однако эти жуки, идущие в арьергарде нашествия, завидев картину страшного разгрома, предпочитали за лучшее упасть в море. Понимали ведь и они, что позор поражения, понесенный их черным племенем, смыть могла только смерть!
Победа была полной. А главное – спасибо сердитой молодежи с луками! – ее результаты удалось закрепить. Ведь диера все-таки покинула негостеприимный берег, запруженный черной напастью.
К слову, сердитая молодежь упражнялась в стрельбе отнюдь не бесплодно. Овца и козленок были отмщены.
Когда я, не замечая ничего вокруг, ошпаривал жуков отваром из котелка, стрела вошла одному гребцу прямо в ухо. Наконечник вышел с противной стороны из-под нижней челюсти.
Через два часа гребец скончался.
Это был тот самый Сарпедон, который отказался помочь.
V. Назон чистит трубы
Рим, 12 г. н.э.
1. Помню, в Томах, на калитке во двор Барбия, висела предостерегающая табличка «Берегись собаки!» Но собаки у Барбия не было.
Скажу больше, собаку мой друг считал животным нечистым, неудачливым, вечно битым и презирал кабыздохов как рабы презирают рабов, а воры – аферистов.
– Выходит, табличка от прежнего владельца осталась? – предположил как-то я.
– Сам сделал.
– Но зачем? Неужто сармата надеешься собакой своей навранной отпугнуть?
– Сармата? Да нет. Я имел в виду в абстрактном смысле.
– Это как?
– Всегда нужно быть бдительным, – со всегдашней своей серьезностью отвечал Барбий. – Даже когда нет никакой собаки, нужно помнить про нее, пока за жопу не ухватили. Я это для себя написал. Чтобы бдительности не терять даже дома. Нет, особенно дома! Потому что в своем дому самые отъявленные собаки тебя стерегут. Самые волкодавы! Зубы – во! Когти – во! Я имею в виду, волкодавы в отвлеченном смысле. Мои волкодавы суть злоба, неверие и отчаяние…
Тогда обхохотал я доморощенного философа Барбия. Но стоило мне провести в Риме мой первый день, как рассуждение гладиатора – о свирепых волкодавах, что поджидают тебя в твоем дому – отчетливо мне вспомнилась. Меня, однако же, пугали не «духовные» волкодавы Барбия. Но собаки ночных патрулей, собачьи лица бывших клиентов, собачьи сердца бывших друзей.
Стоило мне добраться до Форума, где, бывало, кружил я в пестрых водоворотах сограждан целые вечера, пройти мимо колодца Либона, где в годы младые регулярно встречался Назон с шакальим племенем ростовщиков, я понял, сколь опасное предприятие затеял.
– Назон! Эй, Назон! Послушай, вон тот человек… Это не Публий Овидий Назон? – спросил за моей спиной незнакомый голос. Я заставил себя невозмутимо продолжить свою прогулку, я не обернулся.
– Да ты, Фортунат, вообще сбрендил?! Тот Назон в ссылке хрен знает сколько уже времени! В саму Британию наш Цезарь его заслал… Будешь так бухать и это вот самое, Цезарь и тебя туда отправит, и на папашу твоего не посмотрит! – сообщил глазастому незнакомцу его товарищ.
Больше на Форум я не заглядывал. И в термы Агриппы, где, бывало, сумерничал, веселый и пьяный, среди друзей и нетрудных в любви подруг – тоже. По Священной Дороге не прогуливался. А знакомые виллы, сады и книжные лавки обходил десятой дорогой. К театрам боялся даже приближаться. Как проказы сторонился всего, что связано с моим уютным вчера. Ведь знал я: Цезаря делает сенат, а человека – то, что привычно ему и любо. В Томах мне легко было казаться другим – потому что там я и был другим, Томы меня переменили. Резвые же воздухи Города неумолимо слизывали с меня полезную новую шкуру, коей оброс я во Фракии. И я чувствовал себя мимом, который намазался черной краской дабы играть эфиопа, но на полпути к подмосткам попал под ливень.
Ужас и страх! Чем дольше я вдыхал смрадные ветры Города, тем больше становился похож на самого себя. Тем обильнее тайные, нефизические сходства с тем, старым Назоном в моем облике проступали.
Эти сходства, опасался я, помогут недругу изобличить меня, Назона-воина – загорелого и жилистого, одетого в бедное потертое платье, волосатого-бородатого (три года в Томах я брился даже в лютые морозы, но на пути в Херсонес бороду все же отпустил). Именно они помогут узнать меня вопреки всем очевидным несходствам с тем, былым Назоном-пиитом.
За тысячу сестерциев я снял себе комнатушку на пятом этаже, под черепицами, на улице Большого Лаврового Леса. Снял на полгода. Надеялся, этого срока мне хватит.
Гигантская инсула, где я жил, принадлежала некоему Луцию, о котором стихотворная надпись в подворотне сообщала, что он «плут, выпить не дурак, говнюк и пидор».
К слову, надписей в той подворотне было много, причем крайне странных. Окончания некоторых двустиший глупенько перекликались между собой, например, первая строка оканчивалась на «розы», а вторая – на «морозы» и, очевидно, это было не случайностью, но замыслом. Уже потом я вспомнил, что Маркисс, которого однажды занесло в Галлию в свите одной знатной распутницы (она ехала навестить мужа-полководца), рассказывал мне, что дикари-галлы собезьянничали у нас не только одежду, но и поэзию. И, как это свойственно дикарям, слегка переделали ее под свои детские вкусы, так что стала она чирикать и кривляться, как будто высмеивая сама себя этими кровь-любовями, сапогами-пирогами. Вскоре оказалось, что в инсуле моей что-то вроде галльского землячества и теория моя как бы подтвердилась.
Громадина нашего дружного дома устало опиралась на деревянные костыли великанских подпорок и грозила обвалиться – стоит только трем жильцам одновременно испустить ветры.
Стыдный, бедный вид – закрытые лишь деревянными ставнями окна моих апартаментов выходили на облупившуюся стену другого многоэтажного дома, отличавшегося от нашего лишь расположением цветочных горшков и тем, что вместо галлов там жили сирийцы.
Грусть и нищета…
Я протопил жаровню, сбегал к фонтану за водой, сварганил ужин и… хозяйствовать мне вдруг категорически расхотелось (а ведь в Томах я прекрасно справлялся!).
Я был готов поклясться именем Фабии, что больше не вымою ни одной миски, не почищу ни одной луковицы – хоть засеките меня плетьми.
Пришлось купить косоглазого мальчика-раба (на косоглазых невольников была в тот день солидная скидка). Пока я вел его домой, к нам приблудилась ручная обезьянка.
Мальчишку звали Титаном, обезьянку – никак.
2 . Поиски Рабирия оказались делом многих месяцев.
Я знал, что метаморформность есть первый атрибут зла (как и добра, впрочем). Но не ожидал, что Рабирий в выражении этого атрибута достиг высот олимпийских.
Все, что было ему, согласно его уверениям, «до слез любо и дорого», не любым оказалось, да и не дорогим вовсе. В противном случае резонно было предположить, что Рабирий насмерть истек слезами.
Дом, который Рабирий называл «отцовским», оказался два года как продан за бросовую цену. Девочка Ливилла – ее всюду представлял он своей любимой вольноотпущенницей и показательно обожал – как выяснилось, не вольноотпущенницей была, но рабыней (я все проверил, подкупив кого следует).
Некогда стройная и ясноглазая, Ливилла оказалась замужней обитательницей закопченной каморки на шестом этаже. Она отяжелела и озлобилась, впрочем, озлобилась ворчливой злобою матрон, а не метафизической, безысходной злобой рабыни. Полтора года назад ее выкупил у Рабирия ее нынешний муж, торговец пряностями. Когда Титан зашел к ней, она кормила грудью упитанного карапуза. Говорить о Рабирии Ливилла наотрез отказалась. Зато матерно Титана излаяла, обозвав «проклятым жопником».
Квартиры, что некогда снимал Рабирий для интимных и дружеских встреч, оказались как одна пересданы по тридцать третьему разу. А на птичий рынок Рабирий, производивший впечатление заядлого птичника, и вовсе более не ходил (Титан дежурил там, среди сорок, синиц и попугаев, два месяца и каждый раз возвращался с ног до головы измазанный пометом).
Я проник даже в тайное святилище Сета в катакомбах на окраине Города. Но эти сборища египтоманов, озабоченных непонятно чем больше – контактами с «потусторонними сущностями» или своим рангом в иерархии посвященных – Рабирий уже давно не посещал.
Конечно, читатель вправе спросить меня, а как же Цезарь и придворная жизнь? Как же блистательный поэтический круг? Ведь не мог Рабирий, если только он в Риме, обходиться без общества равных? Быть может, оттуда следовало начать поиски?
Да, отвечу я. Именно оттуда и следовало бы начать мне свои поиски. В идеале.
Но увы! Те двери, что вальяжно распахивал я носком сандалии в бытность свою поэтом Овидием Назоном, для греческого зерноторговца Дионисия, коим я теперь прозывался, были всегда заперты.
К жилищам друзей, оставшихся мне верными, я подходить опасался (вот там-то, знал я, и смоют остатки эфиопской сажи с моего лица). А к домам влиятельных приятелей, где Рабирий, не исключено, вечерами лакомился павлиньим мясом и нильскими ракушками, даже приблизиться не удавалось. Африканские сторожа и германские телохранители – это сила сильная.
Днем встретить Рабирия на улице было практически невероятно. Если куда он днем и отправлялся, предпочитал носилки, где можно подремать. Как и многие звери тьмы, Рабирий оживал лишь после заката.
Мой сосед по дому на улице Большого Лаврового Леса с дрожью в голосе сказывал мне о забавах, что распространились с недавних пор среди золотой молодежи. Отпрыски богатеев, де, переодеваются простолюдинами, напяливают на головы шапки вольноотпущенников и слоняются по бедным кварталам, выглядывая жертву – заплутавшего бедняка, старика, которого выгнала из дома сварливая невестка, подвыпившего гулящего мальчика. Компания обступает несчастного, прижимает к зассанной стене дома, всячески глумится над ним, для смеху грабит и хорошо если только ногами бьет, а бывает, что ножом. Я был уверен, новое развлечение это способно увлечь Рабирия, ведь в нем есть все, что ему так нравится: обман, боль, злой кураж молодости и, главное, метафизическое оправдание: «Ведь этот дурак сам во всем виноват, нечего шляться по улицам ночью!»
Разыскивая Рабирия, я постиг одну полезную истину. Это когда ты состоятелен, тебе кажется, что ты един с толпой, един с Римом. Да, эти простолюдины оттоптали тебе все ноги! Они дышат на тебя чесноком и луком! Они говорят на нескладной, деревенской латыни! Сколько же их, боже! Понаехали! Они – пфуй! Они – фи! Но все-таки, тебе кажется, и порою это даже ощущается физически, что ты и толпа – вы едины. Вы вместе – римские граждане. Вы – соборное тело Города. Сводный же мир подворотен и портиков дружествен, един и проницаем. Ты можешь зайти куда угодно – в какую угодно лавку или дом, неважно бедный или богатый. И тебе кажется, что это могут все! Кроме ну разве что самых гадких на вид рабов и нелепых иноземцев. Мир приветлив и открыт для тебя – ты в нем родился, ты им управляешь, ты его сотворил.
Жизнь в шкуре грека-Дионисия меня образумила.
Мир непрозрачен. Он сотворен тебе и другим на муку. Ты – одинок. Рим – вонюч и недружелюбен. Все прекрасное и разумное растворяется в нем, как ложка меда в горячей ванне, не оставляя следа и, что особенно печально, не делая воду слаще. Римские граждане как общность существуют только в воображении дураков и политических демагогов. И потоки божественной любви, коими, как учат иные философы, пронизано пространство весенних рощ, коими пенится летнее море, ощутить в Городе невозможно, их себе можно только нафантазировать, чем я, ваш Назон, всю жизнь и занимался.
Это римские улицы солгали юноше-Назону, что соблазнить можно любую женщину, они заставили его написать об этом в «Науке»! Что ж… Полдня без денег – и я навсегда лишился этого милого заблуждения. Да, почти любую женщину можно купить – подарками, блеском родового имени или его имитацией, но соблазнить просто так можно лишь ту, что хоть на вечер, но тебя полюбила. Только кто полюбит тебя бедным?
Назон поднялся по крутой лестнице на третий этаж, вошел в нашу с Титаном спальню и упал на кровать.
Мой Титан вот уже четвертый день праздновал лентяя – простудился. Поначалу мне примерещилось, что я заслышал хрипы в его груди. Перетрухнув, я позвал дорогого доктора и даже купил ему четырех персидских мышей и крошечную повозку – об этой игрушке он давно и настырно мечтал.
– Я сварил тебе чечевичную похлебку, – мальчик неохотно оставил свое занятие (он запрягал мышей в повозку, потом гонял квадригу эту по полу на радость обезьянке) и отправился на кухню.
– Сварил? Молодец. Новости есть?
– Приходил раб из таверны Агесилая. Тот, которому я денег носил. Говорил, что у него есть новости, – Титан одним глазом смотрит на меня, а другим – в потолок. – Про этого человека. Про Рабирия.
Наконец-то. Не прошло и трех месяцев…
3. – Вообразите себе, друзья. Зашел я вчера к Цинне, а он весь в соплях. Красный, как рак, трясется, руки ломает. «Что такое, любезный мой?» – спрашиваю его. «Займи денег, нужно – край!» – говорит. «Что стряслось?» – спрашиваю. «Вляпался. Скупал тут земельные участки в Остии, что после пожара освободились. Выгодно было – жуть, цены смешные! Конкурентов растолкал. Главного конкурента, Ификрата, вообще в тюрьму упек, чтоб не очень-то. Уже барыш подсчитывал, а барыш там хороший рисовался! И тут выясняется, что Ификрат этот – доверенное лицо самой супруги Цезаря! И действовал он вроде как от себя, но на самом деле от ее лица! И от лица сынка ее Тиберия! Обозлилась Ливия страшно! Метала молнии, что твой Юпитер с сиськами! А мне теперь каково? Сижу и жду участи своей. На заступничество Меркурия уповаю. Сбежать в провинцию и то денег нет, все в дело вложил! Выручай, брат Рабирий! Ради нашей дружбы!» На коленях ползал, весь край тоги слюной своей противной измазал… Омерзительное и в то же время крайне поучительное зрелище!
– А ты Цинне – что? – близоруко щурясь, спросил Тигр, рослый молодчик лет двадцати пяти. По виду – писарь преторианцев или что-то в этом роде.
– Послал по матери. Сказал, что денег нет, – отмахнулся Рабирий.
– Что он, нанимался каждому простофиле помогать? Вот не был бы Цинна рвачом, и не дошел бы до жизни такой, – студеным менторским тоном пояснила позицию Рабирия верная Вибия.
Я немного знал эту неприветливую немолодую женщину по прежней жизни. Обожательница Рабирия и, поневоле, его так называемой «поэзии», она происходила из рода предприимчивых нуворишей, чье возвышение началось при обдергае Крассе.
Она была компаньонкой Рабирия по хождениям в Потаенный Египет. Рабирий презирал ее, часто рассказывал о ней гадкие «случаи», но от ее общества не отказывался. Мне запомнился один такой «случай»: во время удушливой и жуткой мистерии, когда нужно было напиться теплой крови из вскрытой шеи черного козленка – склонить к вещей болтовне стража каких-то там Асфальтовых, что ли, Врат можно было только после совместной трапезы – в углу грохнулся светильник, это крысы впотьмах наозорничали. Но Вибия, не сообразив что к чему, со страху обмочилась. Рабирия до невозможности веселили такие вещи.
– Был бы еще этот Цинна поэтом хорошим… А так – жалкий графоман, – подал голос щуплый, весь в родинках юноша, его имени мне установить не удалось. Никто не называл его по имени.
– Да будь он хоть самим Вергилием, я все равно денег не дал бы, – отвечал Рабирий, закидывая в рот горсть гранатовых зерен.
– Интересно, п-п-почему? – еще один юноша, из рода Туллиев, внук красномолвного Цицерона. Смуглый заика с непропорционально длинными конечностями, он был медлителен и косноязычен – видать, все красноречие, отписанное богами роду Туллиев, природа истратила на деда. Внучок всегда задавал Рабирию вопросы. Но не так, как задают их, когда вызывают к полемике или просят неких сведений. Он спрашивал, как бы взыскуя духовного окормления. Так прилежные школьники просят прибавочных научений после урока у любимого учителя.
– Видишь ли, человек рожден свободным. Если, конечно, это свободный человек. И он, то есть в данном случае я, – разглагольствовал Рабирий, опершись локтем о тюфячок, – всегда волен выбирать, давать или не давать. Проблема выбора, понимаешь? Сейчас мое произволение состоит в том, чтобы не давать.
– Правильно, за все нужно платить, – с одобрением заметил Аттилий. – И Цинны это тоже касается. Пусть платит за свою глупость! А мы посмотрим, как Ливия сделает из его шкуры бубен!
Вся компания разразилась осторожненьким хохотком. Хохоча, пирующие искоса поглядывали друг на друга, чтобы не проворонить тайный сигнал умолкнуть. Этот сигнал исходил обычно от Рабирия.
Не смеялась одна Лика.
Недурная собой, с жертвенным огнем в глазах, она всегда присутствовала на этих сборищах, но находилась как бы во втором кругу общения. То ли не брали ее в первый, то ли стеснялась. Она помыкала рабами, следила, чтобы в светильниках всегда хватало масла, пробовала кушанья перед тем как их поставят на стол. Словом, делала все то, что делала некогда Ливилла и, в сущности, исполняла на публике ту же роль – Красавицы в добровольном услужении у Поэта. Только, к несчастью для молоденькой Лики, обожала она Рабирия непритворно, здесь хитрюге-Ливилле повезло больше.
Лика напоминала потерянную сандалию в площадной пыли – и всем вроде бы хороша, а никому не нужна.
Так и сидела Лика на краю ближнего к выходу ложа, сложив запястья крестом на коленях. Вывести ее из оцепенения сможет только кухонный раб, который принесет очередное подгоревшее блюдо – готовили в термах Никострата отвратительно.
Да-да, я нашел Рабирия в дешевых термах.
Его кружок, состоящий наполовину из людей случайных, а на вторую половину из людей некрасивых во всех смыслах, собирался вечерами в одной из трапезных, каковых в банях Никострата помещался добрый десяток.
Иногда они посещали, как положено, парилку. Но чаще сразу усаживались пировать – предпочитали комнату с видом на палестру. Впрочем, вечером в палестре не шлепки мяча и шарканье подошв раздавались, но лишь комариное зудение.
Не удержусь, похвастаю: свои поиски Рабирия я начал именно с бань. Обошел все, где мы с Рабирием бывали. И пафосные, и хоть сколько-нибудь приличные. Никто и слыхом не слыхивал о поэте Рабирии.
Потом я махнул на бани рукой. И рискованно было это, и бесплодно – ведь число терм в Городе, стараниями Цезаря, приблизилось к ста семидесяти. Попробуй еще обойди! В одном уверен: на плесневелые, темные бани Никострата, если бы не указание сыщика, которого я догадался наконец нанять, я подумал бы в последнюю очередь.
Не могу взять в толк, зачем для своих заседаний Рабирий и его друзья избрали именно это гнилое место. Без мистики здесь, я думаю, не обошлось. Не иначе как ведьма-Вибия какой-нибудь геомантией определила: здесь.
4 . В бани Никострата я устроился работать. Вначале – капсарием, сторожил одежку тех, кто пришел мыться. Через пол-луны перевелся в чистильщики труб – племянник распорядителя, работавший чистильщиком ранее, слег с чахоткой и для меня открылась вакансия.
Распорядитель охотно принял меня – его, обнищавшего учителя риторики, тошнило от деревенского сброда, которым приходилось помыкать. Одного не мог понять распорядитель: зачем мне чистить трубы.
– Ты ж вроде неглупый человек… Образованный даже… Даром что зерноторговец… Платим мы гроши, а деньжонки у тебя и так, я вижу, водятся! Скажи мне, Дионисий, к чему тебе это?
Тут впервые в жизни, пришлось мне сыграть Барбия, простодушного, суеверного и прямого. Отвечая распорядителю, я словно бы устами друга своего заговорил:
– Да вышла вот незадача… Когда судно на пути в Херсонес в шторм попало, взмолился я, взывая к Океану. Пообещал ему, что, если невредимыми до Таврии доберемся, всяческие ему воздам почести. Во сне божество сие явилось мне и рекло грозным таким голосом, что, мол, никаких почестей не надо. Но если и впрямь так сильно я его уважаю, то должен в обмен на милость к кораблю моему послужить ему рабом.
– В храме, что ли?
– Вот и я так подумал, что в храме. А Океан сказал мне: нет. В храме каждый может. А Ему милей служение банное. Посиди, говорит, в шкуре моей, вот и будет твое служение. Омывай, говорит, грязь с тел чад земных, течению воды способствуй, питай влагой тела и души и все это бескорыстно. А за это сохраню я корабль твой и сейчас, и на обратном пути. Выполнил Он свое обещание. Значит, мне теперь мой обет исполнять надобно!
– И надолго это? Не сказал он тебе? – поинтересовался распорядитель.
– Буду служить, пока Он мне уйти не позволит.
Не знаю, сиял ли мой лик в те минуты неземным светом причастности к высшим сферам, но распорядитель мне поверил. И даже неким боязливым уважением проникся – как к человеку с идеалами.
Работа моя была грязной, но не суетливой. Во все кишки банные лазил я, чумазый и медленный, как слизняк. Я выучился слушать трубы, прижимая к ним ухо. По одному лишь звуку я определял что и где. Всюду проникал, чинил краны, устранял заторы, складывал в корзину колтуны из волос и мусора – что ни день они закупоривали сливы.
Сильно досаждал мне запах. Но я приловчился натягивать на лицо плотную повязку, смоченную в масле розмарина. Эта повязка давала еще одну выгоду: скрывала мое лицо не хуже смрада, который первым сообщал банным людишкам – лучше отвернуться, чтобы не увидеть нечто, что в своей мерзости под стать запаху.
Титан носил мне горячие обеды и бегал по поручениям, а потом часами плескался в большом бассейне фригидария. Я тоже не брезговал банными процедурами – каждую ночь до крови тер кожу, чтобы хоть уснуть чистым. Вскоре я возобновил упражненья с мечом на принадлежащей термам гимнастической площадке – в ночные часы она пустовала, хоть из десятиминовой баллисты стреляй.
Я махал деревянной дубиной и скакал козлом, отжимался и приседал – страх перед Рабирием придавал мне сил. Ведь я знал: мы любим людей за то хорошее, что делаем им, и не любим за то плохое, что делаем им же. А раз так – Рабирий должен ненавидеть меня куда больше, чем его ненавижу я. Не ровен час, задавит Назона голыми руками.
5. Вонючая эта работа позволяла мне беспрепятственно наблюдать за кружком Рабирия, вычисляя, примеряясь, вынашивая планы.
Стало ясно, что зарезать Рабирия на ночной улице, как мне мнилось верным поначалу, не удастся. Домой его всегда провожала преданная клака. Лишь когда Рабирий скрывался за воротами своей виллы – «поэзия зовет!», говорил он, напуская на себя вдохновенный вид, – неохотно расходилась и его шакалья стая.
Частенько, дождавшись пока сгинет Вибия, а с ней прочие, Рабирий покидал дом с черного хода и отправлялся на поиски незамысловатых развлечений. Но, к несчастью для меня – на носилках. Я не льстил себе: справиться с восемью мордоворотами-носильщиками мне не удастся, вооружись я хоть десятиминовой баллистой…
Отравление? Этот способ я оставлял на крайний случай, хотя был он, признаться, самым простым.
Лох и Флора, кухонные рабы, обслуживавшие трапезную, где пировал Рабирий сотоварищи, очень кстати влюбились друг в дружку. Пока они обнимались в закутке, шепча с колен жаркую чушь, любой прохожий мог помочиться в кувшин, никто и не заметил бы, благо разводили вино у Никострата теплой водой – как положено. А мог бы и яд всыпать.
Я знаю толк в зельях. А оттого не стал бы сыпать в кувшин отраву, которая заставит Рабирия корчиться мукой прямо в бане. С соизволения Гекаты Назон выбрал бы что-нибудь медленное, что с гарантией сведет Рабирия в могилу через месяц.
Но этот способ мне не нравился. Яд – орудие женщин. Я же хотел сквитаться с Рабирием по-мужски.
Разумеется, я мог подкараулить Рабирия в нужнике, отрубить ему голову и спустить ее прямо в клоаку (в принципе – должна пролезть, а не пролезет, так имеются у Назона теперь инструменты). Или подловить Рабирия в полутемном коридоре, благо по ночам термы Никострата пустовали – они располагались в квартале рабочего люда, который, помывшись ввечеру, спешил домой спать, спозаранку-то снова ишачить. Но так тоже не годилось. Насильственная смерть важного господина, каким, несомненно, являлся Рабирий, не пройдет для банной обслуги бесследно. Я, положим, успею улепетнуть до того, как установят мою ссыльную личность. Но ведь других будут жестоко пытать дознаватели – и придурка Лоха, и конфетку-Флору, да всех! Когда-нибудь выяснится, что они невиновны. Но разве стоит смерть паршивца детских слез? Верьте бывшему триумвиру по уголовным делам – ни хрена не стоит.
Каждый раз, протиснувшись лежмя в ход для теплого воздуха, я прижимался лицом к решетке, что располагалась под самым потолком нужного мне триклиния, слушал разговоры. А вдруг какая-нибудь мелочь, какая-нибудь деталь…
– Как твои успехи с Фабией? – невинным голоском поинтересовалась Вибия.
– Мы тоже хотим знать! Все-таки, спор есть спор! – в один голос поддержали ведьму Тигр, Туллий, Аттилий и прочие. «У нас друг от друга секретов нет!» – любили повторять здесь.
Пряча лицо, Лика встала со своего места и отправилась в нужник. Там на стене в женской комнате облупившийся рельеф – Амур правит дельфинами в овале из миртовых листьев. Он остался со времен, когда бани Никострата считались более-менее приличными. Я уже знаю, что дальше будет. Лика встанет прямо под дельфинами, упрется белым лбом в рыжую стену и заплачет. Сотрясаясь в беззвучном вое, станет колотить о стену кулачком – правый кулачок в аккурат в печенки Амуру. А вода в желобке на полу чистая-чистая по ночам, почти как вода горного ручья. И старая губка для подтирания срамных мест сереет на краю желоба как жертвенный камень. Лика будет плакать, пока не устанет. Потом умоется, подождет у зеркала, пока нос из красного снова станет бледным, вернется в триклиний. Я все это уже видел раньше. Эту обычную драму я назвал бы длинно: «Нужно терпимо относиться к мужским изменам. Нам, современным женщинам, так сказали».
– Как с Фабией? Да никак. Упрямая. Все руки не доходят ею как следует заняться, – неохотно отвечал Рабирий.
У меня отлегло от сердца, я бесшумно отер пот со лба.
– Сейчас вот разгребусь с делами – и начну по новой, – продолжал Рабирий. – Не переживайте, я своего добьюсь. Всегда добивался. В конце концов, я вооружен «Наукой», написанной ее изобретательным супругом! Работала «Наука» эта тысячу раз, сработает и в тысяча первый! Не поперек же у нее, правильно?
Вся компания гаденько захихикала.
«Поперек! Уа-ха-ха!» – это дурачина Тигр.
«А Фабия-то твоя – не столь уж и юна! И как только ты не брезгуешь?!» – это ревнивая Вибия.
«Д-даст, к-к-конечно! Я на ее месте т-точно д-д-дал бы!» – это Туллий.
«Тело к телу – любезное дело!» – это Аттилий.
Я же, прислушиваясь к их беснованию, жалел лишь об одном: что это я написал «Науку любви». Что она была написана мною.
Впервые в жизни подумал я о том, что Цезарь наш, которому я в первую, особенно лютую, полуголодную зиму в Томах желал скорейшей смерти, в своем решении наказать меня ссылкой – совокупно за «Науку» и за посещение запретного флигеля с золотыми звездами – был по-своему прав.
6 . О, Цезарь! Если спросят меня после смерти что хорошего мы, римляне, принесли миру, я отвечу: тебя и бани.
С тобой, о божественный Цезарь, все ясно. Ты лучше всех – как на тебя ни клепай. Это ты, светлый и осанистый, избавил нас от гражданских войн и доходчиво объяснил нам, правнукам Энея, что в освободившееся от усобиц время нужно вкусно есть, сладко спать, устраивать праздники и влюбляться.
Тебя, мой Цезарь, так и не смог Назон возненавидеть. Как можно ненавидеть Юпитера за то, что он испепелил твое зернохранилище? Правильно, никак.
Да, бывало подшучивал я над Вергилием, что голос сорвал, тебя воспевая. Обзывал его подхалимом, а тебя, приручившего самого Вергилия (в узком, конечно, кругу), уподоблял я нуворишу, половину состояния завещавшему плакальщицам, чтоб те еще год после его похорон выли волчицами на пепелище! И Горация не уставал я хвалить за отказ в секретарях у тебя ходить. «Человечище!» – восклицал я, зная, впрочем, что Гораций человечище не потому, что отказал тебе, Цезарь, а потому, что на белом лебеде своем чудесном в такие он летал дали, в какие нас, юбочников и нытиков, не допускают. В сущности, всегда знал я, что высокие души – Вергилий и Гораций – не оттого Цезаря славят, что куплены, и не оттого даже, что любят его, но оттого, что знают: он – благо.
Вот, принесли мы тебя – твои статуи и твой державный голос, высеченный в камне и выбитый в бронзе, – во все мухосраные закраины, в Колхиду и в Ретию, в Германию и Испанию. Установили тебя в храмах, кадим тебе, заставляя мелкие умом народы твоим облым образом причащаться. И слава нам, римлянам. Ибо благо нужно распространять. Особенно, когда это недорого.
С банями – та же история. Где мы не появись, всюду их строили. Такое ощущение, что они сами росли, как грибы – в Галлии, на Рейне, в пустынях. Разве что в Томах бань не было (не считать же самодельный паучатник, сложенный кое-как возле дома Маркисса?). Но Томы пусть будут исключением из правила. Правило же таково: мы, римляне, научили мир мыться.
И все?
Нет, не все. Еще смеяться научили. До нас, римлян, смеялись только греки. Допускаю даже, что смех у них мы украли.
У гетов есть обычай воровать друг у друга побеги и луковицы. Считается, что наилучшим образом растет то, что было потибрено. Может быть и со смехом это огородное правило работает? И оттого мы веселые такие, что греков обокрали?
И не говорите мне, что смеяться народы начинают, когда богатеют. Вот, де, разбогатели мы и начали хохмить. Не верю! Взять хотя бы египтян. Тысячи лет были куда богаче нас, а сами и десяти анекдотов не сложили. Точнее, где-то десять и сложили. Но разве же это анекдоты?
Думая так, я улыбнулся. И мне вдруг стало смешно. Вдруг, впервые за три месяца в Риме, я ощутил себя настоящим римлянином, а не фракийцем, не жителем Тавриды. И этот настоящий римлянин, то есть второй я, этакий Назон-II, отделился от Назона-I, лежащего в вентиляционной трубе, бородой в решетку, встал во весь свой призрачный рост, поправил белесоватые складки тоги, посмотрел на Назона-I исчуже и, держась за живот, беззвучно загоготал.
Этот, мне одному слышный, хохот можно было разложить на три составляющие его темы – в отрочестве меня учили таким штукам в школе риторики.
Тема 1. Глумливое презрение к Назону-I, измазанному тиной и дерьмом, зажатому в каменной теснине, вынужденному слушать гадости о любимой своей жене. И все из-за мальчишеской мании отомстить!
Тема 2. Ультимативное понимание абсурдности положения Назона-I, а также того, что в это положение вовлекла Назона-I его одичавшая, распоясавшаяся ненависть. Надо же только умудриться – ходить на поводу у нее годами!
Тема 3. Смерть и Старость, две старухи-сестрицы, уже в пути, уже шлют через гонцов весточки Назону-I и Назону-II, мол, скоро будем, сворачивайте делишки! А назоны эти вместо того, чтобы готовить злыдням отпор, ночи напролет слушают гнилые вирши, сочиненные прыщавыми дрочилами из «кружка Рабирия»!
Мораль: кощунственно тратить время на Рабирия. Тем более, что столько потрачено его уже.
Назон-I и Назон-II должны объединиться в Назона-III и этот третий должен покинуть термы Никострата навсегда.
Я закрыл глаза. И представил себе Фабию, рассеянно поедающую любимое лакомство – нефритово-бурый, клейкий плод-хурму. Какое же раскаяние вдруг мою душонку затопило! Ведь, в сущности, невероятное на меня нашло с этим Рабирием наваждение! Я четыре месяца в Риме, и я даже не сумел отыскать Фабию! Урода-Рабирия – нашел. А жену – нет. Поискал с недельку и отложил, чтобы не испортить себе охоту. Подумаешь, какое важное дело! Охота на падаль!
А ведь может статься, у нее не то что на хурму, на вяленые фиги нет средств! А что если в эти самые минуты она плачет, свернувшись калачиком у ног домашнего алтаря, умоляя покровителей нашего очага сделать так, чтобы известие о моей гибели не подтвердилось! Она блекнет, она дурнеет, пинцетом выдергивает первые седые волоски… А вдруг замыслила замуж, лишь бы не в одиночестве? Одной на супружеском ложе слишком просторно, почти как ночью в заснеженном поле. Избыток пространства порождает избыток мыслей. Мысли же у несчастных людей, конечно, несчастливые. А в это время ее возлюбленный муж среди банного смрада тешит свое тщеславие мыслями о том, как мастерски, с секретным гладиаторским подвывертом, он пропорет брюхо мерзавцу! Подумаешь тоже, враг рода человеческого!
А еще я думал о немоте. Смерть равно немота, это понятно. После смерти намолчимся. Об этом любили писать греки-александрийцы. Собственно, эта истина их писать и заставляла.
Так вот: с тех пор как я устроился в термы Никострата я, считай, онемел.
Среди рабов и вольноотпущенников я остерегался болтать, чтобы не привлекать к себе внимания. И дома молчал. О чем говорить с Титаном? О педофилии?
А вот еще стихи есть! Песни! Их не писал я с тех пор как покинул Фракию. Все пытался складывать стихи из мужественных поступков, как учил Филолай… Ну и наскладывался же я! Какое же говнище я, в сущности, сложил! И это еще вопрос, смогу ли я в принципе, после терм Никострата, после общения с местной продолбаной во все дыры аристократией парилки, сплошь проститутки да проституты, сложить что-либо стоящее. Боюсь вместо гекзаметра священного попрет из меня потоком хули в июле похер Хирону мандаты и маны… Гнеф, мля, багиня васпой!
Тьфу!
Мучительно хотелось заговорить. Не событиями, обычными словами.
И последнее. Вспомнив о гекзаметрах, я вдруг живо представил себя Одиссеем, затаившимся в затхлой пещере Полифема.
Моя пещера – это Рабирий и все, что связано с его именем: моя обжигающая привязанность к нему, моя ненависть, его несостоявшееся покаяние и мое неслучившееся прощение, часы разысканий и выслеживаний, гранитная тяжесть проклятий и хищный блеск моего клинка.
Это вот всё – пещера.
И ненависть – пещера. И месть – пещера. И что бы я ни делал с именем Рабирий, я нахожусь в этой заколдованной темнице.
Да, я научился видеть в темноте, ходить под себя, забыл о своей Пенелопе. Я обзавелся терпением, характером, стойкостью и верой. Да, еще немного и я, возможно, убью вредного циклопа. Но! Даже если я убью Полифема (сиречь Рабирия), еще не гарантия, что я смогу выбраться из его проклятой дыры. А что если его труп окончательно перегородит мне путь к спасению? А ведь не Полифема мне убивать следует, но выход искать, путь домой! Хотя бы уж потому, что не столько Рабирий виноват. Он лишь проводник той низкой и лукавой силы, что скоро названа будет по имени всесветной религией, о рождении которой все чуткие уже наслышаны от оракулов – ими богат наш банно-лавровый Рим почти так же, как хорошими поэтами.
Ну а бесноватый Рабирий пусть и дальше пирует, воплощая ту меру зла, что должна быть проявлена в нашем мраморном мире. Не так уж он, в сущности, страшен.
7. Я долго лежал с закрытыми глазами.
В трапезной шла оживленная беседа – там сообща глумились над новичком, которого угораздило обмолвиться, что он бескорыстно помогает одному престарелому торговцу. Заходит в его лавку и покупает всякую ерунду, чтобы сделать тому выручку. А то, мол, умрет с голоду вместе со своей старухой.
– Хорошо устроился старый пень! Вместо того, чтобы учиться торговать как следует, он пацана околдовал! Хотел бы и я так! Ничего не делаешь, а деньги капают! – возмущался Рабирий, поедая крупные, пахнущие лесом орехи, такие возят из ледяных чащоб Германии.
– Помогать людям – занятие бессмысленное. Оно плодит рохль и слабаков. Рим – это территория сильных! – умничает Вибия.
– Помогал бы лучше какой-нибудь молодухе… Какой смысл помогать дряхлолетним неудачникам? – рассуждает Тигр.
Я присмотрелся. Все было таким же, как и час назад, когда я пустился по морю своих мыслей. И все же – не совсем таким.
Гости терм Никострата, включая Рабирия, в тех же позах возлежали вокруг стола. Лика проверяла масло в светильниках. Добавился разве что африканский раб-уборщик – он затирал бурую лужу на полу. Вероятно, Аттилия стошнило вином, как уже не раз случалось. Сам Аттилий спал, положив голову на мясистые бедра Вибии, ее пальцы гадюками шныряли в волосах юноши.
И все-таки что-то было новое. Я не сразу заметил это «что-то», все-таки зрение не то уже, да и расстояние, свет неверный.
Но когда заметил, похолодел весь, волосы мои встали стоймя, как однажды в молодости, по осени, когда занесло меня во хмелю ночью на кладбище, где я и заснул, зарывшись в кучу жухлых листьев. Когда проснулся, то увидел я двух мосластых ведьм, что потрошили бедняцкие могилы. Жутко воняло. Очень было страшно. Думал, не доживу до рассвета.
Итак, у Рабирия теперь был собственный иноприродный зверь.
Как и у всех стоящих поэтов.
Но этот зверь… даже не знаю как сказать… не вполне зверем был он!
При Рабирии состояла стрига. Да-да, то самое птицевидное исчадие бездны с загнутым клювом и крючьями вместо когтей. Это она сосет кровь оставленных без присмотра младенцев, из-за нее плачут они беспрестанно. Та самая стрига, что в кладбищенской сиреневой тиши, в самом темном углу комнаты с покойником, с той стороны зеркала, в кошмарных видениях умирающего под пыткой изверга. Вот какой зверь был теперь у Рабирия. Вот кто носил Рабирия на своих кожистых крыльях в черные края, за свинцовые моря.
Нахохлившаяся стрига сидела на спинке ложа, у плеча Рабирия. Она напоминала перегнившую помесь вороны и ловчего сокола.
Смотреть на нее было больно – переполнялись кислой слезой глаза. И все же не смотреть на нее было невозможно.
В конце концов, такого я не видел никогда в жизни. Природоиспытательный азарт меня забрал! Признаться, до того мгновения я вообще был уверен, что стриги – такая же выдумка моего дядьки, как и косточка, которая, якобы, имеется в детородном органе некоторых, особо любезных Венере, мужчин.
Эта стрига вела себя беспокойно. Вертела шеей, требовала внимания хозяина, легонько тыкала клювом ему в темечко. Но он вроде как ее не воспринимал. Даже не отмахивался от ее назойливых приставаний. Собственно, что удивительного? Нужно часами особым образом настраиваться, чтобы зверей видеть. Во хмелю же это вообще невозможно, а в компании – тем паче. Поэтому-то даже сносного четверостишия «на кочерге» не сложишь – на это жаловался еще выпивоха Катулл. Не сложишь даже стихотворения о пьянстве, хотя казалось бы…
Но что случилось? Ведь просто так зверь беспокоиться не будет. Да и стрига тварь не из нервных.
Беспокоится – значит чует опасность для хозяина, который кормит ее нерастраченным волшебством бессонных ночей и невыплаканными слезами. Если хозяин умрет, чем будет питаться зверь?
Я прильнул к решетке. Вдруг кто-то из приятелей Рабирия тайком сжимает под полой плаща кинжал? Быть может, под ложем затаился заговорщик? Яд дымится в чаше? Или вот сейчас дверь задрожит под ударами сапог и в триклиний ворвутся преторианцы в черных масках? Молчаливые и потные, они переколют всех, как свиней? Визг, ор, кровища фонтанами до самого потолка!
Но, как я ни присматривался, ничего странного не приметил – Рабирий, пребывающий в своей раздумчивой разновидности, с механическим постоянством закидывал в рот орешки, глядя в никуда.
Вибия соревновалась в ослоумии с одухотворенными вином пацанами.
Лика, как видно, пробовалась в модели для создания скульптурной Аллегории Скорби.
Свинцовой стала моя голова. И начала она болеть так, как не болела даже после того как беспризорные сарматы огрели меня дубьем на берегу Истра. Вот она, расплата: слишком долго пялился на то, на что нельзя человеку глядеть.
Я смежил веки. И ощущение густого ужаса, которое обволокло меня после того, как я приобщился к тайне Рабирия, медленно отступило. Мы даже не представляем себе, насколько зависим наш страх от наших глаз, как будто даже сделан из них наполовину. Не вижу зла – и более не боюсь его… Может оттого и смел был Гомер, оттого и светел как солнце, что слеп? Я сам не заметил, как снова задремал.
Судя по разговору в триклинии, расходиться никто не собирался, а раз не собирался, значит, мне можно было не беспокоиться. Все равно бесшумно выползти из своей узины и уйти домой я не смогу. Придется ждать окончания банкета…
Засыпая, я думал о том, что, в принципе, прикончив Рабирия, я оказал бы Риму добрую услугу.
Причем, не только поэтическому Риму.
Ведь ничего хорошего стрига, пожирательница младенческих кишочек и менструальной крови, надиктовать человеку не может. Но самое ужасное, надиктованное стригой «плохое» скорее всего не будет бесталанным (ведь бесталанное пишется без диктовки). То есть, имеем худший вариант. Нечто тлетворное по сути, однако сносное по содержанию и даже игривое по форме. В портовом лупанаре всегда встретишь рабыню, соответствующую такому описанию – девочку дивной абиссинской красоты, больную до самого дна своей испорченной задницы отвратительной срамной болезнью, которую не вытравить ни одним халдейским порошком.
И если хорошие поэты создают прекрасные невидимые цветы, целые поля синих маков и охряно-желтых крокусов, которые, отцветая, производят семена – падая с небес на землю, эти семена через некоторое время прорастают на ней цветами самого разного свойства – от детей, цветов жизни, до цветов папоротника и девушек в цвету – то что же создает в тонком мире плохой поэт, со стригой на плече? Дерьмо? Ах, если бы! Скорее уж антицветы, не дающие цветам вегетировать. А еще вернее – своеобразный злой апейрон, втянув который ноздрями, человек начинает верить, что цветы – бабская забава, что боги выдумка жрецов, а жрец, по определению, способен только «жрать», что любовь нужна для хорошего траха, а Отечество там, где лучше кормят. Как-то так, в этом духе.
Светлые боги, вы слышите меня? Я не хочу знать, что именно создают в тонком мире стихи Рабирия, даже боюсь это знать! Я слишком устал знать, я хочу домой, я лично прощаю его, этого опухшего от излишеств лгуна. Но вы, светлые боги, прощать его не имеете права! Ведь иначе мы верить в вас перестанем, вообще перестанем верить! Посмотрите на нас со своих снеговых высот, мы здесь.
8. Меня разбудил звенящий крик Лики.
Женщины кричат так крайне редко. Чтобы женщина издала такой вопль, недостаточно, чтобы ее жизни угрожала опасность. Нужно, чтобы она угрожала жизни ее ребенка или любимого. (Женщине столь же привычно жертвовать собой, как мужчине – брить бороду, ведь женщины тоже занимаются этим каждый день.) Этот крик высок и жуток – как немигающий взгляд стриги. Во время сарматских набегов у меня была возможность стать в теме чем-то вроде эксперта.
Сон слетел с меня, тело напряглось. Я вновь прильнул к своей смотровой щели.
Увы, кособокая спина вставшего на ложе Аттилия и кобылий круп Вибии заслонили для меня происходящее. Из выкриков, правда, можно было кое-что понять.
– Да сделайте же что-нибудь! – вопила Лика. – Не видите, ему плохо!
– А что с ним вообще? – тер соловые глаза Тигр. – Я что-то не понял. Сидел-сидел, потом…
– Не в то горло попало! Орехом подавился, – пояснял новичок, тот, что поддерживал старого лавочника.
– Мать-Геката, снизойди! – патетически гнусила Вибия, закатывая глаза к потолку.
– Может, сейчас откашляется?! Говорят, это иногда само проходит!
– Д-доктора звать н-н-надо!
– С ума сошел? Ночь на дворе!
– Ну и что? По-твоему, доктора по ночам в крыс перекидываются и по помойкам шарят?
– Крысы и есть! Один с меня сто сестерциев попросил за то, что мозоль мне срежет. Да я за эти деньги не то что мозоль, ногу оторву!
– Аттилий, живо за доктором! Тут на углу Кожевенной и Иудейской живет один грек, зовется Мироном. Скажи: десять гонораров получит, ежели спасет!
– Лучше скажи двадцать, – уточнила Вибия, пересчитывая наличность.
Аттилий вскочил с ложа и понесся в выходу. Образовалось оконце – как раз для моих жадных глаз.
А через него я увидел…
…В мерцающем свете ламп, на полу триклиния, извивался Рабирий. Он лежал на спине, выгнувшись мостком вверх, словно пол был раскаленным. Судорожно отталкиваясь ступнями, он как будто полз вот таким кандибобером от своего пиршественного ложа к выходу.
Его дыхание – сипящее, булькающее, трудное – напоминало мне звуки, которые издают во время перебоев с водой мои подопечные, свинцовые трубы. Я даже не уверен, что было это дыхание, а не какой-нибудь зловещий нефизический звук.
Одна рука Рабирия была плотно, как у припадочного, приклеена к телу. Другая – сжимала горло под кадыком. Могло показаться, что его душит некая незримая сила, а он пытается ей в этом помешать. Судя по тому, как посинели его лицо и ногти, как вздулась вены на шее, незримая сила неуклонно брала верх. Рабирий был без сознания.
На том месте, где только что он корчился, я заметил небольшую, размером с ладонь, волосистую вещицу.
Лика тоже заметила ее, подобрала и прижала к красному от слез лицу. Тотчас Рабирий изменил положение и его правильной формы голова сверкнула плешью.
Только тут я догадался: Лика подобрала паричок. Его прилаживал Рабирий к облыселому темени – клеем или, быть может, шпильками, – чтобы казаться вихрастым, кудрявым, всегда-навсегда-молодым. Хороший паричок, искусный. Я, например, сроду не догадался бы.
– Где этот гребаный доктор? – зло спросил Тигр.
– С-сейчас будет. Не н-нервничай, – отвечал Туллий, бледный, как будто его мукой обсыпали.
За столом больше никого не было – все теперь стояли. Больше всего компания напоминала мне ту хищную золотую молодежь, что, согласно уверениям моего соседа по инсуле, раздает ночных звездюлей незадачливым гулякам. А Рабирий напоминал забитого до смерти незадачливого гуляку.
Я расслабил зрительный мускул – этому меня научил Филолай – и взглянул на группу скользящим взглядом сарматского колдуна.
Те же и стрига.
В отличие от светящихся червяков в белых тогах, тварь не верила в помощь доброго доктора Мирона. Вырвавшись из кольца зевак, она брала разгон в сторону западной стены триклиния – вот сейчас, у облупившейся настенной росписи (нимфы и Пан-свирельник у источника), один бытийный слой, наш сине-голубой, войдет в другой, лилово-черный, и стрига, развернув кожистые крылья, перепрыгнет из нашего мирка, куда заходит она только чтобы полакомиться вкуснятинкой, к себе домой, где под низким небом летают сотни таких же как она уродин и где не захотел бы Назон оказаться ни за какие блага. Здесь больше нечего стриге дожидаться. В конце концов, она честно пыталась его предупредить.
Тем временем Тигр – недаром был солдатским писарем – решил лечить Рабирия собственными средствами.
Он перевернул Рабирия на живот, перевалил его тело через колено и принялся лупить того по спине открытой ладонью. Из безвольно раскрывшегося рта Рабирия текла на мозаичный пол розовая слюна, а Тигр все наяривал. Лика даже плакать перестала, обнадеженная.
Посыпались добрые советы – их наперебой давали все, включая Вибию (она давала самые глупые – например, предлагала отпоить Рабирия цекубским вином, кувшин с которым она держала в руках). Стало шумно, даже вроде как эхо появилось – и откуда только взялось? А впрочем, дошло до меня, ведь стрига теперь улетела! Когда стрига поблизости, эха никогда нет, это любой крестьянин знает. Говорят, стриги поедают эхо, но я лично в это не верю, наверное просто метафора.
Тигр стукал и шлепал, Рабирия, давил ему на живот – ни дать ни взять воин из санитарной команды при исполнении.
Действовал он почти правильно. За тем исключением, что все это нужно было проделывать десять минут назад.
9. Вскоре явился доктор Мирон в сопровождении Аттилия, множества рабов и отпущенников.
Все врали, что хотят помочь, но на самом деле хотели просто поглазеть. Стало шумно. Лика снова начала плакать, Аттилий – громко ругаться. В общем, наконец-то я мог покинуть свое укрытие без боязни быть услышанным! Что и сделал.
В пустой раздевалке-аподитерии меня ждал мой Титан. Точнее, он мирно дрых на лавке для рабов-сопровождающих, положив под голову мою одежду. Я заглянул под лавку – обычно там спала обезьянка – и растолкал мальчика.
– Сейчас пойдем домой, – сказал я. – Что новенького?
Титан потер кулаками свои ясные голубые глаза и посмотрел на меня – ну, настолько «на меня», насколько позволяло его косоглазие. Обычно у него получалось «один глаз на вас, другой на Акритас», есть такой мыс близ Мессенского залива.
– Имеются две новости. Одна очень плохая, а другая – просто плохая, – галантно ответствовал шельмец. – С какой позволишь начинать?
– Давай с очень плохой.
– Господин распорядитель сказал, что его племянник чудесным образом выздоровел от чахотки. Будет теперь чистить трубы снова! Господин распорядитель сильно извинялся перед тобой и перед Океаном. Но не может же он отказать родственнику в работе? В общем, просил войти в положение. С завтрашнего дня племянник возвращается на свое место! – Титан опустил голову и вздохнул с притворной печалью. – Это была очень плохая новость.
– А просто плохая?
– Наша обезьянка пропала, – на этот раз скорбь Титана была неподдельной.
Мы шли домой через храпящий, сучащий во сне ногами, потный Рим, и я думал о том, как все забавно. Чахоточный племянник, которого я записал в покойники, неожиданно воскрес. Зато Рабирий, которому я даровал жизнь, насмерть подавился орехом. Распорядитель выгнал меня как раз в тот день, когда я и сам собрался уйти. И обезьянка сбежала.
Хвала богам! Мерзавка гадила всюду, щекотала хвостом своим у меня под носом, когда я спал, раскидывала вещи и проливала чернила, а однажды положила в жирный гороховый суп губку для вытирания зада. Словом, достала почище Рабирия.
VI. Назон встречает бога
1. Фабия…
С Фабией все было куда хуже, чем с Рабирием. О нет, я был уверен: она жива и здорова. Ничто не могло заставить меня усомниться в этом. Она продала наш дом в Риме… Но вот потом – что? Куда ты удалилась, милая Фабия?! Верна ли ты? Не умер ли Назон в твоем сердце? А ведь покойник Рабирий наверняка знал ответы на эти вопросы…
Последнее письмо от Фабии, полученное мною прошлым летом в Томах, гласило, что Фабия нашла покупателя на дом по имени Цезоний Помпей, что со дня на день сделка будет оформлена, после чего она собирается «уехать в деревню», ибо «слишком холодно в Городе даже в ясный летний день».
Я успокаивал себя тем, что Фабия, как настоящая римлянка, то есть женщина в первую голову суеверная, а потом уже добродетельная, воспитанная и благонравная, не желала сообщать какие-либо подробности о своих дальнейших планах, остерегаясь сглазить предстоящее путешествие. И что письмо со всеми необходимыми сведениями было Фабией написано и отправлено в Томы по весне. Но я-то к тому времени уже давно значился среди фракийцев «погибшим от рук сарматов» и восходил на борт армянской либурны, чтобы плыть в Херсонес!
Соответственно, письмо Фабии было обречено со мною разминуться.
Впрочем, была и другая возможность, от которой я, как мог ловко, отворачивался: не написала она мне весной никакого письма! И не намеревалась! Фабия нашла себе нового мужа, но, смалодушничав, не осмелилась написать мне последнее «прощай», а решила просто убраться из Рима как можно дальше и как можно тише, прочь с глаз наших общих знакомых, чтобы они не могли проведать о ее неверности.
Я знал, что я сделаю в первую минуту встречи. Я спрошу, появился ли у нее другой мужчина, а она ответит мне «да», «нет» или «видишь ли, Публий…»
Итак, разыскать Фабию.
Но как?
Поиски отягощались для меня уже знакомой опасностью – быть раскрытым, схваченным, доставленным пред ясны очи Цезаря и казненным за самовольное возвращение из ссылки. Вновь приходилось действовать исключительно через Титана. Изо дня в день малец получал от меня задание, насколько мог добросовестно выполнял его и ввечеру приносил мне одинаково неутешительные известия.
Заносимые мною на дощечку, результаты поисков Фабии в конце концов приобрели такой вид:
A. Начальник квартала: пусто.
B. Ведомости: пусто.
C. Родственники: пусто.
D. Корпорация мореходов: пусто.
E. Корпорация перевозчиков: пусто.
F. Гадатели, прорицатели, астрологи, маги: только в крайнем случае!
Подробности же были таковы.
Квартальный начальник знал немногое: Фабия, жена врага государства и изгнанника Назона, продала свой дом Цезонию Помпею и налегке убыла из города полгода назад.
Городские ведомости за соответствующие дни не содержали упоминаний ни об этой сделке, ни о судьбе Фабии. А могли бы! Сообщения о купле-продаже престижной недвижимости время от времени в городские ведомости попадали – наряду с сенатскими постановлениями и хвастовством магистратов касательно очередных трат на очередные игрища.
К родственникам Фабии я направлял Титана под одним и тем же благовидным предлогом: «Я принес письмо из Фракии от Назона, для Фабии, его возлюбленной супруги». Увы, несмотря на мое мудрое руководство, этот обход принес результаты смехотворные.
Одних не было на месте. Других уже похоронили. Третьи оказались родственниками столь дальними, что мне оставалось только гадать, отчего их имена и местожительство вообще всплыли в моей памяти – если они слыхом не слыхивали не только о «Назоне из Фракии», но и о Фабии. Четвертые (нашлись и такие!) пытались выманить у Титана запечатанную пустышку, которую он выдавал за письмо.
– «Мы ей все передадим», так они говорили, – рассказывал Титан. – А сами аж тряслись, так им охота было в письмо вцепиться.
– А ты?
– А я испугался и убежал. Вот, – Титан продемонстрировал мне свежую царапину на локте, – через ограду пришлось перелазить. Ты бы, хозяин, накинул монетку за вредность, а?
Накинуть-то я накинул. Но, признаться, с большим удовольствием я бы надавал Титану тумаков и купил более счастливого раба с подходящим именем: Фавста какого-нибудь, Феликса или Макария.
«В самом деле, каких успехов я, наивный, жду от увечного по имени Титан? Что Зевс Громовержец сотворил с титанами – разве мне неведомо?»
Ладно. Как говаривал циркач-Барбий, «выводи следующего». В смысле: «не тяни».
Больше из любви к порядку, нежели в надежде на успех, я попробовал отыскать следы Фабии через корпорации остийских мореходов и сухопутных перевозчиков. Ведь не могла же она уйти из Города пешком! Ей требовался либо корабль, либо повозка, либо и то, и другое! За средство передвижения она должна была заплатить, а сведениям об уплате полагалось осесть в счетных книгах.
Но и здесь меня подстерегала неудача. В мореходных книгах путешественницы по имени Фабия Марцелла не значилось, а сухопутные перевозчики вели свои книги небрежно, сокращая имена заказчиков до неприличия. У них, например, и Гай, и Гней обозначались одной-единственной буквой C, как на дешевых надгробиях. А, соответственно, все Фабии, Фурии и Фульвии проходили как F. При этом фамильными и родовыми именами счетоводы брезговали, места назначения также сокращали до одной буквы, и только полученные в уплату суммы шли без сокращений (куда там сокращать?), так что поездка какого-нибудь Фурия Кретика в Тарквинию в книге выглядела как FTXXX, что мало отличалось от путешествия Фульвии Пелии в Таррацину: FTXXXXV.
О век цифры, бессмысленный и бестолковый!
Так я и подошел вплотную к наинеприятнейшему и наиопаснейшему: к гадателям.
Отчего мне не хотелось обращаться к их услугам? Во-первых, среди этой публики шарлатанов больше, чем люмпенов среди римлян. Во-вторых, попадая то под один, то под другой карающий эдикт еще со времен Книда Корнелия, гадатели обычно в своей подлости готовы идти куда дальше других категорий доносчиков и наушников – лишь бы только выслужиться перед народом римским и оттянуть очередной неизбежный эдикт об изгнании. Появление грека Дионисия, разыскивающего некую Фабию, супругу Публия Овидия, не прошло бы незамеченным в их среде.
Что мне оставалось делать перед лицом подобной опасности?
Упершись в пункт F своего списка – только пренебречь ею.
2. Маг и прорицатель Гермоген, он же Элло, жил возле фонтана Персея, что в одном квартале от храма Юноны Луцины на Эсквилине.
Я узнал о Гермогене случайно, подслушав за завтраком разговор двух провинциалов. Один из них, помоложе, распускал сопли по поводу какой-то девки. Ну, скажем, Путаниллы – чтоб я так помнил.
«Путанилла, негодница, знать меня не желает, подарки не принимает, все с сынками богатеев гуляет… Наложу на себя руки, так и знай!»
Второй – то ли его родственник, то ли компаньон – поначалу встречал стенания влюбленного холодно: «Так тебя послушать, ты уже восьмижды покойник. Первый раз ты наложил на себя руки, когда тебе не дала Ургулания, второй раз – из-за Лаиды, третий – из-за Гликеры…»
«Нет! То все были мимолетные увлечения! А теперь – смотри!..»
С этими словами молодец вскочил и, схватив со стола нож, полоснул себя по ладони.
Вот уж чего я не ожидал!
С ладони на пол зачастили алые капли.
«Кровью своей клянусь, не будет мне жизни без Путаниллы!»
Если бы не кровавая капель, я бы решил, что два дурака репетируют неизвестную мне комедию Плавта.
«Тьфу, осел», – сплюнул второй провинциал. Тон его, однако, сменился с пренебрежительного на сочувственный: «Ладно, если уж ты так мучаешься, значит готов на крайние средства. Я тебе дам один совет…»
Он понизил голос, но все равно – не особо таился. За соседним столом, где я жевал свою тушеную капусту, по-прежнему было слышно.
«В доме Нумидийских Трофеев, возле фонтана Персея, живет некто Гермоген. Его тайное имя Элло, что означает Старец. Он составляет гороскопы, защищает от порчи, сведущ в разыскательных гаданиях и любовной магии. Так ты вот что сделай: возьми побольше денег и отправляйся к Гермогену. Он такие привороты знает, что Путанилла вся враз станет твоя от волос до пяток».
«А с чего ты взял, что этот Гермоген не шарлатан?»
«Это достойный доверия человек. К нему обращалась еще моя мать, когда…»
Наставник молодежи перешел на шепот. Ну и на здоровье: отношения его матери с Гермогеном меня не касались.
Через два часа я уже стоял перед фонтаном Персея. Поглазел на прикованную к скале Андромеду, на чудище и на греческого героя. Отметил про себя, что в доме рядом с фонтаном расположена харчевня «Салерн». И если бывать здесь мне раньше не доводилось, то о харчевне я слышал самые лестные отзывы. Кухня, говорили, у них очень хорошая. Надо будет зайти, ознакомиться…
А вот и искомый дом. С виду ему не меньше ста лет. Основания колонн по краям фасада украшены барельефами с добычей, захваченной в Африке кем-то из соратников Гая Мария. Каковой соратник, вероятно, и построил дом на вырученные от продажи трофеев средства, но приличествующей случаю памятной доски почему-то не оставил.
О том, что трофеи именно нумидийские, свидетельствовали только барельефы слонов. Предметы вооружения, грубые доспехи и крошечные лошади на мой невоенный взгляд могли быть привезены откуда угодно, хоть из Фракии.
На стук дверь открыл невысокий, основательно косматый мужчина, одетый в рубаху и штаны. В общем, варвар варваром.
Глаза у него были бледно-голубые, ясные и очень недобрые.
– Кто тебе?
– Мне нужен Гермоген.
– Какое дело? – латынь привратнику давалась с трудом.
– Я нуждаюсь в помощи того самого свойства, которую Гермоген, он же Элло, – уточнил я, чтобы продемонстрировать свою осведомленность, – оказывает добрым людям посредством своего великого искусства.
– Господин работает дорого.
– Деньги есть.
– Какое имя тебя?
– Дионисий.
– Иди.
В его устах это значило не «иди отсюда», а «заходи». Варвар пригласительно отступил от двери на два шага.
После непродолжительного ожидания перед бассейном, в котором цепенели три маленьких крокодила, я был препровожден в кабинет с глухими стенами. В центре стоял обширный стол. Столешница из лимонного дерева имела непривычную форму правильного пятиугольника.
При этом стол был развернут таким образом, что одна из вершин пятиугольника смотрела ровно в грудь входящему.
В углах стола стояли свечи.
Человек, сидевший напротив входа, – а это был Гермоген, кто же еще, – оказался с виду куда моложе, чем я ожидал.
Он выглядел лет на тридцать пять – тридцать восемь, не больше. Впрочем, внешность у Гермогена была не латинская, а следовательно и судить по ней о возрасте следовало осторожно.
Кожу маг имел смуглую, с желтоватым оттенком. Нумидиец-полукровка? На лишенной растительности голове покоился венок из ветвей маслины. К венку была привязана головка чеснока. На груди у Гермогена висел объемистый мешочек, о содержимом которого оставалось только догадываться.
Сплюснутый нос, большие оттопыренные уши и тяжелая челюсть производили отталкивающее впечатление. Меня, впрочем, подобная внешность обнадежила. Записные шарлатаны имеют вид либо слащаво-смазливый (ибо такими их хотят видеть состоятельные заказчицы), либо фальшиво-благообразный (это – в расчете на состоятельных заказчиков).
Перед Гермогеном лежали грифель и писчие дощечки. Рядом с ними стояла бронзовая миска с водой. Это значило, что он намерен прибегнуть к леканомантии – созерцанию божественных откровений в воде.
– Остановись. Не двигайся и молчи, пока я не разрешу, – голос у Гермогена оказался густым, сильным.
Затем он прочитал молитву на греческом – негромко, но очень отчетливо:
– Радуйтесь, змей и цветущий лев, физические начала огня, радуйтесь, белая вода и высоколиственное дерево, и медовый лотос, источающий золотой кинамон, и ты, который изрыгает из чистых уст дневную пену, канфар, ведущий круг сиятельного огня, самородный, ибо ты – двусложный, А Э, и ты – первоявленный, склонись ко мне, молю, ибо я изрекаю мистические символы…9
Затем следовала абракадабра из клекочущих слогов, которые я не разобрал. После чего вновь последовало нечто внятное:
– …Помилуй меня, праотец, и дай мне в спутники могущество. Будь со мной, господи, и прислушайся ко мне через ту аутопсию, которую я совершаю в сей день, и открой мне о вещах, о которых прошу тебя, через аутоптическую леканомантию. Через ту, которую совершаю в сей день я, Элло…
Заканчивалась молитва новым обвалом абракадабры.
Гермоген некоторое время смотрел на воду, потом поднял взгляд на меня и пригласил сесть.
Опустившись на табурет, я обнаружил, что ближайшая свеча слепит меня столь сильно, что я совершенно не вижу Гермогена. Но за пределами четко очерченной сферы света вокруг свечи вся комната будто бы наполнилась черным туманом, который полностью скрыл от меня стены и потолок. А свечи в других углах стола казались теперь крошечными огоньками бесконечно далеких маяков.
– В чем твоя забота?
Как и свет, звук голоса Гермогена начал распространяться по комнате новыми, неприродными путями. Первое слово каждой его фразы доносилось до меня откуда-то слева, затем источник звука будто пролетал над столом и последние слоги звучали уже справа.
Жутковато? Да.
Впрочем, именно этого я и ожидал от дома Нумидийских Трофеев.
– Я разыскиваю свою жену, – ответив, я удивился тому, что голос мой звучит непринужденно, почти весело.
– Ты, разумеется, римлянин. А называешься греком. Почему?
– Я в Риме инкогнито.
– Преступник?
– Согласно официальным установлениям – да.
– Сам-то ты считаешь, что ни в чем не повинен?
– Считаю.
– А ты, часом, не убийца?
– Это имеет значение?!
– Не кипятись. Если спрашиваю, значит имеет.
– Да никого я не убивал. Собирался, признаю. Но так вышло, что убивать не пришлось.
– Об этом подробнее.
– Я был отправлен в ссылку по доносу одного типа. Я его поначалу простил, подумал: ну ладно, ну подумаешь, проявил человек законопослушание… Служит Цезарю и Отчизне, можно понять. А потом выяснилось, что он на меня клевещет, пользуясь моим отсутствием. И хвалится всем, что соблазнит мою жену. Вот тут я и решил, что это уже слишком.
– Но, говоришь, убивать все-таки не стал.
– Он сам умер. Подавился.
– А где ты был в это время?
– Рядом. За стеной.
– Понятно… Но был еще один. Подумай хорошенько. Еще один человек.
– Который что?
– Которого ты хотел видеть мертвым. Сравнительно недавно. Чем-то он тебе не угодил – и вскоре погиб.
– Ерунда. Нет и не было таких людей.
– А чем хоть подавился тот, первый?
– Да не первый он, а единственный!
– Чем подавился, спрашиваю.
– Вроде орехом.
– Прискорбная случайность… Ну а второй что – тоже подавился?
– Какой второй?!
– Вот я и прошу тебя вспомнить. А если не вспомнишь – можешь и не просить насчет своей жены. Не найдем мы ее. Да я и искать не стану.
– Не вижу связи.
– Связь в том, что я должен понять: есть на тебе чужие смерти или нет. Если есть, потребуется особый обряд очищения. Если нет – не потребуется. Главное – не ошибиться.
– Ну хорошо. Тогда хоть объясни, что я должен попытаться вспомнить.
– Возможно, ты лично не убивал, но твои действия послужили причиной чьей-то гибели.
– Я убил крысу. И легион жуков. И крыса, и жуки хотели сожрать пшеницу, которую я вез в Италию на корабле. Вот и все. Больше ничего не помню. Крыса и жуки считаются?
– В данном случае – нет.
– Ну значит за мной никаких прегрешений не числится… Нет, погоди-ка!.. На том корабле-зерновозе был один матрос. Его застрелили пастухи, у которых наш капитан украл козленка.
– Ага!
– Да-да. Так вот я незадолго до того с матросом поругался. Очень крепко. И в сердцах призвал на его голову кару небесную.
– Как матроса-то звали?
– Сарпедон.
– А того, который орехом…
– Рабирий. Это тоже нужно для обряда очищения?
– Обязательно. И твое настоящее имя тоже требуется.
– Публий.
– Публий что? Публий Без-Роду Без-Племени?
– Публий Овидий Назон.
– А супругу как звать?
– Фабия Марцелла… Скажи, ты видишь ее, видишь?!
– Где?
– В своем сосуде.
– Если бы все было так просто! Сейчас я вижу только смутные образы, которые показывают мне насколько правдивы твои слова. Разглядеть там сегодня твою жену или еще кого-либо я не могу, даже если очень захочу… А теперь встань и отойди к двери.
Я повиновался.
Стоило мне подняться со стула, как тьма рассеялась и я увидел Гермогена, его писчие дощечки, потолок, стены и веретенце серебряного сияния, которое кружило в миске, как проворная рыбка.
Когда я отошел к двери, Гермоген снял с головы масличный венок и прочитал вслух еще одну молитву, снова по-гречески:
– Благословляю тебя, господи, Баинхооох, сущий Балсамес, удались, удались, господи, в собственные небеса, в собственные царства, в собственный бег, сохрани меня здоровым, невредимым, не понесшим ущерба от идола, неповрежденным, неустрашенным, прислушивайся ко мне во время моей жизни.
Затем Гермоген встал в полный рост (оказавшийся впечатляющим: локтей шесть) и обратился ко мне:
– Вот что я тебе скажу, Публий Овидий Назон. Найти человека тяжело, очень тяжело. Хоть он в Риме живет, хоть в Италии, хоть где. Но тебе повезло. Я сильный гностик и ты обратился ко мне в мой сильный месяц. Так что, я думаю, исход леканомантии с применением подлинной фотагогии будет благоприятным. Поскольку ты, как мы установили, являешься дважды убийцей, мне придется провести над твоим именем дополнительный обряд очищения. Этот обряд будет стоить тысячу сто один сестерций. Далее. Через три дня будет ночь новолуния. В ту ночь я проведу мистерию гносиса и после шестого часа следующего дня ты сможешь прийти ко мне за результатами. Я прошу тебя выплатить мне сейчас семь тысяч семьсот семь сестерциев в качестве задатка. Если мне удастся выяснить точное местоположение твоей супруги, тогда ты мне выплатишь еще столько же.
– Так и сколько, выходит, я должен заплатить тебе прямо сейчас?
– Восемь тысяч восемьсот восемь сестерциев.
– И эту сумму я тебе отдам просто так? Безо всяких гарантий успеха?
– Почему же просто так? Я напишу тебе расписку. А насчет гарантий я тебе уже сказал: я сильный гностик. Я бы мог смело просить сейчас обе половины своего вознаграждения. Но я не хочу смущать тебя.
Что же, я с самого начала знал, на что иду. Оставалось только беспрекословно отсчитать заявленную сумму в золотых. Храни я свои деньги в сестерциях, у меня пупок развязался бы таскать столько серебра.
Мы управились одновременно: когда я покончил со счетом, Гермоген как раз дописал и отдал мне расписку.
– Да, последнее. Напиши мне свое полное имя, – с этими словами он протянул мне чистую дощечку.
– А это еще зачем?
– Я же должен проводить над чем-то обряд очищения! Поскольку ты являешься, как мы говорим, косвенным убийцей, для очищения достанет твоего имени. В противном случае три дня подряд коровьей мочой и кедровой золой пришлось бы оттирать тебя лично.
3. Спустя четыре дня, как мы и договаривались с Гермогеном, я вновь направился к дому Нумидийских Трофеев.
Вышел я, однако, с таким расчетом, чтобы оказаться возле фонтана Персея многим раньше назначенного времени.
Я уговаривал себя, что Гермогена ни в чем не подозреваю, а всего лишь желаю воспользоваться предоставившейся возможностью пообедать в харчевне «Салерн». Поскольку после гибели Рабирия я почти совсем отказался от прогулок по городу, разнообразие моего стола оставляло желать лучшего. К тому же, деньги приходилось экономить и Титана я посылал на рынок за лакомствами считаные разы.
А что я – не заслужил нормальной кухни? Вот пообедаю как человек, поем знаменитых луканских колбасок, пирожков с маком, морских ежей – а там уже и время подойдет отправляться к Гермогену за результатами «леканомантии с подлинной фотагогией».
Однако, в глубине души я вынашивал один незатейливый замысел. Дело в том, что «Салерн» находился считай ровно напротив дома Нумидийских Трофеев. Между ними возвышался фонтан Персея во всем великолепии. Это позволяло надеяться, что из харчевни будут просматриваться подходы к дому.
Зайдя в «Салерн», я убедился, что был совершенно прав. Два стола в харчевне стояли так, что от них, через частые решетки в окнах, были видны и колонны со слонами, и черная дверь с бронзовыми накладками. А вот уже все прочие места, расположенные в глубине харчевни, позволяли созерцать лишь нескольких вспомогательных нимф фонтана, из числа окружающих скалу с прикованной Андромедой.
Оба стола близ окон были свободны.
Я сел, сделал заказ и принялся соглядатайствовать. Надкушенный пирожок застыл у моего рта, когда я увидел четырех солдат городской когорты.
Один из них непрестанно оглядывался по сторонам. Был момент, когда казалось, что он посмотрел прямо мне в глаза! Но, само собой, в полумраке за частой решеткой разглядеть меня было невозможно.
Затем солдат заслонила скала в центре фонтана – та самая, с прикованной Андромедой. Если бы стражи городского спокойствия свернули в проулок, я бы их больше и не увидел. Это значило бы, что мои подозрения относительно Гермогена-Элло яйца выеденного не стоят.
Но солдаты, один за другим, вновь возникли в моем поле зрения. Они подошли к дверям дома Нумидийских Трофеев и постучали. Им открыл все тот же голубоглазый привратник-варвар. Без расспросов и пререканий (значит, предупрежден!) он впустил их в дом. Затем шагнул за порог и начал, фут за футом, экзаменовать взглядом площадь вокруг фонтана.
Я, боясь пресловутой зоркости варварских народов, на всякий случай отвернулся. Несколько минут сосредоточенно рассматривал картины жизнерадостного сельского изобилия на противоположной стене харчевни и лихорадочно соображал как быть дальше.
Когда я вновь отважился посмотреть на дом Нумидийских Трофеев, его дверь была уже плотно затворена, а германец исчез.
«Проклятье, предчувствия меня не обманули! Гермоген донес на меня, мне приготовлена засада! Ай да молодец!»
– Напомни, что еще там в моем заказе?
– Ежик, ежик морской, с хренком! – хозяин «Салерна» был угодлив до тошнотворности.
– Скоро будет готов?
– Минуток через десять.
– Я вспомнил об одном срочном деле. За ежом пришлю своего слугу. Вот деньги вперед.
– Хорошо! Всенепременно! А как тебе понравились наши колбаски?
За окном громыхнул гром, начал накрапывать дождь.
– Колбаски, клянусь Палладой, украсили бы стол в лучших домах моего родного Коринфа!
– А латынь у тебя отличная!
– Мой отец италик. Ну, счастливо.
– Счастливо, господин.
Дождь был мне на руку. Прикрыв голову полой плаща, я тем самым фланкировал свое лицо от возможного наблюдения из окон дома Нумидийских Трофеев.
И все равно – первый шаг прочь из харчевни стоил мне таких усилий, будто я намеревался перемахнуть Рубикон. Именно об этом цезаревом Рубиконе я и думал отчего-то, выйдя под дождь, поворачивая налево и потом, почти сразу – еще раз налево.
Оказавшись в тесном проходе между двумя инсулами, я прибавил шагу.
Куда именно я иду, значения для меня не имело. Убраться как можно дальше от дома Нумидийских Трофеев – а там уже можно будет что-то решать.
Улица, на которую я вышел, показалась мне совсем незнакомой.
Я наугад свернул направо. Застроенная как попало, да еще и съезжающая вниз по склону Эсквилина, улица была такой кривой, что, казалось, вот-вот заложит еще один крутой вираж и вцепится самой себе в бок.
«Куда же теперь идти? Куда деваться? Хорошо если этот Гермоген просто жулик, состоящий осведомителем городской стражи. А если он не только осведомитель, но и в самом деле вполне действенный разыскательный гадатель? Если он смог установить посредством леканомантии мое место жительства?»
«Нет, – возражал я сам себе. – Посуди сам, тогда солдаты могли бы схватить тебя прямо в инсуле, зачем такие сложности с засадой?»
«Как знать! Может быть, у начальства Гермогена просто не было необходимости искать место жительства Публия Овидия Назона? Они были уверены, что рыбка сама заплывет в сети? Но теперь, не дождавшись меня, Гермоген все-таки проведет леканомантию и разыщет Назона! Значит, домой возвращаться опасно!»
«Ну спасибо, обнадежил».
Дождь лупил по-февральски основательно. Плащ намок и отяжелел. Надо было искать временное укрытие, но вдоль улицы как назло не было ни одной забегаловки, ни одной лавки. Спасаться от дождя под лестницей ближайшей инсулы не хотелось. Во-первых, там тоже капало. Во-вторых, я бы слишком выделялся на фоне пережидающих дождь темных личностей и на меня мог обратить внимание проходящий патруль. А ведь в этих кварталах стражников, скорее всего, предупредили на мой счет!
Улица круто ушла вниз и я обнаружил, что попал прямиком на Патрицианскую в ее средней части.
Этого только мне не хватало! Я бы еще на Форум приперся!
Я присел – якобы для того, чтобы поправить ремешки на сандалиях. Озираясь исподлобья, я искал самую темную и тесную норку, чтобы по-паучьи юркнуть в нее и затаиться до ночи. Такой норкой показался мне переулок невдалеке слева.
Я решительно направился туда, углубился в квартал и едва не налетел на стоящие на земле крытые носилки.
Восемь носильщиков спрятались от дождя под вынесенным на балках вторым этажом инсулы. Они пребывали в расслабленных, живописных позах – кто стоял, скрестив руки на груди, кто, присев на корточки, откинулся к стене. Но, что удивительно, они не судачили о своем хозяине, не ссорились, не грызли ногти, не играли в кости, не подкреплялись корками… Лицо каждого источало такое спокойствие, такую безмятежность и умиротворение, словно в их ушах звучала не дождевая какофония, а флейта Аполлона.
Сказочные носильщики, честное слово.
Дальше по улице в стене виднелся прямоугольный проем. Хотелось надеяться, что это вход в лавку или харчевню.
Я осторожно протиснулся между носилками и восьмеркой блаженных, отметив, что они даже не удостоили меня взглядами.
Относительно лавки я не обманулся: доска на стене объявляла, что «Здесь Парис торгует книгами, всеми видами папируса и писчими принадлежностями».
Обрадованный близким спасением, я зашел внутрь.
Торговое заведение оказалось на удивление просторным. Высокие окна на противоположной стене создавали поистине дворцовое настроение. Стеклянные зеркала – изобретение самых последних лет – дополняли картину процветающей лавки, идущей в ногу со временем.
В открытых шкафах в алфавитном порядке были разложены тысячи греческих и римских сочинений. На шкафах поблескивали таблички с буквами: «Кси» – Ксенофонт, Ксенофан, «Каппа» – Карнеад, Каллимах Киренский, L – Ливий, Лукреций, V – Вергилий и т.д. Тысячи, десятки тысяч свитков – побогаче и подешевле, папирусные и пергаментные, с полированными обрезами и без – громоздились по стенам до потолка.
Давно не попадал я в блистательное общество миллионов букв – любящих и молящихся, страдающих и негодующих, буйствующих и сражающихся!
Опрятный мужчина моих лет в вызывающе полосатой красно-желтой тунике обслуживал двух покупателей. Это, я думаю, был сам Парис.
Еще один посетитель лавки сидел у окна спиной ко входу и был явлен мне одною лишь плешью, покрытой старческими пятнами. Перед ним стояла машина для чтения, в которую был заправлен пурпурный пергаментный свиток с удивительно яркими картинками, детали которых я, конечно, разглядеть не мог.
Покупатели, с которыми общался Парис – на вид два прихлебателя при скоробогатом откупщике средней руки – хотели приобрести «что-то новенькое, читабельное, и для сердца, и для ума». Уверен, книгу они выбирали на подарок – такие гуси обычно грамоту забывают за ненадобностью. Годам к двадцати пяти.
Рядом с Парисом на прилавке лежали отвергнутые покупателями варианты. Согласно ярлыкам на свитках, это были: Аристид с «Милетскими рассказами» (та еще новинка) и три других грека (действительно «новенькие», раз мне их имена ни о чем не говорили) – все это в латинских переводах.
Так совпало, что, когда я только принялся соображать под каким предлогом проторчать здесь, в сухости и ученом уюте, подольше, Париса осенило:
– Друзья мои! Как же я мог забыть?! Совсем недавно, в канун нового года, Отец Отечества даровал нам книгу! В ней и полезное, и приятное, и серьез, и смешинка!
«Отец Отечества? Цезарь, в смысле? Гай Октавий? – мои глаза в панике бежали по полкам. – Какую еще книгу?!»
С этими словами Парис исчез в подсобной комнате и, возвратившись, выложил на прилавок нечто роскошное. В ларец из кипарисового дерева была врезана гемма с профилем молодого Августа. Ларец, повинуясь ловким пальцам Париса, распахнулся, явив тесную компанию разноцветных свитков. И мало того, что каждая книга сочинения была написана на материале своего особого цвета, так еще и чернила, как оказалось, были где золотыми, где серебряными, где красными, а где голубыми.
Ослепленные книжной красотой, покупатели тихо ахнули.
– Сочинение именуется «О моей жизни», – торжественно провозгласил Парис. – Написано Цезарем Августом на основании собственного опыта. Снабжено превосходными иллюстрациями, историческими примерами, подлинными случаями из жизни и пересыпано остроумными эпиграммами. Вот послушайте, например:
То, что с Глафирою спал Антоний, то ставит в вину мне Фульвия, мне говоря, чтобы я с ней переспал. С Фульвией мне переспать? Ну, а ежели Маний попросит, Чтобы поспал я и с ним? Нет, не такой я дурак! «Спи или бейся со мной!» – говорит она. Да неужели Жизнь мне дороже всего? Ну-ка, трубите поход! 10(Я против своей воли поморщился.)
– Мнэээ… – промычал в сомнении первый покупатель.
– Но если… – проблеял другой.
– Так вы не нуждаетесь в сочинении нашего Цезаря Августа? По-вашему, в нем нет ничего такого, что было бы интересно римскому гражданину? – Парис грозно свел брови.
Расчет был верный.
– Нет-нет, берем! Конечно! Чудесный выбор!
– Прекрасный подарок! Спасибо за добрый совет!
Облегчив кошельки, забавная пара поспешно ретировалась, получив от Париса на прощание дюжину любезных улыбок и дармовой кусок парусины для предохранения кипарисового ларца от дождя.
– А тебе чего угодно? – полюбопытствовал хозяин, возвратившись от двери.
– Скажи… У тебя Рабирий есть?
– Ну а как же?! Вот, изволь: «Акций» в пяти книгах. Будешь брать?
– Нет, погоди. А кроме «Акция»?
– А тебе так уж нравится Рабирий?
– А что же? По-моему, из ваших, из римлян, – заявил я, честно отыгрывая роль грека, – он лучший поэт.
– Поэт? – раздалось у меня за спиной. Вопрос я, разумеется, отнес на счет Рабирия.
– Да, конечно, а кто же еще?!
– Тот самый поэт?
Сухой, шелестящий голос показался мне знакомым. Я обернулся. Со мной разговаривал старик. Только теперь он не сидел, а стоял посреди лавки с видом одновременно изумленным, обескураженным и, я бы сказал, сердитым.
– Я где-то тебя видел?
– Ты где-то меня видел, – подтвердил он. – Но не это главное.
Тут я краем глаза зацепился за какое-то несообразное движение в ближайшем зеркале. Приглядевшись, я обмер.
Зеркало отражало и меня, и старика. Но только я, согласно зеркалу, стоял у прилавка и что-то объяснял Парису, а старик по-прежнему сидел в кресле и читал свой пергамент. Сейчас он как раз провернул ручку машины для чтения, отматывая очередные столбцы текста.
Перехватив мой взгляд, старик улыбнулся – малоприятно, одной стороной рта.
– Вот именно. Главное – это.
– Что… происходит?
– Не важно. Немедленно зажмурься, отвернись и попрощайся с Парисом. Я буду ждать тебя в своем паланкине.
И лишь в тот миг я наконец сообразил, кого вижу перед собой. Из моего горла вырвался жалкий сдавленный звук, я хотел что-то сказать, но мой собеседник меня опередил:
– У меня хорошая память. Мы говорили с тобой – там, на вилле «Секунда». Я хотел бы закончить разговор… Всегда заканчиваю разговоры.
4. Я помню оторопь от первого столкновения с греческим языком: козявки, а не буквы, голубиное воркование, а не речь. Десяти тысяч лет не хватит, чтобы научиться извлекать крупицы смысла из вакхического кривлянья чужих знаков!
Оказалось: и года достаточно, чтобы овладеть греческим уверенно, на зависть сверстникам.
Что-то похожее случилось и в тот день.
Встреча со стариком меня ошеломила. Что я бормотал Парису на прощание, как шагал к паланкину, как занял место – не помню.
Но внутри паланкина – широкого, основательного, рассчитанного на двух взрослых людей – я быстро пришел в себя. И, сам не ожидая от себя подобной наглости, отважился сразу же заговорить о главном. Том самом главном, узнать которое я даже и не надеялся, смирившись еще на пути в ссылку с тем, что судьба моя и обезображена, и украшена высокой тайной. «Если она мне и откроется, то разве что за смертной чертой», – так думал я.
– Цезарь выслал меня прочь из Италии почти сразу после того, как мы с тобой поговорили о Горации.
– Мерзавец… Но откуда он узнал о нашем разговоре?.. А тот, второй? Октавий тоже его выслал?
– Второй-то и был доносчиком. Он остался в Городе. Недавно умер… Скажи мне: я, по-твоему, имею право узнать, кто ты?
Старик смерил меня долгим взглядом. И если только вправду человека можно считать вихрем неделимых частиц, как полагают эпикурейцы, то каждая частица, составляющая мое тело, под этим черным немигающим взглядом остановилась, а затем вздрогнула и закружилась по новой спирали, издав тонюсенький панический вопль.
– Имеешь право. Я – Юлий Цезарь.
Убийство Цезаря в иды марта
5. Это очень короткая история. Как и все подлинные истории о богах, понять ее нелегко.
Диктатор Гай Юлий Цезарь направлялся в курию на очередное заседание сената.
Знамения предрекали несчастье. Жена диктатора видела дурной сон. Цезарь осознавал, что на него готовится покушение. Не может не готовиться.
В курии заговорщики нанесли Цезарю двадцать три колотых раны. Имена заговорщиков всем известны: Брут, Кассий, Каска, Требоний, Тиллий Цимбр, Буколиан и прочие.
Цезарь пришел в курию пешком. Поэтому его тело, не подававшее признаков жизни, подхватили и унесли на носилках чужие рабы. Которые, к слову сказать, после того дня бесследно исчезли.
Диктатор открыл глаза и увидел над собой человека. Человек закричал.
– Не кричи, – сказал мертвец. Пузыри крови лопались на его губах при каждом слове, сипели пробитые легкие. – Повторяю: перестань кричать и отвечай на мои вопросы.
– Хорошо… Хорошо, о царь!
– Я не царь. Где я?
– Это дом Публия Миндия.
– Почему я здесь?
– Рабы, которые несли тебя, вдруг почувствовали, что тело твое тяжелеет с каждым их шагом. Они быстро выбились из сил и были вынуждены занести тебя в ближайший же дом, где почли за честь принять твое тело.
– Что происходит в Городе?
– Большая смута. Одни хотят воздать заговорщикам почести как тираноубийцам, другие – казнить как преступников. Все заперлись по домам и ждут большой резни… Разреши, я немедленно сообщу всем, что ты жив?
– Я не жив. Это первое. Никому ничего не говори. Это второе.
– Может быть, врача?
– Замолчи и дослушай. Никакого врача. Меня нет, я умер. Именно это и должны знать в Городе. А нам с тобой надо придумать как представить народу мои похороны. Так, чтобы никто не усомнился, что сжигают тело Гая Юлия Цезаря, диктатора. Это третье и главное.
На следующий день Марк Антоний, один из ближайших соратников Цезаря, произнес речь над телом убитого диктатора. Впрочем, само тело, лежащее в гробу, толпе не демонстрировалось. Вместо него, чтобы возбудить в народе ненависть к убийцам, Марк Антоний указывал на восковое изображение Цезаря, на котором были скрупулезно воспроизведены все двадцать три раны и даже потеки крови.
Когда неистовство толпы достигло апогея, из-под земли появились двое с факелами и охапками хвороста. Посланцы Тартара швырнули хворост под помост, на котором стоял гроб с покойным диктатором.
Никто не стал задумываться над тем что это за самоуправцы и откуда они взялись. Толпа охотно поддержала их почин. Сразу же были разгромлены окрестные лавки, сломаны многочисленные скамьи и деревянные беседки. Все это свалили вокруг помоста и подожгли. В огне исчезли и гроб, и восковое изваяние диктатора.
6. Пока мой собеседник говорил – а в речах он был неспешен – я силился обнаружить в его чертах тот Цезарев абрис, который был знаком мне по многочисленным изваяниям. Дважды, когда Цезарь откидывал голову назад, задирая подбородок, и делал тяжелый кивок (обнаружилась у него такая особенность – он кивал в начале некоторых, особо значимых, фраз), мне удавалось на миг схватить нечто знакомое, нашарить взглядом выразительный некогда треугольник: две складки спускаются от крыльев носа к сомкнутым губам с капризно приспущенными уголками.
– Выбрось свой плащ. Он же мокрый насквозь, закоченеешь.
Я повиновался.
– Мне кажется, ты недоволен. Ты думаешь: «Если передо мной живой бог, он мог бы высушить мой плащ одним прикосновением десницы».
– Я, прости мою дерзость, думаю о другом. Почему ты, божественный Юлий, завещал власть именно Гаю Октавию? Ведь, наверное, после мартовских ид тебе по силам было… – я запнулся. – Ты мог… Изменить свое завещание… Продвинуть самого достойного…
– Самого достойного… Пентальфа!
Благодаря общению с просвещенным Филолаем я знал, что пентальфа – это магическая пятиконечная звезда пифагорейцев. Собственно, именно пентальфа висела над входом в запретный флигель на вилле «Секунда», где нам с Рабирием, самим того не ведая, довелось повстречать божественного Юлия.
Но какое отношение имеет золотая звезда к преемнику диктаторской власти? Мне оставалось лишь робко вопрошать:
– Прости… что?
Цезарь тихоя рассмеялся.
– Тебе ведомо, должно быть, что в мире божественного всякая вещь не зрима и не осязаема, но представлена внечувственным симболоном. Вещь несовершенна и обречена смерти, симболон же идеален и вечен. Пентальфа – симболон человека. Всякий раз, когда я впускаю в свой ум пентальфу, я смеюсь. Столь велико несходство между симболоном человека и любым из живущих людей. Теперь я отвечу на твой вопрос: не мы выбираем достойных. Но достойным зовется тот, кого назначит она, пентальфа.
Зимняя война
7. Я, Публий Овидий Назон, рос в счастливую пору, когда пламя великой смуты ушло на Восток, в пределы фараонов, а затем и вовсе погасло.
Божественному Юлию достались времена мятежные и страшные. Ловкий демагог одной речью на форуме мог сжечь дотла город. Сокровищницы магнатов приводили в движение армии. Пылала Италия, пылал мир.
Сам Юлий был мятежник, сам служил ликом ужаса. Диктаторская власть была нужна, чтобы покончить с гражданскими войнами, но получить власть можно было лишь в гражданской войне.
На четвертый год войны Секст и Гней, сыновья погибшего Помпея Великого, взбудоражили Испанию и грозили Цезарю тринадцатью легионами.
Сыновей Помпея требовалось изловить и умертвить.
В который уже раз Цезарь возглавил войско и повел его на север.
Ливни шли страшные. Казалось, от небес откалываются пласты льда и, догоняя друг друга в пути, сшибаются, разваливаются, разжижаются и рушатся на землю. Вода падала не каплями, а цельными кусками, вперемешку с ледяной крошкой, снегом, мертвыми птицами. Ветер подхватывал хлюпающую мерзость, нес над землей, разбивал о стволы деревьев, о лошадиные морды, о зачехленные щиты…
Помпеянцы отступали. Армия Цезаря преследовала их, каждый день натыкаясь на горячие руины: враг твердо постановил для себя сжигать все города и селения.
Наконец, Цезарь вышел к зажатой между холмами и пригорками Мундийской равнине.
Впереди, по левую руку, стоял город Мунда, дальше по дороге – Осуна. Оба города избегли огня – в них стали вражеские гарнизоны.
Выяснилось, что на противоположном конце равнины расположился главный лагерь сыновей Помпея. И более того: перед рассветом разведчики сообщили, что республиканцы выходят из лагеря и строятся в боевые порядки.
Враг устал убегать и отважился драться.
Лагеря противников разделяли пять миль и противнейший ручей в центре равнины. Перейти его вброд не составляло особого труда. Но противоположный берег был сильно заболочен и кое-где порос терновником.
Переправиться, сохранив строй, казалось задачей невыполнимой.
По сигналу труб когорты первой линии нехотя остановились перед ручьем. По рядам пополз ропот.
«Почему стоим?» – «Мост строить решили? Чтобы сапог не замочить?» – «Эй, трубачи, до врага еще далеко!» – «Хотим настоящего дела, Цезарь!»
Почти сразу вслед за тем войско помпеянцев пришло в движение. Так и не спустившись на равнину, неприятельские знамена двинулись по гребню возвышенности, которая тянулась к истоку ручья.
Цезарь побоялся сдерживать боевой порыв своих воинов перед лицом врага и нехотя дал трубачам отмашку.
Когорты побрели вперед по колено, а местами и по грудь в студеной воде. Пока войско Цезаря выносило вперед левый фланг, поворачивая фронт к возвышенности, противник подошел совсем близко.
Помпеянцы свистели, улюлюкали, делали непристойные жесты. Изо всех сил они хотели вынудить солдат Цезаря пойти в атаку вверх по склону.
И те не стерпели.
Несгибаемый десятый легион на правом фланге, третий и пятый – на левом, а вместе с ними и легионы центра бросились вперед.
Их встретил железный шквал: дротики, стрелы, пули из пращей. Но, закрывшись щитами, солдаты выполнили приказ центурионов и приблизились к вершине холма на сорок шагов. Именно с такого расстояния они могли надеяться нанести стоящим выше помпеянцам хоть какой-то урон.
Но легаты помпеянцев знали свое дело.
На левом фланге, где крутизна склона была меньше, их солдаты покатились вниз и сшиблись с пятым легионом, над которым покачивались его особые, известные на всю Италию знамена с деревянными элефантами. Этими знаменами Цезарь пожаловал пятый легион за исключительную отвагу, показанную в африканской кампании против нумидийских боевых слонов.
Затем перешел к рукопашной центр, затем – правый фланг.
К огромному разочарованию Цезаря, помпеянцам удалось отбросить его легионы от вершины холма. Откатившись вниз, оробели даже ветераны: «Что происходит, мы ведь только что были наверху? Какой-то морок!»
Не желая вновь ввязываться в рукопашную, помпеянские легионы остановились и принялись обстреливать солдат Цезаря с утроенным рвением. Цельножелезных туземных дротиков, солиферрумов, у них были в запасе десятки возов.
Цезарианцы падают – один за другим.
Падают… Кто-то подымается снова, шипя от боли в пробитой ноге. Воины нехотя швыряют дротики обратно, призывают Марса в помощь, но…
Но главное: они застыли на месте и больше не желают бежать вверх, по скользкому от крови склону.
Цезарь быстро вышагивает вдоль строя. Свита из молодых патрицианских недоучек едва поспевает за ним. Цезарь требует забыть об опасности. Надо идти вперед немедленно, бежать на врага, пока еще не поздно, пока дротики не изранили всех!
Ветераны стоят, как вкопанные. Ветеранам стыдно. Но – боязнь смерти сильнее.
«Клянусь Венерой-прародительницей, если вы не хотите помочь своему императору выиграть эту битву, я выиграю ее сам!»
С этими словами Цезарь отобрал у ближайшего воина щит. Выхватил из рук сигнифера знамя когорты. И, не оглядываясь, быстро пошел вперед и вверх по склону.
Дважды он поскальзывался и падал. Дважды поднимался, опираясь на знамя. Нижний конец древка был заострен и, уходя в землю, прочно застревал в ней. Цезарь рывком выдергивал знамя и делал следующий шаг.
Так он преодолел половину пути. В него летели дротики. Щит сделался неподъемным.
Цезарь был уверен, что солдаты не вынесут вида своего императора, который в одиночку атакует семьдесят тысяч врагов, и пойдут за ним. Но он не услышал у себя за спиной ни тяжелого дыхания легионеров, ни бряцанья оружия.
Диктатор не выдержал – и обернулся.
Ни малейшего воодушевления. Его легионы разбиты параличом. Один остолоп кричит, показывая пальцем: «Это кому там жить надоело?!» А вокруг даже не знают что ему ответить!
Большинство же воинов вообще отказывались замечать своего императора. Многие когорты поклонились врагу, припав на одно колено. Они закрылись щитами наглухо, упрятав лица. Они береглись от обстрела.
Когда Цезарь вновь повернулся к помпеянцам, очередной железный дротик попал ему в голову.
Шлем выдержал удар. Цезарь – нет.
Выпустив знамя, он потерял равновесие. Диктатор упал на спину, а сверху его прихлопнул щит.
Между жизнью и смертью, между Олимпом и бездной есть точка, в которой и оказался Цезарь. В этой точке сходятся все параллельные прямые мира. Людей там уже нет, но боги еще не пришли.
Сквозь смертную пелену цвета осеннего заката божественный Юлий видел, как из помпеянских рядов выступили трое. Лениво помахивая однолезвийными тесаками, они спускались к нему.
На старшем была шерстяная рубаха до колен, расшитая красными треугольниками и желтыми крестами. Рубахи двух его спутников довольствовались синими кругами и зелеными квадратами.
Это были испанцы: вождь и двое его телохранителей, скорее всего – сыновья. Бездушные, но памятливые и оттого непрощающие демоны, дети угрюмых племен, которые давно запутались в своих кровавых зачетах, они с охотою становились под любое римское знамя, чей владелец посулит им не богатство и даже не власть, но геноцид соседнего рода.
Они отрубят ему голову, сорвут доспехи, посвятят трофеи своим кумирам.
Над его телом сыновья Помпея будут говорить о смерти тирана. О народовластии и республике. О том, что в Город пришла свобода.
Но вместо свободы в Город придут красные треугольники и зеленые квадраты испанских наемников.
«Цезарь! Цезарь в опасности!» – закричал вдруг кто-то.
И тогда Цезарь почувствовал, что под ним зашевелилась земля, будто там копошились гады.
У него возникло ощущение, что его душит гигантский змей.
Он услышал голоса.
Как верховному понтифику, Цезарю подобные приметы были знакомы. Все они означали близость сверхъестественного.
Внезапно чьи-то сильные, невероятно сильные руки подхватили его и рывком поставили на ноги.
Стоило легионам вновь увидеть алый султан над шлемом Цезаря, они – будто им глаза подменили – мгновенно признали своего императора.
От их боевого клича полегла трава. Звенящая волна легионеров, обминув императора с обеих сторон, ударилась о вершину холма.
Стена помпеянских щитов затрещала. В спину передним рядам напирали следующие, их поддерживали задние и, таким образом, человеческая волна, вставшая на дыбы, удерживалась даже на самой крутизне, не откатываясь назад.
А потом помпеянцы подались на шаг назад, подались на второй… Строй лопнул и рассыпался.
Испанские наемники побежали сразу и без оглядки.
Затем смешались регулярные легионы.
Идейные республиканцы сопротивлялись дольше всех, пока их раздробленные отряды не истаяли по градом ударов, не были втоптаны в холодную землю.
Цезарь не был бы Цезарем, если бы после сражения не учинил разбирательство. Для начала были разжалованы несколько оробевших центурионов. Затем – награждены лучники, которые на глазах у Цезаря застрелили испанского вождя с двумя телохранителями.
Затем войсковые трибуны по его приказу долго доискивались, чей же крик рассеял морок над Мундийской равниной.
Нашлись несколько ветеранов, которые присягнулись, что видели Гая Октавия, выступившего вперед из рядов пятого легиона. Молодой человек взмахнул рукой и крикнул «Цезарь в опасности!» После чего швырнул далеко вперед, в сторону лежащего диктатора, одно из знамен с элефантом. За этим элефантом все и бросились.
Переспросив ветеранов трижды и трижды получив подтверждение, Цезарь подарил по семь золотых каждому и засел за письмо сенату.
Гая Октавия на Мундийской равнине в тот день быть не могло. Он находился очень далеко, на берегу моря, с флотом. Но ветераны, определенно, видели то, что видели.
8. – Помню, в «Секунде» говорил ты о пустоте. Одною которою и должны быть наполнены поэты.
– Примерно так, божественный Юлий. Но я в этом больше не уверен. И уж подавно не могу такого сказать о себе.
– Это я вижу.
Говоря так, Цезарь кивнул дважды. То есть, по его мнению, он сообщил нечто в высшей степени важное. Мне даже показалось, что этим сообщением тема, по его мнению, закрыта и развития мысли не последует. Но он продолжил:
– С того дня, когда я сражался при Мунде, я полон Римом. Я – это Город. Все его ворота и все его дороги. Все холмы и все рощи… Ты прибыл из Остии, верно?
– Да.
– Ты живешь… На улице Большого Лаврового Леса.
– Да.
– А недавно ты ходил куда-то… к фонтану Персея?
– Ходил…
Порою всю благовоспитанность, почтение к старшим и доводы разума побеждает непреклонная логика момента. Я, не в силах больше удерживать в себе свою главную печаль, выпалил:
– …Цезарь, я ищу свою жену, Фабию! Я очень боюсь, что не увижу ее больше! Никогда! Если ты бог…
– Я бог.
– …помоги мне! Ты должен знать где она!.. И еще: возле фонтана Персея живет один предсказатель, Гермоген. Я обращался к нему именно с этим, искал Фабию… Я думаю, он написал на меня донос. Городская стража может схватить меня. И тогда мне конец. Ведь я ссыльный…
– Ссылка пошла тебе на пользу.
– О, несомненно! Все, что делает Цезарь Август, идет нам на пользу!
Я не успел пожалеть о своем невольном сарказме, потому что божественный Юлий поддержал меня с неожиданной живостью.
– Я очень рад, что ты понимаешь это. Хотя он стал злобен и уже почти ничего не соображает. Что бы они тут без меня… А насчет городской стражи не беспокойся. Все вздор.
– Конечно! О чем беспокоиться?! Всего лишь отрежут голову.
– Не отрежут. Соврешь что-нибудь.
– Что?
– Что видел Юлия Цезаря.
Он посмотрел на меня озорно, испытывая то ли остроту моего ума, то ли промеряя, насколько обмелело мое чувство юмора.
Я улыбнулся. Пожалуй, беспомощно.
– Не жди, поэт, что я скажу тебе «Можешь рассчитывать на меня». Ты не на битву идешь, и не к воздвижению городских стен приступаешь. Дела твои – частные, и с ними вполне по силам управиться гениям твоего рода. И все же, я понимаю, что должен испытывать чувство вины перед тобой. А потому я разрешаю тебе в будущем еще раз отыскать меня в книжной лавке Париса. Возможно, у тебя получится… Попросишь о чем-нибудь важном… Похлопочешь…
– Благодарю тебя.
– Тебе пора выходить.
Это было так неожиданно, что я немедля отвел в сторону занавеску и выглянул на улицу. Хотя, наверное, не имел права так поступать без разрешения хозяина паланкина.
Стена какого-то дома, вся в темных потеках.
Носильщики еще продолжали движение. Потребовались три или четыре их шага, чтобы я увидел вытянутые щиты, пучки дротиков, барельеф слона с выщербленным ухом.
Это был дом Нумидийских Трофеев.
«А ведь он обошел мою мольбу о Фабии вниманием! Просто не заметил!»
Носильщики остановились напротив двери.
Ослушаться божественного Юлия я не посмел.
– Прощай, Цезарь.
– Прощай, поэт.
9. Я постучал.
Ожидая, пока ко мне выйдет привратник и заманит меня внутрь – туда, где бассейн с крокодилами и где я буду подвергнут аресту засевшими в засаде стражниками, – я самоотрешился. Меня – как самобытной персоны – не стало, только несколько мыслей перемигивались друг с другом, как огни греческих телеграфных башен.
«Цезарь отверг мольбу Назона».
«Значит, так и надо».
«Цезарь хочет от Назона жертвы».
«Или, сказать лучше, берет Назона в жертву».
«В любом случае, его воля должна быть исполнена».
Отчего я смиренно шел в руки стражникам?
Никоим образом не желая поставить себя вровень с великими даже на словах, я хотел бы надеяться, что мною двигали те же побуждения, которые заставили Цезаря бестрепетно пойти под ножи заговорщиков в те мартовские иды.
Тот не римлянин, кто не поймет меня.
Вместо косматого слуги Гермогена из распахнувшейся двери на меня шагнул стражник. За ним – другой.
И третий.
И четвертый.
Они протискивались мимо меня (я стоял столбом, отчасти преграждая им путь), словно бы фасолины вылущивались одна за другой из тугого стручка. Они пихали меня локтями, царапали ножнами, но при этом всецело игнорировали, поглощенные своим разговором.
– Пять тысяч пятьсот пять сестерциев! Дорого, Квирин свидетель!
– Если на всех пересчитать, на нос меньше сотни выйдет.
– А может, прав был Кроний, не надо с этим Гермогеном связываться?
– Ну ты и жмот! Мы же любим нашего Гнея? Или как?
Я едва не спросил у солдат: «Так а что же я?»
Возможно, и спросил бы. Но тут из сумерек дверного проема на меня воззрились ледяные глаза привратника.
– Чего стоишь? Заходи!
Гермоген принял меня прямо возле крокодилов. Был он чудо как приветлив, даже мил.
– Давно тебя жду. Дождь задержал?
Я молча кивнул.
– Ничего страшного. Я тут принимал четверых парней из городской когорты. Их сослуживца, Гнея, отправляют за какую-то провинность в Верхнюю Германию. А там, как ты верно слыхал, полно летающих ведьм-кровопийц. Солдаты всей центурией хотят сделать ему подарок. Что-нибудь этакое, чтобы мерзавок прямо на части разрывало… Ну, ты понимаешь. Тебе ничего такого не нужно?
– Нет.
– Деньги с собой?
– Что?
– Деньги.
– Да.
– Нашел я твою Фабию. Жива и, насколько я понимаю, здорова.
– Она в Городе?
– Нет. В какой-то Клатерне, я даже не знал раньше, что такая есть. Дыра, не сомневаюсь. Идем, у меня на дощечке все подробно записано.
VII. Назон устраивает счастье
1. Дорожный экипаж, запряженный восьмеркой лошадей, громко мчался на юг. Дорожная пыль, соединяясь с влажным весенним ветром, рождала тяжелые, округлые облака.
В экипаже находился зерноторговец Дионисий, то есть я, Назон. И еще четверо почтенных граждан – двое речистых купцов с отвислыми животами, миловидный, с тонкими чертами лица отрок, путешествующий зачем-то в одиночестве, и человек, назвавшийся Марком. Угрюмая учтивость последнего в комплекте с дорогим мечом, каковой он отказался сдать в отделение для поклажи, а оттого держал на коленях, заставляли заподозрить в нем наемного убийцу.
Рты у купчин не закрывались. Я давно заметил, торговля – лучшая школа суесловия. Помолчать две минуты для аристократии прилавка все равно что умереть. Темы купеческой беседы были «улетными», как непременно выразился бы мой Титан.
«Почему у овцы, покусанной волком, мясо вкуснее, а шерсть – хуже?»
«В какое время года следует подавать к столу вымя неопоросившейся свиньи?»
«Правда ли, что сводить бородавки следует на убывающей луне?»
Напротив меня расположились болтуны. Отрок и угрюмец Марк – на скамье рядом.
Первую четверть дороги Марк просидел что твой сфинкс – загадочный, немой, неподвижный. Спину и голову он держал прямо, словно кол проглотил, разве что изредка поглядывал украдкой на красивого отрока. Но после того как кучер сообщил, что половина пути позади, его как будто подменили. Он принялся ерзать, чесаться, скрести пальцем ножны и даже завел с отроком разговор. В отличие от купцов, говорил он шепотом и я ничего не слышал (да, впрочем, и не стремился). Однако, все же заметил, что тихие речи Марка неизменно вгоняют юношу в мак – даже уши у мальчика пунцовели!
«Склоняет пацана на стыдное дело», – отметил во мне триумвир по уголовным делам.
Когда мне надоедало глумиться над спутниками, я принимался читать, благо рессоры у нашей повозки были такими хорошими, что буквы в строках моей книги если и танцевали иногда, то плавный египетский танец, а не плясовую лесных варваров. А когда читать надоедало, я отодвигал занавеску и смотрел в окно.
Я ехал в Капую. К Терцилле.
2. Фабия неохотно отпустила меня – плакала, вздыхала и даже пробовала скандалить. Возможно, если бы я объяснил ей, за чем именно еду, она не кляла бы эту малую, кукольную почти, разлуку. Но что я мог ей объяснить в моем зыбком, как предрассветный сон, предприятии?
Пересказать историю Барбия и Терциллы?
Я не сделал этого.
Оттого наверное, что боялся – нежная, призрачная ее магия от этого растает.
Еще я боялся, что если расскажу Фабии все то, о чем поведал мне Барбий, к истории этой навеки прирастет время прошедшее. А мне нужно было время настоящее. Причем – настоящее длительное.
Я не хотел, чтобы история становилась Историей. Ведь я еще надеялся стать вершителем судеб ее участников! Иначе нельзя. Только никчемные сочинители любят пересказывать сюжеты недописанных поэм.
Мой план был прост. Найти в Капуе Терциллу (Клодии – знаменитый патрицианский род, горожане должны знать). А дальше… Дальше – по меньшей мере рассказать ей о том чудесном саде, что во славу ей возделал в своем каменистом сердце гладиатор Барбий. А по большей… По большей – забрать ее с собой!
Дерзко? Ага.
Но мне хотелось увидеть Барбия счастливым.
Блаженное мычание обнявшихся после долгой разлуки, живое тепло жадно переплетающихся пальцев, сходящихся губ – они шелушатся, идут кровавыми трещинами, когда их долго не целуют – это достояние богов, которое становится доступным только тем из смертных, кто умеет терпеть. Это я понял, когда стиснул – до хруста молочных костяшек – своей грубой рукой длинную руку Фабии.
Так вот: если добудешь ты эту радость для друга, будешь вторым Прометеем.
Рассвело. Наш экипаж, мчавшийся во весь опор, остановился вдруг на окраине города. Последний час я мирно клевал носом, а оттого едва не свалился со скамьи, влекомый силой инерции.
«Приехали!»
Пыльный возница спрыгнул устало с передка и обошел тяжело дышащих, взмыленных лошадей – особым шиком с недавних пор считалось остановить повозку на полном скаку. И хотя лошадям, имеющим, как уверял меня один знахарь, слабое, слабее человеческого, сердце, такие лихачества идут во вред, римские возницы ни за что не щадят скотину. Пафос важнее.
Я выбрался на улицу, в зябкие объятия утра. Нерешительно переминаясь с ноги на ногу, осмотрел конную упряжку, ощупал взглядом смутные жерла прилегающих улиц. Нужно было что-то решать.
Между тем, вопрос, отчего наш экипаж остановился так далеко от центра города, отпал сам собой – даже запряженные цугом лошади никак не проходили дальше по кривым переулкам.
Вот и встали мы на окраине возле седого здания с маленькими окнами. Единственным украшением этого серого колосса была его же собственная эпическая мрачность.
Тем временем, кучер выволок на свет нашу поклажу – я дал ему сто сестерциев, для поощрения.
– Где это мы остановились, скажи-ка? – спросил его я. – Чей это дом?
– В первый раз здесь? – поинтересовался кучер, цепким взглядом пересчитывая монеты перед тем, как спрятать.
Я кивнул.
– Это новые казармы Юлиановой школы.
– Не те ли, что семь лет тому горели?
– Точно, эти. А ты неплохо осведомлен – для первого-то раза!
«Благоприятный знак. Вышел прямо возле тех самых казарм!» – подумал я, бросая на здание подобревший взгляд.
Однако, где дом Клодиев, кучер не знал.
Восходящее солнце уже золотило крыши. Прошмыгнул спешащий по воду ретивый раб. Западный ветер опрокинул на город ушат с ароматами распускающихся гиацинтов.
Взвалив на спины поклажу, мои попутчики побрели восвояси. Купчины, споря о том, какое масло – оливковое или льняное – лучше хранится, двинулись, по направлению к центру. Таинственный Марк с прелестным отроком, которому к лицу была утренняя одутловатая бледность, вот-вот готовы были юркнуть в сумрачную, спящую еще подворотню.
Марк возложил свой меч на плечо и стал похож на бравого наемника. Юноша больше не краснел и не дичился – как видно, все непристойные нежности, которые только мог сказать Марк, уже были Марком сказаны, а юношей расслышаны.
Я застыл в нерешительности. Безлюдно. Спросить совета не у кого. Куда идти?
Увязался за Марком и юношей. Рассудив, что какая ни есть между ними Венера, а все же в моем деле она лучше Меркурия, попечителя трепливых купчин. Меркурий наверняка заведет меня в свою излюбленную вотчину – на рынок. А уж на рынке точно Клодии не торгуют.
Вскоре моя пара привела меня… в бани!
Ах, бани мои, бани! Неужто вся моя жизнь, с тех пор, как, назвавшись Дионисием я нанялся на трубную работу, будет вертеться вокруг ваших тепидариев?
Впрочем, помылся я с удовольствием. И, как выяснилось вскоре, мылся не зря. Там же, у сторожа, я выспросил все, что касалось Терциллы.
У выхода из терм меня ждали мои старые знакомцы – Марк и красивый отрок, любовное падение которого, если судить по хмурому взгляду распутного волчонка, только что состоялось. Они пробыли в комнатах как раз столько времени, сколько я мылся, а теперь, измятые, шли каждый своей дорогой.
Выпустив из себя избыток любви, Марк снова стал таинственным и деревянным. Мальчик же подурнел и как будто повзрослел на пару лет.
Оба глядели отчужденно, говорили с холодной учтивостью и, видно, тяготились обществом друг друга.
3 . Весна была к лицу предместьям Капуи.
Склоны холмов, затканные ранними цветами – млечными солнцами нарциссов, глянцевыми свечками синих гиацинтов, кудрявыми букетиками розовых примул – казались мне коврами, развернутыми в мою честь. Лазурь небес ослепительно сияла. И надменное солнце жарило так, словно бы решило устроить завтра же лето.
Я шел босиком, по холодной траве – шел по наикратчайшей, срезая дорожный крюк, к загородной вилле некоего Юла Македоника, мужа Терциллы.
Как сообщил мне подкупленный банный сторож, Терциллу выдали замуж четыре года назад. «Она не хотела. Он – тоже. Но закон есть закон!» – растолковал мне сторож и тут же подобострастно прибавил: «Слава Цезарю!»
Детей у них – к счастью для моего предприятия – как будто не было, правда, за свежесть этих сведений мой сторож ручаться не взялся. «Это ж дело такое, сегодня нету, завтра, глядишь – брюхо!»
Я нашел госпожу Терциллу на берегу умилительного, образцово-весеннего озерца.
Подперев рукой скульптурную голову, она сидела в кресле, сплетенном из ивовых ветвей. «Гладиаторские щиты тоже плетут из ивы», – вспомнилось мне.
Сердце мое застучало быстро-быстро.
Терцилла сидела вполоборота ко мне, словно бы напоказ выставляя свою тщательную, высокую, с амфитеатром кос и косичек, прическу. Собранная горстью ручка Терциллы чинно порхала над пяльцами. На столе рядом, возле шкатулки для рукоделья, чванилась греческая книга, как вскоре выяснилось – поваренная.
Она заметила меня издалека и тотчас сделала знак рабу-телохранителю, который праздновал лентяя поодаль – мол, не трудись.
Меня это удивило. Терцилла глядела на меня как на старого знакомого – с холодной ленцой, хотя я был готов побожиться: прежде мы не встречались.
Когда до Терциллы оставалось шагов пятнадцать, я остановился. Не знаю, зачем. Словно какая-то сила меня сковала, оплела, пригвоздила.
У нее были дивные глаза чистого орехового колера и умный, цепкий взгляд. Лицо ее, безусловно, красивое, хотя и не баснословно прекрасное, как утверждал Барбий, было уже тронуто, хотя и самую малость, ветрами увядания. Причем ветры эти дули словно бы из самого ее нутра, сообщая глазам переливчатую скорбную глубину. Как будто некий спрут поселился в ней, не смеющий до смерти ее расправить щупальца, лишь пошевеливающий ими ей на муку.
Кожа Терциллы, мраморная и гладкая, была по-прежнему свежа, ушел лишь блеск, которым красна молодость. А кладбищенская печаль в уголках губ намекала знающему на то, сколь много нежного эти уста не сказали.
«Детей у нее все-таки нет», – сразу заключил я, ведь знал: женщины, уже родившие, печальны по-иному. И выцветают они как бы извне, а не изнутри, как Терцилла. С матерей красоту слизывают бессонные ночи у колыбельки и пыточная боль родов. А с неродивших – осознание того, что не на кого переложить свои надежды на любовь и свободу. И придется самому умереть вместе с ними.
На Терцилле была надета белая, простая стола. Никаких украшений, косметики тоже не различить. Коротко остриженные ногти на красивых белых руках, разве что ногтевые пластины отполированы замшей. Пальцы лежат на широко расставленных коленях и как жаль, что платье скрывает сильные, с чистой линией икр босые ноги!
С царственной плавностью в движениях Терцилла отложила рукоделье.
«А ведь она и впрямь фантастически похожа на Диану», – вдруг осенило меня. Проста, сильна и благочестива. А этот прямой нос! А эти дерзкие брови!
Встречь меня рассматривала и сама Терцилла.
Вначале лучик ее взгляда как будто испытал, начиная с морщин на лбу, мое лицо, затем съехал по шейной жилке, по складкам тоги вниз, ощупал сандалии, затем снова вернулся, пощекотал надгубье, хорошо ли выбрито… Какое счастье, что давеча я не пожалел денег банщику и цирюльнику!
Я не торопил Терциллу, я не сердился. Ведь и впрямь, лишь очень наивный человек не судит о людях по внешности.
А когда Терцилла наконец кивнула, разрешая мне приблизиться на расстояние доверительной беседы, я понял: беседа наша будет какой угодно, но только не непринужденной.
– Здравствуй, – сказал я. – Я пришел, чтобы потолковать с тобой.
– О чем?
– Сначала отошли прочь раба.
– Сделано. Скажи, о чем ты хочешь толковать?
– Вначале о твоем муже. Что значит для тебя брак?
– Брак – это наказание за безбрачие.
– Ты хорошо сказала.
– Это сказала не я.
– Тогда, наверное, Цезарь?
– Это сказал Солон, – бросила Терцилла с неподражаемой интонацией записной интеллектуалки. И я подумал о том, что неотесанному Барбию будет с ней нелегко.
– Ты образованная женщина.
– Лучше бы тебе назваться.
– Зови меня Дионисий.
– Это имя тебе не подходит. Скорее всего, оно не твое.
– Ты права. Мое настоящее имя я назову тебе позже. Если назову.
– От чего это зависит?
– От того, чем кончится наша беседа.
– Тогда поторопись начать ее. Меня ждут к обеду! – Терцилла спесиво подернула плечом и спрятала вышивание в шкатулку.
– Я хотел спросить тебя о любви.
Лицо Терциллы построжело, она подняла глаза и окинула меня ледяным взглядом. И, выдержав изрядную паузу, промолвила:
– Весна помутила тебе разум, гость. Ты выглядишь глупо. Вначале ты рассматривал меня, словно кобылу на рынке. Теперь ты задаешь мне, замужней женщине, непристойные вопросы. Послушай-ка самого себя! Спрашиваешь меня о браке, затем спрашиваешь о любви! – между бровей Терциллы появилась сердитая складка.
– Это оттого, что я поэт. Говорить о любви – моя профессия.
– Поэт? – Терцилла глянула на меня еще более угрюмо, почти неприязненно. – Я ненавижу поэтов.
– Отчего?
– Они заставляют мечтать о том, что никогда не сбудется.
– Но ведь сбывается! – воскликнул я.
– Я о таких ничего доподлинно не знаю.
– О смерти мы тоже ничего доподлинно не знаем до срока.
Терцилла смолкла, обдумывая мои слова. Лишь трепетание ресниц выдавало ее волнение. Наконец она изрекла.
– Ты говоришь слишком путано. Продолжай, но только не надо о любви.
– Тогда позволь спросить тебя о твоей жизни. Какова она?
– Ты знаешь, как пишут на папирусе, Дионисий?
– Конечно.
– А что с ошибками делают, знаешь?
– Смывают губкой, – сказал я.
– Или слизывают языком. Если губки нет, – уточнила Терцилла.
– Верно.
– Во рту у Терциллы горчит уже семь с половиной лет. Из-за того, что я каждый день слизываю.
– Ага, – кивнул я.
Неожиданная откровенность Терциллы меня озадачила. Ее суровость загнала меня в тупик. Хоть бы улыбнулась разок, что ли?
Признаться, я много раз тренировался разговаривать с Терциллой – с тех пор, как решил найти ее. И в своем уме я соткал множество воображаемых Терцилл и еще больше – воображаемых бесед. И учтивых, и игривых, и тягуче-сентиментальных. Но эта беседа не была похожа ни на одну из тех, что выдумал я.
Тем временем, сама Терцилла, похоже, пожалела о своей откровенности.
– Если ты сейчас же не скажешь мне зачем явился, я уйду, – предупредила меня она и встала со своего плетеного кресла («Она выше Барбия на голову!» – ужаснулся я мимоходом). Лицо Терциллы стало вдруг совсем безразличным. – Меня в самом деле ждут!
И тогда я вздохнул полной грудью и наконец решился. Будь что будет!
– Я… пришел… поговорить о гладиаторе Барбии! Помнишь его?
Тут произошло неожиданное. Терцилла на миг замерла, издала сдавленный утробный стон, медленно осела, отвернулась этак рывком и закрыла лицо руками. Застыла, как будто не дыша даже.
– Что с ним? – наконец спросила Терцилла, не поворачивая головы.
– Он здоров, он свободен. И он по-прежнему любит тебя.
После этих слов Терцилла разрыдалась – по-девчачьи страстно и по-бабски громко. Ее лица я уже не видел, но ее длинная шея порозовела сзади до самых кончиков волос!
– Помнишь ли его? Хочешь ли быть с ним? – спросил я, делая три шага ей навстречу.
– Разве Барбий не рассказал тебе про нашу клятву? – беззащитно всхлипнула она.
– Рассказал.
– Я не нарушу ее. Хотя и хочу нарушить, всегда хотела нарушить – больше жизни.
– Но почему?
– Это сильнее меня. На нас лежит проклятие… Уходи. И скажи Барбию… Нет, лучше ничего не говори.
Последние слова Терцилла проговорила с той неоспоримой интонацией, с какой судья произносит приговор, не подлежащий обжалованию.
Я опустил глаза. Мне стало холодно – притворщица весна, ее ласковость подла и обманчива! Ветер, только что теплый и медовый, вдруг становится кусачим. Терцилла, только что признавшаяся мне, что несчастлива в браке и семь лет ошибкой считает, вдруг решительно гонит меня прочь… Нет, она не играет со мной! Она действительно хочет, чтобы я ушел! Разрази меня гром, если я не разбираюсь в женских «нет»! Что ж, наверное, и этот обман – под стать весне. Мне казалось, все сладится – а не ладится даже разговор. Мне казалось, горе разлуки размягчит Терциллу, а оно лишь заморозило ее сердце! И что же? Выходит, любовники не соединяются, как им положено, стараниями Назона, но и дальше мучатся порознь, скованные железными цепями, уходящими далеко за край горизонта, далеко за край неба, туда, где не рассмотреть ничего. Так, да?
Вдруг с живостью невероятной вспомнил я Барбия. Как он доит Андромаху – хватко и размеренно. Как он перекапывает по осени огород – крестьянская косточка… Вот он ходит вразвалку, шаркает, плюется – мужик мужиком! И одевается он неопрятно, стрижется – редко, баню иначе как «пидорником» не называет… Да как я вообще мог себе представить их вместе – эту холеную, образованную аристократку и не то чтобы опустившегося, но, по правде говоря, опростившегося, немолодого уже гладиатора. Что я себе вообще придумал? Ну мало ли кто и какие мечты пронес через невзгоды?! Мало ли что там Барбий себе понапридумывал?! Вот она здесь, Терцилла. И тоже от выдумок своих не отказывается. Но только сделать так, чтобы из каждой сотой выдумки вырос хотя бы один настоящий поцелуй – она не желает! Да и вообще, кабы Барбий хотел с Терциллою своею быть, пусть бы сам в Капую ехал и пороги замужних матрон обивал. Кто его в Томах-то держит, вольного и смелого? В таком случае, что здесь делаю я, Овидий Назон?
Терцилла наконец-то успокоилась, выпрямила спину и оборотила ко мне свое спокойное правильное лицо богини-девы. Только нос и надбровья цвета малины вопили – не мраморная она. А еще глаза – они как будто вылиты были из чистой, небесной боли. Готовый уже бежать прочь, я, однако, слов своих почти не осознавая, вдруг выпалил:
– Барбий говорил, в клятве вашей было одно условие. Если какой-либо бог укажет тебе, что союз ваш с Барбием он всецело одобряет, ты свою клятву забудешь.
– Верно, – согласилась Терцилла.
– А что ты сделаешь, если и впрямь некий бог союз ваш гласно одобрит и я тому стану свидетелем?
– Если так, то отправлюсь к Барбию. Тотчас.
– Где бы он ни находился?
– Где бы он ни находился.
– А во Фракию – поедешь?
– Да хоть в Гиперборею.
4 . «Здесь Парис торгует книгами, всеми видами папируса и писчими принадлежностями», – прочла над входом в лавку Терцилла. Я рывком распахнул дверь и пропустил ее вперед.
Было около полудня. Я помнил, это время старики ценят и стараются не пропускать – литой пламень полуденных небес самым заманчивым образом освещает Сад Жизни, калитка в который вот-вот затворится за ними, а ведь хочется пошуршать гравием напоследок.
Опрятный мужчина в полосатой красно-желтой тунике – это Парис – угодливо осклабился из-за прилавка.
– Чего желаете, милые друзья?
– Мой спутник замыслил выбрать мне в подарок толковое историческое сочинение, – промолвила Терцилла капризным тоном профессиональной покупательницы.
Я отправил Парису равнодушный взгляд и принялся озираться в поисках Гая Юлия.
Внутри все трепетало. Что это будет за встреча? Грубо говоря, хватит ли места в волшебном паланкине нам троим?
Но на прежнем месте божественного Юлия не оказалось. Сиротой стояла машина для чтения. Кресло так и вовсе исчезло.
Я почувствовал себя скверно. Неужели?!
– …Только не «Киропедию», я вас умоляю! Когда нам с братом-близнецом исполнилось десять, дядька как раз закончил ее нам перечитывать, – донесся из-за спины звенящий голос Терциллы.
Я с надеждой заглянул в зеркало напротив – когда-то оно уже стало прологом к чуду. Однако, пусто.
Посмотрел в зеркало справа.
Ничего такого . Лишь прохладная поверхность мутно серебрится в полумраке, скрывая затаившееся колдовство.
От напряжения начали слезиться глаза. Неловко выступив вперед, я пошатнулся.
– Дионисий, тебе нездоровится? – в предплечье впилась пятерня Терциллы.
Я открыл глаза, но ответить не успел – в зеркале слева от меня неспешно проступали очертания дряхлолетнего старца.
Вскоре ртутное марево зеркала померкло и как бы отступило.
Гай Юлий улыбался мне – по-своему, вполрта. Я с трудом превозмог желание пасть ниц.
Фигура в зеркале жестом поманила к себе.
Я сжал Терциллину руку и мы шагнули вперед.
5. Разлился по телу ледяной холод. Так же зябко мне было только однажды, когда в свою первую зиму во Фракии я лежал на льду Истра без меховой шубы (поспорил с Маркиссом, идиот).
Я скосил глаза – Терцилла стояла рядом, опустив голову. Она молчала и вовсе не смотрела на Него. Подмывало дернуть ее за край одежды. Мол, взгляни же, дурында!
– Поэт? Здравствуй, поэт… – прошелестел божественный Юлий.
«Назовите свое имя, фамилию и дело, по которому обращаетесь», – эти слова частенько произносили рабы-привратники прежде чем распахнуть передо мной двери в покои своего высоко залетевшего господина. Я и в этот раз их услышал. Непонятно кем сказанные.
– Ты позволил мне обратиться к тебе с просьбой, божественный Юлий. Это было недавно.
– Припоминаю. Что ж… Проси!
– Эта женщина… Ее зовут Терцилла, – начал я, указывая на свою спутницу.
– Артемизия ей подошло бы больше, – Гай Юлий усмехнулся, как мне показалось, с озорством.
– И она… – силился продолжить я, но тотчас умолк, ведь Цезарь сделал два нетвердых шажка по направлению к Терцилле.
– Не понимаю, как она умудрилась от него не родить… Божественная Диана ведь у нас по этой части… А тут, в своей же вотчине…
– Ты сказал «от него»?
– Да… От этого… Как его… – он сделал крутящий жест рукой, побуждая меня к подсказке.
– От Барбия?
– Да… От гладиатора…
– Этого не знаю, – вздохнул я. Вообще, я ожидал любого странного вопроса. Но не этого. – Может она сама тебе скажет?
– Без толку. Ей не хватит… чтобы ответить… энергии. Она даже меня почти… не видит. Только облако… такое… как ртуть, – с этими словами божественный Юлий провел вдоль верхней губы Терциллы своим указательным пальцем, похожим на вяленый банан. Действительно: никакой реакции.
Что ж, кажется пора просить – пока у меня самого осталась еще энергия. И я зачастил:
– Жрица святилища Дианы, что на Авентине, сообщила Терцилле, что на ней лежит тяжелое проклятие. Из-за которого она со своим возлюбленным, гладиатором Барбием, вместе быть не может.
– Не солгала… Что-то такое там есть… Нехорошее…
– Незадача в том, что ни с кем, кроме Барбия, Терцилла быть категорически не хочет. И Барбий также. Долгая история. Настоящая любовь. В общем, я прошу… – расхрабрившись почти выкрикнул я, – твоей помощи в этом деле!
Божественный Юлий долго не отвечал. Мартышечья голова его легонько подрагивала, а вместе с ней мелко тряслись лоскуты дряблой кожи, обрамляющие твердый, восково-желтый божественный подбородок.
– Почему… ты о нем хлопочешь, поэт? – наконец поинтересовался он.
– Гладиатор Барбий мой друг.
– Гладиатор – плохая профессия… Мне не нравится…
– Мне тоже.
– Тогда почему ты… о нем хлопочешь?
И тут я понял, что если желаю добиться того, ради чего затеян весь сыр-бор, то должен немедленно измыслить некий убийственный аргумент. Нет, не так. Не «измыслить». В измышлении есть что-то искусственное, не соответствующее головокружительной высоте момента. Не измыслить я должен, но понять. И я понял.
– Меня волнуют не Барбий и Терцилла. Но их необычайная любовь. Мне показалось, она живая! И она… не знаю как объяснить… существует отдельно, хотя и питается отчасти упорством их душ! Это существо – оно… – от усилий меня бросило в жар, – оно хрустальное, голубое, гибкое, беззащитное, как барашек. Дай ему выжить. Я прошу тебя. Хлопотать о таких материях – долг поэта. Поскольку мы, поэты, как бы… пастухи над этими барашками. Мы отвечаем за них.
– Гм… Блажишь, – Цезарь посмотрел на меня с неодобрением. – Люди суть рабы своих проклятий и своих благословений… Ты – ссыльный. Гладиатор и красавица – безбрачны. Не в юридическом смысле, разумеется…
– Да нет же! То есть не так… Пусть, пусть мы будем рабы! Но пусть их проклятие будет другим, хотя бы и более тяжелым! Пусть их любовь состарится вместе с ними и умрет своей смертью. Ведь все хрустальные барашки в мире имеют право… нет, не на счастье… Но – на старость! Ты же знаешь, знаешь, как она прекрасна – старость. Когда сходятся на вершине все дороги и скучные школьные истины оказываются вдруг единственно возможной Правдой, оперяются белые крылья души.
Божественный Юлий взвешивал мои сбивчивые слова, едва слышно причмокивая.
– Положим… так, – кивнул он.
И я пошел на последний приступ.
– Соедини сердца Барбия и Терциллы, божественный Юлий. Сними проклятие. Разреши им быть вместе. Дай состариться их любви.
– Снять проклятие… я не могу, – ответил он, но, видя отчаяние на моем лице, поспешил добавить:
– Могу… переставить его. В следующее воплощение. Сейчас они поженятся. Но потом случится… очень похожее… Через двести восемьдесят один год.
– Ну, хотя бы так… – сказал я, косясь на высоченную башню из волос на голове Терциллы.
Какие, интересно, прически будут в моде через двести восемьдесят один год? Опять, что ли, косы?
– Скажи ей… она свободна.
6 . Обещал рассказать египетский анекдот – и не рассказал.
Итак, Александрия. Богатые похороны. Хоронят большую шишку. Любопытный приезжий спрашивает у местного египтянина: «Кто это умер, милейший?»
«Вон тот, который в гробу лежит», – отвечает египтянин.
Довольно смешно, мне кажется. Когда я услышал анекдот впервые, речь в нем шла о городе Ким, то есть сказ был о греках. Четырежды после того мне пересказывали его как египетский (где покойники – там и Египет, логика железная). Честно говоря, не хочу я знать правду, мне приятней думать, что анекдот с берегов Нила, парной, прямо из-под сфинкса. Ведь о греках и так миллион смешных историй, а о египтянах все несмешные, но, как сказал бы мой Титан, «страшно мудрые», с тяжелым, ладанным духом, и чтобы обязательно упоминался фараон. «У одного фараона было три сына-крокодила…» или «Жили-были два фараона-близнеца…» В соседней каюте путешествует старикашка-картограф, человек образованный и речистый. Мы подолгу спорим с ним о всяком таком, под шелест волн.
Картограф следует до конечной станции – Фанагории. Я и мое семейство сходим, считай, на полпути – в Томах.
«Мое семейство» – это Фабия, две ее домашние рабыни (не помню как звать), а также Титан и госпожа Терцилла.
Ни слуг, ни рабов Терцилла с собой не повезла. Почему-то. То есть почему не взяла из дому мужа, ясно. А вот почему не купила пару домовитых бабенок на невольничьем рынке в Городе, для подмоги в грядущем хозяйстве?
Вероятно я застращал ее отрезвляющими рассказами о бедности и неблагоустроенном житье Барбия и бедняжка решила бороться с грядущими трудностями быта посредством погружения в них с головой. А может с экономических позиций рассудила, что оплатить дальнее морское путешествие двум домовитым бабенкам то же самое, что приобрести таких же в Томах.
О-о, Терцилла оказалась весьма рачительной дамой, даром что из богатых аристократок. Как сноровисто она торговалась с капитаном корабля, выспрашивая для нашей камарильи оптовую скидку! Грозилась жаловаться на завышенные тарифы! Интеллигентно козыряла связями своего деловара-папаши! И откуда только взялась железная деловая хватка у женщины, отродясь не служившей?
Узнать Терциллу хорошо, как я рассчитывал, мне нисколько не удалось. Несмотря на месяцы вместе. Терцилла оказалась болезненно несходчива. А еще – неразговорчива, неулыбчива и даже, если можно так сказать… непрозрачна! Наша сошедшая с небес богиня-дева сторонилась общества. Даже моей ласковой и легкой, как тополиный пух, Фабии.
Терцилла мало ела, двигалась медленно, говорила как бы ленивым голосом. За общим столом молчала, лишь иногда похрустывала костяшками пальцев. Казалось, нас она вообще не слушала. Лишь единожды, когда старикашка-картограф рассказывал историю о своем неудачном сватовстве, по бледной щеке Терциллы скатилась слеза участия. Все-таки слушала, значит.
Морские воздухи действовали на Терциллу целительно. Плечи ее распрямились, глаза утратили скорбную проницательность, стали ясными, молодыми и от этого молодого света истаяли лучики морщин, их допрежь обрамлявшие. Однажды я даже решил, пряча от случайного матроса распутную улыбку, что если Барбий не примет Терциллу, так сказать, не признает, я не ропща возьму ее второй женой – по обычаю зажиточных сарматов.
Шучу, конечно. Но немножечко и не шучу.
Свободного времени у меня вновь стало много. На сытном корабельном харче я быстро отъелся – тому способствовали теснота кают и моя неумеренность в чтении.
В теплой тиши каморки душа моя как бы заснула, убаюканная модными элегиями и качкой. Мои чувства притупились. Ум обленивел. Так и текли часы морского путешествия, соленые и одинаковые.
Был лишь один день, непохожий на другие – остроуглый и терновый.
Перед рассветом мне привиделся во сне Рабирий. Мы говорили долго и кажется что о важном. Гулко звучали наши речи в сумраке роскошно меблированной комнаты, приходящейся богатой кузиной той простушке, где маялись мы когда-то в ожидании Цезаря, на вилле «Секунда».
Кожистой листвой шелестели садовые лавры и маслянисто-черная ночь норовила по-особенному, с хмурым осенним надрывом, расплакаться. Мы же с Рабирием сидели в триклинии и говорили, как будто и не было ничего – ни его доноса, ни моей ссылки, ни его смерти.
Человеческая душа все-таки поразительно незлобива.
Стоит ей оказаться в своих призрачных владениях – и она сразу все устраивает как сама понимает, будто не существует зла и кривды нет.
Впрочем, и наяву я Рабирия уже простил. Ведь самым мучительным была именно эта разрывающая двойственность. Получалось, что Рабирий – и мой прекрасный друг, и мой подлый враг в одном, так сказать, сосуде. Но недавно подлого врага Рабирия убил случай. А вот прекрасный друг теперь со мной навсегда. Кажется, во сне я говорил ему это, сжимая его вялую ледяную руку в своей руке. Я не слишком путано объясняю?
Весь день потом я слонялся по судну сам не свой. Штормило. Меня, как и соседа-картографа, рвало за борт.
Я возвратился в каюту и лег на койку. Закрыл глаза.
Что же это получается, я добровольно возвращаюсь в ссылку?
Да, так.
А как же мои героические планы? Доказать себе, сквитаться, восстановить справедливость?
Выходит, что выполнены.
Себе – доказано. С врагом – сквитался. Что же до справедливости, то… в общем… хотя это и звучит настолько пафосно, что уже почти лживо… но еще после первой встречи с нериторически божественным Гаем Юлием я кое-что страшное понял. Ну, страшное в том смысле, что страшно именно то, что меня уже не страшит такое представление о справедливости. Сейчас растолкую. Божественный Юлий, Рим, Цезарь, Империя – они составляют одно многосложное, белым золотом сияющее целое. Оно какое-то такое, и какое-то эдакое. Я, Назон, – физически неотчуждаемая от него корпускула. И этой махонькой корпускуле целое, состоящее из мириад таких же крох, назначило быть в Томах. Точно так же как стражнику назначено стоять в дозоре. Глазам – смотреть. Времени – времениться. Если меня не будет в Томах, это будет уже какое-то другое целое. Вовсе уж и не Рим. Не тот Рим, ради которого восходил на испанский холм Гай Юлий. И не тот, где даже менялы и сутенеры читают «Науку любви» и перед застенчивым Вергилием встают стадионы, словно перед императором. Чужой, непредставимый, невозможный. В общем, это не я, Публий Овидий Назон, хочу в Томы, это оно вместо меня хочет, точно так же как оно хотело, чтобы Гай Юлий передал венец всевластия Гаю Октавию, хотело, чтобы в иды марта свершилось цезареубийство. Причем это самое оно неким особым образом и есть я, а одновременно – и мое возлюбленное чадо, и мои отец с матерью, и воздух, которым дышат могильщики, копая для всех нас могилы. «Люди суть рабы своих проклятий», – говорил божественный Юлий. Да простится мне моя дерзость, но я бы выразился иначе. Люди со своими проклятиями со-творчествуют, они – соавторы, супруги, одна, так сказать, сатана. Из меня тот еще философ, но эту мысль я, надеюсь, донес.
7. В промежутках между сверхчувственным познанием римской державности я думал о Томах, куда прибудет наш корабль к самому началу лета – сарматы считают лето наступившим, когда зацветают кусты дикой розы.
Запылят луговые злаки, в полях пойдут в колос хлеба, на пригорках севернее Томов, вверх по Истру, поспеет земляника, любимая ягода гетов и гладиатора Барбия. Помнится, он учил меня, что собирать ее на утренней зорьке, как это делают местные – глупейшая глупость, ведь пропитанная теплыми росами ягода тут же расквасится в корзине…
Вижу нас с Фабией на опушке липовой рощи. В ближнем пруду горланит лягушачье воинство – «куакссс-куакс!» Мы же степенно шествуем мимо по изумрудной тропинке. Чу! Слышится рокот. Издалека, с моря несется холодный ветер, и вот все небо в бледно-сизых грозовых облаках, громыхает совсем уже кажется над нами… Побросав привядшие букеты – все сплошь колокольчики да васильки – мы с Фабией несемся в город, и уже у самых крепостных стен нас настигает разбойник-ливень. Задыхаясь от хохота, стучим к Маркиссу. Тот, конечно же, дома. Настоящий римлянин, Марк Сальвий Исаврик не ищет удовольствия в далеких загородных прогулках. Всякий день он трудится – полирует слог своей книги «Сад», она уже почти готова.
Раскрасневшиеся щеки Фабии, а точнее ее формы, скульптурно облепленные вымокшим платьем, действуют на Маркисса как минеральная вода на идеального курортника. Он оживляется, на глазах хорошеет. Сверкнув улыбкой, Маркисс галантно провожает нас в триклиний, где как будто бы случайно сервирован моим воображением роскошный стол, и трое пригожих молодых рабов в цветочных венках приветливо улыбаются нам и поют старинную греческую песню.
Интересно вообще-то, что скажет Маркисс, когда меня на пороге увидит. Посмотрит эдак, в рассеянном недоумении, и промолвит с обычным своим гундосым жеманством: «Кстати, Назон, ты был прав… В той сцене, под старой яблоней, где двое распутных юниц обольщают хмельного центуриона, действительно многовато описаний. Я их смешными диалогами заменил. Оцени-ка…»
О том, что скажет Барбий, я гадать не решался. Боялся сглазить.
Что же тогда Филолай? А Филолай вот что:
«Ну вот ты и вернулся, поэт. Филолай радуется. Хотя и знает, что на самом деле не существует никакого «ты». И что невозможно ни вернуться, ни даже уехать».
Не стану с Филолаем спорить, проспорю все равно. Просто обниму его.
За тонкой деревянной перегородкой кряхтит продолбаная кровать – это перевалился с боку на бок старикашка-картограф. Я натягиваю подушку на уши, прижимаю свой длинный, как морковь, нос к полосатому матрасу. Вдыхаю полной грудью. Ноздри втягивают прогорклый, болотистый запах клоповьих гнезд и старого, лежалого камыша. Ну вот, пожалуйста – всюду легендарное римское рвачество! Самые дорогие места на корабле, а матрасы все равно бедняцкие, камышовые.
октябрь 2004 – май 2006
Глоссарий
SPQR – аббревиатура латинской формулы «S enatus P opulusq ue R omanus», то есть «сенат и римский народ». Эта формула являлась символом римского державного сознания, встречалась на знаменах легионов, монетах, памятниках, фронтонах общественных зданий и т.д.
Аквилифер – дословно «орлоносец», главный знаменосец легиона, несший в бою его символ – позолоченную фигуру орла на длинном древке. Традиционным признаком орлоносца была львиная шкура, накинутая на плечи.
Анакреонт – греческий лирик середины vi в. до н.э., прославленный певец любви и плотских утех.
Апейрон – согласно Анаксимандру, бесконечное и бесформенное первовещество, из которого состоят все вещи.
Аподитерий – в римской бане так назывался предбанник, место, где снимали одежду.
Архонты – здесь: высшие должностные лица в управлении греческого города.
Асклепиад – греческий лирический поэт, певец подлинных чувств и тонких душевных движений.
Асклепий – греческий бог врачевания (отождествляется с римским Эскулапом).
Асс – в описываемый период, самая мелкая римская монета.
Астиномы – должностные лица, надзирающие за порядком в греческом городе, за состоянием общественных построек и т.д. (Ближайшая по содержанию римская магистратура – квестор.)
Ахеронт – река в Аиде (подземном царстве), через которую переправляются души умерших.
Божественный Юлий – имеется в виду Гай Юлий Цезарь, первый римский император, обожествленный после гибели от рук заговорщиков в 44 г. до н.э. Также в тексте романа он именуется Гай Юлий и несколько раз – просто Цезарь. (Хотя обычно в романе под Цезарем понимается Гай Октавий, то есть Цезарь Август.)
Борисфен – античное название реки Днепр.
Брундизий – порт на адриатическом побережье Италии. Как правило, путешествуя в Грецию (или далее на восток), римляне отплывали именно из Брундизия. Верно и обратное: возвращаясь с востока и северо-востока, корабли обычно первым делом заходили в Брундизий. Направлявшийся в Рим путешественник мог оттуда продолжить путь по суше, либо плыть на корабле дальше, в обход Апеннинского полуострова, с тем, чтобы в конце концов оказаться в Остии, откуда уже до Рима было рукой подать.
Буколика – пастушеская поэзия, которой присуща нарочитая идеализация образов пастухов и природы. Направление, начатое Феокритом, достигло расцвета в «Буколиках» Вергилия.
Византий – город на европейском берегу пролива Босфор.
Вольтурнии – город в Италии.
Гай Октавий, также Цезарь, Октавиан, Цезарь Август, Цезарь Октавиан – под всеми этими именами в романе фигурирует наследник Гая Юлия Цезаря, второй римский император Цезарь Див Филий Август. При рождении он был назван Гаем Октавием, а после усыновления Гаем Юлием Цезарем стал именоваться Гай Юлий Цезарь Октавиан. Официальное, если угодно «тронное» имя Цезарь Див Филий Август было принято им в 27 г. до н.э.
Геката – наводящая ужас богиня Луны, покровительница колдунов и привидений, связана с местами погребения и культом мертвых.
Геомантия – система оккультных умений, ориентированная на достижение гармонии между человеком и ландшафтом (включала, например, способы поиска оптимального места для постройки или захоронения).
«Георгики» – произведение Вергилия, где прославляется сельское хозяйство и труд италийского крестьянства.
Геты – одно из фракийских племен, наряду с другими населявшее окрестности города Томы.
Гипанис – река Южный Буг.
«Главк Понтийский» – третья часть драматической трилогии Эсхила, от которой до наших дней сохранилась только вторая часть, «Персы». Первая часть трилогии называлась «Финей».
Гладиус – наиболее распространенный тип меча римских легионеров.
Диера – морское судно, основным движителем которого являлись весла, расположенные в два ряда друг над другом.
Диоскуры – герои-близнецы Кастор и Поллукс, считались покровителями римского народа в битвах.
Диофант – понтийский полководец, приглашенный в Херсонес Таврический в конце II в. до н.э. для защиты города и нанесший сокрушительное поражение скифам в войне 110—107 гг. до н.э.
Имплювий – во внутреннем дворе римского дома – открытое пространство, окруженное крытыми галереями, бассейн для стока дождевой и талой воды, расположенный под комплювием на крыше.
Инсула – многоэтажный многоквартирный дом, где квартиры сдавались внаем.
Искандер – Артак имеет в виду Александра Македонского.
Истр – фракийское название реки Дунай.
Календы – в римском лунном календаре первый день каждого месяца.
Каллимах – эллинистический поэт и ученый iii в. до н.э., глава александрийского поэтического кружка; его поэзия считалась изысканной и породила множество подражаний.
Капсарий – в римской бане раб-гардеробщик, которому оставляли на хранение деньги и вещи.
Катафракты – тяжеловооруженные кавалеристы, закованные в броню.
Квинарий – римская золотая монета достоинством в 50 сестерциев.
Квинтилий Вар – римский полководец, погибший вместе со своими тремя легионами в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.) в сражении с германцами.
Керкинитида – город в Крыму, к северу от Херсонеса Таврического, совр. Евпатория.
Колхи – жители Колхиды.
Красс – Марк Лициний Красс, прозванный Богатым (115—53 гг. до н.э.); римский политический деятель, член первого триумвирата (вместе с Гаем Юлием Цезарем и Гнеем Помпеем). Одержал победу над войском Спартака, был убит в сражении с парфянами при Каррах.
Ксеркс – персидский царь, сын и преемник Дария i, деятельно мечтал о создании мировой персидской монархии, с целью чего предпринял знаменитый поход в Грецию.
Кумская сивилла – легендарная прорицательница (сивилла – прорицательница вообще, Кумы – греческий город в Италии). Согласно Вергилию, Кумскую сивиллу звали Деифобой и была она дочерью Главка. От нее (и, насколько можно судить, от других прорицательниц) остались книги прорицаний и предписаний по умилостивлению богов («Сивиллины книги»), записанные на греческом языке акростихом. В Риме существовала специальная коллегия жрецов, занятая чтением и интерпретацией «Сивиллиных книг», содержание которых, само собой, было весьма и весьма туманным.
Ланиста – хозяин труппы гладиаторов, их тренер, а иногда – начальник целой гладиаторской школы.
Либурна – сравнительно небольшая, быстроходная боевая римская галера (меньших размеров, чем классическая трирема). Существовали как морские, так и речные либурны. Овидий в романе называет незнакомые ему гребные суда Артака «либурнами» для того, чтобы указать на то, что основным их движителем являются весла (а не паруса, как у крупных средиземноморских торговых судов того времени).
Лидийское вино – отнюдь не самый престижный сорт вина. То, что в Томах он оказался самым дорогим из имеющихся, характеризует Томы как глухую провинцию.
Медимн – греческая мера объема сыпучих тел, равная 52,5 л.
Остия – крупная торговая гавань в устье Тибра, центр римской морской торговли.
Парасит – обедневший гражданин, зарабатывающий себе угощение, развлекая хозяина дома, прихлебатель широкого профиля.
Перипл – описание береговой черты и особенностей гидрологии того или иного моря, своего рода античная лоция для мореплавателей.
Персеполь – величественный город, построенный Дарием I, резиденция персидских царей.
Персефона – богиня подземного царства и плодородия. Весеннее пробуждение природы связывалось с ее возвращением из страны мертвых.
Пирей – крупный греческий порт, морские ворота Афин.
Платеи – город в Греции, в окрестностях которого во время греко-персидских войн греки нанесли поражение персам во главе с сатрапом Мардонием в 479 г. до н.э.
Полифем – циклоп; согласно «Одиссее», принял Одиссея и его спутников во время их странствий, однако сожрал нескольких из них. Впоследствии был ослеплен Одиссеем.
Поллукс – см. Диоскуры.
Празинь – «зеленый мел», она же – «зеленая земля», название зеленой краски.
Реметалк – фракийский царь, современник Овидия.
Саламин – остров у восточного побережья Аттики. В 480 г. до н. э. в Саламинском проливе произошла знаменитая морская битва, во время которой персидский флот был полностью разгромлен греческим.
Сарматы – группа кочевых племен иранского происхождения, занимавшая значительные степные территории от низовий Дуная до низовий Волги.
Сафо – легендарная поэтесса vi в. до н.э., подражать которой не считали зазорным даже Гораций и Катулл.
Свебы – группа германских племен.
Сестерций – римская серебряная монета достоинством в 4 асса.
Сикофант – доносчик, соглядатай.
Синоп – портовый город на Черноморском побережье Малой Азии.
Стикс – река, текущая из Океана в подземный мир.
Стрига – согласно воззрениям римлян, страшное крылатое существо с загнутым клювом и крючьями вместо когтей. Стриги роются во внутренностях младенцев, пьют их кровь и совершают множество других неблаговидных деяний.
Сузы – славный торговый город Среднего Востока, одна из столиц Персидской державы Ахеменидов.
Сульмон – город в Центральной Италии.
Тавроскифы – скифское население Крымского полуострова.
Танаис – город в дельте реки Дон.
Тепидарий – одно из отделений римской бани, «теплая баня».
Томы – греческая колония, основанная в середине vii в. до н.э. на западном побережье Черного моря. Сейчас на ее месте находится румынский город Констанца.
Трансистрия – местность, непосредственно прилегающая к устью Дуная с севера.
Уримм и Туммимм – обычно Урим и Тумим. Два священных камня, упоминаются в Пятикнижии как деталь одеяния иудейского первосвященника. Артак, который называет их «деревьями», как всегда не прав.
Фанагория – греческий город на восточном берегу Керченского пролива. Одна из резиденций боспорских царей.
Феб ( греч. блистающий) – одно из имен Аполлона.
Феретрий – один из устойчивых эпитетов Юпитера, означающий «податель добычи» или «несущий победу».
Фессалийцы – жители Фессалии, области на севере Греции, где, согласно античным представлениям, процветали колдовство и ведьмовство.
Фракия – область на юго-востоке Балканского полуострова, ограниченная с севера Дунаем. В описываемое время Фракия являлась не римской провинцией, а номинально независимым царством.
Фригидарий – одно из отделений в термах, «холодная баня».
Херсонас – божество-покровитель города Херсонес.
Херсонес – везде в тексте романа имеется в виду Херсонес Таврический, крупнейший город античного Крыма, населенный греками и эллинизированными скифами. Строго говоря, по дорическому произношению название города – Херсонас, но авторы следуют сложившейся отечественной традиции.
Хиосское вино – один из самых славных сортов греческого вина.
Цекубское вино – знаменитый римский сорт вина.
Цингулум – пояс, который носили римские военачальники среднего звена.
Эионы – ныне Тендровская коса, расположенная между современной Одессой и устьем Днепра.
Экседра – помещение в римском доме, одна из сторон которого имеет выход в портик или на улицу.
Эсквилин – один из семи холмов, на которых возник город Рим. На Эсквилине, в частности, располагались знаменитые сады Мецената.
Эсхил – старший из классических греческих трагиков v в. до н.э. До наших дней сохранились семь пьес Эсхила.
Примечания
1
Формозов А. А. О гробнице Овидия. // Временник Пушкинской комиссии, 1976. АН СССР. Ежегодник пушкинской комиссии – Л.: Наука, 1979. С. 131-132.
(обратно)2
Гиро ссылается на Boissier, Ciceron et ses amis, pp. 121—124.
(обратно)3
Пер. М.Л. Гаспарова.
(обратно)4
Пер. А.А. Фета.
(обратно)5
Пер. М.Л. Гаспарова.
(обратно)6
Пер. Л. Блуменау.
(обратно)7
Пер. Ю. Шульца.
(обратно)8
Пер. А. Пиотровского.
(обратно)9
Пер. А.В. Петрова.
(обратно)10
Пер. Ф.А. Петровского.
(обратно)

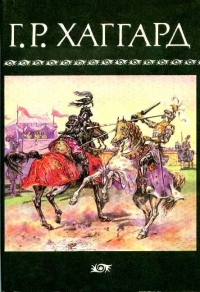
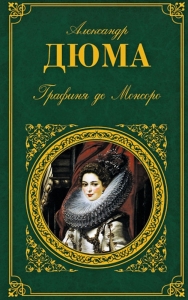
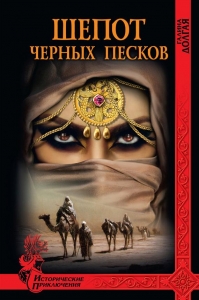

Комментарии к книге «Римская звезда», Александр Зорич
Всего 0 комментариев