Елена Чудинова Держатель знака
«Бури-вьюги, вихри-ветры
Вас взлелеяли,
А останетесь вы в песне, белы-лебеди.
Знамя, шитое крестами, в саван выцвело,
А и будет ваша память, белы-рыцари.
И никто из вас, сынки, не воротится.
А ведет ваши полки
Богородица».
Марина Цветаева«Мы дрались там… Ах, да! Я был убит».
Николай ГумилевКНИГА ПЕРВАЯ ТЕНИ Март 1919 года: наступление корпуса генерала Родзянко на Петроград. Принаровье
Deus conservat omnia1
1
В сторожке удушливо пахло едким и влажным паром, поднимавшимся от шинелей, разложенных на печке.
— Стреляют, Юрий… Еще стреляют, слышишь?
— Расстреливают, Вишневский. — Некрасов поднял голову: в пробивающемся через слепое заледеневшее окно утреннем свете античные черты его лица показались Вадиму серыми и страшными. — Кому там, в Бога душу, стрелять? Конечно, в лесу сейчас наши — но в таком же нелепом положении, что и мы. Соединиться нет никакой возможности: господа-товарищи прочесывают лес. Отсюда и стрельба. Остается сидеть и… пить. — Юрий негромко рассмеялся и, взболтнув оставшийся в стакане самогон, выпил.
— Мне больно на тебя смотреть — как ты можешь, Некрасов? — По обыкновению юнкерских дортуаров2, они чаще всего были друг с другом на «ты», но по фамилиям. — Как ты можешь спокойно слушать эту стрельбу?
— Зрители спектакля в любой момент могут сделаться действующими лицами. Ergo3 — ты тоже можешь не беспокоиться.
Вишневскому, от острого ощущения нависшей опасности нисколько не опьяневшему, действительно было больно, как всегда бывало в тех случаях, когда вылезало наружу циничное бретёрство Юрия. Пожалуй, только Юрий и был на такое способен — пить в сторожке лесника, в полном красных лесу, словно от гарнизонной скуки, за сотню верст от противника…
— Кстати, — качнувшись на табурете, произнес Юрий. — Не перемена ли декораций?
Он напряженно прислушался и резко вырвал из кобуры наган. Взял на прицел дверь и Вишневский, тоже услышавший скрип на крыльце.
Тяжелая, набухшая дверь со стуком распахнулась.
На пороге, с наганом в руке, стоял молоденький прапорщик в белом, ловко сидящем романовском полушубке, который за версту изобличал в нем штабного.
— Извините мое вторжение, господа, — негромко сказал он, опуская наган. Приятный голос, сейчас звучащий чуть хрипло, с такой же достоверностью выдавал своими интонациями москвича.
— Поздравляю Вас, поручик. В нашу келью запорхнула штабная птичка, — снова засмеялся Некрасов. — Чувствуйте себя как дома, г-н прапорщик.
— Спасибо, Вы крайне любезны, — с легкой насмешливостью в голосе ответил прапорщик, скорее падая, чем садясь на лавку у двери. Глубоко, с облегчением вздохнув, он положил наган рядом, вместо того чтобы засунуть в кобуру, и снял фуражку — упали на глаза отросшие темно-русые волосы.
«Господи, какой еще мальчик», — невольно подумал Вадим.
— Вы, похоже, также побывали во вчерашней передряге, г-н прапорщик? — спросил Юрий.
— Да, г-н штабс-капитан. Я прибыл вчера с пакетом из штаба — едва проскочил через окружение. Собственно, я должен был немедля обратно — но этого уже не получилось, можете себе представить, — прапорщик рассмеялся, будто рассказывал о чем-то веселом. — Отборные части бросили, к слову сказать. Красные курсанты Новгородских пехотных курсов командного состава, части генерала, ах, pardon, красного командира Николаева4…
— Так это Вы привезли вчера тот пакет из штаба?
— Да.
— А известно Вам, что было в этом пакете?
— Разумеется — нет.
— Беру на себя смелость раскрыть Вам эту военную тайну Полишинеля. Вы прорывались давеча через окружение с тем, чтобы сообщить, что оное готовится. Таким образом, героизм вашего поступка несколько умаляется его исключительной целесообразностью. Ох и материли же мы штабных!
— Надо думать! — Прапорщик улыбнулся. — Отменный анекдот с театра военных действий — впрочем, и не такое порой случается. Кстати, извините мою неучтивость, господа! Прапорщик Сергей Ржевский.
Невольно вздрогнув, Вадим украдкой взглянул на Юрия. Тот словно бы не обратил на прозвучавшую фамилию внимания, но казался уже совершенно трезвым.
— Я в какой-то там боковой линии потомок рубаки-гусара, — добавил прапорщик небрежно, несколько недоумевая, почему его фамилия вызвала эту заминку.
— Поручик Вадим Вишневский.
— Штабс-капитан Юрий Некрасов.
— Вы бы подсаживались к столу, прапорщик.
— Благодарю Вас, — Сережа (Вадим отчего-то сразу же стал называть про себя прапорщика Сережей, так удивительно шло уменьшительное имя к невзрослому этому офицерику) засмеялся снова. — Немного погодя. Что самое забавное — я только что проскакал не меньше версты, а теперь не могу сделать двух шагов!
— Вы ранены, Сережа?! — Имя само невольно сорвалось у обеспокоенно вскочившего Вишневского. — Что же Вы молчите?
— Пустяк, право… В ногу — навылет. Крови немного вышло, а так…
— Ну-ка… — Некрасов легко поднялся и подошел к Ржевскому. — Так… Так…
— Ох!
— Попал… Вы зря полагаете, что ранены навылет, юноша.
— Видите ли, г-н штабс-капитан, — морщась от боли, но в прежней небрежно-насмешливой манере ответил Сережа, — я по наивности полагал, что если дырок две, то рана — сквозная.
— Между прочим, их три. Две было пули. Одна из них… чувствуете?
— Пожалуй… Вы правы.
— Пожалуй, придется ее оттуда извлекать. — Некрасов нахмурясь вытащил из кармана перочинный нож. — Хирургических инструментов нет и, что небезынтересно, не предвидится.
— Что же поделать — обойдемся без них. — Сережа, начавший бледнеть уже на глазах, улыбнулся Некрасову.
— М-да… Вишневский, у тебя, кажется, оставалось еще кёльнской воды… — Юрий провел пальцем по лезвию. — Больше стерилизовать этот, с позволения сказать, ланцет особо нечем… Хотя постой-ка! Еще можно прокалить, — Юрий усмехнулся. — Впрочем, даже если что и попадет, загноиться Ваша рана, может статься, и не успеет.
Вишневский все же извлек из потрепанного несессера стеклянный флакон, по дну которого переливалось небольшое количество жидкости, и передал Юрию.
— Теперь, пожалуй, сойдет. Порви пару платков — бинта не хватит. Да, кстати, — Некрасов подошел к столу и, плеснув в мутный граненый стакан самогону, протянул его, вернувшись, Сереже, — выпейте-ка! Конечно, это несколько уступит наркозу у первоклассного дантиста.
— Спасибо, — Сережа отвел рукой остро пахнущий самогон. — Не надо, это лишнее.
— Соразмеряйте свои силы, молодой человек, — с поразившей Вадима ненавистью процедил Юрий. — Пейте! Я не одну минуту намереваюсь ковыряться в Вашей ноге.
— Благодарю Вас, г-н штабс-капитан. — Сережа столкнулся с прищуренными глазами Некрасова твердым, неожиданно взрослым взглядом серых глаз. — Я знаю себя и свои силы.
— Смотрите… — Некрасов пожал плечами. — Вишневский, помоги-ка ему…
…Последовавшие за этим минуты Вишневский избегал смотреть на посеревшее лицо Сережи. Ему казалось, проще было следить за движениями окровавленного лезвия, залезавшего все глубже и глубже в рану. Но, несмотря на все усилия следить только за руками хмуро сосредоточенного Юрия, он все же видел краем глаза изо всех сил закушенные губы, прилипшую ко лбу прядь волос и как-то странно спокойно, словно не от боли, а от очень большой усталости закрытые глаза.
«Странно, у кого-то я видел уже это обыкновение: когда очень больно — закрывать глаза, не зажмуриваться, а именно закрывать, как будто веки сами опустились от тяжести боли… Ах, ну да, у кого же еще… Необычная, несколько томная манера, словно говорящая о слабости… Мальчик, однако, далеко не слаб… Даже не застонал ни разу, а боль, несомненно, адская. Когда это наконец кончится?»
— Есть! Полюбуйтесь, прапорщик, — Некрасов держал в пальцах окровавленную пулю.
— Нет, спасибо, — Сережа слабо улыбнулся искусанными серыми губами. — Я не могу похвастаться, что хорошо переношу вид крови.
— Очевидно, Вы не очень еще привычны к ее виду, — уже доброжелательнее рассмеялся Юрий.
— У меня, пожалуй, была возможность привыкнуть, — ответил Сережа и не без некоторой внутренней позы прибавил: — Хотя меня самого убивали всего один раз.
2
1918 год. Дон. Армия Краснова
— Это, кажется, твой гнедой у коновязи?
— Что, неплох? — Евгений взглянул на Сережу и улыбнулся. — Рысь немного тряская, и с капризами, как всякая хорошая лошадь.
«Это похоже на реальность сна. Дневные элементы правдоподобно сплетаются в самых невозможных сочетаниях. Выглядит естественно — а поверить невозможно. И я бы предпочел проснуться».
— А зовут?
— Вереск.
В солнечном луче кружилась пыль, но в хате было полутемно. От длинной беленой печи веяло прохладой.
Сережа сидел на подоконнике, у настежь распахнутого оконца. В палисаднике росли высокие ярко-малиновые мальвы и крупные подсолнухи. За палисадником в окошке видна была ветхая от времени коновязь и пустая, раскаленная поднявшимся в зенит солнцем площадь.
В свои семнадцать лет Сережа выглядел четырнадцатилетним: сероглазый, со слабым румянцем на щеках, с темно-русыми, немного жесткими волосами, давно не стриженные пряди которых лезли в глаза и почти закрывали шею.
Они совсем не были похожи друг на друга: Евгений был бледен, до обманчивого впечатления хрупкости тонок в кости (по-мальчишески долговязый и худой, Сережа был крепче сложением), темноволос. Его глаза были темно-карими, большими, с ускользающе-тревожным выражением.
Евгению казалось, что за все это время брат словно и не повзрослел — только вытянулся… Господи, как же странно видеть на его плечах привычные погоны… ремни… шашка… шпоры на пыльных сапогах…
— Вереск… Хорошее имя для такой масти. Тэки5 вообще великолепные лошади, — и в голосе Сережи звучали какие-то мальчишеские совсем интонации. Все в нем было таким же, как тогда, раньше, даже жесты и черты, которых не помнил в нем Евгений, казалось, и не забывались никогда: привычка резко вздергивать подбородок, обаяние чуть виноватой улыбки. — Хотя больше я люблю белых лошадей. Когда-нибудь у меня будет конь чистой арабской породы. После войны, конечно. И сбруя в восточном стиле — закажу по своему эскизу.
— Мой милый, ты — европеец с головы до пят, а твое представление о Востоке — эстетская стилизация.
— А это спорный вопрос — что именно понимать под европейцем. Но Востока я действительно не понимаю. Я люблю только Древний Египет. Женя, а ведь ты не очень рад меня видеть.
Евгений вздрогнул: последняя Сережина фраза мгновенно выбросила его из бессознательной внутренней игры, в которую он незаметно для себя начал погружаться — звуки Сережиного голоса как будто приближали к нему, делали реальнее безумно далекое видение московской квартиры…
Московская квартира, всегда полутемная, со слабым запахом маминых духов в воздухе, с ветками белоснежной сирени в хрустальных вазах на полированной глади рояля в начале лета, с белоснежными, как сирень, ледяными узорами на высоких окнах зимой, искрящимися узорами, к которым в детстве можно было прикладывать нагретые пятаки и смотреть в круглый глазок на улицу, с потемневшим дубовым паркетом, с напольными часами в коридоре, за которыми прятался маленький Сережа, — московская квартира всегда была для Жени Ржевского ненавистной, любимой и ненавистной…
Все здесь было незыблемо: книги в кожаных переплетах, огромный письменный стол в папином кабинете, голубые с серебром обои в гостиной, картина с голубоватым туманным пейзажем Коро…
Этот мир казался Жене ненастоящим, странной изящной безделушкой, похожей на мамин японский веер… Было невозможно — да Женя и не пытался сделать это — увязать игрушечный мир семьи в единое целое с тем, как плывет яркий электрический свет в ресторанных залах: с каждой стопкой водки все больше плывут столики, салфетки, лица женщин, музыка… Легким, легким, легким становится тело… Как связать мир, в котором жила его семья, со смятыми, серыми в утреннем свете постелями в номерах… В номерах с умывальниками в углу… Или с той оскаленной, поросшей зеленой влажной шерстью мертвой обезьяньей мордой… Алый рот открыт, с желтых клыков капает тягучая слюна… Протянутая лапа, а в коричневых мертвых бусинках глаз такое… Бежать!! Куда бежать?! Стоит у двери, тянет лапы…
В окно! Прыгнуть из окна!
— Женька, зараза! Держите его, дураки, он же прыгнет!! — Алешка Толкачев — лицо над ним белое, светлые волосы прилипли ко лбу… Почему лицо сверху? Ах, ясно — он на полу, заплеванный пол Володькиной квартирки на Ордынке, окурки… Удары по щекам:
— Женька, Женька, ну Женька же!!
Иногда Женю тянуло назад, в тихий, игрушечный, незыблемый мир… Он часами валялся в постели с книгой, делал за Сережу задания по латыни, писал символистские стихи… Услышав доносящиеся из гостиной с детства любимые звуки «Лунной» сонаты, неслышно подходил к маме, целовал тонкую холеную руку в тяжелых кольцах и, по детской привычке, опускался перед ней на колени, уткнув лицо в теплую темно-серую шерсть ее платья…
— Женичка, мальчик, когда ты перестанешь нас огорчать… — Мамина рука перебирала его длинные волнистые волосы. — У меня все время неспокойно на сердце, очень неспокойно на сердце… Папа хочет, чтобы ты изучал право, ты знаешь…
— Я уже начал заниматься, мама, — лениво отвечал Женя, немного снисходительно взирающий на родителей с высот своего изнаночного опыта.
Но домашняя жизнь вскоре вновь начинала тяготить его. Для домашних Женины «затишья» всегда проходили одинаково: первые дни Женя бывал спокойно-оживлен, словно распространяя на всех вокруг свою обаятельную веселость… Затем прекрасное настроение сменялось каким-то внутренним беспокойством, он становился нервен и раздражителен. Затем впадал в глубокое и черное уныние и, наконец, срывался…
Собственно, то, что изучать право Женя уехал в Питер, и было очередным вариантом «срыва», очередным, только более продолжительным побегом из тихой домашней пристани.
«Ведь я и не знаю его совсем… Я его в первый раз вижу. Дико, странно, так вот ни с того ни с сего понять, что у тебя есть брат, жизнь которого для тебя — самое дорогое из всего, что тебе дорого. Потому, что его жизнь — Дар Божий. Потому что он — чудо, которого я почему-то не видел раньше… Он не изменился, ничуть не изменился, словно к нему и не прикасалась вся армейская грязь… Он какой-то чистый, удивительно, нечеловечески чистый… И быть чистым для него так же естественно, как дышать. Не знаю, но голову на отсечение, что его этот, как сказано у Гумилева, „оскорбительно жгучий бич“ не касался, такие губы — серьезные и чистые не могли быть осквернены прикосновением чего-то грязного, случайного… Иначе бы на них не было этого отпечатка чистоты. Господи, да что со мной такое? Я чуть не молиться готов на эту его таинственную чистоту… Невыносимо больно, что он — здесь, ему здесь не место. А ведь когда я узнал, что он сразу после гимназии поступил на ускоренные военные курсы, тогда еще — на германскую, я просто как-то сразу забыл об этом. И вот он здесь.
Мне-то здесь место, по многим причинам — место. Это — искупление: и за Нелли, и за то, что я как-то сразу сломался, поплыл потоком своей мути, а вместо этого должен был идти… Ведь было и во мне — я знал куда. Но и порчинка тоже была — изначально. Таким, как он, я никогда не был».
— А ты не ответил, — Сережа курил, стряхивая пепел в окно.
— Если хочешь правду… Я счастлив тебя видеть, но, будь это хоть тысячу раз правильно, радоваться тому, что вижу на тебе военную форму, все же, извини, не могу. Уж очень нейдет она к тебе, Сережа
— Избитая философская проблема: несовпадение формы и содержания. — Сережа засмеялся и погасил о подоконник длинный окурок английской папиросы. — Но какова бы ни была зависимость одного от другого, привыкнуть к этой форме я сумел. Скажи, Женя, как ты понимаешь Причастие?
— Как символ.
— Это было бы символом, если бы это был обряд. А это — Таинство.
— Я отнюдь не исключаю эзотерического наполнения происходящих при нем действий.
— Относя эзотерическое наполнение к действиям, ты выставляешь за суть Таинства суть обряда. Если, конечно, ты не отказываешь обряду напрочь в эзотерическом содержании.
— А как ты понимаешь Пресуществление? — спросил Евгений, с жадным интересом вглядываясь в лицо брата.
— Буквально. Я пью Кровь и ем Тело. Это — страшно. Но это необходимо. Иначе не будешь иметь части с Ним. Причастие — часть — сопричастность. Сопричастность крови. Меня привела сюда кровь Причастия.
— Что ты имеешь в виду?
— Бежать своей части в посланном испытании — трусость. Трусость уклоняться от кровавого причастия, Женя, сейчас грязно быть чистым. Нет, чистеньким. Потому, что сейчас это возможно только за чей-то счет. Я причастен к крови. Я лью и проливаю ее, значит — причастен вдвойне, как тысячи других, идущих страшной человеческой дорогой, и я не пытаюсь с нее свернуть.
— We always kill the men we love6.
— А знаешь, Женя, ведь по-настоящему убиваешь только один раз. Первый. Ток захлестывающего торжества — от сжавшей наган руки — по всему твоему существу, ток, пронизывающий как-то странно слившиеся в одно существо душу и тело… А потом, нет, не раскаяние, не страх, чушь, книжность, Женя, просто как-то не веришь, что это сделано тобой… Ведь в это так до конца и не веришь.
— Сережа…
— Да, Женя?
— Ты знаешь… Мне хочется тебе отдать одну вещь — не спрашивай почему. Просто мне кажется, что так было бы правильно. — Не дожидаясь ответа, Евгений расстегнул ворот — Сережа заметил, что брат стал носить нательный крестик — под крестиком же на шелковом шнурке висела небольшая синяя ладанка из замши. Евгений снял ладанку, и, словно избегая получающейся театральности, не одел, а просто протянул ее Сереже.
— Что в ней?
— Увидишь… Потом как-нибудь. Она не зашита.
Почувствовав, что происходящая сцена не должна быть продолжительной, Сережа слегка улыбнулся и, вытаскивая портсигар, заговорил о другом.
— Знаешь, Женя, а все же хорошо, что она возникла именно здесь, на Дону.
— Что?
— Белая идея.
— Река русской славы? Да, все это довольно элегантно складывается в символ.
— Странно, когда символ складывается на твоих глазах.
3
1912 год. Москва
Женя не мог простить себя: спустя несколько лет мысль о невозможной этой нелепости обжигала его такой же злостью, как в тот, отступающий все дальше, день…
Он не помнил лица Того Человека.
В памяти запали даже мельчайшие подробности солнечного июньского дня. Радостное, легкое ощущение сброшенной гимназической формы — надоевшей, суконной, тяжелой, словно впитавшей в свою ткань дух гимназических коридоров… В первый раз надетый летний костюм из белой фланели — последняя парижская мода… Из-за этого элегантного облачения (вызвавшего, впрочем, немало папиного ворчания по поводу «глупых трат не по средствам») четырнадцатилетнему, но уже вытянувшемуся почти до настоящего своего роста Жене казалось, что все многочисленные прохожие принимают его за взрослого… Было ли так на самом деле? Женя затруднился бы ответить — он только отчетливо помнил тогдашнюю самодовольную радость, засевшую где-то в груди, радость, носившую его в те дни по Москве…
Стремительной, летящей походкой обогнув храм Христа Спасителя и маленькую церковь Ильи Пророка, Женя вышел на Пречистенский бульвар.
Женя помнил тяжесть небольшого томика Ницше, лежавшего во внутреннем кармане: он обещал непременно занести его перед своим отъездом в Крым Гале Олихановой — хорошенькой рыжеволосой шестикласснице.
Женя помнил свой путь по Пречистенскому: уткнувшегося в газету старика на белой скамейке (даже его трость с набалдашником в виде головы спаниеля), игру теней и света от трепещущей на легком ветерке листвы, детей у криво размеченных мелом клеток (даже смех и разметавшиеся из-под белой соломенной шляпки золотистые локоны прыгавшей на одной ножке девочки лет семи)…
Прежде чем свернуть с Пречистенского на Сивцев Вражек, где жили Олихановы, Женя вытащил из кармана часы: до возвращения Гали из частной балетной студии оставалось не менее получаса. Жене не хотелось провести эти полчаса в решительно неуместной беседе о (пропади они пропадом) гимназических делах со словоохотливой madame Олихановой. Кроме того, среди прочих домочадцев не было никого мало-мальски достойного отдать должное великолепию блистательной Жениной особы.
Усевшись на полузатененной скамейке, Женя раскрыл на первой попавшейся странице нашумевшее «Так говорил Заратустра» 7.
«Я стал бы верить только в такого бога, который умел бы танцевать».
Мимо проходили люди, до которых Жене не было никакого дела, но которые, безусловно, не могли не обратить внимания на элегантного молодого человека, погруженного в чтение. Что он читал? Какие таинственные внутренние изменения вызывали в нем эти строки? Им, проходящим мимо, не дано было этого узнать.
«Я уже не чувствую, как вы: эта туча, которую Я вижу над собою, эти черные, тяжелые громады, над которыми Я смеюсь, — это ведь ваша грозовая туча».
Разумеется, и Гале не имело особого смысла разъяснять это, но Женя и не собирался этого делать.
«Вы, когда стремитесь подняться, смотрите вверх. Я же смотрю вниз, ибо Я поднялся уже».
— Смею Вас уверить, молодой человек, такЗаратустра никогда не говорил, — неожиданно произнес рядом с Женей чей-то насмешливый голос.
— Почему Вы в этом столь уверены? — Женя вскинул глаза на севшего рядом моложавого человека средних лет, одетого с американской спортивной небрежностью.
До этого момента Женя помнил все… Почему он не запомнил лица… Смутно возникало только странное сочетание смуглой кожи с нордическими чертами… Может быть, это был загар — только очень темный, гораздо темнее крымского. Когда Женя пытался вспомнить больше, начиналась мучительная головная боль.
— Да попросту потому, — незнакомец добродушно рассмеялся, — что заговори почтенный маг подобным несуразным манером… Гм, собственные же приближенные, кои вряд ли были легкомысленны, как наши современники, к фактам психической аномалии, подхватили бы беднягу под белы руки и доставили в соответствующее древнеперсидское медицинское заведение. Как бы мог Зороастр почитаться за мудрейшего из мудрых, если бы он нес такую хвастливую ахинею?
— Дело вкуса. — Женя криво усмехнулся, внутренне ощущая некоторую растерянность: прежде он сталкивался только с двумя отношениями к подобной литературе. Первое — родительское (и иже с ними) было негодующим, но бессильным в своем негодовании — оно было снисходительно понятно. «Что с них взять — их детство пришлось на шестидесятые годы». Второе — и его собственное в том числе — более или менее жадное, но, во всяком случае, серьезное, — «кто понимает, тот понимает»… Эта насмешка — вместо родительского негодования — говорила о чем угодно, только не о непонимании причин, побудивших Женю потянуться к этой книге. Кроме того, это была насмешка сильного, чья сила несла в себе смутную угрозу тому, что составляло часть Жениного четырнадцатилетнего мира.
— Именно вкуса. — Собеседник подчеркнул последнее слово. — Уж лучше б Вы надели на розовую сорочку зеленый галстук.
— …Извините??!
— Вы безвкусны сейчас, и я это докажу. Прежде согласитесь со мной в том, что Вы читали сейчас эту книгу не ради нее самой, а сугубо ради роли, которая Вам импонирует. Вы нравитесь себе погруженным в чтение сочинения Ницше, не так ли? Когда я увидел Вас за этим занятием, Ваш вид невольно напомнил мне каирских павлинов, восторгающихся красками собственного хвоста.
Безжалостный удар по самолюбию попал в цель: Женя не мог не признать, что в суждении незнакомца была правда, и эта правда была отвратительна даже не сама по себе, а тем, что восторженное самолюбование, бывшее весьма приятным втайне, получило, вытащенное на солнышко за ушко, довольно жалкую и комическую окраску. Но Женя не намеревался так просто дать себя высмеять.
— Простите… Это бездоказательно — почему я не могу читать эту вещь из-за ее содержания?
— Потому что его нет. — Глаза незнакомца смеялись. — Есть некая посредственная общая идея, и очень большое количество эмоций, которые наполняют текст, состоящий из не контролируемого разумом потока случайных ассоциаций и образов, видимостью смысла. Все это — область психиатрии. Содержательность текста равна едва ли не нулю: очень характерный клинический признак. Психически здоровый человек не может читать эту книгу ради нее самой; ему нечего в ней найти.
— Докажите!
— Извольте… Раскроем где угодно сей поклеп на великого мага. Вот небольшая глава «О чтении и письме». Если Вы сейчас перескажете мне ее содержание, я признаю себя битым.
— С Вашего позволения, я рискну. — Женя торопливо впился глазами в мелкую убористую печать. На губах его заиграла торжествующая улыбка. Затем она исчезла, и в лице проступила растерянность. Женя поднял голову.
— Хотите, я сделаю это за Вас? Сначала Вам показалось, что Вы видите развитие основной мысли. Через несколько абзацев выяснилось, что эта мысль завела Вас в тупик, и обнаружилось, что развивается уже непонятно откуда взявшаяся другая. В ее поисках Вы обнаружили, что абзацы вообще не связаны логической последовательностью, хотя нельзя сказать, где именно она нарушается.
— Хорошо, пусть так. Но разве поэтический текст не может просвещать более сложным образом, пусть через эмоции?
— Поэтический — да. Но полноте, Вы это назовете поэзией?
Женя промолчал.
— Милый мальчик, — насмешка в голосе собеседника стала тверже и холоднее, словно этот человек, так ненавидимый Женей в эту минуту, начал бить наотмашь беспощадным острым клинком. — Неужто Вы всерьез можете съесть такое блюдо? Мистика, опубликованная определенным тиражом, прошедшая через редактора и наборщиков! Переведенная на несколько европейских языков! Мистика, поданная в таком виде на блюде широкому читателю — от романтичных гимназистов до интересничающих горничных, — и в этом может, по-Вашему, сохраниться какое-то рациональное, простите, иррациональное зерно? Вы кажетесь мне умнее.
Женино лицо горело от стыда: он отчаянно, до стука в висках, до холода в сердце ненавидел этого человека, ненавидел с такой силой ненависти, которой не подозревал в себе прежде. Если бы этот человек приказал Жене спрыгнуть на мостовую с крыши ближайшего дома, — Женя пошел бы и спрыгнул.
— Мой мальчик, нет большей пошлости, чем пошлость в мистике. А Вы не кажетесь мне пошляком.
Женя послушно поднял голову, подставляя лицо прощупывающему тяжелому взгляду.
— Музыка?.. Живопись?..
— Поэзия. — Женя взглянул на незнакомца тверже.
— А у Вас незаурядная творческая сила. Вернее, возможность грядущей силы — все Ваши настоящие творения еще в будущем и… довольно отдаленном. — Взгляд незнакомца отпустил Женю и скользнул по заглавию захлопнутой книги. — «Заратустра»… Пожалуй, это слово и заключает самое в себе притянувший Вас магнит. Вы интересуетесь Персией и Ираном?
— Это очень для меня важно, — в Женином голосе прозвучало нескрываемое волнение. — Полгода назад мне снился сон… Поле красных маков, по которому, как актеры с противоположных концов сцены, движутся навстречу друг другу белый единорог с серебряным рогом и черная пантера в золотой короне… Плавное движение — их пути на мгновение пересекаются, а потом они уже движутся не навстречу, а удаляясь друг от друга… А за полем — огромный храм; день, но в нем прохлада и полумрак-Громады колонн… А на каменных плитах пола стоят высокие металлические светильники — в них полыхает огонь… И чья-то, может быть, моя рука бросает в огонь щепотки мягкого серого порошка. И огонь, пляшущий в светильнике, начинает менять цвет — становится белым, зеленым, голубым… И это — Персия, или Иран.
— Это появляется в Ваших стихах?
— Нет… Пожалуй — я когда-нибудь напишу об этом… Только…
— Только не все отдадите словам.
— Не все.
— Вы поняли уже, что то, что движет Вами, должно быть скрыто. Настоящее знание почти никогда не бросается в глаза Есть слова на могиле одного еврейского мудреца, слова в похвалу: «Никогда не осквернил чистоты бумаги». А Вы пытаетесь что-то извлечь из популярных изданий.
— А где же взять это знание? Путешествовать, как Rimbault8?
— Нет. Для кого-то этот путь верен, но Вам идти не им… Вам… — Незнакомец чуть промедлил, и Женино сердце стало ледяным от сумасшедшей надежды… — Вам — слушать себя и творить.
— Только-то? — Женя криво усмехнулся, пытаясь скрыть этой усмешкой свое разочарование.
— Это очень много. Прозаически звучит, но надо иметь мужество услышать и прозу.
Женя почувствовал, что рука незнакомца легла на его плечо. От этого прикосновения шла успокаивающая ровная сила.
— Вас манят эффектные побрякушки всех этих антропософии и написанных европейцами новых «йог», но бегите соблазна, и Вам не будет потом гнетуще стыдно за свою духовную вульгарность. Кстати, для других не существует угрозы такого стыда — у них толще кожа. Нет, конечно, бегите не в прямом смысле — общайтесь и со штейнерианцами, и с последователями Блаватскои, но при этом соблюдайте дистанцию, как в манеже — копыта впереди идущей через уши своей. И не забывайте: то, что Вы бережете в себе, — значительно более настоящее, чем то, что Вы видите вокруг. Когда понадобится, Ваша судьба и через оккультные журфиксы сумеет явить чудеса.
— А ведь это несколько обидно — идти по жизни вслепую, без учителя и знаний. Слегка унизительно. — Женя взглянул на собеседника почти с вызовом.
— Верить себе и самому быть своим учителем, отбросив пустую шелуху теорий. Вы талантливы, хотя сами еще не почувствовали своей силы. Вам будет очень непросто — соблазны летят на силу, как духи на запах жареного мяса. Только что Вы были вполне довольны — Вы играли элегантной игрушкой, а Вам предложили не заводить эзотерических умствований дальше порога церкви — какая проза! Вы хотели бы вновь стать собою пятнадцатиминутной давности?
— Нет! Лучше смотреть в глаза правде, как бы прозаично она ни выглядела. — Женя помрачнел. Тот, кто только что отнял недавнюю игрушку, не дал взамен того, на что он почти надеялся одно сумасшедшее мгновение.
— Поменьше сверхъестественного, мальчик. Ходить в церковь неинтересно — она не обещает мгновенных эффектов и чудес и в этом права. А Папюс со Штейнером еще никого до добра не доводили.
Рука незнакомца коснулась безвольно разжатой Жениной руки и, вложив в нее какой-то небольшой, тяжелый и прохладный предмет, с силой сложила на нем Женины пальцы.
— Это — мне?
— Да. Если не выронишь раньше, чем отдашь. Серым, почти серебряным был цвет этих глаз на темном лице.
— C'est tout9. — Незнакомец поднялся.
— Постойте. — Голос Жени стал умоляющим. — Вы не можете уйти, не сказав мне, кто Вы.
По губам собеседника скользнула неожиданная улыбка.
— Именно это я и намереваюсь сделать. Женя не смотрел вслед уходящему незнакомцу, не смотрел, зная, что одного взгляда будет довольно — и никакая сила не сможет помешать ему сорваться и помчаться за ним. Он долго сидел на скамейке, глядя прямо перед собой, на неспешно разгуливающих жирных голубей… И было странно, что солнце так же бьет сквозь листву, что голуби клюют, как всегда, щедро накиданный детьми хлеб… Томик Ницше по-прежнему — как полчаса назад — лежал на коленях.
И тут Женя понял, что не помнит, напрочь не помнит лица своего недавнего собеседника.
4
Дон. Бой под хутором Елизаветинским по линии Вешенская — Тихорецкая
— Ну что, Арсений? — Женя, приподнявшись на колено, выпрямился, перезаряжая винтовку.
— Еще сотня будет, Евгений Петрович! — с веселой лихостью прокричал вестовой и, рванув повод, развернулся на скаку в сторону установленного на холме поста.
— Опустить прицел на сто! — резко крикнул Женя и всем натянувшимся телом почувствовал, как приказ прошелся невидимой плетью по лежащей цепи.
«Если пройдут еще сотню — штыковой и крышка. Почему не подходит пехота?»
Визг разорвавшейся шрапнели полоснул в двадцати шагах по пожухлой горячей траве. Лежавший в нескольких шагах вольноопределяющийся отложил винтовку и обернулся к Жене.
— Ну и лупят! Похоже — дело к штыкам?
— Похоже — дело дрянь. Герасимов! Посты из рощи не подтянулись?
— Никак нет, Ваше благородие!
— Твою мать… Если пойдут в штыковой — что я выставлю без пехоты? Пол-эскадрона? Это даже не смешно.
— А что тут можно сделать?
— Уйти от штыков и загнуть фланг. Атакой. — Женя напряженно прислушался. — Неужели тяжелые пошли? Это не на нас, дальше, по окопам.
— Ваше благородие! Дальше не лезут!
— И то ладно… — Мучительно захотелось встать во весь рост, увидеть хоть что-нибудь, кроме травы перед глазами и нескольких лежащих рядом людей. Женя в который раз позавидовал Арсению, галопом снующему под шрапнелью между постом и цепью.
— Не знают, что нас так мало?
— Дело не в этом, — Евгений усмехнулся. — Зачем им лезть под собственный артобстрел? Как ни смешно, но он-то и спасает нас от штыкового боя.
— Ваше благородие! Посты из рощи не подтягиваются!
— З-зараза!..
— Чем заняты, г-н подпоручик? — Подбежавший сзади Сережа плюхнулся рядом с братом с каникулярной беспечностью мальчишки, которому захотелось поваляться на траве.
— Сережа! Ты откуда?
— Привозил приказ рядом — решил завернуть. Я же знаю план наступления. Брось винтовку, давай лучше перекурим. Я тебя битый час ищу.
— Ладно, перебежим в ложбинку, видишь — справа?
— Ага!
Наполовину заросший кустарником овражек, на который показал Евгений, находился шагах в пятнадцати от цепи в сторону противника.
— Ну вот, тут хоть выпрямиться можно, — Евгений, тяжело дыша, прислонился спиной к склону овражка.
— Жарко… — Сережа с неудовольствием скользнул взглядом по своим побелевшим от пыли сапогам и щелкнул портсигаром.
— Нет, кури, я не буду. — Евгений отвинтил крышку плоской фляжки, сделав несколько глотков, вылил немного воды на ладонь и, улыбнувшись, плеснул себе в лицо: загорелый, с пыльными выгоревшими волосами, со стекающими по лицу каплями воды, тяжело дышавший — он показался Сереже моложе, чем когда-либо прежде, и внутренне спокойнее, увереннее прежнего московского Жени.
— Странно, Сережа: ты жадно затягиваешься. У тебя наркотическая натура — раньше этого фамильного свойства в тебе не было так заметно. Только ты его очень глубоко загнал и, даст Бог, не выпустишь. Ладно, в сторону. Черт, ну и кроют!
— Кстати, об обстреле — тебе не надоело изображать мишень в детском тире?
— В роще стрельба. Посты не подтягиваются, похоже — сняты. Не могу же я поднять цепь, не зная, что там.
— А разъезд вперед?
— Некому вести. Как на грех — одни вольнопёры. Баклажки… Ни одного офицера.
— Женя…
— Честно: ты водил когда-нибудь разъезд?
— Нет. Но участвовал в пяти. — Голос Сережи прозвучал сдавленно: Женя, словно в себе, ощутил в нем знакомую внутреннюю дрожь готовых натянуться для стремительного действия нервов.
— Дам девять человек. — Почувствовав новый прилив разрядившейся было в утомительной перестрелке энергии, Евгений вскочил на ноги и выпрямился, тут же увидев примятую брошенными в кукольно-неживых позах телами, стелющуюся до холмов степь, испещренную нежно-белыми папиросными облачками рвущейся шрапнели, и пронизанную солнцем березовую рощу.
— Коноводы ближе к окопам — левее.
— Я знаю, у меня там Алебастр.
— Иванов, Павленко, Розенберг, Рождественский, Прянишников, Пономарев, Мельник… — Евгений видел, как с веселой быстротой вскакивали с земли, и снова вспоминал вечную солдатскую истину: страшно не в бою, а перед боем… Шестнадцатилетний Алеша фон Розенберг вытянулся, рисуясь, под пулями — вчера весь вечер кусал губы, строчил письма на полевой сумке…
— В разъезд через рощу — под командованием прапорщика! Выступать!
— Есть выступать, г-н подпоручик! — Сережина рука взлетела к фуражке. — К конному строю марш!
Гнетущую неподвижность цепи на несколько мгновений разрядило празднично торопливое мельтешение поспешных сборов: мельканье оживленных лиц, сбивчивый топот сапог… Пристегивающий на бегу шашку Андрей Павленко… Наклонясь, торопливо обменивающийся несколькими фразами с неназначенным приятелем Саша Прянишников… Вприпрыжку несущийся Сережа…
Чего и можно было ожидать — за полуминутные сборы ружейный огонь сгустился там, где вскакивали и бегали. Но по непостижимым законам военной магии никого не задело даже слегка — хотя в спешке все десять человек носились не пригибаясь: Евгений заранее знал, что так и будет.
Все это напоминало подвижную шумную игру, особенно когда участники разъезда, словно наперегонки, помчались по степи к лошадям.
Свист пуль убыстрился: красные переходили на частый огонь.
Продолжая стрелять, Евгений обернулся на стук копыт: развернутый лавой разъезд карьером летел по степи к роще: поперек седел неподвижно лежали заряженные винтовки. Было видно, как разъезд, переходя на собранный галоп, входил в рощу. Евгений вытащил часы: если стрельбы не будет, через двадцать минут он снова кинет команду к конному строю и оживет, как расколдованная, забегает под обстрелом уже вся цепь…
«Наркотическая натура… А разве нет? С каким лицом он понесся сейчас в разъезд… Отданность минуте — полная, без остатка, летящая растворенность души в действии — если это не чувственное восприятие жизни… Господи, как же он похож на меня — и как ослепительно непохож».
…В первое мгновение Сереже показалось, что Алебастр споткнулся, но, уже вылетая из седла, скользнувшим вверх по конскому боку шенкелем он ощутил пронизавшую круп быструю судорогу. Отлетевшая шагов на пятнадцать винтовка валялась на земле.
5
— Скажите, прапорщик, — у Вишневского сам собой вырвался, наконец, вопрос, который, он знал это, мучительно хотел бы, но ни за что не задал бы Юрий, — Вы не родственник Жене Ржевскому?
— Женя Ржевский — мой брат, — вскинув голову, с живостью ответил Сережа. — Вы знакомы с ним, господа?
— Да… по Петербургу. Немного, — ответил столкнувшийся взглядом с Некрасовым Вадим и встал, чтобы подкинуть дров в печку.
6
1917 год. Петроград
— Воля твоя, Лена, но принять всерьез этого, как ты изволила выразиться, «расторжения нашей помолвки» я не могу. Это несерьезно до смешного. Поверь, мне хорошо знаком объект твоей неоромантической страсти… Женя Ржевский — обаятельный испорченный мальчик, очень неуравновешенный и неспособный даже к ответственности за свои поступки, не говоря уж об ответственности за другого человека. Мужчина должен быть опорой, Лена, особенно если речь идет о таком неискушенном и не знающем жизни существе, как ты. Женя Ржевский не опора и не мужчина — он просто развращенный мальчишка. При желании я мог бы познакомить тебя с некоторыми весьма милыми его привычками, но я предпочитаю воздержаться. К тому же в твоем не вполне трезвом нынешнем взгляде все это, пожалуй, только придаст дополнительный блеск его героическому ореолу. Ты даже не способна дать себе отчет в том, что соединение ваших судеб повлечет за собой ряд проблем несколько иного качества, чем те, которыми задавался у себя в Иене Шеллинг. Пойми, Лена, — ироническая интонация пропала, Юрий, меривший шагами комнату, заговорил доверительно и мягко. — Я знаю тебя с твоих детских лет — ты и сейчас еще прежде всего невзрослый человек. Подрастающим детям свойственно играть во взрослых: ты придумываешь себе роковую страсть, это не любовь, а одна глупость, которую ты вбила себе в голову, такая же игра, как твое несносное ношение этих черно-желтых тряпок, так называемой «расцветки твоего клана»… Все это несерьезно, Лена.
— Несерьезно? В таком случае мне придется сообщить тебе кое-что еще. Со вчерашнего дня я его жена перед Богом. Это — серьезно, Юрий?
— Ты — любовница этого порочного щенка?! Удар был слишком неожиданным. Лена Ронстон, неподвижно сидевшая у окна, казалась безразлично-спокойной, только ее пальцы нервно теребили бахрому наброшенного на плечи шотландского пледа в черно-желтую клетку клана Беркли.
— Если тебе больше нравится называть это так — да. Теперь ты свободно можешь оставить меня.
— Нет, Лена. Как раз теперь-то я никак не могу тебя оставить. Я очень виноват перед тобою, кругом виноват. Я преступно потакал тебе, вместо того чтобы пресечь все это, хотя бы и против твоей воли. Теперь уже поздно — ты сама распорядилась своей судьбой. Но то, как ты ею распорядилась, вызывает у меня слишком большую тревогу, чтоб я мог тебя оставить.
— Как хочешь.
Вадим не знал об этом разговоре, но о том, что нечто подобное имело место, догадался после того, как на Брюсовской читке10, в обычной перед началом толчее в буфетной, услышал невольно обрывок чужой болтовни.
— Так Ржевский не будет сегодня у Приказчика? — «Приказчик» было как раз Женей пущенное прозвище Брюсова.
— Нет. Ржевскому не до «эмалевых стен»… У него сейчас буйный роман с маленькой Нелли Ронстон. — Говоривший студент не был знаком Вишневскому в отличие от его собеседницы — светлокудрой хорошенькой поэтессы Лины Спесивцевой.
— У Ржевского — с Нелли Ронстон? — Третьего собеседника, длинноволосого, с черным бархатным бантом и помятым лицом, Вадим также не знал. — Вот это новость! Но у нее же вроде имеется какой-то там жених…
— Некрасов, ты его видел, Ник. Это такой военный, вечно весь затянутый, как рука в лайковую перчатку, красив, как античная статуя, и примерно столь же общителен. Этакая ходячая помесь армейского устава с кодексом чести. Из гвардии, кажется.
— Теперь вспомнил — он почти повсюду таскается с Ронстон, хотя придерживается при этом демонстративно отчужденного виду. Решительный такой господин — не завидую нашему милому Женичке: он рискует как-нибудь с утра пораньше обнаружить эдакий «приятный благородный короткий вызов иль картель» в почтовом ящике.
— Не знаю, каким монстром надо быть, чтобы поднять оружие на Ржевского! Женя — не человек, а изумительно завершенная коллекция модных пороков, но сколько в нем обаяния!
— Вы пристрастны к нему, как все женщины, Лина даже ваш острый язычок не помогает это скрыть…
Слушать дальше Вишневский не стал.
Имена знаменовали миры, имена были ключами миров.
Был мир Елены и Евгения — рыцарский, мистический, прекрасно-мрачный, причудливо сплетенный из образов Мэллори и Бердслея, Новалиса и де Троя, сладкого Лангедока и химер Notre-Dame — ночной мир служения Прекрасной Даме…
Был мир Елечки и Енечки — двух маленьких детей, сбежавших из дому на поиски Синей птицы — гофмановский, уайльдовский, меттерлинковский мир… Но Синяя птица не оказывалась в нем домашним скворцом, нет, не оказывалась!
Был, наконец, мир Нелли и Жени — мир Петербурга (нового названия города не любили), салонов, выставок, читок, сырой чердачной комнаты — но этот мир был ничуть не более реален и не менее прекрасен, чем остальные миры… В этом, только в этом мире и находилось место для Юрия, Вадима и всего остального Петербурга.
Миры сменялись, но неизменным оставалось одно — их двуединство.
…Волшебно меняющиеся миры могли возникать только из неизменного бинера — двух душ, слитых навеки… навеки… навеки…
Песочные часы, движение песка в которых неизменно должно прекратиться? Нет, не совсем то… Скорее — незаметные глазу зерна терниев, посеянные в розовом саду… Невидимые зерна, которые непременно должны взойти и заглушить пышное цветение.
Такими сравнениями задавался нередко Вадим, наблюдая всегда вместе появляющихся в обществе Елену и Женю: счастливых, сияющих, бездумных, перебрасывающихся между собой фразами своего, непонятного для других, языка ассоциаций и намеков, жадно ловящих взгляды и слова друг друга, радостно угадывающих мысли…
Зерна терниев… Нетрудно было понять природу этих зернышек.
Картина Ренуара, изображающая девушку на качелях, всегда имела для Юрия особое, мучительно-сладкое значение.
Летом 1915 года, провалявшись после контузии два месяца в лазарете, Некрасов, получивший месяц отпуска, вернулся в Петроград.
Почти сразу по приезде, с наслаждением приняв ванну и приведя себя в порядок в своей небольшой, но комфортабельно обставленной квартире на Шпалерной, он поспешил на дачу к Ронстонам, обыкновенно проводившим там июнь…
Стоял солнечно-прохладный летний день: густая листва старых деревьев, за которыми прятались небольшие, по большей части старые и давно не крашенные дачи — с резными балкончиками вторых этажей и увитыми плющом беседками с плетеной садовой мебелью, бросала на бело-пыльную дорогу, по которой шел Юрий, зыбкую, колеблющуюся игру светотени… Поселок как будто вымер, погрузившись в летнюю тишину. Казалось невероятным и неестественным, что идет война. Или — нет, скорее наоборот, казалось невероятным, что может так вот существовать этот поселок с уютно запущенными теннисными кортами и плетеной мебелью в увитых плющом беседках… Война была намного реальнее этого невероятно тихого уголка.
Идти пешком было приятно. Юрий подходил уже к знакомой даче: вот каменные побеленные столбы ворот с чугунной решеткой, красная дорожка аллеи, ведущей к небольшому, белеющему из-за деревьев дому…
Но еще одно белое пятно, оживляющее черно-зеленый старый сад, прежде всего бросилось в глаза Юрию. В глубине сада на высоко взлетающих качелях стояла тоненькая, с развевающимися по ветру темными волосами девушка в летнем белом платье.
По радостному толчку в сердце Юрий издалека узнал Лену. Неожиданно для себя бесшумно он подошел, и когда подходил, ему казалось, что он не подходит, а все ближе и ближе на него надвигается ожившая ренуаровская картина: та же игра лучей в темной листве, те же, по странному совпадению, темно-синие банты на белой кисее, взлеты скрипящих качелей, радостное лицо Лены с закрытыми глазами — чтобы полностью отдаться ощущению полета… Лена не слышала шагов Юрия, а он боялся нарушить очарование ожившей картины.
— Юрий!! — испуганно-радостно закричала Лена, спрыгивая с качелей — ладонями в его подставленные ладони. — Юрий… Господи, даже не предупредил! Ты надолго? Откуда? Как? Ой, у тебя погоны другие — ты кто?!
— Штабс-капитан.
— Ты? Уже? Ужасно странно, ох, Юрий, белый крест! Ведь это Георгий, да?
— Да, Георгий третьей степени.
— За что, ты расскажешь, ведь расскажешь, да? Все расскажешь?
— Все. — Юрий усмехнулся.
— А забавно, знаешь, ведь Юрий и Георгий — это одно и то же имя на Древней Руси… Ты не обращай внимания — я вздор болтаю! Ты ведь не писал даже нам — месяца три! Не стыдно?!
— Извини, Лена, не мог — был в госпитале.
— Ты — ранен?
— Да нет, пустяк… Засыпало немного взрывной волной.
— Какой волной? Ну ладно, потом все расскажешь… Знаешь, мы в синематографе видели… газы эти… ужас, да? Я очень за тебя боялась. И мама тоже. А ты маму видел?
— Нет еще.
— Ой, побежали же к ним! — Лена тянула уже Некрасова за руку к дорожке, ведущей к дому, но он, однако, не сдвинулся с места.
— Лена, погоди. — Юрий смотрел прямо в полудетское, так же, как все вокруг, включенное в игру светотени, немного неправильное лицо Лены, прямо в серые, сейчас кажущиеся темными глаза. — Я очень давно тебя не видел…
Белая доска качелей все еще покачивалась на веревках, и по ней скользили солнечные зайчики.
— Юрий… Скажи, ведь ты, вероятно, сейчас уже не такой, как был… Ты должен быть другой.
— Я не понимаю, о чем ты.
— Там — страшно?
— Разумеется, Лена. Война есть война, она по сути своей и грязна, и страшна. — Некрасов пожал плечами. — Но все же я не понял, о чем ты спрашиваешь.
— Так, ни о чем… — Они шли по темной боковой аллее. — Я слышала недавно про атаку кавалергардов. Юрий, я довольно много думала… Можно задать тебе один вопрос?
— Разумеется.
— Юрий, почему ты не кавалергард? Ведь ты очень легко мог бы, я думаю, добиться зачисления.
— Да, я полагаю, что это не было бы для меня очень сложным, — снова пожав плечами, холодно ответил Некрасов.
— Но тогда — почему?
— Но, Лена, не всем же быть в кавалергардах. Кто-то должен служить и в кавалерии. Чем я лучше других?
Некрасов менее всего подозревал о том, какая бездна его гордыни разверзлась перед Леной в этих спокойно произнесенных словах, как ему представлялось, достаточно верных, но все же сказанных только аая того, чтобы не вдаваться в дальнейшие объяснения. Службу в обычной кавалерийской части в корпусе Эрдели Юрий предпочел не случайно. Напротив, он воплотил в этом выборе свое понимание дворянской чести, в котором самой высокой привилегией был добровольный отказ от по праву принадлежащего. Но говорить об этом бессознательно представлялось Юрию шокирующе невозможным. Эту черту его характера, пожалуй, смог бы объяснить Лене Вишневский, рассказав об одном с юнкерских времен запомнившемся ему эпизоде. Это был спор, завязавшийся в свободный вечерний час за глинтвейном. Речь шла о дуэлях. Сосед Вишневского по дортуару, Миша Яковлев, не без рисовки рискнул назвать поединок «средневековым предрассудком» и, не спеша прихлебывая горячий напиток, смаковал теперь одновременно с глинтвейном вызванную бурю. «Мы — профессиональные солдаты, а не профессиональные гладиаторы!» — «Яковлев прав! Этот средневековый атавизм противоречит духу армии. Дух армии — дисциплина и система, а это — самость времени, когда война не знала системы и не решалась дисциплиной!» — «Нет, господа, все зависит от того, что считать более нужным: превращение ли армии в смазанную машину, к чему, кажется, все и идет, или упование на какие-то нравственные каркасы, как было от века и до сих пор не отменено…» — «А если второе, то необходимо признать, что дуэли дисциплинируют армию…» — «А иначе честь из конкретного и весомого превращается в слишком эфемерное понятие». «Некрасов, а что ты думаешь?» — этот вопрос князя Лыкова, одного из младших в компании, заставил всех обернуться к Юрию, сидевшему поодаль: за весь разговор он не произнес ни единого слова. Между тем слово Юрия, способного кого угодно не пьянея перепить и вытворявшего настоящие чудеса в манеже, обыкновенно было в спорах самым веским.
«Я думаю, Лыков, — Некрасов обвел холодным взглядом обратившиеся к нему лица и демонстративно неспешно отхлебнул из своей чашки, — что честь — это не опера».
Фраза вошла в поговорку. «Честь не опера», — бросалось в лицо заводящему разговор о высоких понятиях новичку. С легкой руки Юрия — невольного законодателя правил хорошего тона — разговаривать считалось приличным (помимо упомянутой оперы) о лошадях и выставках. Но только один человек не чувствовал себя стесненным в этом жестком искусственном футляре — сам Некрасов.
Даже услышав собственные, на самом деле — почти угаданные Леной мысли о привилегии отказа,
Юрий искренне не узнал бы их. Он смог бы только с неудовольствием ответить: «Ты усложняешь», или: «У тебя слишком романтическое обо мне представление». Вызвавшие у него легкую досаду Ленины вопросы Юрий отбросил, не поняв, и тут же забыл: они не имели никакого отношения к Лене, к зеленовато-солнечному сумраку сада, к милой болтовне об именах и Георгиевских крестах, ко всему, о чем так жадно вспоминалось потом на фронте.
Женя и Елена медленно шли по Мойке вдоль тускло-серого в свете неяркого дня канала.
— Погоди, Нелли. — Женя вытащил портсигар. — Не люблю курить на ходу.
— Ты много куришь.
— Ерунда. Погода мерзкая — серо. Давит как свинец. Я бы, будь петербуржцем, давно повесился… Это сатанинское отродье нарочно место выбрал — с ума сводить… Причем с расчетом — двести лет, как подох, а детище стоит… и сводит, сводит… — Женя зло затянулся, глядя не на Елену, а в серую рябь канала.
— Ты говорил, Гумми стрелялся с Волошиным…
— Калошиным… Не дуэль, а пародия. Его потом так и прозвали — Вакс Калошин: калошу потерял в сугробе… Ну, Гумми-то, конечно, был неплох — смокинг, шуба в снег… Требовал от Волошина повторного выстрела — там была осечка. — Как всегда, когда Женя говорил о Гумилеве, голос его звучал немного неестественно. Гумилева, свое единственное божество с современного Парнаса, Женя обожал столь же яростно, сколь и ненавидел. Тщательно скрывая это от многочисленных друзей, он не мог определить свое чувство сам, но был уверен в одном: кроме него никто еще не постигает с такой отчетливостью всей космической гениальности Гумилева.
Женю, неохотно соглашавшегося читать свои стихи даже близким друзьям, считали обычно, и Женя сам стремился поддерживать всех в этом мнении, нетщеславным… Это было неправдой: тщеславен Женя был, но как-то вывернуто тщеславен. Стихи казались ему областью слишком интимно-личной, чем-то глубоко внутренним, той святая святых, в которую не должен вступать непосвященный. Было время, когда Женя развлекался фантазиями о том, что поэзия могла бы быть изустным достоянием какого-нибудь тайного мистического ордена… Стремление к популярности, славе казалось Жене тщеславием примитивным. Было другое, тайное, внутреннее тщеславие сжигавшего его стремления к преодолению новых ступеней…
— Я не знаю, Женя, мне кажется, что ты мог бы пойти к Гумми с «Розовым садом».
Женя рывком обернулся к Елене.
— Ты хотя бы понимаешь, что ты сказала?
— Женя, ты что?
— Ничего! — Словно ударив Елену неожиданно ненавидящим взглядом. Женя не оборачиваясь почти побежал прочь.
Его не было три дня. С момента, когда они с Еленой расстались на Мойке, Женя не объявлялся даже у себя — как будто канул в воду… Елена, которой мерещилось самое плохое, была в таком ужасе, что не только Женины, общие с Еленой друзья, но и Вадим, и даже Юрий обшаривали в городе все кабаки и морги…
Невыносимо мучительным казалось Некрасову в течение этих дней многократно появляться у Елены, каждый раз успевая ловить в ее глазах разочарование обманутой надежды, что это его, а не Женины шаги прозвучали на лестнице.
Лихорадочная тревога овладела всем ее существом. Некрасов готов был убить Женю — уже не только за то, что Женя отнял его счастье, но и за эти заплаканные, застывшие в выражении ожидания глаза на осунувшемся лице Лены — за то, что собственные его мрачные предсказания начинали сбываться так скоро.
Разумеется, ничего страшного с Женей не случилось. На третий день он объявился — Бог весть откуда, очень похудевший, с измятым, усталым лицом… Разумеется, наступило примирение, за которым с новой силой последовала идиллия — более короткая на этот раз… А затем все быстро, слишком быстро помчалось к тому концу, которого не мог предположить даже не ожидавший ничего хорошего Некрасов: здоровье Лены, и до того слабой легкими, ухудшалось вместе со стремительно расшатывающейся нервной системой. Роковую роль сыграло слишком поздно замеченное Юрием перенятое (впрочем, против Жениной воли) увлечение кокаином…
7
— По Петербургу! Я очень мало знаю о Жениной петербургской жизни. Я последний раз встречался с Женей в Красновскую кампанию. Да и то удивительно в этом водовороте… Вы ведь не встречались с ним, конечно, после Петербурга, г-н поручик?
— Нет, г-н прапорщик.
— А мне довелось один раз, — Юрий усмехнулся. — Тоже на Дону, очень незадолго до его смерти.
— Г-н штабс-капитан, — очень спокойно, спокойно настолько, что от этого невольно сделалось страшно, спросил Сережа, — Вы хотите сказать, что Женя погиб?
— Под Тихорецкой. Простите, прапорщик, я думал, что Вам это известно.
— Теперь — да. А Вы были правы, г-н штабс-капитан, рана все-таки чувствуется… — С этими словами Сережа подошел к столу и, взяв стакан, выпил самогон залпом, словно не ощутив вкуса, как воду.
8
1918 год. Дон. Бой под хутором Елизаветинским
— Кого там еще несет? — приподнявшись над осыпающимся краем неглубокого окопа, Некрасов поднес к глазам бинокль: тут же его ослепил фонтан земляных брызг от взрыва тяжелого снаряда — показалось, что комья летят прямо в лицо, и невольно захотелось прикрыть глаза рукой. Но в следующее мгновение уже стало видно, что два летящих к позиции всадника невредимы: в восемь раз приблизившие их к Некрасову стекла скользнули сначала по молодому вестовому казачьего вида и невольно остановились на лице скачущего первым офицера. Лицо приблизилось, расплылось, заняв весь стеклянный круг, и, когда Некрасов опустил бинокль, несколько человек уже вылезало из окопа навстречу подскакавшему Евгению Ржевскому.
— Где пехота?! — танцуя перед окопами на мокром гнедом ахалтекинце, выкрикнул Евгений.
— Пехота отошла с полчаса назад, подпоручик. — Телефонист устало отшвырнул моток проводов и промокнул осунувшееся лицо грязным платком. — В отличие от нас у нее был приказ перемещаться направо.
— А что у вас?
— Ничего. Телефонной связи нет, сидим как идиоты.
— Хорошо хоть тяжелая артиллерия прикрывает. — Поручик Ансаров, распоров пакет, начал заматывать бинтом задетую кисть левой руки. — Людей мало!
— С чего Вы это взяли, поручик? Это не наша артиллерия, а их недолеты. Кто держит позицию?
— Позицию держу я. — Некрасов, шагнув по мешку с песком, наполовину вылез из укрытия и окинул Женю безразличным взглядом. — Вы уверены, что это их недолеты?
— Полностью, Юрий.
— Мать их разэдак… Какой-то болван отводит пехоту, а мы торчим под обстрелом! Или этим идиотам в штабе кажется, что несколько цепей могут здесь атаковать без прикрытия? — Некрасов длинно выматерился.
— У меня только что вышла телефонная связь — приказано загибать фланг конной атакой. — Евгений перекинулся быстрым выразительным взглядом с гарцующим поодаль вестовым.
— Вот как… Придется идти рощей — там чисто?
— Нет, но, судя по всему, красных в ней немного. Я высылал разъезд: если верить стрельбе — он проскочил через противника и держится за ним.
— Понятно. Поднимайте своих, выстраиваемся по пути.
— Есть! — Евгений круто развернул коня и, сопровождаемый вестовым, понесся карьером.
— К конному строю выходи!!
Полоска окопов забурлила, как вышедшая из берегов речка: через несколько минут, значительно быстрее, чем некадровые вольнопёры из Жениной цепи, полтора эскадрона кавалеристов уже было в седлах.
— Эскадрон, в атаку!!
— Ур-р-ра!!
…В то мгновение как под копытами первых коней захрустела черная березовая ветошь, в роще заработал пулемет. Первая очередь прошлась низко, по конским ногам: несколько одновременно полетевших с лошадей человек впереди Некрасова, вскочив и хватая винтовки, бросились вперед пешими. Опередив спешенных, Некрасов увидел, что пулеметчик взял выше: скакавший слева молодой граф Орлов дернулся и, запутавшись ногой в стремени, несколько шагов протащился головой по земле за испуганно захрапевшей лошадью.
Установленный на пригорке пулемет был уже виден за припавшими к винтовкам папахами только что окопавшейся охраны.
Луч было зашедшего в прозрачные облака солнца скользнул по золотым погонам офицера, вырвавшегося, остервенело посылая шпорами взмыленного коня, далеко вперед. Он, опередив лаву, с гранатой в руке мчался, выписывая зигзаги, прямо на тяжелый треск пулемета. Красноармеец, в спешке выскочивший из окопной ячейки, начал с лихорадочной торопливостью целиться, но не успел опередить разрыва, снятый хладнокровно метким выстрелом Некрасова. Воздух разорвал грохот взметнувшегося на месте пулемета разрыва. В кинувшем гранату офицере Юрий узнал Женю. Спотыкаясь о разметанное тело пулеметчика, несколько красноармейцев, не пригибаясь, метнулись смотреть, сильно ли поврежден пулемет. Но это уже не имело значения. Бой переломился в той точке, которая превращает беззащитного под обстрелом кавалериста в вызывающую ужас беспощадную силу: шашка Юрия полоснула наотмашь по лицу бородатого красноармейца, в растерянности выронившего винтовку. Другой, молодой, с соломенной бородкой и яркими глазами, прежде чем бородатый упал, прикрываясь его оседающим телом, вывернулся, пытаясь схватить под уздцы лошадь Некрасова, а цыгановатый парень, бешено раздувая ноздри, замахнулся для штыкового удара. Опережая светловолосого, Некрасов жестким ударом шпор послал коня и, на лету зацепив шашкой, помчался ко второй линии укреплений: через первую линию передовые в атаке проскакивают, почти не вступая в бой… Первая линия — последним верховым.
— У-р-р-а-а!!
Второй ряд наспех вырытых ячеек.
Третьи укрепления — край рощи — наперерез скачущие по степи всадники: контратака? Хаки… погоны…
Свои? Откуда здесь свои? Немного — не больше десяти человек… меньше… Ах, ну да — тот разъезд.
— Г-н штабс-капитан! — Бледный от усталости вольноопределяющийся вскинул руку к задетой пулей фуражке. — Дальше противник оттягивается!
«Загнули», — подумал Некрасов, устало скользнув взглядом по Евгению, подъехавшему шагом.
— Ранены, Розенберг?
— Да, г-н подпоручик. Но я могу держаться в седле.
— Где командир разъезда?
— Убит, г-н подпоручик. Где-то в прорыве между первыми и вторыми укреплениями.
— Вот как? — Евгений усмехнулся какой-то мысли и знакомым, лениво-безвольным жестом провел рукой по лицу.
— Бой переместился, — с неохотой произнес Некрасов, — фланга дальше уже нет, лезть атакой на стенку — глупо. Попробуем обогнуть с тылу: если будет возможность — ударим, нет — соединимся со своими.
— Вам виднее, Юрий. — Женина рука успокаивающе скользнула по шее коня. — Тем более что Вам, вероятно, надлежит взять на себя командование моими людьми.
— Что?
— Можете считать, что я уже под полевым трибуналом. Приказа атаковать фланг не было. Приказ недвусмысленно гласил передвигаться к центру боя вслед за пехотой.
— Надеюсь, подпоручик, что, когда этот салонный розыгрыш пришел Вам в голову, Вы сообразили, что он пахнет расстрелом, — с расстановкой проговорил Некрасов, с ненавистью глядя на Женю. — И мои слова не являются для вас неприятным сюрпризом.
— Я не исключал этой вероятности, г-н штабс-капитан, — равнодушно ответил Евгений. — Впрочем, это не имеет значения. Вы полагаете, что я должен сдать командование сейчас?
— После боя.
9
— Эти мне Долгоруковские замашки… — Тени от слабой коптилки скользили по безразличному мальчишескому лицу Сережи, на которое исподволь взглянул Некрасов. — Простите, прапорщик, мое раздражение объясняется тем, что немало довелось из-за этого расхлебывать — хуже нет, когда некадровые лезут подражать кавалергардским геройствованиям… Ничего хорошего из этого, как правило, не выходит. В случае с Вашим братом — обернулось удачей, но по чистой случайности. Не помню, к сожалению, в каком это было бою — сами знаете, какое стремительное наступление разворачивалось от Вешенской к Тихорецкой… Бой был очень длинным — чересчур длинным и, сместившись к хутору, завяз в одной из точек. Хутор был на двух холмах, превосходно простреливающиеся подступы; как сами можете представить, сомнительное удовольствие выбивать противника с такой позиции…
— Вы не помните названия хутора?
— К сожалению, нет.
— И что же? Это сомнительное удовольствие и досталось Жене?
— Именно. Пехота и около эскадрона кавалерии. Основная часть кавалерии была брошена дальше — хутор не давал выровнять наступление. Из штаба приказ за приказом: скорее брать — а цепи лежат. За каждую пробежку — проходят все меньше. И вот вашему брату пришла в голову несколько отдающая самоубийством идея воодушевить цепи, подняв кавалеристов в психическую атаку. Командующий эскадроном поручик Тураев был за несколько минут до этого убит. Надо сказать, прошли как на параде, поднять цепи удалось, выбить красных удалось, все удалось — в том числе и самоубийство. Вашему брату многое удавалось — иногда, к сожалению, слишком многое.
— Вы что-то имеете в виду?
— Нет, пожалуй, ничего конкретного. Но надо отдать должное, этой удачной атакой ему удалось загладить одну свою ошибку, допущенную за несколько часов до этого.
— Какую?
— Мне не очень понятна эта история — он неизвестно с какой целью нарушил приказ.
Неизвестно с какой… Такие, как Женька, проходят по жизни, вовлекая всех и вся в тянущуюся за ними спутанную цепь ошибок…
Некрасов не видел этой атаки, но не мог отделаться от ощущения, что видел. В германскую, в Восточной Пруссии, он участвовал в двух подобных атаках, по законам военной магии без единой царапины выйдя из обеих — они немногим отличались от нашумевшей атаки кавалергардов князя Долгорукова, половина из трех блестящих эскадронов легла в ней под германскими пулями.
«Дворянская атака»… Пеший строй… Мерная поступь рока в твоих шагах… Ты идешь один, чеканя шаг, навстречу огню — без единого выстрела. Цепи развернуты так, что в одиночку идет каждый…
Левой… левой… левой… Сердце стучит в едином ритме с шагом цепей… Левой… левой… Папироска в небрежно отведенной руке… Смерть не страшна, потому что ты сам — смерть. Потому, что перед тобой побегут, не могут не побежать: нет ничего страшнее этой силы смерти, которую ты с гордо поднятой головой несешь навстречу пулям.
Блеск погонного золота… Блеск сверкающих сапог, чеканящих по пыльной траве парадный шаг… Презрительная складка небрежно цедящих французские ругательства ртов… Непреклонность движения редеющих с каждым шагом цепей…
На котором шагу вдруг пропала усмешка с ненавистного, посвежевшего от степного воздуха, непривычно загорелого Женькиного лица?
Неожиданно возникший из прошлого — всего неделю назад — повзрослевший, как-то возмужавший и, главное, смеющий быть не только живым, но не страдающим, не убитым раскаянием, как в последнюю встречу, а спокойный, способный улыбаться своей сволочной обаятельной улыбкой, вызвавший у Юрия неистовый прилив ненависти Женя был теперь мертв.
Торжество? Облегчение? Нет! Юрий не мог и не очень пытался понять, какие чувства вызвала в нем эта слишком хорошая для Жени Ржевского — распущенного безвольного щенка, кокаиниста, жалкого эстетствующего мальчишки — смерть.
10
Лежа в пропахшей дымом темноте, подложив под голову руку и накрываясь полушубком, Сережа, сам не замечая этого, напряженно прислушивался к ноющей боли в ноге. Но боль была не настолько сильной, чтобы помешать, спутать бессонно четкое течение ночных мыслей…
«…Но даже если бы я знал, что вижу Женю в последний раз, я не смог бы впитывать его присутствие с большей жадностью, чем в ту последнюю встречу. Потому что последний раз я видел Женю в ту встречу — не в горячке боя, а за два дня до этого, еще в Вешенской… Те сутки, которые у нас были, и были последней встречей, последним разом… Нет, не сутки, меньше. Я приехал с приказом в полдень, а уехал где-то около семи утра. Самые важные разговоры всегда ведутся ночью… Как глупо: именно в этот вечер мне изменила бессонница.
— Сережа, а у тебя глаза слипаются.
— Не обращай внимания, Женя. Спать я действительно очень хочу, но мы же как-никак не виделись почти год, а утром я еду… Ты говорил о символе розы у Гафиза. При чем тут суфизм?
— Суфизм — «цветок» ислама, его высшее развитие. Три символа — из газели в газель: женщина-возлюбленная, вино и роза. Символы переплетаются: странствие суфия проходит через полноту реальной жизни… Через ее краски… Сережа, ложись, ты сейчас уснешь прямо за столом.
Меня на самом деле тянуло головой к доскам стола… Тяжелой-претяжелой головой. Я еще разговаривал, но уже спал… И окончательно засыпая на ходу, добрел до кровати и плюхнулся на нее одетым. И уже совсем сквозь сон почувствовал, как Женя сам стягивал с меня сапоги, приподнимал рукой за плечи, чтобы сунуть под голову подушку… Давно не испытанное ощущение покоя, бесконечного блаженного покоя, исходящее от прикосновения родных заботливых рук. Но где-то в моем сознании в это время так и висели последние слова о суфизме Газифа. Было всего-навсего начало двенадцатого.
А через некоторое время я проснулся. Раскрашенные жестяные ходики на стене показывали час… Женина постель была нетронутой.
Спать больше не хотелось совсем, напротив, я чувствовал прилив бодрости, такой, что невозможно было больше оставаться в хате. Это было то ночное влечение к открытому пространству, к бесшумному скольжению среди запахов трав — волчье, более древнее, чем человеческое, стремление к ночной жизни, делающее невыносимым и противоестественным пребывание в пространстве замкнутом… Я нашарил в темноте одежду и, проверив в кармане портсигар, вышел на крыльцо.
Ночь была прохладной: вся станица, раскинутая под безлунно-черным, усыпанным звездами небом, спала. Негромкий звук моих шагов, казалось, разносился очень далеко, потому что был единственным звуком в ее ночном молчании… И тут я увидел Женю.
Он стоял, облокотившись обеими руками о белеющее за ним в темноте длинное бревно коновязи и запрокинув голову в небо. Я подошел к нему, на ходу раскуривая папироску.
— Проснулся? А я смотрю на созвездие Фаркад.
— Фаркад?
— Видишь — две яркие звезды рядом — в Малой Медведице?
— Вижу.
— Это — созвездие Фаркад. «В царстве юности изыскан был узор, Но не вечно тот наряд ласкает взор. О беда, беда, иссяк благой родник, Жизнь даривший розам сада до сих пор! Ты уйдешь и от друзей, и от родных, Что под небом грусть твоя и твой укор? Смерть придет, и расстается с братом брат, Кроме братьев-звезд сверкающих Фаркад».
— Чей это перевод?
— Мой.
Я курил, сидя на коновязи, а Женя по-прежнему стоял в той позе, в которой я его увидел.
— Он довольно плох — но мне начинает казаться, что восточные стихи как таковые теряют свою суть на европейских языках… Не знаю. Хочешь моих стихов?
— Да, очень.
Это было в первый раз: Женя никогда не предлагал этого прежде. Он читал долго… Он читал о чужом для меня, таком для меня чужом Востоке… Это была поэма «Розовый сад», странная, навеянная зловещими сурами Корана… Это был мир мчащихся в ночи боевых верблюдов, мир песчаных безбрежных морей, мир гурий и роз в причудливых грезах хашшашинов11…
Он читал, как будто заклинал стихами ночь. Он читал, а я слушал и смотрел в его обращенное к небу лицо, как белая маска выступающее из темноты. И это лицо было утонченно восточным, персидским или иранским, с этим мягким бархатом черных в темноте глаз, надменным разлетом бровей, кажущимися в темноте черными волнами волос, изысканным сочетанием тонкой линии носа с трепещуще нервными, породистыми ноздрями и чувственным вырезом пухлых губ… Это было лицо Сохраба, молодого иранского царя, бесстрашного воина и любовника огненных пери… Это был Женя.
— Свежо становится: сейчас часа три. Знаешь, ты все-таки иди спать.
— А ты?
— Мне рано не ехать. Постою еще здесь.
— Не хочется, но ты прав. Тогда я тебя утром не бужу. Я ведь теперь знаю, что ты тут, постараюсь заскочить на днях… А так во всяком случае будем вместе в Царицыне. Покойной ночи, Женя!
— Покойной ночи, Сережа… — И ты неожиданно, с каким-то непонятным ускользающим выражением взглянув мне в лицо, притянул меня за плечи и странно поцеловал два раза — в глаза, — даже не поцеловал, а легко коснулся глаз какими-то не по-мужски нежными губами… — Покойной ночи, Сережа, маленький мой…
Я действительно не стал будить тебя утром: твоему вестовому удалось растолкать меня разве только без пушечной пальбы над ухом… Я не выспался и был зол как черт, к тому же в последний момент выяснилось, что стремя держится на соплях: пришлось с полчаса ждать, пока Арсений найдет и наладит новый ремень — я опаздывал, Алебастр был не в духе…
Так я и уехал.
Это было за два дня до моей смерти: как я потом узнал. Как же его звали, того, из разъезда? Мы встретились месяца через два. Он еще сказал, что после боя за меня свечку поставил. Я — «отпетый». Я еще волновался, как бы до Женьки не дошло — но потом решил, с какой стати? Никто же не знал, что я его брат, а бои шли еще те…
Убили меня, а убит был Женя.
«…Незадолго до его смерти».
В первое мгновение захотелось кричать. Тогда я и выпил самогон. Потом удалось довольно быстро взять себя в руки. А не слишком ли быстро, г-н прапорщик?
Со встречи с Женей, с этой, с последней, прошло меньше года. Семь месяцев. А за эти семь месяцев прошло десять лет. И со мной кое-что случилось за них, хоть и не сразу я это заметил… Боль души, на самом деле такая же физическая, реально ощутимая, как боль какой угодно другой части тебя, — как-то перестала особенно донимать… На душе появилась какая-то прозрачная защитная оболочка… Ощущение неприятной сдавленности этой оболочкой — тревожное, но к нему привыкаешь… Зато от нее отскакивает все, что грозит проникнуть внутрь… Сквозь эту прозрачную резину видно, что отскакивает, но отрешенно как-то видно…
Мне больно, что Жени больше нет. Очень больно. Но все-таки не так, как было бы с год назад. Далеко не так.
Слишком многое произошло с тех пор… И половины происшедшего хватило бы на то, чтобы убить меня прежнего.
Ах, да меня прежнего тоже убили. Как будто только что: я лечу из седла убитого Алебастра, поднимаюсь с осыпанной березовой ветошью травы — винтовка, валяющаяся в десяти шагах… И без тени страха — просто какая-то очень большая мысль: «Это — конец»… Несколько поднятых винтовок… Необычная яркость красок, какая-то странная запоминаемость каждой мелочи; крапивницы над метелкой травы — как все это врезается навек в память, когда понимаешь, что последние доли секунды смотришь и видишь…
Две дырки в легком. Снизу. «Дешево отделались, молодой человек…» — это уже в полевом лазарете. Если бы наши не взяли этот хутор Елизаветинский, ох и лежать бы мне там, полеживать, покуда птички не склевали. Но так или иначе, а убит я был и потому, что «отпет», и потому, что знаю ощущение конца… Настолько странно было через сутки, очнувшись, снова почувствовать себя на этом свете, что я даже не очень удивился, узнав случайно о том, что в этом же самом лазарете эдак за неделю до моего появления покончил с собой подхвативший сифилис Вадик Белоземельцев…
Вадик Белоземельцев застрелился в венерической палате полевого госпиталя…
За эти больше чем полгода так и не стало известно, живы ли папа и мама…
Жени больше нет.
Но для меня теперешнего все это, увы, не смертельно.
В первый раз я ощутил это, когда мы шли из Финляндии… Утро, серый снежный день, серая снежная степь без конца, серое небо без краю… А за спиной случайный ночлег, который ты оставляешь навсегда… А где-то далеко уже не существует твоего дома… Твои корни вырваны… Ты — щепка, плывущая в водовороте, маленькая частичка Великого Кочевья… Не человек, а именно частичка, безвольно входящая в движение водоворота… И твой утраченный дом не важен, потому что утрачен не только твой дом, и не важна разорванность связи с призрачно существующими твоими мамой и отцом, потому что все связи вокруг тебя разорваны, и не важен твой путь, потому что он независим от тебя…
Мы с Женькой Чернецким оба знали тогда, что чувствуем одно и то же… И что нас, независимо от нашей воли, скоро разведет в стороны… Мы только успели тогда понять, что нашли друг друга.
Женька… Как много значит в моей жизни это имя… Но если в прекрасно чужом мире моего брата я мог бы и хотел бы быть только гостем, то Женька Чернецкой… Ладно, о таком молчат даже в мыслях.
А возможно ли разорвать эту прозрачную резиновую оболочку? Если по-настоящему понять, что Женя погиб, что Вадик застрелился, что очень хочется положить голову на колени маме… Что нет больше московской квартиры…
Но Вы этого не сделаете, г-н прапорщик… А может быть, Вам только кажется, что Вы можете это сделать?»
11
— А скажите, г-н штабс-капитан… — За ночь Сережу изрядно полихорадило — об этом говорила темная корка на растрескавшихся губах. — Мне, собственно, еще вчера хотелось Вас спросить… Вам ничего не говорит такое имя — Елена Ронстон?
«Вот бомба наконец и разорвалась», — подумал Вадим. Сережин вопрос прозвучал очень неожиданно — до этого речь шла о том, как долго имеет смысл пережидать в сторожке. Юрий, как показалось Вадиму, не изменился в лице.
— А с чем для Вас связано это имя, г-н прапорщик? — ответил он вопросом, и голос его, к удивлению Вишневского, прозвучал почти мягко.
— «Средь благовонной тишины, — негромко процитировал Сережа, —
В ночи склоняю я колена, Мои уста обожжены Заветным именем «Елена». Я пью: в священном кубке дно Звездой мерцает сокровенной, Есть двуединое одно: Я — рыцарь ночи и Елены. Жизнь, душу, кровь мою за меч. Летящий молнией надменной, За меч, что в силах влет рассечь Все нуты лунные Елены. Все сроки нам предрешены, И жизнь отвечная нетленна. Мои уста освежены Волшебным именем «Елена».— Как это называется?
— «Ноктюрн к Елене». Собственно, это только наброски к нему. Женя хотел закончить, но я не знаю, закончил ли… Это посвящается Елене Ронстон — больше мне это имя ничего не говорит. Так Вы знали ее, г-н штабс-капитан?
— Не то чтобы знал, но знаком я с ней был, г-н прапорщик.
— Ну да, конечно же, были, — улыбнулся Сережа, — ведь Вы же знали Женю по Петербургу! Красивое имя… Женя вообще придавал очень большое значение именам. «Имена сольются в вензеле двойном…» — это тоже из стихотворений к Елене Ронстон.
— Тонкая натура, — задумчиво произнес Юрий. — Слишком тонкая. А где тонко — там и рвется. — И, посмотрев на собеседника сквозь стакан, он залпом выпил его содержимое.
— Вы говорите о Елене Ронстон?
— Именно, молодой человек.
— Г-н штабс-капитан. — Побледневший Сережа медленно поднялся за столом. — Эту женщину любил Женя.
— И Вы, безусловно, полагаете, г-н прапорщик, — Юрий так же медленно поднялся напротив Сережи, — что это поднимает ее на недосягаемую высоту?
— Господа, господа! Юрий!
— Г-н штабс-капитан, имею заметить, что не могу воспринять Ваши слова иначе, как вызов.
— Когда Вам угодно?
— Немедля.
— Я к Вашим услугам. Ах черт! Я не могу стреляться с раненым.
— Какая трогательная щепетильность, г-н штабс-капитан, — подхватывая тот пренебрежительно-иронический тон, которым только что развязывал ссору Некрасов, усмехнулся Сережа. — Не усугубляется ли она чем-нибудь еще? Отмерить десяток шагов я, с Вашего позволения, могу и прихрамывая, а если мне будет трудно стоять, я стану стрелять с колена.
— Вы много себе позволили, милый юноша: от дальнейшей щепетильности это меня освобождает. Г-ну Вишневскому придется быть нашим общим секундантом — не вполне по правилам, но ничего не поделаешь.
— Благоволите договориться с г-ном поручиком об условиях, чтобы он мог сообщить их через десять минут мне. — Сережа, хлопнув дверью, вышел на крыльцо.
— Ты сошел с ума, Юрий. — Столкнувшись взглядом со спокойно-светлыми глазами Некрасова, Вишневский невольно содрогнулся. — Оставь мертвых в покое. Перед тобой ребенок, мальчишка, который ни в чем не виновен. Неужели твоя совесть позволит эту дуэль?
— А ведь он… похож. Даже не знаю, чем он так похож на того… Внутренне похож. Не мешайся мне, слышишь? Передо мной снова Ржевский, но на этот раз я могу его убить.
12
Снег весело скрипел под ногами отмерявшего расстояние Вадима.
— Три… пять… восемь… десять…
Как в продолжительном нелепом сне, Вадим скользил взглядом по радостно синему небу, могучим стволам опустивших ветви под тяжестью снега елей, по белому щегольскому полушубку Сережи…
Юрий стоял у припавшего к земле ствола раздвоенной старой березы. Его спокойная поза словно подтверждала уже и без того ясную Вадиму предрешенность поединка.
«Мальчишка, к тому же — некадровый… Ну как он может стрелять? От силы — неплохо. А Юрий бьет в туза на подброшенной карте. К тому же Сережа кипит, а Юрий — хладнокровен. И сейчас произойдет хладнокровное убийство…»
Вадиму невольно вспомнились юнкерские годы в Николаевском училище: вот так же, протестуя внутренне, но не смея восстать, когда Юрий подбивал товарищей на очередную жестокую проказу, Вадим присоединялся к ней с ощущением какой-то неприятной скользкой тяжести внутри… С позабытой детской остротой Вадим ощущал сейчас ту же самую тяжесть своей духовной зависимости от Юрия… Сейчас она толкает его быть соучастником преступления, которое он должен, но не может, не в силах предотвратить, потому что его вновь подчиняют себе эти холодные, беспощадные глаза — единственное, что выдавало иногда Некрасова во всей вечно застывшей маске лица.
— Может быть, вы все же сойдетесь на извинениях, господа?
— Ни в коем случае!
— Нет!
Вадим подал знак. Противники начали медленно сходиться.
Юрий поднимал уже наган: в следующее мгновение Вишневский с изумлением увидел, что маска его лица неожиданно треснула под пробежавшей судорогой. Раздался выстрел: Сережина пуля распорола сукно шинели у левого плеча Юрия. Вслед за этим Юрий резко направил дуло вверх и выстрелил куда-то к вершинам сосен, словно салютуя.
— Я требую, чтобы этот господин стрелял еще! — срывающимся от возмущения голосом закричал Сережа.
— Стреляйте снова, Некрасов, — с трудом выговаривая слова, проговорил потрясенный случившимся Вадим.
— Я отказываюсь. — Некрасов, казалось, испытывал большое облегчение и уже владел собой.
— В таком случае я вызываю Вас вторично!
— Оставим, прапорщик. — И Юрий просто и убедительно, словно готовил заранее, произнес ту единственную фразу, которая могла унять Сережин гнев: — Нас и без того слишком мало.
13
— Тихо, Серебряный, тихо! Взбесился ты, что ли? Ты мне еще поклади уши, ей-Богу, этим промеж них и получишь… Ну?.. «Je cherche la fortune Autour du chat noir… А если я тебе на копыто наступлю? Черт, грязи… Au clair de la lune A Montmartre le soir» 12…
Куривший на крыльце Вишневский поднял голову: Сережа, чистивший под открытым навесом старой конюшни своего коня, бросил скребницу и, поморщившись от боли, опустился на колено. Кровный, с мощной грудью, белый рослый жеребец недовольно переступил с ноги на ногу.
— Не раз замечал — лошади нервничают в окружении. — С момента дуэли прошло несколько часов, и Вадиму было все еще стыдно сталкиваться взглядом с Сережей, хотя тот не мог и догадываться о грызущих его мыслях: ведь не из-за него, а из-за, слава Богу, неожиданного отрезвления Юрия беды не произошло. Но это не снимало с Вадима стыда за свою слабость. И вины за нее.
— Люди тоже. — Сережа сдавил под бабкой, заставляя коня поднять копыто. — Нет, ничего, покуда не слетит… Да стой ты, чтоб тебя…
— А неплохой конь — должен быть выносливый. Стукнула перекладина затворяемого денника.
Из глубины конюшни показался Некрасов с отстегнутым путлищем в руках.
— Мне нравится масть, — проверяя другую подкову, ответил Сережа. — Я не люблю изжелта-белых лошадей, хотя на Дону у меня такой был, и тоже неплохой… Но у этого серовато-голубая грива — лучше белой в желтизну. Он был бы серым в яблоках, отсюда и отлив — действительно серебряный.
Вадим заметил уже, что Сережа разбирается в лошадях лучше, чем можно было бы ожидать от московского гимназиста, и иногда не прочь это продемонстрировать.
— Но чудовищно обидчив на повод. Если нынче в лесу нас снимут, я не завидую тому красному, который после меня на него сядет.
— Да, более дерьмового зрелища, чем красный на лошади, поискать. — Юрий стянул надетую было перчатку и оценивающе потрепал коня по холке. — Особенно хорошая буденновская конница. Однако, прапорщик, не советую Вам предаваться столь радужным предположениям: они не вполне уместны.
Замечание было справедливым, но Вадим подумал, что Юрию не следовало его произносить: как бы ненароком слова не сыграли роль поднесенной к соломе спички.
— Вы правы, — спокойно ответил Сережа. — Но, кстати, об этом, г-н штабс-капитан: шагом я ехать смогу, пожалуй, и галопом тоже.
— Пробираться на авось глупо: стоит что-нибудь узнать в деревне.
— Деревня занята.
— Неважно, население за нас в этих местах почти поголовно. Так что, прапорщик, отлежитесь часа три, так оно будет лучше. Вишневский, ты готов?
— Да, но что у тебя ремень?
— Пряжка проскакивала, я уже исправил. — Юрий быстрыми шагами поднялся на крыльцо и скрылся в избушке.
Вишневский вывел из денника свою взнузданную уже английскую гнедую кобылу и, привязав у короткой коновязи, вернулся в конюшню за седлом. Сборы не заняли и минуты.
— Ну что, поехали? — Вскочивший в седло Юрий обернулся на Сережу. — Прапорщик, если через три часа не вернемся, значит, все в порядке: выезжаете по нашим следам к краю деревни. Ясно?
— Так точно, г-н штабс-капитан! — Сережа, придерживающий незаседланного коня под уздцы, улыбнулся и с невоенной небрежностью махнул рукой.
14
Некоторое время Некрасов и Вишневский ехали шагом. До вечера было еще далеко, но февральский день становился уже бессолнечно белым. Искусственно белый в отражающем дневной свет снегу лес неожиданно напомнил Вадиму полузабытый мир учебного манежа, так же освещенного всегда сквозь стекла потолка бессолнечно яркими, словно бросающими налет инея на гнедые крупы лучами рассеянно белого света…
Манеж… Жизнь столетней давности… Бросающее рассеянно белый свет стеклянное небо… И почти такой же, как теперь, — Некрасов.
«Кого ищешь, Вишневский?» — «Некрасова». — «А он проводит вольтижировку…» Издали слышный голос Юрия:
— Не дери повод, твою мать!! — Некрасов, которому одному уже доверяют проводить в роли замены занятия с младшими, лениво пощелкивает концом берейторского бича широко расставленные в опилках сверкающие сапоги. — Собака на заборе!! О, Вишневский?
— Я тебя искал: письмо. — Вадим протянул Юрию узкий конверт с иностранной маркой.
— Спасибо. — Юрий сломал сургуч. — К пешему строю! Нога в стремя! Галоп!
Вишневский невольно морщится: упражнение из самых неприятных и едва ли не самое тяжелое.
— В седло!! — кричит Юрий, не отрывая взгляда от исписанного старомодным бисерным почерком листка. — Мама тебе передает привет… Видела в Лозанне Льва Михайловича, здоров… Ах ты, твою мать!..
Замыкающий смену знакомый Вадиму граф Потоцкий не смог вскочить на бегу и по-прежнему бежал, поставив ногу в стремя, рядом с несущейся галопом лошадью. Вторая попытка… Сейчас упадет: Вишневский видит, как мальчишка с выступившими от напряжения на лбу крупными каплями пота отчаянно хватает губами воздух… Помедлив, чтобы конец смены оказался ближе, Некрасов, не выпуская из руки письма, пробегает пару шагов и, подскочив сзади, с размаху обжигает Потоцкого звонким ударом бича. От неожиданности тот пулей взлетает в седло, но тут же, залившись гневным румянцем, оборачивается на скаку к Некрасову.
— Приношу извинения, граф, — со смехом кричит Юрий, поигрывая бичом. — Я хотел по лошадке!
Потоцкий с силой закусывает губы и посылает лошадь. Ничего другого не остается: неписаный закон категорически запрещает принимать за личную обиду любое оскорбление, наносимое в манеже и на строевой подготовке. О первом годе обучения Вадим вспоминает с таким отвращением, что далее понимание того, что и этот год является для кого-то первым, действует ему на нервы. «Dura lex sed lex» 13, — пожимает плечами Юрий.
— Знаешь, я иногда думаю: а не слишком ли dura такой lex?
— Почему же?.. — улыбнувшись каламбуру, отвечает Некрасов. — Мы не в Смольном. Дай тебе волю — у нас не останется другого занятия, кроме как всем училищем сидя в обнимку под кустами читать Кальдерона в оригинале и бальмонтовском переводе… Ох, Вишневский… — Некрасов не договаривает, но Вадим читает продолжение фразы в его прозрачном взгляде: военная карьера не для тебя. Он никогда не позволит себе высказать такое вслух. И за этим всегдашним умалчиванием Вадиму, считающемуся лучшим другом Юрия, слышится одно: делай как знаешь, меня это не касается.
— Спешиться! Нога в стремя! Галоп! Что там… О, там же Софья Владимировна: врачи надеются на климат… И записка от ее маленькой Лены: интересуется, ест ли моя лошадь яблоки. Кстати, о лошади: сейчас смена откатает, останься, если хочешь, — мне таки удалось добиться от Монгола безупречной левады. В седло! Что там за конная статуя воздвиглась?
Тогдашний Юрий — моложе теперешнего Сережи. Но давно уже тот, что сейчас. Плоть от плоти армии — как рыба в воде чувствующий себя в атмосфере безжалостных насмешек и жесткой муштры… У Юрия никогда не выступали на глазах слезы бессильного бешенства, никогда не дрожали от обиды губы. Он способен был десятки раз переделывать все, что вызывало нарекания, это было единственной его реакцией на насмешки и брань. «А я жалею, что телесные наказания уже не в ходу». — «Это говоришь ты? Я скорее застрелился бы, чем допустил такое унижение!» — «Мне тебя жаль, если тебя это унижает. Меня — нет. Сегодня он, видите ли, не позволит из благородной гордости себя посечь, а завтра в благородном гневе съездит солдатику по морде… Дерьмо! Я не о тебе, Вишневский. У тебя это еще из немецких романтиков».
Новичком Юрий словно не был никогда, как-то очень спокойно перейдя из юнкерской роли в роль офицера. Родился кадровым офицером, а в училище только шлифовал свое офицерство, как ювелир шлифует алмаз, словно знал каким-то внутренним чутьем то, чего по дикой этой нелепости никто и представить тогда не мог: что настанет день, когда только от офицерства будет зависеть спасение России…
Будет ли нам прощение, если не спасем?
Вишневский невольно взглянул на едущего с ним вровень Некрасова, и по спокойному его лицу не догадался о том, что мысли Юрия тоже бродили в Петербурге.
— Меня уже тошнит от мистики. Пожалуй, основная ее роль — приукрашивание глупейших и нелепейших поступков. Если мне не изменяет память, вся эта дурацкая история началась со спиритического сеанса?
— Нет, это был не спиритический сеанс.
— Бога ради — уволь: обсуждай эти тонкости с выжившей из ума компаньонкой моей бабушки, которая шагу не может ступить без потусторонних голосов, или со своим прелестным принцем, словом, с кем-нибудь более для этого подходящим.
— Так стараться унизить можно, только если наверное знаешь, что над тобой поднялись. Впрочем, ты прекрасно знаешь, что Женя тебя выше.
— А я и не подозревал, что мне это известно.
— Ты сам не знаешь, какую правду сейчас сказал, думая, что иронизируешь. Знаешь, какой ты, Юрий, знаешь, какой ты на самом деле? Ты — застывший, такой застывший, что почти неживой. Ты безупречно правилен. Нет, не думай — я знаю и о твоем легендарном пьянстве в училище, и о многом еще — но даже твои пороки как-то взвешены, они возможны настолько, насколько это тебе кажется соответствующим твоей роли, той роли, которую ты играешь так хорошо, что она почти без остатку съела актера… Ты никогда не сделаешь ничего, чего бы от тебя не ждали по твоей роли все вокруг. Ведь это только кажется, что ты никого не замечаешь, а ты только и делаешь, что отдаешь всего себя игре на публику! На публику, которая тебе совершенно безразлична! Это страшное актерство, Юрий!
— Да, не сделаю, притом — сознательно: мы живем в обществе, и безусловный долг каждого — соответствовать взятой на себя роли. Такие, как твой обворожительный рыцарь, рубят сук, на котором сидят — пусть бы их падали с треском, но, к сожалению, они сидят на нем не всегда в одиночку…
— Пусть так — но лучше гибнуть, как он, чем отказывать себе в существовании, как ты. Роль съедает тебя — ради публики, никому из которой ты не дашь ничего, потому что все съедено, потому что тебе нечего давать… Помнишь наш разговор, когда ты приехал с фронта на дачу? «Там страшно?» — «Разумеется, Лена, на войне всегда страшно». Это же маска твоя, роль твоя мне отвечала, а не ты! Я не знаю, какой был под этим ты, и был ли… Ты ненавидишь его не из-за меня, иначе бы ты не ненавидел, а презирал. Презирают слабого врага, а ненавидят — сильного. Этого твоя гордыня не может ему простить. Он — первый, с кем захотела говорить твоя живая душа, ты хочешь от него ненависти, ты ненавидишь его за то, что он не ненавидит тебя, а просто не замечает в детском своем эгоизме… На нем первом, не на мне, ты ожил. Ты не можешь простить ему, что твоя живая душа к нему потянулась — это неважно, что в ненависти — а он не ответил тебе.
— Ты договорилась до абсурда: у тебя вышло, что я чуть ли не романтическую любовь питаю к герою твоего сомнительного романа.
— Бывает ненависть… подозрительно похожая на любовь.
— Чушь. К тому же я отнюдь не ненавижу Женю — все это глупости. Просто хорошо тебе известные прискорбные обстоятельства не дают мне забыть о его существовании, как я сделал бы в любом другом случае.
— До тебя не достучаться, Юрий. У меня никогда не получалось с тобой пробиться к чему-то живому. А Жене это удалось, притом — мимоходом. Я люблю его не за его слабость, которую ты так хорошо видишь, а за ту силу, которой в тебе нет».
Неужели в этих ребяческих словах была какая-то правда? Никогда не может вся вина лежать на ком-то одном… Неужели не во всем был виноват один Женька, так неожиданно выскользнувший из небытия в интонациях и жестах этого штабного мальчишки?
15
Прошло около получаса. Сережа, вернувшийся в избушку вскоре после того, как уехали Вишневский и Некрасов, некоторое время неподвижно пролежал, закинув руки за голову, на нарах, глядя в низкий бревенчатый потолок. Ему не хотелось признаваться себе в том, что отсутствие Юрия обрадовало его, на некоторое время избавив от необходимости продолжать начатую игру: последствия ранения ощущались значительно сильнее, чем ему хотелось показать. Сережа не мог позволить себе расслабиться при Некрасове, поскольку это поставило бы того в ложное положение, ведь именно из-за этого ранения Некрасов отказывался стреляться, но был на то спровоцирован.
«Я знал, что не попаду, иначе я не смог бы стрелять».
Перед дуэлью в нагане оставался последний патрон. Теперь барабан был пуст. Сережа наполнил магазин и, ласково качнув револьвер в руке, положил его на нары.
Сна все равно не будет, как почти не было ночью. Бессонница от усталости… Казалось бы, должно быть наоборот. Нет ничего более изматывающего, чем бессонница, приходящая после боя или в спертом воздухе лазаретов.
«А здорово знобит», — Сережа набросил на плечи полушубок и, тяжело поднявшись, подошел к печке.
Чугунная маленькая дверка тяжело скрипнула на ржавых петлях, и в лицо полыхнуло красным жаром еще горячих углей. Опустившись на пол перед печкой, Сережа выбрал из сваленных рядом дров тонкое сухое поленце и положил его на угли. Сначала показалось, что огонь не разгорится, но через минуту тонкие язычки прозрачно алого цвета, пробившись снизу, задрожали по краям полена и побежали кверху. Держа в руке полено потолще, Сережа смотрел в разгорающееся пламя, ожидая, когда можно будет запихнуть его вслед за первым.
«Как в Жениных стихах об огне, где огонь — тела танцующих саламандр… Как же там…
Опустимся к огню, любовь моя! В ночи над домом ветер гнет деревья, О в эту ночь тебе открою я Разгадку зачарованности древней! Багряным жаром угли налиты…Нет, что-то еще до этого…
Как тысячи ушедших в ночь до нас, Склонимся мы в таинственном влеченье Ловить в огне незримые для глаз Пленительные огненные тени. Багряным жаром угли налиты, Шепнем слова людьми забытой мантры. Забудь метафор «алые цветы»: В углях встают и пляшут саламандры. Как близко он — летящий мир огня! Но дух гнетет сознание разлуки: Живого здесь не примет он меня, Не причинив жестокой смертной муки. Ложится прахом нежная зола, В слезах смолы поленья умирают, А саламандр сплетенные тела В волшебном танце вьются и играют.То же — к Елене Ронстон. Елена — факел, свет… Свет Жениных ночных стихов? А ведь не было ничего обидного для Елены в этих словах Некрасова… Была ненависть… Ненависть… к Жене. И что-то еще, я не знаю почему, но я должен был его вызвать, не мог я… просто так, я уже достаточно убийца, чтобы понимать, как преступно и гадко с этим шутить, нет, было что-то скрытое, что не оставляло мне другого выхода, кроме как, зная, что не попаду, встать к барьеру. Почему я должен был встать под его выстрел? Но может быть, прямо спросить Некрасова о том, что было между ним и Женей?.. А, легок на помине!»
Пальцы Сережиной руки непроизвольным движением впились в упругий белый мех.
— Руки вверх, сволочь!
Полушубок соскользнул на пол: Сережа с быстротой взвившейся пружины вскочил на ноги и, размахнувшись, швырнул оказавшимся в руке поленом в возникшего на пороге человека с поднятым маузером — прежде чем успел увидеть красную полоску поперек папахи, комиссарскую кожанку, выглядывающую из-под наброшенной на узкие плечи бурки, молодое лицо с горбинкой носа, искривленные ухмылкой губы — и еще двоих за спиной первого.
«… Наган!!»
Слишком маленькое, даже если успеть выбить стекло, окошко… Загороженная дверь… Десятая доля секунды потребовалась на то, чтобы осознать суть захлопнувшейся западни: военная реальность мстила за то, что была забыта…
— Живьем, штабной!!
« — Ваше Высокопревосходительство!..
— Как, Вы еще не уехали, Сережа?
— Я подумал, Николай Николаевич, может быть, я и второй пакет захвачу сразу — какой смысл возвращаться?»
Твою мать!!
Дверь, в которой появились красные, находилась между печкой и нарами, на которых был оставлен револьвер: Сережа метнулся к нарам, но был остановлен бросившимся ему наперерез рослым красноармейцем, который был тут же отброшен отчаянным Сережиным усилием и, с грохотом опрокинув скамейку, растянулся на полу… Наступив на красноармейца, Сережа потянулся уже со следующего шага схватить наган, но на его руках, заламывая их за спину, повисли подскочивший комиссар и второй красноармеец… Сережа вывернулся…
— Ах ты, падла!! — Вскочивший красноармеец бросился на Сережу. Двое других снова накинулись сзади: в следующее мгновение Сережа очутился на полу, но, не ощущая боли ударов, продолжал сопротивляться с отчаянным бешенством, пытаясь протащить на себе страшноватую «кучу малу» к лежащему на нарах нагану. Это почти удалось, но выскочивший из драки комиссар, примерившись, несколько раз ударил его по голове рукояткой маузера.
Москва, которую больше не суждено увидеть…
Какой встает она, когда между нею и тобой пролегли столетия военной преисподней?
Зимней многоликой сказкой твоего детства? Множеством и взаимопроникаемостью окружающих твои первые шаги миров?
Первый — замкнутый мир комнаты с темно-голубыми плитками печки, которая топится только тогда, когда не справляется калорифер… Разбросанные на медвежьей, с доброй мордой и стеклянными глазами шкуре — она живая — причудливо выпиленные деревянные кусочки мозаики… Если сложить их правильно, получается картинка: вещий Олег разговаривает с волхвом. За Олегом — дружина в шлемах и кольчугах, с красными щитами. Волхв опирается на посох и показывает рукой на белого коня, на котором сидит Олег.
А в двух шагах от теплой замкнутости этого мира — вход в другой: в ослепительно искрящийся алмазный лес, в котором цветы выше деревьев…
Нагретый на калорифере большой медный пятак… Вывеска булочной за кустами утонувшего в снегу сквера, через который бежит рыжая собака… Ты смотришь на это, забравшись на стул к подоконнику высокого окна, проникнув через холодное сверканье алмазного леса…
Полутемные, с прилавком по твой подбородок лавки, таящие в себе странствия по стеклянным пейзажам тяжелых шаров и глянцевитым страницам книг…
Москва… «Город чудный, город древний…» — помеченная кляксой страница хрестоматии…
Или более поздние, но такие же дорогие и таящие в себе такое же постоянное ожидание чуда картины… Заснеженный снаружи манеж, пар от дыхания лошадей, бегающих по кругу под щелканье бича… Звонкий ледок, сковавший дорожки Александровского сада… Музыка на катке… Звон разрезающих лед коньков… Кресла на полозьях… Смех…
И кажущиеся тебе такими волшебными все встречающиеся на катке и в Александровском саду зимние девочки. Их звонкие голоса, их раскачивающиеся от быстрого лета полозьев локоны — из-под меховых капоров, их сияющие глаза и румяные щеки, пушистые муфты, клетчатая шотландка или темное сукно подолов, в тяжелых складках которых мелькают шнурованные до колен ботинки… И ты радостно знаешь, что они — не человеческие существа, а живое и многоликое воплощение зимней сказки…
Москва… Всегдашнее ожидание чуда… Пасха… Весеннее солнце на золоте бесконечных куполов… Канун Пасхи… Камни еще так недавно появившейся из-под снега мостовой…
Тепло пахнущий пряностями и сдобой кулич — ты несешь его в руке поставленным в тарелку в белоснежном твердом узле накрахмаленной салфетки…
Весенне распахнутое голубое небо, старые разросшиеся ветлы на церковном дворе. Под ними длинный — через весь двор — стол, на котором, как снежные цветы, неожиданно раскрываются белые хрустящие узлы, а из них появляются большие и маленькие, разноцветно глазированные, обложенные яркими рисунками и цветной фольгой яиц куличи, холодные пирамидки пасхи…
Еще немного — и над куличами загораются огоньки тоненьких красных свечек… Ты держишь в ладонях жизнь этого маленького огня, защищая его от весеннего ветерка… Вот уже становится во главе стола молодой черноволосый священник… И ты ждешь, что вот уже сейчас упадут благоухающие брызги освященной воды и наполнят радостно волшебным содержанием то, что только что было сдобным хлебом, глазурью и коринкой.
Весь день — с утра — по улицам и переулочкам Москвы плывут белоснежные узлы с куличами.
А вечером по всей квартире беготня, хлопанье дверей, телефонные звонки, доглаживание чего-то утюгом — а в празднично сверкающей столовой уже накрыто для разговенья, и у тебя при виде всего этого скоромного великолепия сжимает нервным спазмом горло: во владеющем тобой возбуждении ты не можешь есть со вчерашнего еще вечера. Идут все — вместе с родственниками и друзьями семьи — в храм Христа Спасителя, идет даже Женя, слишком демонстративно для того, чтобы это было правдоподобным, подчеркивающий, что всего-навсего намерен соблюсти в угоду родителям общепринятые условности…
Идут все — но ты идешь не со всеми.
Ты идешь один — в маленькую светло-желтую Обыденку, церковь Ильи Пророка.
Выжидательное стояние в полутемной еще церкви перед началом службы… Кто-то сзади негромко разговаривает о том, что живопись все-таки не способна передать эту простодушную яркость золота православного иконостаса… Начало службы… Час… другой… Томительная дурнота от напряжения и голода… Холодеющий в сердце нелепый сумасшедший испуг: а вдруг — нет, вдруг не прозвучат в полночь те единственные слова, способные в мановение ока наполнить церковь ликованием и ослепительным светом?! Бешеный стук сердца, отчаянно мчащегося в груди навстречу этим словам… И последний — как будто оно сейчас вылетит наружу — тяжелый и огромный его удар — и губы сами выдыхают гремящие уже под озаряющимися сводами два единственно заветных слова… «Христос Воскресе!» И твой голос сливается с десятками других голосов, и уже нет сердцебиения, ни сердца, ни тела, ни тебя самого, а есть только невыносимое своей полнотой, мучительно пронзающее твое существо счастье…
Как будто сама по себе вспыхивает в твоей руке тоненькая красная свечка… Когда горит очень много свечек, воздух напоминает живой струящийся хрусталь… Горячий хрусталь…
Капли расплавленного воска стекают по твоим пальцам — кто-то с улыбкой подает тебе картонный кружок, ты берешь, благодаря ответной улыбкой, но незаметно прячешь в карман… Догорающую свечку ты держишь так, что она сгорает дотла в твоих пальцах, обжигая их: этих ожогов не будет.
Ты пойдешь туда один. Ты сам не можешь себе объяснить, почему ты не можешь разделить все это с теми, кто бесконечно близок и дорог тебе, но тебе легче не пойти совсем, чем сделать это… Ты любишь всех незнакомых в церкви. Почему же тогда?.. Может быть, потому, что сейчас тебе помешали бы привязанности твоей жизни, потому, что они должны сейчас отступить перед той могучей и великой связью, которая соединяет чужих…
Ты не можешь поделиться этим с близкими, так же как и тем, что после службы ты будешь до самого рассвета бродить по темной Москве — и вся она будет твоей, твоей от Кремлевских орлов до булыжника под ногами. Ею ты тоже не сможешь делиться ни с кем, потому что из двух признаний в любви только лермонтовское с первых шагов и до последнего вздоха будет твоим. Где это понять холодным петербуржцам, с въевшейся в рассудок и в кровь ледяной геометрией их нерусского города!
Ах эти давние споры о Москве! Голос Вадика: «Геометрия? Извольте, господа, сколько угодно! В нашей геометрии есть четкость и уж во всяком случае единый стиль — она несравненно лучше эклектики этой азиатской вакханалии, в коей вам угодно видеть нечто глубоко русское. Взгляните на Новгородскую Софию! — не к нашей ли „геометрии“ она ближе по духу, чем к вашему пряничному St. Basil14? А входящий в силу модерн окончательно превратит Москву в нечто несусветное. Многоэтажный модерн, вздымающийся над ее азиатским хаосом… бр!» Голос Жени: «О нет! Напротив того, в модерне — будущее Москвы, она зарастет им как дивными экзотическими цветами. Тенишевский круг — Врубель, Васнецов, Рерих — да все они вливают в модерн национальное содержание. Это — новая гармония!» — «Стилизация? Да еще на древнюю основу?» — «Дело не в стилизации и даже не в модерне, а в том, что еще не выросло на его основе… Это грядущее только чуть проглядывает из модерна, это еще не расцвело… Взять работы Шехтеля — это уже не только модерн… Москва — роскошный восточный цветок, она распускается сама по себе, делая неповторимыми сочетания и пропорции, немыслимые ни для кого другого!»
Споры… Москва… Восточная царица… Семь холмов под красной короной… Воспоминания ткут твой образ, затейливо переплетая великое с бесконечно малым, и это переплетение делает тебя особенно драгоценной.
Москва… Восточная царица в кремлевской короне… Плывущий отовсюду золотой перезвон… Автомобильные гудки, копыта по мостовой… Мюр и Мерилиз… Страстной монастырь… Драконы над чайным китайским магазином.
КНИГА ВТОРАЯ БОРЬБА НЕЗРИМАЯ апрель-декабрь 1919 года, Петроград
Vexilla Regis prodeunt inferni15
Dante1
Зампред ВЧК Яков Петерс, невысокий, полный, светловолосый человек с близко посаженными глазами на пухлом лице, в кругу своих чаще называемый Яном, досадливо поморщился. Водворив желтую папку с пометкой «Оружейный завод» на одну из тесно громоздящихся на столе стопок, он пододвинул к себе новую высокую стопку с грифом «НЦ».
Верхней в стопке лежала новенькая папка, взглянув на которую зампред поморщился вторично: черт бы побрал этого золотопогонного сопляка!
В гараж бы, и вся недолга… Третья бессонная ночь здорово дает себя знать. Хочется уронить голову на руки и заснуть. В гараж… Нельзя. Офицерик из штаба самого Юденича16. Нельзя…
В безлюдном, пустом на вид Петрограде идет, продолжает идти жизнь. И где-то в недрах этой жизни — склады оружия, которое в любой момент может подняться открыто, сеть конспиративных квартир, регулярное сообщение через линию фронта, центры саботажа — незримая деятельность подпольных организаций, самая опасная из которых — монархическая офицерская организация, численность которой, по имеющимся сведениям, активно пополняется сейчас кадрами с фронта. Эта переброска говорит об одном — ведется подготовка к моменту, когда армия Юденича вместе с Северным корпусом подступит, а она подступит-таки вплотную к Петрограду…
Распутывать, распутывать каждый клубок, каждую ниточку, которая тянется к Юденичу…
Да, лихо это он загнул на вчерашнем собрании. «Распутывать каждую ниточку»… Это особенно здорово прозвучало, ребята даже хлопали. А вот она, на столе, ниточка, поди ее распутай! А не распутаешь — себе дороже. Сучий лях не забыл, как пришлось на полгодочка подвинуться с места. Памятлив, гад, ох и памятлив… И еще неизвестно, кто из своих работает на него, копит Петерсовы промашечки-ошибочки.
Петерс раскрыл папку. Взгляд скользнул по знакомым до оскомины строчкам. Не представляющие интереса личные бумаги. Документы, удостоверяющие личность посыльного в ставке главнокомандующего Северо-западной… Непромокаемый пакет с цифровой шифровкой — объем в десять ремингтонированных листов… Пометка на конверте — «Петроград, лично полковнику Л.»… И что делает особо острой необходимость вытянуть ключ — так это то, что такие штучки не ползают через границу в одном-единственном экземпляре… Расшифровать не удалось — ребята мудрили и так и эдак… Цифры не дублируют друг друга ни разу.
Уже несколько допросов его, Петерса, водит этот дерьмовый щенок. А ведь сперва показалось, что расколоть будет легче легкого, с такой спокойной простотой мальчишка отвечал на все вопросы. Да, документы верны. Да, штаб Северо-западной. Знаком ли с главнокомандующим? Разумеется, да. Как близко? Лично состоит в распоряжении Его Высокопревосходительства.
Может быть, парень не так прост? Хотел набить себе цену? Но какого ж рожна ему было надо, если как раз тут-то он и перестал отвечать?!
Если тут можно сказать — перестал. Были ему даны распоряжения насчет шифровки? Да, были. Какие распоряжения? Сопроводительные к шифровке. В чем заключались? В непосредственных инструкциях. Каких инструкциях? По выполнению задания.
Мать его за ногу… Что особенно бесит — ни капли гонора не было в этом издевательстве. Было безразличие. Вежливое и почти… доброжелательное.
Стоп, стоп! Да вот она — зацепочка! Нету у него ключа, попросту нету! Врет! Потому врет, что в гараж неохота, ясное дело… Смекнул небось, что только ему и жить, покуда думаем, что из него что-то можно выжать… И, пока допросы, поймал единственный шанс — не зря и карты открывает — знаком, мол, лично состою… Что ж — тут можно одну идейку обмозговать.
Петерс запустил в волосы короткие пальцы. Ладно, по ходу будет видно. Что они так копаются, черт возьми, на сегодняшний день еще двенадцать допросов только по делу НЦ и три по забастовке инженеров!
— Алло? Петерс. Вы что там — у тещи на блинах?! Мне следующий на допрос будет или нет?
2
Первый, второй пролет лестницы… Еще одна площадка… Голова немного кружится, впрочем, это неважно.
«Каким все это рисовалось в воображении? Допрос в виде поединка. Превосходство жертвы над палачом. Господи, как глупо! Нравственного превосходства этот человек видит в тебе столько же, сколько в бутылке, когда куда-то пропал штопор… Поединка нет. Но нет даже и зрителя, потому что играть роль благородного героя перед этим существом — слишком явное метание бисера… Ах ты черт!»
Справляясь с головокружением, Сережа прислонился к стене.
— Руки назад!! — Конвоир, молодой парень с проступившим в лице выражением легкого испуга, с поспешной лихостью клацнул затвором.
Сережа, скользнув по красноармейцу безразлично-мертвым взглядом, помедлил, собираясь с силами. Нашел чем пугать, безмозглый дурак. Других проводили утром по коридору, а я это видел. Я видел, как по коридору проводили других.
О чем я думал? Ах да… О поединке… Но плевать на поединок, не в этом дело, даже не в этом. Но ведь вообще никто не узнает о том, корчил ты тут древнего римлянина или вылизывал дурно пошитые сапоги работников Чрезвычайки… Можно не сомневаться в том, что в любом случае вся отчетность успеет сгинуть в этих достаточно малоромантичных стенах… Так что на внесение в анналы отечественной истории рассчитывать не приходится. Зрителей нет. Впрочем… Честь имею представиться, г-н прапорщик! Вот и мы докопались с Вами до самого дна… Вот оно — дно. Это то, что нельзя отнять. Не мало ли этого зрителя? Если мало, то играть больше — некого. А за этим — конец, более страшный, чем смерть.
3
— Ну что, не надумал разговориться?
Голос и вид человека за столом не сразу, словно откуда-то издалека проникли в сознание Сережи: к горлу подступил комок тошноты. Словно сама болезнь, бродившая по телу кругами — от дырявого легкого до неподживающей ноги, болезнь, обволакивающая мозг липкой паутиной лихорадки, тошнотворно и мучительно перехватила дыхание. Болезнь и грязь, второе делает первое еще более гадким. Но ведь это — почти отдых, когда так дурно, это дает единственную возможность не думать о том, о чем думать невыносимо.
— Да не тяни ты резину, парень. — Усталое добродушие проступило в голосе следователя. — Думал бы ты головой, в конце концов… Хоть бы родных пожалел. Или ты их меньше паршивой бумажонки ставишь, в которой, кроме туфты, может, и нет ни хрена? Может думаешь, своей молчанкой Юденичу Петроград презентуешь? Поналезло ж вас, кутят слепых, в эту кашу… Если хочешь знать, может, я и зря тут с тобой валандаюсь. Очень даже часто в нашей работе — распутаешь дело, а в итоге пшик. Это я не потому говорю, что за столом за этим сижу, а попросту жалко тебя, дурака. Так что кончай мне ваньку валять.
Можно не думать о том, что ты дал себя взять с важными документами на руках, можно не думать о том, что много страшнее мыслей о собственном бесчестии — о том, что не только военных проводят в четыре утра по коридору… Можно только смутно бредить горячей ванной, бритвой, мятной пеной дорогого мыльного порошка… Нет, сейчас нельзя погружаться в эту спасительную дурноту… Надо прийти в себя. Прапорщик, вы забыли о своей роли.
Хорошая штука — роль… Просто придерживаешься принципов — это как-то для меня слишком сложно… Уж очень трудно зримо представить себе этот самый принцип, чтобы за него можно было подержаться руками, когда начнешь тонуть… Некрасов бы, пожалуй, смог. А мне много легче попросту разыгрывать Альба Лонгу в пяти картинах… Роль ведет сама. Дрянь же Вы, прапорщик. Ладно, passons17, со своей дрянностью разбирайтесь сами… Где же Ваше фамильное легкомыслие? Играйте на нем, пусть Вам так и кажется дальше, что все, что относится лично к Вам, это игрушечки, что в любую минуту Вы кончите спектакль и пойдете пить чай. И поменьше внимания на статистов.
— Ты, может, курить хочешь? — Надорванная пачка дореволюционных папирос «Ира». — Не стесняйся…
Нервный спазм сжимает горло… Одну затяжку…
— Спасибо, не хочу.
— Слушай, ты, падло!.. — Качнувшаяся от неожиданного удара в челюсть голова на мгновение падает на грудь. Надо заставить себя поднять ее и встретить взглядом следующий удар. — Я ж тебе, щенку сопливому, глаз вытащу!
— Будьте любезны объясняться со мной по-русски. А попал, кажется, точнее, чем целился: в лице латыша на мгновение проступила непритворная неприязнь… Кого только нет среди чекистов. Интернационал в действии? Или — некая особая нация, языком которой служит этот пакостный жаргон? Как-то незаметно стал понятен этот их язык. «Вытащить глаз»… «Рогатка» — два пальца, наведенные на переносицу.
— А если я тебя завтра в гараж отправлю? — Петерс, легко отбросивший напускную ярость, снова делается флегматично-спокойным.
— Можете хоть сейчас отправлять.
— Успеется, не торопись. — Петерс почти приветливо взглянул на Сережу. — Больно красивым ты, голуба душа, в гроб захотел. Я погляжу — вроде и зубы целы. А не удивляешься почему? Небось понял, ребята у меня умелые. Горячие вот иногда. Кстати, кто это по пальчикам сапогами прогулялся? Ну да неважно. А дело, парень, вот в чем. Я ребятам приказывал тебе покудова портрета не портить. Я ведь твою молчанку давно раскусил. Ни хрена ты не знаешь, парень. А вот чтоб цену себе набить, это ты толково смекнул. Я толковых люблю. Скажи-ка вот чего: Николай-то Николаич не хуже папаши родного обрадуется, ежели адъютантик его, почитай, из мертвых воскреснет?
— Я Вас не понял.
— Да побег сварганим. Понятно, кой-чего подпишешь сперва. Ты чего уставился как французский лорд? Уж хватит в благородство играть, думаешь, долго уламывать тебя буду? Идет фарт, так не зевай! Обмозгуй все это до завтра, а нет — в гараж. Только, извини, не сразу. Все! Увести!
4
На широком подоконнике, мимо которого по коридору ведут Сережу, сидят две девушки — короткие стрижки, сапоги, кожанки, короткие юбки, едва достающие до сапог. Одна — голубоглазая, соломенные волосы подстрижены так коротко, что вызывают в памяти характерную прическу первоклашки, подстриженного перед сентябрем «под нуль», — вообще походит на мальчика. У второй — черные блестящие волосы, вьющиеся мелкими колечками, — еврейка. Девушки пьют морковный чай, подливая его из закоптелого чайника, стоящего на подоконнике между ними, и с молодым, веселым аппетитом жуют черный хлеб, негромко обсуждая что-то между собой…
Поравнявшись с ними (светловолосая девушка скользит по нему невидяще-спокойным взглядом, так смотрят на неожиданно скрипнувшую на сквозняке дверь — просто на мгновение поднимают голову, даже не отдав себе в этом отчета), Сережа слышит обрывок разговора…
— Вот я, Надька, и не знаю даже…
— А чего тут не знать? В личной жизни надо решительно — да так да, нет так нет, а антимоний разводить некогда! Мы в конце концов коммунистки, а не какие-нибудь буржуйские барышни…
Дверь в конце коридора, навстречу которой идет сопровождаемый двумя конвоирами Сережа, широко распахивается.
— Привет, девчонки! — громко и весело кричит через коридор показавшийся из нее молодой человек в неизменной, невыносимой кожанке. — Горяченьким поделитесь?
— Тащи стакан! — так же весело кричит уже за спиной Сережи прокуренный девичий голос.
— Момент! — Молодой человек снова скрывается в двери.
…Под ногами коробятся грязные серые паркетины.
5
Сапоги разъезжались в глинистой рыжей грязи. Шедший впереди Юрия рыжий проводник-финн неожиданно остановился.
— Что там?
— Нет, ничего. Послышалось… — Финн поправил лямку на плече и с привычной ловкостью начал быстро подниматься по поросшему молодняком склону овражка.
Выйдя к широкому, поваленному с корнями стволу березы, они остановились передохнуть. Юрий вытащил фляжку с коньяком и, сделав два приятно согревающих тело глотка, молча протянул ее финну. Закусив коньяк горьким и, как сургуч, твердым от холода шоколадом, они закурили.
В весенне-мокром лесу уже неуловимо начинало темнеть.
Следя за растворяющимися во влажном воздухе струйками дыма, Юрий мучительно боролся с желанием выпить еще, осушить фляжку до дна, а потом, словно вымещая бессильную злость, с силой зашвырнуть ее в кусты…
«Хватит, в конце концов. Надо взять себя в руки… Ну какое мне, собственно, дело до смерти мальчишки, которого я сам едва не убил? Нельзя было его оставлять… Да что я, нянька ему, что ли, твою мать! Он офицер, взрослый человек — прошел не одну кампанию… и каким-то непостижимым образом умудрился не повзрослеть».
Перед глазами Юрия в который раз всплыла пустая, с остывающей печкой сторожка, где все безмолвно рассказывало об отчаянной и неравной недавней борьбе… Утоптанный снег у крыльца… Настежь распахнутая дверь… «Сережа!» Ни звука в ответ. Разводы растаявшего снега на полу, опрокинутая мебель, разваленные дрова, треснувшее оконное стекло… И — неизвестно откуда — вспыхнувшая в голове безжалостная разгадка мучившего весь день вопроса… «Так вот почему он так старался подставить себя под мой револьвер!.. Он же заплатил долг. Заплатил долг за Женьку… Сам того не зная — заплатил. Отныне Женичка Ржевский мне более ничего не должен».
Хватит! Сколько можно в конце концов предаваться этому идиотскому самокопанию?! Баба!
Но, обманывая себя искусственно вызываемой злостью, Некрасов не обольщался на свой счет: он понимал, что все-таки обманывает себя, но запрещал себе признаваться в этом… Как и в том, что Сережа, сам того не ведая, перевернул в нем все… Прошлое стало наконец прошлым — боль утихла, а ненависть — потухла… И на душе стало пусто, как в доме, из которого вынесли мебель.
«Но если бы он снова остался жив, я снова возненавидел бы его. И все-таки я очень многое отдал бы, чтобы он остался жив. Ладно, в сторону!»
— Долго еще? — нехотя поднимаясь, спросил он.
— Почти пришли. Через фронт в этот раз удачно проскочили.
6
Во дворе одноэтажного, типичного для питерского пригорода дома залаяла натянувшая цепь собака.
— Кто?
— С приветом из Ревеля, — ответил Некрасов.
— Проходите… — Нешироко открылся черный провал передней.
— Здравствуйте, Ян. — Зазвенели запоры. Задвинув последнюю защелку, молодой, судя по голосу, человек повернул к Некрасову белое в темноте лицо. — Подпоручик Чернецкой!
— Штабс-капитан Некрасов!
Рядом с холодной облицованной белой плиткой печью стояла жарко топившаяся «буржуйка». Керосиновая лампа на покрытом клеенкой столе освещала небольшую комнату с плотно зашторенными окнами.
Теперь Некрасов смог разглядеть Чернецкого, опустившегося на пол перед сваленными у печки дровами: подпоручик казался на вид несколько молод для своего звания. Он был довольно бледен, черноволос, с темно-карими, казавшимися почти черными глазами под тонкой ломаной линией бровей… Чернецкой, так же как Юрий, был одет в ватную черную телогрейку, но эта безобразная одежда только подчеркивала юную привлекательность его холодного, чуть девичьего лица.
— Документы для Вас уже готовы, настоящие, от «Софьи Васильевны», — недобро улыбнулся подпоручик. — Все при смерти, да никак не скончается, бедная женщина. Вот, полюбуйтесь, на имя Ивана Васильевича Сидорова, невоеннообязанного.
…«Софья Васильевна» было бытовавшим в среде офицеров ироническим обозначением Советской власти.
— Неплохо, что настоящие… — Юрий, скинув телогрейку, тяжело упал на кожаный, с зеркальцем в высокой спинке диван.
— Что Вы, г-н штабс-капитан. — Чернецкой поставил на печку большой чайник. — Теперь только эдак. Все документы выдаются Советской властью совершенно легальным образом; о чем, кстати сказать, на общих с эсерами и тому подобных квартиpax мы предпочитаем деликатно умалчивать. Им предоставляется полагать, что мы также пользуемся, гм… услугами уголовного мира. Это, как выражаются союзники, специфическое «хобби» наших людей — подрабатывать на жизнь в советских учреждениях, желательно — военного и оборонного характера. — Чернецкой негромко рассмеялся. — Есть неплохой «Мокко», или все-таки чай?
— Если можно — кофе. Я все равно засну как убитый.
— Немудрено после такой прогулки. Вы, конечно, тоже кофе, Ян?
Некрасов поднял небольшую книжечку, валявшуюся раскрытой на диване, с которого Чернецкой за минуту перед этим поспешно поднял и спрятал в карман какой-то непонятный по своему назначению предмет — что-то вроде странного вида длинной перчатки из черного шелка… Книжечка оказалась антологией английской поэзии.
— «If You can keep Your head When all about You Are loosing theirs» 18 … Коротаете время?
— С тоски, чтобы хоть язык не забыть: и без того чувствуешь, что дичаешь. — Чернецкой нервно чиркнул спичкой, зажигая папиросу. — Причем здесь — как-то больше, чем на фронте. И вообще очень хочется на фронт.
— Лучше, пожалуй, в скором времени перенести фронт сюда.
— Вы правы. Итак, г-н штабс-капитан, завтра утром, когда Ян пойдет обратно, мы с Вами отправляемся в штаб.
7
Привыкший уже к изменившемуся, обезображенному лику столицы, Вишневский торопливо шел по Невскому.
На прошлой неделе прибыл благополучно перебравшийся через границу Юрий, назначенный штабом Центра руководителем новой оперативной группы. Новые звенья интенсивно подсоединяются сейчас к общей цепи. Перед каждой группой ставятся особые задачи, группы комплектуются из испытанного офицерского состава. И все это — очень правильно: здесь, во вражеском тылу, каждый отдельный офицер значит гораздо больше, чем на линии фронта.
Некрасов объявил вчера, что их группа ответственна за подготовку взрывов и сами взрывы петроградских мостов. Об этом пришла через фронт особая шифровка. Собственно, «пришла» — сказано не совсем исчерпывающе… Пришла, но не по назначению, а прямиком в Чрезвычайку. Там и сейчас лежит ее нерасшифрованный оригинал, побывавший уже в руках своего человека. Что гораздо печальнее несколько заковыристого пути шифровки — извлечь из стен Чеки ее текст значительно легче, чем того, кто ее доставлял. Мысли об этом неизвестном, кажется, довольно молодом офицере, который продолжает молчать там, в Чрезвычайке, не оставляют сейчас всех, хотя нечасто высказываются вслух. Он даже не должен знать о том, что уже работает прочитанная в штабе шифровка. А она работает. Именно она торопит сейчас Вадима по грязному, замусоренному Невскому.
Да, второй дом по нечетной стороне переулка… Небольшой двухэтажный дом, похожий на особняк: вход во двор — не через арку, а через белые когда-то столбы. Во дворе, очень небольшом — несколько старых дуплистых деревьев, летом затеняющих окна. Скамейки, последний снег на широких каменных вазах, когда-то бывших клумбами — теперь в них, скорее всего, сажают разрезанный на четвертинки картофель… Всего один парадный подъезд — очевидно, в доме не более четырех квартир, по две на этаж. Хороший, спокойный дом, и не на улицу, а в переулок — такой дом как раз подходит для человека, занятого напряженной умственной работой.
Дверь подъезда открылась. По широким ступеням крыльца начала спускаться девочка лет девяти-десяти.
Она прошла мимо Вадима, не замечая его, но сама невольно привлекла его внимание. Это был какой-то очень дореволюционный ребенок: белая цигейковая шубка и шапочка с помпонами из меха, высокие ботинки, юбочка из шотландки, все по росту и по размеру — традиционный будничный вид ребенка, когда-то такой обычный и такой необычный сейчас…
Еще раздумывая об этом, Вадим поднялся на второй этаж и — звонок, разумеется, не работал — постучал в дверь. Прошло около пяти минут. Вишневский постучал снова. Может быть, ошибка? Нет, в полумраке лестничной площадки поблескивала медная табличка: «Инженер В. Д. Баскаков».
Нет, ошибки никакой…
Вишневский опять постучал. Какие дела могли заставить Баскакова уйти из дому в назначенное для встречи время?
Машинально вытаскивая портсигар, Вишневский медленно спускался по лестнице… Подождать немного? Пожалуй, около десяти-пятнадцати минут можно спокойно, не привлекая внимания посидеть во дворе.
Выйдя во двор, Вадим снова увидел «дореволюционную» девочку: стоя у каменной вазы, она собирала с нее рукой снег и, набрав полную горсть, поднесла ее ко рту.
— Разве можно есть снег! — невольно окликнул ребенка Вадим, подходя ближе.
— Можно. — Девочка смотрела на него: у нее был немного острый подбородок, большие, как часто бывает у детей, глаза очень необычного цвета — с радужкой из серых, зеленых и коричневых причудливо перемешанных точек — без единой желтой. — Если больше нечего.
Перестав все же есть снег, девочка посмотрела на растерявшегося Вадима так, словно ожидала от него чего-то плохого, но при этом ничуть не боялась. (Лицо ее, впрочем, не несло отпечатка истощения, вынуждающего утолять голод снегом.)
— Извини, пожалуйста. Я думал… — Вишневского поразила неожиданная догадка. — Из какой ты квартиры?
— Из третьей. — Девочка рассматривала его все так же недобро и… высокомерно.
— Значит, Владимир Дмитриевич — твой папа?
— Да.
— А где же он?
— Не знаю.
— Он пропал?
— Да… — Мозаичные большие глаза смотрели уже несколько мягче: придя к какому-то выводу относительно Вадима, девочка наконец проговорила: — Его вчера увезли какие-то люди.
— И ты не догадываешься, какие и куда?
— Может быть, догадываюсь. А Вы… — Взгляд стал испытующим. — За кого Вы?
— За Царя и Отечество. — Голос Вишневского прозвучал серьезно: каким-то внутренним чутьем ему удалось отгадать, чего ждал от него этот странный ребенок.
— Папу арестовали.
— Тебя, кажется, зовут Таней? — неожиданно вспомнил Вадим, на днях слышавший краем уха кое-что об инженере Баскакове.
— Чаще меня зовут Тутти.
— Послушай, Тутти, тебе нельзя оставаться здесь. Я должен спрятать тебя в более безопасном месте. Мы постараемся освободить твоего папу, но тебе сейчас нельзя оставаться здесь.
— Хорошо. Но мне нужно кое-что взять.
Теперь, выяснив, что Баскаков арестован, Вишневский понимал, что минутное промедление в этом месте может оказаться гибельным, а подниматься в квартиру — по меньшей мере безумием.
— Пойдем, только очень быстро!
Они поднялись по лестнице и вошли в квартиру, которую Тутти отперла своим ключом.
Вадим знал, что именно толкнуло его пойти на опрометчивый шаг, знал острее, чем мог бы выразить словами. Этот ребенок еще был связан, последние минуты жизни связан со своим домом. И сейчас эта связь порвется. Еще одну легкую былинку сорвет сейчас с места и неизвестно куда понесет по волнам людского моря…
Последний раз серьезно повесив шубку и сняв шапочку (у нее оказались прямые каштановые волосы, подстриженные, придававшие ей сходство с маленьким пажем на картинке в детской книжке), Тутти в сером пуловере и клетчатой юбочке (сейчас Вадим заметил, что ее высокие ботинки зашнурованы не очень умело) легко двигалась по квартире, что-то собирая, — тоненькая и гибкая, как ореховый прутик…
Квартира инженера Баскакова поражала тягостным контрастом атмосферы спокойного комфорта с явными следами недавнего вторжения. Паркет истоптан сапогами, ящики — выдвинуты, в кабинете, как видно было Вадиму через распахнутые двери гостиной, обставленной красной ампирной мебелью, пол вокруг стола завален ворохами бумаг.
«Нет, скорее она походит не на пажа, а на принца. Эта необычная для такого возраста нарочитость в манере держать голову, в жестах, в движениях… Но нарочитость, уже настолько въевшаяся в натуру, что стала почти естественной. Очень странный ребенок».
Вадим прошел вслед за Тутти в другую комнату, явно принадлежавшую ей, — со множеством разноцветных детских книг в шкафу, с большим количеством игрушек, среди которых выделялся усевшийся на кресле в углу потрепанный плюшевый медведь невероятных размеров, с маленьким столом, по которому были разбросаны тетрадки — трогательные тетрадки, исписанные детским круглым почерком, испещренные кляксами тетрадки с сочинениями, изложениями, хриями19…
— Вот. — Девочка сняла с полки очень потрепанную книгу. — Ее непременно надо взять.
«Принц и нищий» — разглядел обложку Вадим.
— Тебе, вероятно, нравится Эдуард принц Уэльский?
— Эдуард принц Уэльский — это я, — отрезала девочка, укладывая книгу в маленький саквояж.
«Теперь многое понятно. Эта потрясающая детская способность отождествлять себя с литературными героями — иногда она так или иначе оформляет характер на всю жизнь. Как у Юрия — когда он, немногим постарше, отождествлял себя с Атосом у Дюма. И все мы верили в это — словно в тринадцатилетнем мальчике на самом деле проступали черты пресыщенного жизнью бретера… Не с этого ли они так быстро проявились в жизни?»
— Тутти, дольше оставаться нельзя!
— Идем.
Девочка заперла квартиру и положила в карман шубки ключ — как будто это имело какой-то смысл.
Спускаясь по лестнице, Вадим почувствовал, что нервы неожиданно начинают сдавать: он невольно схватил девочку за руку и ускорил шаги.
…Отойдя от опасного дома достаточно далеко, Вадим ощутил, как нервный спазм, сжавший сердце, когда они шли через двор, постепенно ослабевает. Не выпуская маленькой руки Тутти, он шел, не замечая, что за каждый его шаг ребенку приходиться пробегать полных два. Тутти, выскочившая из брони настороженного недоверия, не переставая говорила на ходу. Из сбивчивого ее рассказа Вадим узнал, следующее…
Ей действительно девять, даже девять с половиной лет. В гимназии она не училась — в революцию ей было только семь лет, последние два года отец занимался с ней сам. До семнадцатого года они жили в Москве, где Тутти и родилась. В столицу Баскаков переехал из-за каких-то деловых обстоятельств, ребенку, разумеется, представляющихся довольно туманно. Город ей не нравился: «Москва — сказочнее, а он какой-то скучный». Поселились они сразу на этой квартире: «Я, папа и Глаша — femme de chambre» 20 (Вадим невольно отметил безупречное произношение девочки). А вчера утром приехал «большой черный автомобиль, похожий на навозного жука, а из него вылезли люди с пистолетами и ружьями, тоже в черных кожаных куртках — как жуки… Они все начали перерывать, а Глаша почему-то их знала… им показывала где… Она шпионка, да? А папа сказал: „Тутти, иди к себе…“ — это они его уже вытаскивали в переднюю, а я за ним побежала, а он говорит: „Иди к себе, я скоро вернусь…“ Но это он так говорил… И жуки с ним уехали. А Глаша тоже делась куда-то… и с ней всякие вещи пропали. А еще там…»
Они подходили уже к дому на Богородской улице. Вишневский позвонил условленной «семеркой» Морзе — два длинных и три коротких звонка.
Загремели засовы: узкая дверь черного хода отворилась.
При виде Вадима с очень дореволюционного вида ребенком лет девяти Некрасов не изменился в лице, но неуловимое движение бровей показало Вишневскому, что он немало удивлен.
…Юрий запер дверь.
— Инженер Баскаков вчера арестован, — отрубил Вадим, когда они вошли с полутемной лестницы в переднюю. — Познакомься, его дочь Татьяна.
Вадим, по-взрослому представляя Тутти Некрасову, знал, что представить ее иначе было нельзя: маленькое это существо каким-то неуловимым магнетизмом заставляло очень считаться с собой.
— Рад. Был бы рад более, если бы наше знакомство состоялось при более счастливых обстоятельствах. Штабс-капитан Юрий Некрасов!
— Тутти. — Девочка протянула Некрасову маленькую руку.
8
— У аппарата! Ну? Плохо, очень плохо. Еще одна такая «ошибочка», Ющенко, и я с тобой местами не поменяюсь. Все! — Закачалась брошенная на рычаг трубка.
— Ты что, товарищ Петерс, шумишь?
— А, Блюмкин… Напортачили ребята. Ты садись, я с этим кончу сейчас. — Зампред ткнул в каменный подоконник «козьей ножкой». — По делу с инженером… Самого взяли, а дочь, девять лет, изволь любоваться, оставили. Я распорядился — да не тут-то было: птичка как в воду канула. Обшарили знакомых — ни следа! Как, по-твоему, о чем говорит?
— Ясно, о чем, спрятали.
— А мы — прошляпили.
— Да уж… не сама же она испарилась. Давай-ка с твоими бумагами.
— У тебя там на допрос кто-то.
— А… подождет. Этого вообще скоро к тебе. Кстати, насчет этих дел, чтобы ты мне кончал из гаража театр устраивать! Думаешь, не знаю? Знаю. Только зрители тут ни к чему. Ясно?
— Ладно тебе, товарищ Петерс.
— А вообще, слушай, пошли-ка перекусим чего… Двое прошли мимо Сережи, слышавшего весь
разговор через неплотно прикрытую дверь кабинета зампреда. Собеседник Петерса, щуплый, с непропорционально узкими для высокого роста плечами (рядом с коренастой фигурой зампреда показавшийся Сереже похожим на огромную черную цаплю), представляющий собой характерный тип молодого еврея, даже немного карикатурно подчеркнутый, перед тем как выйти, приветственно кивнул секретарю у окна, только что вошедшему в «предбанник» и с ходу усевшемуся за машинку.
Сережа закрыл глаза «Ремингтон» у окна продолжал стучать. Господи, если бы не этот треск… если бы не этот треск, можно было бы представить себе, что в этом их «предбаннике» никого нет. Никого нет… да весь остаток жизни не жаль бы сейчас отдать за то, чтобы пять минут, минуту побыть одному… Остаток жизни? Да разве его можно даже и сравнить с невозможным счастьем минуты одиночества? Когда рядом с тобой никого нет, когда на тебя не смотрят ничьи глаза…
— Слушай, парень, здесь ЧК или бордель, в конце-то концов?! — Сочный, наполненный бодрой жизненной силой голос заставил Сережу вздрогнуть. Расслабившееся было тело мгновенно подобралось. Сережа открыл глаза и взглянул на шумно распахнувшуюся дверь. В ней, едва не загораживая массивными плечами весь проем, стоял, словно воплощение животной мощи, высокий человек лет двадцати пяти. Правильно слепленные, крупные черты его лица дышали примитивной жизнерадостностью. Сережу передернуло.
— Тут, между прочим, кабинет зампреда. — Стук «ремингтона» снова сделался равномерным.
— А я думал — актрискин будуар. — Вошедший, ссутулясь, чуть покачнулся в дверях уже виденной Сережей блатной раскачкой: не вынимая рук из карманов потрепанных клешей. — Ну, поверил, ладно. Только зампредов кабинет без зампреда мне вроде ни к чему. Битый час его по вашей богадельне ищу. Говорил ведь, не связывайтесь с бэками: такого «революционного порядка» налопаемся, какого и у себя не видали, ядреный корень…
— По какому вопросу?
— Стану я тебе, шестерке малолетней, докладывать, по каким вопросам ваш ЦИК из Москвы анархистов-боевиков приглашает? — Вошедший снял с плеча куртку и метко швырнул ее на подоконник прямо через голову секретаря. — Вот ведь повадились, черти, чужими руками жар загребать! Раньше хоть Коба был не промах… Да хрен с вами, мы не в обиде, но гребешь, так изволь уважать, ясно? Мало что переться неделю, так приходишь — никто ни хрена не знает, никого нигде нет.
— Товарищ зампред сейчас будет, — поспешно и словно с некоторой опаской проговорил давно убравший руки с клавишей секретарь.
— А черт с ним. Мне с дороги отдохнуть надо, устал как свинья. — Анархист, широко распахнув обе створки дверей «предбанника», бесцеремонно уселся за столом Петерса.
Сережа снова закрыл глаза — уже не затем, чтобы воспользоваться минутой передышки — она была невозвратно украдена у него этим шумным вторжением, а просто для того, чтобы не видеть этого отвратительного жизнерадостного лица.
— Сунулся тут в дверь, какая-то дура ордера в общежитие не выписывает… Иди, мол, в десятую, а потом на первый этаж, а потом обратно… Нашла, б…, мальчика бегать. Короче, так, сперва по-быстрому оформи мне ордерок, потом соединись с ЦИКом — от анархистской, мол, фракции товарищ прибыл, чтобы завтра пропуск выписали. А кроме этого, по телефону ни слова, уразумел? И к Зиновьеву и к Кобе. А я жду Петерса тут, кстати, с ордерком меня у входа подождешь, здесь ты не нужен. Разговор интимный, деликатный…
— Момент! — Молодой человек торопливо вскочил. — Арестованного вывести?
— Боишься, что на свободе разболтает? — Оба собеседника рассмеялись. — Без тебя разберусь. Это, что ли, конвой вызывать?
— Да-да! — Дверь захлопнулась. По крайней мере сейчас прекратятся режущие по нервам звуки человеческого голоса. Особенно такого голоса… Какой-то живой символ победно шагающего хама, не способного даже постичь, что он уничтожает на своем пути… А какая-то новая боль… Раньше надо было анатомию изучать, прапорщик. Прапорщик… Прапор… Сине-пурпуровый прапор Альмансора… Женька… Альмансор… Дачное прозвище… Брат мой, мы волею судеб служим разным знаменам. Нет, Женька, такое бывает только в романах… Опомнитесь, прапорщик, а ведь это бред… Сейчас… сейчас… Только немножко моря…
— Ржевский! — Энергичное прикосновение опущенной на плечо руки заставило Сережу дернуться: в глаза ему смотрели серо-голубые, очень спокойные глаза анархиста. — Руки-ноги целы?
— Я Вас не понимаю.
— Соображай быстрее, секунды на счету! Поведут с допроса — третье окно слева по коридору, на подоконник и вниз, секунда — пока обалдеют, секунда — пока целятся. Хватит силы вскочить? Тогда я остаюсь беседовать с Петерсом, нет — придется сложнее… Ну, вскочишь?
— Я предпочитаю остаться тут.
— Жаль приятной компании?
— Согласитесь… значительно правдоподобнее предположить, — с трудом выговаривая слова, негромко ответил Сережа, — что этот побег… инсценирован.
— Черт, нашел время и место. — Лицо неожиданного избавителя, ничуть не изменившееся в чертах, но неузнаваемое в новом, стремительно собранном выражении, залилось краской гнева. — Силой прикажете Вас умыкать, как юную деву из отеческого замка? — Рука на плече стиснула его и встряхнула с такой отдавшейся во всем ноющем теле силой и злостью, словно именно в это было вложено стремление выбить Сережино сопротивление. — Je suis Votre supurieur hiurarchique, nom de chien, faites ce qu'on Vous dit21.
Даже ни безупречная чистота носового звука, уже умирающего на улицах Парижа, вынудила Сережу поверить в это неожиданное превращение. Его взгляд, случайно скользнувший по другой руке все еще сомнительного избавителя, невольно задержался на простом, ничем не примечательном золотом кольце. По краю кольца шел узкий стальной ободок. Это был памятный знак выпускника Пажеского корпуса. Кольцо могло быть снято анархистом с кого угодно. Нет, видно, что оно вросло в палец… Эта разработанная за годы тяжелых военных условий сильная рука еще позволяла своей формой угадать изящную руку шестнадцатилетнего юноши. Человек этот действительно был выпускником корпуса. Мысль сбилась куда-то в сторону — совсем недавно довелось видеть такое же… У кого… Нет, постойте, прапорщик, вот он, найденный конец мысли…
— Vous m'avez convaicu que Vous menez un jeu. Mais qui bat les cartes?22
— Черт, вот ведь свалился на мою голову! — Незнакомец неожиданно широко улыбнулся. — Путай ты «генералов с кардиналами» сколько влезет, но изволь уж как-нибудь отличать белое от красного!
Господи, так вот же на ком последний раз виделось такое кольцо! Перед Сережей на долю мгновения возникло лицо всегда щеголевато-подтянутого штабс-капитана Задонского — личного адъютанта Николая Николаевича, холодная линия его руки с точно таким же кольцом, отводящей шторку с задернутой карты: «Гатчина, Ваше Высокопревосходительство».
— Задонский! Это только он мог разболтать! — Сережа, чуть запрокинув голову, негромко засмеялся по-настоящему веселым смехом, до жути неуместно прозвучавшим в стенах «предбанника».
— И, кстати, au cours du jeu23. Так-то лучше. Ну?
— Я в состоянии.
— Et bien24, — сквозь зубы процедил незнакомец. Сережу поразила происшедшая на его глазах метаморфоза: шокировавшая его животная мощь приблатненного парня в мгновение ока обернулась породистой, пока еще легкой грузностью екатерининского вельможи — жизнелюба и наглеца — в глаза смерти. — Тогда и мне засиживаться тут незачем — и так полдня глаза мозолю. Третье окно! — Незнакомец одним бесшумным прыжком отскочил от Сережи: в «предбанник» вошел Петерс.
— Товарищ Ян?
— Он самый.
— От анархистской фракции. — Незнакомец обменялся с зампредом крепким рукопожатием. — Приветы из Москвы. Документики мои — вот, а звать меня можешь попросту Графом, как свои кличут.
— Как там дела идут?
— С кем сравнить. В отличие от вас драпать покуда не собираемся — и то хлеб. Ладно, о деле… В курсе уже?
— Вроде нет.
— Ладно, сейчас введу, только узнаю схожу, утрясли ли с общежитием. Кстати, не до допросов. — Незнакомец кивнул из кабинета на Сережу. — Я по-быстрому!
Дверь хлопнула. Сережа услышал, как Петерс, неторопливо переложив что-то на столе, нажал тугую кнопку вызова Минуты две — до того, как по коридору издали зазвучат шаги конвойных; еще раньше этот Пажеского закала анархист выйдет из здания. Чуть замешкаешься, поднимаясь… Господи, неужели я так хочу жить?!
— Увести!
Сережа, силясь унять заколотившую нервную дрожь, переступил порог кабинета.
Первое окно… второе окно… на третьем пили вчера чай те две девушки… как раз на нем.
Один рывок… Все тело должно уйти сейчас в этот рывок… Сейчас… нет… еще на шаг ближе…
Сейчас!
Окно рассыпалось стеклянным дождем. Последнее, что успел ощутить Сережа, были мягко спружинившие картонные коробки, которыми был набит кузов срывающегося с места грузовичка.
9
Что это за место? Тусклый пустырь. Серая, серая даль…
Земли не видно под обломками кирпичей, обгорелыми досками, ржавым железом.
Кто этот ребенок? Девочка лет трех… Она крепко вцепилась в пальцы и тянет за собой, легко переступая с обломка доски на кирпич, с кирпича на погнутую трубу. Остов одноэтажного дома невдалеке. Нет одной, наискось рухнувшей стены. В проеме окон видно свинцовое небо.
Я не хочу идти за ней, она не понимает, что наш приход сюда кого-то тревожит.
Но девочка тянет вперед… Ей что-то нужно? Да и кого мы можем потревожить здесь, на этой бесконечной свалке?
Да, это свалка. Жестянки, пружинная ржавая рама кровати, чуть подальше — какая-то падаль со свалявшейся серой шерстью. Собака, уже наполовину истлевшая. Еще несколько шагов в глубь пустыря… Жалобный слабый писк откуда-то снизу. Кто там? Надо приподнять эту доску. Девочка пытается помочь.
Из-под серой доски ковыляет галчонок с обгорелыми крылышками. Одно из них только чуть опалено, другое наполовину сгорело… Галчонок ковыляет прочь, жалобно крича, он не надеется убежать, но что-то гонит его… Куда, под чью защиту он бежит? Куда-то дальше, где валяется мертвая собака.
О Господи! Собака начинает подниматься… Ей трудно подняться: полуистлевшие лапы разъезжаются в стороны… Но что-то сильнее разложения вынуждает ее к этому мучительному усилию. Она пытается залаять, но вместо этого только клацает пастью и шипит. Кажется, она слепая. Это видно потому, как она ворочает окостеневшей шеей, пытаясь определить присутствие врагов… Но почему она гонит нас?!
Под этими обломками копошится множество маленьких замученных созданий, множество маленьких беззащитных существ. Она защищает их всех, хотя ей так же плохо, как им.
Но ведь мне жалко их, ведь я хочу им помочь!
Им не нужна моя помощь. Жалость и добро мучительны им, как яркий свет больному глазу, доброе и злое намеренье им равно невыносимы в их кромешной муке…
Ребенок… Надо увести ребенка, скорее, пока она еще этого не поняла!
— Уйдем отсюда.
— А они так и останутся здесь? — У девочки большие, какие-то мозаичные глаза из зеленых, серых и коричневых точек. — Можно, я накрошу им хлеба?
— Они не будут есть — они ведь все мертвые.
— ИХ ТАК СИЛЬНО ОБИДЕЛИ, ЧТО ОНИ НИКАК НЕ МОГУТ УМЕРЕТЬ?
…Кто это сейчас кричал? …Рука в нестерпимо белой перчатке бинтов, утонувшая в свежей чистоте настоящей постели… Незнакомая комната, тепло пронизанная солнечными лучами. Жемчужно-серый гобелен: играющий на свирели пастушок, пастушка поднимает корзину с плодами… Раньше свирель иногда звучала, сейчас пастушок играет беззвучно. Этот сон уже был. Иногда в нем мелькали какие-то лица, чаще всех — лицо похожего на музыканта человека и голос Юрия Некрасова. Да, эта светлая комната уже снилась. Добрый сон.
Нет! Назад, туда… Там, под серыми досками свалки, те, кому я не мог помочь… Бессилен был помочь и поэтому ушел…
Отворяется дверь. Почему она здесь, девочка из того сна? Значит, здесь тоже есть боль. Значит, здесь можно быть.
Девочка лет десяти, с пажеской прической, в сером пуловере и клетчатой юбочке, залезла в поставленное у изголовья, рядом со столиком с лекарствами, кресло и раскрыла толстую потрепанную книгу.
Сережа попробовал приподняться на локте, но сразу упал обратно в подушки.
— Ой! — Взглянув на Сережу странного цвета мозаичными глазами, девочка уронила книгу и, вскочив, помчалась к дверям, стуча о паркет каблуками высоких ботинок…
— Дядя Юрий! Тетя Катя! Он очнулся, он очнулся, дядя Алеша, он очнулся!!
Послышались поспешные ровные шаги: в грубом некрашеном свитере, в мешковатых штанах из «чертовой кожи», в накинутой на плечи черной телогрейке, с заросшим щетиной лицом — к Сережиной кровати подошел штабс-капитан Юрий Некрасов.
— На сей раз Вы не бредите, Ржевский, это действительно я. Поздравляю Вас с довольно-таки благополучным возвращением с того света!
10
— Итак, прапорщик, если Вы не устали, продолжим.
— Ничуть. — Сережа, полулежавший на диванных подушках, принял из рук Тутти граненый стаканчик с лакричной микстурой и слегка улыбнулся.
— Собственно говоря, господа, предыдущие данные Ржевского пока что всего-навсего совпадают с уже имеющимися. — Некрасов прошелся по гостиной. — Что Петерс переброшен сюда, мы уже знаем. Как, впрочем, и то, что существование Центра не составляет уже секрета для Гороховки. Какие еще фамилии Вы слышали между присутствующими сотрудниками, прапорщик?
— Труднозапоминающаяся какая-то фамилия… Ах, вот — Блюмкин. Входил при мне к Петерсу.
Военный инженер Алексей Никитенко присвистнул.
— Вы уверены, что не ошибаетесь? — с некоторой живостью обернувшись к Сереже, спросил Некрасов. Сережа пожал плечами.
— Некрасов, это неправдоподобно, — с сомнением проговорил Вишневский.
— Вы можете его описать?
— Могу.
Из передней послышался звук повернувшегося
в двери ключа. Прозвучали быстрые шаги, и в гостиную стремительно ворвался широкоплечий офицер лет двадцати пяти — светло-русый, кудрявый, сияющий открыто дружелюбной широкозубой улыбкой.
— Мое почтение, господа!
— Кстати, граф. Что у Неклюдова?
— А наиблагополучнейше. Обручев подготовлен идеально. — Вошедший плюхнулся в кресло. — Всего-то хлопот осталось — перевесить флажки. И, пожалуй, еще кое-что в дополнение к флажкам. Словом — чисто декоративная работа. Тьфу, устал. Тутти, детка, будь ангелом и швырни в меня чашкой чаю!
— С солью?
— С лягушками.
— Ты сам лягушка.
— Тогда швырни меня в чай. Только скорее. Ага, с молоком… — Подняв голову от чашки, вошедший столкнулся взглядом с Сережей, мучительно пытающимся сопоставить это неожиданно возникшее лицо с тем, смутно припоминаемым сквозь туман болезни. — Что, трудно припомнить, где это нас друг другу представили? — Офицер рассмеялся так заразительно весело, что Сережа, колебания которого мгновенно рассеялись, не смог не рассмеяться в ответ. — А ты меньше похож на покойника, чем в последнюю встречу. Граф Платон Зубов.
— Я рад. Мне представляться уже излишне?
— Ладно, господа, к делу, — суховато заметил Некрасов.
— Ярко выраженный тип семита, — с расстановкой заговорил Сережа. — Что еще?.. Впалая грудь, узкие плечи, покатые, средний рост, худ…
— Странно, похоже на то.
— Что похоже?
— Блюмкин в Чеке.
— Он-он! — почти радостно воскликнул Зубов. — Да что вы его спрашиваете — был у него досуг для наблюдений! Вы меня спросите — сам видел, сразу узнал. — Отставив чашку, недавний Сережин спаситель хлопнул приставленными к ушам ладонями. — Ушастый такой еврейский парнишка!
— Неужели — альянс с эсерами? — обращаясь к Некрасову, с сомнением протянул Вадим.
— Если так, — усмехнулся Никитенко, — мы разумно не стали делать на них ставку после того, как не разлей вода друзья большевики поприветствовали их на съезде пулеметами. А было заманчиво.
— Было глупо не воспользоваться благоприятной ситуацией, — хмуро отрезал Некрасов.
— Кроме того, подобный расклад и сейчас сомнителен. После съезда-то… — Вишневский негромко рассмеялся. — Более остросюжетной комедии стены Большого театра, сдается мне, допрежь не видали. Кто помнит? Большевиков просят выйти в фойе для обсуждения внутрифракционных вопросов. Через час в фойе высовываются недоумевающие эсеры — и обнаруживают, что «внутрифракционные вопросы» обернулись расстановкой пулеметов.
— Нет, появление Блюмкина, при условии, простите, Зубов, что это на самом деле Блюмкин, скорее случай, чем указание на что-либо между большевиками и эсерами. Во всяком случае, ввиду предстоящего мятежа я со вверенными мне силами не намерен уклоняться от сотрудничества.
— Да и не могли же они так скоро позабыть расстрел Александровича. Это своего рода гарантия их искренности.
— Ох и черт все дери — прямо как в родимом корпусе! — вскакивая с места, взорвался Зубов. — Господа высоколобые, да сойдите же вы с академических высот на бренную-то землицу! Когда ж до вас дойдет наконец, что мы уже третий год как вступили в войну, где вся этика летит к чертовой бабушке!! Это вам не германская!! В шашки хотите играть по шахматным правилам и думаете, с рук сойдет? Нам, прости Господи, противничек достался без рыцарских предрассудков… У них своя логика — и логика эта, если хотите, Некрасов, это простейшая логика преступного мира. Да и Чека — та же малина. Все просто, как апельсин. Каторжная связь для блатарей не помеха резать своих — вот ваш съезд! — а резня не помеха служить пахану, который силен, обида за товарищей тут весьма слабая. Обижаться на сильного не в блатной логике. И — круговая порука. Взять хоть роль Посполитой Мумии25 во время пресловутого мятежа, от которого мы что-то нынче никак не отстанем… Форменный адюльтер! Эта воистину полезная особа работала единовременно и на мужа и на любовника, но суть скандальчика не в этом, а в том, что была у любовника, то бишь в Трехсвятительском переулке в штабе эсеров, публично накрыта! В то время как Картавец26 судорожно расшаркивался в посольстве, уверяя в оной особы архиневиновности…
— Видите ли, прапорщик, — случайно поймав недоумевающий Сережин взгляд, пояснил Никитенко, — у Блюмкина при убийстве графа Мирбаха было при себе письменное благословение Дзержинского на сию акцию. Этот факт выплыл, и скомпрометированный Дзержинский вынужден был на полгода уступить Петерсу пост председателя ВЧК.
— А потом — преблагополучно на него вернуться! И Блюмкин вернулся — с какой стати отказываться от такого ловкача в грязных делишках? Да большевики ради общего блага родную мать стрескают, как фаршированную щуку! Черт их разберет, когда они вместе, когда врозь… Я бы на праведный гнев эсеров ставить не стал.
— А кто этот Блюмкин? — спросил Сережа, припоминая похожую на цаплю фигуру человека в черном
— Кровавый шут, — пожав плечами ответил Вишневский. — Отирается в литературных кругах.
— А, позер и истерик, как все блатари и товарищи. Водит смотреть на расстрелы любопытных дамочек и поэта Есенина. Как-то хвастался перед Мандельштамом пачечкой ордерочков на арест и на расстрел. Чин чином оформленная толстая пачка ордеров, только одна графа не вписана — фамилия жертвы. Но представьте, — Зубов одобрительно рассмеялся, — этот шпак чуть ли не морду ему бить кинулся! Вырвал эти ордера у Яшки, стал топтать ногами… Даже жаловаться куда-то ходил. Глупо, конечно: у них же рука руку моет — опять логика блатных.
— Прапорщик, Вы можете отдыхать. На будущей неделе, господа, надо выходить на связь с эсерами — и мы таки на нее выйдем. Вы перегибаете палку, граф. Необходимо использовать все, что у нас есть.
«Господи, как странны эти разговоры, эти просчеты вариантов, с кем и против кого, — подумал, откидываясь на плюшевые подушки, Сережа, внезапно ощутив усталость. — Насколько проще на передовой».
11
— Сережа… ты почему даже дома не снимаешь перчаток?
— Так. — Сережа с непокрытой головой (отросшие волосы трепал ветерок солнечного, по-питерски холодного майского дня — последний раз привелось побывать в парикмахерской еще в Финляндии…), в расстегнутой куртке из «чертовой кожи» шел рядом с Тутти по почти безлюдной улице.
— Сережа, а я видела. — Тутти, уставая от медленной походки слишком еще слабого своего спутника, то вприпрыжку забегала вперед, то отскакивала назад.
— Что ты там еще видела?
— Твои руки. Когда ты еще лежал совсем больной. Сережа поморщился.
— Вот я и не хочу, чтобы ты их еще раз увидела Да, пожалуй, и сам я не очень рвусь их все время видеть.
— Ну что же ты тогда, так и будешь всегда в перчатках?
— Да нет, не всегда… — Сережа негромко засмеялся. — Месяца три, может быть, меньше.
Мимо них с грохотом проехал грузовик с открытым кузовом, в котором стояли молодые красноармейцы с винтовками.
«Мобилизованные — только-только с какого-нибудь завода… А забавно — прогуливаться вот так в центре занятого врагом города. Ведь я же сейчас действительно прогуливаюсь. Дышу воздухом».
«Не хорохорьтесь. Ржевский, Вы слабы как котенок», — сказал вечером Алексей Никитенко.
«Да, прапорщик, — подал голос молчаливо куривший в кресле у окна Некрасов. — Ваши обязанности, несомненно, сводятся сейчас к отдыху, прогулкам и сну. А далее будет видно — отправлять ли Вас долечиваться к нашим дорогим заграничным друзьям».
«Надеюсь, что этого не понадобится, г-н штабс-капитан».
— Сережа, смотри, там что-то повесили и народ собирается, — Тутти тянула Сережу к небольшой, все увеличивающейся кучке народу посреди сквера.
Заметив в толпе светловолосую девушку из ЧК, одетую все в ту же лихо перепоясанную кожанку, Сережа остановился было, но, вспомнив невидящий взгляд скользнувших по нему глаз, начал пробираться ближе к объявлению.
Лист желтовато-серой грубой бумаги был криво приляпан на старую афишную тумбу, еще извещавшую о последнем шаляпинском концерте, и сам казался жутковатой афишей нелепого, фантастического фарса…
БЕРЕГИТЕСЬ ШПИОНОВ!
СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
НАСТУПЛЕНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ НА ПЕТРОГРАД С ОЧЕВИДНОСТЬЮ ПОКАЗАЛО, ЧТО ВО ВСЕЙ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ В КАЖДОМ КРУПНОМ ГОРОДЕ У БЕЛЫХ ЕСТЬ ШИРОКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШПИОНАЖА, ПРЕДАТЕЛЬСТВА, ВЗРЫВА МОСТОВ,
УСТРОЙСТВА ВОССТАНИЙ В ТЫЛУ, УБИЙСТВА КОММУНИСТОВ И ВЫДАЮЩИХСЯ ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПОСТУ.
ВЕЗДЕ УДВОИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ, ОБДУМАТЬ И ПРОВЕСТИ САМЫМ СТРОГИМ ОБРАЗОМ РЯД МЕР ПО ВЫСЛЕЖИВАНИЮ ШПИОНОВ И БЕЛЫХ ЗАГОВОРЩИКОВ И ПО ПОИМКЕ ИХ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РАБОТНИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ВО ВСЕХ БЕЗ ИЗЪЯТИЯ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ В ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАНЫ УДВОИТЬ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
ВСЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ГРУДЬЮ НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ДОЛЖНЫ ПОДНЯТЬСЯ НА БОРЬБУ С ШПИОНАМИ И БЕЛОГВАРДЕЙСКИМИ ПРЕДАТЕЛЯМИ. КАЖДЫЙ ПУСТЬ БУДЕТ НА СТОРОЖЕВОМ ПОСТУ В НЕПРЕРЫВНОЙ, ПО-ВОЕННОМУ ОРГАНИЗОВАННОЙ СВЯЗИ С КОМИТЕТАМИ ПАРТИИ, С ЧК, С НАДЕЖНЕЙШИМИ, С ОПЫТНЕЙШИМИ ТОВАРИЩАМИ ИЗ СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
НАРКОМВНУДЕЛ Ф.ДЗЕРЖИНСКИЙ27
…Прочитывая воззвание, люди расходились от него молча, не обсуждая и не высказываясь. Сережа взглянул на напряженное личико Тутти: губы девочки шевелились, глаза горели — казалось, она пожирала ими зловещие буквы.
Из столовой доносились взрывы самозабвенного смеха: хохотали Зубов и Тутти. Открывшееся зрелище не доставило Некрасову особого удовольствия: посреди стола на забрызганной водой скатерти, в тарелке кузнецовского фарфора плавало несколько парусных .корабликов из картона и скорлупы грецких орехов. Один из корабликов горел. Тутти, упираясь ботинками в обивку стула и локтями полулежа на столе, дула на бумажные паруса кораблика, то и дело прерываясь для того, чтобы разразиться новым припадком хохота.
Сережа, чистивший рядом разобранный на куске сукна наган, негромко разговаривал о чем-то с расхаживающим у камина подпоручиком Стеничем, одновременно с интересом поглядывая за ходом водной баталии.
— Нет уж, ты мне не крути — капитан у тебя в стельку…
— Ничего не в стельку… Это нарочно!
— Кормой вперед плыть — нарочно?! В стельку, в стельку…
— Что до меня, — Сережа, явно продолжая спор, обернулся к Стеничу, — то мне трудно поверить, что такой Петроний, Петроний — эстет, на самом деле существовал. Римский вельможа времен Империи — такой же раб, как его собственные рабы. Без личной свободы нельзя быть эстетом.
— Ну, не знаю… По-моему, эстет прежде всего ценит красоту. А в ужасных деяниях Нерона есть какая-то жуткая красота… Свирепое величие разнузданного желания, которое все сокрушает на своем пути…
— Тогда у наших отечественных нижегородских купчишек ничуть не меньше «свирепого величия», чем у Нерона. — В голосе Сережи прозвучало раздражение. — Чем поджог ресторации хуже пожара Рима? Общий принцип — не препятствуй моему ндраву.
— Вы все передергиваете, Ржевский! Тут другой размах…
— Вот как? Тогда купец Петров, который спьяну подпалил целый ресторан, вдвое ближе к критерию эстетического, чем купец Сидоров, который только закуривает сторублевками? А я подобрал бы для этого «свирепого величия» несколько иное название…
— А я уверен, что Петроний…
— Ох, развели философии — хоть топись. В этой самой тарелке. Эй, по рукам за такие штучки! И вообще, Тутти, с тобой мне только чертененочка младенца не хватает с такими вот рожками. — Зубов сделал соответствующий жест.
Тутти восхищенно фыркнула.
— Вам не кажется, граф, — с неудовольствием взглянув на Тутти, сухо заметил Некрасов, — что Вы иногда слишком далеко заходите в своей роли анархиста?
— Ну, дальше, чем мой предок, я не зайду. — Зубов с явным удовольствием перевернул догорающий кораблик. — Правда, тот захаживал аж в опочивальню к матушке Екатерине Великой.
— Comte28, я еще раз обращаю Ваше внимание на то, что Вы находитесь в обществе ребенка. — Голос Некрасова стал ледяным.
— То-то и оно! — Зубов возмущенно сорвался из-за стола. — Самая уместная компания! Почему я впрямь не анархист?!
— Вот и поразмыслите покуда над этим. А согласия на предложенную Вами авантюру я не даю.
— Нет, Некрасов, я не за этим. — В манере Зубова проступила подтянутая собранность. — Я только что от Люндеквиста.
— Пройдемте ко мне в кабинет.
Пройдя в небольшую, в одно окно, комнату, служившую ему кабинетом, Некрасов сдвинул со стола бумаги и демонстративно остался на ногах, пока Зубов, со сдержанным кивком благодарности, не сел первым. Теперь, когда Некрасов и Зубов находились наедине, в их подчеркнутой любезности друг к другу явственно проступала застарелая нелюбовь между «николаевцами» и «пажами».
— Итак?
— Новая партия оружия через границу. Завтра. Люндеквист требует от вас десять человек, ни одним меньше.
— Однако черт возьми. — Некрасов нахмурился. — Вы — в моем распоряжении?
— Нет. Я сегодня же отправляюсь в Красную Горку и поступаю в распоряжение Неклюдова вплоть до мятежа. Десять, не считая меня.
— Это вообще все, что я могу предоставить. А у меня завтра рандеву с эсерами. Впрочем, — по тону Некрасова было заметно, что ему не очень приятно найденное решение, — если с инструкциями от и до — то к эсерам можно отправить и Ржевского. Не к границе же его брать.
— Почему бы и нет? Знаете, Некрасов, — Зубов почти дружелюбно рассмеялся, — уж на что я не любитель этой публики, которая никогда не нашивала мундиров от Норденштрема и шпор от Савельева, но Ржевский мне по душе. Есть в нем тот еще стерженек — хоть и молокосос. В жизни такого бешеного не встречал! То упирался руками и ногами, когда я его из Чрезвычайки выволакивал — кто другой бы черту душу продал оттуда вырваться. Только тем и убедил, что анекдотец из собственного каррикулюм витэ29 ему напомнил. Так он — на анекдотец-то — возьми и засмейся. На Гороховой и в его положении, извините, чувства юмора не потерять? Не так уж плохо для некадрового.
— Я принципиально против некадровых в подполье, — недовольно возразил Некрасов. — Дело тут не в храбрости, а в дисциплине. Насколько я успел узнать Ржевского, он вообще не имеет представления о том, что это такое. Такие, как он, еще неплохи на фронте, но здесь… Честно говоря, я оставил его только потому, что переброска ввиду наступления работает в основном на вход, а на выход — только в случае крайней необходимости. Мне вообще не хотелось его использовать до большой стрельбы. Ну да ладно — все равно больше некого. Пойдет к эсерам.
— Стало быть — до заварухи? — Зубов, из-за штатского наряда, отвесил Некрасову светски легкий поклон, контрастировавший с простоватой развязностью его слов. Через мгновение до Юрия донесся его громкий, чуть грассирующий, полный радостной жизни голос: — Счастливо оставаться, господа! Тутти, ангел, вернусь — всенепременнейше доиграем!
13
— Слушай, ты всегда такой вежливенький? — Зубов шагал широко и стремительно, однако что-то в его походке невольно наводило на мысль о том, что он должен очень легко вальсировать или танцевать мазурку. — Стенич — славный малый, но бывает иногда ослом. Когда он лез к тебе с философией, ты больше всего хотел послать его к… матери вместе со всем нероновским Римом. Потому, что плевать тебе сейчас на античную историю. Тебе же одного хочется — молчать. И чтобы к тебе обращались только по делу. Скажешь — не так? Est-ce que за te gHne si je te tutoie?30
— Зa va. — Сережа поддал ногой отвалившийся с какого-то фасада завиток лепнины. — Pour un anarchiste. Quant a l'histoire ancienne… Je ргйfиrе que les autres ignorent mes sentiments… Toi suffit31.
— Ну и паскудное же у тебя произношение.
— Не страдаю насморком.
— Видал я пижонов, но таких, как ты, не доводилось даже среди наших высоколобых.
— Я возрос в либерализме.
— Заметно, иначе не был бы таким снобом. Тебя хоть раз секли в детстве?
— Нет, конечно. — Сережа засмеялся. — Только растаскивали по разным комнатам, когда мы с братцем дрались.
— У тебя один брат?
— Да, был. Женька. Погиб в восемнадцатом.
— Я тоже рос вдвоем с братом. Он умер за год до войны, в Биаррице. Легкие. Только нас по комнатам не растаскивали. — Зубов улыбнулся. — Помню, мы как-то с Ленькой сцепились на теннисной площадке… Новенькая такая была площадка, только что красным выложили — отец грунтовальщиков из Англии выписывал, вокруг кусты сирени — ох и катались мы по этой площадке! Четыре часа кряду дрались. Только как-то упустили при этом из виду, что этот новый корт с открытой веранды был виден, как арена в античном амфитеатре. А на веранде, по случаю приятственной погоды, отец со своим кузеном, дядей Костей, разбирали какие-то свои министерские бумаги… Не считая маменьки, которая ввиду буколической атмосферы им собственными ручками подавала кофей. Дядя Костя голову от бумаг поднимет, взглянет: «А не впустую я Леониду бокс показывал». Отец не поворачиваясь: «Что, все дерутся?» — «Дерутся». — «Надо же», — и за бумаги.
— Я бы сказал, что либеральнее жилось тебе.
— Черта с два! Я как-то отцовские часы раздраконил — Александровские такие, с боем и амурчиками, разбирал я один, Ленька с кузенами только любовались. А высекли всех четырех — за милую душу. А уж корпус… Карцер — это тебе не «по разным комнатам», про дранье я не говорю, дранье по сравнению с цугом — сущая ерунденция.
— С чем?
— Цугом. Жаргонное словечко. Это когда тебя будят часа в три ночи и заставляют говорить таблицу умножения на девять.
— Я бы не стал.
— А «темную» не хочешь? Причем, заметь, «темная» — это далеко не самое унизительное из всего, что с тобой могут сделать за посягновеньице на освященную традицию: «зеленый» делает все, что «соленый» прикажет, — хоть кукарекай. Другие «зеленые» тебя тоже не защитят, кстати. Что б ты один сделал против всего дортуара?
— Револьвер бы вытащил. Сразу за предложением умножать среди ночи.
— И палить бы начал? — с подчеркнутым любопытством поинтересовался Зубов.
— …Не знаю… — смутившийся было Сережа широко улыбнулся, поймав во взгляде Зубова явную насмешку. — Может, и ответил бы. Знаешь как? — Сережа вытянулся во фрунт. — Единожды Зубов — дурак, дважды Зубов — два дурака, трижды Зубов — десять дураков…
— Почему это десять?! — Громкий смех двоих молодых офицеров далеко разносился по пустынной улице.
— А по моей таблице. Граф, с Вами истерика? Воды, нюхательную соль?!
— Нек-ра-сов!..
— Что Некрасов?!
— Некрасов… Ты только и делаешь, что ему отвечаешь свою таблицу… — Зубов, продолжая хохотать, взлохматил рукой Сережину шевелюру. — Шпак ты несчастный.
— Почему это — шпак? — Сережа резко остановился и взглянул на Зубова, недобро суживая глаза. — Убийца не хуже тебя.
— Хуже. — Зубов тяжело посмотрел на Сережу. — Убийца из тебя куда хуже. И не лезь равняться.
— Слушай, а иди ты…
— Брось, я прав. — Лицо Зубова сделалось надменным и жестоким. — А теперь слушай меня. И все, что я сейчас скажу, вбей в свою упрямую башку. Перестань грызть себя поедом. Дался живьем, не уничтожил документов, не лучше ли пустить пулю в лоб? Смерть для недоноска. Пойми ты, офицерами не рождаются, а становятся — и не в момент производства в чин. Ты сейчас на рожон полезешь, но я знаю, что говорю: в тебе еще нету настоящего чувства офицерской чести. Бывает безупречность, которая не стоит гроша, — та, что существует до первой ошибки. Эдакая девственная пленочка на душе. И первая ошибка ее рвет, больно рвет, как ты мог заметить. И тогда это должно преодолеть. Пойми, ты еще не имеешь права судить себя мерилом чести русского офицера Офицер должен быть безупречен — и к тебе это придет. И знаешь, что изменится тогда? Станут невозможными гамлетовские терзания. Просто ты всегда будешь знать, надо ли пускать в лоб пулю.
— Ладно, comte. Все сие я уж как-нибудь вколочу в свою «упрямую башку». Хотелось бы мне только знать, как ты обо всем догадался.
— Вспомнил себя на Германской. — Зубов смотрел на Сережу с нескрываемой насмешливой нежностью. — Думаешь, мне было легче?
— Так ты — тоже…
— Конечно. И я, и Некрасов, и кто угодно… Ну что, стреляться пока не будем?
— Смотря на поведение Вашего Сиятельства, которое, кстати, пять минут назад нанесло моей прическе оскорбление действием… Ладно, уже четвертый перекресток, намечаемый мною конечной точкой нашей небольшой прогулки. Я зачем-то сдался Некрасову. Честь имею откланяться, comte, примите мои глубочайшие и тому подобное.
— Я знаю, на что вы сдались Некрасову, и не имею вас с этим поздравить, г-н прапорщик. — Зубов сопроводил слова шутливо церемонным, екатерининским плавным взмахом руки. — Ох и наешьтесь каши, Ржевский, общаться с эсеровской публикой!
14
— Г-н штабс-капитан!
— Вот что, Ржевский. — Прозрачно взглянув на Сережу, Юрий взял из бювара запечатанный уже конверт. — Первое ваше подпольное задание таково: завтра в четыре дня вы пойдете на контакт с эсеровской группой некоего Опанаса. В случае (этот вопрос вы предложите, и только непосредственно Опанасу) гарантии полной согласованности боевых действий с моим планом… Упомяните, что сами они представления не имеют о данном укрепрайоне… передадите этот пакет. Здесь он найдет… впрочем, он разберется сам. — Некрасов был бы искренне удивлен, если бы понял, что нарочито пренебрежительная пауза и излишний, не относящийся к делу смысл продолжения фразы преследовали цель вызвать эту холодную вспышку ярости в глазах Сережи. — Этот Опанас, насколько я знаю, боевик каторжной школы, очень опасен. Держитесь с ним корректно, как с союзником — он должен видеть, что мы ведем с ним честную игру, на данном этапе наши цели совпадают. Их связной встретит вас у Елагина моста, на первом от входа парковом мостике. Опознавательный знак — этот томик Надсона. Ответ — сложенный листок бумаги. Вам понятны инструкции?
— Так точно, г-н штабс-капитан! — Сережа, прежде чем положить книгу во внутренний карман куртки, с демонстративно насмешливой улыбкой пробежал глазами титульный лист. — Спасибо, что не Ивана Рукавишникова.
15
Дребезжащий вагон, зазвенев плохо пригнанными стеклами, остановился, немного не доехав до Елагина моста. Обрадовавшись возможности покинуть переполненный трамвай, Сережа спрыгнул с подножки, не дожидаясь, пока вагон тронется вновь. Дорога до назначенного мостика заняла быстрым шагом не более пяти минут: взглянув на часы, Сережа убедился, что пришел почти на полчаса раньше. Вытаскивать треклятый томик Надсона было, очевидно, рано. «И собственно, почему морщиться при слове „Надсон“ является признаком хорошего тона? Я пошел давеча у этого на поводу — хотя скорее это был повод хоть как-то взбесить Некрасова. Но Надсона я тронул ради этого зря. Он не поэт — но он как-то слишком беззащитно чист, и морщиться на него грязновато…» Сережа, насвистывая, прошелся несколько раз туда и обратно по мостику. Мимо прошли красный курсант, обнимающий за талию девушку в кожаной юбке и лихо заломленном берете. Курсант на ходу скользнул по Сереже настороженно-подозрительным взглядом. «Нюхом, что ли, чуют?» Сережа, продолжая насвистывать, склонился над чугунными перилами, наблюдая колеблющееся отражение колыхаемой ветром листвы в неподвижной воде. Прошли еще два курсанта: до Сережи долетели слова «набор» и «доппаек».
— Послушайте, милый юноша, доставайте немедля то, что должны показать, и следуйте поживее за мной, если, конечно, не сошли с ума окончательно! — Сережа, вздрогнув, с изумлением обернулся на неожиданно возникшую за ним девушку лет двадцати. В голосе ее звучало еле сдерживаемое негодование.
— Простите, mademoiselle?
— Ну же! Я жду! — Девушка, лицо которой было затенено складками ажурной черной шали, нетерпеливо топнула ногой. Нога, мелькнувшая из облегающей черной юбки, была маленькой, узкой, обутой в открытую черную туфельку, державшуюся на трех переплетенных тесемках не шире часового ремешка. Ее платье, выше локтей открывающее руки, было еще мыслимым для ресторанного зала, но представлялось просто невозможным на улице и в дневное время. Однако то, что в первое мгновение подумалось Сереже, было несомненной ошибкой.
Продолжая недоумевать, Сережа вытащил из кармана лиловый томик Надсона в скороходовском издании.
— Все верно. — Щелкнув серебряным замочком маленькой шелковой сумочки, девушка вынула и показала Сереже сложенный вчетверо листок чистой бумаги. — Идемте! Не спешите слишком явно. Возьмите меня под руку. У той скамейки ненадолго сядем.
Приноравливаясь к мелкому шагу девушки, Сережа пошел неторопливой, прогуливающейся походкой, почти открыто рассматривая обращенное к нему в три четверти лицо. Незнакомка оказалась старше, чем по первому впечатлению: ее чрезмерно узкое, с японскими глазами и острыми скулами бескровное лицо было тронуто у рта и век сеткой еле обозначенных усталых морщинок. Это придавало лицу отпечаток какой-то трагической, беззащитной хрупкости. Хрупкой и узкой казалась и лежавшая в Сережиной руке маленькая рука, украшенная тоже очень «не дневным» браслетом: сплошь уложенные пиропы образовывали обвившуюся вокруг руки змейку. Это был модерн в самом изысканном своем воплощении.
— Гранаты вовлекают в гибельные страсти всех, кроме Дев и Стрельцов, — перехватив Сережин взгляд, неожиданно произнесла девушка. — Чем сильней вовлекают, тем ярче горят. Но мне это безразлично. Это — подарок Артюра. Он сам это сказал, но все же подарил. Может быть — именно поэтому. Артюр — мой жених, который погиб в особняке Морозова в Трехсвятительском. Он был с Поповым.
«Ох и наешьтесь каши, Ржевский, общаться с эсеровской публикой», — прозвучали в ушах шокированного Сережи веселые слова Зубова.
— Если это не прозвучит нескромностью, mademoiselle, — чуть отстраненно проговорил он, опускаясь рядом с незнакомкой на скамью, — как мне надлежит обращаться к Вам, позволено ли мне будет представиться, и чем я только что имел несчастье вызвать Ваше неудовольствие?
— Надо же иметь голову на плечах. — По бледным губам эсерки скользнула похожая на тусклую бабочку улыбка. — Чем Вы занимались на мостике?
— С Вашего позволения, любовался игрой отражений.
— Своевременное занятие. А больше Вы таки ничего не делали?
— Размышлял о Надсоне.
— Мило. Только помимо этого Вы еще и насвистывали.
— …Простите?
— Не делайте таких изумленных глаз. «То ли дело, то ли дело под шатрами…» Прибавить к этому выправку. Рядом — училище комсостава. То, что Вас не сгребли под белы ручки на выяснение личности, я могу объяснить только клиническим идиотизмом курсантов, что гуляли вокруг.
— «В поле лагерем стоять!» — Сережа негромко расхохотался. Засмеялась и незнакомка: смех ее показался Сереже неожиданно живым и тоже чуть фарфорово-японским. — Mademoiselle, я — осел! Но теперь мне ясно, почему Вы узнали меня раньше, чем я вытащил Надсона.
— Очень трудно было бы не узнать и без этого. Беда с вами — вы все, монархисты и кадеты, не имеете малейшего понятия о конспирации.
— Не судите строго, mademoiselle, мы — военные, а не заговорщики.
— В том-то и дело. Что же до первых Ваших вопросов — мы слишком ненадолго друзья, и наш строгий принцип — чем меньше информации друг о друге, тем лучше. Не будем отступать от него и в малом. Моя партийная кличка — Елена. Этого довольно. Представьтесь одним именем или назовите звание — для обращения.
— Je suis un enseigne32, — Сережа, невольно скривившийся от слов «партийная кличка», непроизвольно подчеркнул свою политическую означенность, выбрав из предложенного звание, а не имя. — Но все же мне не хотелось бы обращаться к Вам с не заслуженной мною короткостью. Может быть, снисходя к моим монархическим предрассудкам, Вы назовете отчество?
— Я — Елена.
…Ронстон. На какое-то мгновение Сереже показалось, что с губ девушки на самом деле слетела эта таинственно влекущая фамилия… Бред… Но непонятный стиль ее облика стал ясен отчетливо и мгновенно. Вкус в безвкусице, томный надлом всех сплетающихся в экзотический цветок модерна линий, ночной облик среди дня, чуждый дню — богема. Женькина петербургская жизнь. Каким Женькиным повеяло сейчас от этой усталой девушки!..
— Артюр — тоже кличка?
— Разумеется. Мертвых можно называть по именам — Владимир Горчаков. — Девушка тронула тонкими, с синеватыми ногтями пальцами край шали. — Мы обручились еще в гимназии, мы были одногодками. Артюр был тогда милым мальчиком вроде Вас, но в нем уже проглядывала схожесть с его кумиром, имя которого он взял. Он был из лучших наших боевиков. Впрочем, Вам, монархисту, не может быть понятно, что такое боевик.
— Вероятно, — не вдумываясь, ответил Сережа, следя за ленивым движением маленькой ноги, очерчивающей полукруг по песку перед скамейкой. «Как туфель черная тесьма Тройным сплетается извивом»… Из какого-то номера «Аполлона»… Чьи? Что там еще было? —
Принять ли подлинно за ложь Твои небрежные признанья, Что восемь жизней ты живешь… -негромко процитировал он вслух.
Храня о всех воспоминанья, -совсем тихо продолжила Елена.
— Вы помните это стихотворение?
— Нет, только сейчас вспомнила.
— Я тоже.
Девушка окинула Сережино лицо внимательно-напряженным взглядом, словно что-то отыскивая в нем. Губы ее дрогнули.
— Нам пора.
16
Штаб-квартира группы Опанаса, помещавшаяся в небольшом доме недалеко от Елагина моста, оказалась на старый лад двухэтажной, по первому впечатлению Сережи — уютно запущенной в сравнении с военизированной строгой холодностью монархистской явки. От окурков и ореховой скорлупы на ковре, грязной обивки кресел, тарелки с огрызками сыра, забытой кем-то на покрытом дорогой камчатой скатертью круглом столе, — от всего этого ярко освещенного вечерним солнцем в высоких узких окнах беспорядка веяло все той же беззаботной жизнью богемы. Впрочем, грязи было все-таки слишком много. Словно окончательно утверждая богемную атмосферу этого обиталища, над облезлым беккеровским роялем висел портрет Рембо, сделанный в карандаше каким-то любителем.
— А, ты с золотопогонником. Я и за… — Конец фразы увяз в тяжелом мокром кашле. Человек, полулежащий в качалке в углу, образованном ведущей наверх некрашеной лестницей, поднес ко рту платок. — Я и забыл. — Эсер впился в Сережу цепким, внимательным взглядом. Очень худой, лет тридцати на вид, одетый, несмотря на жару, в широкую цигейковую душегрейку, с всклокоченной копной черных вьющихся волос, с хищновато резкими чертами лица и неестественным румянцем на впалых щеках, он выглядел очень больным. — Что ж, составим знакомство. Марат.
— Прапорщик Сергей Ржевский.
— Фу ты ну ты, как громко. — Эсер обернулся к Елене. — Что ж ты не предупредила их благородие, что мы на лишнюю откровенность не напрашиваемся.
— Благодарю Вас, я был предупрежден. Я представился невольно — у меня нет привычки где бы то ни было скрывать свое имя. Да и особой необходимости в этом я не вижу. Я могу видеть Опанаса?
— Скоро будет. — В голосе Марата прозвучала насмешка. — Располагайтесь как дома, г-н прапорщик, у нас без церемоний.
— Благодарю Вас, не беспокойтесь. — На потертом ампирном диване в беспорядке лежало несколько книг. Сережа с демонстративной непринужденностью уселся поудобнее и небрежно взялся за их изучение. Первая книга оказалась лондонским изданием Бердслея, вторая — дореволюционным сборником народовольческих песен. Другие книги были по большей части разрозненными номерами старых журналов. Потрепанную «Ниву» Сережа заметил и на коленях покачивающегося в кресле Марата.
— А что, разве Искандер с Опанасом? — Елена сняла шаль. Ее недлинные блестящие волосы, схваченные только одной бархатной ленточкой, упали на плечи.
— В том-то и дело, что нет. Не знаю, куда он сорвался. Беспокоюсь я за Сашеньку, что-то зарвался мальчишка. Взбесился с утра до истерики — видишь стекло? Маузером грохнул, рукояткой. И умчался. Я, как назло, валяюсь сегодня мертвяк мертвяком — не мог задержать.
— А не нанюхался он?
— Не похоже.
— Из-за чего тогда взбесился?
— Ясно, из-за чего. — Марат скрипнул зубами. — «Я им, падлам, покажу, кто разоружился! Боевики не разоружаются!..»
Лениво перелистывая плотные страницы, Сережа, исподволь наблюдавший за Еленой, увидел, как в ее лице проступила ненависть, странно смешанная с отчаяньем. Смысл полунепонятного диалога нес в себе что-то нехорошее, но прозвучавшая в нем открытая и естественная забота друг о друге против Сережиной воли вызвала у него симпатию. На Сережу словно повеяло полузабывшейся искренностью несветской Москвы, давней Москвы, где не так стремятся скрывать слезы за отрепетированными улыбками, а волнение за непроницаемой бесстрастностью… Эти люди не находили нужным скрывать свои чувства. Перед Сережей возникло холодное лицо Некрасова. Поддаваясь неожиданно всколыхнувшейся в душе тоске по родной среде, он не помнил и не хотел помнить о том барьере отчужденности, который сам аристократически возводил между собой и другими в искреннем мире демократичной Москвы… Только неосознанное стремление всегда идти наперекор тому, что принималось всеми вокруг, заставляло его скучать по московской открытости там, где эталоном поведения была отчужденная холодность вышколенного офицерства «Только Зубов… Но Зубов вернется не скоро».
— Ты опять кашляешь?
— Не видишь, что ли? — заходясь кашлем, зло огрызнулся Марат. Елена, нимало не обидевшись на явную грубость, взяла со стоявшего рядом с качалкой столика высокий пузырек и начала отсчитывать в стакан капли. Сережа почти физически ощутил, как падает на лицо невидимое ледяное забрало: отсутствие барьеров и внимание друг к другу выливалось у этих людей во взаимное неуважение, в котором таился тяжелый, пронзительный надлом. Надлом и истерика, повисшая в нагнетенном воздухе. Сережа перевел взгляд на разбитое окно.
Сосредоточиться на Бердслее было невозможно и, кроме того, не очень хотелось. Сережа нехотя поднялся с дивана и подошел поближе к карандашному портрету.
— Рисунок не очень хорош. — Неслышно подошедшая сзади Елена стояла рядом с Сережей.
— Я бы не сказал, хотя недостает техники. Но зато хорошо схвачено выражение. — Сережа смотрел уже не на портрет, а прямо в тревожные глаза Елены.
— Артюр рисовал его еще в гимназии. Я говорила вам о том, что Рембо очень много для него значил.
— Это не странно. Его поэзия — своего рода магнит для всех, кто силен.
— Чему Вы улыбаетесь?
— Так, пришла забавная мысль. — Сережа снова обернулся к портрету. — На заре правления Менелика пришел и встал на его сторону с оружием в руках один европеец, за закате — другой. И оба — великие поэты.
— Гумми? — Елена пренебрежительно усмехнулась. — Он — монархист.
— Moi aussi33.
— Нелепость какая-то… — Елена так же, как и Сережа, вдруг очнувшись, взглянула на него недоумевающе и растерянно. — Мы же враги.
— Сейчас — нет. — Сереже было непонятно, почему выговорить эти такие естественные с точки зрения логики слова стоило внутреннего усилия.
— Сейчас — нет, — каким-то тусклым и отсутствующим голосом повторила за ним девушка, поднося ко рту длинную папиросу. Папироса была не зажжена, и, обнаружив это, она усмехнулась своей забывчивости. Сережа чиркнул о подоконник спичкой и, протянув ей огонь, закурил сам.
— Но надо Вам сказать, что Рембо любят и монархисты.
— «Я протянул золотые цепи…»?
— Х-м, да. И это.
— Чему Вы морщитесь?
— Не люблю, когда Рембо цитируют по-русски. Его невозможно переводить.
— Вы, г-н монархист, церковноприходское оканчивали? — Марат, приподняв всклокоченную голову от журнала, качнулся в качалке.
— Не строй из себя осла. — Елена с выражением мучительного внимания обернулась к Сереже. — Мне кажется, я понимаю Вашу мысль. — Ведь «Etoile» это не «звезда», не правда ли?
— Я это имел в виду. «Etoile» — нечто из картинок Рождества. Покрытое сусальной позолотой. Сусально золоченые — они висят в черном праздничном небе, и между ними-то и можно протянуть золотые цепи. А между звездами — нет. «Звезда» — не «Etoile», но и не «star». «Star» существует неотделимо от пейзажа Тает снег, падает листва, «star» заходит… Единое целое, не так ли? Etoile — то, к чему можно подвесить золотую цепь, star есть, пока ее видно, а звезда.. Звезда всегда есть. Русское восприятие совсем иное.
— «Лучей твоих неясной силою…»
— Да… «Одна заветная…» Более, извините за дурной каламбур, астральное понятие.
— A «feniktre»?
— И «feriKtre» не «окно». Окно, око, то, чем смотрит дом. Взгляд изнутри наружу. «Прорубить окно в Европу»… «FeriKtre» не прорубишь. «FeriKtre» — освещенное фонарем из темноты… Через переплетения ветвей черного сада… А в нем — движенье теней… Волшебный фонарь. Взгляд снаружи внутрь. Тут можно повесить гирлянды от одного к другому… — Сережа, словно не замечая недовольных взглядов Марата, продолжал болтать, мучительно перебарывая ощущение раздвоения в душе. «Ничего не понимаю… Не легитимист же я в самом деле… Мы — люди одной культуры, которую мы сейчас и защищаем. Это — выше всего, даже моего дворянства, которое я, впрочем, ни одной сволочи не дам отменить… Мы — люди одной культуры».
— А гирлянды — цветные фонарики. Потому, что в этой строке ощущение освещенного в темноте.
— А по-русски получается, что гирлянды висят внутри дома. — На щеках улыбнувшейся Елены проступил слабый румянец, и это сделало ее особенно беззащитной — невозможно было представить, что за худенькими плечами этой девушки стоит по меньшей мере десяток спокойно взвешенных и хладнокровно исполненных убийств: в этом ощущалась невыносимая нелепость. Но именно это противоестественное мужество вызывало желание загородить, спасти, укрыть ее. Это неожиданное желание было сильным, слишком сильным.
— Да, Рембо — самый непереводимый поэт. Помните «Парижскую оргию»? Ведь женщина, над которой надругались, — это Paris. А по-русски выходит совершеннейшая нелепость…
— От Кольки Кошелькова вам с кисточкой! — В дверях стоял очень бесшумно вошедший молодой человек лет восемнадцати-девятнадцати, одетый непривычно хорошо — в твидовый, по сезону, светлый модный костюм с зауженными брюками и накладными плечами, явно сшитый у портного. Обувь и гладкая прическа тоже соответствовали костюму, однако в заурядной внешности вошедшего что-то ощутимо диссонировало с его элегантным нарядом, и это особенно проступило в его расхлябанной — руки в карманы — походке, когда он прошел к поднявшемуся ему навстречу, теперь выглядевшему особенно лохматым и неопрятным Марату.
— Здорово живешь, Марат. Лелечка, целую ручки: «А может быть, в лимонном Сингапуре Огромный негр Вам подает манто…»
— Маркиз! Режьте меня на куски, если это не Пашка собственной персоной, — обрадованно засмеялся Марат. — А мы с Искандером в прошлом месяце слышали — тебя замели!
— Ищи груздя в кузове. — Молодой человек присвистнул.
Марат и Елена засмеялись.
— А че, Искандер здесь? — Молодой человек вытащил из золотого портсигара с голубым мундштуком папироску. — Я его, стервеца, с тех пор не видал, как втроем с Яшкой Блюмкиным с побрякушками в Москве шелушились…
— Яшка, падло, к бэкам перекинулся, — сквозь зубы процедил Марат. — Будь срок — своими руками пришью гниду…
— Эх, милые бранятся… — Гость, которого Марат назвал Маркизом, жеманно рисуясь, выпустил папиросный дымок. — Глядишь, и не понадобится…
— На руках бэков — кровь братоубийства. — Голос Елены прозвучал металлически ровно.
«Некрасов прав» — эта мысль вспыхнула единственным логическим маяком, к которому стремились Сережины попытки хоть что-нибудь понять.
— Шальные вы, политика. — Гость зевнул. — То в обнимочку, то в резаловку… Мы дак с новой властью завсегда столкуемся… А уж с бэками — особливо. Первым делом — уговор дороже денег: мы их не замаем, они нас не обижают, сироток горемычных. К обоюдной, заметим, выгоде. Да и потом — завсегда жентельменское соглашеньице оформить можно: мы — вам, вы — нам…
— Шкуры вы все-таки — счетов не сводите. «Кто — вы? — Мысль отчаянно блуждала в алогичности какого-то сновиденного абсурда. — Не анархисты, потому что не политика. Кто же? С кем тут расклад, и знают ли о нем наши?»
— Оченно даже сводим, когда надобность. А насчет шкур бабулька надвое сказала. Шкура, она, первое, у каждого одна и своя. А второе — на себя оборотись насчет бэков. Табачок-то у вас и врозь, а хлебушек, бывает, и посейчас вместе.
— Бывает, — Марат усмехнулся.
— Сашка-то что?
— Да будет скоро. О деле сперва потолкуем, а встречу вспрыснуть уж потом?
— У Кольки на это железно. Потолкуем на тет-а-тет. А слышала, кстати, Лелечка, как Колька на Первомайскую в Москве фартово развлекся?
— Нет, расскажи. — В голосе Елены звучал неподдельный интерес к словам этого нестерпимо вульгарного и не вызывающего доверия человека.
— Демонстрация, значит, от Никитских, — с явным удовольствием заговорил гость. — «Мир насилья разроем», флаги, пролетарии, все чин чинарем, чекисты в коже. Вдруг навстречу мотор с открытым кузовом, мотор — посреди улицы, по тротуарам с боков по двое с винтарями. Извиняй, товарищи дорогие, частная собственность не одну душеньку православную на корню загубила. Будем от предрассудков высвобождаться. Но народец, спасибочки бэкам, к экспроприациям попривык, не спорит. Доверху кузов накидали, пока до Манежа ехали, и котлами и бумажниками.
— Времени не теряете, — хрипло рассмеялся Марат. С искренним удовольствием рассмеялась и Елена, Елена, несколько минут назад с увлечением говорившая о Рембо: это было мучительно.
— Такое времечко, как нынешнее, терять грех, — усмехнулся гость.
— Эх, будь у Кольки голова на плечах, — Марат опять закашлялся. — С его силами — любое правительство в полдня сковырнуть.
— А что нам с этого за приварок?
— Эх, шкуры вы, шкуры…
Сережины мысли снова вернулись к Зубову: «Ох и наешьтесь каши, Ржевский…» Такую кашу мог бы расхлебать только Платон, непогрешимое чутье которого позволяло ему беспечно разгуливать по Чрезвычайке. «Всю эту публику Платон знает лучше, чем она сама себя знает. Они не могут видеть себя со стороны, а он каким-то образом может наблюдать изнутри весь несложный механизм их душевных движений… Я готов биться об заклад, что он несложен и здесь: я всего-навсего не знаю составных частей. Все должно быть просто, очень просто… Как тогда Платон все расставил на свои места одной коротенькой фразой: Чека — та же малина. Именно в этот момент я понял все. Но, для того чтобы это говорить, он должен был очень хорошо представлять себе, что такое настоящая малина, — этого я не знаю, поэтому я не мог понять этого сам… Господи! Дурак, как же я раньше не понял!»
Сережа тихо рассмеялся, с новым вниманием разглядывая гостя эсеров: казалось, что каждая вульгарная черта этого человека спешила теперь предоставить лишнее доказательство несомненной разгадке.
— Слушай, а это что за фраер? — с вызывающей расстановочкой процедил гость, обращаясь к Марату. — Что-то мне его портрет незнаком. Ты, парень, представься для политесу! Заодно уж скажи, что тебя разбирает, — вместе посмеемся. А то слова не сказал, уставился как солдат на вошь, да еще зубы скалишь. Оно ведь и обидеться можно.
— Если у тебя, — Сережа медленно поднялся и с неподвижным лицом отпечатал один шаг по направлению к Маркизу, — еще раз, скотина, повернется язык тыкать офицеру, в следующую секунду ты у меня окажешься двадцать вторым.
— Миль пардон. — Молодой человек с шутливым испугом, но довольно поспешно отступил к стене. — Не заметил по глупости, что Юденич в Питере.
— Без шуток, скоро будет. Ладно, пошли потолкуем. — Марат, под локоть увлекая гостя к двери, ведущей в комнатку за лестницей, на ходу обернулся к Сереже. — А Вы, прапорщик, все же не у себя на плацу.
Сережа пожал плечами. Собственная вспышка уже казалась ему немного смешной. На некоторое время в гостиной воцарилась неловкое и напряженное молчание.
— Почему Вы сказали — двадцать вторым? — заговорила наконец Елена. — Вы считаете? Зачем?
— Не нарочно. Я не знаю, почему так получается. Может быть — просто хочется знать, сколько раз меня следовало бы приговорить к пожизненной каторге по законам мирного времени. И к смертной казни. Иногда странно осознавать себя убийцей, которому незачем скрываться. Мне девятнадцать лет, убийство в год — не хватило бы моей жизни. После этого довольно смешно вспоминать о нашумевших газетных процессах. Двоих — шашкой. Я делаю сегодня много глупостей. Если бы я пристрелил этого подонка — вышла бы масса нежелательных осложнений между нами.
«А ведь я не поручусь, что не хотел осложнений. Может быть, поэтому я и взорвался. Меня, как мальчишку, против моей воли тащит по течению — и я впервые в жизни хочу провалить порученное мне задание. Более того, я хочу нарушить приказ. Это немыслимо, почти невозможно, — я заставлю себя его выполнить».
— Нет, это не было глупо. Вы были в этот миг невероятно хороши, Вы сами не можете представить — до чего Вы были хороши. — Елена, подошедшая к Сереже, дышала взволнованно и часто. — Вдруг Вы казались таким безобидным щенком, на мгновение мелькнули зубы зверя, который в Вас есть… Господи Боже мой, ведь самое ужасное в том, что Вы правы…
— Я? В чем?
Вопрос был задан машинально: Сережу испугало лицо Елены, исказившееся, как в неожиданном испуге удушья. Еще мгновение — и она, бросившись на диван, забьется в хриплом крике истерического припадка… Этот воющий, захлебывающийся крик выплескивался из ее взгляда, рвался с полуоткрывшихся губ…
Почему он утонул в темноте зрачков, этот крик? Еленино лицо сделалось бесконечно старым.
— Когда был Артюр… когда мы были моложе, — наконец заговорила она, — все было не так… Мы были… гордыми, мы были очень высокими, а теперь-Теперь!.. Бьемся, как мухи, в нами же сплетенной паутине… Артюр еще был жив, когда мы впервые не на словах стали доказывать то, что цель оправдывает… средства… Но тогда еще не было так видно, к чему это приведет… А теперь?! Теперь?
— Послушайте, — справляясь с перехватывающим дыхание спазмом, быстро заговорил Сережа — Зачем Вы берете на плечи мужскую ношу? Такую ношу, зачем?.. Господи, да неужели же эти… Ваши друзья не видят, что вам надо отдохнуть от всего этого кошмара?
— Это невозможно. — Елена, не отводя глаз от Сережиного взгляда, горько усмехнулась. — Поймите, Вы — считаете… А мне незачем считать, во мне давно уже нет ничего, кроме убийства. Я уже не Елена — сгорело все, остался один пепел.
Сереже показалось, что обращенные к нему молящие черные глаза приняли лишенный блеска цвет выжженной земли — вспомнилась сгоревшая после какого-то боя степь на Дону.
— Я уже не могу не убивать, я уже давно — машина, которую кто-то завел… Смысл, который в этом был, тоже сгорел. Вчера — вас, сегодня — бэков, кого завтра? Все смешалось, потерялось все, чему мы служили, — я уже ничего не понимаю… Только привычка убивать — это единственная оставшаяся реальность, без этого меня вообще не было бы… Простите. Я должна привести себя в порядок.
Елена поднялась и неверной, спотыкающейся походкой вышла из гостиной. Сережа остался один.
«Так страшно мне уже не было давно. И такого невыносимого ощущения собственного бессилия я не испытывал даже на Гороховке… Когда до такой степени ничего не можешь сделать…»
Сережа подошел к портрету Рембо, от него — к выходившему в заросший тополями двор окну. Несколько шагов отделяло окно от двери в комнату Марата: до Сережи донеслись невнятные голоса собеседников.
«Но если мы будем некоторое время контактировать… Может быть, все же… Почему — если? Ведь именно для того, чтобы установить этот контакт, я и нахожусь здесь».
Из окна с разбитой створкой потянуло сквозняком: дверь в комнату под лестницей со скрипом приотворилась. Сережа увидел Маркиза, в демонстративно развязной — нога на ногу — позе развалившегося за столом. Маркиз курил, глядя через стол, — видимо, на Марата.
«Машина, которую кто-то завел… А кто завел всю эту машину, весь этот многоступенчатый механизм бойни? Есть ли в этом чья-то осознанная воля, или это уже просто вырвавшийся наружу, пугающий древних всепожирающий Хаос? Если бы понять хотя бы это!»
— Мокрухи боитесь? — Донесся до Сережи неожиданно севший презрительный голос Марата.
— Наш профиль — галантерея. — Гость еще развязнее уселся на стуле. — Все выгоднее становится работать — что с бэками, что с вами… Вам — маму родную не жалко, хлебом не корми, дай под стрельбу сунуться. А бэки, наоборот, трусливее стали, зажрались… И честности промеж них мало — помнишь небось лбовские денежки?
Сережа с отвращением отошел от окна.
— Я прошу меня извинить. — Еще опухшее от слез лицо подошедшей к Сереже Елены было спокойным. Приглаженные волосы еще блестели от холодной воды. — Я, вероятно, больна. Не знаю, что на меня нашло.
— Это я должен у Вас просить прощения. Я коснулся того, во что не имею никакого права вмешиваться.
— Вы правы.
— Выходит, я запоздал.
При этих без усилия громко прозвучавших словах лицо Елены мгновенно сделалось собранным и строгим. Вошедший, широкоплечий и высокий человек лет пятидесяти, с наголо бритой, крупной, выразительной лепки головой (лохматые брови и длинные усы обнаруживали седину), в вышитой крестом красными и черными нитками сорочке, ворот которой виднелся из расстегнутой тужурки, окинул Сережу тяжелым и острым взглядом глубоко посаженных маленьких глаз.
— Полагаю, что Вы ждали меня. Я — Опанас.
17
«Хоть бы одна вылазка без перестрелки… Голова как с похмелья». Некрасов взглянул на часы, слегка досадуя на отсутствие Сережи: его донесение висело последним делом, не завершенным еще за день.
Скользнув взглядом по книжной полке, Юрий остановился на латинском томике карманного формата. Это было описание войн с Ганнибалом. Профессионально предпочитающий античные описания военных кампаний строкам Катулла, Юрий прилег с записками на диван и, пролистав большую часть книги, углубился в последнюю африканскую кампанию полководца. Звонок оторвал его от битвы при Заме, на которой он, по сохранившейся с юнкерских времен тайной привычке, невольно начал высчитывать контрдействия, предпринятые бы им на месте римского военачальника.
«Выслушать Ржевского и — спать! К черту».
— Некрасов! — Голос Стенича за дверьми прозвучал встревоженно.
— Да, я сейчас выйду.
Юрий накинул куртку, но выйти в гостиную не успел: дверь растворилась ему навстречу. Худощавый пожилой человек, закрученными усиками и какой-то немецкой сухостью невольно вызывающий в памяти фотографические портреты кайзера Вильгельма, торопливо кивнул Юрию.
— Ну и заварили же Вы кашу, штабс-капитан.
— Г-н полковник?
— Вот уж не думал, что сегодня придется встречаться с Вами вторично. — Люндеквист устало опустился на стул. — Скажите, Некрасов, Вы действительно вступили в переговоры с эсерами?
— Да. Я имел на это полномочия. Хотя я не вполне понимаю, откуда Вы это уже узнали.
— К сожалению — от Чеки.
— Признаться, г-н полковник, Вы высекли меня как мальчишку, — проговорил наконец Некрасов.
— Вы намерены привлечь группу Опанаса для совместных боевых действий. Это на самом деле так?
— Да. Ничего не понимаю. — Юрий коснулся ладонью лба. — У Чеки не может быть так хорошо поставленной агентуры.
— У Чеки ее нет. — Люндеквист вытащил из кармана короткую трубку с янтарным мундштуком. — Сколько Вам лет, Юрий Арсениевич?
— Двадцать семь.
— Так неужели я, я ведь Вам в отцы гожусь, должен Вам объяснять, что Ваши понятия катастрофически устарели? Мы воюем с противником принципиально нового типа, а Вы действуете по старинке… Большевики и эсеры взаимодействуют на межличностном уровне даже тогда, когда идет повальное истребление одними других. Ваши планы выплыли наружу благодаря случайности. Эсер по кличке Малиновка, Розенталь, год назад разругавшийся с Блюмкиным на амурной почве, с ним на днях помирился и в результате разошелся с группой Опанаса, где к Блюмкину отношение очень плохое. И Ваши секреты вместе с носителем оных благополучно расположились в Чеке. Случайность, но очень типическая. Они варятся в одном котле — для чего тут агентура? Любые сведения, полученные эсерами, приплывут к большевикам, как хлеб по водам.
— Мне нечего сказать.
— Зато мне найдется, что сказать Вам. — Люндеквист примял пальцами табак. — Итак, Юрий Арсениевич, по моим, полученным из Чрезвычайки, сведениям, Вы намерены завтра окончательно войти в контакт. К счастью, еще не поздно слегка пересмотреть Ваши планы.
— Поздно, Владимир Ялмарович. — Голос Некрасова прозвучал бесстрастно. — Два дня назад я перенес встречу на сегодня. Мой связной сейчас у них. В случае согласия Опанаса с моими условиями — а оно, наверное, последует, они приемлемы — связной передаст Опанасу карту участка Z с подробным планом укреплений линии прорыва… Теперь только ангелочка с крылышками ждать, чтобы он спас прорыв на таком участке фронта… Вдобавок я провалил и эту явку.
— Ладно, Юрий Арсениевич, бросьте. Такие серьезные ошибки бывают и у превосходных боевых офицеров, каковым Вы и являетесь. Займитесь срочной ликвидацией явки.
— Слушаюсь, г-н полковник.
На этот раз, вслед за звонком и стуком двери, из передней действительно послышался голос Сережи — неразборчивая приветственная фраза, оконченная словами «лучше некуда».
— Связной. Ржевский, зайдите ко мне, — негромко крикнул Некрасов в глубь коридора.
— Сейчас от эсеров?
— Так точно.
— Что ж, послушаем.
— Докладывайте господину полковнику, прапорщик, — сквозь зубы процедил Некрасов, мельком взглянув на вошедшего Сережу, но тут же, невольно насторожившись, посмотрел снова и в упор. Сережино лицо, очень осунувшееся за несколько часов его отсутствия, казалось взрослее. Твердо сжатые губы хранили упрямое и решительное выражение, а серые глаза словно сделались темнее под воздействием какой-то еще не произнесенной, но заведомо нехорошей вести.
— Честь имею доложить, г-н полковник! — бесстрастно отчеканил Сережа. — Мною был получен приказ от господина штабс-капитана вступить в контакт с боевой группой Опанаса.
Люндеквист поморщился.
— Я готов понести всю ответственность за нарушение приказа — предумышленное и не имеющее смягчающих обстоятельств, то есть за срыв контакта. — В голосе Сережи прозвучала бесконечная, безразличная усталость. Словно выполняя необходимую формальность, он говорил, не видя перед собой онемевших от изумления Люндеквиста и Некрасова.
«…Собственно — я уже под полевым трибуналом…» Опять Женька?
— Что Вы сказали, прапорщик?
— Я сорвал боевые действия вместе с эсерами.
— Карта укрепрайона? — Люндеквист подался вперед.
— Вот. — Сережа вытащил из кармана смятый пакет.
На этот раз изумиться пришлось Сереже: Люндеквист расхохотался негромким и мелким, как рассыпавшийся горох, смехом немецкого педанта. Продолжая смеяться, он шагнул к Сереже и слегка тряхнул его за плечи.
— В старые времена тебе дали бы орден и отрубили голову. Ты хотя бы сам понимаешь, зачем ты это сделал?
— Никак нет, г-н полковник.
— У этого паршивца недурное чутье, не так ли, г-н штабс-капитан? Составьте подробный рапорт, прапорщик. Мне сейчас некогда. В другой раз — расстреляю.
«Меньше всего я старался утереть этой историей нос Некрасову. — Сережа, сидя на широком подоконнике рядом с дверью черного хода, смотрел вниз — на не по-московски голый каменный двор. — Хотелось бы знать, о чем тут писать рапорт? Ведь все вышло случайно. Если бы не этот бандит, с которым Опанас поторопился переговорить, у меня не было бы тех пятнадцати минут…»
«Если Вы не против… Пройдемте пока ко мне в комнату». — «К Вам?» — «Да». — «Извольте». — «Не так решительно, прапорщик, засады там нет». — «Тем хуже для меня».
Комната показалась с порога похожей на театральную уборную. Дымка грязи, темнящая оконные стекла, жалкий вид ковра, цвет и узор которого давно растоптан грязной уличной обувью… Много вечернего, дамского на доске трюмо: поломанный сандаловый веер, пуховки, кольца, флаконы, тут же усевшийся маленький бронзовый будда. Остроносая домашняя туфелька на полу. Тесно всюду разбросанные через спинки стульев и ручки кресел (в одном небрежный ворох чего-то женского, кружевного) темные шали, и так неожиданно среди них расцветшие татарские газовые ткани: алый и изумрудный огонь, паутинный золотой блеск. Мгновенная память Крыма.
Два года спустя в сознании вместе с комнатой Елены всплывет и слово «Крым». Сквозной коридор воспоминания.
Но так ли верно, что эта комната напомнила театральную уборную? Быть может, извечное стремление отыскивать в прошлом приметы грядущего через два года подкрасит воспоминание?
Но тогда оживет и еще одно, без чего не сложилось бы облика уборной: ощущение случайного и тягостно ненужного мужского присутствия — во всем Боль, похожая на пощечину. Здесь неуловимо присутствовали и Марат, и неизвестный Искандер, и кто-то еще… Перейденный предел. Стало понятным взаимное неуважение, мучительно затягивающее общий узел, связавший этих людей, — оно вставало с этой постели, кое-как прикрытой темно-зеленым пледом.
К этой постели она отступила на два неверных шага, не сводя с Сережи зовущих, почти приказывающих глаз: вся ее сила ушла в их взгляд, но она не замечала, как, словно произнося беззвучно жалобу, шевелились ее задрожавшие губы.
— Нет, не подходите ближе… Я хочу… я хочу на Вас смотреть. Вы совсем, совсем мальчик… Я никогда не думала, что это…
Еще шаг — и руки сами стиснули тело, такое хрупкое, что показалось, сейчас затрещат кости, но вопреки этому испугу объятие стало еще безжалостней, привлекая все ближе — пока дыхание не захлебнулось в рассыпавшихся волосах.
— Так пахнет черный цвет…
— Твои губы… как причастие… они все могут смыть… все… Нет! Не надо… Сейчас нет времени… Не сейчас…
— Мне здесь.
— Да, да… Но у нас будет время, оно у нас будет… Если ты пришел с тем, о чем говорили… Скажи, скажи мне! Честная ли это игра? Что будет, когда ваши войдут в город?..
Яркое пространство сна пронзила холодная мысль. И руки уже навсегда выпустили ее, еще такую трепещуще близкую… Она на самом деле искала защиты. И в то же время в своей власти над его душным смятением она пыталась узнать… проверить… вытянуть из него все, что он знал. И тогда все стало ясным и простым.
— Что с тобой? У тебя иней в глазах… Ты мне не ответил…
— Что мне отвечать?.. Какая честность может быть с революционным отребьем?.. Даже если сейчас эти твои Мараты и Опанасы нам нужны… Красный остается красным, даже если сейчас не время поминать его окрасочку… Войдем в город — фонарей на всех хватит, не только на бэков… Куда ты?
— Сейчас я приду. — Прежде чем выскользнуть из объятий, она на мгновение прижалась сильнее. Дверь закрылась.
Оставалось только проверить запор и подойти к окну: оно выходило во двор, и крыша ближайшего сарая давала возможность отступления.
18
— Тебе бы стоило перестать читать одно и то же по сотому разу, — раздраженно уронил Некрасов, обращаясь к Тутти, забравшейся в угол дивана с неизменным «Принцем и нищим». — Понимаете, подпоручик, хотел было ее отправить к Вику — очень уж беспокойные предстоят деньки… Какое там…
— Хочу одно и то же, — словно бы не слыша последовавшей за этим фразы, отозвалась Тутти.
— Помолчи лучше.
— А контроперация уже началась? — спросил Никитенко, ставя на стол кофейную чашечку.
— Еще с утра. Как все это обернется, гадать приходится вот на этом. — Некрасов взболтнул на донышке гущу. — Видели бумажки? Цветочки. Со дня на день можно ожидать ягодок.
— Да нет, Юрий Арсениевич, что до тех ягодок, думаю, Зубов преувеличил. У Чеки попросту нет таких сил — провести одновременную сеть обысков по всему городу…
— Не забывайте, они могут мобилизовать на пару ночей весь «передовой революционный пролетариат» столицы… А если еще откинуть к шутам такой незначительный предрассудок, как дипломатическая неприкосновенность посольств…
— Не посмеют.
Тяжелые портьеры наглухо закрывали окна. Яркая лампа отбрасывала ровный круг света на покрытый темной скатертью стол, на лица сидевших у стола Некрасова, Вишневского и Никитенко, на Тутти, с ногами устроившуюся на диване над раскрытой книгой… Холодный провал отделанного белым мрамором камина, мебель и складки портьер тонули в уютно-домашнем полумраке. Пахло хорошими сигарами. Только скверная и кажущаяся сейчас нелепой одежда собравшихся мужчин вносила некоторую ноту диссонанса в атмосферу этой гостиной.
«Обманчивое ощущение покоя… Как будто эти стены — границы двух миров: кроваво-бредового мира и мира тишины… Но стены — слишком слабая граница, пока она еще есть, но кажется, что ее вот-вот раздавит этот напор… И миры смешаются». — Вишневский сорвал ярлычок с вынутой им из ящика сигары.
— Где Ржевского носит? — прервал его мысли Юрий, взвинченно раздраженный уже с утра.
— А ты разве не посылал его со Стеничем и Казаровым? — спросил Вадим, откусив кончик. — А, легок на помине, однако!
Это было сказано уже вслед сорвавшейся на звонок Тутти.
Через некоторое время в гостиную вошел черноволосый молодой человек в тужурке и низко надвинутом картузе, несмотря на который Некрасов сразу же узнал Женю Чернецкого.
19
«Но почему же все-таки тоска по давным-давно похороненному где-то под Тихорецкой Жене настолько ощутимее, физически ощутимее во мне, чем даже тоска по папе и маме? Они как-то нереальны, а Женя — чересчур реален. Потому что я впервые увидел его в Вешенской… Странно, что на родных смотришь какими-то другими глазами, чем на чужих. Невидящими глазами. До тех пор, пока что-нибудь не случится. Я впервые увидел Женю в Вешенской. И я не так мечтаю о родителях потому, что никогда их не видел. Странно, безумно странно…»
От Невы, по которой еще плыли белые ладожские льдины, веяло холодом. Сережа, облокотившийся на парапет, почувствовал этот холод и поплотнее запахнул куртку.
«Промозгло… белая зима сменяется зеленой. Мертвый город, даже не от того, что сейчас в нем — революция, голод, кровь и грязь… Этот город изначально мертв. И в этом мертвом городе прошла какая-то очень важная часть Жениной жизни… Господи, какой ветер!»
— Женя, — неожиданно для себя негромко произнес Сережа и, произнеся, понял, что звучание этого имени неожиданно вызвало перед ним не лицо погибшего брата, а другое, красиво-холодное, бледное, очень юное лицо. И голос с безупречным московским произношением, со странным вызовом в интонации, снова резко ударил его неожиданной фразой:
«Слушай, Ржевский, зачем нам притворяться друг перед другом, что мы — люди?»
20
1919 год. Февраль. Финляндия
— Мы же озверели с тоски. Но нельзя же так долго пить?
— Озверели. Чернецкой, если ты скажешь, что у тебя нет сейчас желания перегрызть кому-нибудь глотку, я все равно тебе не поверю.
— А нам не приходится выбирать. — Женя Чернецкой лежал в сапогах прямо на голубом покрывале широкой деревянной кровати и смотрел в потолок. — Если перестать пить, мы начнем сходить с ума, и ты это прекрасно знаешь, Ржевский.
— Но сколько можно торчать в этой паршивой дыре?! — Сережа, взъерошенный, непроспавшийся и небритый, порывисто вскочил и заходил по номеру. — Я хочу взорвать и эту гостиницу, и все окружающие елки вдобавок, и все эти респектабельно-кирпичные ровненькие скотные дворы! Вкус водки теперь всегда будет ассоциироваться у меня с видом заснеженных елей.
Толстоствольные могучие ели, картинно отяжелевшие под снегом, образовывали великолепно-красивый вид из окна находящегося на втором этаже гостиничного номера.
Картина на стене — натюрморт с фазанами и невероятным количеством посуды — почему-то криво повисла на своем гвозде. На старом паркетном полу, помимо брошенных как попало сапог, валялись какие-то деньги — рассыпанная мелочь и две или три смятых бумажки…
— Рай земной. — Чернецкой кивком головы показал на вид из окна. — Дышите воздухом, г-н прапорщик.
— Премного благодарен, г-н подпоручик, оставьте Ваши очаровательные остроты при себе. Чернецкой, а ведь мы вот-вот с тобой стреляться начнем…
— Похоже на то. — Женя продолжал все так же неподвижно смотреть в потолок, но Сережа явственно услышал с трудом подавляемое его желание: не глядя, протянуть руку к ночному столику, взять с него наган и, не целясь, пальнуть в люстру.
— Давай рассуждать логически: ну с чего мы бесимся? Подумаешь, застряли в этой финской дыре на неделю-другую…
— Нет, логика тут не поможет. Ясно, что беситься нам не с чего. И тем не менее…
— А тебе не кажется, что если придется проторчать здесь еще недельку, то мы рискуем скатиться с тоски до тех развлечений, коим предаются в ближайшем городишке все наши?
— Не кажется. Это идиотское чистоплюйство сильнее нас, как бы нам ни хотелось вырваться из-под его власти. Скажем ему спасибо, что оно хотя бы позволяет нам пить. Пока позволяет.
— Что ты имеешь в виду под этим «пока»?
— То, что мне иногда кажется, что настанет день, когда я пойму, что этого с меня довольно. Замутнение своего сознания, по сути, тоже изрядная грязь, но к которой пока — ну не знаю — чувствительности, что ли, нет. А когда почувствуешь, что это грязно, не поймешь, а именно почувствуешь, тут-то и будет все.
— Мне тоже это приходило в голову. Пожалуй, самый нелепый вид рабства — быть рабом своего чистоплюйства. Но покуда до трезвенности еще далеко и время идет к вечеру… — С этими словами Сережа, отыскавший наконец свою бритву, скрылся за массивной деревянной дверью ванной комнаты.
21
— Горячие каштаны? Подпоручик, одумайтесь, пока Вы молоды! При подобном образе мыслей Вы рискуете пойти по плохой дорожке. — Сережа обкусил кончик сигары и зашарил по карманам в поисках спичек.
— Согласен, что подобная оригинальность представляется сомнительной. — Женя потянулся к опустевшей наполовину бутылке. — Но я действительно хочу к коньяку горячих каштанов. Я очень хочу горячих каштанов к коньяку.
— До осени осталось каких-то семь-восемь месяцев. Но заменять горячие каштаны холодными орехами — одно заблуждение влечет за собой другое!
— А чем в таком случае прикажете закусывать мартель? — поинтересовался Женя, отщелкивая на скатерть налипшую на пальцы темно-розовую шелуху земляных орехов. — Предупреждаю, г-н прапорщик, если Вы посоветуете лимоны, я потеряю к Вам остаток уважения.
— Как Вы могли заподозрить меня в такой пошлости? Общеизвестно, даже в младших классах гимназии, что к коньяку идет только горячее и мясное. Ах да, pardon, забыл. Слушай, Чернецкой, ты действительно никогда не ешь мясо?
— Я его вообще в жизни не пробовал. Ни разу. Но это неинтересно. — Женя, откинувшись на спинку стула, обвел глазами небольшой ресторанный зал. — Кстати, за столиком у входа приветственно машут рукой явно тебе.
— Где?
— За одним столиком с Сашкой Каменским и Quel-Кошмаром, — тоже корнет, кто это?
— А, вижу. — Немного развернувшись, Сережа с улыбкой качнул в руке стакан, показывая, что заметил присутствие. — Это Орлов, а вообще вся эта малолетняя компания за теми двумя столиками значительно опередила нас на пути к нирване. Так же, впрочем, как и твои приятели по полку справа.
— Они начали раньше.
— Но ведь не более чем на полчаса? — Сережа скользнул стеклянно-прозрачным взглядом по пустой еще эстраде. — А знаешь, чего бы мне хотелось? Послушать хорошей цыганщины.
— Д-да… Что-нибудь русское народное в цыганском исполнении… «Степь да степь кругом»…
— Экзеги монумэнт. — Сережа рассмеялся. — Это мы в гимназии развлекались — пели Горация на мотив «Степь да степь кругом»… Потом еще шуточка была: приходит второгодник пересдавать латынь. Званцев, это латинист наш, будто бы спрашивает: Перфект знаете? — Не знаю. — Презенс индикативи активи знаете? — Не знаю. — Что же вы тогда знаете, хоть что-нибудь же вы должны знать? — Я знаю, как переводится фраза «Экзеги монумэнт эрэ пэрэнни-ус». — Ну, переведите! — «Степь да степь кругом, путь далек бежит».
— Академический юмор. — Чернецкой плеснул коньяку из новой бутылки. — Ржевский, а ты любишь латынь?
— Люблю.
— А за каким чертом? Я тоже люблю, хотя совершенно не могу понять, что я нахожу в этом мертвом языке порочного народа. Вдобавок — в официальном языке дьявольского католицизма.
— Своеобразное удовольствие сноба?
— Пожалуй…
— А что до Католицизма… Если честно, что-то в нем есть, чисто эстетически. Кроме Папы с его безгрешностью и туфлей… Ну да черт с Папой… Я вот чего не пойму… Лунин, помнишь? Эдак взять родиться в Православии, а потом по своей воле перейти в Католичество?
— По своей воле? А что такое воля? Ты затрагиваешь полуиллюзорное понятие. Тот, кто действует, как ты изволил выразиться, по своей воле, — просто счастливчик, которому не удосужились нажать на соответствующие кнопки! На людей, что-то из себя представляющих, нужна более сложная математика для комбинации этого нажатия. Но с большинством — это арифметика. — Женя неприятно засмеялся. — Люди — очень простенькие механизмы.
— Чернецкой, а ведь это не твои слова.
— Однако ж ты хорошего обо мне мнения.
— Отнюдь. Я не говорил, что это не твои мысли.
— Может быть, ты и прав. Впрочем, пустое. — Женя с усмешкой кивнул на соседний столик. — Послушай-ка лучше, что цитируют эти господа!
Я ее победил наконец, Я завлек ее в мой дворец, -с пьяной задушевностью декламировал подпирающий рукой отяжелевшую голову прапорщик Тыковлев. —
Буря спутанных кое, тусклый глаз, На кольце померкший алмаз. И обугленный рот в крови Еще просит пыток любви… Ты мертва, наконец, мертва! Гаснут щеки, глаза, слова…— А душераздирающее зрелище!
— Зря Вы иронизируете. Чернецкой, положению этой обугленной и одноглазой дамы трудно позавидовать. —
Знаю, выпил я кровь твою, Я кладу тебя в гроб и пою…— Любопытно, что именно?
— Разумеется, «Je cherche la fortune…» — негромко напел Сережа. — Между куплетами желательна подтанцовка.
Мглистой ночью о нежной весне Будет петь твоя кровь во мне, -встряхнув головой, возвысил голос Тыковлев и, оборвав декламацию, тяжело осел на стуле.
— Приятного аппетита. — Сережа, неожиданно закашлявшись, поднес скомканный платок к губам.
— Ты чего?
— Дырка в легком разыгралась. Сволочные морозы. — Сережа улыбнулся Чернецкому.
— Что поделаешь, на то оно и Финляндия. — Женя, еще во время чтения Тыковлева поймавший несколько укоризненно-неодобрительных взглядов сидевшего с тем корнета Зубарева, нарочно заговорил громче. — Хотя, конечно, не поручусь, что этот собачий холод не есть космогонические последствия склок между господами символистами.
— Чернецкой, ты не прав. — По-мальчишески взъерошенный белокурый корнет сделал два шага в сторону Жени и, качнувшись, остановился с папиросой в руке. — Во-первых, это не смешно. Даже когда Блок женился, то это не как мы с тобой, а мистика. Это и Б-белый писал, а Белый — беломаг. А Брюсов, во-вторых, черномаг. И у них дуэль. В астрал-ле.
— На пыльных мешках? — Женя отправил в рот несколько орехов.
— Каких мешках? — Снова качнувшийся Зубарев посмотрел на Чернецкого с обиженным недоумением. — Я же говорю — в астрале. Значит, по ночам вылетают. Вылетают и дерутся.
— Угол Моховой, за пятую трубу налево, — сгибаясь от смеха, тихо простонал Сережа. — А Менделеева тоже вылетает.
— Так можно над чем угодно смеяться, Ржевский! — Обуреваемый стремлением во что бы то ни стало растолковать Жене и Сереже воззрения блоковско-соловьевской компании, Мишка Зубарев говорил уже так громко, что за остальными столиками начали прислушиваться. — А Блок знает, что писать. Пишет вампир, значит, вампир!
— И навешаю лапшу мою на уши ваши! — в полном восторге подхватил Женя и, отставив в сторону запрыгавший в руке стакан, звонко расхохотался, закидывая назад голову. — Да содрогнется Лысая гора пред нашествием литературной богемы! Ржевский… только ты… помолчи, а то я сдохну!
— Ваше веселье, Чернецкой, дурного тона, — снисходительно ввязался в разговор из-за своего столика подпоручик Ларионов: в «мэтровом» тоне явственно ощущались четыре курса историко-филологического факультета и легкая досада на себя за дискутирование с едва ли не гимназистами. — Если Вы не понимаете, что такое мистика, то лучше постарайтесь это скрыть. Да, у Блока есть неудачные стихи, одним из которых является это стихотворение, но что это меняет? Даже в этом плохом — тематика показательна для Блока. Блок честен. Блок открыто заявляет об отданности своей души силам тьмы. Продажа души — тема, волнующая творческие умы со времен Средневековья, дошедшая до апофеоза в творении Гёте. Да, Блок проклят, и результат страшной сделки — его зловещее знание Тьмы. Впрочем, Вам, может быть, непонятен эзотерический подтекст его символики.
— Когда душа на самом деле продана, об этом не орут на каждом перекрестке! — неожиданно взорвался Женя, веселое настроение которого мгновенно улетучилось: вскочив и повернувшись в сторону собеседника, гневно блестя черными на неестественно белом лице глазами, он продолжал — стоя, упершись коленом в стол и чуть заметно раскачиваясь всем телом с какой-то грациозно-змеиной гибкостью: — Об этом молчат!! Так молчат, что Вы пройдете мимо и не заметите! Что Вы знаете о том, как на самом деле совершается продажа души? Без гробов, без черепов, черных свечей и прочего романтического хлама?
— Мистика лакейской, — отчетливо и громко проговорил Сережа, неторопливо наполняя стакан. — Блок вообще отдает популярным в среде домашней прислуги жестоким романсом. Может быть, Вам, г-н подпоручик, и близка поэтика сердец, пронзенных «острыми французскими каблуками», — Сережа сделал паузу и залпом выпил коньяк, — а по-моему, это просто-напросто плохо.
— П-р-равильно!!! — расплескивая на соседей содержимое своего стакана, прозванный Quel-Кошмаром корнет Попов воздвигся за столиком вслед за своим воплем. — Пр-р-равильно! Он правду говорит — плохие стихи! Как может интеграл дышать? Что он — вдыхает и выдыхает, да?
— Да ты, Алешка, ничего не понимаешь, — дергая корнета, чтобы он сел, возмутился облитый сосед.
— Он ничего не понимает в интегралах?! — бросился на защиту Quel-Кошмара вихрастый вольноопределяющийся, состояние которого, очевидно, позволило ему выделить из всего прозвучавшего только «не понимаешь» и «интеграл». — Да мы учились вместе — у него всегда пять по математике было!
— Это свинство, Ржевский, Блока читал весь интеллигентный Петербург, а ты берешь на себя смелость утверждать, что, видите ли, плохо!
— Да Рукавишникова читать надо, Рукавишникова!! Или вот, тоже хорошо: «Влачились змеи по уступам, Угрюмый рос чертополох! — заорал розовощекий вольноопределяющийся Иванов, отбивая такт стаканом по столу. — И над красивым! женским! трупом! Рыдал! безумный! ск-скоморох!»
— Черт, да отдай ты мой стакан!
— Да погоди ты… Вот еще… «О кот, блуждающий по крыше! Твои м-мечты во мне поют!» Рукавишникова читать надо, а не Блока!!
— Нет, господа, если принимать тезис о нравственной ответственности искусства, то Блок…
— ГОСПОДА, А КАК ЖЕ «ДВЕНАДЦАТЬ»?!!
— Да он просто кровавая сволочь!
— Как Вы смели это сказать, Орлов?!
— Господа, поэт имеет право…
— Черт возьми, Гнедич, что вы себе позволяете?!
— От этого недалеко до большевизма!!
— Я не в Вас швырял, черт возьми! Так это меня — в симпатиях к большевизму!?!
— Да!!!
— Мне плевать, что не в меня. Это — оскорбление действием, Вы мне ответите!!
— Поэт нейтрален!!
— Рукавишникова!
— Это нейтральность?! В Святую Русь — пулей — нейтральность?!
— Да пусти же!
— Пр-равильно!!
— …Традиции российского гуманизма…
— …Да — подлость! Подлость!
— …Рукавишникова!
— Я ему покажу столы опрокидывать!
— Пусти!!
— Слушай, Ржевский, а ну их к черту!
— Господи, хорошо-то как, — привалившись к дверному косяку, произнес Сережа, глубоко вдыхая морозный ночной воздух. — Ты только взгляни, Чернецкой!
— Снег скрипит… — Женя пробежал несколько шагов по двору и, качнувшись, остановился, схватясь рукой за ворота. — Скрипит и сверкает… сам… изнутри…
— Сейчас бы на лыжи… Далеко-далеко… в леса финских колдунов. — Сережа слетел с крыльца и, не добежав до Жени, споткнулся и с размаху со снежными брызгами въехал рукой и коленом в снег. — А он пушистый как пух! Пуховая постель!
— Вставай!
— Не хочу! Я хочу… спать на зимней постели! — Сережа упал спиной в пушистый сверкающий снег — лицом в ослепительно черное, усыпанное плывущими звездами небо. — Господи, Господи Боже мой… Женька… Женька… какие звезды! Стоя — не видно, надо — так…
— А это мысль! — Женя, раскинув в стороны руки, упал рядом с Сережей в снег и звонко, счастливо засмеялся. — Больше ничего не надо — снег и небо… Эта чернота — сияет… Черный огонь, в котором плавают звезды… Сережка, я лечу…
— J'ai tendu des cordes de clocher a clocher, des guirlandes de fenidxe a feniktre, des chaones d'or d'utoile a utoile, et je danse34… А все-таки скотина Вы, подпоручик.
— Чем, собственно, обязан?
— А где Вы были раньше? Мне не хватало Вас… как самого себя. Всегда не хватало.
— А почему — я? Почему я должен был Вас разыскивать? Почему Вы меня сами не изволили обнаружить за восемнадцать лет?
— Это где это, позвольте поинтересоваться, я должен был Вас обнаруживать?
— Первопрестольная не так велика. А я, так же, кстати, как и Вы, прожил в ней большую часть жизни. Во всяком случае — до девяти лет и с тринадцати — до революции.
— То-то и оно! А где вы, подпоручик, околачивались с девяти до тринадцати? Извольте объясниться!
— А нигде, — в Женином смехе прозвучала горечь. — Ржевский, самое смешное в том, что с девяти до тринадцати меня нигде не было.
— Слушай, а чего они там так шумят?
— Не знаю. Надо спросить — вон кто-то вышел. А что, собственно, за бедлам?
— Чернецкой?! — Вышедший из ресторана Ларионов с гневным изумлением воззрился на Женю. — Это Вы спрашиваете, что за бедлам?
— Ну да, очень шумно.
— Ну знаете… Мало того, что вы это заварили, а теперь черт знает в каком положении…
— А какова нынче Кассиопея… — созерцательно произнес Женя и с предупредительной любезностью прибавил: — Хотите посмотреть?
— Черт знает что!! — Ларионов хлопнул дверью.
— Решительно не понимаю, чем он остался недоволен.
— Кто ж их знает… И вообще мне надоело: шумят, ходят… Что за безобразие?
— Где бы найти такое место, чтоб там никто не ходил?
— На крыше!! — Сережа вскочил на ноги. — Чернецкой, полезли! Ставлю что угодно, что там мимо нас никто не будет ходить!
— Великолепно, полезли скорее!
— А чердак не заперт?
— Что мы, замок не собьем, что ли?
— Мать их… Слушай, а я не помню — в этой крыше вообще были чердачные окна? Как в банке с чернилами…
— Должны быть… Погоди… ага! — вон отсвечивает, я вижу… — Вытянув вперед руку, Женя осторожными, но быстрыми шагами приблизился к слабо мерцавшему в почти непроницаемой темноте чердака оконцу. — Осторожно, эти стропила, ох, явно дубовые.
— Высоко?
— Нет, я подтянусь… Ах ты, сволочь, заколочена!.. Есть! — Отшвырнув отодранную раму, Женя протиснулся через узкий проем и вылез на крышу. — Покой и воля! Ты был прав — ни одной двуногой сволочи с Блоком или без оного.
— А как насчет четвероногой? Твою мать! — Чуть не поскользнувшись на обледенелой черепице, Сережа уцепился за дощатую крышу чердачного окна и, поднявшись, уселся верхом на коньке и, привалясь спиной к кирпичной трубе, скрестил руки. — Лезь сюда.
— Четвероногая не умеет разговаривать, во всяком случае — о Блоке. — Женя, обогнув Сережу, влез на трубу и непринужденно, словно располагаясь в кресле, положил ногу на ногу.
— Слезь с трубы — ты похож на Гоголевского черта.
— Воображаешь, ты — на лермонтовского Демона? Тоже мне — Чайльд Гарольд. Кстати, о демонах — какое средневековое сочинение было самым известным?
— «Malleus maleficarum» 35, — с достоинством и без запинки ответил Сережа, глядя на темнеющий вдали сосновый лес. — «Похвала глупости» Эразма Роттердамского была адресована Томасу Мору.
— Следовательно, она представляет собой трансформацию жанра послания, — небрежно парировал Женя, с не меньшей легкостью произнося сложные слова. — Другим популярным в средневековье жанром является трактат, например, «De civitate Dei» 36 Блаженного Августина.
— Однако «Confessiones» 37 Блаженного Августина значительно популярнее, чем «De civitate Dei». Она основополагает сам жанр исповеди.
— Классические образцы которого мы находим у Боэция, Абеляра… Твою мать, еще и мокрая!
— Чего?
— Не видишь — черепица — Женя, на протяжении всего разговора старательно бросающий зажженные спички на крышу, сердито чиркнул еще одной. — Она негорючая, хоть весь коробок изведи, не загорится…
— А ты не бросай, а поднеси поближе.
— Сейчас… Так вот, у Боэция и Ансельма… — Женя, вставший, держась за трубу, нагнулся, поднося к черепице зажженную спичку, и, поскользнувшись, проехал стоя несколько шагов. — Эй, а внизу-то сугробы!
— Ну?
— Можно же съехать! Слабо — стоя и не упасть?
— Сколько угодно! — Сережа поднялся с конька и, прыгнув на обледенелую черепицу, широко расставив ноги, покатился вслед за Чернецким.
— …Ну а чего вы хотите, господа? — Сопровождаемый несколькими офицерами штаба главнокомандующий спрятал заиндевевшие усы в пахнущий кельнской водой платок. — Откуда у некадровых мальчишек понимание дисциплины? Разумеется, сплошь и рядом подобные эксцессы. А что прикажете поделать?
— Но этого, однако ж, быть не должно, Николай Николаевич, воля Ваша, — раздраженно бросил на ходу сухопарый начальник контрразведки. — В какие ж, извините, ворота…
— Не должно быть, Вы говорите? Эх, Василий Львович, а вояки эти в армии должны быть или за партами?
— Эх, да что о том… А все-таки Вы им спускаете — за такой дебош пяти арестов мало. Нет, не обессудьте, Ваше Высокопревосходительство, но только дисциплинарными взысканиями…
— Господи Боже мой! — Главнокомандующий почти с испугом воззрился на фигуры, слетевшие, преградив дорогу, в снег с крыши. — Сережа?!
Встрепенувшись от начальственного окрика, Сережа, не отряхивая снега с расстегнутого полушубка, вытянулся и понес было руку к голове, но Чернецкой перехватил ее за локоть.
Бросив гневный взгляд на Чернецкого, непонятно с чего компрометирующего его перед начальством, Сережа попытался вырвать руку.
— К пустой голове руки не прикладывают, идиот! — прошипел Женя в твердой уверенности, что ничто, кроме Сережиного промаха, не может обнаружить перед присутствующими их состояния.
— Тьфу ты… — Сережа взлохматил и без того растрепанные волосы, окончательно убеждаясь в Жениной правоте. — А я действительно без фуражки.
Адъютант главнокомандующего штабс-капитан Задонский, самый молодой из штаба, откровенно, но в полном одиночестве расхохотался.
— Плакать надо, г-н штабс-капитан! Et votre conduite a Vous, Monsieur l'enseigne, est-elle, selon Vous, celle qui sied a un officier russe?38 ?
— Никак нет, Ваше Высоко… превос… вохс… — запутался Сережа, с недоумением обнаруживая, что недавняя во время беседы на крыше о средневековой патристике изумительная легкость речи сменилась досадным косноязычием, которое почему-то хотелось побороть, приплетя куда-нибудь Блаженного Августина. — Ваше Высокопревосхо… преосв… Ваше Высокопреосвященство!
— Слушай, Ржевский, ты что-то не то говоришь! — с испугом произнес Женя.
— А что не то? — тоже немного пугаясь, спросил Сережа, так же, как и приятель, нимало не озабоченный ведением диалога на глазах у всего штаба.
— Не знаю…
Теперь уже вместе с Задонским хохотал даже начальник контрразведки, а попробовавший подавить смех, но против воли засмеявшийся главнокомандующий, сам на себя за это рассердившись, решил, что во всяком случае успеет разобраться с Сережей, и обернулся к Жене: — А Вы, подпоручик, какого полку?
— Второго Уланского, Ваше Высокопревосходительство! Под… под… поручик Ч-ч-чернецкой! — Женя, в ответе которого чеканной твердости хватило только на обращение, мужественно преодолел желание для краткости произвести себя в поручики. «Чернецкой» же прозвучало подозрительно похоже на чертыхание.
— Что же творится среди младшего офицерского состава? — риторически произнес главнокомандующий, разворачиваясь к свите. — Хорош пример для нижних чинов?! Так что же, господа, хватит у вас сейчас в голове соображения на то, чтобы пойти под арест самостоятельно?
— Так точно, Ваше Превосходительство!
— Двое суток. Впрочем… — главнокомандующий, в лице которого мелькнула явно не сулящая ничего хорошего догадка, кивнул в сторону ярко освещенных окон гостиничного ресторана: — А признайтесь-ка, господа, не вы и заварили всю эту кашу?
— Мы. — В одновременно произнесенном ответе прозвучало нескрываемое, даже не без некоторого ожидания одобрения, самодовольство.
— С глаз долой!!
Задонский, давясь от смеха, сделал за спиной главнокомандующего несколько знаков, энергически предлагающих Сереже воспользоваться этим разрешением удалиться.
— Не понимаю, что? — Сережа через плечо начальства внимательно вгляделся в вызвавшую у него некоторое беспокойство жестикуляцию Задонского. Продолжая хохотать, Задонский постучал себя пальцем по лбу и кивнул на спину главнокомандующего. В следующее мгновение проследивший направление его взгляда Сережа, молниеносно трезвея, взглянул на Чернецкого так выразительно, что до того тоже дошло происходящее. Отчаянно переглянувшись, оба осознали полную невозможность собрать на месте наломанные дрова и обратились в бегство в сторону ближайших широких елей, силясь хотя бы не расхохотаться прежде, чем удастся выйти из пределов видимости…
— А Вы, г-н полковник, говорите «дисциплинарные взыскания»… — продолжая прерванный разговор, произнес отсмеявшийся главнокомандующий. — Да по-настоящему этих вояк еще драть надо. Как Сидоровых коз драть. Офицеры!
22
— Его Высокопревосходительство, по счастью, был в духе, — подтянутый, спокойный и трезвый (хотя с немного помятым утомленным лицом) Женя, сидя на широком деревянном подоконнике номера, пил кофе из металлического стаканчика.
— А мы немного «разрядились». — Сережа улыбнулся. — Только знаешь, Чернецкой, а ведь колокольчик прозвенел.
— Ты имеешь в виду…
— Именно. А разве ты сам сейчас не чувствуешь, что отныне мы обречены на трезвость? Оно сказало, что мы перебесились этим, Его Высочество чистоплюйство.
— Остается поступить как подобает лояльным подданным. Конечно, чувствую, Ржевский: липко. Как грязная клейкая паутина на мозгах. Б-р… — Женя передернулся, и в его глазах мелькнула какая-то не высказанная вслух очень неприятная для него мысль. — А ты знаешь, что самое гадкое в этом замутнении сознания?
— Ну?
— Оно несовместимо с внутренней свободой.
— Принято считать наоборот — оно расковывает внешнее проявление и делает его безоглядным…
— И все же это — рабское состояние. Ты бросаешься в поток чего-то влекущего, но не подчиненного твоей воле. И это — самое унизительное, Ржевский.
— Ты прав… Plaudite rives, plaudite amici39… А все же для заключительного аккорда вчерашнее было недурно!
— Еще бы — я не далее как утром слышал шуточку: «Ржевский, который перепутал генерала с кардиналом…»
— Воображаю, с каким удовольствием Задонский рассказывал эту эпопею за бриджем!.. Слушай, Чернецкой, а тебе не жутко: представь — вечная трезвость.
— А что поделаешь? Нельзя же разочаровывать начальство в благодетельном воздействии читаемых офицерам нотаций. — Чернецкой, не расплескав свой кофе, увернулся от Сережиной седельной сумки.
23
— Да, г-н штабс-капитан. Каждый военспец (а деликатный термин?) в ближайшие дни станет очень опасным орудием в руках врага… А этот Остапов — особенно. Поэтому Вик и просил передать, что все должно быть сделано как можно скорее… Вот, пожалуйста, досье.
— М-да… Ну что же, г-н подпоручик, передайте Вику, что операцию я проведу завтра.
— Вот этого я, к сожалению, сделать не могу: господина Штей… Вика я уже не увижу в ближайшее время. Завтра я, даст Бог, буду уже на передовой. — Чернецкой улыбнулся, поднимаясь. — Удачи Вам, г-н штабс-капитан.
— Вам также.
Юрий проводил Чернецкого до дверей.
Вприпрыжку, по-мальчишески, слетая по ступеням, Женя на ходу надел и опять низко надвинул кепку.
«Интересно, достаточно ли пролетарский у меня вид?» — подумал он, распахивая входную дверь.
Сережа медленно поднимался по лестнице. «Как же бесконечно мало было этих двух недель!.. Немногим больше, чем двух… Какой же нелепый бред эта военная путаница, сколько разговоров она не дает довести АО конца, до чего-то бесконечно важного, что должно венчать эти разговоры… Ох, как же мы не договорили. Ладно, passons. Даст Бог, договорим когда-нибудь. Во всяком случае — если суждено договорить. Но сейчас мне просто очень хотелось бы его увидеть, обменяться парой колкостей, повалять дурака так, как только с ним это для меня возможно… А ведь я не пытался никогда разгадать Женьку Чернецкого, хотя даже на посторонний взгляд он представляет собой, мягко говоря, то еще уравнение со многими неизвестными… Но я не пытался никогда его решать потому, что у меня с самого начала было чувство, что на самом деле я все знаю, знаю так глубоко, что никакие мои догадки или Женькины откровения не смогли особенно много к этому добавить».
Открыв своим ключом дверь квартиры, Сережа прошел в гостиную.
— Кстати, Ржевский. Теперь все в сборе. Итак, господа офицеры, завтра нам предстоит небольшая операция. От нас требуется срочно ликвидировать красного военспеца — дезертировавшего в Петроград из действующей армии капитана Остапова, который занимается сейчас разработкой планов Петроградской обороны. Остапов живет не один — с ним жена и, кажется, ребенок. Дом — на Литейной. За домом необходимо с утра установить наблюдение. Первым будет… — Некрасов неожиданно замолчал и резко подошел к дверям.
— Что ты здесь делаешь?
— Слушаю.
— Ты подслушиваешь, и это очень скверно.
— Нет, дядя Юрий, я бы потом все равно вошла. Дядя Юрий, я хочу, чтобы Вы завтра взяли меня тоже.
— Куда?
— Я все слышала. Я хочу с вами. — Девочка, гибко вытягиваясь, старалась заглянуть в глаза Некрасову. Ее лицо было странно неподвижно. — Дядя Юрий, я же все поняла… насчет папы. Еще вчера поняла. Я хочу с вами.
— Хорошо. — Некрасов открыл перед Тутти створку двери. — Завтра ты пойдешь с нами. Ты довольна? А теперь немедленно иди спать.
Дверь затворилась.
— Тебе не стоило ее обманывать, — негромко сказал Вадим.
— Я не обманывал. — Некрасов медленно смерил его холодным прозрачным взглядом. — Она действительно может пригодиться.
— Ты сотлел с ума! — Вишневский привстал.
— Должен сказать, Некрасов, что я также не могу воспринять Ваших слов иначе, как следствие неожиданного помрачения рассудка.
— А что Вы можете предложить? — Некрасов повернулся к Никитенко, неожиданно порывисто вскочив. — Что вы можете предложить? Вам кажется, что для нее было бы лучше сейчас, чтобы самым страшным в жизни была слишком строгая классная дама в гимназии? Так ведь в той гимназии, где она должна учить французские спряжения, сейчас располагается какой-нибудь лазарет или склад! А отец этого ребенка расстрелян Чекой в каком-нибудь гараже… Того мира, где ей место, — нет!!
— Но все-таки, Некрасов, это не довод. Ребенок не должен видеть крови.
— Это — довод, Стенич, все мы здесь ежеминутно рискуем собой. А разве она ограждена от того, что на языке романистов именуется «превратностями войны»? Имеем ли мы право давать ребенку обманчивое ощущение прежнего мира? Лишний шанс, чтобы она выжила, — сделать прививку кровью, раньше, как только можно раньше… Детская психика — гибкая, я очень надеюсь на то, что она сможет выжить, приняв такую прививку. А если нет — значит, ей все равно погибать. Здесь, в обществе пятерых вооруженных мужчин, она ни на минуту не находится в безопасности. Надо понять, что Смутные Времена не щадят никого и ни для кого не делают исключений… Ребенок прежнего мира не способен выжить в этом. А Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТОТ РЕБЕНОК ВЫЖИЛ.
24
«Это когда-нибудь кончится или нет?» — раздраженно подумал Сережа, разглядывая золотистые латинские буквы на голубоватом мундштуке папиросы: пальцы, державшие ее, дрожали.
День, не хмурый и не солнечный, почему-то не казался летним: даже июньская листва на немногих чахлых деревьях как-то не обращала на себя внимания, а тяжелые и холодные громады домов замыкали пространство улицы так давяще и мрачно, что казалось, будто смены времен года не существует вообще… На противоположной стороне зияла темным провалом разбитая магазинная витрина: над ней торчали еще железные крючья, прежде державшие вывеску. Ветерок гнал по булыжникам мостовой пыль, всяческий мусор и шелуху подсолнухов.
Эта картина успела уже порядком утомить нервно расхаживающего по тротуару Сережу: от сломанной водосточной трубы на углу дома до почты, от почты до трубы…
«На его месте я бы тоже не очень спешил. А Вы делаете успехи, г-н прапорщик! Прежде вы не стали бы упражнять своего остроумия на таких темах… Ладно… passons…»
Десять шагов до почты… «Тьфу ты, опять забыл, что не стоит отмечать свой путь заграничными окурками… Ну да не поднимать же теперь. Второй грузовик уже за последний час с закрытым брезентом грузом… И по два красноармейца в кузове. Чухонка с мешком, картошку несет? Нет, похоже — дрова. Сейчас открыто не носят — спекулянтов стреляют… Сволочи. Дети же как мухи мрут. Цена шоколадки — золотое кольцо… Кстати, черт бы побрал этот шоколад!» — Сережа с раздражением нащупал в кармане скользкую шуршащую фольгу: несколько попыток скормить эту горсть французских конфет Тутти потерпели решительную неудачу. «Николай Владимирович сказал, что ты еще не поправился!» — «Тутти, я терпеть не могу шоколада». — «А я терпеть не могу касторки, ну и что?» Ребеночек за словом в карман не полезет… А все же — прав ли Юрий… Ладно, passons. Комсомолки идут. Отвратное сочетание — сапожищи и юбка. «По мне же вид являет мерзкий В одежде дева офицерской»… А вон тот выглядит почти довоенно… Хотя это сейчас так кажется, а если приглядеться… Stop».
Сережа поспешно щелкнул портсигаром и сверился со спрятанной в нем фотографией. Входящий в подъезд дома высокий человек с мелкими чертами лица был бывшим капитаном Остаповым.
Сережа сунул портсигар в карман и торопливо вошел в темноватое помещение почты.
Грязная комнатка с кафельным полом была пуста. Девушка, сидевшая за деревянной стойкой, обернулась на стук двери.
— Простите, барышня, вы не могли бы разрешить мне позвонить от вас?
— Только служебный телефон. Нельзя. — Девушка говорила едва слышно. У нее были пустые, жалкие глаза на землисто-бледном маленьком лице: волосы скрывала повязанная по-комсомольски косынка. «Голод делает людей похожими — бесполыми и лишенными возраста. Все голодные — старики».
— Вы знаете, мне крайне нужно позвонить. Я Вас очень прошу…
— Если быстро только…
— Один момент! Спасибо! — Сережа быстро зашел за перегородку и снял трубку с аппарата на стене.
— Сто-два-пять-девять-семь, пожалуйста! Алло! Алло! Дядюшка, тетя уже ждет Вас у себя. Да? Хорошо! Да! Спасибо Вам.
Девушка в слабом недоумении посмотрела вслед: странный молодой человек в перчатках, речь которого ощутимо не вязалась с рабочим нарядом, уже вышел. Рядом со штемпельной подушечкой на стойке перед ней лежала, поблескивая цветной фольгой, горсть шоколадных конфет…
Снова заняв свой пост, Сережа заставил себя перестать ходить и опять закурил, хотя курить было уже до тошноты противно.
25
— Кто там? — спросил женский голос за обитой коричневым дерматином дверью.
— К товарищу Остапову, срочно! — громко ответил Юрий, не вынимая из кармана руки.
Дверь приоткрылась. Мгновенно оттеснив женщину в глубь прихожей, Некрасов протиснулся в квартиру. Женщина была лет тридцати, с модной короткой стрижкой, в темно-зеленом халате. При виде ворвавшихся в квартиру мужчин она испуганно вскрикнула, и на этот вскрик в коридор выбежал человек, только что виденный Сережей на улице: без кепи он оказался лыс, старше на вид…
— Что это значит?! — Голос его сорвался.
— Вы — бывший капитан Останов, — без вопроса сказал Некрасов. — Пусть Ваша жена пройдет в эту комнату. Поручик, взгляните — там нет телефонного аппарата? Нам надо поговорить с Вами наедине.
— Мне не о чем с вами говорить! — Остапов, говоря эти бессмысленно-ненужные слова, как-то желтел в лице: пальцы его судорожно собирали ворот сорочки.
— Пусть Ваша жена удалится. Прогну Вас, madame. — Некрасов, словно не выговаривающий, а чеканящий слова, почти втолкнул испуганную женщину в дверь, из-за которой доносился похожий на мяуканье детский плач. Ответив на взгляд Юрия кивком, Стенич остановился у этой двери.
— Принимайте гостей.
Военспец молча прошел в комнату, видимо, служившую кабинетом. Это было обычное жилище военного времени: паркет так же черен без натирки, как в прихожей, на круглом столике темного дерева разложена газета, на которой стоял закопченный чайник, рисунок полуотставших обоев погублен следами лопнувшей трубы, угол заняла «буржуйка». На всем — печать вынужденного запустения.
Некрасов сел, за ним сели остальные «гости», кроме оставшегося в коридоре Стенича. Незаметная и тихая, Тутти присела на валик стоявшего у двери дивана. Военспец продолжал стоять, остановившись посреди комнаты: глаза его беспокойно бегали.
— Садитесь, Остапов.
Военспец нехотя сел. Оказавшийся рядом с ним Вадим увидел, что его желтоватый, высокий лоб покрыт капельками пота.
— С Вами говорит сейчас организация «Национальный центр», состоящая из бывших Ваших товарищей по оружию. Вы приговорены ею к смертной казни как офицер, нарушивший присягу, как изменник, перешедший в лагерь врага. Что Вы можете сказать перед тем, как приговор будет приведен в исполнение?
— Послушайте. — Голос Остапова дрогнул. — Не звери же вы? У меня семья.
— Это обстоятельство еще никого и никогда не ставило вне закона, — бесстрастно ответил Юрий. — Но, в отличие от Ваших новых хозяев, мы не трогаем семей.
«Вне закона нет. У любого преступника может быть семья, но это не имеет того значения, когда есть скамья подсудимых, приговор, тюрьма; вместо одной стены, разделяющей казнь и женщину, которая закричит, увидев…» — думал Вишневский, перебарывая тошноту…
— Убийцы! — Остапов вскочил.
— Мы не убийцы и даже не судьи. Мы — исполнители приговора.
Неожиданно затрещал черный телефонный аппарат.
Лицо Остапова выразило слабую надежду, надежду неизвестно на что… Сейчас, когда перед ним с такой неумолимой и нереальной неожиданностью предстал мир, из которого он бежал, устав от передовой, на которой покой домашнего очага вырос до такой значимости, что любая цена за него показалась допустимой, явление этого мира как-то отдалило реальность от него…
А сейчас пронзительный треск телефонного аппарата вдруг, как включается в комнате свет, включил эту реальность. И в комнате как будто повисло то, что жизнь самих вершителей военного закона висит не на очень крепком волоске…
Возникло ощущение, будто случился разрыв наполненной напряженным драматическим действием синематографической картины.
Аппарат звенел.
— Возьми трубку, — прерывая возникшую паузу, произнес Некрасов. Тутти соскользнула с дивана и, подойдя к аппарату, подняла тяжелую трубку.
— Алло? — спросила девочка голосом более детским, чем на самом деле. Лицо ее было тихо-серьезным. — Да. Нет. Пожалуйста, телефонируйте через три часа.
Трубка легла на рычаг.
— Молодец, Таня. Говорите все, что Вам хотелось бы сказать, Остапов. Но предупреждаю, — Юрий щелкнул крышкой часов, — я не могу дать вам более трех минут.
Казаров, присевший на подоконник, чиркнул спичкой, зажигая папиросу. Вадиму тоже захотелось курить. Сережино бесстрастное лицо невольно обратило на себя его внимание: выражение, проступившее на нем, в точности повторяло выражение лица Некрасова.
Часы громко тикали на ладони Юрия. — Скажите, — заговорил наконец Остапов, обращаясь к Юрию, — как Ваше имя?
— Настоящее мое имя и звание — штабс-капитан Юрий Арсениевич Некрасов.
— Послушайте, штабс-капитан, — Остапов облизнул губы. — К чему это утонченное издевательство?
— Стыдитесь! — резко бросил Юрий. — Я даю Вам возможность умереть как подобает русскому офицеру — глядя смерти в лицо! Мною руководит уважение к Вашему бывшему званию. Впрочем, Ваше время уже истекло, бывший капитан Остапов. Казаров!
Военспец снова вскочил с перекошенным волнением лицом и без вскрика, медленно закачавшись, повалился на грязно-черный паркет: на его спине в домашней белой сорочке проступило под лопаткой пятнышко крови.
Казаров убрал в карман небольшой английский пистолет с глушителем.
— Вишневский!
Вадим наклонился над телом, стараясь одновременно загородить его собой от Тутти.
— Мертв.
— Казаров, Вишневский — с нами, Никитенко, Ржевский — остаетесь со Стеничем. Женщину — запереть и… вызвать по телефону Чеку. Должен кто-то и отпирать… А то она так неизвестно сколько просидит, там еще и ребенок вдобавок, — закончил Юрий в сильном раздражении. — Из подъезда выходить по одному. В разные стороны. Все.
Все еще непохоже на себя серьезно-тихая, Тутти, выходя вместе с Некрасовым из кабинета, обернулась и еще раз окинула лежавшего на полу напряженно-внимательным взглядом.
26
Белый сумрак сгущался между колоннами Казанского собора. В вечернем воздухе далеко разносился звук шагов. Перед собором было пусто.
Готические башни, словно крылья, Католицизм в лазури распростер, -негромко произнес вслух Сережа.
«Ладно, довольно… Довольно, как в дьявольском лесу, бродить между этими колоннами и читать стихи. „Бежать бы из-под этих сводов темных, Пока соблазн душой не овладел“… А все-таки иногда, иногда мне начинает казаться, что я мог бы понять Лунина.
Но и Лунин сейчас поступил бы иначе. «Готические башни, словно крылья, Католицизм…» Ладно, passons». — Сережа резко повернулся и зашагал в сторону Невского.
«И еще эти белые тоскливые ночи… Passons, слышите, г-н прапорщик… Думать о том — нельзя. Иначе Вас очень ненадолго хватит. Г-н прапорщик, попридержите-ка свои нежные нервы!.. Юрий был прав — тысячу раз прав, и довольно об этом… Нельзя. Нельзя. Нельзя».
Сережа шел по проспекту, не видя перед собой лиц редких прохожих…
— Ржевский!! — Неожиданно громкий крик не успел дойти до него, когда кто-то крепко стиснул его в объятиях и чьи-то горячие губы с силой коснулись его щеки. — Сережка!!
Стремительная пылкость в этом страстном — куда-то не в щеку и не в губы — поцелуе обдала Сережу чем-то позабыто знакомым.
— Олька! Олька Абардышев!
27
Непролазные заросли малинника сохраняют прохладу даже в полуденный зной… Вкус малинового прутика, его белая, вязкая на зубах мякоть.
Голые ноги до колен исхлестаны травой и крапивой.
Олька Абардышев сидит на корточках напротив Сережи. Олька похож на девочку: у него пепельные, крупно вьющиеся локоны, красиво падающие на воротник белой матроски, правильный овал лица, прохладные зеленоватые глаза и благородно очерченные пухлые губы.
Сейчас в Олькиных волосах торчит белое петушиное перо, подкрашенное красной акварелью.
— Соколиный Глаз, — говорит Олька, — как же все-таки быть с трубкой мира?
— Когда бледнолицый койот покинет свой вигвам, мы сможем взять все необходимое, — отвечает Сережа.
— А он наверное курит?
— Ну. Я сам видел. Тихо!
Они замирают. По гравиевой дорожке идет из дому Женя — его хорошо видно сквозь густые заросли. Женя, в белом фланелевом костюме, тонкий, элегантный и легкий, идет быстро, почти бежит…
— Куда это он так разлетелся?
— К Морозовым… У них дачный бал вечером — вот и носятся.
— Охота им…
Олька и Сережа обмениваются многозначительным взглядом. Их прямо-таки переполняет презрение к взрослому миру. Скучная и глупая жизнь. Как это ужасно — вырасти!
28
— Олька… — Обрадованный Сережа смотрел в, казалось, ничуть не изменившееся за три года лицо Олега Абардышева. — Господи, Олька, как я рад тебя видеть!
В следующую секунду Сережины нервы, казалось, помимо него самого, мгновенным и мощным усилием заставили лицо остаться неподвижным: человек, сжимающий его в объятиях, был одет в черную кожанку.
29
С Вадиком Белоземельцевым, лучшим другом детства, учившимся в царскосельской гимназии, Сережа виделся раз в год — в Крыму. А в остальное время — от Крыма до Крыма — Сережа больше всего общался с Олькой Абардышевым.
Сережа и Олька учились в одном классе, но знакомы были еще до гимназии — по дачному поселку в Останкине.
В старших классах эта дружеская связь немало удивляла самого Сережу, находившего объяснение только в известном «стихи и проза, лед и пламень»… Непременный зачинщик всех гимназических бесчинств и бунтов, необузданный, фанатически подчиненный только своему, более чем своеобразному, кодексу чести, Олька, несмотря на безмятежно-ангельское личико расхорошенького пай-мальчика, к шестнадцати годам умудрился переспать с половиной московских проституток… (Врач венерической клиники, на прием к которому Олька попал в пятнадцатилетнем возрасте, был озадачен, пожалуй, впервые за свою практику — настолько не вязался Олькин вид с целью визита.) Отношение к людям варьировалось у Ольки только между обожанием и ненавистью: безразличия не было в его натуре вообще, так же как и спокойного отношения к чему-либо. Основным объектом его ненависти было, во всех видах, «бюргерство», противопоставленное «музыкантству»… Запоем читавший йенцев и Гофмана, Олька с яростным максимализмом делил людей на «бюргеров» и «музыкантов», и это деление было единственным делением, которое он признавал. Деления на «плохих» и «хороших», «добрых» и «злых» для него не существовало. Впрочем, и само понятие добра и зла было для Ольки чем-то находящимся вне его мировоззрения.
Как-то, войдя в класс уже после звонка и получив по этому поводу соответствующую запись в дневник, Олька упал за парту рядом с Сережей… Глаза его лихорадочно блестели: он сидел словно на иголках и, отвечая с места, сделал грубейшую ошибку в отложительных глаголах.
Когда звонок наконец прозвенел, Олька оторвался от крышки парты, которую последние пять минут ожесточенно царапал сломанным пером.
— Знаешь, погоди… — остановил он Сережу, сорвавшегося было мчаться в рекреационный зал.
— Ну? — Сережа уселся на парту перед Олькой.
— Мне сегодня сон приснился… такой сон… — Олька откинулся на спинку скамейки. — Понимаешь, Сережка, мне приснилось, что я вот-вот смогу полететь… Все тело наливается такой силой, что я знаю, что еще изо всех сил напрячься — и я взлечу, стремительно, вверх… И я молю Бога: Господи, помоги мне взлететь, дай мне сейчас взлететь, я хочу ощущения полета… И тут появляется какая-то женшина в красном. И она говорит: не торопись, может быть, это и не от Бога… И я понимаю, что это не от Бога… И тогда я проклинаю Бога, чтобы полететь…
— Крыть нечем: ты в этом сне — весь, — прищурился Сережа.
— Не могу я тебя понять… — Олька повертел в пальцах карандаш. — Я же тебя видел… в церкви. Но неужели не унизительно для человеческого достоинства — падать на колени?!
— Унизительно не падать.
— Но ведь есть же гордость!
— Самая высокая гордость — смирение.
— А как же, где в христианстве место бунту?
— В христианстве ему нет места.
— Но ведь бунт — благороден! Помнишь, у Байрона в «Каине»? Гордость бунта, сила восстать!
— Природа бунта — паразитична.
— Что ты хочешь этим сказать?!
— Бунту нужен объект. Если у бунтарской натуры отнять все объекты, то ей ничего другого не останется, как восстать на самое себя. Ну и самоуничтожиться. Следовательно, существовать она может, только паразитируя.
— Пятерочка по логике. Твой Флоренский тебе в кровь и плоть въелся. Кстати, о плоти. Твое христианство зачеркивает плоть. А почему? Ведь плоть обогащает. Она дает ощущения.
— И берет тебя. Неужели даже тот «насморк», который ты подхватил осенью, ни на что тебя не натолкнул?
— Ерунда. Тело дает мне жизнь ощущений — это главное.
— С тобой бесполезно разговаривать. Ты задавлен своей, как говорят индусы, нижней чакрой.
— Меня это устраивает.
30
— А я чертовски рад, что ты — наш. По твоим склонностям я скорее бы ожидал тебя увидеть каким-нибудь «вольнопером»… Хотя, слушай, ты ведь собирался на ускоренные курсы. Значит, ты бы сейчас был прапорщиком, ты ведь их кончил?
— Кончил.
— Здорово все-таки. А каким тебя сюда ветром забросило?
— Недавно. Я был сюда прислан к Петерсу… по одному делу. — Уже пришедший в себя, Сережа даже улыбнулся тому, к какой акробатической изворотливости формулировок толкает его почти физическое отвращение ко лжи.
— Я тоже не очень давно. Из Москвы. Слушай, у тебя сейчас время есть?
— Пожалуй, да.
— Я тут рядом — в общежитии Чека. Завернем ко мне?
— С удовольствием.
«Идиот! Надо же было отговориться делами… Но не случайно же так случилось. Ведь случайного не бывает. А мне сейчас нужно развлечься».
Они сворачивали уже с Невского в переулок.
— Слушай, а как братец твой Женичка?
— Женя погиб.
— Извини, Сережка. Давно?
— Порядком. В восемнадцатом.
— Ясно. — Олька шел быстро и весело, казалось, ему хочется разбежаться и подпрыгнуть.
Двери оштукатуренного желтым трехэтажного дома то и дело открывались, пропуская людей, по большей части молодых, в шинелях и кожанках, коротко подстриженных женщин в сапогах и коротких юбках, в красных косынках и без косынок…
— Абардышев! Олег! Приходи чай пить!
— Не могу, занят! — крикнул Олька куда-то в глубину людного вестибюля, где стоял непрерывный гул голосов и желтый махорочный дым. Откуда-то тянуло стряпней на скверном жире. Поблескивали металлом вешалки гардероба — конечно, никто не раздевался. Сережа услышал в себе веселое ощущение безопасности, то ощущение, которое всегда необъяснимо овладевало им в особенно рискованных ситуациях. Он поднялся вместе с Олькой по лестнице на третий этаж (на каждой площадке оживленно курили девушки и молодые люди).
— Нет, дурачье, это же гениально придумано!
— Васька, и много таких отрядов будет?
— Пропорционально оборонным войскам. Здорово, Абардышев!
— Здорово, Федорук!
Олькина дверь оказалась в конце грязного, заплеванного окурками самокруток коридора, у мутного окна с широким каменным подоконником. Абардышев отомкнул ее ключом, взятым у стриженой девушки на вахте.
Они прошли в комнату, в которой нельзя было подойти близко к окну из-за того, что половину ее занимали до потолка громоздящиеся друг на друга школьные парты. Из-за этого же было и довольно темно. В комнате стояли две железные койки — одна из них зияла пружинной сеткой, другая была кое-как заправлена серым солдатским одеялом. Паркетный грязный пол был усыпан все теми же окурками.
— А свинарник у тебя, — Сережа присел на стол, вытаскивая было портсигар, но, вовремя спохватившись, не вытащил.
— А, не до того, — тряхнул пепельными кудрями Олька. — Черную работу кончим, будем там все эти дворцы с алюминиевыми колоннами строить. Хотя знаешь, Сережка, тьфу ты, спички отсырели, темновато у меня, да? Зато — пока один, а в этом — того-этого — есть кое-какие преимущества.
— А ты все такой же бабник.
— А ты все такой же средневековый рыцарь с обетом целомудрия? «Тело — инструмент духа», который должен быть чистым, а то куда-то там не пойдешь не поедешь… Помню я все твои теории.
«А здорово я отвык от родного произношения с этим питерским рассыпанием сухого гороха», — невольно отметил Сережа, слушая Ольку. По обыкновенной своей манере Олька как бы нарочито утрировал московское растягивание гласных, играя плавными интонациями, как сытый котенок, жмурясь, играет с клубком. Олег Абардышев действительно изменился мало. От него, как и прежде, веяло какой-то беззаботной прозрачной порочностью. Это была не та порочность, что губила когда-то Женю: это была порочность без боли, без муки, без «торжества святотатца» и без отвращения — это было какое-то невиннейшее неразличение Добра и Зла.
— Так о чем я бишь? А, ну да! Эта черная работа очень по мне… Ты Блока любишь? «Пальнем-ка пулей в Святую Русь»! Вот где сила бунта, куда Байрону! Помнишь, мы с тобой спорили о бунте? Вот он и вырвался, бунт…
— Вырвался или … выпустили?
— Ну, предположим, и выпустили, — улыбнулся Абардышев. — Мы выпустили. Знаешь, теперь-то об этом уже можно говорить — я ведь еще в гимназии в партию вступил. Помнишь, ты еще спрашивал, почему у меня пальцы черные — мы прокламации набирали тогда у Бельки Айзермана. Я их тогда от типографской краски не мог оттереть… Слушай, а ты чего в перчатках?
В дверь стукнули.
— Олег, ты у себя? — спросил хрипловато-прокуренный девичий голос.
— Ну! — весело откликнулся Абардышев. — Познакомьтесь, кстати: Дина Ивченко — Сергей Ржевский. Мы, Динк, восемь лет протирали одну парту в одной гнусной гимназии.
Несмотря на менее воинствующий вид — плечи девушки были закутаны в клетчатый шерстяной платок, и ни кожанки, ни маузера на боку на этот раз не было, — Сережа сразу узнал светловолосую девушку из ЧК.
31
«Я задыхался, горло мое выпало, я сказал себе — воистину это вкус смерти!»
Неферт… Явись ко мне, змейка-Неферт, утолить жажду мою водой, принесенной тобою в белоснежной чашечке лотоса…
Яви мне лик твой, змейка-Неферт, светлая любовь моя, прекраснейшее дитя из дочерей Черной Земли…
Дай мне коснуться белого льна твоих одежд, змейка-Неферт, божественное дитя, рожденное из лотоса…
…Безоблачное, светло-голубое небо казалось лежавшему в траве Жене Чернецкому похожим на безбрежное течение Нила.
Прозрачный блеск воды в прибрежных зарослях лотосов кажется зеленоватым. Сейчас из стены темно-зеленых высоких стеблей покажется загнутый нос узкой тростниковой ладьи… Сейчас расступятся стебли, пропуская длинную и узкую, как тело змеи, ладью…
А может быть, я все же встречу тебя здесь в человеческом облике?
Ведь встретил же я «товарища от Бога, В веках дарованного мне», правда, затем, чтобы тут же потерять… Может быть — мы и не встретимся в этой жизни больше…
Перед Жениными глазами поплыли картины снежно-серого бессолнечного дня, снег в синеватых тенях, молочное небо, Сережа, в расстегнутом белом полушубке, с непокрытой головой, холодное лицо, папироса в руке, небрежно, между двумя затяжками брошенная фраза:
«Кстати, Его Высокопревосходительство благоволит отправить меня к Родзянке». И свой спокойный, с чуть насмешливой интонацией голос: «Право? И — надолго?» — «Полагаю — да. От Родзянки я, кажется, отправлюсь еще дальше…»
Мы же понимали, что это — конец! Как будто под ногами треснула льдина и через мгновение течение стремительно разведет в стороны ее куски, неся и сталкивая дальше… Странный образ… Почему мы так расстались — мы же знали, что это по меньшей мере — надолго?
«Куда я дел эту дурацкую записную книжку? А, вот, в кармане. Ну, кажется, пора. Собственно, мы все равно совершаем прогулку в одном направлении…» Мы же понимали, что это — конец. И почему-то в утро его отъезда, как обычно, едва перебрасывались за завтраком фразами… И все-таки мы же до сих пор слышим друг друга… Сережа, я не могу даже сказать, что тебя нет рядом, потому что чувствую тебя в себе, чувствую натяжение тонкой ниточки где-то в душе, ответную соединенность с тобой. Так, как я почувствовал ее; когда увидел тебя впервые — в этой жизни. И тот разговор ночью…
— Индия, Индия…
— А ну их… Индия — просто очень большая и старая безвкусица. А Египет…
— Египет — спящий Царь Миров. Знаешь, а ведь во мне…
— Что в тебе?
— Нет, ничего… Пустое. Ты говорил…
— Parbleu40. Мне нравится твоя манера недоговаривать.
— В моих обстоятельствах простительна некоторая забота о собственной безопасности.
— Каковы же ваши обстоятельства, милорд? — Прищуренные глаза — всегда выдающий Сережу признак злости. Взгляд брошен на Женю, как спущенное с пружинки лезвие: сам Сережа в жизни не видал таких ножей.
— О, пустяки. Нечто наподобие прогулки по канату. Так что не пеняй на недоговорочки.
— А ведь ты врешь, Чернецкой. Ты воображаешь, я не вижу, что, открывая рот для таких якобы неосторожных фраз, ты уже знаешь, на каком слове себя оборвешь. Танцы на канате тебя вполне развлекают самого.
— Предположим. Хотя дело не только в этом.
— Не только. Ты прощупываешь, могу ли я их за тебя продолжить,
— Ты красиво швырнул мне козырного туза.
— У тебя еще парочка в рукаве.
— Ржевский, а ты сейчас великолепен. Только не надо додумывать картель, меня не оставляет ощущение, что выяснять отношения таким образом мы уже когда-то пробовали.
— Тебя тоже на это тянет?
— Почти все время, что любопытно.
— Меня держит одно — слишком уж это заманчиво просто. Чернецкой, та розовая вода, в которой мы плавали, в нашей лавочке вышла. Все эти трогательные воспоминания о прошлых встречах и затасканная мистиками метампсикоза…
— А было забавно, согласись. Особенно — твое раннесредневековое воспоминание о ребенке на троне и бокале с ядом и мое — египетское.
— Яд, действующий несколько лет. Да, тебе пришлось веселее. А все же невозможно было сразу не поверить в то, что ты был этим ребеночком-фараоном… Знаешь когда? Когда ты машинально передернулся от стакана молока. Это ведь тоже не было пустой любезностью с моей стороны.
— Mersi.
— Только все эти игры кончены. На другой день, когда мы познакомились… Ты ведь сутки прикидывался больным для того, чтобы не встречаться со мной.
— Г-м… Хочешь правду? Держи! Я, видишь ли, тебя испугался. Я испугался тебя так, как не боялся никого и никогда.
Вспомнив растерянное Сережино лицо, Женя Чернецкой негромко рассмеялся и вскочил на ноги.
Ощущение бескрайнего неба, открывающегося через метелки травы, сразу же пропало. Выросли крыши сельской окраины, словно прижатые к земле тяжестью развесистых старых ветел.
Дорога, на которую вышел Женя, поднималась на пригорок, откуда начинались первые, обшитые бурым тесом дома. Здесь царило оживление, обыкновенное для недавно занятой местности. Мимо Жени прогрохотал, оставляя пыльный след, грузовик с продолговатыми ящиками боеприпасов, проскакала группа верховых… Неохватные стволы у въезда были свежеисполосованы пулеметной очередью — отметив это, Женя криво усмехнулся.
— Эй, Чернецкой! — Женя замедлил шаг, и вольноопределяющийся Николаев поравнялся с ним. Левая рука Николаева болталась на перевязи.
— Здравствуй, Николаев! Пулеметом, что ли, зацепило?
— Да нет — приклад в рукопашной — трах! Шуйца пополам, «и кровь аки воду лиях и лиях»… — весело рассмеялся Николаев.
Чернецкой и Николаев, не будучи знакомы коротко, все же были на «ты». В среде добровольческой молодежи субординация, как и некоторые неписаные законы этикета, принятые между кадровыми офицерами, нарушались постоянно.
— А ты был во вчерашней переделке?
— Нет… Я только сегодня… из Питера. Николаев присвистнул.
— Однако! Стоит он хотя бы на месте-то?
— Стоит, — усмехнулся Чернецкой. — Ох, я и рад, что из него вырвался. Давит. И сам город давит, и это ощущение чужой шкуры, оглядки…
— Но ты надолго теперь?
— Не знаю. Хотелось бы мне не возвращаться иначе, чем вступая с армией. Очень бы хотелось.
32
— Ивченко. — Девушка протянула Сереже руку. На этот раз ее голубые глаза смотрели прямо на Сережу — с доброжелательным вниманием.
— Ржевский.
— Динка, сообрази-ка быстро чайку.
— Ага… — Девушка присела на пол перед небольшим шкафчиком. — У тебя еще где-то сахарин был?
— Был-был, поищи там подальше…
— Ага, есть. А морковишки у меня были… Товарищ Ржевский, а Вы тоже к нам приехали?
«Оцените юмор положения, г-н прапорщик… Спокойно, ну не каждый же день такое бывает…»
— М-да… товарищ Дина.
— О! — Абардышев упал на койку и закинул на спинку ноги в сапогах. — Динка, его к Петерсу понесло!
— А что ты имеешь против Петерса? — с интересом спросил Сережа.
— Бездарен. Скучен как мясник. Эдакого чего-то в нем нет. — Олька кинул косвенный взгляд в маленькое мутное зеркальце над шкафчиком: последняя фраза была не сказана, а скорее промурлыкана — в Ольке вообще было что-то то ли кошачье, то ли женственное. — Я по всем статьям предпочитаю Блюмкина: этот человек умеет понимать красоту…
«Кончай мне из гаража театр устраивать», — вспомнилось Сереже.
— А мы где-то виделись, — взглянув на него, сказала Дина и поставила на письменный стол жестяные кружки с бурым кипятком.
— Да, дней десять тому назад, — ответил Сережа, беря горячую кружку затянутой в коричневую лайку рукой, — когда вывесили воззвание о шпионах.
— Так ты чего в перчатках?
— Почему это тебя так заинтересовало? Меня так интересует, чего ты не анархист или, на худой конец, не левый эсер… По твоему бунтарству от тебя, казалось бы, можно было бы ожидать именно этого. — Ты меня не знаешь и знать не можешь! — Олька резко вскочил и заходил по комнате. — Бунт… Не в одном же бунте дело, твою мать! Я убежденный большевик и никем иным быть не могу! Бунт — это только те пары, которые приведут в действие машину! Человек живет для счастья, для земного счастья, для счастья здесь — другого не может быть и не надо! К шуту сказки о Боге, к шуту очищающее страдание — на черта оно нужно? Надо брать от жизни все, что можешь взять, — вкусом, зрением, осязанием, слухом, телом… Человек будет счастлив, только выбросив все, что этому мешает! А для этого надо сровнять с землей весь прежний мир прежних идеалов… Во мне гораздо больше практицизма, чем ты думаешь… Я вошел в ход этой машины… Она перестраивает понятия… Помнишь, мы развлекались в седьмом классе всякими романтическими историями? Ту сказку про двух рыцарей-друзей, которые волей судеб оказались в разных лагерях? И один обезоружил другого в бою, чтобы убить, потому что тот был опасен для его сюзерена. И обезоруженный попросил победителя на мгновение вернуть ему меч, чтобы он мог убить себя сам. И победитель не колеблясь вернул меч, а пленник действительно убил себя. Помнишь? Тогдашние представления о благородстве… А знаешь теперь, что бы я сделал на месте второго, когда меч оказался бы в моих руках? Я бы немедля направил меч на первого! Потому что единственное благородство заключается в том, чтобы любой ценой выполнить свой долг. А какой ценой — неважно, потому что другого благородства — нет! Потому что ради общего блага я не только порвал со своим сословием и уже убедился-таки, что кровь, которую мы ему пустили, не такая уж и голубая на вид! Я готов убить друга, брата, мать, наконец! Как только это понадобится! Потому что без подобных жертв здесь, на земле, не построить счастливого будущего! Для этого сначала нужно преодолеть сопротивление всего, что ему противится… Любыми средствами преодолеть. Цель оправдывает средства…
«А не запятнают ли средства цель? — подумал Сережа, глядя в разгоряченное лицо Ольки холодными, чуть прищуренными глазами. — Ясно, что в том, что было, не все справедливо и хорошо… Но только может ли быть справедливее и лучше то, для чего надо убивать друга, мать и брата, если только они мешают этому лучшему? Может быть, насилие от века — это страшно, но насилие во благо… нет, это в тысячу раз страшнее потому, что несет в себе какую-то перевернутость тех понятий, которые держат человечество… Чернецкой бы это свел к кабалистике… А страшновато он оценивает революцию с мистической стороны… В Ольке действительно словно перевернуто что-то…»
Динины глаза восхищенно следили за Олегом, который, вдруг успокоившись, взъерошил рукой волосы и взял кружку, улыбнувшись девушке обаятельно-кошачьей улыбкой.
Дверь с шумом распахнулась. На пороге стоял молодой человек, которого также сразу узнал Сережа, — это его тогда отсылал Зубов из кабинета Петерса… Вбежавший не обратил внимания на Сережу.
— Абардышев, Ивченко! — крикнул он. — Через две минуты выезжаем — машина внизу!
— Ладно, недоговорили. — Олька прицеплял кобуру. — Слушай, ты ночуй у меня, чего тебе тащиться!
— Не могу, Олька.
— Ну, тебе виднее. Ты адресок свой оставь — заверну, будет время.
Сережа написал несколько строчек на картонной карточке, которую вытащил из кармана, и положил карточку рядом с чайником и кружками. Из коридора (дверь оставалась распахнутой) показалась уже затянутая в черную кожу Дина.
Олька запер дверь, и они вместе с другими спешащими вниз людьми быстро пошли втроем прочь от комнаты, в которой оставалась на столе «записка с адресом»:
«Олька! Прости, что так и не ответил, почему я в перчатках, — но тебе это смогут объяснить и твои приятели, если ты их спросишь, по какому делу я встречался с Петерсом. Адреса не даю.Semperturn41.
— С. Р.»
33
— Итак, товарищи, положение, не будем скрывать, тяжелое. Телефонная связь с Красной Горкой несколько часов как прервана, что внушает самые серьезные опасения. Может быть, враг уже занял форт. Необходимо без помощи Москвы, своими силами отстоять любой ценой революционный Петроград. В свете этого перед нами, работниками Чека, стоят две первоочередные задачи. Первое: ожидается, что ввиду подступившего к Петрограду фронта контрреволюционные силы в тылу активизируются. За сутки, к следующей ночи, мы должны, подняв весь резерв пролетариата столицы, провести в одну ночь серию обысков по всему Петрограду — не минуя империалистических посольств! Отданный вчера приказ о сдаче оружия в течение суток — подошел к концу. С помощью мобилизованного пролетариата мы нанесем ощутимый удар подполью.
Прокуренный махоркой зальчик, в котором говорил Петерс, был набит до отказа.
Олька Абардышев, затиснутый в угол вместе с Володькой Ананьевым (молодым человеком, которого видел в ЧК Сережа) и Динкой, краем глаза увидел, что Динкина рука съезжает на бок, к маузеру. Пользуясь темнотой (света не хватало на углы маленького зала), Олька с мягкой силой положил свою руку на Динкину — поверх маузера. Горячие, с притягивающей насмешливостью изогнутые губы приблизились к ее лицу:
— …Успеешь… не тянись к игрушке… успеешь пострелять, девочка.
— Второе: товарищем Троцким разработан план по усилению обороноспособности Петрограда, в котором решающая роль отводится также нам, работникам Чека. Тут многие слышали про особые отряды, так вот, для тех, кто не слышал: кольцо обороны Петрограда должно быть охвачено изнутри другим, укрепляющим первое, кольцом — оно будет состоять из работников Чека, задачей которых будет не борьба с врагом, а создание невозможности отступления для колеблющихся. Защищающие Питер должны знать, что тех, кто побежит, встретит неминуемая смерть. Не далее чем послезавтра части Чека должны быть распределены по частям обороны. Ответственный — товарищ Валентинов. По заводам в ближайшую ночь — товарищи Блюмкин и… Абардышев.
Последнее было неожиданным. По еврейскому нервному лицу повернувшегося к Ольке Ананьева пробежала одобрительная улыбка. Олька, посерьезнев в лице, крепко пожал в темноте несколько молча протянутых рук. Он чувствовал, что неожиданное назначение не вызвало возражений, чувствовал, что возложенная на него ответственность молчаливо одобрена.
Ольку Абардышева любили в ЧК. И хорошее происхождение, и образованность, и барственные манеры — все, что не простилось бы никому другому, ставилось Ольке чуть ли не в заслугу. Олька небрежно покорял товарищей по работе в ЧК, как и покоряет обыкновенно плебеев аристократ, разделяющий их интересы, В этом сказывалась извечная плебейская потребность восхищаться вышестоящим существом. Олька показался в эту встречу Сереже толстовским Афанасием Вяземским. Так или иначе, этот новый Вяземский чувствовал себя среди опричников нового времени как рыба в воде.
— Что это еще, мать его, за князь такой — Серебряный?
— Эй, товарищ Абардышев!
Олька приостановился на площадке широкой лестницы.
— Ну?
— Ты у нас вроде как «спец» по голубым кровям?
— Вроде как.
— Тогда скажи, что это за князь такой — Серебряный?
— Князь Серебряный? Это книга так называется.
— Какая к … матери книга? Под Смоленском князь Серебряный орудует, падла белая. Взял его на прошлой неделе.
— А тебе, Осьмаков, других делов нет, кроме Смоленска? Нехай Москва думает, кто его там взял, у нас свой Юденич, матерь его!
— Да я смоленский…
— Товарищи, товарищи! — разговаривающих нагнал спускающийся в толпе Ананьев. — В корне неправильная постановка вопроса! Товарищ Ленин неоднократно предупреждал о недопустимости петроградского сепаратизма. Помимо нашего фронта, существует еще и общий фронт, поэтому даже сейчас, когда Петроград в такой опасности, мы все равно должны думать о положении на других фронтах… Кстати, Абардышев, по поводу ордеров ко мне завтра зайди, ты хотел. Как раз будут.
— Зайду! Динка, езжай с Володькой — я пешком.
Ольке действительно хотелось пройтись, но только очутившись на ночной, по-летнему светлой улице, он почувствовал, насколько сильно ему этого хочется… Иногда с ним случалось так, что усталость бессонных ночей и напряженных дней, усталость, загнанная куда-то внутрь, забиваемая курением и распиванием кипятка и обычно не замечаемая, неожиданно давала себя знать.
Олька любил летние ночи, светло-пустынную волнующую безлюдность улиц… Тот, другой человек — человек, который любил участвовать в расстрелах и орать скабрезные стихи на пьянках, мчаться в грохочущем по темным зимним улицам автомобиле на рискованные операции, — в такие минуты куда-то отступал, и мысли растворялись в неожиданно обретенной ясной прозрачности белой ночи.
«А любопытный псевдоним — князь Серебряный. Этот беляк, должно быть, большой любитель Толстого. С намеком — псевдоним… Опричнина — мы. А что, разве Грозный был не прав? А Сережка тоже всегда обожал Толстого… Еще тот отрывок, который он наизусть читал… „Не сравнять крутых гор со пригорками, не расти двум колосьям в уровень, не бывать на Руси без боярщины!“ Так, кажется… Стой, стой!»
Олька резко остановился.
«Нет! Не может быть!»
— Твою мать!!
«Говорили о каком-то офицерике из штаба Юденича, который как-то очень лихо сбежал из Чека. Но полез бы он тогда ко мне? А разве такое не в его духе? „К Петерсу“. Перчаточки. А тот жест, когда явно хотел закурить, полез в карман, как только за куревом лезут… И почему-то передумал.
Адрес! Что же он мог там написать?»
Олька знал уже, впрочем, примерное содержание записки.
34
Ночные коридоры Чрезвычайки были пусты… Петерс медленно шел из опустевшего зала в свой кабинет. Возвращаться домой уже не имело смысла: час-другой вздремнуть на кожаном диване в углу — и браться за дела… Спросить у дежурного кипяточку? Да нет, черт с ним. Спать. Обе операции, во всяком случае, проведут оперативно… И хорошая мысль — дать в помощь Блюмкину Абардышева. Без большого простора для инициативы такой начнет взбрыкивать, а так он надежен, очень надежен… С утра — созвониться с Зиновьевым… Затея с минированием в … душу мать… Какого … минировать город — его просто нельзя сдавать… Нет, Сталин, не Зиновьев, а Сталин гнет верную линию против циковского сепаратизма… Ладно, своих на это не давать… Пусть кем хочет минирует, трепло… Ладно, спать… Спать…
Зампред швырнул пиджак на диван.
А если еще попробовать соединиться с Красной Горкой?
— Алло!! Красную Горку! Шумы в трубке.
— Тамошняя телефонная станция не отвечает… Сейчас! Кажется, начали…
Совсем вдали:
— Красная Горка.
— Красногорскую Чека!
— Говорите!
— Алло?
— Артемьева!
— Подойти не может — взят под арест! — перекрывая телефонные шумы, бодро отчеканил чей-то энергический голос.
— На каком основании?! Кто у аппарата?
— А на проводе кто?
— Мать твою… Петерс на проводе! Что вы все там… что ли?! Почему была прервана связь?
— Связь-то? Да бои на территории шли, вот и нарушилась! — весело и охотно прокричал в трубку собеседник.
— Тьфу ты! Порядок навели?!
— Еще как навели-то, Яша, спи спокойненько! И как это я тебя, голуба-душа, сразу не признал? Да и ты хорош, мог бы и вспомнить, как ручку жал…
— Кто у аппарата, я спрашиваю?!
— Граф Зубов у аппарата. — Голос неожиданно сделался ближе и отчетливее, и в его откровенно жизнерадостных интонациях проступило петербургски изысканное проскальзывание буквы «р». — А теперь, Яша, слушай и на ус наматывай. Относительно той части гарнизона, которая осталась на территории форта…
— Что?!
— Je veux dire42, кого рыбы не стрескали. Et bien, комендант форта поручик Неклюдов приказывает органам Чеки и частям Красной армии оставить Петроград к завтрашнему утру. В случае неповиновения будут расстреляны триста пятьдесят коммунистов и командиров, находящихся в наших руках. Мы их покуда в док согнали, чтоб пейзажу не портили. Et bien — Питер возьмем, пленных из коммунистов брать не будем! Обожди-ка минутку… — Петерс расслышал, как где-то далеко, на другом конце провода, собеседник поднял трубку другого телефонного аппарата. — У аппарата! А, Неклюдов! А я тут как раз твои пожелания в питерскую Чеку передаю… Что? Не слышу? А, конечно, не выполнят! Но не суть — главное, чтоб в штаны наложили! Ну! — В аппарате послышался смех, и на мгновение раньше, чем собеседник перехватил прежнюю трубку, Петерс вспомнил широкоплечую и могучую фигуру и красивое наглой, веселой красотой лицо московского анархиста. «Можешь попросту Графом, как меня свои кличут». — Так о чем я, бишь? Из коммунистов пленных брать не будем, из комиссаров — само собой. Так что au revoire, товарищ Петерс, до скорого! Приветы и поцелуи!
В трубке загудел отбой.
Услышав этот гудок, Олька Абардышев вдребезги разбил бы телефонный аппарат. Яков Блюмкин помчался бы с маузером вымещать ярость в подвалах. Но Петерсу сослужили службу присущий ему флегматический, нечувствительный к унижению темперамент и основательная усталость: зампред остался спокойным.
«Социалистическое отечество в опасности!» — раздраженно подумал он. — Как будто кто и без него этого не знает!..»
А поспать не придется.
— Смольный! Сталина!
35
Тоненькие пальчики Тутти засовывали в папиросный мундштук туго свернутую полоску бумаги.
«ГЕНЕРАЛУ РОДЗЯНКО ИЛИ ПОЛКОВНИКУ С. ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ПЕТРОГРАДСКУЮ ГУБЕРНИЮ ВВЕРЕННЫХ ВАМ ВОЙСК МОГУТ ВЫЙТИ ОШИБКИ, И ТОГДА ПОСТРАДАЮТ ЛИЦА, СЕКРЕТНО ОКАЗЫВАЮЩИЕ НАМ ВЕСЬМА БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОДОБНЫХ ОШИБОК ПРОСИМ ВАС, НЕ НАЙДЕТЕ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНЫМ ВЫРАБОТАТЬ СВОЙ ПАРОЛЬ. /…./ В СЛУЧАЕ СОГЛАСИЯ ВАШЕГО БЛАГОВОЛИТЕ ДАТЬ ОТВЕТ ПО АДРЕСУ, КОТОРЫЙ ДАСТ ПОДАТЕЛЬ СЕГО. ВИК» 43.
— Готово, дядя Юрий.
— Молодец. — Некрасов подбросил на ладони обыкновенную на вид папиросу и, положив ее в портсигар, передал его Никитенко. Алексей молча кивнул, пряча портсигар в карман.
— Ну что же, подпоручик… Счастливо вам добраться.
— Возвращайтесь скорее, дядя Алеша!
На вошедшего Сережу Некрасов взглянул не сразу.
— Я не предполагал, что мне придется напоминать Вам о дисциплине оперативных групп, Ржевский, — наконец холодно начал он. — В восьмом часу вечера был дан приказ расходиться поодиночке из квартиры военспеца Останова. Сейчас — второй час ночи. Ступай спать, Тутти, тебе уже давно пора ложиться. Итого, Вы отсутствовали более шести часов. Ваш поступок в других условиях завершился бы домашним арестом.
— Я приношу Вам свои извинения и заверяю, что этого не повторится впредь, г-н штабс-капитан! — отчеканил Сережа.
— А я уж подумал было, что мне, как Вишневскому, не придется проститься с Вами, г-н прапорщик, — улыбнулся Никитенко.
— А Вы отправляетесь через фронт, г-н поручик? И Вишневский уже отправился? Вот это срочность…
— Ах да, Вы же за своими прогулками еще не знаете главного, Сережа, — вмешался в разговор до этого молча разбиравший чертежи Казаров. — Красная Горка, Серая Лошадь и Обручев взяты нынешней ночью…
— Частями Родзянки? — выдохнул Сережа.
— Нет, тамошним нашим ответвлением. Родзянко близко — восемь верст, но силы между ним и фортами сконцентрированы значительные. Вы ведь видели, какая мощная волна мобилизации идет по заводам… А сведения о дислокации на всякий случай понесут по отдельности и Вишневский и Никитенко44 .
— Если наши продержатся в Красной Горке хотя бы двое суток… Да что там, и суток достаточно.
— Счастливого пути! И торопитесь — могут пострадать наши люди.
36
«Слушай, Чернецкой, а ты вообще — человек?»
Ужасный этот, так невозможно неправильно сорвавшийся вопрос уже несколько часов снова и снова звучал в ушах Мити Николаева, каждый раз обжигая его полудетское лицо краской стыда.
Ну нельзя было этого спрашивать! Непонятно почему, но нельзя. Теперь все кончено, теперь потеряна всякая надежда на то, чтобы покороче сойтись с этим холодным, ненарочито надменным, словно окутанным какой-то вечно ночной таинственностью Женей Чернецким…
Митя мерил злыми шагами всползающую на высокий холм проселочную дорогу. Однообразный предвечерний пейзаж, расстилающийся вокруг, словно сгущал овладевшее им уныние.
Но он бы ни за что не сделал этой глупости, если бы не неожиданный прорыв — после того утреннего боя за Щелково; если бы не мгновенная эта догадка при взгляде на Женю: догадка эта была пронизавшим Митю ощущением древности, пугающей древности этого существа, воплотившегося в стоящем перед ним восемнадцатилетнем офицере… Ничего современного, человеческого не было в этом юном, тревожаще нежном лице, каком-то Бердслеевском лице — контрасте ослепительно ярких цветов — белого и черного.
— Господа офицеры! Требуются добровольцы из нас — прорвать оборону штыковым ударом…
— Позвольте мне, г-н капитан!
И этот отчаянный бег навстречу свистящим пулям… Перебежка… Удар, смягченный сухой травой, тела о землю, запах нагретой земли, ползущий по травинке муравей… Снова резкий бросок тела вверх… А бежавший рядом так и остался лежать…
Чернецкого, бегущего впереди, не берут пули: он легко бежит с солдатской винтовкой в руках и, встречая их свист, смеется, смеется так, будто наверное знает, что пули эти бессильны…
И — рукопашная, рукопашная, страшнее которой на свете нет ничего… Упруго взрезающий чужую плоть штык… Крик — страшный, захлебнувшийся; какая же она яркая — кровь!
Рукопашная — не чувствуется даже боли в поврежденной вчера руке; бои идут вторые сутки… «А-а-а..»
Запоздалый треск только что установленного пулемета… Пулеметный огонь не может уже зацепить Женю, под ударом которого дергается и замирает тело лежащего за пулеметом парня… Треск замолкает.
Оборона деревушки Щелково по линии наступления Ямбург — Красное Село, в котором укрепились красные курсанты I Новгородских пехотных курсов комсостава, прорвана. Удалось занять несколько дворов в центре села, но прорванная линия смыкается за офицерской группой снова…
Перепуганные насмерть хозяева прячутся в подполе вместе с детьми и теленком, которого высокий, худой как жердь мужик стаскивает туда на руках…
Бой становится многослойным: в центре — белые, вокруг белых — красные, вокруг красных обхватившие Щелково белые части…
Женя Чернецкой носится по скотному двору, стреляя то от одной, то от другой точки; остальные занимают постоянные позиции…
Со стороны Красного Села на дороге видно облако пыли, поднимаемое обыкновенно передвижением большого количества людей, коней и телег… Митя не знает еще, что это подходят части 7-й армии красных.
Невероятно тяжелый бой — второй бой за двое суток — натиск на Красное Село идет стремительно… Почему не хочется спать?
«Слушай, Чернецкой, а ты вообще — человек?»
Почему он спросил об этом?
И со смешком, от которого холодок пробежал по спине, ответ Жени: «А ты как думаешь?»
Отчего же все-таки вопрос был задан?
…Еще в первую, до Ямбурга, встречу с Женей Чернецким Мите Николаеву невольно вспомнились немало раздражавшие когда-то родителей разговоры с дядей Сашей…
Дядя Саша, профессор-этнограф, живший в небольшом домике на Шаболовке, считался немного чудаковатым… Еще более чудаковатым, если не прямо помешанным сочла бы его вся родня, если бы им довелось присутствовать при его разговорах с двенадцатилетним племянником Митей, учеником четвертого класса.
Со свойственной большинству мальчиков (и у большинства проходящей к взрослости и даже раньше) тягой к чудесному и необыкновенному, Митя очень любил бывать в этой заваленной чучелами экзотических зверей, африканскими масками, тамтамами и деревянными божками квартире, забираться в кресло с резными фигурками обезьян на подлокотниках, и слушать дядины рассказы об удивительных обычаях диких племен…
Но тот всплывший в памяти при знакомстве с Женей Чернецким разговор зашел не об убивании счастливым отцом первого прохожего, чтобы наградить его именем новорожденного младенца, и не о живых девочках-богинях из Катманду…
« — Видишь ли, друг мой, — говорил дядя Саша, наклеивая на продолговатые коробочки небольшие ярлычки, — это было бы крайне бездарно и скучно, если бы вокруг нас ходили и занимались своими делами одни только люди… Но это, по счастью, не так, и за самыми обыкновенными человеческими делами и в обыкновенных человеческих нарядах можно встретить и несколько других существ…
— Каких, дядя Саша?
— Разумеется, нелюдей, мой милый… Хотя иной нелюдь, случается, так подделается под человека, что не сразу и отличишь…
— Нелюди — это злая нечисть, дядя Саша?
— Отчего же непременно злая? Передай мне, будь любезен, вон ту папку… Красную… Спасибо. Вот люди — есть хорошие, есть плохие… Так почему же нелюди должны быть одинаковы? И хорошие есть и плохие… Только, надо сказать, у хороших есть одна малоприятная особенность… Если их угадаешь, они очень любят… г-м… пугать не пугать… а так — притворяться черными… Хотя на самом-то деле не черные они, а только темные, темные-тайные…
— А как их отличить — нелюдей от людей?
— Сами себя выдают, Митя… Нет-нет да выдадут… У некоторых очень северных народов, например, считается, что они узнают друг друга по блеску глаз… А человеку их узнать… Ну, к примеру, лунного свету они не любят… Почему?.. Куда же я засунул клей?.. А, вот он… Вероятно, потому, что нелюди, иначе — оборотни, по большей части пошли от волков… Вы «Слово о полку Игореве» уже проходили?
— Нет еще. Мы пока только былины проходим…
— Был такой нелюдь — князь Всеслав Брячиславич Полоцкий, или Кривский. Князь-оборотень. Будешь читать «Слово» — узнаешь…»
…Беседы эти, отошедшие куда-то далеко-далеко от Мити Николаева, неожиданно с необыкновенной отчетливостью всплыли в памяти с появлением Жени Чернецкого. Женя, сам не ведая того, потряс Митю тем, что его детские представления, задумываться о которых ему так же не приходило в голову, как задумываться о существовании домовых, неожиданно оказались проступившей в Жене правдой.
«Они себя выдают…»
Женя Чернецкой боялся лунного света.
— А ты зря пьешь в темноте. Есть и пить в темноте не стоит.
— Почему?
— Да просто потому, что в темноте не видно, что ты ешь или пьешь.
— Вот так от самых обыкновенных слов может стать страшно, — сказал тогда Митя.
Женя Чернецкой постоянно выдавал себя, несмотря даже на въевшиеся в характер манеры обычного гимназиста…
А может быть, все это вообще — бред? Игра не в меру расходившегося воображения? С чего же он все это взял, в конце концов?
…Заныла расшибленная прикладом рука, несмотря на которую Митя все же участвовал в бое за Щелково. Пора было возвращаться в избу, отведенную на постой. Но по дороге Митя невольно сделал крюк и пошел мимо дома, где находился Чернецкой.
Сквозь кусты сирени, вылезающие на улицу над редкими дощечками палисадника, было видно освещенное окно. Проходя мимо, Митя так же невольно заглянул в него, и зрелище, которое предстало перед его глазами, в первый момент заставило его подумать, что он действительно бредит.
Женя Чернецкой сидел на краю стола, ногой в грязном сапоге упираясь в сиденье стула, и глядя перед собой черными, невидящими глазами, с лицом, холодно отрешенным от своего невообразимо нелепого занятия, небрежно-методическими движениями кисти затянутой в черную шелковую перчатку руки резал перед собой воздух игрушечного размера шпагой.
37
Колеса автомобиля громыхали по камням мостовой: шум мотора, отдающийся в холодном камне домов, был единственным звуком, нарушающим мертвящий сон полупустынного города.
Ехали молча. Своих, из ЧК, было трое: Динка, Ющенко и Ананьев, остальные — только сегодня вооруженные тульскими винтовками рабочие.
Олька Абардышев, сидящий у левого борта, грыз себя поедом. «Как можно было, так-разэтак, оказаться таким идиотом! Чекисту, большевику, так рассоплиться при встрече с детским другом, что в первую голову не проверить у него документов… Проще говоря, это называется — потерять бдительность. А потеря бдительности для чекиста… Ладно, этой мой промах, и исправлять его мне… Мы еще встретимся, Сережка, во всяком случае, я очень постараюсь, чтобы мы встретились».
Картонная карточка, согнутая вдвое, лежала во внутреннем кармане Олькиной кожанки.
Автомобиль затормозил перед заброшенным на вид уходящим в глубину двора домом, въезд к которому был закрыт чугунной решеткой запертых ворот.
Не откидывая борта, чекисты и рабочие попрыгали с грузовика и, стараясь не очень стучать сапогами, прошли через двор к лестнице парадного. По знаку Абардышева несколько человек, обогнув парадное, подошли к черному ходу, трое остались у парадного, а остальные прошли вслед за ним.
Несмотря на запущенный вид подъезда, было заметно, что в прежние времена это был хороший, респектабельный дом: на белой мраморной лестнице (сейчас — грязной) еще сохранились металлические прутья, когда-то поддерживающие ковер. Двери в первую квартиру не было: на лестничную площадку, напоминая зев пещеры, открывался черный провал коридора. Войдя в квартиру, Олька сразу же обо что-то споткнулся, пахло сыростью и всякой дрянью. В первой комнате, куда вошли чекисты, паркет был сожжен до самого наката. Было видно, что в квартире разводили зимой костры. Дальше осматривать не имело смысла: подобных квартир им немало попалось уже в эту ночь.
… — Кто там? — спросил слабый старческий голос.
— Откройте, Чека!
Лязгнул запор, затем упала цепочка.
— Проходите.
Старую женщину, стоящую перед чекистами, нельзя было назвать старухой: высокая и худая, она держалась необыкновенно прямо. Как только отворилась дверь, лицо ее застыло даже не в надменном, а просто в очень спокойном выражении.
— Проходите, — повторила она, высохшей, с выступающими суставами рукой придерживая темную козью шаль на груди.
— Кто, кроме вас, проживает в квартире?
— Я одна.
Чекисты прошли за женщиной из коридора в единственную освещенную комнату.
— Будьте добры предъявить документы.
— Пожалуйста — Все с тем же достоинством женщина подошла к черному резному шкафику и, выдвинув один из ящичков, протянула документы Ананьеву.
Положив браунинг на покрытый китайской светло-зеленой скатертью стол, Володька принялся разбирать их при неярком свете лампы, растворяющемся в белой ночи.
Рабочие, ожидая начала обыска, толпились в дверях. Женщина продолжала стоять над сидящим за столом Ананьевым, держась очень прямо. Олька нетерпеливо прохаживался по комнате; на большинство из увиденных за эту ночь комнат эта единственная обитаемая комната в квартире не походила тем, что не было заметно попытки перенести в нее чего-либо из остальных. Если не считать уродливо-обычной печки, все здесь на своих местах. Эта комната была не обезображенной тенью жилья, а человеческим настоящим жильем, которое могло рассказать о привычках и вкусах своей обитательницы: старая, темная мебель, большое количество китайских вещиц: черные, с выплывающими откуда-то из своей яркой глубины цветными рыбками и похожими на рыбок цветами лаковые подносы и шкатулочки, на трюмо — тонко расписанные изнутри жанровыми сценками стеклянные флакончики, фарфоровые статуэтки, в деревянной темно-зеленой с пагодами и плывущей джонкой вазе — букет сухих цветов. На стене — несколько неожиданный пробковый белый шлем, какие носят путешественники в пустынях и тропиках, уже пожелтевший от времени, а под ним…
— Гражданка Белоземельцева, Ксения Аполлинариевна… бывшая дворянка…
С большого фотографического портрета, появившегося здесь явно позже, чем все остальное, на Ольку весело и прямо смотрел очень молодой офицер. Даже скорее офицерик, это слово подходило больше: из тех полуофицеров-полугимназистов, которых десятками тысяч создавала в начале восемнадцатого белая идея. В этом, одном из десятков тысяч, мальчике-офицере было, казалось, столько жизни, что он даже с портрета действительно смотрел, словно вырываясь из простой рамки. Даже на портрете было видно, что необычайно идущая к нему форма — с иголочки, и к этому очень шла безупречная короткая стрижка темных волос. Безупречный вид был придан и маленьким усикам над губой, приоткрывшей в улыбке ослепительные зубы. Казалось, офицерик и смеялся одновременно над своей свежеиспеченностью, и рисовался ею.
— Работаете в Иностранной литературе?
— Да.
— А кто на этом портрете, гражданка Белоземельцева? — с ненавистью спросила Дина, появившаяся за спиной Олега.
Женщина не ответила.
Ананьев, повернувшийся на Динин вопрос, усмехнулся, встретившись взглядом со смеющимися глазами офицера на портрете.
— Ого! Как тебе это, Абардышев? Олег повернулся к Белоземельцевой.
— Будьте любезны ответить, кто это.
— Это мой внук Вадим, выпускник Царскосельской гимназии.
— И на нем, надо полагать, здесь как раз форма Царскосельской гимназии? — с закипающим тихим бешенством спросил Олька.
— Я полагаю, что Вы сами понимаете, какая на нем форма.
— Где он?
— Вероятно, на фронте.
— Что Вам сейчас о нем известно?
— Я уже давно ничего не знаю о моем внуке.
— Так. Приступайте к обыску! — кивнул Олька.
38
«Я не могу больше. Я не могу больше ждать».
Собственно, почему ждать? Почему все тело, все мышцы натянуты, как канат… Надо расслабиться… Хоть немного. Что со мной творится, в конце концов?
Сережа начал растирать затекшую от неудобного положения ногу.
На антресолях было пыльно: через мутное, непрозрачное от грязи окно лился тусклый свет белой ночи. Лестничная площадка перед дверью, на которую выходило внутреннее незастекленное оконце, не была через него видна, но Сережа и без этого знал, что на днях доставленный из румынского посольства пулемет установлен как раз так, чтобы все пространство перед дверью попадало в поле обстрела.
«Уходить только в случае провала квартиры, но и в этом случае не уходить без боя», — снова прозвучал в ушах приказ Некрасова.
Преимущества старого дома, видимо, одного из первых квартирных домов, были налицо. К кухне примыкало нечто вроде узкой шахты — вероятнее всего, это был какой-то хозяйственный подъемник. В крайнем случае по его тросам спустятся после перестрелки Юрий с Тутти, Борис и Владимир. Некрасов и Казаров держат подъезд дома на прицеле второго пулемета. Им легче, они сейчас знают, насколько близко враги, — еще не подъехали к дому или вошли уже в подъезд. Стенич занимает позицию у черного хода.
Но Сережа уйдет не через подъемник, выходящий в подвал, смежный с подвалом соседнего дома. Он уйдет последним, когда пулемет у окна замолчит и перестрелка у черного хода прекратится, когда кончатся патроны и дверь под ним упадет, — он уйдет через антресоль на чердак и оттуда спустится в пустую и разоренную квартиру в соседнем подъезде. Там можно переждать.
Неожиданно стало легче: нечеловеческая стянутость мышц ушла — наверное, потому, что внимание переключилось с нее на занывшую ногу.
39
«Белоземельцев… Где-то я слышал уже эту фамилию… С чем-то она явно связана… Может быть, с данными последних допросов?» — думал Олька, перебирая письма в вытащенном из шкафика узком длинном ящичке, специально предназначенном для хранения писем. Обыск в этой квартире Олька решил провести более тщательно, несмотря на спешность проводимой операции: в более чем подозрительной квартире белого офицера могли оказаться бумаги, которые, если не обнаружить их сейчас, дожидаться следующего визита не станут. Олька решил на свой страх и риск задержаться: впрочем, половину рабочих — десять человек — он отправил вместе с Ивченко и Ананьевым проверить две квартиры на втором этаже — дом был трехэтажным.
— Что это?
— Письма моего покойного мужа из Харбина… — Белоземельцева уже не стояла, а сидела в узком темном кресле с высокой спинкой.
— Это?
— Пекинские письма моего сына. Далее — его же из Порт-Артура, где он был тогда военным корреспондентом.
— Кто Ваш сын?
— Географ, как и покойный муж.
— Где он находится сейчас?
— Мой сын, как и мои остальные близкие родственники, кроме моего внука Вадима, находятся сейчас в Париже, где, в силу некоторых семейных обстоятельств, их застала революция.
— Если, как Вы утверждаете, все Ваши родственники, кроме внука, о котором Вы якобы не имеете известий, действительно находятся в Париже, то почему Вы не обратились во французское посольство относительно перемены подданства?
— Вряд ли я смогу Вам это объяснить, молодой человек.
— Это?
— Письма моей внучки из Екатерининского института.
Последняя в ящике стопка писем была обернута в шелковистую сиреневую бумагу (предыдущие пачки были просто перевязаны ленточками). Взглянув на сделанную карандашом поперек пачки надпись — быстрым неженским почерком, Олька почувствовал, что бледнеет.
«Письма С. Ржевского».
— Это?
— Бумаги, оставленные мне на хранение моим внуком, — Олька заметил, что на этот раз Белоземельцева явно справляется с волнением, но по-своему истолковал его причину. Впрочем, волнение, овладело и им самим.
«Так ведь Белоземельцев, Вадик Белоземельцев и был тем самым Сережкиным приятелем, к которому я его отчаянно ревновал в гимназии!»
Поспешно полуразвернув-полуразорвав бумагу, Олька едва удержал посыпавшиеся было на пол свернутые листы бумаги без конвертов. Этих свернутых листов разного цвета и формата было очень много. Один из них, упавший на пол, Олька поднял и развернул…
Листок был покрыт во всю длину чем-то, с первого взгляда напоминающим полоски странных узоров. Что-то наподобие соединенных букв глаголицы. Таким же узором были мелко исписаны и остальные листки.
«Шифровка».
— Я боюсь, что разговор о местопребывании Вашего внука нам придется перенести в другое место.
Женщина не ответила.
— Товарищ Абардышев! Этаж проверен — оружия не обнаружено.
— Ладно. Сейчас займемся третьим — долго провозились… Ивченко! Берешь двоих, нет, на всякий случай пятерых, и остаешься здесь, пока не придет машина. Глаз не спускать, уразумела? Идем дальше, товарищи!
Олег быстрой, пожалуй — нарочито энергичной походкой, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Ему не очень хотелось оборачиваться.
40
По возне и нечетким голосам, кажется, бесконечно давно доносящимся с нижней площадки, а кроме того, по бог весть когда ставшему инстинктивным ощущению приближения врага, Сережа понял, что опасность уже воплотилась в свое физическое обличье.
Обтянутые перчаткой пальцы, лежавшие на гашетке, уже не тряслись в нервной дрожи. Напряжение исчезло, Сереже показалось, что разум его словно растворяется в теле — разум переходил, входил в тело, становящееся тонко-послушным и ощутимым целиком, наполняющееся какой-то расчетливой силой…
«Наверное, как раз об этом и писал Ницше», — подумал он, когда многочисленные шаги приблизились. Уже несколько часов вглядывающийся в темноту подъезда Сережа смог различить нечто вроде заполняющего лестницу черного теста, движение которого сопровождалось гулким топотом: в этом было что-то жутковатое.
Плотный сгусток черноты, отделившийся от всей массы, принял форму человеческой фигуры.
— Тьфу ты, только кошек давить в такой темноте, — произнес, казалось, совсем близко чем-то неуловимо знакомый голос. В то же мгновение сделалось ясно, что надвигающаяся чернота — это не мистическое чудовище кошмара, а вооруженные люди, неразличимые из-за темноты. Всего-навсего люди.
Раздались громкие, бьющие по барабанным перепонкам удары в дверь.
— Нет никого, что ли? — спросил голос, явно принадлежащий человеку, привыкшему работать в шуме: это тоже было слишком громко.
— Подождем… нынче сразу не отворяют, да и час не очень для визитов…
«Неужели — Олька? Ну и сталкивает же нас…» Удары… Молчание… Молчание, полное невидимой, дышащей массы тел.
— Может — дверь выломать? У черного хода стоят — никто не уйдет.
— Погоди, успеем.
Сережа с недоумением поймал себя на том, что ему хочется, чтобы дверь начали ломать, хочется начать стрелять… что, более того, ему страшно сейчас представить, что все может еще обойтись, что стрельбы, криков, ухода через чердак может и не получиться…
«Господи, Господи, Господи, сделай что-нибудь! Сделай что-нибудь. Господи, иначе я начну сейчас стрелять! Я не могу больше. Господи, я сейчас начну стрелять и не смогу удержать себя?» — беззвучно шевелились Сережины губы.
— А дверь-то заколочена!
— Точно… доски! Из-за этой чертовой темноты столько времени зря потратили…
— Может, все-таки выломать?
— За каким…! Пошли к другой квартире…
— А там и смотреть нечего — загажено и пусто, как в нижней, только дверь держится…
— Ну и ладно, к шутам! Тем лучше. Пятнадцать домов еще прочесать до утра! — Последнюю фразу Олька (а это без сомнения был Олька) произнес, уже явно спускаясь по лестнице. Снова начался топот…
— Махры не будет разжиться?
— Утром еще вышла: быстро идет, падла, не то что хороший-то табачок…
— …А верно комиссар сказал — до утра и есть… Много этак завтрова наработаешь…
Последние шаги стихли внизу: опустилась режущая, невыносимая тишина.
Машинально подчиняясь инструкциям Некрасова, Сережа выждал еще около получаса: шаги не возвращались. Он с трудом, будто таща на себе пуд свинца, поднялся и начал медленно спускаться с антресолей. Каждый шаг стоил невероятных усилий: тело отказывалось слушаться, оно мстило за то, что вызванные откуда-то из глубин организма силы не были использованы. Ища выхода, эти силы обернулись теперь против своего хозяина.
41
— Цифры внушительные. — Петерс, сидящий на краю письменного стола, снова заглянул в ремингтонированный листок.
«Всего изъято: винтовок — 6 626, патронов — 14 895, револьверов — 644… пулеметов… бомб… пироксилиновых шашек…»
Список был длинным.
— Ладно… — зампред отложил бумагу. — С посольствами ясно. Теперь о бумагах, что, ты говорил, у тебя?
— Большая часть относится к так называемому Национальному центру. — Блюмкин прошелся по кабинету. — К этой записке, когда на Лужском секрет снял офицера, прибавилось еще несколько бумаг, подписанных этим Виком… Тут, безусловно из всего, действуют кадеты и белогвардейцы. Офицерская организация.
— Широко разветвленная организация, охватывающая Москву, Петроград и, безусловно, мятеж в Красной Горке… И все говорит о том, что при всех этих цифрах, — по тяжелому, с резкими крупными чертами лицу Аванесова пробежала усмешка, — мы очень еще не докопали за прошлую ночь, точнее — не докопали твои ребята, Блюмкин.
— Твою мать! — Петерс поднялся со стола — Пятнадцать тысяч человек всю ночь чесали город, а что в результате? В результате сегодня с утра — попытка взорвать Череповецкий мост. И ведь здорово поврежден! Сейчас его уже ремонтируют под охраной… А где этот Вик, так его разэтак… Проехались по вершкам.
— Корешки сидят пока крепко. Не горячись, товарищ Петерс… Лучше моих ребят не прочесал бы города и сатана. Если через неделю мы не украсим собой фонарей где-нибудь на Александровской, что не вполне исключено, то доберемся и до Вика…
42
Свернутых в квадратики листков бумаги оказалось так много, что только уже просмотренные завалили большую часть стола.
Странная шифровка, напоминающая соединенные строчки глаголицы, неизменно повторялась на каждом из них.
Превозмогая головную боль, Олька развернул очередной листок: снова то же самое.
Неизвестно, который по счету. Рука машинально потянулась за следующим, но из-под него неожиданно показался оборванный край с проштемпелеванной маркой.
Адрес на конверте был написан знакомым Сережиным почерком. Сердце учащенно заколотилось: Олька поспешно извлек из чудом не замеченного раньше конверта свернутый вдвое листок голубоватой бумаги.
«Вадик! Или, пожалуй, теперь правильнее было бы написать Вадим?
Ведь уже тем, что я начинаю-таки это письмо, которое, вложенное в конверт с наклеенной маркой, отправится не под известный тебе камень, а в почтовый ящик у Никитских ворот, — я уже изменяю нашему детству. И что логически вытекает из этого, стоило мне взяться за перо, как испарилась не могущая существовать в мире, где письма доставляются адресатам посредством почтовых отделений, смертельная обида.
Я очень жду того дня, когда смогу зашвырнуть куда-нибудь на антресоль фуражку с васильковым кантом. Тебе, как всякому снобу с «царскосельским отечеством», невозможно понять, как я этого жду: ощущение такое, словно я проклевываю стенки яйца из древнеримской истории и церковнославянских спряжений, чтобы вырваться из него на белый свет…
Итак, сегодняшним днем я определил первый свой шаг в грядущем мире. Окончив гимназию, я немедленно поступаю на военные курсы. (Что, кстати, сделал уже вернувшийся из Петербурга — я никак не могу привыкнуть к новому глупейшему названию! — Женя. Не знаю, встречались ли вы там. Он вернулся очень изменившимся.) Да, несмотря на мои взгляды, несмотря на все оставшиеся прежними мои взгляды, я, Вадик, я сам не знаю, пойми, это сильнее меня, это какая-то новая, неожиданно открывшаяся потребность тела и души. Я хочу на фронт. Но я хочу на фронт потому, что это нужно именно мне, даже не мне, а какому-то alter ego, которое сейчас появилось внутри меня и с которым я еще должен научиться справляться… Прости, что пишу сбивчиво, но во мне сейчас такой сумбур, что выразить этот хаос мыслей я не могу.
В гимназии появился новый предмет — военная подготовка. Сначала я вместе с Олькой подстроил грандиозную «бузу» исходя в основном из того, что предметов и без того хватает и честь гимназии просто пострадала бы, если бы угнетенное сословие безропотно приняло увеличение их числа… Ну и, конечно, «мы в гимназии, а не в казарме!», да и вообще любой повод для «бузы» хорош… Только эта была последней. После нее я как-то вдруг понял, что вырос из этого, — не мог же бы я, скажем, влезть сейчас в свой детский костюмчик — он бы по швам лопнул, но на меня бы не налез… И то, что открывается сейчас за порогом гимназии, через который уже несколько шагов осталось перешагнуть, вдруг сделало для меня этим детским костюмчиком все гимназические дела… И я почувствовал, как они трещат на мне по швам! Но новым предметом я так или иначе манкировал… А за пару недель до моего сегодняшнего решения неожиданно накинулся на него с необычайным рвением (это я-то!), да так, что ввел в основательнейшее недоумение данного нам в Вольтеры фельдфебеля. (Кстати, какая, собственно, разница между фельдфебелем и Вольтером? Разве только в большем нравственном развитии первого…)
Следовательно, подсознательно я все решил уже гораздо раньше. А сознание только закрепило совершившееся. Итак — я хочу на фронт и знаю в жизни только одно: что жить на белом свете уже само по себе — счастье.
Когда само слово «жизнь» возникает передо мной, перед глазами неуклонно появляется одна картина: ослепительно изумрудная, просвеченная золотом солнца упругая волна, на могучем, плавно-стремительном изгибе которой на фоне припавшего вдали к земле Аю-Дага детской игрушкой кажется наша «джонка»… И мы, пятиклассники, помнишь? Шутим о том, что от священной горы тавров совсем недалеко до Турции… И есть тайное удовольствие в этих шутках потому, что мы про себя знаем, что это шутки — наполовину… Что мы в любой момент можем действительно повернуть в море — и будь что будет…
А эта волна — жизнь.
Не знаю, почему меня вдруг так потянуло вспоминать нашу Тавриду… А ты помнишь, как мы, взобравшись на Мангуп-Кале, пили холодное козье молоко в хижине старухи-татарки? Это уже шестой класс… Как мы решили дождаться ночи в этом разоренном городе караимов? И сидели у дороги, пробитой в камне колесами древних телег, — возле врытого в землю, страшного кувшина для сбора дождевой воды? И вид ночного каньона?..
А наши вечерние верховые прогулки? Знаешь, «Трилистник огненный» у меня всегда ассоциируется с тобой и с этим неспешным ходом лошадей…
А что-то есть и в этом — по-взрослому писать письма? Когда ты получишь это, время остановится в нем на третьем часу ночи.
в 3-й день декабря 1916 года SEMPER TUUS С. P. Scripsit».
…Побледневший от унижения Олька смял письмо в комок. Шифровки! Несколько отчаянным усилием воли отнятых у сна часов обернулись идиотской возней с… детскими играми Сережки Ржевского. В эту минуту Олька способен был избить всякого, кто посмел бы спросить его о шифровках, обнаруженных им в квартире белого офицера. Самым унизительным было то, что по системе повторяющихся знаков он начал уже набрасывать алфавитную сетку, с радостно лихорадочной дрожью чувствуя, как она начинает проступать… Хорош бы он был, если бы, доведя дело до конца, еще через несколько часов смог бы прочитать какое-нибудь милое послание Френсиса Дрейка к Генри Моргану! Чтоб тебя…
Впрочем, все это, конечно, не значило, что можно освобождать старуху. О невозможности дыма без огня известно давно: черта с два эта Белоземельцева стала бы торчать здесь одна — французское посольство битком набито меняющими подданство…
— Ну так и быть, спрошу… — донесся через дверь недовольный чем-то Динкин голос. — Олег, тут ребята, школьники, уверяют, что важное дело.
— Ладно, давай!
В кабинет, подталкивая друг друга, но довольно решительно ворвалась тройка подростков лет тринадцати-четырнадцати — двое ребят и девчонка с короткими тугими косичками. Первая заговорила именно девчонка
— Товарищ… — она энергично тряхнула косичками и вопросительно посмотрела на Ольку.
— Абардышев! — Бессознательно отметив явно восхищенные взгляды всех троих, Олька снизошел до того, что с размаху, как принято было в революционной среде еще со времен Чернышевского, пожал руки — сначала девчонке, потом ребятам.
— Волчкова.
— Зайцев.
— Герш.
— Товарищ Абардышев! Мы пришли к Вам…
— Погоди, Валька, — остановил девчонку длинный широкоплечий Зайцев, — дело вот в чем, товарищ. Мы — актив комсомольской ячейки седьмой группы «А», школа десять.
— На Миллионной?
— Да, здание бывшей гимназии. Мы пришли говорить с Вами о директоре нашей школы, Алексее Даниловиче Алферове, который представляет из себя скрытый враждебный элемент.
— Ну-ка рассказывайте! — Олька с чекистским шиком уселся на стол.
— У нас не какая-нибудь там гимназия, — продолжал Зайцев, — а советская школа. А Алферов сознательно ставит дело так, будто революция на школу не распространяется, — мальчишка заерзал на стуле. — Понимаете, товарищ Абардышев, положение ячейки в школе и без того сложное.
— Вот наша группа, — заговорил Герш, — половина группы — сознательные ребята, многие — комсомольцы, помогают в агитационной работе на предприятиях… А порядка пятнадцати человек — буржуазный элемент, вдобавок — имеет влияние. И есть еще несознательные.
— Ну и вот. Как директор, он обязан поддерживать ячейку. А вместо этого Алферов мешает ее работе на каждом шагу. На днях было собрание общешкольной ячейки. Постановили — исключить из школы троих учащихся на основании того, что они — контра и вредят. Директор не только не утвердил постановление ячейки, а вообще говорил с лицами, выдвинутыми школьной общественностью, как какой-нибудь директор при старом режиме с гимназистами. Самоуправления в школе практически нет. Обратив на это все внимание, мы, комсомольцы, установили наблюдение за квартирой Алферова. Наблюдение показало, что у Алферова бывает слишком много гостей, больше — мужчин, и некоторых он сам выпускает через черный ход. Позавчера двое мужчин внесли явно тяжелую корзину, а вышли каждый по отдельности, причем один вышел, как входил, а другой — вошел в телогрейке, а вышел в пальто и с бородой.
— А поскольку воззвание «Смерть шпионам!» мы у себя на ячейке прорабатывали, — бойко затараторила Валька, — то как старших наших товарищей немедленно ставим вас в известность!
Дело оборачивалось серьезнее, чем можно было предположить.
— Ладно, ребята! — Олька спрыгнул со стола, показывая, что разговор закончен. — С бдительностью у вас действительно порядок. Непременно тряхнем вашего директора — только разберемся вот с более важными делами… Ясно? Язык держать за зубами, думаю, умеете.
«Если не повиснем раньше на фонарях Александровской», — подумал Олька, вспоминая слова Блюмкина… Они, эти очень даже пригодные в дело ребятишки, которых немного поднатаскать с оружием и хоть сейчас уже поручай им что угодно, даже представить себе не могли, как близко подступил сейчас фронт. То, что фронт подступил близко, знал весь город, застывший в напряженном ожидании. Но о падении фортов, о реальной границе знали те, кто держал ее между двумя огнями, знал ЦИК, где, позабыв свои счеты, Зиновьев и Сталин непрерывно запрашивали Москву о подкреплении, знала Москва, знали конспиративные квартиры, ожидающие приближения фронта к заветной черте, той, которая будет сигналом для ответа изнутри, знала ЧК, знал Олька Абардышев.
43
Толкнув массивную высокую дверь, Сережа очутился в обычном гимназическом вестибюле, обычном настолько, что, забывшись на миг, он по восьмилетней привычке потянулся расстегивать шинель, но, обнаружив вместо нее пуговицы куртки, опомнился и улыбнулся. Гардероб действительно работал: старик с осанкой швейцара (вероятно, это и был прежний швейцар гимназии) с недовольным лицом читал за металлической сеткой номер «Пламени». Звонок, видимо, был только что: по лестнице еще гремели стремительные шаги, сверху доносился характерный школьный гам и хлопанье дверей.
— Звонок был, молодой человек, — с привычно грозным видом взглянув на Сережу поверх еженедельника, заметил гардеробщик.
«Неужели меня можно принять за школьника?» — подумал Сережа, почему-то ускорив шаги в ответ на замечание. Проходя мимо грязного, чудом сохранившегося зеркала, он невольно взглянул в него: в кепке и куртке с поднятым воротником по вестибюлю бежал долговязый из-за худобы подросток лет пятнадцати, от всего облика которого так и веяло чем-то невзрослым…
«И это — офицер штаба Его Высокопревосходительства…»
Мысли были веселыми и легкими. То, что должно было сейчас тяжелейшим грузом лежать на душе, вылетало, вышвыриваемое оттуда какой-то странной пружиной. Сейчас не надо было запрещать себе об этом думать: оно и без того почему-то не думалось.
— Эй ты! Звонок давно был?
— Давно ли, сказать не могу, но если верить грозному блюстителю здешнего порядка, то не безнадежно давно, — оборачиваясь, ответил Сережа.
Догнавший его на лестнице школьник густо покраснел. Это был подросток лет тринадцати-четырнадцати, впрочем, подросток скорее ближе уже к юноше, чем к ребенку: черты лица его уже проявились, и будущий взрослый человек проглядывал в этом нескладном высоком мальчике в брюках гольф и с детски тонкой шеей, торчавшей из воротника куртки.
— Извините, пожалуйста, мой тон — я со спины спутал Вас с одним соклассником… который попросту и не заслуживает иного, — неожиданно добавил он.
— Иного тона заслуживают даже те, с кем Вы не желаете иметь ничего общего, — ответил Сережа. — А иначе Вы становитесь с ними на одну доску.
— Да, Вы правы, — произнес мальчик так, словно в том, что они так явно выдавали себя друг другу, не было решительным образом ничего странного.
— А почему идут занятия — ведь уже середина июня?
— Не справились даже с этим учебным планом — учебный год продлен на июнь.
— Мне нужен ваш директор — Алексей Данилович.
— У него сейчас урок — как раз в нашей группе.
— Благодарю Вас.
— Вот наш класс — группа «7А».
— Я Вас задерживаю — бегите.
Когда мальчик, пробежав коридор, исчез за дверью класса, Сережа уселся на подоконник и, прижавшись лбом к холодному стеклу выходящего в невзрачный дворик окна блаженно ощутил себя выгнанным с урока за раскрытый томик Хаггарда на коленях.
44
— Извините, пожалуйста, Алексей Данилович, можно войти?
— Можно, но на Вас это не похоже, Борис. Садитесь.
Борис Ивлинский прошел через класс и сел на свое место — за вторую парту в ряду у окна, рядом с черноволосой Татой Ильиной.
— Итак, молодые люди, мы подошли с вами к закату династии Капетингов. На период правления этой династии падают такие значительные исторические события, как начало крестовых походов, зарождение дипломатических связей между Русью и Францией, крах могущественного ордена тамплиеров…
Алексей Данилович легкой, несмотря не некоторую грузность фигуры, походкой прохаживался по классу, рассказывая с той интонацией невольного давления на слушателей, которая вырабатывается многолетней педагогической практикой. Борис Ивлинский с новым чувством следил за ним взглядом: значит, Алексей Данилович… а разве можно было сомневаться в этом! Но почему он даже тогда…
…После выстрела студента Леонида Каннегисера, прогремевшего на Александровской площади 30 августа минувшего года, тринадцатилетний Боря Ивлинский, на уроке истории (проходили Римскую империю) вызванный к доске, попеременно бледнея и краснея, с жаром рассказывал о смертоносном ударе Брута. Те ученики, за выражением лиц которых внимательно следил во время ответа Бориса Алексей Данилович, не обратили ни на что внимания: крепко прививаемые им категории мышления не включали эмоциональных ассоциаций такого рода. Непонятная горячность Явлинского в рассказе о каком-то несчастном Цезаре (провались он пропадом — кому он нужен!) была подсознательно воспринята ими как «буржуйские штучки» вроде аханья над дурацкими картинами давным-давно померших художников, рисовавших всяких там «святых», хотя никакого Бога нет, а все попы — паразиты, дурманящие народ опиумом, чтобы отвлекать от классовой борьбы. Вдумываться в эти «штучки» никому не приходило в голову.
Когда взволнованный, тяжело дышащий Борис сел за парту, из нее что-то выпало — видимо, от неловкого движения. Это была книга небольшого формата, обернутая в бумагу.
— Вы читали на уроке, Ивлинский.
— Нет, я не читал, Алексей Данилович! Она просто выпала из сумки… — удивленно ответил мальчик.
— В довершение ко всему Вы мне лжете. Ваш ответ, демонстрирующий прекрасное знание пройденного материала, к сожалению, не соответствует вашему недопустимому поведению. Зайдите ко мне сразу после уроков.
Прозвенел звонок, и под смешок довольных тем, что директор задаст задаваке Ивлинскому, Алексей Данилович вышел из класса.
— Вы меня вызывали, Алексей Данилович, — голос звучал подчеркнуто вежливо, а темно-карие открытые мальчишеские глаза смотрели на Алферова с неукротимой детской ненавистью.
— Присаживайтесь, Борис Прежде всего позвольте мне принести Вам извинения за несправедливое обвинение, которое я давеча вынужден был Вам предъявить.
Ненависть сменилась изумлением — на грани испуга.
— Вы извините меня?
— Д-да… конечно, Алексей Данилович… Но я… не понимаю.
— Надеюсь, что поймете. Именно поэтому мы разговариваем сейчас. Теперь ответьте — у Вас уже приготовлено какое-то оружие, не так ли?
— Да, «смитт и вессон». Старый, папин.
— Я не стану просить Вас отдать его мне. С меня довольно будет обещания, что Вы не станете осуществлять Вашего замысла.
— Я не могу дать такого слова, Алексей Данилович! — Мальчик гордо вскинул подбородок. — Я все продумал. Во все времена у всех жертвовавших собой людей были матери, бабушки, сестры — ведь в этом я не составляю исключения, не так ли? Значит, этот вопрос решен до меня. Я жалею только об одном — что Ленин в Москве. Каннегисер казнил Урицкого, пожертвовав собой. Я убью Зиновьева. Вслед за мной кто-нибудь убьет Троцкого. Ведь для того чтобы обессилить гидру, ее необходимо обезглавить! Это мне слишком ясно, чтобы я мог думать о тех, кто мне дорог, об их горе.
— Вы не все обдумали, Борис. Обезглавить гидру — это действительно самый надежный способ ее обессилить, Вы правы. Вы думаете, что я буду говорить Вам о том, что Вы слишком молоды, чтобы жертвовать собой? Нет. Алтарь освобождения отечества многократно принимал как жертву жизни даже более юные, чем Ваша.. Вы думаете не о славе для себя, а о горе, которое решились причинить родным, — это также хорошо говорит о Вас. И тем не менее я повторю свою просьбу: обещайте, что оставите Ваш замысел.
— Я не понимаю Вас! Алексей Данилович, я Вас совсем не понимаю!
— Мы имеем сейчас возможность отрубить гидре головы, Борис. Но мы не имеем на это морального права
— Отчего?
— Оттого, что за каждую голову гидры мы заплатим не своими головами, точнее — не только своими головами, а десятками тысяч жизней других людей — детей, стариков, женщин… Сотни семей белых офицеров находятся сейчас в Москве и Петрограде. Имеем ли мы право платить за жизнь Зиновьева, Ленина или Сталина детскими жизнями, отвечайте, Борис! Я, кажется, познакомил Вас в курсе античной истории с понятием «заложники»… Для такого количества заложников не может хватить тюрем, да тюрьмы и не нужны. Отвечайте, Борис, имеем ли мы это право?
— Нет. Но наверное ли это так?
— Обещайте мне, что Вы оставите свой план до тех пор, покуда не убедитесь, что я не прав, — то есть если за смертью Урицкого не последует массовых убийств.
— Обещаю, Алексей Данилович.
А потом началось воплощение фантастического невозможного кошмара…
…Шептались о последовавших за покушением на Ленина жутковатых шествиях по Москве людей, одетых в черную кожу с головы до ног. Люди несли черные шесты с черными полотнищами, на которых кроваво красными буквами горело слово «террор»… Это было заглавием из чудовищных страниц истории Октябрьского переворота…
«ТЕРРОР».
«КРАСНЫЙ МАССОВЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕРРОР».
ЛЕНИН ПИСАЛ В ТЕ ДНИ ЗИНОВЬЕВУ:
«ТОЛЬКО СЕГОДНЯ МЫ УСЛЫШАЛИ В ЦК, ЧТО В ПИТЕРЕ РАБОЧИЕ ХОТЕЛИ ОТВЕТИТЬ НА УБИЙСТВО ВОЛОДАРСКОГО МАССОВЫМ ТЕРРОРОМ И ЧТО ВЫ (НЕ ВЫ ЛИЧНО, А ПИТЕРСКИЕ ЦЕКИСТЫ ИЛИ ПЕКИСТЫ) УДЕРЖАЛИ.
ПРОТЕСТУЮ РЕШИТЕЛЬНО!
МЫ КОМПРОМЕТИРУЕМ СЕБЯ: ГЮЗИМ ДАЖЕ В РЕЗОЛЮЦИЯХ СОВДЕПА МАССОВЫМ ТЕРРОРОМ, А КОГДА ДОХОДИТ АО ДЕЛА, ТОРМОЗИМ РЕВОЛЮЦИОННУЮ ИНИЦИАТИВУ МАСС ВПОЛНЕ ПРАВИЛЬНУЮ. ЭТО НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО!
ТЕРРОРИСТЫ БУДУТ СЧИТАТЬ НАС ТРЯПКАМИ, ВРЕМЯ АРХИ ВОЕННОЕ. НАДО ПООЩРЯТЬ ЭНЕРГИЮ И МАССОВИДНОСТЬ ТЕРРОРА, ОСОБЕННО В ПИТЕРЕ, ПРИМЕР КОЕГО РЕШАЕТ» 45 .
Самым страшным было то, что предугадать, чей черед придет следующим, было невозможно.
И в эту полную скрытого ужаса голодную зиму, с чувством вызванного собственным бессилием тяжелого отчаяния в душе, незаметно для себя взрослел Борис Ивлинский.
Незаметно… Трудно заметить, что ты взрослеешь, когда все вокруг унизительно говорит тебе о твоем детском бессилии… Когда твое место — изрезанная ножиком крышка парты, твое дело — потрепанные страницы учебников: зубри спряжения и держи язык за зубами — а на что ты еще имеешь право, если знаешь, что ты — не защита для мамы, бабушки и сестры Кати, а поэтому делай вид, будто этого не понимаешь. Вокруг тебя смерть, а твое унизительное детское место — за партой, и не потому, что ты боишься или не способен на иное, а потому, что ты не знаешь как… Борис Ивлинский взрослел, проходя зимой 1918 — 19 года через недетское отчаяние бессилия.
Бессилие… А в этом очень усталом молодом человеке, в котором угадывался почти сверстник, было не бессилие, а сопричастность силе, и Борис понял природу этой силы… Значит, Алексей Данилович… Взгляд ученика встретился с рассеянно скользящим по классу взглядом директора.
С Алферовым редко случалось так, чтобы, объясняя новый материал, он думал при этом не о том, что говорил, контролируя тем самым, достаточно ли доступно и убедительно идет ход мыслей, а о чем-то другом. Но в этот раз именно так и выходило: рассказывая о смене Капетингов Валуа, он думал не о том, как воспримут его рассказ сидящие перед ним дети, он просто думал об этих детях тринадцати-четырнадцати лет… Вот они — тридцать два человека, седьмая группа «А». Тридцать два человека, которым надо во что бы то ни стало дать хотя бы какие-то знания… Но как это сделать? Какой учебный план может быть пригоден, когда половина класса до двенадцати лет училась в гимназиях, а половина только в эту зиму с грехом пополам разобралась в элементарных правилах грамматики и решительно не имеет понятия о евклидовой геометрии? А полученные инструкции гласят, что все дети должны заниматься по одной программе, и если разбить группу на подгруппы по степени подготовленности, это привлечет к школе крайне нежелательное внимание… Допустить этого нельзя — школа является надежной явкой. Теперь, может быть, ждать осталось недолго — очень может быть, что недолго. Но в течение всего истекающего учебного года сознание педагогического долга заставляло Алексея Даниловича постоянно искать выхода из создавшегося положения. Приходилось вместе с другими учителями лавировать, строить уроки так, чтобы бывшие гимназисты и гимназистки все же получали что-то, но при этом постоянно разжевывая это «что-то» для детей, подготовка которых не позволяла им схватывать на лету… Последнее было крайне трудным, причем не из-за отсутствия способностей, а из-за какого-то странного психического «вывиха» в сознании этих детей. Алферов задался целью развить их интеллект, дать более усложненный взгляд на вещи, который, пожалуй, только и мог явиться противоядием от привитой им системы мировоззрения. Однако противоядие не воспринималось именно в силу этого «вывиха». Почему эти достаточно способные дети словно подсознательно не хотят впускать в себя ничего, что могло бы изменить их заданность?
Вот они — эти несчастные «вывихнугые» дети… Вот. Валентина Волчкова — рыжеватые смешные косички, голубые глаза, вздернутый маленький нос, сползающий на ботинок штопанный разными нитками чулок на крепкой ноге… Младенческая открытость лица.. И не так давно Алексей Данилович слышал Валькин рассказ об объяснении с родителями. «Я им так и сказала, что, как только кончу семь, ухожу от них в общежитие комсомольских работников, потому что они заражены мелкобуржуазной психологией, а попробуют только на меня руку поднять — будут иметь дело с общественностью!» Вот и ребенок. Вот с каким безмятежным лицом пишет что-то измазанными в чернилах пальцами… передвигает записку Саше Гершу, тот кивает, приписывает что-то и перебрасывает бумажку уже Васе Зайцеву, тот — Вите Кружкову… Сделать замечание? Да нет, не стоит разжигать в них этот петушиный задор — последнее время вся эта комсомольская команда, кажется, стала внимательнее на уроках, вот и сейчас Алексей Данилович ловит на себе внимательный, словно даже с какой-то работой мысли взгляд Васи Зайцева.
А вот — другая группировка: какое, извольте объяснить, может быть учение, когда вместо нормального класса — раздираемый недетской враждой микрокосм? Боря Ивлинский, обожающий историю, на этот раз слушает рассеянно. Как он, однако же, повзрослел за последние полгода: в сентябре, когда мальчик рвался в Бруты, разговаривая с ним, надо было придерживаться тона взрослого со взрослым, зная, что на самом деле перед тобой ребенок, которого нельзя оскорбить… Сейчас, пожалуй, подобный разговор шел бы уже без этой задней мысли. Удивительно, до чего он повзрослел. А впрочем — удивительно ли? От сотен детей, прошедших через его директорские руки, эти отличаются тем, что они — дети, у которых детство отняла революция. Рядом с Борисом — темноволосая бледненькая Тата; простудившись зимой в очереди за хлебом, девочка слегла в пневмонии и чудом осталась жива — чудом ли или усилиями Николая Владимировича, врача, состоящего в НЦ, по профилю — психиатра, но универсально образованного медицински человека.
Но здоровье так и не оправилось после пневмонии, и Николай Владимирович высказывал известные опасения… конечно, Ялта и козье молоко поправили бы дело… Ничего, даст Бог. Вот — лучший друг и полная противоположность неуравновешенному, эмоциональному Борису Ивлинскому — Андрей Шмидт, каждое слово которого, как и каждый поступок, словно выверено всегда на каких-то невидимых, аптекарски точных весах… Но при этом в нем, как ни странно, ничуть не больше приземленности, чем в Борисе. В этой его невозмутимости и чуть утрированной педантичности, и вообще в нем, есть что-то от прозрачной ясности математических абстракций… Сейчас Андрей что-то сосредоточенно отмечает в тетради идеально отточенным фаберовским карандашом.
Микрокосм, который делится даже не на учившихся и не учившихся в гимназии. Все значительно сложнее: «гимназические» враждуют между собой более скрыто, но не менее остро, чем с «негимназическими», потому что делятся на детей переживших и не переживших террор открыто оппозиционных режиму людей и на детей спецов и военспецов…
«— Вот и неправда, ты сам не знаешь, что говоришь! Папа общается с красными только на службе, а так у них свой круг военспецов и все отношения как до революции!
— А ведь это — подло!
— Нет, не подло! А те, кто бросает из-за белых семьи, — просто сумасшедшие фанатики! Папа говорит, что хамы все равно победят…»
Микрокосм…
— Глаголев, покажите на карте границы империи Карла Великого и границы Франции времен династии Капетингов.
45
— Алексей Данилович…
— Да, Ивлинский?
— Алексей Данилович… там, в коридоре, Вас ждет молодой человек…
— Хорошо, Борис.
«Что бы мог значить этот непредусмотренный визит? Хотя нет, это не из НЦ, — подумал. Алферов, увидев поспешно спрыгнувшего с подоконника молодого человека — Нет, все-таки из НЦ».
— Алексей Данилович?
— К Вашим услугам. Чем могу?
— С приветом из Ревеля. Прапорщик Сергей Ржевский!
— Пройдемте ко мне, г-н прапорщик!
— Нет, я спешу. В двух словах, Алексей Данилович: я к Вам с недоброй вестью. Вчера, шестнадцатого, Красная Горка и Обручев пали. Серая Лошадь — тоже. Попытка захватить Кронштадт и ввести суда не удалась. Северо-западная армия отходит к Ямбургу. Неклюдов убит.
И еще сейчас, в эту минуту, где-то в глубине темного дока на рассыпавшейся куче ржавого щебня валяется мертвым граф Платон Зубов, блистательный и возлюбленный самой жизнью екатерининский вельможа, лошадник и собачник, не ведающий сомнений в своей безоглядной отданности действенному бытию… Граф Платон Зубов, погибший едва ли не последним из всех офицеров Красной Горки, сопротивлявшийся до последнего вздоха, уже тогда, когда сопротивление не имело ни малейшего смысла — зубами, когда, в надежде взять живьем, уже висли на руках и ногах, — затравленный собаками медведь, заставивший разделить с собой смертное ложе половину своры…
Их — унесли… и зарыли с трубами и красными тряпками, те, другие, из той же стаи… Сейчас, в эту минуту, он лежит один на рассыпанном в бешеной схватке ржавом угле дока…
Только одно, Платон: закрыть тебе глаза, в которых никогда больше не скользнет необидная насмешка, сложить руки, когда-то с веселым гневом встряхнувшие меня за плечи — спасая мне жизнь… Только бы не понимать сейчас того, что твое породистое тело рвут нечистые собачьи зубы… Тело Женьки приняла чистая степь… А ты… только бы не понимать так ясно, что я так и не вернул тебе этот должок…
— Вы, вероятно, принесли инструкции для меня? — спросил не изменившийся в лице Алферов.
— Да. Нынешней ночью подготовьте у себя в школе место для хранения большого количества боеприпасов, которые, увы, не понадобятся до нового наступления Его Высокопревосходительства. Ваша явка надежнее всего. Некрасов пришлет ночью двоих кронштадтских матросов, абсолютно надежные люди.
— Хорошо.
Слова как-то мертво повисли в воздухе.
— Да, кстати, г-н прапорщик… Передайте г-ну Некрасову — насчет дочери покойного Владимира Дмитриевича: я, разумеется, мог бы записать девочку под каким угодно именем в третью так называемую группу, но не считаю это сколько-нибудь целесообразным. При таком положении дел я вообще стоял бы за роспуск школы, если бы не ассигнования на добавочное питание школьников — только благодаря этому большая часть детей и пережила зиму. Вот такие дела-с, молодой человек.
46
— А ты почему дома?
— Если это можно назвать домом…
Олег Абардышев валялся на заправленной койке, листая истертый до дыр номер «Сатирикона», еще два номера которого валялись тут же, на одеяле, вместе со сделанной из гильзы солдатской зажигалкой, кисетом и бумагой. На полу рядом с койкой стояли чайник и кружка. Было заметно, что Олька обосновался надолго. При виде Дины он, разумеется, не встал.
— Отпуск? О, тут Саша Черный еще… Люблю все-таки. «На скамейке в Александровском саду Котелок склонился к шляпке с какаду. „Значит, завтра, меблированные „Русь“? Шляпка вздрогнула и пискнула: «Боюсь“. А тут что… Г-м, я этого и не читал… Отпуск на двое суток. Динка, я миллионер… Двое суток… Мне, правда, поплохело вчера малость на боевом, что называется, посту… Кувырнулся со стула в кабинете начальства. Перенапряг вышел… Здорово, да?
— Здорово. Олег, нам надо с тобой поговорить.
— А мы чем занимаемся? По-моему, так как раз говорим, а не что-нибудь другое, г-м? Кстати, как ты насчет другого?
— Олег, я серьезно.
— Я тоже серьезно. — Олег стряхнул пепел на пол и с удовольствием затянулся: казалось, ничто не могло перебить его кошачье довольного настроения. — А уж серьезнее того, что Петерс расщедрился на два дня, ничего быть не может. Вся твоя серьезность по сравнению с этим фактом блекнет. Правда, иди сюда — один примерный мальчик хотел бы поиграть во-он с той хорошей девочкой.
— Доигрались уже!
— Динка, ты чего? — Олька рывком приподнялся на локте. — Тебя какая муха укусила?
— У меня… Я беременна.
— Вот так номер! — Олька присвистнул. — Ты точно знаешь?
— Точно…
— Погоди, — швырнув окурок на пол, Олька начал крутить новую самокрутку. — Погоди, погоди…
Дина Ивченко сидела на стуле посреди комнаты, с ожиданием глядя на Ольку, который, поднявшись наконец с койки, с сосредоточенным лицом заходил по комнате. Это продолжалось минуты три, затем Олькино лицо неожиданно прояснилось.
— Нашел! Не куксись, все нормально. Есть один старикашка доктор, двое сыновей в добровольческой. Сегодня же отправляюсь в гости, увешанный винтовками и пулеметными лентами, напоминаю старикану, что он пока еще заложник, — сделает все в лучшем виде, можешь не волноваться.
— Да… конечно. Слушай, а обязательно это — к доктору?
— А как ты еще от него избавишься?
— А может — не избавляться? Знаешь, я сама не пойму, что со мной такое… Ты не думай, я прекрасно понимаю, что это только нелепая обуза, но мне почему-то не хочется избавляться… Не знаю я почему.
— Ерунда. Ты просто трусишь боли, вот и выдумываешь. Все равно ничего не поделаешь, потерпишь.
— Нет, я не боли боюсь! — Дина вскочила, глядя Ольке в лицо. — Нет! Я и сама так думала… раньше. А теперь… понимаешь, ты пойми, он же от тебя…
— Полагаю, что от меня. Ну а дальше?
— Он же — живой… Нехорошо как-то… Я чувствую — он живой.
— Ты что, с ума сошла?! — Олька с гневным изумлением в лице тряхнул Дину за плечи. — Ты что — дура?! Ведь это все равно что котенка утопить! От меня… Живой… Надо же такое заладить!.. Еще мне церковные догмы приведи — нехорошо! Грех! Подумать страшно! Может, нам с тобой обвенчаться, пока не поздно? Вот она где полезла — буржуазная психология! Неплохо рассуждаешь… Ну надо ведь — попалась как дура, хотя избавиться от этого котенка — вопрос получаса! Развела… Ты — коммунистка и нужный работник, ясно? Как бы тебя ни тянуло к обгаженным пеленкам, у тебя есть и кое-какие другие незначительные делишки. Словом — выкинь эту блажь из головы, а с доктором я сегодня все улажу, даже если мне придется в его квартиру пулемет втаскивать.
47
— Так… Глаза — серые… Волосы — темно-русые. Рост высокий?
— Довольно-таки… Не длинный, но высокий.
— Особые приметы какие-нибудь есть? «А все-таки здорово Динку занесло. Не ожидал, что эта ерунда ее так зацепит. Ну да ладно — побесится немного и перестанет. Не барышня, в конце концов».
— Особые… — Васька Зайцев, гордый тем, что их серьезно слушают старшие товарищи в ЧК, наморщил нос. — Есть, пожалуй! Во-первых — хромает.
— Хромает?
— Не очень заметно. Припадает на правую ногу.
— Хромает… ладно. Все?
— Ну еще… Вот еще — он в перчатках. Куртка — чертовой кожи, а перчатки, ну… такие… фасонистые.
— Лайковые коричневые?!
— Коричневые.
— Мать твою перемать… А головой вот так не делает? — Олька резким движением вскинул подбородок.
— Точно! Он самый!
Ничто не могло укрыться от этого лихого чекиста: ему только приметы назвали, а он уже определил кто.
— М-да… Знакомства, однако, у вашего директора те еще. Ладно, ребята: обещал я вам в свое время, что займемся этим вашим Алферовым. Вот оно, пожалуй, и пришло. А теперь — валяйте по домам! И ждите перемен, причем — не только между уроками.
48
«…ДОРОГИМ ДРУЗЬЯМ… ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ В КОНТАКТЕ ТРИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ… В „НАЦ“ ВСЕ ПРЕЖНИЕ ЛЮДИ… ВСЕ МЫ ПОКА ЖИВЫ И ПОДДЕРЖИВАЕМ БОДРОСТЬ В ДРУГИХ… В МОСКВЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПРОВАЛОВ ТАМОШНЕЙ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ… МЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ПОДСОБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОД СВОИМ РУКОВОДСТВОМ И КОНТРОЛЕМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, И ЭТА РАБОТА ПРО-ДВИ-НУЛАСЬ УЖЕ ДАЛЕКО…» 46
49
Обыском в квартире у Алферова руководили Аванесов и Фомин, круглоголовый молодой человек с большими темно-карими глазами и непропорционально маленьким безвольным подбородком.
Начавшийся около полуночи, обыск в три часа ночи был в полном разгаре. Работали тщательно — выворачивали подозрительные половицы, распарывали или прощупывали обивку мебели, драпировки, обои, проглядели даже испещренную кляксами стопку ученических тетрадей, оказавшуюся на письменном столе между чернильницей и тяжелым мраморным пресс-папье.
Петров, начинающий чекист, рыжий заводской парень, еще не вполне освоившийся со спецификой работы и не без некоторой робости косящийся на бесконечные ряды переплетов с золотым тиснением на уходящих под потолок книжных полках, осторожно положил тетради на прежнее место.
«Робеет парень, — усмехнулся Аванесов. — Академическая атмосфера нагоняет почтение: все эти ряды книг, массивные письменные принадлежности вроде этого пресс-папье… А любопытное пресс-папье».
Он решительно шагнул к письменному столу и взялся за пресс-папье: оно легко развинчивалось. Сняв верхнюю мраморную плитку, он извлек листок папиросной бумаги, исписанный бисерным почерком.
Алферов, до этого не терявший спокойствия, неожиданно побледнел.
— Фамилии, — произнес кто-то из столпившихся вокруг Аванесова с его находкой чекистов.
— Да, перечень фамилий.
Из спальни показался Фомин с небольшой записной книжкой в зеленом кожаном переплете в руках.
— Чего у тебя, Федор?
— Да вот, странная хреновина, — Фомин перекинул книжечку Аванесову.
— Счета какие-то… «Виктор Иванович — 452 руб. 73 коп., Владимир Павлович — 435 руб. 23 коп., Дмитрий Иванович — 406 руб. 55 коп.»…
— А что, если это шифр? Или… Минуточку! Фомин выбежал в коридор, оставя дверь открытой: было слышно, как он снимает с рычага трубку.
— Але! Але! Девушка! Четыре-пять-два-семь-три!.. Виктор Иванович?.. Очень хорошо. Алексей Данилович срочно просит Вас приехать к нему, как можно быстрее!
Трубка стукнула о рычаг.
В опустевшей квартире Алферова была оставлена засада, впрочем, не в ней одной. В эти июльские дни холодного лета 1919 года в Петрограде на квартире арестованного Штейнингера был схвачен перешедший через линию фронта генерал Махров. Материалы обысков на проваленных квартирах повлекли за собой аресты членов НЦ. ВЧК получила неопровержимые доказательства того, что мятежники Красной Горки и скрытые белогвардейские агенты среди военспецов Кронштадта являлись членами НЦ.
За оставшиеся летние недели в Москве и Петрограде было арестовано более 700 контрреволюционеров. Кольцо смерти сужалось.
50
Тень смерти как будто вошла в конспиративную квартиру на Богородской улице вслед за известием о расстреле Штейнингера, за которым последовали десятки, а затем — сотни расстрелов членов Национального центра. «Зеленая зима» Санкт-Петербурга начинала сменяться осенью, августовски черная листва озарилась редкими еще проблесками багреца и золота, а в гаражах не переставая, днем и ночью, стучали моторы, заглушающие звуки выстрелов. Но Национальный центр все же был жив. Начальник штаба 7-й армии красных военспец полковник Люндеквист вместе с адмиралом Бахиревым разрабатывали для передачи Юденичу план прорыва обороны. Оперативные группы ждали сигнала.
— Тебе не надоело еще?
— Не надоело. — Тутти, вытянувшаяся за лето по меньшей мере на полголовы, взглянула на Сережу поверх «Трех мушкетеров», которых она начала читать за неделю до этого.
Сережа поднялся с кресла-качалки и, чуть прихрамывая, подошел к столику, на котором стоял сигарный ящик.
— Нога болит? — неохотно спросила Тутти, явно опасающаяся, что вопрос может быть понят как свидетельство того, что она благоволит сменить гнев на милость.
— Да ну, глупость какая-то, право слово. То хромаю, то нет. Уж если хромать, так все время, как все нормальные хромые, как ты полагаешь? Не знаю… Наверное, тогда нерв какой-нибудь зацепили…
Тутти уже никак не полагала, вернувшись в состояние, которое в Сережином детстве папа всегда обозначал присказкой: «Федул, что губы надул? — Кафтан прожег. — Велика ли дыра-то? — Один ворот остался».
— Действительно, не надоело. Ну, слушай, дуйся на Некрасова, а при чем тут, скажем, я или все остальные?
— При том.
— В чем-то ты действительно права: за такие авантюры тебя бы никто по головке не погладил и без Некрасова.
— Я такой же член группы, как и все. Я имею право.
— Никто не спорит, такой, как все. Но все соблюдают дисциплину, а ты ее нарушила, и очень сильно.
— А разве это не принесло пользы? — упрямо взглянув исподлобья, спросила девочка.
Авантюра действительно была авантюрой. Необходимо было установить, какое количество охраны выделено на работы по наведению недавно взорванного Череповецкого моста. Решив наняться втроем чернорабочими (и если позволят обстоятельства, в ту же ночь заминировать мост вновь, если же ночью есть охрана — устроить на следующий день налет силами трех групп), офицеры отправились к Люндеквисту, а Тутти, оставшаяся одна в квартире, немедленно приступила к осуществлению своих замыслов. Grano salis47 заключалось в переодевании, которое, разумеется, никоим образом не могло уронить достоинства Эдуарда Тюдора принца Уэльского, скорее наоборот. Перетряхнув все сваленные когда-то в чулане старые вещи, Тутти обнаружила в них две, вполне ее удовлетворившие: это были шерстяная серая блузка с заштопанными локтями, в которой Тутти могла бы поместиться дважды, и пара старых ботинок под коньки, тоже больших. Забравшись в ботинки и подвязав блузку на поясе куском веревки, Тутти собрала волосы в короткую косичку и осталась весьма довольна своим видом.
Дорогу к мосту пришлось спрашивать у прохожих, старательно выговаривая при этом обращения «дяденька» и «тетенька»… Наконец под ногами заскрипел прибрежный песок. Около взорванного моста, видимо, только что кончился митинг: красноармейцы и рабочие небольшими группами расходились от импровизированной трибуны — ступенек походной кухни. Рабочие неохотно брались за лопаты… Как маленький зверек шныряя между ними, Тутти пересчитывала красноармейцев… Досчитав ао десяти, она с досадой обнаружила, что, поскольку красноармейцы не стояли на одном месте, а двигались туда-сюда, она уже не может с уверенностью сказать, кого из них считала, а кого нет. Пришлось начать сначала, но применяя усовершенствованную методу: рыжий — раз, с носом как картошка — два, кудрявый — три…
— Ты чего тут юлишь? — Красноармеец «с мохнатыми усами — пять» больно ухватил Тутти за ухо в тот момент, когда она причисляла к своему реестру красноармейца «с красивым лицом — восемь».
— Ой! Дяденька, пустите! — «жалобно» затараторила Тутти. — Ой, больно, пустите, дяденька! Я отца ищу, мамка у нас заболела! (Версия была обдумана по дороге.) — Он сказывал, что мост охранять поехал!
— Как звать-то?
— Танькой.
— А фамилия у тятьки как? — спросил солдат, выпуская Туттино ухо.
— Баскаков, — на мгновение смешавшись, решительно ответила Тутти, глядя в лицо красноармейца безмятежно-чистыми глазами. — Может, знаете, дяденька?
— Да нет, не слыхал. Части какой?
— Не знаю… — Тутти представления не имела о том, какие бывают красные части. — Красной… в форме.
— Эх, дуреха… Нету у нас такого — нешто в Питере один мост порушен? Ищи вот теперь.
— Дяденька, а я лучше здесь подожду. Может, еще какие красноармейцы приедут охранять, каких вы не знаете.
— Не жди — не подъедет больше никого сюда. Армия, что ли, тебе нужна один мост стеречь?
— Ладно… Я только взгляну, вдруг он тут все-таки! Спасибо, дяденька.
…Из разговора с другим солдатом Тутти выяснила еще, что охрана по ночам не ставится.
Некрасов, когда схлынула радость оттого, что Тутти жива и невредима, рассвирепел, и вместо ожидаемых похвал и восторгов Тутти услышала немало такого, что ей решительно не пришлось по вкусу, и немедленно встала в позу крайней оппозиции ко всем без исключения.
— Пронесло, Тутти. Но ты все-таки не делай больше таких вещей, хорошо? Сейчас все очень-очень серьезно, и тебя могли бы убить, если бы ты чем-нибудь себя выдала. Сейчас каждый день… — чуть было не сказав лишнего, Сережа замолчал на середине фразы.
«Ведь это они придумали — убивать выстрелом в затылок… Ставить к стенке, завязывать глаза — все это еще романтизм… В затылок… Просто треск черепа, мозги брызжут с кровью на пол камеры… И так и остается потом на несколько дней — мозги и кровь на каменном полу — пока не присохнет и не истопчется вконец сапогами».
— Сережа, а очень страшно, когда убивают в затылок?
Сережа вздрогнул.
— Кто тебе об этом рассказывал?
— Ты.
— Я? Я этого тебе не рассказывал.
— Ты этим бредил, когда болел. Когда я твои руки видела без перчаток. Ой!
— Вот видишь, я их больше не буду носить: у меня выросли почти такие же ногти, как были. Все плохое проходит, Тутти. Извинись перед Юрием. Он только потому так разговаривал с тобой, что очень из-за тебя переволновался. Он тебя очень любит.
— Я попробую извиниться. Я его тоже люблю. Очень-очень-очень.
51
Но именно из-за Тутти Сереже довелось вскоре пережить несколько довольно тяжелых минут.
Начинало темнеть, но свет в гостиной еще не горел. Тутти, полузадернув тяжелую портьеру, как в небольшой комнатке расположилась на широком подоконнике с «Тремя мушкетерами», перетащив в свое убежище еще и диванную подушку. Сережа не читал — полузакрыв глаза, мерно раскачиваясь в качалке, передвинутой в самый темный угол комнаты. Читать не хотелось — пожалуй, ничего не хотелось. Сережа не сразу заметил эту перемену: когда же краткие часы бездействия начали утомлять, вместо того чтобы приносить облегчение? Однако это было именно так, и к тяжелой усталости, вызываемой минутами отдыха, примешивалось нехорошее, очень тревожащее беспокойство.
«Отвыкли думать, прапорщик? А здорово же я был умнее в гимназии, чем сейчас… Даже не верится, что это я мог сутками отшельничать в своей комнате или, когда никого нет дома, еще лучше — часами мерить сумасшедшими шагами всю квартиру, исчезнув из существования, мог весь уйти в потрепанный томик Шеллинга, который, не читая уже, сжимал в руке… Самозабвение мысли… Неужели это был я? Интересно, сколько лет я уже живу в одном действии? Остановиться бы… Не получится. Это как футбол в гимназии, когда я — хавбек — взахлеб завидовал Ольке, всегда игравшему форвардом… Минуты, которые я провожу вне действия, ощущаются как на штрафной скамейке — только бы вскочить поскорее и снова броситься в игру… Хоть бы они поскорее появились, что ли: начнется разбор следующей операции — и я спрыгну наконец со штрафной скамейки… Раньше темноты, впрочем, никого не будет… Однако уже темнеет».
Сережа поднял глаза к окну. Тутти уже не читала, сидя над захлопнутой книгой. В ее еле различимом в сгущающихся сумерках лице была не предвечерняя тоска, а просто скучающее, недовольное выражение засидевшегося без развлечении ребенка. Глядя на улицу, она что-то тихонько напевала себе под нос — сначала просто какой-то смутно знакомый мотивчик, потом начали негромко появляться слова.
Выпил — ничего, И не поперхнулся! И как раз того, Знаете, втянулся.Перед Сережиным взглядом на мгновение возникла быстро удаляющаяся по полуразрушенной летней улице породисто-грузная высокая фигура — легкая походка, словно в любое мгновение готовая перейти в танцевальные па… «Эх вы — Тики, Эйшенбахи… Лютики-цветочки голубые… Таких, как вы, расстреливать — дармовое „circences“ 48. И к стеночке встанете, и улыбочку изобразите, как для фотографии в семейный альбом, и ручки на груди эдак сложите…»
Да, к стенке граф Платон Зубов сам не встал… Ох не встал… Крупный зверь в куче собак — умирающий стиснув челюсти: сопротивление без всякой надежды, просто потому что иначе — невозможно.
Ставлю карту — бьют, Я — другую карту. То есть с одного Духу развернулся, Ну да и того, Знаете, продулся.Тутти не следовало этого напевать, но сделать ей замечание казалось оскорблением памяти Зубова, о котором она помнила сейчас как о живом и который, за счет ее неведения, как бы действительно жил сейчас в развязных строчках студенческо-кадетской анакреонтики…
Поутру сперва Встал прямым артистом: С треском голова И карман со свистом…Что это? В противоречие разбитному беспечному мотивчику в голоске девочки звучала еле заметная тревожная настойчивость, иногда всплескивающая почти отчаянием… Она не может знать!
Налил кой-чего, Сразу встрепенулся… -тревожная настойчивость в дрожащем голосе нарастала: чего она добивается?!
— Тутти!! Долго еще это будет продолжаться? Из какой подворотни сей репертуар?
— А это у Платона спроси. Это он пел. — Задиристый тон не оставлял сомнения в том, что Тутти, сама не подозревая, испытывала сейчас большое облегчение, и это облегчение было вызвано именно резким замечанием, с которым слишком промедлил Сережа. — И плохого тут ничего нет.
— Если бы было, ты бы от него этого не услышала. Однако слушать и петь, юная леди, таки вещи разные.
— Ему можно, а мне нельзя?
— Именно так. Платон — взрослый мужчина и офицер, ему очень многое можно говорить такого, что тебе никак нельзя. Ты — девочка и должна петь про пастушку с кошечкой или Мари-Мадлен, которая не выйдет замуж ни за принца, ни за короля. Это, mon ange, только большевики полагают, что женщине позволено все то же, что и мужчине.
— Я так не полагаю. — Тутти насупилась. — Просто мне скучно без Платона. Когда он появится? — Тутти словно спешила упрочить свое спокойствие новым Сережиным ответом, и Сереже неожиданно стало понятно, что открыть Тутти правду о Зубове значило бы ввести смерть в последнее убежище, где девочка облегченно сбрасывала свою преждевременную тяжелую взрослость, самозабвенно бросаясь в ту шумную и, на взгляд Некрасова, да, впрочем, и Сережи, бессмысленную возню, которая отчасти заменяла ей отсутствие сверстников.
— Ну знаешь, ангел мой, разве такие вопросы задают? Будет тогда, когда надо, и никак не раньше. Я его позавчера видел, — Сережа улыбнулся, неожиданно поверив самому себе. — Знаешь, он очень смешно рассказывал, как в детстве с братом дрался — четыре часа подряд, а родители это видели — с веранды.
— И ничего?
— В том-то и дело! — Сереже, рассмеявшемуся вместе с Тутти, на мгновение показалось, что послышавшиеся в коридоре шаги были шагами Зубова. Вошел Некрасов. По холодному недоумению, скользнувшему в его ненадолго остановившемся на Сереже взгляде, Сережа понял, что Некрасов успел услышать, к чему относился его смех.
52
Оставляя позади Красное Село, Северо-западная армия двигалась от Ямбурга на Петроград. На этот раз после нескольких дней продолжительных боев была взята Гатчина. Роскошно опадающее золото осенней листвы, словно врачуя раны, покрывало истерзанные окопами и следами обстрелов неповторимые гатчинские парки… Ветер гнал золотую листву по осенне-черной воде прудов, и бродившему по берегу под Приоратом Жене Чернецкому уже казалось странным, что классически-холодные творения Ринальди и Бренна еще так недавно впервые видели лицо войны…
Но в конце октября, натолкнувшись на двойное кольцо обороны, где оборонявшимся смотрели в спину пулеметы безопасно расположившихся чекистов, наступление приостановилось. Несколько дней, как северо-западники крестились на озаренный лучами купол Исакия, и вот он вновь скрылся из глаз. Армия, отягченная обозами и толпами беженцев, но по-прежнему боеспособная и еще не преданная, потекла на север, туда, где ждали за Наровой склады оружия и провианта, ждали медикаменты для раненых, ждал отдых. Только дойти до Эстонии, оставить в тылу стариков и женщин с детьми, из-за которых ход отступления делается все беспорядочнее. С этой обузой слишком трудно отражать устремившихся вслед красных. Но не бросать же беззащитных людей, настрадавшихся от красного террора, на растерзание врагу. Между тем отовсюду подтягиваются новые силы красных, и это — начало натиска на Нарву.
И все же северо-западники защитят Нарву, собрав последние силы не впустят красных в Эстонию.
53
— Drow poker, Чернецкой?
— Нет, благодарю. Погода не располагает к азарту. — Женя брезгливо кивнул на слепое окошко, по стеклу которого тоскливо стекали струйки серой воды.
«Черт бы побрал эту Гатчину, эту дощатую будку у Харонова перевоза, переправу обратно, как будто из страны мертвых есть дорога назад».
— А я сяду с удовольствием. — Семнадцатилетний корнет Рындин, сидевший напротив Жени за покрытым пестренькой клеенкой столом, усмехнулся. — Спешить ведь, кажется, некуда?
— Послушайте, корнет! — Поручик Юрасов передернул колоду карт. — Вы всерьез полагаете, что вы тут — единственный, чей душевный покой смущают подобные мысли?
— Приношу свои извинения, господа. — Рындин покраснел.
«Черт бы побрал эту Гатчину…»
— Господа, а сотворимте-ка разлюбезной. — Молодой русоволосый военврач Хрущев, покопавшись в брошенном у печи вещевом мешке, вернулся к столу с фляжкой защитного цвета. — Больно уж погода чахоточная.
— Глас медицины! — засмеялся прапорщик Раневич. С ним Женя был короче, чем с другими офицерами полка — более всего благодаря чисто польской, при всей наружной общительности, несклонности Раневича к откровенным разговорам. — Только вода в самоваре горячая.
— Остынет в стаканах. — Юрасов, отложив карты, встряхнул стопку влипших друг в друга стаканчиков. — Сколько нас? Четверо, за вычетом безупречного Чернецкого. Или оскоромитесь, подпоручик?
— Воды можно налить и мне. — Женя лениво отодвинул миску с почти нетронутой вареной в мундире картошкой. — Чертовски хочется мускатного винограду.
— От обычного откажетесь?
— Откажусь. Длинную бы такую, знаете, кисть черных ягод, подернутых голубоватой изморозью…
— Да у Вас предцинготные галлюцинации! Не валяли бы Вы дурака, Чернецкой! Прекрасное сало…
— Я исповедую иудаизм, — холодно пошутил Женя, поднимаясь из-за стола. — Вы этого раньше за мной не примечали?
— Черт бы Вас побрал, Чернецкой, — фыркнул Рындин, — я чуть не пролил спирт! А если серьезно — почему?
— Мой опекун был чем-то вроде толстовца — с небольшими, впрочем, различиями. — Женино лицо сделалось вдруг некрасивым. — Так я и возрос гуманистом Что самое забавное — себе подобных привык убивать в две недели. Впрочем, это скучная материя.
— Ай, как раз к столу! — Громкий женский голос, гортанный и певучий, заставил всех офицеров одновременно обернуться к дверям.
— Вот это да! — Взглянув на бесшумно проскользнувшую из сеней молодую женщину, Рындин восхищенно присвистнул. — Скрасьте наше общество, сеньорита!
— Ай зовете? — Вошедшая в ложной нерешительности остановилась, чуть качнувшись, на пороге. Уже только по тому простодушному бесстыдству, с которым она повела плечами, стряхивая с них намокшие грубые сизо-черные волосы, и окинула долгим взглядом находившихся в избе мужчин, можно было безошибочно определить ее принадлежность к тесно переплетенному с русской жизнью, но не вливающемуся в нее кочующему племени. Во взгляде широко посаженных черных глаз тлел тот никогда не исчезающий вызов — старее и сильнее человеческого, исходящий скорее от самки, чем от женщины, — вызов, характерный для взгляда цыганки.
— Просим… Черт возьми, да это ж Нина! — перебивая сам себя, изумленно воскликнул Юрасов. — Помнишь «Венецию»? Как ты нам с Зубовым певала «Пожар Московский»?
— Сергей!! — радостно вскричала цыганка, расправляя намокшую цветастую шаль — словно оправляя птичьи крылья. — Ай, смотрю знакомое лицо!
— Да садись же, Нина, выпьем за Питер! Рекомендую, господа: Нина — лучшая во всем Петербурге исполнительница «Калитки». Нина, голубушка, какими судьбами?
— Ай по тебе соскучилась! — Цыганка проворно взяла предложенный Хрущевым стакан. Черты ее лица, радостно просиявшие при виде накрытого стола, были грубо-выразительны: низкий неширокий лоб, большой рот, трепещущие крылья носа, невольно вызывающие на сравнение с норовистой лошадью. В наряде цыганки причудливо переплетались грошовые безделушки. Их было много — казалось, что ее молодое гибкое тело окутано позвякивающей сверкающей сетью.
— За Питер, господа!.
— За цыганское пение! Эх, стаканы не бьются!
Нина, блестя приоткрывшимися в яркой улыбке зубами, чокнулась с офицерами. С неожиданным появлением этой женщины атмосфера застолья, в котором пятеро мужчин только что таили друг от друга одну и ту же невыносимую мысль, как по волшебству переменилась.
«Человеку надоедает страдать, — невольно подумал Женя, чокнувшийся, не обратив на себя внимания, простой водой. — Каждый из тех, кто здесь, сейчас вполне способен застрелиться. А все же — все на несколько минут на самом деле забыли о том, что мы отступаем… Это не низость, просто иначе нельзя».
— Ай хорошо кутили, Сергей! А Зубов-граф где?
— Убит, Нина. Совсем недавно.
— Зубова-графа убили? — воскликнула цыганка и, запустив пальцы в свои влажные волосы, запричитала нараспев, чуть покачиваясь в такт. — Гадала я ему по руке — смеялся; говорила: «Торопись жить, Платон, ах молодым умрешь!» — смеялся, черную мою косу вокруг руки оборачивал: «Мне, Нина, дальше молодости и не надо. А как же я, Нина, умру?». Говорила ему: «Силен ты, Платон, как медведь. Десятерых придавишь, двадцатером насядут — от века собакам медведя брать…» — Цыганка затихла, продолжая еще покачиваться.
Некоторое время все молчали.
— Послушайте-ка, Юрасов, — прервал наконец молчание Хрущев, внимательно глядя на цыганку. — Я слышал кое-что о гибели графа Зубова в Красной Горке.
— Это довольно странно: он ведь и впрямь кончил как медведь под собачьей сворой. Вас это не удивляет?
— Пожалуй что нет. Полно, Нина, выпей за упокой души раба Божьего Платона… За графа Зубова, господа!
— Эх, земля ему пухом!
— Чтоб собак собаки перегрызли! — с угрозой произнесла Нина. — Ай крупнее режь, красивый! Большому куску рот радуется.
— Цыганки часто угадывают смерть, — продолжал Юрасов, обращаясь к Хрущеву. — А уж как это у них получается, один черт знает.
— «Цыганка гадала, за ручку брала», — негромко напел Рындин. — А вот я в это не верю, не в обиду будь сказано.
— Всякий цыганку видел, да не всякого цыганка любила, — уплетая хлеб с салом, заявила Нина. — А ты, безусый, еще девку не тискал. Не обижаюсь.
— Получили, корнет?
— Уничтожающим образом, — Рындин рассмеялся. — А если серьезно, ну ладно, могу поверить, блюдо там повернется, стол ножкой стукнет, пусть! Но неграмотная женщина, которая только и умеет, что дуру-бабу на базаре напугать до полусмерти да обчистить, пока та городового не крикнула…
— А не зевай! — довольно вставила Нина, одновременно стреляя глазами и отдавая должное всему, что стояло на столе.
— … и она связана с какими-то таинственными силами, которые дают ей видеть то, что недоступно образованным людям. Нонсенс.
— По-Вашему, охотник должен находить след вперед собаки.
— Я понимаю, ближе к природе, etc… Все равно, уж очень малоромантично выглядит в жизни эта Земфиро-Алековая лирика…
— Как правило, да, романтичного мало. Чаще цыгане действительно производят довольно жалкое впечатление, а их фокусы бьют скорее на невежество, чем на потусторонние силы. Вообще эта экзотика ближе к уголовщине, чем к мистике. Однако ж у нас в семье есть в хронике история одного довольно романтического предсказания, — задумчиво проговорил Раневич. — И достоверная. А предсказание нашей гостьи графу тоже впечатляет. Как увязать эти две стороны, я не знаю.
— Это несложно. — Женя, с момента появления цыганки не принимавший участия в разговоре, взглянул на Нину. — Попросту, господа, то, что вы обыкновенно считаете цыганами, всего-навсего сербияне. А эта — цыганка, — Женя отставил стакан и вгляделся внимательнее. — И не из простых.
Цыганка бросила на Женю быстрый вороватый взгляд, в котором мелькнуло напряженное внимание, — и на мгновение словно сделалась незаметнее.
— Так что, господа, мы имеем стоять рядом с табором, — насмешливо добавил Женя. — Честь имею поздравить с соседством.
— Чернецкой, Вы среди нас единственный, у кого голова на плечах! — Юрасов расхохотался. — Осел же я, что не сообразил! Нина, и много вас тут?
— С красными плохо: начальники к цыганам недобрые, с солдатов взять нечего. — Нина с веселым задором взглянула на Раневича. — Коня на прошлой неделе красного добыли, ой плохо, довели коня хорошего, чтоб у них животы полопались. Холка сбитая, губы рваные…
— И команды понимать перестал.
— Ой перестал! То ли дело ваши-то кони — чищены-холены… Худым овсом, да вовремя накормлены, ай хороши!
— Не проверить ли в конюшне, — полушутя забеспокоился Рындин.
— А имеет смысл, — улыбнулся Раневич. — Покуда мы тут лясы точим, с красавицей-гостьей.
— Вот и ходи с добром! — Нина всплеснула руками с неподдельной обидой. — Разве цыгане армию не любят? Деньги есть — сами дадите, считать не станете, ай ласки не помним? Купца да офицера цыгане любят за душу за широкую — да офицер цыганке милее.
— Что так, Нина или офицер красивее?
— И красивее — в золотых погонах ходит, в седле сидит ладно, да не за это цыганке люб. Купец от полноты щедрый, а офицер иной раз и от пустоты: веселей с офицером.
— Тем лучше. A votre sante49! — Рындин, приподнявший было стакан, неожиданно поморщился. — Merde50!
— Что, чувствуется? Вечером наложу анестезирующее.
— Ай врач? — живо спросила Нина. — Тут в крайней избе девушка, из ваших, Настей зовут. Плохо, тиф. Помереть может. Я ее довела до избы — на дороге нашла, а баба там дура. Пойдешь?
— Что ж ты молчала?! — в сердцах бросил Хрущев, привычным жестом потянувшись к сумке.
— Вот сказала же… — с недоумением повела плечами Нина.
— В каком доме?
— По этой стороне крайний. Ветла рядом.
— Ты давно ее нашла?
— Ай только что… Плохо дело: волосы скоро клочьями полезут. Да крови мало — ребенка она скинула… Другая б уж померла.
Хрущев вышел.
Каждому из присутствующих сделалось вдруг гнетуще стыдно за свое веселье, как за грязный поступок. Исчез и оживленный интерес к цыганке, которую всю заслонила собой укоряющая тень неизвестной женщины. Чьей сестрой, чьей женой она была?
— Погадала бы ты, что ли, Нина, — хмуро нарушил молчание Раневич. — Мне, к примеру.
— Как Зубову? — усмехнулся Юрасов. — Впрочем, и впрямь погадай. Благо и карты на столе.
— Этими нельзя. — Цыганка с явной неохотой вытащила откуда-то из складок грязной шелковой шали колоду с темно-зеленой, почти черной рубашкой. В овале посреди рубашки змея с женской головой обвивалась вокруг дерева, осыпанного красными яблоками. Эти донельзя замусоленные карты были крупнее обычных игральных. — Ай погадать?
— Погадай на Чернецкого! — с деланной насмешливостью бросил Рындин, кивнув цыганке на Женю. Нина отрицательно замотала головой.
— Оставьте ее, корнет, — уронил Женя. — Вы же видите, что я ее чем-то пугаю.
— Пусть тогда гадает на кого хочет. На кого-нибудь из нас.
— Нет, не стану. Не хочу.
— А эта сивилла тактична, — почти про себя произнес со смешком Раневич.
— А впрочем… — Женя подошел к столу и чисто гимназическим жестом пододвинув одной рукой стул, уселся верхом. — Мне тоже стало любопытно. Послушай, — Женя с приветливой усмешкой взглянул на цыганку, — погадай мне на человека одних со мной лет, но противоположной масти.
Цыганка начала тасовать карты. Первой на липкую клеенку стола упала бубновая семерка.
— Ой, лихо твоему светлому! — нараспев протянула Нина
— Да, похоже, что моему светлому сейчас достается на орехи. — Женя качнулся на стуле. — А рядом — лестничный пролет, все верно: не уйдешь, не объедешь, иди, голубчик, куда дорожка ведет… Вавилонская башня… эх ты, только старого шута не хватало… Слушай, а какого черта тут затесалась эта дама?
— Женщина молодая, большая любовь — дама-то червонная…
— Сейчас?
— На чем сердце успокоится… Будет… Не скоро еще.
— И на том спасибо.
— Вот уж не думал, Чернецкой, что Вы эдаким манером увлекаетесь картишками.
— А великолепная математическая тренировка — Женя снова закачался на стуле.
— Опасность падает… Слезы падают… — раскладывая, продолжала цыганка. — До смерти счастья не будет…
— Погоди — большая любовь без счастья?
— Так карты говорят, — ответила цыганка. — Старухи бы наши объяснили.
— Погоди-ка! — Женя повернулся к цыганке и, взяв у нее колоду, продолжил расклад. — Ключ… мастер-зиждитель… Ну и ну… Очень много червей… А этот король, рядом с шутом?
— Ненадолго придет, много сделает, любовь в нем большая…
— Любопытно… А дальше?
— Ну что, Хрущев?!
Женя бросил карты, не положив последней.
— Да черт знает что, — с бессильной злобой ответил вошедший врач. — Девочка лет восемнадцати, не больше, из хорошей семьи, совершенно одна, в тифу, истощена предельно». Везти с собой — не вынесет дороги, оставлять на глупых баб — уморят. Если не выкинут… А выступаем — завтра. Не знаю я, что делать! Послал покуда вестового за местным фельдшером.
— Ох и… А фельдшер наверное есть?
— На днях был. Сейчас-то сиделка с ней, я распорядился. Так ведь и сиделки с ней не оставишь, — Хрущев нервно заходил по избе, — любая дура обмолвится, так ведь большевички за ноги сиделку-то повесят… они на Красный Крест…
— Но это же вообще немыслимо: оставить больную женщину так, в местности, куда придут красные… — сквозь зубы проговорил Рындин.
— Прикажете свернуть отступление? — Раневич бросил сломавшуюся спичку и зачиркал новой.
— Послушай-ка… — Женя взглянул на цыганку. — Откуда она шла?
— Из Питера.
— Через фронт? Одна?
— С кем-то: когда заболела, бросили, испугались.
— Ты ее около Гатчины подобрала?
— Ну, — цыганка взглянула на свою руку, и Женя поймал этот взгляд, кинутый на небольшое кольцо с поцарапанным, чистой воды, мерцающим багровыми и золотыми искрами сапфиром.
— У нее взяла?
— Сама дала, спасибо говорила. Гордая. — Цыганка неуверенно взглянула на Женю. — Ай вернуть?..
— Верни. — Женя с кошачьей мягкостью повернулся ближе к цыганке, доверительным жестом положил ей руку на плечо. — Послушай… Нинуцэ… как ты думаешь, эта девушка может выжить?
— Другая бы померла. — Доброжелательно-ласковое обращение Жени, казалось, чем-то пугало цыганку. — Лечить — выживет. Злая жить.
— Злая жить… Как бы нам ей помочь, Нинуцэ? Скажи, кто у вас старший?
— Георгэ.
— А ты его дочка?
— Да.
— Хорошо… Так ты говоришь, старухи бы объяснили, что значит, когда карта показывает счастливую любовь без счастья?
— Старухи из табора не ходят.
— А может, мне в табор заглянуть? Где вы стоите?
Цыганка отпрянула из-под Жениной руки, но Женины пальцы мягко удержали ее плечо.
— Плохое время, гостям не рады, знаю. Да ведь гость разный бывает, Нинуцэ. — В голосе Жени зазвучали бархатные завораживающие нотки, но его обращенный на Нину взгляд в какой-то момент поразил сидевшего рядом Рындина: Женя смотрел на молодую женщину так, как смотрят с карандашом в руке в карту-двухверстку — отмечая дороги, броды, мосты, населенные пункты. Столько расчетливого прохладного безразличия было в этом как будто доброжелательном взгляде, что Рындину сделалось до тошноты неприятно.
— В парке.
— Дворцовом?
— Да.
— Ну и отлично. — Женя поднялся. — Ты иди пока. Я следом.
— Черт дери, подпоручик, нашли время волочиться, — с хмурым неодобрением заметил Юрасов, когда в невысоких окнах мелькнула яркая шаль Нины.
— Вы не вполне уяснили мои намерения, г-н поручик, — холодно ответил Женя, надевая шинель.
— Vous dites?51
— Что Вы думаете предпринять относительно этой девушки? — спросил Женя, обернувшись к Хрущеву.
— Что-что… В крайнем случае придется брать на санитарную подводу — все равно здесь ей умирать. Хоть умрет по-человечески.
— Крайнего случая нет. Будет неплохо, если мне удастся договориться, чтобы эту девушку приютили цыгане. Если есть какая-то надежда, она тогда выздоровеет.
— Да Вы что, ополоумели, Чернецкой?! — выражая общее возмущение, изумленно воскликнул Юрасов. — Вы хотя бы понимаете, что Вы несете?
— Подпоручик, бывают случаи, когда мальчишество граничит с преступлением, — осуждающе произнес Хрущев. — Да и кто Вам это позволит?
— Разумеется, скорее вы позволите человеку умереть так, чтобы совесть у всех осталась спокойна. А мне наплевать на мою совесть, но я хочу предоставить этой девушке шанс выжить там, где вы предлагаете только «по-человечески» умереть, и в этом я отвечаю словом дворянина и боевого офицера. — Надменное и неподвижное выражение, как упавшее забрало, скрыло Женино лицо. — Полагаю, этого довольно?
Круто повернувшись, Женя вышел, не дожидаясь ответа.
— Это называется «положить шар в лузу», — тонко усмехнулся Раневич. — Выражать несогласие далее можно только у барьера. Его понесло как лошадь.
— Может быть, помешательство и заразительная штука. — В голосе Рындина прозвучала неуверенность. — Но мне что-то начинает казаться, что в этих словах насчет совести какая-то справедливость есть.
— Есть — большевистского пошиба, — брезгливо скривился Юрасов.
— Я врач, — хмуро заговорил Хрущев, — и не все ли мне равно, каков пошиб, если это обернуть в пользу человека?
— Мы знакомы по Германской: Вам не кажется странным, что тогда таких колебаний не возникало?
— Согласен, когда речь идет о себе, приятней чистоплотно истечь кровью, чем использовать грязные бинты. Но предложить, нет, навязать то же самое другому, слабому?
— Превосходно! Давайте перепоручим больную в черт знает какие руки только потому, что это взбрело в голову Чернецкому.
— Знаете, Юрасов, — тонкие губы Раневича тронула легкая улыбка, — я не больше Вашего доверяю соплеменникам Вашей очаровательной питерской приятельницы, но как бы ни велики были мои сомнения, слову Чернецкого я бы без колебаний доверил свою сестру.
54
«Итого — все в порядке. Черт же меня дернул впутаться в не относящиеся ко мне истории с сомнительным моим добром?»
Начинало незаметно смеркаться. Женя углублялся все дальше в осеннюю обнаженность парка, просторную и туманно-прозрачную из-за недавно пролившихся последних дождей, словно подчиняясь инстинкту раненого зверя, отыскивающего укромное убежище. Несколько раз он оборачивался: четкий очерк дворцовых построек, недалеко от которых и стоял оставленный Женей табор, был еще виден, и Женя прибавлял шагу.
Несколько крупных белых ягод «хлопушек», чудом сохранившихся на мокрых ветках кустарника, привлекли его внимание; невольно — по детской привычке — сорвав ягоды. Женя подбросил их на ладони и проследил взглядом их падение, но ковер побуревшей листвы поглотил «хлопушки», прежде чем Женя наступил на них ногой. Словно пытаясь их найти. Женя опустился на колени в дымящуюся осенним тленом листву, но так и замер, напряженно вслушиваясь во что-то, происходящее внутри себя…
«Господи, но не трижды же перерубать один и тот же узелок?.. Мальчишка, слепой котенок, луддит, пытающийся поломать великолепно отлаженную машину, ничего не знал о движущих ее законах… А ну как не выйдет? Ну как не поломаю? Уж слишком легко мне удается пускать ее в ход… Впрочем, tertium datur52. И в крайнем случае я всегда успею прибегнуть к этому tertium». Пальцы расстегнули кобуру. Женя с отчаянной нежностью прижался щекой к прохладному металлу нагана.
55
Северо-западная армия обороняла Нарву, между тем, как в Дерпте, с попустительства Великобритании, начались тайные переговоры большевицкого правительства с эстонцами.
Трижды 7-я армия красных пыталась по приказу Троцкого форсировать Нарову, и трижды была отброшена северо-западниками, измотанными наступлением и отступлением Петроградского похода. Защитникам Эстонии было не ведомо, что чем больше русской крови льется на первый снег, припорошивший крутые берега Наровы, тем больше выторгуют за их спинами эстонцы. После третьего поражения красных нарком Чичерин телеграфировал в Москву, предлагая уступить Эстонии Принаровские и Псковские земли — в обмен на уничтожение армии Юденича. Еще немного, и вечный позор Эстонии — Тартуский мир — будет подписан.
Еще немного — и генерал Лайдонер, гори он в аду до скончания дней, приказом разрешит неслыханного масштаба мародерство. Около тысячи вагонов с провиантом и одеждой, оружием и медикаментами, личными вещами северо-западников будет разграблено эстонцами.
Еще немного, и красные спокойно прекратят тщетные атаки, зная, что на другом берегу Наровы северо-западники попадут не в тыл, что тыла и имущества у них больше нет. Что переправившихся будут разоружать поодиночке, загонят за колючую проволоку. Что у них отнимут хорошие шинели и сорвут золотые нательные кресты.
Еще немного — и Талабский полк — белая кость СЗА — погибнет в ледяной воде, под пулеметами эстонцев с одной стороны, под пулеметами красных — с другой. Немногие уцелевшие свидетели скажут, что красная от крови вода — не поэтический образ.
Северо-западная армия погибала. Отрезанный от фронта Национальный центр еще жил.
56
«Лавры Буйкиса достали?» — вспомнил Олька реплику Блюмкина, последовавшую за изложением его плана.
— А собственно — если само плывет в руки?
— Плывет — лови. В одиночку — пойдешь? Во-первых, не хочу рисковать двумя, во-вторых, очень уж ты тут годишься: барства в тебе на пятерых — порода, манеры, своего почуют. Второй бы тут только впечатление ослабил. А так — идейка шик-блеск.
Олька остановился перед дверью черного хода (парадная дверь так и оставалась заколоченной досками) и постучал условным стуком: два редких и три частых удара.
— Кто? — спросили за дверью. Голос был, как ни странно, детским, и у удивленного Абардышева мелькнула мысль, что адрес Шидловского53 оказался ложным.
— С приветом из Ревеля.
— Сейчас, тут задвижка.
Девочка лет десяти пропустила Ольку в квартиру.
— Кто-нибудь, кроме Вас, mademoiselle, дома?
— Проходите, пожалуйста, в гостиную, г-н… — девочка вопросительно взглянула на Ольку.
— Медведев. Прапорщик Олег Медведев, к вашим услугам, mademoiselle …? — Довольный легким началом игры, Олька ответил девочке вопросительным взглядом и мягкой улыбкой.
— Баскакова.
«Ничего себе… с первых же шагов и подобные коленца… Занятно».
— Вы — дочь инженера Баскакова?
— Да.
— Я очень рад.
— Присаживайтесь, г-н прапорщик. Вам придется немного подождать. Хотите кофе?
— С удовольствием.
Девочка, с явным увлечением играющая роль хозяйки — впрочем, уже привычную, — вышла из гостиной, которую Олька внимательно оглядел, не найдя ничего особенного, кроме разве того, что это жилище было слишком неплохо сохранившимся для времен военного коммунизма. В гостиной царила атмосфера предреволюционных годов, даже гитара, небрежно брошенная на диван, казалась чем-то естественным.
Через несколько минут девочка снова вошла в комнату с чашечкой настоящего, судя по запаху, кофе в руках.
— Вы из действующей?
— Да.
57
Желтые лучи света, косо падающие в беседку, заросшую сиренью, из стеклянных окон веранды, длинными полосами ложатся на дощатый пол.
Лепестки черных роз, белый камень скамей,
Сад ночной, сад заросший печального лета,
Шелест лип вековых наших старых аллей…
Олька сидит на перилах беседки — в руках у него гитара, на плечи наброшено черное шелковое домино: в дачном поселке весь день был карнавал, для взрослых он, впрочем, уже кончился, а компании шести-семиклассников еще не хочется расходиться…
Шелест лип вековых наших старых аллей…
Негромкие слова романса уходят к вершинам сосен…
— Ну нельзя же так спать среди бела дня, г-н прапорщик, — пробормотал Сережа, поднимая тяжелую голову от диванной подушки. — Даже перед бессонной ночью…
«Сколько же я спал? Сейчас, кажется, не совсем даже и день… До чего отчетливо снилось Останкино… Но странно, почему только Олькино лицо было — из всех, кто сидел в беседке…»
Голова гудела, очень хотелось спать еще. Из гостиной доносились голоса. На секунду задержавшись перед зеркалом, чтобы пригладить щеткой волосы, Сережа вышел в гостиную.
— Признаюсь, меня несколько удивляет подобная затея, — Некрасов, стоя у окна, говорил обращаясь к кому-то, кто сидел спиной к появившемуся в дверях Сереже. Озабоченное лицо Некрасова прежде всего обратило на себя Сережино внимание. Сте-нич, кивнувший Сереже, также смотрел довольно хмуро.
— Во всяком случае, г-н штабс-капитан, таковы инструкции, данные Его Высокопревосходительством.
С оружием Сережа давно уже привык почти не расставаться, даже во время сна, особенно во время сна…
— Руки вверх, Абардышев!
Олька вскочил, выхватывая наган: пуля ударила о паркет, когда сидевший с ним рядом за столом Казаров с силой перехватил в последнюю секунду его руку. Схватка была недолгой: через несколько минут Олькины руки были стянуты за спиной бельевой веревкой.
— Садитесь. — Некрасов, еще тяжело дыша, кивком показал Абардышеву на стул.
Олька, усмехнувшись, сел.
Обернувшись к Тутти, Некрасов увидел все еще застывший в ее широко раскрытых глазах ужас. Ужас этот был вызван не тем, что на ее глазах только что разыгралась потасовка со стрельбой, нет! Свой, назвавший пароль, больше часу болтавший с ней в гостиной, игравший для нее на гитаре, оказался чужим, врагом…
— Иди к себе, Таня, — мягко произнес Некрасов. Он только в исключительных случаях называл ее Таней. Тутти вышла.
— Владимир, на всякий случай привяжите еще руки к спинке стула. Вы знаете этого человека, прапорщик, кто он?
— Я хорошо знаю этого человека, г-н штабс-капитан. Это сотрудник Чрезвычайки Олег Абардышев.
— Приятная встреча, Сережка.
— Не я ее искал.
— Искал ее я. И, грех обижаться, добился своего, правда, несколько в ином виде, чем представлялось.
— Значит — Абардышев… Мне, разумеется, знакома Ваша фамилия. И Вы, разумеется, отказываетесь давать показания.
— Вы действительно обо мне слышали, г-н Некрасов.
— Что же… и без Ваших показаний ясно, что Ваш визит может означать только одно — провал Шидловского. По счастью, у Шидловского были адреса только пяти конспиративных квартир. Но эта была очень выгодна. — Некрасов, расхаживающий по комнате, остановился. — Господа офицеры! В нашем распоряжении имеется часа полтора, может быть — больше, но рисковать нельзя. Г-н подпоручик, Вы отправляетесь сейчас вместе с mademoiselle Баскаковой. На всякий случай пройдите по второму этажу к черному ходу первого подъезда и выйдите там. Вы, г-н поручик, выйдете парадным ходом первого подъезда. Ждите меня у рынка.
На несколько минут в квартире воцарилась суета поспешных сборов: рассовывались по карманам бумаги, чертежи, планы… Что-то поспешно сжигалось.
— Что же, г-н прапорщик. Я сейчас выйду черным ходом третьего подъезда и отправлюсь вместе с поручиком по подозрительным явкам. Вы же, ровно через пять минут после моего ухода, разберетесь с агентом, да, ваш наган не подходит — и так уже была стрельба, возьмите. — Некрасов перекинул Сереже небольшой пистолет. — Выйдете третьим подъездом через парадное. Встречаемся у Владимира Ялмаровича, Большая Спасская, двадцать семь. Все!
Юрий вышел из комнаты. На выражение Сережиного лица он не обратил внимания, вероятнее всего — он даже не заметил этого выражения.
Приказ был дан.
58
…Дверь черного хода захлопнулась за Некрасовым. Сережа медленно повернулся к Абардышеву.
— На твоем месте я бы тебя сейчас шлепнул без всяких угрызений совести, — проговорил Олька твердо. — Смотри на это проще, Сережка.
— Я не хочу тебя убивать, — Сережа подошел к Абардышеву и, вытащив из кармана перочинный нож, перерезал веревку на его скрученных за спинкой стула руках. — Иди.
— Не торопись. Ты знаешь, — Олька с видимым удовольствием разминал онемевшие руки, но не поднимался со стула, — куда ты сейчас хочешь меня отпустить?
— Нет.
— Отсюда я отправлюсь только в Чека. И, может статься, не далее чем к утру мы с тобой поменяемся местами. Оставляя мне жизнь, ты очень рискуешь.
— Я привык.
— Привыкни убивать.
— Не могу, Олька. Уходи, слышишь? Твоя совесть чиста — ты меня предупредил.
— Подумай еще.
— Эта квартира все равно провалилась — через несколько минут здесь никого не будет, даже меня. Прежде чем ты свяжешься со своими приятелями, я буду уже в другом и пока безопасном месте.
«Большая Спасская, двадцать семь… Да, это у Владимира Ялмаровича… А ведь Олька слышал, как Некрасов назвал адрес!»
Сережа вздрогнул: глаза его встретились со спокойными Олькиными глазами, и он понял, что Абардышев угадал его мысль.
— Видишь, я был прав. Я мог бы сейчас воспользоваться твоим благородством, но это было бы бесчестно. Надо уметь чисто проигрывать. — Олька казался очень спокоен.
— Олька, я не хочу тебя убивать. — Сережа нервно поигрывал пистолетом. — Я знаю, ты — человек чести. Поклянись мне, что ты забудешь этот адрес. Этого будет довольно, чтобы я тебя отпустил. Иди в Чеку, пытайся меня найти по всему городу — только поклянись забыть этот адрес!
С пистолетом в руке Сережа стоял в нескольких шагах от сидящего Ольки.
— Не могу, Сережка. Прости, но если ты отпустишь меня, оперотряд через час будет на Большой Спасской. Ничего не поделаешь, придется тебе меня все-таки шлепнуть.
— Да. Если хочешь сказать что-нибудь — говори.
— Хочу. Давай выпьем — у тебя ведь тут наверняка что-нибудь найдется. Вас, сволочей, мировой капитал неплохо снабжает, — Олька рассмеялся.
— Не жалуемся, — улыбнулся Сережа.
— Скоро пожалуетесь. Чухна-то вас разграбила, а бриташки это знают, и наплевать.
— Вранье.
— Как бы мы еще с ними за вашей спиной споемся.
— Минут десять еще есть. — Сережа подошел к резному буфету, извлек из него бутылку виски и стаканы, поставил все на стол. — Слушай, тебе ведь тоже не хочется, чтобы я размахивал у тебя перед носом своей пушкой все эти десять минут?
— Идет. Убирай пушку, я твой пленник под честное слово. — Олька опять засмеялся. — Совсем как в детстве, когда мы играли в индейцев, помнишь? В Останкино? Prosit54!
— Prosit! — Зазвенело стекло.
— Сволочь ты все-таки, Сережка… Связал по рукам и ногам… Хуже веревки — так-то я точно не высвобожусь…
— Могу, конечно, снова тебя связать…
— Спасибо, Вы крайне любезны.
«Сидим и смеемся и пьем, как в гимназии. И все идеи сейчас кажутся какой-то не существующей реально абстракцией. И все-таки эта абстракция существует, и ее железный закон подчиняет все. И только потому, что мы с Олькой Абардышевым, с Олькой, с которым восемь лет было высижено за одной партой, с которым мы играли в индейцев на даче — книжные мальчики в матросских костюмчиках, и менялись этими потрепанными приключенческими книгами, вместе ездили в манеж и за полночь спорили в старших классах, — только потому, что мы находимся по разные стороны пресловутых баррикад, я через несколько минут должен убить его. И, зная это, мы сидим сейчас и, не испытывая ничего плохого друг к другу, смеемся вместе. И ничего нельзя поделать».
Последнюю из этих стремительно мелькающих в голове мыслей Сережа проговорил вслух.
— Кое-что все-таки можно… — Абардышев улыбнулся с какой-то странной иронией. — Знаешь, я, собственно, мог бы отправиться туда и без твоей помощи.
— С какой стати ты предлагаешь мне воспользоваться подобной любезностью?
— Попробую объяснить. Прежде всего я исхожу тут из своих интересов. Я всегда думал, что мой конец будет самоубийством и, честно говоря, предпочел бы такой конец всякому другому… Это — первая причина. Есть и вторая — я действительно хочу избавить от этой неприятной обязанности тебя. Для меня это было бы парой пустяков. А для тебя… Я тебя неплохо знаю, Сережка.
— Почему ты этого хочешь? Какое тебе дело до того, что мне было бы не слишком приятно разрядить в тебя пистолет?
— Я очень люблю тебя, Сережка. Ты дурак, ты даже сам не можешь себе представить, что ты такое. Удивлен? Еще бы… Только перед смертью и можно такое говорить. А ты был, может быть, самым светлым из всего, что у меня вообще было. Я еще в гимназии знал., что с радостью бы за тебя умер. Дурак ты, Сережка, какой же ты дурак… Я бы тебя, конечно, расстрелял, но раз уж так… дай мне сделать это для тебя! — Олька вызывающе посмотрел на Сережу. — Если, конечно, не боишься.
Это был вызов.
Сережа молча положил перед Абардышевым свой пистолет.
— Трусом ты никогда не был. — Олька с улыбкой повертел пистолет в руках. — Английское производство. Бесшумный. Остапова скорее всего из него и ухлопали — ты ведь там был.
— Откуда ты это знаешь?
— Поменьше шоколадом разбрасывайся. Когда телеграфистка описала твои приметы, я сразу понял, что, кроме тебя, такого дурака валять некому. Ох и не место же тебе тут с твоим чистоплюйством и ослепительной беспечностью! Спасибо тебе, Сережка, светлый мой… Vivat революции!
Абардышев резким движением приставил дуло к сердцу и нажал спусковой крючок. Выстрела, казалось, не последовало, но в следующее мгновение Оль-кино тело дернулось и тяжело осело на стуле.
Пистолет так и остался лежать на полу — прямо под разжавшейся кистью упавшей руки.
59
В квартире на Большой Спасской уже третьи сутки говорили шепотом и двигались бесшумно.
— Сережа… Сережа… Вы должны меня слышать. Вы меня слышите, Сережа.
Сережа лежал на диване, глядя перед собой — на припорошенные первым снегом кусты, до половины загораживающие узкое высокое окно. Не шевелясь, в пугающей неподвижности глядя перед собой, он лежал так уже трое суток: небритый, исхудавший, страшный. Невидящие, потемневшие глаза смотрели куда-то в себя, внутрь, в душу, в которой происходило что-то ужасное, нечеловечески тяжелое.
Высокий и сухопарый Николай Владимирович Даль, волнистыми седыми волосами и птичьим благородно-хищным профилем напоминающий скорее музыканта, чем врача, легко поднялся со стула, поставленного у изголовья, и вышел из комнаты.
— Ну что, доктор?
— Утешительного мало. Сколько ему лет?
— Кажется, еще двадцати нет… не знаю.
— Да-с… Во всяком случае, все выяснится в течение суток-двух… Вы говорили, никто не знает наверное, когда по времени это началось?
— Да… Он появился здесь совершенно такой, как обычно. Очень спокойный, разговаривал как ни в чем не бывало. Пожаловался на усталость. Прилег отдохнуть… и…
«Ведь я, только я один виновен в случившемся… Как я мог поручить убить человека, не обратив внимания на то, что этот человек называл его Сережкой… Ведь я же слышал это… Но только задним числом обратил на это внимание… Было некогда. Ну почему именно ему? Нелепо, дико — но он умирает сейчас из-за моей поспешности… Господи, Господи, Всеблагой, Всемилостивый, сделай что-нибудь, Господи! Не дай мне стать его убийцей. Женя, именем Лены, заклинаю тебя — прости».
60
Прошла ночь. Сережа почувствовал, что ослабел настолько, что напряжение, сделавшее тело неподвижным, ушло. Теперь шевелиться было легко — движения стали бесплотны, как бывает, когда двигаешься во сне.
Иногда он бредил, иногда пытался вспомнить ускользающий от него бред, но не мог этого сделать. Оставалось только воспоминание о том, что в этом бреде приоткрывалось, все время приоткрывалось что-то очень важное…
«Ничего, скоро я совсем уйду туда, и все станет ясно…»
Бесплотные движения развлекали… Играя этим ощущением, Сережа вытащил из-за пазухи синюю замшевую ладанку и, не чувствуя пальцев, привычно развязал шнурок и извлек из ладанки ее содержимое, показавшееся в ладони очень тяжелым. Странный синий предмет, напоминающий раздвоенный петелькой над перекладиной крестик, лежал в истаявшей Сережиной ладони с резко проступившими фалангами пальцев…
— Откуда у Вас это?
Не услышавший шагов Даля Сережа вздрогнул всем телом. Взгляд его с некоторым удивлением почти перешел изнутри на Даля.
— Разрешите… Поразительно. Просто поразительно. Это — настоящий анк, более того, я могу поклясться, что это — тот самый анк, который был привезен из Каира близким моим другом и дальним родственником Владимиром Семеновичем Голенищевым… Откуда он у Вас?
Сережа молчал, но его глаза осмысленно встретились с глазами Даля: этим моментом необходимо было воспользоваться.
Твой бред продолжается. Вернись. Ты узнаешь все наяву. Ты не должен уйти. Ты не уйдешь.
Эти матово-светлые, как хорошая сталь, глаза приказывали, врывались через взгляд в Сережино существо, и устоять против их силы было невозможно.
Сережа с трудом разлепил губы.
— Я хотел бы… воды.
61
— Ну нет, батенька, не обессудьте. По восточной методе Вам еще часиков этак десять пить одну только воду, и в невероятных количествах, чтобы вывести все яды, которые Вы изволили в себя скопить. Шутка в деле, не пить трое суток… Да Вы, друг мой, сущий злодей, спросите хоть у своей печени!
— Что же, доктор, я постараюсь придерживаться Ваших инквизиторских предписаний столь же усердно, как весной, хотя чувствую себя слегка проголодавшимся за эти пять дней… — Сережа слабо улыбнулся, приподнявшись в постели на локте. — Но за это, по крайней мере, возвратимся к нашему разговору.
— Ничего не имею против. Я, признаться, изрядно заинтригован. Откуда у Вас анк Голенищева?
— Я не знаю, что такое «анк». Эту вещь мне передал без каких-либо объяснений мой покойный брат около полутора лет назад, на Дону, во время Красновской кампании.
— Брат Ваш не был знаком с Голенищевым?
— С египтологом Голенищевым?
— Да.
— Н-не думаю. Пожалуй, он упомянул бы о таком знакомстве.
— Он был намного Вас старше?
— Нет. На три года, точнее, на три с половиной. Женя родился в девяносто седьмом, а я — в девятисотом.
— Чем далее, тем страннее… Получается, что в двенадцатом году Вашему брату было никак не более четырнадцати лет?.. И тем не менее Владимир не мог вручить этот анк человеку случайному…
— А почему именно в двенадцатом году? Позже они никак не могли столкнуться?
— Ваш брат бывал в Египте?
— Нет.
— После двенадцатого года, — в некоторой отрешенной задумчивости, странно сочетающейся с усмешкой, медленно проговорил Даль, поигрывая пружинным пенсне, — с Владимиром Голенищевым можно было столкнуться только в Египте, где его, сдается мне, и по сию пору держит Проклятый Брюсов Племянник.
— Кто?!
— Проклятый Брюсов Племянник,— спокойно повторил Даль, взглянув на этот раз на Сережу. — Думается мне, что, коль скоро одна ниточка этой истории каким-то образом оказалась в Ваших руках, Сережа, Вы имеете право узнать из уст очевидца о египтологе Голенищеве, Каирской пелене и Проклятом Брюсовом Племяннике. Но только не обессудьте, не сегодня — история длинная, а меня ждут больные.
— Последний вопрос, Николай Владимирович: что такое анк?
— Анк — это символ вечной жизни. Был особенно популярен в раннем египетском христианстве. Синяя эмаль не случайна. Выздоравливайте, Сережа.
62
— Вот как, Вы играете в шахматы?
— Я ненавижу шахматы, потому и взялся за них, чтобы как-то убить время до Вашего прихода. Только и думаю, что об этой истории… И знаете, Николай Владимирович, я кое-что вспомнил… Легенда о Брюсовом Племяннике связана как-то с Донским монастырем, не так ли? Я слышал ее в детстве, но вспомнить не могу… Уплывает.
— Вы любите Донской монастырь?
— О да! Еще бы… Невозможно быть москвитянином и не любить Донской… Красная корона… По сравнению с белокаменной резьбой Владимира Московский Кремль Фиораванти — это просто нечто большое и красное. Не более того. Жалкое порождение послетатарскои эпохи. А Донской с такого же типа киноварными зубьями стен, как ни странно, — нет. Он — гармоничен, он — вне времени. Хотел бы я сейчас пройти в черной густой могильной траве, между зарастающих мхом белых саркофагов, зловещих масонских крестов и плачущих ангелов, в порыве тоски обхвативших урны… И каждый камень — чудесная, какая-то очень московская легенда. Легенда о сыне Малюты, искупившем грехи отца… Легенда о российском Гамлете… А вот легенды о Брюсовом Племяннике я не помню.
— В таком случае разрешите мне напомнить ее Вам. Она имеет непосредственнейшее отношение к нашей с Вами истории, — Даль улыбнулся с добродушной усмешкой: — «Если в ночь на двадцать пятое декабря, когда перед светлым Рождеством напоследок тешатся вражьи силы, выйдешь ты к Северным воротам Донского монастыря, то запорошит тебе метель глаза, а как откроешь их, так и окажешься на незнакомой улице. Дома на ней деревянные, в ряд.
А посреди улицы стоит какой-то мужик и будто бы ищет что-то в высоком сугробе. А кроме того мужика вокруг — ни души.
Тулуп на мужике надет наизнанку, глаза черные — с искрой. Тут должен ты подойти к нему и спросить, что он в сугробе ищет и не нужна ли ему твоя помощь.
«Да вишь ты, добрый человек, — ответит мужик, — незадача какая! Кольцо у меня в сугроб упало, а слуг-то я на Ваганьково отдохнуть отпустил — легко ли мертвому человеку целый день кости ломать?»
Испугаешься ты да кинешься бежать — вмиг окажешься у Северных ворот, а улицы и мужика в тулупе наизнанку — как не бывало. И не случится больше с тобой в твоей жизни ничего необычного.
Если станешь ты искать в сугробе, то найдешь в нем золотое кольцо с рубином.
Утаишь кольцо, скажешь, будто не нашел, — и прикипит оно к пальцу и всю жизнь будет толкать тебя к худому.
Вернешь кольцо хозяину — сам он с приветными словами оденет его тебе на палец. И много чудес случится тогда с тобой в жизни.
А встретится на твоем пути хороший человек — заиграет, засмеется, ярче разгорится рубин на кольце.
Встретится плохой — потускнеет рубин тревожно.
Смерть твоя придет — почернеет рубин как уголь.
А мужик этот и есть — Проклятый Брюсов Племянник».
— А ведь я вспомнил, Николай Владимирович! Кажется, я слышал что-то такое в детстве… Очень давно.
— Я так и думал, что Вам доводилось слышать эту легенду. Мне, признаться, непонятно одно: называемый в народе «чернокнижником» приближенный Петра Яков Вилимович Брюс был, даже для своего времени, фигурой колоритнейшей. А главным представителем этого семейства в московской демонологии стал-таки не Яков Вилимович, а его племянник — граф Александр Романович, кстати сказать, крестник Меншикова…
— Само по себе «нечисто»…
— Ох и не жалуете Вы Петербурга, Сережинька. Но от последнего неграмотного крепостного мужика в лаптях до французского секретаря посольства — все действительно сходились в одном: с молодым графом Александром Романовичем — «нечисто»… Говорили и писали о том, что граф избегает зеркал, так как в них отражаются его двойные зрачки, о ногтях, более напоминающих когти (сам граф объяснял это уродство неудачным химическим опытом…), чего только не говорили! Кстати, в подмосковном его имении Глинках по сию пору можно услышать прелестные истории о том, как гостям прислуживали розы, превращенные графом в девушек, или как, чтобы сделать друзьям приятное, граф в июле заморозил пруд для катания на коньках… Но, впрочем, я, кажется, несколько отдалился от темы.
— Николай Владимирович, а этот, с позволения сказать, гениальный поэт происходит не от них?
— О нет… — Даль тонко улыбнулся. — Ему бы очень этого хотелось, но он не имеет с Брюсами ничего общего. Род Брюсов к XIX веку вообще прекратился в прямой линии, и сейчас от Брюсов идут только Альбрехты. Итак, о Каирской пелене. В двенадцатом году я жил в Дегтярном переулке в Москве, и с Владимиром Семеновичем Голенищевым, жившим в Санкт-Петербурге, мы, при всегдашней нашей взаимной симпатии, встречались не часто — я был занят своей обширной психиатрической практикой, а Владимир из двенадцати месяцев в году проводил обычно шесть в экспедициях.
И вот Однажды, помню, у меня был не приемный день — вторник55, и я, сидя в кабинете, предавался одному из излюбленных своих занятий — систематизированию накопившихся клинических случаев, как вдруг распахнулась дверь, и ко мне влетел, буквально влетел Владимир. Я был немало изумлен его неожиданным появлением, но с первого же взгляда мне стало ясно, что с ним что-то случилось. Как сейчас вижу перед собой его, как обычно, сожженное египетским солнцем лицо.
— Боже мой, Владимир, какая радостная неожиданность! — воскликнул я, приподнимаясь ему навстречу.
— Неожиданность не очень радостная, Николай, — ответил мне Голенищев, закуривая крепкие французские папироски, свой обычный сорт. Никто не знает, что я в Москве. Я приехал к тебе как к врачу.
Мне сделалась понятна его лихорадочная торопливость.
— Я слушаю тебя, — ответил я, снова садясь за стол — это положение помогало мне сосредотачиваться.
— Кажется, меня наконец постигла профессиональная болезнь египтологов, тибетологов и иже с ними. Я всегда надеялся на свою крепкую., необычайно крепкую психическую организацию, но похоже, что просчитался. Как ты знаешь, два месяца назад я приехал из экспедиции, кстати сказать, довольно удачной. Самой большой удачей явились раскопки гробницы некоего Херихора, «Держателя Знака», как гласили надписи — титул не вполне понятный. Время восхитительно интересное — египетское христианство. Первое свидетельство — плохо сделанная мумия, — к сожалению, не сохранилось. Знак рыбы, магические символы, великолепный анк. (Да, Сережа, тот, что у Вас в руке. Впрочем, я чрезмерно подробно пересказываю восторги Владимира — попросту потому, что необыкновенно отчетливо помню наш разговор. С Вашего позволения, продолжу повествование от его лица…) Перед самым отъездом я забрел в какую-то грязную лавчонку, можешь представить себе эти убогие лавчонки, набитые хламом. Иногда там появляются настоящие шедевры, скупленные у могильных грабителей. Хозяин, ветхий старик, суетливо разложил передо мной всякую экзотическую мишуру, с его точки зрения могущую прельстить туриста, за какового он меня и принимал… Не находя ничего интересного, я начал уже жалеть, что зашел, как вдруг почувствовал затылком обращенный на меня пристальный взгляд. Уверенный, что сзади находится человек, обладающий известной силой взгляда, что, мы с тобой знаем, встречается значительно чаще, чем принято считать, я резко обернулся. Лавка была пуста. Немало удивленный (я все еще ощущал этот взгляд), я пригляделся и заметил на стене, спиной к которой я стоял, когда взгляд почувствовал, нечто вроде большой мятой тряпки. Я не смог сдержать невольного возгласа. Передо мной висела изумительная, даже в плачевном своем настоящем виде, погребальная пелена. Умерший был изображен на ней молодым — за плечи его обнимал бог Анубис, а по ногам и рукам скакали какие-то маленькие существа, нарисованные необыкновенно коряво, будто это делал ребенок. Мне никогда не доводилось видеть ничего хоть сколько-нибудь напоминавшего этих «чертенят», вообще никогда, не только в изображениях, относящихся к этому периоду (я отнес пелену ко II веку). Но о поразивших меня «чертенятах» я и думать забыл, когда взглянул вблизи на лицо изображенного. Нет, портрет не поражал мастерством исполнения — но глаза у него были живыми.Я понял, что смотрел на меня он. Не могу передать, с каким-то не добрым и не злым, а темнымвыражением. Разумеется, я сразу купил эту пелену.
Потом была таможенная маета, упаковка, отправка, сборы, отплытие… И невероятное количество дел, обрушившееся на меня по приезде в Санкт-Петербург. Словом, только когда спустя месяц после моего приезда прибыли мои ящики, я вспомнил о находящейся в одном из них пелене. Я вешал пелену у себя в кабинете сам, не доверяя обращения с ней рабочим, когда вошла Анна Сергеевна (надо Вам сказать, Сережа, что Анна Сергеевна была старенькой няней Голенищева, старушка очень религиозная, но не православная, а из какой-то секты, адвентистка не адвентистка… не помню…) и, увидав пелену, побледнела и в ужасе воскликнула: «Володичка, убери ты эту мерзость ради Господа! Убери, не будет в нашем доме покоя, пока он тут висит…» — «Да кто он, няня? Ты же не знаешь, кто на этой пелене изображен». — «Знаю, Володичка, знаю… На ней — Проклятый Брюсов Племянник!» — «Няня, Брюсов Племянник жил полтораста лет назад, а этот человек — почти две тысячи. Вот, рядом с ним — языческий бог Анубис». — «Не Анубис это, а кощунственно изображенный святой Христофор-Псеглавец. Убери Брюсова Племянника, Володя, убери!»
Надо сказать, что, полемизируя таким образом с Анной Сергеевной, я и думать не думал о том взгляде в лавочке, из-за которого я и подошел к пелене.
Итак, передо мной стояла пренеприятнейшая дилемма: либо оскорбить в лучших чувствах Анну Сергеевну, либо из-за старческой блажи расстаться с изумительной своей находкой. В поисках компромисса я надумал обратиться к проповеднику секты, приятному и очень образованному человеку. Обрисовав ситуацию, я попросил его переговорить с добрейшей Анной Сергеевной и объяснить ей, что никакого Брюсова Племянника на пелене нет. Тот, посмеиваясь вместе со мной, согласился, но со вполне понятным любопытством попросил прежде показать ему необыкновенную пелену. Мы прошли в кабинет. И тут, при первом же взгляде на пелену, с милейшим пастырем произошла странная метаморфоза: он побледнел, и лицо его из приветливого стало суровым. «Извините меня, Владимир Семенович, — сказал наконец он, — но я не стану разговаривать с Вашей няней, более того, я бы рискнул дать Вам тот же совет: уберите это как можно скорее из Вашего дома!» И тут он обратил, кстати, мое внимание на то, что я должен был заметить с самого начала, но почему-то не заметил. На пелене был начертан геометрический мантрам, позволяющий мертвым выходить из изображения в мир людей. Не могу понять, как я это проглядел. Сознаюсь, тут мне стало немного не по себе, впрочем, ненадолго.
Пелену — увы! — пришлось перевезти в другой мой дом, нежилой, Анна Сергеевна успокоилась, казалось бы, все… но тут-то забеспокоился я.
Первый раз это случилось три недели назад: я шел пешком на заседание Археологического общества.
Неожиданно более чем прозаические мысли мои о предстоящем заседании словно кусок ткани с треском прорвались — передо мной возникло лицо, изображенное на пелене. Живые глаза Брюсова Племянника смотрели на меня с каким-то необъяснимым выражением… Я знал, что под этим взглядом я должен что-то понять… или — вспомнить. Мне необходимо было вспомнить что-то очень важное.
Лицо исчезло. Я находился где-то в плохо знакомой мне части города. Взглянув на часы, я увидел, что заседание закончилось несколько часов назад.
С тех пор Брюсов Племянник появлялся три раза, и каждый раз все происходило так же, как в первый. Теперь ты понимаешь, почему я к тебе так спешил, — я боялся, что потеряю контроль над ходом начавшегося процесса.
— Ты исключаешь, что мог попросту подсознательно зафиксировать пелену в лавке боковым зрением? Прибавить к этому — суеверный рассказ Анны Сергеевны, впечатление от обнаруженного проповедником мантрама… Когда Анна Сергеевна начала говорить о Племяннике, тебе, естественно, вспомнилось, будто бы пелена «смотрела», заметь, до того ты об этом не вспоминал.
— Всего этого было бы достаточно для того, чтобы произвести впечатление на легко возбудимую неустойчивую натуру. Я таковой не являюсь. И пусть даже так, но эти «пропадания», не чересчур ли это даже для сильного впечатления? Ведь я уже четвертый раз по нескольку часов брожу неизвестно где!
— Это-то мне и представляется наиболее подозрительным… Но есть и другая, обнадеживающая, сторона медали: когда «профессиональная болезнь» заходит настолько глубоко, люди обыкновенно не спешат уже к врачу — их сознание полностью перестраивается на другую реальность, чего в случае с тобою не наблюдается. Сказать по чести, Владимир, пока что я ничего не понимаю. Но так или иначе, я предложил бы тебе на некоторое время перевести свои дела в Москву — и перемена обстановки всегда является благотворным фактором, и я смог бы тебя наблюдать сколь долго это будет необходимо.
На том мы и порешили в тот раз. Перемена же обстановки дала на первый взгляд слишком даже обнадеживающие результаты. Брюсов Племянник исчез. Владимир, погруженный в работу по Александровскому56 музею вместе с профессором Цветаевым, казалось, никогда не был настолько исполнен энергии и бодрости. Поэтому наступившая в июне развязка этой истории и прозвучала для меня громом среди ясного неба.
Владимир ворвался в мой кабинет так же стремительно, как за несколько месяцев до этого, в день, когда он впервые рассказал мне о Каирской пелене.
— Я понял, — с порога произнес он, — я понял наконец, чего он хочет от меня!
— Бога ради, Владимир, кого ты имеешь в виду?
— Кого же, как не его? Он появился снова, и я понял, чего он хочет. Завтра же я навсегда уезжаю в Египет! Ну, пусть не завтра, сколько там времени нужно на сборы, передачу коллекций, дел, на визы… Но как можно скорее.
Лицо его было… не побоюсь сказать — необычайно просветленным, оно словно светилось изнутри, излучая мягкое, радостное сияние. В голосе звучали уверенность и торжество. Я понял, что удерживать его бесполезно.
Через месяц Голенищев действительно отбыл в Каир, предварительно передав свои богатейшие коллекции, в том числе и искомую пелену, Александровскому музею57.
— Значит, та самая пелена и сейчас висит в одном из его залов? — спросил наконец Сережа, несколько минут молчавший после рассказа Даля.
— Должна висеть, Сережа… Тешу себя надеждой, что, коль скоро случайностей с оккультной точки зрения не бывает, то пелена эта либо должна уцелеть, либо должна не уцелеть… В жутковатый костер летит сейчас вся наша культура, дорогой Сережинька. Помните лермонтовское: «Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет…» Помните?
— Еще бы не помнить, Николай Владимирович… Последнее время я даже слишком часто это вспоминаю… «И пища многих будет смерть и кровь…» Ведь не девятнадцатого века образ: смерть и кровь — пища. Слишком древний смысл — сейчас, быть может, и настанет время разгадывать эти смыслы… Знаете, Николай Владимирович, эти дни я опять видел тот же сон… Простите, я сбиваюсь… Сон, который я уже однажды видел… Не видел… был в этом сне, в этом месте… Серая свалка, полная крошечных существ… Я не могу передать мое ощущение их боли… И собака. Совсем мертвая, которая борется с тлением, чтобы их защитить… Защитить от жалости и помощи. Потому, что им это уже не нужно… Я думал, какая загадка в этой собаке… И понял только две вещи — что раньше не могло быть таких загадок… И еще — в этой собаке самое для меня высокое. Ты спокоен. Все хорошо. Ты спокоен.
— Но каким же все-таки образом анк Голенищева мог оказаться у Вашего брата?
— Не знаю… Но постойте, Вы ведь говорили, что в двенадцатом году Голенищев был в Москве около нескольких месяцев?
— Да, вплоть до своего отъезда в Египет. Да, значит, они встретились именно в эти месяцы.
— Но более ничего не может пролить нам света на эту историю: Женя мертв, а Голенищев, знаменитый египтолог Голенищев, тот самый Голенищев находится в Египте, и счастье, что он там находится! Ключ от шкатулки — на дне морском.
— А все-таки, с оккультной точки зрения, случайностей не бывает, Сережинька. И Вы знаете ровно столько, сколько должны знать о попавшем в ваши руки анке, который призван сейчас хранить и оберегать Вас, Вас одного.
63
— Вы прямо-таки творите чудеса, доктор, — весело обратился к Далю Некрасов спустя два дня. — Наш милый прапорщик приходит в себя на глазах. Когда Вы окончательно поставите его на ноги?
— Смотря что Вы подразумеваете под словом «окончательно».
— То, что он снова, что называется, встанет в строй, — пожал плечами Некрасов.
— Юрий Арсениевич, — голос Даля звучал спокойно и почти мягко, — я со всею ответственностью могу уверить вас в том, что в строй борцов за освобождение России Сережа Ржевский никогда более не встанет.
64
— Что Вы имеете в виду, Николай Владимирович?
— Предельное нервное истощение. Ни в действующей армии, ни здесь Ржевскому невозможно более находиться, в противном случае я обещаю в девяноста девяти шансах из ста психопатию. Меня одно только удивляет, — Даль поднялся, прошелся по кабинету: теперь в его голосе звучало легкое раздражение, — как его вообще могло хватить так надолго… Здоровая, но удивительно тонкая психическая организация.
«Где тонко, там и рвется», — вспомнилось Юрию.
— А в чем же заключается тот единственный шанс, о котором Вы упомянули?
— В ощущении полной безопасности, безопасности абсолютной. Здесь, в России, все мы испытываем ощущение относительной безопасности — на надежной конспиративной квартире, в местности, которая в данный момент является тылом, и так далее. Человеку, психика которого не в угрожающем состоянии, этой относительной безопасности вполне хватает. А Ржевского, может быть, еще спасет сейчас безопасность абсолютная, от которой он отвык настолько давно, что ее неожиданное обретение может сыграть роль позитивного фактора. Во всяком случае, мне хотелось бы на это надеяться.
65
С приказами не спорят. Приказов не оспаривают. Приказы выполняют. Этот единственный закон испокон веку держит на себе армию.
…Приказ Люндеквиста Сережа выслушал со спокойным, неожиданно помертвевшим лицом.
ПАРИЖ — слово-печать, скрепляющее смертный приговор.
Париж…
— Поймите, Сережа, — Люндеквист перешел с официально сухого тона на дружеский, положил руку на плечо вытянувшегося перед ним прапорщика, — собственно, это ни в коей мере не означает эмиграции. Вы остаетесь таким же членом организации… Ну, или почти таким же.
— Владимир Ялмарович, — Сережа, казалось, принял предложенный тон, — вероятно, я должен подать Вам прошение об отставке?
— Да, разумеется, мы обязаны Вас комиссовать. Собственно, медицинское заключение уже готово. Вы можете сейчас написать, присаживайтесь за мой стол. На мое имя.
66
Русоволосый, со спокойно правильным лицом авиатор в расстегнутой меховой куртке появился в дверях сарая, на ходу запихивая во внутренний карман небольшую книгу — Сережа успел заметить, что это был «Валден» Торо.
— Чудинов, — коротко представился он, обменявшись крепким рукопожатием с Сережей.
— Ржевский.
— К сожалению, придется подождать минут десять, взлетать пока темновато. Но на поле, пожалуй, лучше пройдем сейчас.
— Товарищ со мной, — бросил он дремавшему, сидя на ящике у выхода на аэродром, красноармейцу.
— После ареста Берга усилился контроль, — отвечая на Сережин взгляд, сказал он, быстро и легко шагая по промерзшей земле летного поля.
…Несмотря ни на что, Сережино сердце охватил радостный холодок, когда перед ними возникла из предрассветного сырого тумана как будто уже летящая конструкция «Блерио»: хрупкие сочленения деревянных планок и рам, обтекаемая форма медного бензобака, сиденья, мотор…
— Аэроплан… — Сережа невольно протянул руку, коснулся гладкой деревянной рейки, покрытой темным лаком…
«Звезды ни с какими успехами авиации не станут ближе».
О да, конечно же, Вы, как всегда, правы, Николай Степанович! Но…
Чудинов невольно усмехнулся, заметив этот детский жест, жест мальчика, потянувшегося к настоящему аэроплану… Аэроплан — щемящая сказочная мечта мальчиков девятисотых годов… Вверить жизнь этим легким, радостно легким крыльям, улететь покорять пресловутые terrae incognitae58 …Разве эти крылья не донесут к скалам, в которых сверкает огненный столп хаггардовской «She» 59? Африка… Как многие мальчики девятисотых годов, Петр Чудинов бредил неведомыми землями и воздухоплаванием… И, как самое естественное и простое, две мечты соединились в одну — в мечту о воздушном исследовании Африки, в мечту невозможно далекую, но осуществимую. Несколько лет напряженной работы после окончания коммерческого училища — конечно, не отрываясь от аэронавтики, — и необходимый капитал будет составлен. В конце концов есть пример Шлимана.
Все казалось простым и ясным, путь был определен.
— Я всю жизнь мечтал полететь на аэроплане, — с улыбкой сказал Сережа, повернувшись от аппарата к Чудинову. — Даже подавал заявление, когда поступал на военные курсы. Но войска других видов требовались, видимо, более срочно.
— В воздушные части брали уже тех, кто знаком с аппаратами. Наденьте это. — Чудинов извлек из-под сиденья массивные летные очки и темный кожаный шлем. — Не слетает?
— Нет, спасибо, все нормально. — Сережа затянул под подбородком ремешок и поднялся на сиденье вместе с Чудиновым.
Тарахтенье мотора… Запах не привычного, автомобильного, а чистейшего нобелевского бензина… А широкие удобные сиденья словно висят в воздухе, застрявшие в хрупком соединении перекладин, реек и рам. И ты сам кажешься себе неуклюжим и громоздким, повисший внутри этого летящего сплетения.
Аэроплан резко качнулся… Колеса застучали по ухабам промерзшей земли… сейчас… сейчас… Есть! Сережа счастливо рассмеялся: дорога, подводившая к летному полю, сначала выплыла из-за хозяйственных строений и ангаров, а затем почти сразу же сузилась в неширокую ленту и протянулась в длину… Деревья показались кустами, строения — игрушками, раскиданными по столу…
— Нравится? — крикнул сквозь тарахтенье мотора Чудинов.
— Еще бы!! — прокричал в ответ Сережа.
— Сейчас наберем высоту — еще интереснее будет! Вон, обернитесь назад!
Из серых декабрьских облаков выплывал шпиль Петропавловского собора… Рассветный серый город проступил через облачные прорехи рисунком питерских четких улиц.
Холодная линия побережья… Лоскутное одеяло полей… Неровный черный край леса…
Ощущение полета… Наверное, так же отлетает из тела дух… А тело, тело осталось там, внизу. Страшный Петербург, по улицам которого когда-то, тысячу лет назад, бродили Женя и Елена Ронстон… Мама и отец — растворившийся в небытии покой родного очага… Гимназия… Манеж… Скрипящий под ногами снег, когда Вишневский отмеривал шаги от барьера… Донской монастырь… Дачный поселок в Останкине… Бесшумный пистолет, вывалившийся на паркетный пол из мертвой руки Ольки Абардышева…
Все это — внизу.
Возврата нет.
«За шеломянем еси…» — Сережа уронил на руки голову в тяжелом шлеме и летных очках.
Чудинов увидел, как сидевший рядом с ним прапорщик упал головой на руки и затрясся в рыданиях, неслышных из-за шума мотора, однако, казалось, не обратил на это внимания…
«Ведь это же — смерть, именно это — смерть!»
КНИГА ТРЕТЬЯ ПРЕДДВЕРИЕ апрель-сентябрь 1921 года. Петроград-Париж
Fuimus60
1
Изумрудная, подсвеченная солнечным золотом волна — жизнь. Раскаленные и пыльные плоские крыши татарских домишек… Зеленые дощатые купальни… Навесы, шезлонги… белые муслиновые платья… женские лица в плывущей нежной тени белых кружевных зонтов…
Лето 1916 года — последние летние каникулы. Каникулы, как всегда, на даче в Алуште — как всегда, но последние, невозвратные, о которых так жадно будет вспоминаться потом, последние солнечные брызги счастья, но что это — счастье, станет потом только ясно… А тогда казалось наоборот… Тогда лето началось с тщательно скрываемого от домашних горького разочарования…
В день приезда Сережа, даже не разобрав вещей, полный радостного нетерпения, помчался верхом (гнедая кобыла Букки — белый чулок на правой передней) в Профессорский уголок, на дачу Белоземельцевых. Ирина Андреевна Белоземельцева и Ида (по-дачному простоволосая, в белом муслиновом платьице, очень повзрослевшая за год) пили в беседке чай — Сережа лихо спешился… Ирина Андреевна — сухопарая, похожая на англичанку… «Господи, Сережинька!» Чай со сливками… Град расспросов — в каком составе приехали в этом году, кто как себя чувствует, гимназические успехи… Невзначай, помешивая ложечкой, наконец вопрос: «А Вадик — у себя?» — «Как, Сережинька, Вы не знаете — Вадик в этом году с родителями в Ницце». Ложечка звякнула о край чашки: «… Боже мой, что за манеры!» О нет, не на самом деле, где-то в глубине сознания прозвучал сейчас резковатый голос Ирины Андреевны, вспомнилось костяшками пальцев, когда-то получавших энергический удар черенком, а сейчас хоть локоть на стол клади — никто не заметит: ведь они с Вадиком уже большие… Они… И только тут внутри разлетелось что-то очень фарфоровое, много тоньше того, что было спокойно поставлено сейчас на блюдце. «Нет, мы ведь не переписывались. Я не знал. Очень жаль». — «Сережа, кстати, Вадик просил передать Вам какую-то странную книгу, сказал, что Вы поймете, в чем дело». — «Спасибо, Ида, я на днях заеду за ней непременно — сейчас мне ее некуда положить…»
Обратно Сережа ехал шагом.
Какое же непереносимое, непонимаемое тогда счастье… Море, теннис с Идой, ночные верховые прогулки, штормы на причале… И во всем этом — ни на минуту не забывать о том, что необходимо царственно оберегать значимость своих переживаний, драпируясь в байроновский плащ неприступного одиночества…
…Вадик Белоземельцев учился в Царскосельской гимназии, первоклассником еще застал Анненского… Сережа и Вадик каждое лето встречались в Крыму, но почти никогда не переписывались — подружились в возрасте, в котором это составляло еще известную трудность, а потом было как-то неловко перестраивать сложившиеся отношения. Поэтому то, что близкий, настолько близкий друг не приедет в это лето, как обычно, к тетке на дачу, было для Сережи, всю предотъездную неделю жившему будущими разговорами с Вадиком, громом среди ясного неба.
Потом это несчастливое начало каникул вспомнится Сереже — на Дону, в лазарете, когда он узнает о самоубийстве Вадика, заразившегося сифилисом… И с ужасом поймет, что для него, тогдашнего, Вадиков неприезд к тетке был большей трагедией, куда большей, чем для него теперешнего Вадикова дикая смерть.
Последние каникулы… Крым. Лето 1916 года.
Первые недели весны 1921-го явили Петрограду подавление Кронштадтского мятежа. Лед, сковавший Финский залив, помог переброске под прикрытием мощного артиллерийского обстрела частей 7-й армии под командованием Тухачевского: к утру 18 марта крепость и город были взяты. После отчаянного сопротивления пали линкоры «Петропавловск» и «Севастополь».
Однако, в отличие от подавления мятежей фортов в 1919-м, подавление Кронштадтского мятежа в 1921 году не спутало в основном планов Петроградской боевой организации, возникшей из пепла ликвидированного к концу 1919 года Национального центра. Если Национальный центр являлся в свое время как бы «подсобной» организацией, своего рода обычной, только расположенной во вражеском тылу частью наступающей на Петроград Северо-западной армии, и вся деятельность его была ориентирована именно на ее приближение, то Петроградская боевая организация к весне 1921 года развилась в организацию самостоятельную, ориентированную на самое себя.
Национальный центр представлял собой организацию монолитно-военную, по мере необходимости пересекающуюся с техническими специалистами и оборонно-военным производством. Внутренняя структура ПВО значительно усложнилась по сравнению со структурой НЦ. Объединенная организация кронштадтских моряков была лишь одной из составных частей ПВО, так же, как подготовленный ПВО Кронштадтский мятеж являлся только одной из ставок организации.
Помимо Объединенной организации кронштадтских моряков, ПВО включала в себя еще две группы — «профессорскую» и «офицерскую», и функции последней соответствовали, пожалуй, функциям НЦ как такового. Возглавляемая подполковником Ивановым, группа занималась непосредственно разработкой плана вооруженного восстания, которое должно было, начавшись одновременно в Петрограде, Рыбинске, Старой Русе, Бологом и на станции Дно, отрезать Петроград от Москвы. Петроград, согласно плану, делился на районы мятежа, во главе каждого из которых ставился опытный офицер. В офицерскую группу входили и агенты, пребывающие в Красной армии и флоте.
«Профессорская» же группа — интеллектуальный и идейный стержень организации — была занята разработкой проектов государственного и хозяйственного переустройства России. В группу, помимо многих других, входили: ректор Петроградского университета, бывший сенатор профессор Лазаревский, подготавливавший проекты переустройства местного самоуправления, денежную реформу и план восстановления кредита, бывший министр юстиции Манухин, финансист князь Шаховской, профессор Тихвинский, князь Туманов, сотрудничавший в информационном центре РОСТА, князь Ухтомский, геолог Козловский…
Организация включала также группу «Уполномоченные собрания представителей фабрик и заводов г. Петрограда».
Преемница НЦ — ПВО — утратила специфику военной организации. Следствием этого было возникновение многочисленных межличностных связей, соединяющих ПВО с самыми различными прослойками Петрограда. Их существование необходимо также учитывать, чтобы представить сложную внутреннюю структуру организации, которую возглавил тридцатилетний профессор географии Владимир Таганцев. Сам лик петроградской контрреволюции к 1921 году значительно изменился.
2
— Куча мала!! — услышал Чернецкой, еще взбегая по лестнице. «Лекция кончилась», — отметил он.
— Куча мала!!
— Куча мала!!
— Куча мала!! — громовой голос Гумилева легко покрывал восторженно захлебывающиеся юношеские и девичьи голоса. — Куча мала!
— Куча мала! — закричал Женя, врываясь в темноватый коридор.
Николай Степанович, напоминающий обвешанного фокстерьерами льва, с трудом поднимался с полу вместе с облепившими его «дисковпами»… Лекция кончилась только что… Женя был немногим старше большинства из этих скверно, как и он сам, одетых, полуголодных молодых людей, ставивших себе задачей сохранение культуры, как хранят во времена гонений орденские святыни, учившихся потому яростно и жадно, несмотря на голод, болезни и грязь, исполненных какой-то бросающей вызов происходящему вокруг искренней и буйной веселости… «Куча мала!» «Нас не так-то легко согнуть, — казалось, говорила эта веселость, — мы — молоды, мы — вместе, мы бьемся за знамя своей культуры, нас не так-то легко заставить перестать радоваться друг другу! Не ждите наших сетований — в нас есть твердость духа! Куча мала!!»
Жизнерадостному духу «Диска» в немалой степени способствовал и личный магнетизм Гумилева. Стряхнув с себя всех нападающих, Гумилев стоял, выпрямившись в полный рост, заразительно хохоча, — атлетически сложенный и юношески стройный — в копошащейся, визжащей, смеющейся, кричащей груде тел… Женя сумел различить в этом клубке только пепельные кудри четырнадцатилетней Лилички Таланцевой и один ее стоптанный порыжевший ботинок, неизменную охотничью куртку Бориса Ивлинского и разрумянившееся лицо Лени Миронова С двумя этими не воевавшими еще семнадцати-шестнадцатилетними мальчиками Женя был связан узами ПВО, что, впрочем, было скорее исключением, поскольку Николай Степанович бывал обыкновенно против приема в организацию своих «дисковцев», подавляющее большинство которых было осведомлено о существовании ПВО и участвовало косвенным образом в деятельности организации. Кто знает, не было ли это мотивировано желанием не ставить на кон всего, чтобы на случай провала все же сохранить именно в России какие-то, пусть не политические и неспособные к физическому сопротивлению, но хотя бы несущие в себе сопротивление духовное, силы…
— Куча мала!!
Гумилев, уже обменявшийся взглядом с замеченным им Женей, неожиданно изменился: казалось, что внешне с ним ничего не произошло, однако там, где только что находился веселящийся мальчишка, стоял чопорно, надменно прямой мэтр — забавляться подобными превращениями Н.С.Г. любил… Веселье стихло, как по мановению волшебной палочки.
— Все, господа! На коней и в путь!
— Николай Степанович, милый, Вы ведь хотели сегодня разобрать со мной мои стихи, — по-детски моляще протянула Лиличка Таланцева, подлетая к мэтру.
— Каюсь, сударыня, я этого хотел, но что есть в этом мире наши желания? Сегодня, не далее шести часов пополудни, я должен пребывать в райпотребсоюзе, простите чудовищное ругательство… И непосещение сего заведения мною грозит мне преждевременной гибелью в нетопленых стенах… Да, всего доброго! Ивлинский и Миронов, вас, господа, я попрошу остаться.
Шумная прихожая опустела: с лестничной площадки доносились еще смех и голоса.
Гумилев, вытаскивая портсигар, по-мальчишески легко присел на подоконник.
— Единственное публичное место, где я могу спокойно выкурить приличную папиросу, — произнес он, кивнув на распахнутую дверь пустой аудитории. — А на прошлой неделе, когда я с тоски закурил на некоем идиотском заседании, мой досточтимый коллега, занятый сейчас разработкой теоретических гребенок для создания будущей совдеповской культуры, прямо-таки изъерзался на стуле от желания выяснить, откуда это я достаю папиросы… Но остатки порядочности удержали.
— Вы говорите, Николай Степанович, что Брюсов занимается сейчас «разработкой теоретических гребенок» для культуры Совдепии, — с живым интересом спросил Борис Ивлинский. — Но разве совдеповская культура нуждается в его теоретических гребенках?
— То, что мы имеем наблюдать, Борис, еще не является совдеповской культурой, — Гумми, казалось, был в хорошем расположении духа. Свою мысль он принялся развивать с явным удовольствием. — Это суть зачатки оной. Все эти «пролетарские поэты», коих пытаются подсовывать вашему покорному слуге, это маленькие росточки, пока чрезвычайно невинного свойства. Если большевизм победит, на развалинах нашей культуры должна произрасти некая псевдокультура, по сложности не уступающая нашей. Горький с его сентенциями поднят на щит, но не более того. Сентенции его слишком просты, для осуществления такой грандиозной подмены они не подойдут. Тут необходима переработка литературоведческого мировоззрения, не угодно ли Вам, скажем, сделать разбор романтизма с позиций материалистических? Суждение глухих о музыке. Даже религиозный человек, сам того не замечая, станет мыслить материалистическими категориями, если подобная подмена произойдет на общественном уровне. Это и будет отрыв души от разума, что ведет к бессилию личности. И путь может быть таков: от примитивно-грубого, как слегка нас утомившие «пролетарские поэты», до усложнения и… до усложненной псевдокультуры. Тут нужен не Горький. Тут нужна своего рода математика, но не та, кою Пифагор освободил из недостойных рук торгашей, а та, что осталась в них, приказчическая подленькая математика. Тут нужен Брюсов. — Припечатав подобным образом мысль, министр культуры будущей освобожденной России спрыгнул с подоконника и, подойдя к вешалке, извлек из-за нее продолговатый кожаный портфель. — А теперь о деле, господа.
— Николай Степанович, это — все деньги, полученные Вами от Шаховского?
— Решительно все, Евгений. Князь не довольно осторожен, посылая их мне. Я в любую минуту жду гостей. Репутация моя известна. Но без доказательств она покуда остается репутацией, не более. Подобные вещи надо держать на абсолютно подпольных явках. Я по мере необходимости буду получать их от Вас. — Гумилев рассмеялся. — Давеча я и без того перепугал ими Айрин Одоевцеву…
Ивлинский, знавший эту историю, рассмеялся вслед за Гумилевым, а Леня Миронов, обращаясь к Жене, начал весело объяснять:
— Видите ли, Чернецкой, одна из приближенных фрейлин Николая Степановича, а именно — Айрин, имеет предосудительную привычку рыться в ящиках его стола, в присутствии, разумеется, мэтра… И вот, представьте пассаж — мэтр выходит из комнаты, а Айрин, наскучившая экзотическим содержанием одного ящика, выдвигает второй, и… Разумеется, изумленное «Ах!». Ящик битком набит пачками кредиток. И именно в эту минуту Николай Степанович, разгневанный вместо собственной неосторожности на несчастную Айрин, появляется в дверях и…
— И как Вы полагаете, Леня, достаточно ли будет дернуть Вас за ухо? Нет, пожалуй, я накажу вас за болтливость иначе — деньги к Чернецкому понесете Вы… Вы, Евгений, сейчас были бы крайне нужны мне — зайти к Михаилу Михайловичу. А идти туда с этим портфелем явно не стоит. Вы, Борис, можете присоединиться к нам.
Они спустились по грязной лестнице с ржавыми прутьями, когда-то державшими ковер.
— А город уже свыкся с запустением, — негромко проговорил Женя. — Оно как-то естественно смотрится. Году в позапрошлом так не было.
Гумми усмехнулся: настроение его заметно сменилось. Подтянутый и надменный, он двигался по улице, глядя поверх голов: с набитой бумагами тисненой зеленой папкой в руках, в наброшенном на плечи экзотическом белом полушубке неевропейского вида (конец апреля, даже по питерской погоде, выдался нежарким). Его неправильное с тяжелыми чертами лицо, такое обаятельно-живое в дружеском кругу, сделалось неприятно-неподвижным лицом-маской. Сейчас к нему казалось даже сложным обратиться с каким-нибудь замечанием. Впрочем, так казалось одному Жене. Ивлинский, непринужденно, как все «гумилята», чувствующий себя рядом с мэтром, не замечал этой перемены.
— Блок давеча говорил, что Вы фрондируете противу Шкапской?
— Преувеличение. Меня не настолько волнует ее творчество, Борис. Но не могу же я, в самом деле, восхищаться этой по меньшей мере странной особой. Когда читаешь ее творения, ощущение такое, будто род человеческий не выходил еще из эпохи неолита… Она, безусловно, не лишена дарования, но совершенно неприемлема для человека с неизвращенным восприятием… Боже мой, лучше бы вообще не пускали трамваев! Взгляните, ведь это же убийство.
Миновав стрелку, они подходили уже к светло-зеленому двухэтажному дому с каменными собаками по фронтону.
— Свои, Михаил Михайлович! Свои…
— Проходите, господа.
Профессор Тихвинский, за годы революции состарившийся на десяток лет и казавшийся сейчас в свои пятьдесят три года шестидесятилетним стариком, встретил гостей в китайском халате, слишком просторном для его нездорово исхудавшего тела.
— Извините за домашний вид, — немного отрывисто произнес он, проводя Гумилева и молодых людей по коридору. — Крайне нездоров, только что встал с постели.
— Не хотелось бы тревожить Вас больного, Михаил Михайлович, но дело не терпит, не обессудьте.
— О чем речь, Николай Степанович, дорогой!
— Ох, черт! — Гумилев, споткнувшийся о груду с оглушительным грохотом рассыпавшихся осиновых дров, потер ушибленную ногу. — Так и есть — дровишки завезены не расколотыми в поленья. Бревна какие-то… А это — целая коряга. И я, кажется, вижу на этом чудовище тщетные Ваши попытки его побороть. Дайте Ваш грозный меч мне. Впрочем, вот он. — Гумилев извлекал уже из-под кучи дров зазубренный топор.
— Николай Степанович, право же, я и сам вполне в состоянии, — воспротивился Тихвинский.
— Михаил Михайлович, милый, Вы не довольно сейчас крепки для подобных упражнений! — шутливым тоном возразил Гумилев. — Нет, молодое поколение, лучше предоставьте это мне… Прежде всего — за чудовище!
Сыроватые скверные дрова со стуком разлетались под топором, весело заигравшим в тонких, с точеной, редкостно красивой формы кистями, сильных руках Гумилева Дрова он колол умело, без лишнего шума, точно соразмеряя силу удара,
— А как с уплотнением, Михаил Михайлович? Сей бич Вас пока не коснулся?
— Увы, волею Зевеса, коснулся. На днях в гостиную вселили какого-то вновь прибывшего из Москвы рабочего-металлиста, большевика… Сейчас его нет. И грозят вселить еще.
— Г-м… металлиста. Удивительно сырые дрова Будьте осторожны, Михаил Михайлович, кое-что об этих металлистах нам уже известно. Я вот о чем к Вам: готов ли Ваш доклад? На предстоящем съезде, Вы знаете, представители от Нобеля будут. Разумеется, до конференции еще два месяца, но дело в том, что послезавтра через границу пойдет некто Вишневский. Если вы уже готовы, мы сегодня направим его за инструкциями к Вам Нет — отложим до другой оказии.
— Отчего же, Николай Степанович? Направляйте, направляйте — дело не ждет.
— Вот и отлично. — Гумилев эффектно перебросил топор из руки в руку. — Вопрос разрешен, и чудовища повержены. Позвольте нам на том откланяться, Михаил Михайлович.
— Ну, вот гости так гости… Пришли, накололи дрова и, не заходя, удалились восвояси! — рассмеялся Тихвинский. — Выпьемте, по крайней мере, мятного брандыхлыста, господа — нельзя же так!
— Время не терпит, Михаил Михайлович! Райпотребсоюз и Дом искусств вечером. Ждите Вишневского. Чернецкой, Вы знаете, где его найти? На Большой Морской, у Джорджа Шелтона.
— Кстати, Борис! Как Ваша подготовка к экзаменам?
— Я готовлюсь, Михаил Михайлович, серьезно готовлюсь.
— Смотрите — химию в нынешнем году принимаю я и Вас, из одной только личной симпатии, не премину погонять как следует!
Ивлинский, уже заканчивающий школу, готовился к поступлению в Екатерининский горный институт.
— Всего доброго, Михаил Михайлович!
— Прощайте, прощайте, господа!
— …Итак, Вы — к Шелтону. Вот, на всякий случай, его адрес.
— Всего доброго, Николай Степанович. Прощайте, Борис. — Эти фразы Женя, который залез в карман куртки, чтобы положить туда визитную карточку, произнес уже несколько рассеянно: Борис заметил, что он явно растерялся, не обнаружив чего-то в кармане… Не вынимая руки, переворошил его содержимое… Облегченно вздохнул.
Все было на месте — и перчатка, и сама шпага.
3
«А может, и стоило бы сделать новую — по Парацельсу… — думал Женя, стремительно идя по Большой Морской. — Но мне не нравится форма этой Парацельсовой штучки… Но ведь штучка Парацельса — усовершенствованный вариант того же самого… Суть остается. И если мне не нравится усовершенствованный, то есть где суть наиболее выявлена, вариант… значит… Значить это может только одно — что эту тему стоит обойти. Любопытно, что это за Шелтон? Работает он под прогрессивного английского журналиста, члена лейбористской партии… Кажется, приехал не один — не помню, с кем. А может, не так уж все и страшно — ведь во всех этих делах нужна аптекарская точность… Может статься, что не то заложено не в той штуке, которую я таскаю с собой, а именно там, где начинается работа Парацельса? До чего же все-таки трудно самому, вслепую, без ведущей руки ощупью искать дорогу… И самая страшная, самая пугающая мысль: а может быть, я просто — слепой котенок и все, что, как мне слышится, познано мной, — это детские безобидные игры… невиннейшие детские забавы… Нет, не может быть… Я же телом, чутьем, чем угодно знаю, что ничего не растерял… Это во мне есть, и его настолько много, что оно прорвется наружу даже через мои неумелые попытки ему помочь… Я его слышу — оно мечется, как дикий зверь по клетке… А ведь я себя обманываю. Я не за тем хочу увидеть себя настоящего, чтобы знать, кому я вколачиваю в могилу осиновый кол… Точнее — не только за тем…
Ладно, passons. Давайте-ка, друг мой, натягивайте поплотнее маску порядочного человека — пора за дела».
…Дверь открыла рыжеволосая горничная-англичанка. «Член лейбористской партии» явно не стремился отстать в Совдепии от своих буржуазных привычек.
В переднюю доносились упражнения на фортепьяно. «Да, он не один», — подумал Женя, проходя через застекленные двери в гостиную.
— Mr. Shelton is not at home.
— I'll wait for him in a drawing room.
— Yes, sir. Mr. Shelton's daughter, miss Tina, sir61. Девочка-подросток лет двенадцати поднялась из-за фортепьяно навстречу Жене. Она была довольно высока для своего возраста, ее темные, отливающие корицей волосы были свободно распущены по плечам. Строгий покрой серого платья, казалось, подчеркивал еще более то, что перед Женей — маленькая англичанка.
— Oh, excuse me, miss. My name is Egene Cher-netskoy. Mr. Shelton ask me to come at six. May I wait for him here?
— Yes, of course, mr. Chernetskoy. Take your seat, please. You have a cup of tea?62
Горничная вышла, затем возвратилась с легким столиком на колесиках. Чай был приготовлен на английский манер: запеченные тоненькие тосты (правда — из питерского черного хлеба), непременный tea был не заварен, а сварен — черный, густой, забеленный сгущенным молоком.
«Забавно очутиться в Англии посреди красного Петрограда, — подумал Женя. — Успокаивающе действует на нервы. Можно представить себя в Лондоне. Хотя создается впечатление, что эта безупречно сдержанная девочка скорее играет роль… Оценивающий, недетский взгляд — нимало не смутилась, что я его поймал сейчас. Красивые глаза. Зачем только этот Шелтон привез с собой ребенка? Ей место не здесь, а в каком-нибудь староанглийском саду, разбитом вокруг дома в лондонском предместье. Где она, вероятно, и играла в предыдущие годы… Воланчик, взлетающий в темную листву лип… Смех… Посыпанные песком дорожки… Как она воспринимает то, что видит на улицах Петрограда? Ведь не может же она совсем этого не видеть?
— Oh, it's daddy63.
Вслед за звонком стеклянные матовые двери распахнулись, и в гостиную вошел английский журналист, член лейбористской партии Джордж Шелтон вместе со знакомым Жене Вадимом Вишневским. Впрочем, первый вошедший тоже не был совершенно незнаком Чернецкому.
— Здравствуйте, мистер Шелтон. Здравствуйте, г-н Вишневский.
— Вы превосходный конспиратор, Чернецкой, но мне сдается, что в данном случае Вы перегибаете палку, — с легкой улыбкой заметил Шелтон.
— Пожалуй, Вы правы, Юрий Арсениевич. — Женя ответно улыбнулся. — Я рад с Вами встретиться. Давно слышу о Шелтоне, но никогда бы не подумал, что это — Вы. Я ведь не встречался с Вами более года…
— Да… — Юрий плеснул виски в стаканы и потянулся к сифону. — Вы с содовой?
— Если можно, содовой без виски.
— Я около полугода провел в Лондоне после окончательного провала НЦ и уже полгода нахожусь здесь на легальном положении.
— Теперь мне понятно, почему Ваша дочь — с Вами.
— Это не моя дочь. Тутти — дочь расстрелянного Чекой инженера Баскакова, я же довожусь ей… не знаю, пожалуй — опекуном.
— Дядя Юрий, а где Вы встречались с господином Чернецким?
— Ты его тоже видела уже, вероятно, не помнишь. Думаю, что видела.
— Когда?
— Когда мы жили на Богородской.
— Еще когда Сережа только-только поправился?
— Да, после болезни Ржевского. И потом тоже.
— Вы сказали — Ржевского, Юрий Арсениевич?
— Да, Евгений Андреевич. Вам знаком Сергей Ржевский?
— Это мой близкий друг. Не обессудьте, господа, но я, пожалуй, хотел бы немного расспросить вас о нем.
По лицу Некрасова пробежала легкая тень.
— К сожалению, подпоручик, мои сведения о Сергее Ржевском обрываются концом позапрошлого года.
— В то время как мои — его началом. Последний раз я видел Ржевского в конце февраля, в Финляндии… В Коувала.
— В конце марта Ржевский попал в плен здесь же, под Петроградом, по линии наступления Северо-западной. По конец апреля — находился в петроградской Чрезвычайке, из которой НЦ устроил ему побег. Оправившись от болезни, последовавшей после заключения, работал в петроградском отделении НЦ — по декабрь девятнадцатого, то есть до новой, на этот раз — более тяжелой болезни, следствием которой и явилась его отставка. Вероятно, он и сейчас в Париже.
На мгновение Вишневскому, молчаливо наблюдавшему этот разговор, почудилось нечто довольно странное: холодное юное лицо Жени Чернецкого словно бы выступило вдруг из современного его облика, как выступает из рамы картина… Бледность лица не может особенно бросаться в глаза в Санкт-Петербурге, но это лицо не было бледным, оно было белым, и эта неестественно чистая белизна, казалось, дышала холодом, но это был какой-то живой холод, холод, способный именно дышать… «И чаши раскрывшихся лилий Дышали нездешней тоской»… Холод белых цветов… Холод юной живой чистоты белых лепестков… И «нездешняя тоска» — странно мягкие черные глаза — древние глаза — нездешняя тоска..
Наваждение исчезло почти мгновенно: в кожаном кресле с бокалом в руке небрежно — нога на ногу, откинувшись на спинку, сидел двадцатилетний завсегдатай Дома искусств в зауженных брюках и темно-сером кашне. И черты лица были самыми обыкновенными, довольно правильными. И это лицо не отразило никакого отношения к услышанному от Некрасова.
— Благодарю Вас, Юрий Арсениевич. А теперь о деле, господа. До чего же, однако, досадно, что телефонная связь не действует: приходится за день пробегать лишних верст десять… Вы пойдете через границу в первых числах, не так ли, г-н поручик?
— Да, очевидно, на первое.
— Под самое сатанинское число? Браво… Таким образом, не далее чем завтра Вам, Вадим Дмитриевич, необходимо посетить профессора Тихвинского для получения у него инструкций и доклада А Николай Степанович настоятельно рекомендовал сделать это сегодня.
— Кстати, предупредишь Михаила Михайловича быть поосторожнее, — хмуро произнес Шелтон. — Его прежние отношения с Лениным, кажется, опять говорят о себе… И вообще у меня такое чувство, что слежка усиливается. Кстати! — он круто развернулся к окну. — Полюбуйся, Вишневский, — этот молодчик снова под окнами! Видите ли, Чернецкой, мне сдается, что за мной, как за «иностранным подданным», закреплен личный «хвост». Он дежурит таким образом уже третью неделю.
Женя сбоку, со шторы, подошел к окну: на противоположной стороне улицы, слишком явно глядя на окна шелтоновской квартиры, на тротуаре стоял…
— Над письменным столом… кажется, это у Вас — бинокль?
…Лицо стоящего на тротуаре молодого человека приблизилось. Глупость, конечно же, глупость… Хотя действительно чем-то необыкновенно похож на Ржевского. Но спутать можно только издали: Сереже сейчас — двадцать один, этому — около шестнадцати. И еще помимо различий в чертах лица (различия незначительны, так как сам тип лица — один) у него нет Сережиной беспечной легкости — выражение жестче, целенаправленней… И сами черты как-то жестче, говорят о большой внутренней собранности. А вот волосы — удивительно похожи: темно-русая грива, небрежный косой пробор, открывающий высокий правильный лоб… Удивительно приятное лицо, впрочем, это ничего не значит. Неизвестно, в какую сторону мотнуло бешено вращающееся колесо идей в сознании этого милого мальчика. Наблюдает он крайне неумело, но все же — наблюдает, и это само по себе подозрительно.
— Да, надо быть поосторожнее, — произнес Женя, с неохотой опуская бинокль. — Не смею более злоупотреблять Вашим предотъездным временем, Вадим Дмитриевич. Прощайте, Юрий Арсениевич, рад снова Вас встретить.
— Может быть, Вам лучше выйти черным ходом?
— Нет, ничего. С одного раза он меня не запомнил. …«А я отчего-то не хотел бы снова встретить
Сережу Ржевского, — подумал Вадим, слыша, как горничная затворяет в прихожей дверь за Чернецким. — Глупо, впрочем, там, где появляется Чернецкой, всегда сбиваешься на подобные мысли — во всяком случае, со мной это так… Отчего-то у меня есть ощущение, что… да нет, даже словами не могу выразить этого ощущения. Просто — не хотел бы».
— Стало быть, я отправляюсь сейчас к Тихвинскому. И по сути, Юрий, у тебя остается только сегодняшний вечер на то, чтобы решить с этим делом.
— Я уже решил и… решился, Вадим.
— Мне думается, что так будет лучше.
4
— А куда ушел Вадим?
— К Тихвинскому.
— Это который бомбы делал? — Тутти подчеркнула что-то в тетради красным карандашом.
— Не «это который», а «это тот, который»… Да, тот. Но он уже давным-давно против большевиков.
«Все-таки это нездоровое школьное окружение делает свое дело, видно даже из мелочей. Она бы подняла бурю негодования, скажи я, что она набирается всякой дряни от соклассников: а ведь невольно набирается. А все же правильно ли я поступаю? Если бы возможно было знать наверное…»
— На первое Вадим пойдет через границу.
— Я знаю.
— Я не за тем только начал этот разговор, чтобы вторично тебе это сообщить. Выслушай меня очень внимательно, Таня. Сегодня я был в посольстве и выяснил там, что мистер Грэй едет на днях в Лондон по делам своей фирмы. Вадим же, перед Парижем, также будет в Лондоне. Таким образом, обстоятельства складываются весьма благоприятно для того, чтобы я смог благополучно переслать тебя в Париж.
— Но зачем, дядя Юрий?
— Затем, чтобы Вадим поместил там тебя в подобающее учебное заведение. Не делай виду, что слышишь нечто для себя новое. Это обсуждалось между нами еще перед отъездом из Лондона: тогда я все-таки решился взять тебя обратно в Петроград, как понимаю теперь, делать этого решительно не следовало.
— Я никуда не поеду.
— Ты поедешь с мистером Грэем до Лондона, а оттуда — с Вадимом в Париж.
— Объяснитесь, дядя Юрий: я хочу знать, отчего Вы вдруг сочли это необходимым.
— Не «вдруг». Тутти. Раньше это просто не представлялось возможным.
— Раньше не представлялось возможным, а сейчас не имеет смысла. — Тутти, со странным контрастом между детскими чертами и взрослым выражением лица, говорила спокойно, не переставая при этом что-то подчеркивать в тетради — без линейки, на глаз, получалось довольно криво. — Я ведь уже привыкла ко всему, что могло бы напугать любую другую девушку моего возраста, дядя Юрий. Ведь так?
— Так. И все же смысл в этом есть.
— Так в чем же он?
— В твоей тетради.
Девочка подняла на Некрасова недоумевающие глаза.
— Дай ее сюда. Кстати, почему так криво начерчено?
— Я потеряла линейку.
— Очень неряшливо выглядит, но ладно. А что же обозначает собой этот чертеж?
— Домашнее задание.
— По какому предмету?
— Вы же знаете, дядя Юрий, что у нас нет предметов. На завтра задали воду.
— Какую воду?!
— Вода как природное богатство, вода как политическое явление, использование воды человеком…
— Объясни, Бога ради, каким политическим явлением может быть вода?
— Тут имеется в виду, что существуют водные границы между государствами, и так далее. — Тутти криво улыбнулась. — Какого-нибудь медведя или крокодила значительно труднее так рассматривать.
— А медведя или крокодила также необходимо рассматривать как политическое явление?
— Тут три графы: природное богатство, политическое явление и использование человеком.
«А ведь еще в прошлом году этого не было: впрочем, чем дальше в лес, тем больше дров, во всяком случае там, где все большую власть забирает ограниченная неряшливая мадам с вытаращенными от базедовой болезни светло-голубыми глазами…»
— Но если ты останешься здесь и пойдешь в старшие классы — этот подход изменится? Вы будете учиться по предметам?
— Нет, — неохотно, но твердо ответила Тутти, начинающая понимать, куда клонит Некрасов. — Не изменится. Но я же не слушаю всего этого — я сижу на уроках и о чем-нибудь думаю.
— Однако ты не становишься при этом образованнее.
— Образованнее я становлюсь с Вашей помощью. Ведь с этим Вы не будете спорить?
— Я не спорю — время от времени ты узнаешь от меня что-нибудь новое — то одно, то другое, но называть это образованием, значит — издеваться над самим смыслом этого слова. Образование подразумевает не случайность, а систему, не беспорядочность, а равномерность. Наше с тобой общение может служить только дополнением к образованию, но никак не его заменой. Сделать тебя образованным человеком способны только люди, специально посвятившие себя этой задаче, только педагоги, и в этом — культурные устои общества. Ты и без того уже отстала от своих сверстников, нет, разумеется, не от этих! — поспешно отвечая на гневный протестующий жест Тутти, произнес Юрий. — А от тех, кто получает систематическое образование. Мне сдается, что ты легко их нагонишь. И еще — думается, ты видела уже достаточно необразованных фанатиков и достаточно взросла для того, чтобы понять, что они одинаково ужасны с обеих сторон.
— Я поеду, дядя Юрий, — девочка поднялась из-за стола и с гордо поднятой головой, обойдя Некрасова, вышла из комнаты: Юрий услышал, как ее неторопливые шаги сразу же за закрывшейся дверью сделались быстрыми, бегущими. Затем хлопнула дверь ванной.
5
Попрощавшись с Гумилевым, Борис поспешно направился в сторону Миллионной: примерно через полчаса он уже отпирал ключом дверь своей квартиры.
…Комната ответила на его появление как-то звонко прозвучавшей пустотой — по звуку этой пустоты Борис, как всегда безошибочно, определил, что мамы не было дома еще с утра: чтобы так звучать, комната должна была пережить без человеческого присутствия день и встретить начинающийся вечер… Комната часто звучала теперь пустотой: минувшая зима еще в своем начале унесла сначала бабушку, а через две недели — вслед за ней — умершую от крупа семилетнюю Катю.
Обед лежал, приготовленный для него с утра, на покрытом темно-синей скатертью столике — мелкий картофель в мундире, угадывающийся под прикрывающей плетеную хлебницу салфеткой дневной паек.
И было, как всегда, немного не по себе притрагиваться к еде, пролежавшей день в неподвижной пустоте комнаты… Впрочем, на этот раз Борис тут же подавил в себе болезненную фантазию: взгляд на еду вызвал неожиданно прорвавшийся наружу голод. День действительно был напряженным — школа, «Диск», квартира Тихвинского…
В мамино отсутствие можно было позволить себе недопустимую, но удивительно приятную вольность: взять наугад с полки первый попавшийся том Дюма и почитать за едой… Впрочем, стрелка часов подходила уже к восьми: времени не оставалось даже на то, чтобы разогреть чаю.
«Мама! Я приду сегодня поздно — пожалуйста, не тревожься, я у Ильиных».
Написав последнее слово, Борис немного помедлил, прежде чем подписать записку, в который раз за день увидев перед собой лицо Таты — лицо того привычного Санкт-Петербургу, и только Санкт-Петербургу, типа женской красоты: черные неблестящие волосы — тонкие и прямые, невысоко собранные в простой греческий узел на затылке, оттеняющие белизну открытого лба, тяжелые веки, немного острый подбородок, маленький рот — лицо утомленное, бескровное, милое… И, в который раз за день, в ушах прозвучал мягкий и властный, убеждающий голос Даля:
«Не отчаивайтесь, Борис, поймите — в нынешнем ее душевном состоянии даже слабый проблеск внимания к Вам можно всерьез воспринимать как настоящее проявление любви… Она сейчас любит Вас, любит, Борис, но как бы… на другом языке. Это очень трудно понять, но для ее блага необходимо, чтобы Вы это понимали».
6
Дверь открыла Тата: вечерняя, так непохожая на дневную — школьную: строже, изысканней, проще, чем в школе, — черная узкая юбка, белая блузка, скромная брошь под воротничком-стойкой, пушистая серая шаль на плечах.
— Ты — первый.
— А кого ты еще ждешь?
— Сегодня — еще только Андрея и, может быть, Лялю.
— Ее сегодня не было в школе.
— Поэтому я и говорю — может быть… Не снимай куртки — холодно.
— Не холоднее, чем прошлой зимой во Всемирке… — Повесив куртку, Борис прошел вслед за Татой в промозгло-холодную гостиную, полутемную из-за задернутых портьер: разумеется, название «гостиной» после уплотнения квартиры Ильиных стало условным, но в прежние времена комната была ею.
— Так что же? Ты хочешь сказать, что ты и там ходил без куртки?
— Не я… Нет, представь себе: торжественный вечер, изо рта — пар, все толкутся в шубах и валенках, на Блоке — лыжный свитер, Чуковский укутан по самые усы… Вдруг появляются: Гумилев — под руку с дамой — не помню, кто с ним был, кажется — Одоевцева… На Гумми — безукоризненный смокинг, Дама — в декольтированном платье… И ведут себя так, словно все вокруг одеты точно так же, словно нет холода и вообще ничего не случилось… Ходасевич тогда так и сказал — будто Гумми этой выходкой заявил: «Ничего не случилось. Что — революция? Не знаю, не слыхал».
— Надеюсь, его дама не простудилась?
— Не в этом дело, Тата.
— К сожалению, в этом, Борис. Ну скажи, не обидно бы им было простудиться, и, при том положении, в которое мы сейчас поставлены, очень легко умереть — в общем-то, умереть из-за глупости? Это невероятно, что в человеке, который прошел через столько сражений, так часто, чтобы не сказать — почти постоянно, проглядывает какой-то безрассудный, беспечный мальчик… Мне кажется, вы его все за это и любите. Весь ваш «Диск» словно бы девизом взял нечто вроде «Отдать жизнь не жаль, если это красиво смотрится».
— При том, что наши, г-м… оппоненты употребляют слово «эстетика» в виде ругательного, это не так уж и глупо…
«Это хорошо, что она спорит… Николай Владимирович говорил, что надо стараться все-таки втягивать ее в споры…»
— О, даже по стуку ясно, что это Шмидт.
— И, как всегда, минута в минуту. Андрей устроен не так, как мы, простые смертные, у него в самый мозг вмонтированы швейцарские часы «Омега».
С губ выходившей уже в переднюю Таты спорхнула слабая улыбка — это было само по себе очень много:
Тата далеко не всегда улыбалась шуткам.
— Надеюсь, я не опоздал? — Андрей повесил куртку рядом с курткой Ивлинского.
— А разве ты можешь опоздать? — слабо улыбнулась Тата: вопрос Андрея забавно перекликался со словами Бориса.
— Вероятно, могу, впрочем, не знаю — не пробовал.
— Андрей… послушай, мне хотелось у тебя спросить: что было с Борисом сегодня в школе? Мне он все равно не скажет. Если можешь — скажи ты.
— Не могу, Тата, извини, — твердо проговорил Андрей, задерживаясь вместе с Татой в дверях.
7
…Что было? Да, собственно, ничего и не было. Шел второй урок: снизу, из рекреационного зала, доносились звуки расстроенного пианино и звонкие голоса.
Неожиданно Борис поднял руку и, побледневший, с трясущимися губами, попросил у старенькой Эммы Львовны разрешения покинуть класс. В то мгновение, когда дверь хлопнула за выбежавшим Борисом, в руках стоявшего у доски Андрея Шмидта сломался и без того маленький кусочек мела…
— Борька, что с тобой?! — Коридор был пуст, и Андрей позволил себе встряхнуть друга за плечи.
— Я не смог… сдержаться, — уже взявший себя в руки Борис криво усмехнулся. — Понимаешь… это похоже на… аукцион в родительском доме.
— Ты о чем?
— Послушай! — Борис кивнул в сторону прикрытых дверей в зал.
— Ничего не понимаю… У малышей пение.
— А что они поют, ты слышишь?
— «Картошку», — Андрей недоумевающе пожал плечами.
— А ты помнишь слова «Картошки»? — настойчиво продолжал спрашивать Борис.
— Конечно. «Здравствуй, милая картошка-тош-ка-тошка, Наш ребячий…» Что?
— «Комсомольский идеал-ал-ал!» — отчетливо донеслось из зала.
— С каких это пор?
— Это песенка нашего детства, Андрей… Помнишь, пикники, костры, голубые галстуки? Эту детскую песенку еще недавно напевала покойная Катя… Они, понимаешь, они перекраивают все с чужого плеча, что только могут перекроить… А что не могут — уничтожают. Это — воровство. Конечно, я не должен был срываться из-за такой ерунды. Не знаю, что на меня нашло, — выскочил у всех на глазах, как мальчишка… Да еще то, что ты сорвался за мной, — ты, конечно, не мог знать, что это из-за такого пустяка. Но представляю, как это все выглядит…
— Никак особенно не выглядит. — Андрей улыбнулся. — Ты мог плохо себя почувствовать, а я, кстати сказать, вышел вовсе не за тобой, а за мелом. Так что выбрось из головы — это просто нервы. С кем не бывает.
— Думаю, что с тобой.
Мальчики негромко рассмеялись, взглянув друг на друга.
— Привет, Шмидт!
— Удивительно неожиданная встреча… На чем я прервал разговор?
— На благоразумии, которого начисто лишен «Диск»… Понятно, имеется в виду наша часть «Диска».
— На мой взгляд, «Диск» — заведение предельно благоразумное.
— Неужели? — с легкой насмешливостью протянула Тата.
— В этом не может быть ни малейшего сомнения, — Андрей откинулся на спинку кресла. — Дело в том, что слово «благоразумный» семантически означает то, что разумом направляется ко благу.
— Вот именно.
— А скажи, благоразумны ли дуэли? Или, не будем брать наши дни, благоразумны ли были рыцарские турниры прошлого? С одной стороны, какое может быть заложено благоразумие в том, что жизнь подвергаются риску из-за улыбки дамы? Но если отрицать турниры, то отрицается само служение Прекрасной Даме. А без служения Даме делается невозможным дух рыцарства, а если бы рыцарство не существовало как явление и понятие, это была бы моральная потеря для рода людского, причем — немалая. Благоразумие не всегда рационально… Сервантес не высмеивал понятия рыцарства. Дон Кихот — это воплощенное благоразумие… Для зари подлого века нет ничего более грозного, чем бессмысленный меч Дон Кихота, ибо он поднимается над реальностью там, где без него она торжествовала бы. Ergo, нет ничего благоразумнее «Диска».
— Хорошо, г-н знаменный рыцарь, Вы убедили меня в том, что ходить в нетопленом помещении во фраке просто необходимо… Еще немного, и я догадаюсь, что Ваш меч посвящен какой-нибудь Прекрасной Даме, берегитесь!
— Не скрою, сударыня, что Ваша догадка близка к истине: мой меч посвящен и… освящен.
Рука Андрея, словно невзначай коснулась кармана брюк: перехватив взгляд Бориса, Андрей слегка кивнул другу. Каждый понял, о чем подумал другой.
«Мечи» были освящены: зимой мальчики ходили в Кронштадт — отнести к отцу Сергию Путилину освятить «смитт и вессон» Бориса и браунинг Андрея. Идея шла, против обыкновения, не от увлекающегося Ивлинского, а от уравновешенного хладнокровного Шмидта. «Иначе — как мы предохраним себя от неправого выстрела?» — сказал тогда он, изложив свой план Борису. Это оставалось тайной — мужской рыцарской тайной двоих. Но была и еще одна, связанная с оружием, тайна — она принадлежала одному Андрею.
…Если тебе пятнадцать лет — ты, несмотря ни на что, воспринимаешь жизнь как початую бутыль неизведанного питья: в первых глотках — самозабвенная жадность первого утоления… Ты ощущаешь уже горький привкус, но как бы горек он ни был, первое утоление жадно — это закон початой бутыли… Если тебе пятнадцать лет, ты благодаришь жизнь, даровавшую тебе опасность, ибо в ней — захлеб первых глотков…
Если ты еще не убивал, твое пятнадцатилетие дарует тебе сладостную тревожащую связь с оружием, лежащим в твоем кармане…
Если тебе двадцать лет, и последние три года из них ты убивал — подлинной действительностью для твоей раненой души являются Древний Египет и магические ритуалы Заратустры, а действительность мнимая знает свое место — она может убить тебя, но не может вступить в твое святая святых.
Борис и Андрей не поняли бы Женю и Сережу… ПБО — изматывающий, тяжелый долг Жени Чернецкого — была увлекательной, волнующей игрой Бориса Ивлинского и Андрея Шмидта…
— Кстати, ты знаком с Чернецким?
— Нет, то есть кое-что о нем знаю, но никогда не встречался.
— Ты случайно не знаешь, кто он?
— Нет. Почему ты спросил?
— Так… Знаешь его кличку?
— Конечно. Мельмот. Странного же о нем, однако, мнения в ПБО, если дали такую кличку.
— В ПБО о нем действительно странного мнения, Андрей. Понимаешь, никто никогда не слышал от него хоть незначительного упоминания о семье, родных, месте, где он родился, ничего… Хотя он довольно разговорчив.
— Ну и что в этом такого?
— Нет, ничего. Но, понимаешь, ничего применительно к кому-либо другому, но не к нему. В «Диске» ходит легенда, что Чернецкой вообще нигде не родился… Отсюда и пошло — Мельмот.
— Занятно. О, кто бы это мог быть?
— Вероятно, Ляля. — Тата снова вышла из комнаты. — О, вот это неожиданность! — послышался ее голос из передней.
Вслед за Татой в комнаты вошел высокий светловолосый юноша с красивым нервным лицом, нехорошую помятость которого, казалось, подчеркивал бархатный бант на безукоризненно белой сорочке, воротнички которой лежали поверх черной «музыкантской» куртки.
— О! Вот уж кого мы давненько не имели счастья лицезреть… Привет, Вербицкий!
— Захотелось всех вас повидать вне школы.
— Можно подумать, ты так часто бываешь в школе.
— Редко. Шмидт, я, помимо всего прочего, пришел поблагодарить тебя.
— Не за что. Митька, если бы ты понял одно, я был бы очень рад: в другой раз обшаривать все сволочные кабаки по твою душу я не стану. Это может продолжаться до бесконечности: нет ничего более глупого, чем спасать того, кто прочно вознамерился себя угробить.
— Митя, не нюхай ты этой мерзости!
— Ну вот, дождался дружеской встречи… — с шутливой обидой протянул Митя Вербицкий, забираясь в глубокое кресло в углу. — Кстати, я видел Владика Чецкого — он сегодня собирался.
— Ладно, не уводи разговор. Уж коль скоро ты сегодня сюда попал, живым мы тебя не отпустим. Знаешь, почему ты стал нас избегать?
— Знаю, Боря, можешь не объяснять. Все я знаю. И мне действительно не хочется, чтобы мне слишком часто напоминали о том, что я качусь ко всем чертям, извини, Тата.
— Избил бы я тебя — так, чтобы все выколотить,
да боюсь, убью ненароком, в тебе ведь в чем душа сейчас держится…
— Ничего бы, Андрей, не выбил — кроме разве действительно души… Дело объясняется очень просто: первое, я — это не вы, а второе — я при этом тоже не могу просто так.
— То есть?
— Шмидт, ты мог бы мне доверить какие-нибудь ваши заговорщические дела?
— Нет.
— Звучит до неприличия недвусмысленно, но ты совершенно прав. Видишь сам: вы с Борисом спасаетесь от того, что вокруг, тем, что против этого боретесь, а из меня борец никакой… Так если вы, в двадцать раз сильнее меня, не можете жить как ни в чем не бывало, просто жить, то можно ли это от меня требовать? Каждый спасается как может. Я — тем, что гибну. И вообще — где моя шпага?! — Вербицкий рассмеялся и вскочил на ноги.
Это развлечение было забыто довольно давно, еще задолго до того как Митино появление на средах у Таты стало редкостью. Увлечение фехтованием, охватившее некомсомольски настроенную мужскую часть группы «А» началось весной двадцатого года, когда на чьих-то антресолях была случайно обнаружена связка шпаг.
— А правда, Тата, они еще сохранились?
— За буфетом, достань.
Борис вытащил из-за буфета три железные шпаги с расшатанными гардами, разумеется, без предохранительных наконечников.
— Моя… Шмидта… Митьки…
— Вызываю Шмидта! — крикнул Митя, подхватив брошенную Борисом шпагу.
— Принимаю! Только пошли все в прихожую — здесь все полетит. — Андрей вытащил из кармана браунинг и положил его на журнальный столик, на всякий случай закрыв Татиным альбомом.
— Заряженный, что ли?
— Ага. Пальнет еще… Пошли!
Андрей признанно фехтовал лучше всех, что отчасти объяснялось его хладнокровной манерой. Разный темперамент противников сразу же бросился в глаза: в то время как Митя перешел в наступление, не доведя салюта, Андрей четко отсалютовал противнику, однако же наступать начал одновременно с Митей.
Шпаги сшибались и звенели в полумраке прихожей.
Борис и Тата стояли в дверях, наблюдая за поединком. С самого начала было ясно, что верх возьмет Андрей: он начал уже зажимать Митю в угол, когда снова раздался звонок.
— О, а это Чецкий!
— Погоди, Тата, не открывай, — со смехом крикнул Борис, давно уже изнывавший с опущенной шпагой в руке, — госиода, давайте устроим ему «стальной свод»!
— Стальной свод!
— Стальной свод!
Разгоряченные борьбой Митя и Андрей вскинули свои шпаги к поднятой вертикально на вытянутую руку шпаге Бориса.
— Теперь открывай! — сдерживая смех, проговорил Митя.
…Тата испуганно отступила назад перед распахнувшейся дверью.
— Видали? — торжествующе произнес Васька Зайцев, обращаясь к Вальке Волчковой, Саше Гершу и Витьке Кружкову, быстро вошедшим следом. — Видали, чем занимаются?!
— Вконец задвинулись, контра…
— Чем бы мы ни занимались, — спокойно произнес Андрей, заводя шпагу за спину, — вас сюда никто не звал.
Спокойствие было напускным: Борис и Митя видели, что Андрею до омерзения противно, — противно было сознание того, что враги увидели что-то сокровенное, то, чего им нельзя было видеть. Они чувствовали то же самое.
— А мы к вам не по приглашению на ваши контриковые вечеринки! Мы проводим рейд — как живет в нешкольное время наша группа, понятно?
— Комсомольский рейд, уразумел, Шмидт?
— Тата, нам вытряхнуть этих наглецов?
— Не надо, Боря! Мальчики, прошу вас, не связывайтесь с ними. Пусть зайдут.
Не сговариваясь, демонстративно закрывая Тату, как будто от прикосновения чего-то нечистого, Борис, Митя и Андрей прошли обратно в гостиную вместе с так неожиданно возникшей в квартире ячейкой.
— Погоди, Борис, говорить с ними буду я. Никто здесь не является ни комсомольцем, ни сочувствующим. Таким образом, мы решительно не видим прав, которые позволяли бы вам контролировать наше свободное время.
Они стояли друг против друга: свободное пространство между двумя компаниями являлось какой-то своеобразной границей; разделяющая их так явно вражда уже не была детской — она выросла вместе с ними.
— Неплохо придумал, по-твоему, рейды по ресторанам — это тоже проверка комсомольцев?
— Постой, Зайцев. — Саша Герш поправил очки. — Видишь ли, Шмидт, мы с вами живем в советском государстве с рабоче-крестьянским правительством. Мы представляем из себя его сознательный аппарат, в то время как вы являетесь в лучшем случае оппозицией. И тот контроль, который мы проводим в настоящий момент, отличается от контроля внутри комсомольской организации тем, что это не добровольный контроль, а, если хочешь, даже принудительный…
— Иными словами — вы боитесь не успеть в тюремные надзиратели? А ведь тебе стыдно, Герш, ты — интеллигентный человек.
— Сущность интеллигенции классова.
— Сашка, да чего ты с ним распинаешься? А вот это надо непременно отразить в стенгазете — альбомчики с розочками! — Валька кивнула Зайцеву на столик: альбом лежал, как положил его Андрей — раскрытым на сделанном в карандаше наброске букета.
Снова послышался звонок, но его услышала только тихо выскользнувшая в переднюю Тата.
— А хорошее название для статьи — «Мушкетерщина и альбомчики»? Ну-ка!
Андрей, поздно вспомнивший свою оплошность, стоял слишком далеко: в следующую секунду синий альбом явно перестал интересовать Ваську Зайцева, взявшего его в руки…
— Эх!!
— Неплохо….
— Потише, Зайцев! Убери руки от браунинга — успею разрядить! — звонко произнес Борис, выхватив «смитт и вессон».
На секунду растерявшийся Зайцев приободрился.
— Ну и что?! Во-первых, при своей кисейной барышне вы не станете стрелять — это раз, во-вторых, всех не успеешь, Ивлинский, кто-нибудь да останется, а кругом — советская власть! Так что мы-то отсюда спокойно уйдем, а вот вы отправитесь вслед за вашим Алферовым, которого мы еще тогда раскусили! Держи-держи свою пушку… — Васька рассмеялся. — Что вы можете сделать — а ни-че-го!
«Он прав», — прозвенело в странно опустевшей голове Бориса.
— Что здесь происходит, молодые люди? Рядом с Татой в дверном проеме стоял, держа в
руке черный докторский чемоданчик, высокий худой человек с седыми волосами.
Для того чтобы понять все, Далю достаточно было одного взгляда… Браунинг на столике, альбом в руках комсомольца, напряженные лица мальчиков, «смитт и вессон» в руке Бориса…
— А Вы кто такой? — спросила Валька.
— Я, девушка, врач и пришел к своей пациентке, которой, боюсь, не идет на пользу разыгравшаяся сцена. Нельзя ли ее прекратить?
— Не валяйте дурака, — грубо ответил Кружков, — будто не знаете, что хранение оружия пахнет расстрелом?
— Вот как? Но, полагаю, в том случае, когда властей кто-то ставит о таковом в известность?
— Вы что думаете, мы не поставим?!
— В самом деле поставите?
— Еще бы!
— Вот как… Ну а это с вашей точки зрения является предосудительным? — Даль, неожиданно схвативший с дивана брошенную Борисом шпагу, вскинул ее вверх, невольно повторяя недавний Митин салют Андрею. Лезвие блеснуло в луче лампы. — А ну-ка СПАТЬ! СПАТЬ… И Вам, юная леди… и Вам, молодой человек — тоже… СПАТЬ… СПАТЬ… Я кому сказал, юноша?.. Спать…
Валька Волчкова, не сводя округлившихся глаз со шпаги в руке Даля, неуверенно вытянув впереди себя руку, подошла к дивану и медленно села.
— Не смотрите на шпагу, — шепнул Андрей, загораживая Тату, испуганно зажавшую ладонью рот.
Зайцев и Кружков сели рядом с Валькой. Герш медленно и тоже с какой-то странной осторожностью, опустился на стул.
— Благодарю… Взяли бы Вы свое грозное оружие, Андрей… От Вас не ожидал я такой беспечности… Ответьте-ка мне, молодой человек, помните Вы, что сейчас было?
— Нет… — Голос Саши Герша прозвучал с какой-то теневой невыразительностью.
— Вас здесь не было. Вы были в этой квартире?
— Нет…
— Она была закрыта. Почему вы в ней не были? Вы, девушка!
— Дверь была… закрыта. Мы прошли… мимо.
— Вы звонили в дверь. Никто не открыл. Вы, вероятно, позвонили прежде в дверь? Вы!
— Да, мы звонили… Но никто не открыл… И тогда мы пошли… дальше…
— И Вы тоже помните это?
— Да…
— Вы никогда меня не видели. Вам приходилось когда-либо встречаться со мной?
— Нет…
— Превосходно-превосходно… Андрей, вспомните-ка быстро, что сейчас нужно от них узнать для вашей безопасности?
— Не для нашей… Можно мне, Николай Владимирович? Спросите их об Алексее Даниловиче — они что-то говорили…
— Хорошо, Борис. Что Вы можете сказать о покойном директоре школы — Алексее Даниловиче Алферове?
— Нас очень хвалили… за него… товарищи в ЧК… Не так-то просто было… его выследить… Мы дежурили по очереди…
— Кто сообщил об Алферове в Чека?
— …Я …Валька …Сашка …Мы говорили с товарищем Абардышевым…
— Достаточно, спасибо. Сейчас я провожу вас до дверей и еще раз напомню, что они были заперты, — Николай Владимирович, небрежно игравший шпагой Бориса, отшвырнул ее в угол комнаты.
Когда Даль вернулся, Борис сидел на стуле, уронив голову на руки. Тата плакала: слезы текли и по щекам успокаивающего ее Мити. Андрей, стоявший посреди комнаты со скрещенными на груди руками, был до серого бледен.
— Да, друзья мои… Никуда не деться от того, что причиной гибели Алексея Даниловича послужили эти несчастные глупые дети.
— Кто-нибудь из которых будет сегодня ночевать в канале.
— Вам не стыдно, Андрей?
— Не понимаю, Николай Владимирович, отчего Андрею должно быть стыдно?! Алексей Данилович… да если перебить всех этих красных собак, это все равно будет мало за Алексея Даниловича!
— Алексей Данилович не порадовался бы сейчас на Вас, Борис.
— Но его с нами сейчас нет, Николай Владимирович!.. И нет — из-за них… Николай Владимирович, даже я сейчас мог бы… убить!
— Успокойтесь, Митя!
— Николай Владимирович, дорогой, объясните им — они такие злые… Объясните им, что нельзя, все равно нельзя быть такими злыми, как они!..
— Тогда мы сделаем вот что. — Даль вытащил из внутреннего кармана паркеровскую вечную ручку и наклонился над столом. — Подайте мне лист бумаги, Андрей. Благодарю. Теперь, милые юноши, смотрите сюда! Прежде всего мы возьмем «ego», неважно чье, допустим, Ваше, Борис, и рассмотрим его в структуре соотношений, приблизительно составляющих вашу личность…
На бумаге появился неровный кружок.
— Вот это самое «ego»… Выстроим его соотношения… Учитывая Ваш возраст, первое соотношение будет, вероятно, таково…
Стремительная линия соединила первый кружок с таким же вторым, в центре которого возникла затем надпись «любимый человек».
— Далее, каждому из вас присущ сугубо индивидуальный набор созвучных вам произведений живописи, музыки, литературы, но несомненное наличие у каждого из вас такового набора можно выделить как общий признак. Поэтому — выявляем следующее соотношение…
Стрелка соединила кружок «ego» с кружком, озаглавленным «искусство».
— Ну, и разумеется, независимо от отрицания или принятия…
Следующий кружок получил название «религия».
— А вот зачем я вношу это, вам сейчас покажется не особенно понятным, поймете потом… «Взгляды и принципы»…
— И хотя это, конечно, не исчерпывает системы соотношений, остановимся на том, которое вызвано происходящим вокруг в данный момент…
«Революция»…
— А теперь я нарисую второй чертеж, который и объяснит вам, для чего, собственно, мне понадобился этот первый… Я хочу, чтобы вы сравнили эти два чертежа Смотрите!
На бумаге снова возник кружок «ego». Горизонтальная стрелка соединила его с кружком «революция»… Посередине между кружками от стрелки опустился перпендикуляр, закончившийся третьим кружком, в котором появилась затем надпись: «Все остальные соотношения, воспринимаемые через контекст этого».
— Все, милые юноши! Как врачу мне значительно более вашего доводится иметь дело с революционной комсомольской молодежью… Обратите внимание, в вашем случае соотношение «я и революция» — это только одно из многих соотношений, совокупность которых составляет вашу личность. На втором же рисунке — это гипертрофированное соотношение является единственным, и оно диктует характер остальных соотношений… Они не могут ни прочитать романа, ни посмотреть спектакля, не классифицировав при этом персонажей в контексте классовой борьбы… Покажите им Шекспира — они уйдут с «Исторических хроник» с выводом, что в Англии эпохи Плантагенетов не сложилась революционная ситуация, да и не могла сложиться ввиду отсутствия пролетариата как класса… Дурак Луначарский вопиет, что они тянутся к мировой культуре: лучше бы не тянулись при том, как они ее воспринимают! Владислав Фелицианович, кстати, убедился в бессмысленности работы в «Пролеткульте»… А их любовь? Я собственными ушами слышал, как один молодой человек, рассказывая о своей даме сердца, сказал, что любит ее больше всего на свете, и тут же добавил: «Кроме, конечно, мировой революции!» Невероятно? Трудно поверить? Еще факт — я лечил одного юного красного командира (учить и лечить надо всех, молодые люди!), у него тяжелое осложнение после небрежно залеченного на фронте ранения… Начавшийся процесс грозит сделать его калекой… Так вот, когда я вывел диагноз, от этого мальчика ушла его девушка, комсомолка, активистка всяческих этих молодежных дел… Нет, ей не так легко было это сделать — она плакала, переживала, но — ушла… Почему? Потому, что пришла к выводу, что, связав свою жизнь с человеком, прикованным к постели, она уже не сможет действовать в полную силу как нужный партийный работник… Надо сказать, ее уход основательно его подкосил… Я потратил на него довольно много времени: положение несколько дней было угрожающим… Как большинство тяжелых больных, он делился со мной своими мыслями. И знаете, что меня более всего поразило? Он находил ее поступок совершенно правильным. Он не понялпредательства и переживал только о том, что заболел. Вот — их любовь. Теперь — их взгляды и принципы. Если, к примеру, Вы, Андрей, полагаете, что можете совершить дурной поступок, долженствующий принести Вам выгоду, то вот она — схема, взгляните, можно сделать вывод о том, что Вы — человек психически нормальный, но дурной… В рамках же второй схемы хороший и добрый человек не задумываясь совершит дурной и даже очень дурной поступок потому, что понятий «хорошо» и «плохо» для него вообще не существует без контекста революции… Да неужели вам не понятно, молодые люди, что вторая схема, в отличие от первой, рисует ужасную картину психической аномалии. Не знаю, как назвать это отклонение… Рабство сознания… Кстати, для того чтобы быть рабом революции, отнюдь не непременно надо быть ее сторонником… Я наблюдал один случай — некий почитающий себя нормальным господин, ярый антисемит, не мог пробеседовать и получаса, чтобы не свернуть разговора на евреев… Можно зависеть от советской власти и ненавидя ее. С вами этого, к счастью, не произошло… Думаю, что большинство из вас при необходимости отдаст жизнь за победу контрреволюции, но свою индивидуальность вы оставляете себе. Вы психически здоровы, мои милые! Так отвечайте, Андрей, Борис, Дмитрий… не нелепа ли ваша ненависть к людям, которых и без того искалечили и, искалеченных, используют в грязном деле?! Меньше ненависти, мальчики. — Даль мягко улыбнулся, сбрасывая напускной гнев.
По лицам молодых людей Даль понял, что этот бой, в действительности не менее важный, чем первый, тоже выигран.
— Вы, вероятно, самый необыкновенный врач в России, Николай Владимирович! — с восхищением глядя на Даля, произнес после некоторой паузы Борис.
— Если хотите знать правду, — ответил смеясь Даль, — в России есть сейчас врач, мне посчастливилось быть с ним знакомым по сотрудничеству в «Медицинском вестнике», в сравнении с которым ваш покорный слуга покажется в лучшем случае неумелым мальчиком-студентом первого курса медицинского факультета. Отечественная медицина грядущих веков едва ли увидит равного ему врача — такие, как он, являются раз в несколько столетий… И, дорогие, милые мои дети, этот человек находится сейчас в очень большой опасности.
8
«Яков Христофорович!
Срочно зайдите к тов. Дзержинскому».
Петерс в сердцах смял записку.
Разумеется! Дня не прошло по приезде в Москву, а сукину шляхтичу история известна уже во всех подробностях… История — скверней некуда. Если бы порученное дело провалил таким позорным образом начинающий чекист — десять против одного, что кончилось бы трибуналом… А тут, на потеху честному народу, оскандалился зампред ВЧК, и еще как оскандалился…
И уж во всяком случае, Петерсу не хотелось говорить об этом провале с предом…
Как и многие другие, Петерс старался по возможности избегать личных контактов с Дзержинским, подсознательно отвращаясь от того отсутствия живого эмоционального взаимодействия в общении, которое всегда угнетало собеседников преда. Попытки войти в это естественное взаимодействие всегда отскакивали от какой-то невидимой стены, окружавшей Дзержинского. Подтянутый, всегда бесстрастно ровный в общении, он, казалось, не страдал от отсутствия дружеской близости с товарищами по работе. Большевики, знавшие преда еще по подполью, и только-только проклюнувшиеся из совпартшкол «молодые кадры» ощущали эту невидимую «стену» в общении с Дзержинским одинаково — разницы не было никакой. Общение с Дзержинским было втайне тревожаще-неприятно даже давно знавшим его людям, тем более — разъяснения по поводу допущенных ошибок… Но другого выхода не оставалось.
— Звали, Феликс Эдмундович?
— Да, Яков Христофорович. Меня интересуют реальные обстоятельства прецедента в Ташкенте. Должен отметить, что имеющиеся у меня сведения выглядят… просто неправдоподобно, Яков Христофорович.
— Очень может быть, очень может быть, Феликс Эдмундович… Только объяснять мне нечего, убейте меня — сам ничего не понимаю…
— Как же так, товарищ Петерс?
— И на старуху бывает проруха: вон Вы-то как доверились тогда понапрасну этим сукиным детям эсерам, а, Феликс Эдмундович? Всякое ведь бывает, лучше всего — забудем-ка мы с Вами эту историю…
— Но и, разумеется, позаботимся о том, чтобы нелепыми слухами не компрометировать организацию. Думаю, что за распространение нелепых слухов о Вашей поездке в Ташкент необходимо строго наказывать, не так ли, Яков Христофорович?
— Совершенно с Вами согласен, Феликс Эдмундович.
9
От одуряющей жары спасал только зеленый чай — действительно приятнейшая вещь: обжигающе горячий, крепкий, со своеобразным запахом…
— Ну духота… Как в бане тут у вас, товарищ Зуркин. — Полномочный представитель ВЧК в Туркестане Яков Петерс отставил полосатую яркую пиалу. — Есть материалы какие-нибудь по этому делу?
— Да вот, товарищ Петерс. — В восточном, юношески чистом лице собеседника зампреда проступил румянец смущения. — Я собрал тут кое-какие материалы, но не знаю…
— Давай-давай, парень, выкладывай, поглядим! — ободрил Петерс. — Я так понимаю, что основное сопротивление живоцерковникам идет от этого попа Воино-Ясенецкого…
— Совершенно верно, товарищ Петерс. Причем — налицо сговор с московскими попами… Удалось установить, что какое-то очень высокопоставленное лицо из Москвы прибывает в Ташкент и, ни с кем не видясь, сразу отправляется в городскую больницу…
— Что за черт?! Почему в больницу?
— К Воино-Ясенецкому.
— Он что — болен?
— Нет… Вы не знаете еще? Ведь Воино-Ясенецкий — главный врач городской больницы.
— Поп — и врач?
— В том-то и дело, товарищ Петерс, что Воино-Ясенецкий еще несколько месяцев назад не был никаким попом! Это после этого странного визита из Москвы он на следующее утро пришел на работу не в пиджаке, а в рясе. Весь персонал отпал… А он — как ни в чем не бывало оперировал до конца рабочего дня… А потом, сразу из больницы, отправился прямиком к главному собору.
— Как, у вас главный собор не закрыт?!
— Был закрыт. Замок висел — пудовый. Так он взял этот замок — голыми руками — раз, и нету… Вошел в собор, ну и несознательная часть населения — за ним… Набились, яблоку упасть негде. И начал служить — всю службу — один. После службы — проповедь самого реакционного содержания. Кто, мол, пойдет к живоцерковникам — отлучу! И что-то еще насчет морали…
— Так… Типичный Тихоновский ставленник. Как ситуация сейчас?
— У живоцерковников — шаром покати. Не идут: Воино-Ясенецкий запретил.
— Неплохо… При советской власти — в городе завелся полновластный диктатор… Очень хорошо! Надо думать, он и прежде, до того, как попом стал, был замечен в контрреволюционных настроениях?
— Неоднократно. У него, например, в операционной висит икона. Естественно, было распоряжение снять. Сняли. Приходит Воино-Ясенецкий на работу — иконы нет. Так что он тогда делает? «Я, — говорит, — как главный врач, отказываюсь в такой операционной оперировать сам и запрещаю всем хирургам». Полдня проходит — все операции прекращены…
— Ну распоясался докторишка! И что? Стал-таки оперировать без иконы?
— Нет… Во второй половине дня привезли жену товарища Волгина, с тяжелым случаем… Необходима была срочная операция. Понимаете, если его и расстрелять — жену товарища Волгина этим не спасешь… Пришлось повесить обратно.
— М-да… Как же это получается — почему он до сих пор не у вас? Почему нужен мой приезд для того, чтобы забрать этого попа?
— Он незаменимый хирург.
— Незаменимых людей нет, Зуркин… А какой он там хирург — это еще надо разобраться… Пожалуй, и начнем с допросов врачей.
Худощавый молодой человек лет двадцати трех— двадцати четырех в белом парусинковом костюме. Лицо бледное, нервное. Светлые волосы, голубые глаза Тонкие музыкальные пальцы.
— Эттор Дмитрий Осипович? Студент-медик, проходите стажировку в городской больнице?
— Совершенно верно.
— Нас интересует Ваше мнение о главном враче больницы.
— Мое мнение? Это, знаете ли, забавно.
— Без интеллигентских штучек! Отвечайте четко и ясно. Что представляет из себя Валентин Воино-Ясенецкий как врач?
— Вы не медик, поэтому все равно не сможете этого понять… Как хирург отец Валентин… да таких хирургов не бывает! Не бывает, и все. Это сверхъестественно. — Молодой человек негромко засмеялся. — Чтобы Вам было понятнее — расскажу небольшой эпизод, связанный со мной. Когда мне довелось в первый раз ассистировать отцу Валентину, я упал на операции в обморок, как институтка… Оперировали острый живот… Тут нужен большой разрез — ведется тщательно, медленно, чуть-чуть не туда, и будут задеты важнейшие органы… А отец Валентин подошел к пациенту и — не глядя! — полоснул в один взмах… Как мечом рассек… Вечером вызывает меня в свой кабинет. «Что же, — говорит, — у Вас, юноша, нервы для хирурга слабоваты? Не годится… Будете еще ассистировать — покуда не привыкнете к моей манере». Я говорю: «Простите, Бога ради, но я не постигаю — ведь Ваша манера по меньшей мере рискованна! Как Вы не боитесь полосовать по живому, как в анатомичке?» Засмеялся: «Возьмите с полки любую книгу». Я взял Спенсерову «Биологию», протягиваю ему… Берет лезвие. «До какой страницы ее разрезать?» — «До… сто пятьдесят первой». Открывает на первой странице и проводит по обрезу бритвой… «Теперь ищите свою страницу». Нахожу — сто пятидесятая еще надрезана, на сто пятьдесят первой — только вмятинка… Так-то вот. С тех пор я уже на двадцати операциях ассистировал — но до сих пор на его операцию иду как на чудо. Да и не только я — все так.
— Что можете сказать о его политических взглядах?
— Какие бы то ни было показания давать отказываюсь. Не осведомлен в данном вопросе.
Петров Семен Иванович. Коренастый, тучный, потеющий, отдыхивающийся мужчина средних лет с ухватками армейского фельдшера.
— Что Вы можете сказать о Воино-Ясенецком как о хирурге?
— Так Вы за этим меня от больных оторвали? Если Вам, товарищ комиссар, или, извиняюсь, как Вас там величать, делать нечего — то у меня дел по горло… Какой хирург Воино-Ясенецкий? Да у любой бабки на базаре спросите — и та ответит какой. Чем людей отрывать…
— Нас интересует мнение специалистов.
— А что Вы в этом, извиняюсь, поймете? Будь Вы медик, я бы вам и отвечал как медику… А так что я могу сказать? Что если б у него руки были как есть бриллиантовые, и то бы меньше стоили, чем теперь… Таких рук во всей России других нет… От трепанации черепа до операций на глаза — нет такого места, чтобы он не смог прооперировать, во всем человеческом теле… Но тут опять же медиком надо быть, чтобы понять…
— Каковы его политические взгляды?
— Извиняюсь, не интересовался. Еще вопросы будут? Меня больные ждут.
Сухоцкий Иван Петрович. Моложавый, бодрый, желчного склада человек лет шестидесяти пяти. Седая бородка клинышком, элегантная трость. В разговоре — старомодная предупредительность, то и дело немного утрируемая, что ненавязчиво подчеркивает не слишком восторженное мнение о собеседнике.
— Воино-Ясенецкий? О, на отечественном медицинском небосклоне это звезда первой величины, да-с! Крупнейший теоретик — если угодно знать, его еще юношей первейшие российские эскулапы прочили в чистую науку… Он же — почитая себя не в праве зарывать в землю сверхъестественные свои дарования практика — обрек себя на каторжный труд земского врача… Науки, однако, не оставил, да-с… Истинный энтузиаст и хирург от Бога.
— Что Вам известно о его политических взглядах?
— Извините великодушнейше — не интересовался.
— Но может быть, случайно, в разговоре…
— Решительнейшим образом не припоминаю.
— Значит — не припоминаете? И случая, когда Ваш Воино-Ясенецкий отказался лечить комсомольца, вы тоже не припоминаете?
— Отчего же-с, превосходно припоминаю.
— Чем был мотивирован отказ?
— Видите ли… В этом случае мой коллега обнаружил по ходу обследования у пострадавшего не только травму черепа. Имелись еще кое-какие внутричерепные повреждения, делающие хирургическое вмешательство с его точки зрения бессмысленным.
— Тьфу… Сейчас бы кваску холодненького… Дайка мне, кстати, из дела заявление Шапкина.
…«В Ташкентскую ГУБЧК от комсомольского активиста Шапкина В. Д. Заявление. В связи с тем, что главврач горболъницы. Воино-Ясенецкий является контрой и врагом революционного дела — срочно примите революционную меру пресечения. С травмой головы явившись в горбольницу на прием, был спрошен главврачом Воино-Ясенецким В.Ф., как получил. На что было отвечено, что в ходе оперативной антирелигиозной пропаганды упал на голову кирпич (Церковь так называемой Троицы в Гончарном переулке: по дорасчищении территории планируется агитплощадка), на что имел место ответ: «убирайся, дурак, и молись: тебя бог наказал». Таким образом, медицинская помощь мне оказана главврачом горболъницы Воино-Ясенецким В.ф. не была, что можно рассматривать только как акт контрреволюционного вредительства по выведению из строя кадров. С комсомольским приветом
Шапкин В.».
— Заявление двухмесячной давности. Грудами копятся материалы, а этот распоясавшийся поп до сих пор разгуливает на свободе! Врачи, разумеется, в сговоре — заметил, как они темнят? Нет, меня на эти фокусы не купишь… А раз он гнет свою линию открыто — на глазах у всего города, то и пресечь это надо на глазах у всего города… В общем, так: с делом Воино-Ясенецкого надо устроить показательный процесс… Открытый… Само собой, завершение процесса может быть только одно, тут уж ты своих сам натаскивай… Я выступлю общественным обвинителем Да, еще — всех опрошенных хирургов необходимо тоже сегодня же ночью забрать. Как соучастников.
Процесс подготавливался неделю. И наконец, настал день, который Яков Петерс по гроб жизни был не прочь вычеркнуть из календаря…
Несмотря на жару, зал городского суда был переполнен желающими присутствовать на процессе: люди стояли у стен и теснились в проходах между рядами…
Промокая платком лоб, Петерс оглядывал публику, только наполовину состоящую из интеллигенции. Правда, всяческих дамочек в вуальках хватает. Но есть и то, что надо, — например, вот те двое рабочих парней… А хорош же все-таки наглец этот докторишка — подсаженный в камеру чекист слышал, как он говорил утром остальным хирургам: «На этот раз все обойдется. Сегодня же вечером все мы будем дома». Посмотрим, сволочь, как это у тебя получится…
— Ввести арестованных!
Петерс невольно, сам не зная почему, вздрогнул: по проходу к скамье подсудимых шли конвоируемые красноармейцами врачи. Высокий, на голову выше остальных, широкоплечий человек с русой бородой и спадающей на грубую ткань рясы пышной шевелюрой русых волос, с высоким лбом, жесткими синими глазами, разумеется, не мог быть никем иным… Вот он какой, этот Воино-Ясенецкий… Что же, и не таких обламывали… Посмотрим, какой будет у тебя вид после вынесения приговора, — такой ли невозмутимый…
Зал словно взбесился: аплодисменты, как в театре… Бешено хлопают замеченные Петерсом рабочие парни, причитает старушонка в белом платочке, раскосенькая, в светлом платьице девчонка лет двенадцати выскакивает с букетом — это служит своего рода сигналом: под ноги идущих к скамье подсудимых врачей из зала летят цветы…
Может быть, было ошибкой выносить это дело наружу? Ничего, надо только повести круче… Начало речи придумано заранее: острое, хорошее начало.
После многочисленных угроз очистить зал наступает относительная тишина.
— Что же это Вы, Воино-Ясенецкий, днем в операционной людей режете, а по вечерам псалмы распеваете?
И вдруг громовой — на весь зал — повелительный и гневный голос:
— Я ЛЮДЕЙ РЕЖУ ИЗ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ, А ВОТ ВЫ — ИЗ ЧЕГО?!
Происходило невероятное, то, чего никак не могло происходить: подсудимый превратился в обвинителя. Отдававшаяся по залу раскатами грома гневная обличительная речь длилась более часа, зал, как один человек, застыл в испуганном молчании — никто из чекистов и партийных работников не осмеливался прервать говорившего… Гремела открыто контрреволюционная речь: Воино-Ясенецкий излагал свои взгляды на советскую власть.
Даже когда он говорил, еще можно было как-то исправить положение: выхватить «пушку» и разрядить в попа — это живо заткнуло бы недовольных, пусть немного и рискованно, но зато показательно насчет того, что советская власть с собой шутить не позволит… Эти мысли мелькали в голове, и было отчаянно ясно, что такой выход — единственный исправляющий положение, но ставшая ватной рука не поднималась даже для того, чтобы отереть обильно стекающий со лба пот — теперь уже холодный…
Петерс сидел и слушал речь Воино-Ясенецкого, в паническом ужасе спрашивая себя — почему он сидит и слушает, и не находил ответа…
Воино-Ясенецкий смолк. Зал, секунду оставаясь затихшим, взорвался неистовыми овациями… Петерс взглянул на чекистов, сидящих за оставшимся с прежних времен длинным судейским столом под штукатуркой со следами висевшего портрета: у них тоже были растерянные, выжатые, бледные лица… И тогда Петерс почувствовал разгадку: это было бессилие. Непостижимое, но абсолютное бессилие хоть всей ВЧК перед безоружными врачами, сидящими на скамье подсудимых: почувствовал, что их почему-то придется отпустить и что ничего иного сделать уже невозможно.
10
В восьмом часу вечера очень уставший Женя снова подходил к темно-красному дому у Полицейского моста.
— Эй, Чернецкой!
Женя обернулся: в дверях голубой елисеевской гостиной, по утрам превращающейся в лекционную аудиторию, стояла группка молодежи из набирающего все большую силу в «Союзе поэтов» Гумилевского клана. Женя, разумеется, знал разговаривающих: приятную в общении Нину Венгерову, Митю Николаева, знакомого ему еще по передовой, члена ПВО, как и Женя, работающего в достаточно не-стесняющем «дисковском» обличье; не внушающего Жене особых симпатий восемнадцатилетнего Николеньку Чуковского, единственного студийца «Раковины», начинающего «отливать в красноту»…
— И его стихи дали устойчивую прямую!
— А мне кажется, что это ничего не доказывает: Блок говорил как-то папе, что пролетарские поэты — это принципиально новые люди… Почему Вы думаете, Нина, что критерием их талантливости могут быть составленные Николаем Степановичем по нашим канонам таблицы?
— С Вами бесполезно спорить, Николенька: Вы не слышите оппонента, ибо в ваших ушах гремит пресловутая «музыка революции»…
— О чем речь?
— Так, об очередном полуграмотном гении, которого хотят протащить в Союз.
— Пусть едет в Москву и вступает в «Кузницу». Но мне думается, что его не протащат: слава Богу, атмосфера Союза становится все определеннее…
— Кстати, Чернецкой! Вы знаете насчет Шкапской и Павлович?
— Я слышал, что мэтру они слегка надоели: вторая — «алеющими корветами», которые день ото дня становятся все бездарнее: после того как Блок сложил с себя полномочия власти, ей место не здесь, а на большевистской партийной работе. Кстати, милая дама скромно умолчала о том, что приехала сюда не только от «красного мага», но и по протекции Крупской, которая ей благодетельствует. Павлович не глупа и чувствует, что уместно выставлять напоказ, а что рискует не пройти… А первая — не далее как сегодня он говорил, что его раздражает ее физиологизм, но он скорее не обращает на нее внимания…
— О, так Вы не знаете тогда, в чем суть скандала! На вечере в Мариинском она прочитала свое новое стихотворение, кстати, на его включении настоял Александр Александрович… «Людовику XVII»… «Народной ярости не внове Уняться лютою игрой, Тебе, Семнадцатый Людовик, Стал братом Алексей Второй. И он принес свой выкуп древний…» Далее не помню — словом, принес. Я видела, что Николаю Степановичу стало дурно до тошноты — он даже побелел весь… Потом сказал только одно: «И эта женщина — сама мать». Видно, ему основательно запало очистить Союз от блоковских истеричек… Не знаю, зачем он привел сейчас эту не свою, а Кузьмина точку зрения — скорее всего, он с ней согласен, но когда Шкапскую принимали в Союз, предпочел не высказываться, чтобы ей не повредить. Не знаю, может быть, у него просто не было настроения об этом говорить. Даже — скорее всего.
— Нет, по-моему, Вы все перегибаете палку: почему Шкапская не может считать казнь Цесаревича нравственно оправданной?
— А почему Пяст, как-никак — один из лучших друзей Блока, после «Двенадцати» не подал ему руки? Смотрите, Чуковский…
— Признателен за намек. — Чуковский, круто развернувшись, вышел из гостиной в зеркальный зал.
— Там что-то намечается? — кивнув ему вслед, спросил у Венгеровой Женя.
— Сегодня — среда.
— Ах ну да, конечно.
— А Вы очень неважно выглядите, «князь-оборотень»… Вы не больны?
— Благодарю Вас, Нина, не думаю.
— У Вас очень сыро.
— Зато уютно: моя комната удивительно напоминает гроб. Впрочем, в «обезьяннике» 64 куда более сыро.
Сквозь распахнутые двери в зеркальный зал было видно, как обитатели и гости Дома искусств привычно проходят в зал и отделанную темным дубом гостиную. Женя увидел спускающуюся по широкой лестнице из своей комнаты наверху баронессу Икскуль, навстречу которой шел уже Ходасевич — болезненно тонкий, желчный, с недавней сединой в прямых и черных, как вороново крыло, волосах, темноволосую живую коротышку Павлович, разговаривающую с Волынским и Пястом…
«…Общность цели гвельфов и гибеллинов, — подумал, усмехнувшись, Женя, — Союз поэтов… Воистину тесное объединение… враждующих партий».
— …«Аполлон», господа, все же ставил этот вопрос ребром еще в самом начале…
— То есть?
— Когда с революцией… еще номер запоздал, помните? В передовице от редакции прямо говорилось о том, что исторические памятники могут оказаться под угрозой и культурный долг общественности — сплотиться для их охраны…
— Кто мог знать, что вопрос встанет так остро…
— Да-с…
— Добрый вечер, Владислав Фелицианович!
— О, добрый вечер, добрый вечер…
…В голове гудело; Женя торопливо прошел через столовую и буфетную: в коридоре, которым начиналось общежитие, было пусто. Кое-где доносился стук торопливых шагов по крутым лесенкам и закоулкам — опаздывающие спешили к началу концерта.
Миновав пустую огромную кухню, где, против обыкновения, не распивал кипяток с сахарином старый елисеевский швейцар Ефим, Женя поднялся еще одной лесенкой, винтовой, напоминающей огромный чугунный штопор, прошел еще двумя коридорами и, наконец, отомкнул дверь своей комнаты.
Это была узкая, вытянутая в длину комнатка с оштукатуренными стенами и сводчатым потолком. Она вполне оправдывала с мрачной шутливостью данное ей Женей прозванье «гроба». В ней делалось тесно уже от кушетки и квадратного туалетного столика с мраморной доской, служившего одновременно письменным и обеденным столом — эти два предмета мебели вместе с кожаным саквояжем в углу и составляли всю обстановку. В комнате было до некоторой безжизненности аккуратно и чисто: этого впечатления не нарушали даже нарисованная углем на стене посолонная свастика с чем-то наподобие чертежа над ней… Впрочем, рисунок не производил впечатления мазни — в размашистых линиях чувствовалась уверенная рука…
…Войдя, Женя тщательно запер дверь. В коридоре было тихо — не доносилось ничьих шагов. Напряженное выражение внимания, проступившее в лице Жени, прислушавшегося к происходящему за дверью, спало вслед за неглубоким вздохом облегчения. Он отошел от двери и, не раздеваясь, упал на покрытую небольшим ковром кушетку — лицом в сужающийся серый потолок «гроба»…
«…Все …бежать некуда: день кончен вместе с его злобой… „Князь-оборотень“ привечает в своем гробу ночных гостей. А сегодняшние гости… Я свалял дурака — надо было думать об этом днем: а я был рад, что дела дня гонят мысли… Теперь же — некуда деться от них, совсем некуда.
Сережа Ржевский был на Гороховой.
Сережа — на Гороховой.
Смешно, Господи, да это же просто смешно — полтора года спустя все мое существо кричит этому «нет!», как будто возможно что-либо изменить…
Но ведь и времени — нет…
И в каком-то измерении Сережа до сих пор находится на Гороховой… И этого уже невозможно изъять из Великого Целого, эта чудовищная нелепость уже неисправима…
Этого не должно быть. Да, он не один раз был ранен, но это — высокий план Великой Битвы… В этом нет противоречия его ослепительной сущности…
А Гороховая — это низкий, невыносимо низкий для самого Сережиного существования план…
Господи, да как он вообще выжил?!
И выжил ли? Болезнь… вторая болезнь…
Ведь я же знаю их приемы! Лицом в плевательницу… Атмосфера унижения… Невыносимейший контраст: полная физическая зависимость мыслящей личности от ничтожнейшего существа, упивающегося своей властью… Или от ограниченной юной непогрешимой машины… Этакого человека-калеки, аппарата, задействованного на уничтожение «классового врага»… Второй вариант — ужаснее первого… В первом — сохраняется человеческая подоплека… Пусть уродливая, но — человеческая. Второе — ужас живой души в механической мясорубке… Этого не было в прежние века, когда физическое уничтожение человека было индивидуальным и исходило от людей… А здесь общий поток мясорубки — не с кем бороться, тебя, как и многих других, пропускают через нее юные, беззлобные к тебе лично, видящие в тебе абстрактную единицу «классового врага» машины…
Вся история изуверства прошедших веков сохраняла в себе человеческую связь, эмоциональное взаимодействие жертвы и убийцы… Как ни дико звучит, но в этом взаимодействии — последнее право жертвы… Именно его уничтожает сейчас Гороховая, и то, что грядет за ней, особенно то, что за ней… Живой связи более нет… Жертва в момент муки тщетно ищет взаимодействия с пустотой в человеческом обличье. Это — страшно.
Там всего много, на Гороховой…
Как же он задыхался там…
А унижение грязью, унижение скученностью!
Есть люди, которых там не пытают. Неизвестно — почему, но они есть… Я знаю, что не пытали бы меня… Но что-то я не очень уверен в том, что это распространяется на него…
Ведь даже боль в пытках более выносима, чем их эстетический шок, совершенно ужасный для тонких натур, — вид осквернения своего тела… Инструменты, сдирающие ногти… Мерзкий запах шипящей под раскаленным железом кожи — твоей кожи…
Господи, неужели?! Нет, не может этого быть. Господи, нет!!
Господи, сделай так, чтобы это было неправдой… Его не пытали, не может быть, чтобы его пытали…
Его пытали.
Но, во всяком случае, если он бежал и после этого был в НЦ, его не очень изувечили…
Его не могли очень изувечить — иначе он бы не смог бежать…
Надо успокоиться… Ткань одежды под пальцами пропиталась холодной липкой водой: это не пот даже, а вода… Сквозь куртку и свитер — прикосновение мокрого, гадкого к телу… В комнате — уже совсем темно… Сейчас как-то не хочется называть комнату «гробом», сейчас это было бы чересчур… Сильная, тяжелая слабость. Сейчас было бы неплохо уснуть — не раздеваясь, не двигаясь — так…
Еще немного успокоиться…
Женин взгляд, обратившийся изнутри на окружающее, рассеянно скользил по рисунку на стене, по стопке книг на доске столика, по переплету узкого окна…
Ночь была лунной…
«Я же не завесил окна, дурак… А теперь не могу встать… Впрочем — теперь уже поздно…»
Женя стиснул зубы, почувствовав приближение приступа
11
— Чернецкой, что с тобой?! Ты можешь открыть? Чернецкой!..
Послышались и смолкли торопливые шаги, снова появились и приблизились к двери… Что-то лязгнуло в замке; дверь заскрипела под навалившимся телом и подалась.
Митя Николаев, в белой сорочке с расстегнутым воротом, поспешно опустился на пол перед лежавшим на кушетке Женей, вытаскивая из кармана зажигалку.
— Что с тобой? Чернецкой, ты меня слышишь, ты ведь не во сне кричал… Что надо делать, говори!
Открытые глаза Жени мертво смотрели в потолок, одни во всем неподвижном лице, слабо зашевелились и еле слышным невыразительным голосом выдавили обращенные, казалось, не к Мите, а в пустоту слова:
— Закрой как-нибудь окно… Я не могу — он через меня струится…
— Кто — он? — Митя поспешно задернул штору, хотя в первое мгновение ему показалось, что Женя бредит.
— Свет… Лунный свет…
— Что надо делать, Чернецкой?
— Тут ничего… нельзя сделать… Кажется, уже проходит… Во всяком случае, лекарств тут нет… Ничего нет, вправду ничего… Сейчас… Я уже могу приподняться».
— Тебе лучше?
— Да. — Приходящий в себя Женя слабо, нехорошо усмехнулся: — Я пытаюсь выть внутри на невидимую луну.
12
1919 год. Февраль. Финляндия
Коувала… Маленькое финское местечко, навсегда оставляемое позади… Позади — одуряющая скука гостиничного безделья, скука, о которой потом будет вспоминаться с такой тоской, потому что она делилась на двоих… Коувала — маленькая точка перемещений Великого Кочевья, навсегда оставляемая позади…
Молочно-снежное утро, пронзительное ощущение Великого Кочевья, безотчетная тоска, которую вызывает в душе оставляемый навсегда случайный ночлег…
Туманная молочная даль — сероватые в утреннем свете снега полей, медленное мерное передвижение пеших и конных, скрип повозок и телег, нехотя плетущихся по почерневшему прибитому снегу тракта…
Дымок над высокими трубами ровных домиков из красного кирпича, кирпичные скотные дворы, сосны, сосны, черные в тумане кроны сосен…
И молчание, надо всем — молчание.
…Дорога постепенно рассеивает тоску, дорога ведет в начинающийся день… То там, то здесь — движение людской вереницы оживляет негромкий говор, то и дело слышатся оклики, вот уже донесся смех…
Сережа в белом полушубке, послав Серебряного, догоняет открытый автомобиль главнокомандующего, едет рядом, немного наклонившись к сидящему у левого борта Николаю Николаевичу, что-то говорит (по движениям губ Женя угадывает, что по-французски), сопровождая слова непринужденной улыбкой… Его Высокопревосходительство снисходительно улыбается в усы, извлекает из внутреннего кармана небольшую книгу, что-то говорит Сереже, тыча пальцем затянутой в перчатку руки в название на обложке… Короткая ответная реплика Сережи, сопровожденная почтительно-небрежным наклоном головы… Сидящий рядом с шофером офицер, судя по аксельбантам — адъютант, полуоборачивается назад с какой-то фразой, весело открывающей в улыбке ослепительно хорошие зубы, — офицер молод, лет двадцати пяти, у него тонкое красивое аристократическое лицо и безупречный пробор темных волос над высоким лбом… Николай Николаевич и Сережа смеются, даже полный пожилой полковник, сидящий рядом с главнокомандующим и до этого не принимавший участия в разговоре, тоже улыбается… Снова говорит Сережа, и на этот раз его улыбка становится обаятельно-виноватой… Николай Николаевич хмурится, затем о чем-то спрашивает адъютанта: тот отвечает в нескольких выразительно-серьезных фразах. Полковник смеется. Его Высокопревосходительство поворачивается к Сереже и делает рукой жест, недвусмысленно предлагающий удалиться с глаз долой… Сережа отстает от автомобиля и останавливается подождать Женю.
— Ржевский, чем ты изводил свое начальство?
Сережа смеется: в его порозовевшем на морозе лице — королевски не осознанная привычка ко всеобщей любви…
— О, ничем особенным! Просто мне не хотелось бы провести сегодняшний вечер в штабе…
— На месте главнокомандующего я бы дал тебе возможность отдохнуть на гауптвахте…
— Он тоже начал было к тому склоняться, но Задонский выручил…
— Адъютант?
— Ну да… Господи, до чего же хорошо, что мы наконец выступили!
— Еще бы…
…Вечер… Жар иссеченного за день снегом лица… Тяжелая, радостная усталость проведенного в седле дня, не оставившая и следа от нервного напряжения тоскливых последних дней в Коувала. Райское почти блаженство маленькой раскаленной финской бани. Деревенская комната с неизменными перинами на огромных деревянных кроватях… На столе — остатки принесенного вестовым ужина. Жарко пылающий камин…
— А я был прав — не стоило сегодня идти в штаб-. — Сережа, сидя в качалке напротив Жени, лениво потягивал молоко из запотевшего стакана. — Кстати, давно забываю тебя спросить: каким образом ты в восемнадцать лет — подпоручик? Ты ведь не кадровый…
— Les peripeties de la guerre. — Женя, в наброшенном, как плащ, пледе, пошевелил кочергой ярко пылающие угли. — Точнее — La confusion de la guerre65. Прапорщик ведь тоже не очень штабное звание… Знаешь, о чем я сейчас думал? О куклах истории. Ведь забавно, по меньшей мере половина фигур, без которых нам немыслимо представить историю человечества, недоказуемо являются в действительности не более чем марионетками…
— То есть ты имеешь в виду, что за многими известными фигурами стоит что-то, скрывающееся в тени…
— Не что-то, а кто-то… За исторической личностью может стоять личность, не известная истории, но двигающая ее руками своей марионетки…
— Забавно… Не хочешь импровизацию на эту тему? Кстати, твой черед.
— Если выйдет на эту… Но тогда ты задаешь исходную точку.
— Сейчас… Донской монастырь!
— Ладно… — Женя снова пошевелил угли: по его склонившемуся над языками огня лицу побежали красноватые блики… — Попробую… Представь загородное имение — типичная постройка самого конца XVIII века, широкая мраморная лестница, поддерживаемая атлантами и кариатидами… Темнота. По лестнице спускается ребенок, мальчик лет девяти. Здесь, пожалуй, нужны несколько штрихов, набрасывающих портрет. Пусть будет банален: хрупкое сложение гармонирует в его теле с физической силой — свидетельство чистоты породы, для романтической завершенности придадим ему черные глаза и черные волосы, открывающие высокий чистый лоб. Мальчик поднимается по широким, едва различимым в темноте ступеням лестницы к боковой дверце, из-под которой пробивается узкая желтая полоска света… Еще несколько шагов, и он бесшумно проскальзывает на балкон, опоясывающий небольшой круглый зал.
Свешиваясь через перила, мальчик смотрит вниз.
Зал освещен темными восковыми свечами: их — тринадцать. На украшенном причудливой лепниной потолке пляшут тени людей в длинных одеяниях… Людей много: в руках некоторых из них блещут острия шпаг. На покрытом черной тканью невысоком возвышении — человеческий череп. Глазницы черепа ярко светятся… Под возвышением — красный высокий гроб… В гробу лежит незнакомый мальчику человек.
Один из образующих полукруг около возвышения с черепом людей в хлопающих тяжелыми крыльями мантиях отделяется, выходит из-за колонны и приближается к гробу. Этот человек хорошо знаком ребенку. Он очень стар, стар до того, что даже его голос кажется потускневшим, гобеленно поблекшим от времени, но в каждом его движении скользит легкая летящая сила В руке у него — шпага, в другой — ветвь какого-то черного растения. Он касается ветвью лица в гробу. Лежащий начинает приподниматься из гроба…
Мальчик чуть подается вперед над перилами. В следующее мгновение глаза его встречаются с глазами человека со шпагой в руке. Рука со шпагой поднимается вновь, но на одно мгновение по узким губам пробегает улыбка. Ребенок знает, что эта улыбка предназначается ему.
«—Я вижу, что ты оценил по достоинству новое ружье. Но все же тебе не стоило бы много стрелять в парке. Без доверчивости непуганых птиц и животных красота парков многое теряет. Кстати, как ты полагаешь — почему охотник сильнее зверя?
— Потому, что у него есть ружье?
— Горе-охотник возвращается домой с ружьем, но без дичи. Хороший охотник сильнее тем, что он знает зверя, а зверь не знает его.
— Как — не знает?
— Охотнику известно, когда зверь подойдет к водопою, когда ляжет спать, когда голоден, — он знает все законы, управляющие его жизнью. А зверю неизвестен ход жизни охотника. Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Да О людях. Я помню — мой паяц с барабаном…
— Запомни и другое: можно испытывать некоторое удовольствие от того, что ты имеешь нужный ключ и можешь заставить паяца барабанить по своему желанию. Но нельзя — и здесь необходим контроль над собой, — ни на мгновение нельзя залюбоваться собой, заводящим паяца. Глупо гордиться тем, что часы показывают тебе время, а одежда предохраняет тебя от холода, — ты равнодушен к тому, что вещи каждую минуту тебе служат, но ты умеешь ими пользоваться. Когда ты полощешь пальцы, ты не тревожишься о том, не унижает ли это полоскательницу, и не радуешься власти над ней. Так же смешно радоваться власти над людьми, не только смешно — опасно. Радость власти — тоже чувство, а примешивая чувства, никого не подчинишь по-настоящему… Чувство туманит зрение. И еще — паяц не должен знать о том, в чьей руке ключик. Нужна яркая мишура, отвлекающая внимание от руки с ключиком. В мишуре много смысла: чужие должны считать себя своими, незнающие — посвященными, управляемые — управляющими… Запомни».
Мальчик смотрит вниз на серьезные и бледные лица обступивших возвышение с гробом взрослых людей. Ему очень хотелось бы засмеяться вслух. Вот примерно так. Как тебе такая история?
— А ты не в ударе. Получается, извини, Жорж Санд. Надуманно.
— Надуманно? Вероятно, ты прав… Пожалуй, импровизация не удалась.
— И потом — при чем тут Донской?
— Ах да, ты ведь предлагал оттолкнуться от Донского… Я по ходу забыл. Донской тут совершенно ни при чем. — Женя взялся за чашку дымящегося декохта.
13
— Дверь не заперта!
При виде вошедшего Мити Николаева Женя приподнялся в подушках и отложил книгу.
— Ну что? Ты предупредил Владимира Николаевича?
— Владимира Николаевича — да, а вот Николая Владимировича, к сожалению, нет. — Митя засмеялся и присел на край кушетки — больше в Жениной комнате сидеть было не на чем.
— И не надо. Серьезно, не надо, Николаев. Я, конечно, был бы весьма интересен для милейшего нашего доктора с профессиональной точки зрения — но я решительно не рвусь предстать перед ним в роли пациента. Психически я здоров ровно настолько, насколько почитаю это необходимым.
— Но физически ты в данный момент оставляешь желать лучшего.
— Ерунда: поваляюсь еще сегодня, а завтра буду в полном порядке. Часам к двенадцати.
— Почему ты в этом так уверен?
— Я уверен во всем, что касается моего тела, — Женя засмеялся и отпил немного воды из стоявшей на столике чашки.
— Ты что, так все и хлещешь второй день одну воду? — Митя внимательнее вгляделся в Женино заострившееся лицо с запавшими щеками и глубокой тенью у глаз. — Тебе что, без этого в революционном Петрограде недостаточно голодно?
— Кстати, Даль прописал бы скорее всего то же самое… Что сказал Таганцев?
— Что в Бологое ты сам должен кого-нибудь послать со своим заданием… Лучше по твоей версии — с письмом от тетки…
— Ладно. Пожалуй, ты и иди. — Женя утомленно опустил веки: казалось, он неожиданно и сильно устал разговаривать.
— Не могу, Чернецкой, — произнес Митя негромко. — Понимаешь, никак не могу.
— Что у тебя? — Женя удивленно поднял глаза.
— Сегодня вечером ко мне приедет из Москвы жена. Я должен ее встретить
14
— Нет, кажется, мне и вправду пора к Далю!.. Извини, Бога ради, Николаев, но я потому только и спрашиваю, что решительным образом ничего не могу понять, и это вызывает у меня сомнение в том, что я в своем уме… Ведь тебе сейчас — девятнадцать лет? И, насколько я знаю, ты с восемнадцатого года в действующей, следовательно — в Москве не был… Твоя жена выезжала из Москвы?
— С конца семнадцатого — нет. — Митя, в милом мальчишеском лице которого читались сейчас смущение и радостное нетерпение, смешанное со скрытой тревогой, счастливо рассмеялся недоумению Жени. — С конца семнадцатого года моя жена не покидала Москвы.
— А в восемнадцатом тебе было шестнадцать.
— Да.
— Ладно, по загадочному твоему виду мне ясно, что ларчик как-то да открывается. Посему — кончай интриговать.
— Осенью прошлого года я четыре дня был в Москве по делам ПБО.
— Четыре дня?
— Четыре дня.
— Неплохо! И как ты только в столь короткий срок раздобыл священника.
— Честно говоря, Чернецкой, — Митя неожиданно посерьезнел в лице, — я его не особенно искал… Понимаешь, не было никакой возможности это сделать… Мы решили, что обвенчаемся после победы… Знаешь где — в храме Христа Спасителя… Непременно — в храме Христа Спасителя! Знаешь, за последние месяцы я так часто представлял это себе, что мне иногда кажется, что это уже было на самом деле… Что я на самом деле уже вел Мари (ее зовут Мари) вверх по его высокой белой лестнице, что ее напряженное, бледное от волнения лицо оттеняло облако схваченного флердоранжем белого газа, что ее затянутая в длинную перчатку рука неподвижно лежала в моей, что был легкий ветерок и солнечные радостные лучи, в которых ослепительно сиял в голубом небе Сергий, благословляющий образом коленопреклоненного Донского… Этого на самом деле не было, но это непременно будет, Чернецкой! Не может не быть, — Митя чиркнул солдатской зажигалкой, затянулся. — Знаешь, ведь я не виделся с ней со дня нашей свадьбы.
15
Ноябрь 1920 года. Москва
— Не может быть, этого не может быть… Митя, Митя, неужели это ты. Господи, Митя…
Лицо Мари Елецкой казалось почти лицом ребенка, хотя черты его, повторяя надменно точеные черты матери-польки, отнюдь не были детскими. Секрет этой детскости можно было разгадать, приглядевшись: черты ее лица повторяли лицо матери так, как мягкий воск способен повторять линии слоновой кости, — будущая завершенность еще только угадывалась в их непроявленности. Отчасти впечатление детскости лица создавали и золотистые прямые волосы: слишком мягкие, рассыпающиеся в любой прическе. Сейчас волосы Мари были заплетены в толстую разлохматившуюся косу. На ней было гимназическое платье, на ногах — маленькие неподшитые валенки…
— Митя… А я боялась и открывать — я одна в квартире. Ты — мокрый, совсем мокрый! Дай сюда куртку!
— Я… очень ненадолго, Мари. До комендантского часа — всего два с половиной часа, а мне час с лишним добираться от тебя до Шаболовки…
— Ты у дяди Саши?
— Да… Брось ты, Бога ради, эту несчастную куртку — сядем, я хочу на тебя посмотреть…
— Сейчас… Проходи в мою комнату — гостиная уже… не нагла.
— Там кто-нибудь есть?
— Нет… он сейчас в Петрограде. До сих пор не верится — как ты здесь оказался?
— По одному делу, о котором предпочел бы оставить в неведении господ «товарищей».
— Ты…?
— Да.
В окно хлещет косой, гнетуще свинцовый дождь: небо над крышами коричневато-серое… Закружась в гнущем уже почти голые деревья ветре к мокрому стеклу прилипает кленовый красноватый лист…
«Весь мир насилья мы разроем»…
— Тут ведь рядом — Манежная, а сегодня у них — третья годовщина. Господи, как странно: снаружи — митинги и мокрые красные флаги на домах, а у меня — ты, но ты — не просто, а ты — белогвардеец…
Желтый мягкий свет лампы скользит по темным гобеленам… Митя и Мари сидят на маленьком диване в углу — в чашечках мятного чая тонут отблески желтого света…
— Как тебе мой мятный чай?
— Правильнее — мятный брандыхлыст…
— О нет! Это чай, и он даже лучше настоящего: неужели ты не чувствуешь его запах?
— Чувствую…
— Не обернитесь, сударыня! В окне — свинцовый и страшный дождь и кружатся последние листья…
— Наших последних дней?
— О нет! Мы будем жить долго-долго…
— И снова мы будем гулять по Царицыну?
— И собирать осенние листья — наверное, через год… А ты в гимназической форме — как тогда…
— Другие платья мне стали велики, а ушивать их — уйдет весь запас ниток…
— Где Евгения Львовна и Нина?
— Нина увезла маму в Останкино. Удалось договориться с одной старушкой, бывшей няней Кати Дубровиной… Здесь она очень болеет. Ты долго будешь в Москве?
— Я уеду завтра.
— Завтра?
— Да. Я приехал всего на четыре дня.
— Значит — через полчаса ты на целую вечность уйдешь в этот свинцовый дождь, который срывает последние листья и хлопает страшными набухшими флагами?
— Через пятнадцать минут. Я не имею права попасться патрулю. Собственно, я не имею права и находиться сейчас здесь, но я не мог уехать из Москвы, не увидев тебя и не сказав тебе, что…
— Не говори! Не надо этого говорить… Ведь нам об этом говорить не надо: пусть говорят те, кто не слышит молча… А мы — ведь мы слышим друг друга…
— Да.
— Уже все?
— Все. — Митя поднимается с дивана. Они выходят в переднюю… Льются струи воды в сгущающейся темноте по стеклу узкого окна у двери черного хода…
— Мари…
Мари Елецкая сухими глазами смотрела на склонившуюся над ее рукой темно-русую голову Мити — и черты ее лица, казалось, становились тверже:
— Митя… Ты не должен уходить в этот дождь. Я хочу, чтобы ты… остался.
16
…Пассажирские поезда еще с восемнадцатого года были переведены на скорость товарных… Впрочем, это и были теперь те же товарные поезда, менее всего пригодные для человеческих существ и более всего напоминающие поставленные на колеса бараки для военнопленных, во всяком случае, именно на такое сравнение наталкивали они нередко офицеров и солдат, хлебнувших германского плена. Мите нередко приходилось слышать эти сравнения, но сейчас, сидя на железных перилах ведущей на перрон лестницы и выкуривая одну папиросу за другой, он думал о том, что пассажирский вагон военного коммунизма едва ли не страшнее немецкого барака… В бараке царит хоть какой-то порядок, сохранение которого является обязанностью определенных должностных лиц… Вагон, в котором добирающиеся из Москвы в Петроград нередко проводят больше недели, живет своей жизнью, без контроля какой-либо власти… Только теперь, уже в течение нескольких часов наблюдая шумную нескончаемую очередь за кипятком, мелькающие в движущейся мимо толпе бушлаты и бескозырки, армяки, мешки и серые шинели, красные косынки, кожанки, буденновки, в повисшем над этим движением нестройном гуле окриков, возгласов и тяжелой матерщины, вглядываясь в сморщенные лица страшных, как на рисунках Доре, нищих, и прочие почти нечеловеческие лица извечного вокзального отребья, в поблекшие утомленные личики девчонок-папиросниц — малолетних проституток, звонко выкрикивающих свой товар — папиросы «Ира» или харьковскую махорку, — Митя по-настоящему ощутил страх за Мари… Не прежнее волнение, с которым он шел на вокзал, а страх, почти панический страх… Что такое для него, военного, поездка в вагоне-бараке? Почти ничего — мерзкая тягомотина, вонь, грязь, некоторое нервное напряжение, связанное с постоянной готовностью обороняться или кого-нибудь защищать, сон на неструганных досках… и более ничего. Ничего, для того, кто был на передовой… Последнюю поездку — осенью из Москвы, тогда, он, погруженный в мысли и воспоминания об ослепительно-неожиданном, похожем на чудо, счастье, целых шестнадцать часов которого удалось вырвать у революции, он почти не заметил, а, отмывшись от вагонной грязи, напрочь забыл… Что могли значить для него, в сотый раз переживающего заново встречу, это разрешение остаться, все сказанные слова, все случившееся той ночью, что могли значить для него — солдатня, мешочники, вонь и набившие синяки по всему телу доски нар?
Теперь же, сидя на перилах ведущей на перрон лестницы, он пытался мысленно увидеть пассажирский вагон другими глазами, ее глазами…
Зачем она только решилась приехать?! Лучше бы она не приезжала… Господи, Господи, Господи, сделай так, чтобы все обошлось… Господи, Господи!
От радостного предвкушения встречи не осталось и следа: Митя уже не хотел самой встречи…
Лучше бы она была сейчас в Москве; это не для нее — неделя вагонного ада, не для нее, девочки, горько плакавшей когда-то над тем, что показалось «неуютным» купе пульмановского вагона… Это было в тринадцатом году, когда одиннадцатилетний Митя вместе с родителями и дядей Сашей провожал Елецких на лето в Кисловодск…
Донесся гудок паровоза.
— Московский идет!!
— Московский пришел!!
— Московский!
Митя слетел с перил и помчался по перрону навстречу приближающимся дощатым вагонам… Вот промелькнули уже тесно столпившиеся в первом широком проеме входа люди: молодой красноармеец лихо спрыгнул на ходу, чуть не сбив Митю с ног… Второй проем… Замедляющийся ход поезда… Уже несколько человек спрыгнуло на ходу…
— Митя! Митенька…
— Господи, Господи, Мари, милая… Когда ты сошла, я тебя дальше искал… Как ты доехала…
— Потом расскажу… Митя, Митя… Какое счастье, что я все-таки смогла выехать… Пришлось три месяца ходить туда… Митя…
Жадно вглядываясь в лицо жены, Митя почувствовал вдруг неожиданную пугающую тревогу: происшедшие в нем перемены не могли объясняться одной вагонной усталостью, как показалось вначале: это лицо было, казалось, истощено какой-то болезнью, оно посерело, в нем появилась отечность… Из ее худенькой фигурки исчезла прежняя легкость, даже серое знакомое платье сидело на ней как-то по-новому, некрасиво…
— Мари, что с тобой?! — в ужасе, ничего не понимая, спросил Митя. — Ты не больна?!
— Я не больна… — Мари улыбнулась Митиному испугу. — Ты глупый, неужели, не видишь… что мы приехали к тебе вдвоем.
По вспыхнувшему ярким румянцем лицу схватившего обе ее руки в свои девятнадцатилетнего мальчика, который был ее мужем, Мари увидела, что Митя понял.
Они шли в толпе к вокзалу, никого не замечая на своем пути: несмотря ни на что, жизнь продолжалась, и любовь рождала жизнь.
17
По вокзальному перрону хлестал дождь; около пульмановских вагонов было по-предвоенному спокойно и немноголюдно. Под небольшим жестяным навесом тоскливо переминались с ноги на ногу двое парней в штатском.
Тутти, в блестящем от воды коричневом дождевичке, шла между Некрасовым и Греем, держась за руку Юрия.
— A nice weather for criminals to run away.
— A smog is missing.
— Really?66
Все, что можно было сказать, было сказано накануне вечером. Тутти улыбнулась, отвечая на ослепительную улыбку долговязого рыжеволосого мистера Грея, легко поднявшего ее чемодан, переданный Юрием, улыбнулась нужному номеру вагона: уже ступив на вторую скользкую металлическую ступеньку и оказавшись выше Юрия, полным достоинства, сдержанным жестом протянула ему руку.
— Бог даст, ненадолго, Тутти, — сейчас Юрию не хотелось называть девочку Таней, он со странно дорогой горечью произносил именно это уменьшительное обычное имя: голос его звучал ровно и бесстрастно.
— Да, дядя Юрий.
— Надеюсь, что мне не придется стыдиться тех известий, которые я по возможности буду о тебе получать. Это касается не только учебных успехов, но и твоего поведения: будь сдержанней, необдуманное выражение эмоций и мнений является безусловно дурным тоном. Ты уже не ребенок.
— Да, дядя Юрий. Не думаю, чтобы Вам пришлось за меня краснеть.
— Поди уже в вагон — сейчас будет отправление. Тутти поднялась еще на одну ступеньку. Отойдя шагов пятнадцать, Юрий обернулся, чтобы помахать ей рукой, если она еще не скрылась в вагоне.
Увиденное зрелище заставило Некрасова остолбенеть от изумления.
К Тутти, еще стоявшей на лесенке, подбежал молодой человек в кепи и насквозь промокшей куртке: остановившись с разбега, схватясь за поручень и встав одной ногой на нижнюю ступеньку, он произнес, судя по движению губ, несколько очень негромких фраз. Юрий, почти сразу узнавший «дежурившего» под окнами юношу, тотчас опомнившись, резко зашагал обратно. Однако было уже поздно: что-то коротко ответив, девочка скрылась в вагоне, а молодой человек быстро пошел прочь, прямо навстречу Юрию, которого он, поравнявшись, не заметил или не узнал…
«Этот чудовищный ребенок грозит вырасти несусветной авантюристкой… И ведь почти наверное скрылась так быстро, чтобы избежать необходимости прокомментировать мне сию сцену, — думал Юрий, следя глазами за медленно тронувшимися вагонами. — Маленькая дрянь! Только что являла образец благоразумной дочери… Придется отложить это выяснение на потом — если это „потом“ вообще наступит…»
Окликнуть мальчишку при трущихся под навесом парнях было нежелательно; Юрий размеренной походкой направился к вокзалу.
— Слушай, Стае, парня надо брать, сейчас, только чуть подальше от английской публики…
— Вдвоем?
— Ага, некогда: уйдет. Пошли…
Дело оборачивалось неожиданно. Взглянув на двинувшихся вслед за юношей парней, Некрасов, мгновенно нашедшись, громко обратился к чекистам:
— Ви… простит… льюбезн… объясняй, тоуварищи, как есть долго движет такой поест?
— За поезда не отвечаем, мистер, — неприязненно бросил один из парней через плечо.
— Кто есть отвечайт?
— Начальник вокзала отвечает, — почти огрызнулся второй, прибавляя шаг.
— Где есть началник вокзал?
— На вокзале и есть! — Парень явно продолжил про себя фразу применительно к матери англичанина, от которого нельзя все же было убегать, слишком демонстративно догоняя молодого человека.
— Оу? Очень спасибо!
Около минуты все же было выиграно: впрочем, несколько обеспокоенный, хотя и по-прежнему недоумевающий, Юрий не был уверен, что этого достаточно… Может статься, было бы достаточно, если бы мальчишка знал о преследовании.
Некрасов в свою очередь прибавил шаг, идя за чекистами. На вокзальной площади расстояние между юношей и преследователями сократилось. Однако Юрий знал, что «брать» в таком людном месте чекисты не станут. Задача казалась почти неразрешимой: как отвлечь или хотя бы предупредить этого сволочного щенка, у которого, мать его, ума не хватило сообразить, что приближение к международным составам не может не контролироваться Горо-ховкой, предупредить так, чтобы при этом не скомпрометировать себя?! Почти нереально. Оставалось надеяться только на счастливую случайность.
«Однако, черт возьми, какое же все-таки отношение может иметь этот щенок к Тутти?»
…В это время Тутти, сидя в глубоком кресле у окна, лениво перелистывала любезно припасенную для нее мистером Греем детскую книгу: сборник красочных комиксов о проделках Бастера Брауна… Иногда по ее губам пробегала улыбка — вероятно, книге, чересчур детской, как с некоторой досадой на себя подумал было мистер Грей, все же удавалось рассеять ее невеселое настроение.
18
Забытое ощущение — типографский запах добротного довоенного газетного листа, приятно шелестящего в руках. Как давно не доводилось разворачивать обычную газету, а не большевистские «Известия» то с пропадающим, то появляющимся вновь «ятем»! Вспомнив этот культпросветовский анекдот, Вишневский усмехнулся: на возврате крамольной буквы настаивали рабочие — к большому конфузу «усовершенствователей» орфографии, написание «звезды» или «плена» через «е» не воспринималось и раздражало…
Однако это в сторону: ни в одну из просмотренных с утра газет, слава Богу, не просочилось покуда сведений об открывшемся вчера съезде.
Вадим поднялся от журнального столика и подошел к окну, наполовину затененному жалюзи: захотелось вдохнуть неповторимо-шумного парижского уюта… Окно было до полу и наполовину забрано чугунными перилами с выгнутыми наружу прутьями — хорошо было курить, облокотясь на эти перила. Вадим достал «гавану» и обкусил кончик.
…Сквозь покрытые свежей еще листвой ветви разросшихся буков вдалеке виднелась арка площади Звезды…
Ситэ… Монмартр… Гранд-Опера… Нотр-Дам, Тюильри… И чертова завеса, укрывающая сейчас от него этот заветный, вечно желанный город!..
Париж сейчас кажется еще дальше, чем был в Петербурге… Но как раз в этом-то ничего странного нет.
И, глядя на далекий квадрат Триумфальной арки, Вишневский вспоминал вчерашнее впечатление от знакомства с бароном Петром Николаевичем, этим очень изнуренным на вид, но безукоризненно твердым и энергичным седеющим человеком, полным решимости мобилизовать последние силы, насколько это только будет необходимо… В коротком разговоре с кулуарно представленным ему за полчаса до официального открытия Вишневским Петр Николаевич с видимым удовольствием и тонким юмором вспомянул славные традиции Екатерининского горного института… «И представьте себе, принимая зачет по минералогии, ставил он на стол коробку с образцами — от малахита до булыжника достанет не глядя первый попавшийся, кинет в потолок — и, покуда камень обратно не упал, изволь ответить, что за образец… Вот уж действительно — на лету схватывать доводилось! Да и милейший наш Михаил Михайлович (разговор о Горном начался именно с Тихвинского), он о ту пору первый год преподавал, но, не в укор ему будь сказано, уже спускал с нас по три шкуры…» Вадиму давно был знаком этот своеобразный патриотизм выпускников Екатерининского и их обыкновенная манера непременно вставлять действительно, впрочем, забавные истории о зачетах и экзаменах… Но екатерининцам было чем гордиться в действительности: едва получив в руки диплом, любой из них мог не спеша выбирать наиболее приятное для себя из пяти-шести выгоднейших предложений о контракте. Многие предложения исходили от американских фирм: было давно известно, что свежевылупившегося выпускника Екатерининского можно без колебаний ставить во главе крупнейшего предприятия как специалиста, способного вникать в любые тонкости всех многочисленных пересекающихся отраслей сложнейшего производства…
К разговору подключился старый нобелевский служащий Смитт, снова перешли на Тихвинского: в добром ли здравии изволит пребывать досточтимый Михаил Михайлович?
Насколько возможно…
Да… да… да…
Впрочем, после заседания неожиданно выяснилось, что за светским разговором Петр Николаевич уже успел составить для себя определенное мнение о Вишневском: это выразилось в последовавшем предложении проработать до сентября в парижском штабе. Предложение скорее раздосадовало Вадима, положившего было переправляться в Петроград вместе с Лебедевым и Шведовым, но вопрос с непосредственным начальством был уже отрегулирован — оставалось только подчиниться и перейти на три месяца в «стратеги»…
Кончикам пальцев стало горячо. Вадим потушил окурок и взглянул на часы. Оказывается, уже около двенадцати. Пора идти улаживать дела Тутти. Тутти…
19
Королевские каштаны цвели ярко-розовыми крупными свечками, действительно напоминающими огоньки в получерной густой листве…
Тутти в розовом муслиновом платьице шла по безлюдной разросшейся аллее рядом с Вадимом: ее прямые волосы цвета корицы свободно падали на плечи из-под летней шляпы, наполовину скрывающей лицо в розовой тени — весь вид девочки как-то связывался с украсившими в эту неделю Париж розовыми свечками каштанов…
Вадим уже не в первый раз почувствовал, что начинает каким-то внутренним чутьем угадывать скрытые для глаза пробуждения и желания Тутти точно так же, как это всегда было в его отношении к Юрию… Вот сейчас ей захотелось подпрыгнуть и попытаться достать до каштановой свечки — но лицо невозмутимо и осанка осталась нарочито взрослой, откуда же он знает, что это именно так? Хотела, но сдержалась — и не из-за присутствия Вадима (больше на дорожке никого не было видно), а для себя… «Школа Юрия»… — подумал Вишневский с удивившим его самого раздражением… И даже в нежной детской линии подбородка как будто проступает порой это так давно знакомое неподвижное, надменное выражение… Или это только кажется Вадиму? Нет, не кажется — раз он уже незаметно для себя перенес на девочку свое отношение к Юрию…
…Прочитав в Николаевском училище «Давида Копперфильда», тринадцатилетний Вадим был поражен тем, насколько отношения Давида со Стирфортом напоминают ему собственные отношения с Некрасовым… Совпадали даже мелочи, даже начало дружбы с небрежного покровительства и защиты от мальчишек, всегда разгадывающих в товарище неуверенность в себе и ранимость — как бы тщательно ни скрывалось это внешне — и преследующих за это со всей возможной безжалостностью, в этом всегда выражался ярко запечатленный все тем же Диккенсом жестокий дух мужских школ, одинаковый во все времена…
Все совпадало — но объяснения этому, того объяснения, над которым так мучился подрастающий Вадим, не давал даже Диккенс…
Лет в шестнадцать в очередном юношеском приступе самоанализа Вадим писал в своем дневнике:
«Человек несет в себе тайное знание своей сущности: предметной или теневой. Знание теневой сущности не дает ему выявляться предметно: его чувства, страдания и мысли как-то изначально обесценены и для него самого, и для окружающих, и ему более свойственно находить свое выражение в том, чтобы быть сопричастным страданиям и чувствам другого человека, своего рода фоном людей предметной сути… Это знание своей сущности не зависит ни от чего: можно быть красивым, богатым, всесторонне одаренным — но суть будет теневой… А можно — наоборот. Вот и все мои отношения с Юрием… Юрий — значим, а я — нет».
И сейчас воспоминание об этих юношеских строках всплывало в Вадиме, искоса разглядывавшем безмятежно-детское, в игре розовой тени, лицо идущей рядом с ним девочки.
«Вот оно — первое свойство людей предметной сути: они не могут представить себе, чтобы было иначе… Словно действительно имеют они право на какую-то исключительную привязанность и исключительное внимание к себе всех соприкасающихся с ними, словно имеют право не платить за это отношение ничем, кроме разве снисходительного на него позволения… Как будто все, вступающие во взаимодействие с ними, тем самым становятся их непреложной собственностью… Меня всегда волновало все, что творилось в душе Юрия, — его же моя душа занимала постольку поскольку, при всем при том, что он, не колеблясь и рискуя жизнью, нередко приходил мне на помощь — ему бы никогда не взбрело в голову обдумывать мое к себе отношение или просто скрытое значение какого-нибудь моего поступка… И вот — я перенес на этого ребенка свое отношение к Юрию, но ведь и она с первого взгляда переняла отношение Юрия ко мне…»
— Какой хороший лев!
Вишневский вздрогнул. Они подходили к бронзовому льву, тому самому льву Тюильри, о котором с какой-то странной улыбкой вспоминал, говоря о Париже, Гумилев. На скамейке под холмиком с внушительно застывшим львом сидела девушка с книгой в руках…
В висках у Вишневского застучало. Перед глазами, на мгновение вытеснив пронизанную майским солнцем зелень Тюильри, поплыла холодная, отделанная темным мрачноватым резным дубом обычная гостиная старого Петербурга…
Вспомнился представлявшийся тогда значительным разговор о том, какое разногласие возникло у «Аполлона» с Бердяевым в оценке «Петербурга» Белого… Не спор, а именно разговор — о споре не могло быть и речи:
«Аполлон» являлся непогрешимым диктатором и выразителем вкуса молодежи их круга… Лицо одного из собеседников — полумальчишеское, но взрослое выражением, темно-каштановый пробор набриллиантиненных волос, как будто вырезанные из бумаги Ватмана высокие воротнички… А рядом — тихое, немного печальное лицо полудевушки-полуребенка, с тонким профилем и греческим узлом темных волос.
— Ида!
— Господи, Вадим… — в голосе уронившей книгу на колени Иды Белоземельцевой прозвучала испуганная радость: — Вадим Вишневский…
20
— Да, я с тетей… Где папа и мама — нам неизвестно, в начале революции они поехали к бабушке, она ведь оставалась одна, и с тех пор — никаких известий…
— А Вадик?
— Вадик убит в Красновскую кампанию. Сказано было печально и просто: так говорят о потере, с которой время уже помогло примириться.
…Вспомнили нескольких общих знакомых по Санкт-Петербургу: новости оказались по большей части невеселы как для Иды, так и для Вишневского. Но, наперекор этому, настроение, овладевшее всеми тремя участниками разговора, не было подавленным (даже Тутти как-то мгновенно переменилась — то ее таинственное значение, о котором только что думал Вадим, казалось, отступило — и между двумя разговаривающими взрослыми по аллее шел сейчас обыкновенный оживленный ребенок)…
О мертвых хотелось говорить как о живых, вспоминали о премьерах и выставках «Мира Искусств», заговорили о Париже, о школе, в которую Вадим оформлял сейчас Тутти… обо всем, кроме продолжающейся на родине войны.
— Когда мне можно будет увидеть Вас, Ида?
— Вы можете позвонить мне по телефону в пятницу. Вот моя карточка. Или, если хотите, Вы могли бы встретить меня завтра на площади Сен Сюльпис. В час.
— Это было бы чудесно…
— Вы меня отыщете в сквере у фонтана — он тоже со львами… Я бываю там почти каждый день — очень люблю эту площадь: она такая тихая, даже голуби спокойно ходят по мостовой… И люблю бронзовых епископов — они хранят тишину этой площади. Удивительно, до чего много таких мест в Париже. И знаете, странность: я давно запомнила одну девушку, которая тоже часто там бывает. Я почему-то сразу подумала, что она русская. Светловолосая, похожая скорее на парижанку. Один раз я подошла к ней — и спросила, который час. Она ответила, взглянув на меня своими дымчато-серыми холодными глазами, как мне показалось — с недоброй насмешкой. И тут, представьте, Вадим, к ней подошла цыганка, самая обычная, каких много по вокзалам, молодая цыганка в пестром тряпье. Они быстро перебросились парой фраз — по-цыгански, и та ушла. Я спросила: «Простите, мне показалось, что Вы — моя соотечественница. Я не ошиблась?» Вадим, было очень странно видеть ее разговаривающей так… коротко с цыганкой, она выглядела девушкой из хорошей семьи, я не могла бы тут ошибиться… Она улыбнулась одновременно детски веселой и жестокой улыбкой и ответила — глядя на меня в упор, как стреляя: «Черт возьми, напомните, в каком кабаке мы вместе подавали?»
— Ида!
— На коленях у нее лежал Верлен. Поверьте, я не ошиблась, Вадим. У нее необыкновенно приятное лицо. Но странно: я еще и до того, как пыталась познакомиться с ней, всегда чувствовала непонятную тревогу. Чувствую и сейчас, как будто щемит сердце. Вероятно, больные нервы.
21
«Как дожить до завтрашнего дня — нелепо, странно, смешно, но отчего мне кажется сейчас, что именно ее образ я, сам того не зная, пронес через войну… Ведь это не так, но сейчас мне уже кажется, что это так… Ведь я же не двадцатилетний Сережинька Ржевский (последний раз Вадим видел Сережу летом 1919 года…), в конце концов, мне не по возрасту уже кидающая то в жар, то в холод мальчишеская дрожь… Почти религиозный трепет: когда-то это было со мной, но, по крайней мере — до первой из двух пройденных мною войн… „Как дожить до завтра“ — каково? Для гимназиста — уместно… Ни с того ни с сего, как; снег на голову — роковая страсть? Бред какой-то… Просто ударила в голову память дореволюционного мира… И маленькая частичка этого мира — Ида Белоземельцева, тогда почти подросток, самая обыкновенная девочка-екатерининка, каких можно было встретить в каждой второй дворянской семье Петербурга…»
…И когда это «завтра» наступит, он просто посмотрит на Иду Белоземельцеву трезвыми глазами: жаль, но ничего другого быть не может — подобные порывы продолжительны только у гимназистов.
22
— А я принесла кое-что интересное для Вас, — Ида вынула из сумочки и протянула Вадиму какую-то небольшую книгу. — Думаю, Вам это должно быть интересно…
— Что это? — с улыбкой спросил Вадим, принимая книгу из обтянутой серой перчаткой маленькой руки.
…Это был карманного формата сборник во вполне аполлоновском духе: блеклый четырехугольник греческого орнамента на обложке, силуэт увитой полынью амфоры под блеклыми же буквами названия: «артерлбш» 67. Снизу — «Москва, 1915». Сверху — стилизованными под греческие буквами…
«Евгений Ржевский». Вадим вздрогнул.
— Боже мой! Неужели это — стихи Жени Ржевского? Но ведь он, кажется, их не издавал…
— Посмотрите внимательнее.
— Скоропечатня Левенсона? Тогда понятно. Частный заказ.
Перед глазами Вишневского возник странный псевдоготический домик в Трехпрудном переулке, домик с линией символических репейников по фасаду. Вадиму только один раз довелось побывать в этой скоропечатне, по какому-то, сейчас и не вспомнишь, какому делу, но дом отчего-то запомнился…
— Я не дам его Вам с собой — мне очень не хотелось бы с ним, даже ненадолго, расставаться, но сядем здесь, и Вы почитаете…
— Но ведь Вы соскучитесь, пока я буду читать, Ида? — открывая книгу, спросил Вишневский, когда они сели на белую скамью под старым королевским каштаном.
— Я буду сама виновата: я же не хочу Вам его дать. Смотрите, как красиво осыпается розовая каштановая свечка — несколько лепестков упали прямо на страницу! Жене бы это понравилось… Читайте же!
Вадим перевернул титульный лист68.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТАВРИЯ 1. Кипарисы Где в сияньи — без тени и влаги, Зноем солнца ущелья горят, Кипарисы — древесные маги — Упование ночи таят. Кипарисы — ночные виденья, Черен лиственный строгий наряд, Это древних заклятий сплетенья, Тенью знанья влекущие взгляд. Этих знаков не смог разгадать я, Но, внимая молчанью времен, Я узнал, что от века проклятье Ждет того, кто нарушит их сон. Выйдут, вытекут денные силы, К темной тайне, душа, прикоснись: Я хочу, чтоб над камнем могилы К небу черный взлетел кипарис. 2 Осенне-золотой закат, Закат Таврического сада, Меж черных шпалер золотят Лучи прозрачность винограда. Ложится ломаная тень, Леса холмов оделись чернью, Дымок татарских деревень Чуть терпок в воздухе вечернем… Железо скрипнет на петлях, Душа иного не захочет, Чем, измеряя боль в шагах, Бродить в грядущей пышной ночи. О чем-то смутно тосковать, Смеясь, сзывать ночные мысли И безотчетно обрывать Магнолий лаковые листья. 3 Татарка старая сказала. Держа ладонь моей руки, Что проживу я очень мало. Но не развеяла тоски. В холодной сакле дымно было И сажа хлопьями плыла. Старуха травы заварила И с наговором подала. Я пил из глиняной пиалы Оттенка мутного отвар, И зелье пахло горьким салом, И я вдыхал горячий пар. Под кровлей ныли злые духи — Заклятья жалкого рабы, И я не мог сказать старухе, Что я старей ее волшбы, Что свежесть юности убога С душою старой и больной… …И камни плоские порога Уже остались за спиной. И шел я вниз тропинкой горной, Касалось солнце плоских крыш, И девой, вечеру покорной, Вставала благостная тишь. Над морем плыли белой тенью Гряды вечерних облаков, И я поверил в искупленье Еще не сбывшихся грехов. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КИММЕРИЯ Камень тверже и зелень бледнее… Чем тот берег так властно влечет? Ветром моря грудь дышит вольнее, Здесь ли время к истоку течет? И, стесненное сердце тревожа. Так прохладно в полуденный зной Древнерусские земли Сурожа Набегают полынной волной. Дух тоскующий странствия хочет, Чтобы в плоть возвратить имена, Я дождусь наступления ночи Там, где скалы венчает стена. И пред тем, как виденья восстанут, Оттенены наброшенной тьмой, Стебли мягко-упругие станут Нежно-белой — как Смерть — бахромой. Свод небесный так черно-хрустален! Вдруг замру я, по склону взбежав: Тонут первые камни развалин В мягко-белом струении трав. С башен в ночь барабаны вступают, Зубьев крепости грозен оскал. Арбалетчиков тени мелькают, Так огромны в расселинах скал. Генуэзский сиятельный воин! Жить ли людям в бесплодных горах? Город-крепость мечами построен, В кладку стен ты замешивал страх. Лары русские — в прахе и пыли… Лишь песок просевая рукой, Ваши дети финифть находили, Словно камешек дивный морской. Нет о жителях прежних помину, В вековом уплывающем сне Так беспечно встречали долины Ростислава на белом коне! Как гремело приветное слово. Отдаваясь в ущельях вдали. Как столы расставлялись дубовы. Как меды но застолью несли… В звоне чаш, над столами взнесенных, Полон криками воздух морской… …И горела в лучах полуденных Круча гор без короны людской. Город в пыль канул вольностью красен, Шум застолий навеки затих… артергбю, вспомни о князе, Что скакал в мягких волнах твоих! Скрыты тьмою развалин увечья, В племенах повторятся слова. Здесь лишь ты под звездами предвечна, ссртергбю:, скорби трава! …Может статься, мне сделался ныне Чуть прозрачнее тайны покров: В стебельке киммерийской полыни — Горечь канувших в вечность миров. 2 Бродить, смирясь в тоске безмерной, Читать над берегом Коран, Где вечных волн гекзаметр мерный Доносит весть забытых стран, Встречать у пирса теплый вечер И смутно чувствовать в груди, Как сердце ждет тревожной встречи, Такой неясной впереди. Но в древнерусской синей дали, Из векового забытья Вдали покажется едва ли Тебя несущая ладья. Я верю в самой ясной боли — Меня, далекая княжна, Не от себя ли самого ли Спасти любовь твоя должна? 3 В дробящихся волн нескончаемый бег Рубины закат рассыпает, И солнце уходит, как будто навек, И сердце тревожно пылает. Отрадный душе, этот час так жесток! Тревожно-удушливы травы, Растет одиночества черный цветок, Но вечно ль — без счастья и славы Тропинкою длить над прибоем свой путь, Где хрупок взлетающий гребень, И ветер морской заклиная раздуть Огонь в моем сердце и в небе. Чтоб бился огонь в беснованьи тоски, В неистовстве силы могучей, Чтоб в яростной пляске его языки Жгли сердце и горные кручи, Чтоб дух истерзав, прозревая от мук В тревожном багрянце заката Познать бесконечность, замкнутую в круг, И грозную силу квадрата. 4 Кочевья Великого прост закон: Душа для того жива. Чтоб в темно-дурманящем сне времен Услышать свои слова. Ступени восходят, и вьется нить, Страданье дано не зря, И мы продолжаем, как дети, жить, Легенду свою творя. 5 С тропинки сбился ль я, шутя, Иль крест не свой несу? Но вот — блуждаю, как дитя, В глухом чужом лесу. И вот — я выбился из сил, Я стал жесток и груб; Кто ж черный желудь посадил, Чтоб вырос черный дуб? И закрывают ветви даль, Стал числам ложен счет: Как будто черная спираль Стремглав меня несет. Но вспомнить мне придет пора (Всевышний милосерд!) Глаза светлее серебра В нездешней бронзе черт.— Стихи, конечно, подражательны, — улыбнувшись произнесла Ида, пряча томик обратно в сумочку. — Очень многие мальчики в этом возрасте пишут примерно так, но, в отличие от многих, покойный Женя был по-настоящему талантлив… Самая сильная в сборнике, конечно, сама «хртецгоЧа». Я уверена, что Женя мог бы стать большим поэтом.
— Но, кроме этого, он не печатал своих стихов?
— Нет. Этот небольшой сборник — единственный, да и он, пожалуй, не в счет, ведь Женя заказал его только для своих знакомых. Была забавная история: даже в скоропечатне не принимают заказа менее чем на пятьдесят экземпляров. Женя и заказал пятьдесят, но, кажется, двадцать из них сжег — ему столько не было нужно… Пожалуй — весь Женя в этом жесте… Я очень рада, что из немногих сохранившихся у меня книг из дома есть этот маленький сборник. — Голос Иды дрогнул. — Мне очень дорого все, связанное с нашей жизнью в Крыму.
«Мне очень дорого все, связанное с нашей жизнью в Крыму»… Неужели… А ведь это должно было быть так, не могло не быть так…
— Вы, вероятно, читали и другие Женины стихи?
— О, не все… В те годы мы находились в слишком неравных положениях: мы были для Жени младшими и не слишком его интересовали. А мальчики, Сережа и покойный Вадик, были самолюбивы настолько, насколько только могут быть самолюбивы семиклассники… Если мы и затевали что-то сообща, это более всего напоминало порой перемирие между давними врагами. Однажды, когда царило фехтовальное поветрие, Вадик довольно сильно поранил Жене руку в испанском выпаде… Впрочем, иногда он начинал дурачиться так, что затыкал за пояс мальчиков, и тогда бывало необыкновенно хорошо…
«Не могло не быть так, и поэтому — было… Для того чтобы об этом догадаться, нужно только одно — попросту знать, что он там в это время был — самый обаятельный и испорченный из всех Мельмотствущих щенков, элегантный Женичка Ржевский со спадающими на плечи темными волнистыми волосами… Он там был — и все, этого достаточно… И до чего проста логика — там, где на дороге Юрия встал живой Женя Ржевский, у меня на пути становится его тень… Ида Белоземельцева сделана из того же теста, что и покойная Лена Ронстон… Покойный… покойный… покойная… — до чего мы привыкли произносить это слово с именами тех, кому даже и сейчас было бы не более двадцати пяти… И Женя Ржевский мертв уже четвертый год — почему мне так страшна сейчас его тень?»
— До сих пор не могу представить их, Вадика и Женю, — мертвыми, убитыми… Я знаю, что Вадик умер в лазарете, — очень странно: мне почему-то чувствуется, что он мог умереть только мгновенно, и не от раны, а от самой пули… Не знаю — какие-то болезненные фантазии, вероятно, я просто не знаю, что такое война…
23
«Ma tante!
Надеюсь, что в своих неутомимых хлопотах Вы все же успели соскучиться по Вашей бедной племяннице, которой очень грустно в пустой квартире…
Вы не можете представить себе, какая неожиданная встреча была у меня вчера в Тюильри. Помните ли Вы племянника Льва Михайловича Вишневского, Вадима? Сейчас он до осени в Париже, по делам организации Таганцева, на которую только и остается уповать здесь… /Ьумаю, Вырады будете его увидеть по приезде…»
Ида отложила перо и, вздохнув, отошла от лежавшего на маленьком письменном столе бювара. Как не хватало ей именно сейчас, в эту минуту, здесь, Ирины Андреевны, ее не обижающей раздражительности, ее энергичной походки… Когда делалось особенно тоскливо, Иду обыкновенно выводила из этого состояния тетя: не утешениями, нет, далеко не утешениями… «Я не постигаю, моя милая, кому ты делаешь лучше своим унылым видом! Конечно, если тебе это больше нравится, ты можешь еще пару часов повздыхать, глядя в окно, но я бы попросила тебя ремингтонировать эти бумаги — ты представить себе не можешь, в каких ужасных условиях вынуждено жить большинство наших военных!»
И это помогало во много раз действеннее самых душевных утешений. Ида с радостью выполняла любую работу, которую ей давала Ирина Андреевна: оформляла, развозила, перепечатывала какие-то бесконечные подписки, прошения, ходатайства, справки — и эти скучные занятия ничуть не казались ей скучны: в этом был какой-то маленький и незначительный, но все же — ее, Идин, вклад в помощь Родине…
О, никто и сейчас не мешал ей заняться делами вместо того, чтобы, разволнованной встречей со знакомым из прежнего мира, ходить по комнате, бесцельно переставляя деревянные китайские вазочки с сухими букетами роз с бюро на письменный столик и на трюмо, задергивая и раздергивая занавески, ощущая, как растет и растет где-то внутри знакомое чувство, которое невозможно передать словами. Только один образ связывался с этим чувством — маленькой птички, отчаянно бьющейся о прутья клетки, и чем сильнее бьется эта птичка, тем больнее ей ударяться о прутья!
Никто не мешал отвлечься делами, но никто и не заставлял сделать над собой этого усилия… Нельзя быть такой слабой! Но что поделать, если она не может, очень хотела бы, но не может быть другой, такой, как тетя, например…
Ида опустилась на ковер и выдвинула нижний ящичек бюро: в этот ящик она почему-то не позволяла себе заглядывать часто…
Вот он — водворенный на прежнее место маленький сборник с милым теперь снобизмом тщательно продуманного Женей оформления… Вот — вязаный бисерный кошелек с черноморскими камешками: их собирали вдвоем с голубоглазой Наташей Ивановой-Вельской — еще до гимназии: бегали потом за старшими, чтобы рассудили, чья «коллекция» красивее… Акварели Вадика — небольшой альбом, разлохматившийся от многочисленных путешествий в кармане по крымским горам… А вот опять связанное с Женей Ржевским, почему-то оказавшаяся в Вадиковых бумагах записная книжка, в которой только несколько страничек заполнены неровным, летящим, очень неразборчивым Жениным почерком…
«Я вспоминаю мой царский сон…
Мне снился Александр, укрощающий Букефала. И Александром был я. Это я напрягал всю силу мышц это я сжимал коленями могучие бока, это я стремился удержаться в неистовом танце звериного скока..
Но я, я был также и чудовищным зверем — Букефалом. И я нес, становился и кружил, стремясь сбросить своего всадника…
Я вспоминаю мой царский сон, и мне становится внятным, почему обуздание Букефала было первым подвигом Александра».
Далее следовали пустые листки, Ида отложила книжку.
«А все-таки понимает ли он сам, что он его сбросит, непременно сбросит, раз уж понес…» — медленно проговорил тогда Вадик дома, впервые прочитав еще пахнувший типографской краской сборник «осртецл8т», пришедший по почте вместе со вложенной в него лаконичной, небрежно-остроумной запиской.
— Ты о чем?
— Нет, я так… — Разговор этот вспомнился и был понят много потом, когда вспоминать и понимать стало излюбленным занятием…
…В руках Иды оказалась твердая фотографическая карточка со стершимися краями…
«Williams photo. 1915. Crimea».
…Белый, ослепительно-белый костюм щегольски опирающегося на стек Вадика. Кажется, что морской ветер безопасен для его безупречного пробора, от которого за версту веет царскосельским глянцем… Улыбка пятнадцатилетнего Вадика по-взрослому сдержанна.
Ида смотрит в объектив с детской серьезностью. На ней — белое кисейное платьице, из выреза которого выступают худые ключицы и длинная шея. Темные волосы распущены — хорошенькая девочка-подросток в возрасте гадкого утенка.
Рядом с Идой, справа, стоит Сережа Это московский вариант Пелама Вместо безупречного глянца — чуть нарочитая обаятельная небрежность. Небрежна непринужденная поза. Волосы чуть взлохмачены ветром. На Сереже — серый pull-over и серые фланелевые брюки, даже складка на которых значительно уступает острой, как бритва, складке Вадиковых…
Над скалой Парус навсегда застыли в своем полете беззвучно кричащие чайки…
«Williams photo. 1915. Crimea» — серебряным тиснением внизу.
Глухой стук копыт по каменистой тропинке: звезды просвечивают сквозь закрывшую небо черную листву.
Тропинка все круче, грудь лошади раздвигает хлещущие ветви…
«Не бойтесь, благородная госпожа, они не настигнут нас — я готов поклясться в этом своим мечом!»
Заросли все гуще — Господи, как темно! От полурадостного ужаса холодно в груди…
— Они нас не настигнут! — Рука, держащая Иду за талию, становится тверже: лошадь перепрыгивает какую-то яму… — Им не придет в голову, что я поскачу горами, ни за что не придет…»
«Не придет, потому что это — безумие», — думает Ида. Сережино лицо совсем близко: оно кажется как-то осунувшимся от играющего в каждой черте азарта: Ида видит; как он в нетерпении кусает губы, когда все же приходится ехать медленнее.
Игра владеет всем его существом: «они» — сейчас это для него не Вадик, не Женя, не Саша Дмитриев и не обожающая мужские роли Наташа Иванова-Вельская, а враги, преследователи настолько настоящие, что, уходя .от них, он ни минуты не колеблясь мчится, рискуя лошадью, собой и Идой, в обход — по лесным тропинкам склона…
…Уже третий день долина между Профессорским уголком и Алуштой служит ареной развернувшихся на ней подвигов Круглого стола…
Во флигеле дачи Ржевских находится теперь замок, в котором Ланселота — Сережу, благополучно похитившего Гвиневэру — Иду, ждут сообщники: «синие» рыцари — Володя Дмитриев и Игорь Львов. Разумеется, окончательно отстав, преследователи — «черные» рыцари — вернутся обратно и, собравшись там под всеми знаменами, пойдут осаждать «синий» замок: тогда игра перейдет в новую фазу.
…Преследователи остались далеко позади. Медленный ход Букки. Черные, уходящие в звездное небо кипарисы. Черепичные крыши белеющих в темноте длинных домов, окна которых выходят на внутренние веранды…
«—О чем Ваши мысли, сьер Ланселот?
— Неплохо бы как-нибудь использовать флот для дальнейшего ведения войны…»
Под «флотом» подразумевается легкая, небольшая, но весьма недешевая яхта «Афродита», на которой Сережа и Вадик иногда сутками пропадают в море. Особенно нравятся им берега в сторону Коктебеля…
«— И не следовало же высокородным Вашим родителям дарить Вам эту яхту…
— Отчего же? — Сережа негромко смеется. — Прежняя «джонка» нас с благородным сьером Черным Рыцарем решительно перестала устраивать».
Каким светлым кажется в темноте Сережино лицо, такое беспечное сейчас, когда сцена погони выиграна!
Копыта Букки цокают по камням мостовой…
…Сколько времени она сидит уже на полу у выдвинутого ящика бюро, держа перед собой фотографии и глядя на Сережу, на его отчего-то серьезные губы, открытые серые глаза и чуть взлохмаченные морским ветром волосы…
Сережа… Сережа… Сережа!
24
— Мне хотелось бы с Вами познакомиться. Эта прозвучавшая по-русски фраза заставила Тутти вздрогнуть.
На девочку, стоявшую сейчас перед ней, Тутти обратила внимание еще в классе. Удивительного в этом не было: девочка, сверстница Тутти, поражала чем-то с первого взгляда. Она казалась как-то болезненно-хрупкой, с серовато-нездоровым цветом лица: лицо это, обрамленное прямыми пепельными волосами до плеч, поражало контрастом если и не совершенно взрослых, то выявленных уже твердых черт — высокого лба, форма которого напоминала лоб инфанты Маргариты на портретах Веласкеса, красиво очерченных серых глаз, которые казались больше, чем были на самом деле, из-за глубоких фиолетовых теней под ними, красивым, хотя и не маленьким носом с горбинкой, немного тяжелым подбородком — с выражением едва восьмилетнего ребенка в этом слишком определенном для двенадцатилетней девочки лице. Странное, но какое-то светлое ощущение детскости вообще исходило от этой чем-то неуловимо похожей на портрет Маргариты «в серо-розовом» девочки… Впрочем, это была задумчивая серьезная детскость больного ребенка.
Они стояли, прямо глядя друг на друга, не зная о том, насколько странно смотрятся рядом — лицо Тутти, черты которого были слишком детскими для двенадцати лет, а выражение поражало взрослостью взгляда, являлось словно бы прямой противоположностью лицу незнакомки. И все же они чем-то друг на друга походили.
— Я запомнила, когда Вас представили, — с восьмилетней серьезностью проговорила незнакомка. — А я княжна Лера Гагарина. Лера или, чаще, Лерик. Вас зовут обыкновенно Таня?
— Нет, Тутти. Или еще — Тина, под этим именем мне пришлось некоторое время прожить в Совдепии, и я к нему привыкла.
— Значит, Вы видели большевиков и жили при красном терроре?
— Да. А когда Вы приехали сюда?
— Давно. Я мало жила в России — до самой войны мы жили в Бадене, а с шестнадцатого года уехали в Швейцарию. Из-за меня — там какой-то климат. Но ведь это не важно, если в жилах течет русская кровь. Вы — дворянка?
— По приемному отцу — да. А на самом деле — я не знаю.
— Не знаете? — в изумлении проговорила княжна.
— Не знаю. — Тутти недобро усмехнулась. — Когда папу расстреляли, я была слишком маленькой. Рассказы о родне вспоминаю теперь очень смутно… Я думаю, что теперь многие будут как я — ничего не зная о своих предках.
— Его убили — большевики?
— Да.
— Они убили Федю, моего брата. Он был юнкером. В Нижнем Новгороде. Мы… мы непременно должны дружить с Вами! — Немного побледнев, княжна стиснула обе руки Тутти неожиданно сильными тонкими пальцами.
Тутти смотрела на княжну с непонятным для нее самой чувством: в нем была и некоторая доля пренебрежения к беспомощности и детскости княжны, и странное желание непонятно от чего защитить эту девочку с мальчиковым нежным именем Лерик, и совсем не вяжущееся с этим угадывание за беспомощностью натуры столь же необузданно властной, как и ее собственная, и пробудившееся стремление к соперничеству… Тутти не могла не понимать, что она на десятки лет взрослее этой девочки, но было и другое, гораздо более глубокое, в чем они были равны, — этого равенства Тутти не доводилось прежде испытывать со сверстниками.
25
Вишневский не хотел больше отчитываться перед собой в своем состоянии: даже полностью погружаясь в идущие полным ходом заседания и кулуарные переговоры, он не мог отогнать от себя странное ощущение, будто все происходит не наяву или просто не с ним. Это не он, а какой-то другой человек по имени Вадим Вишневский до полной одури засиживался по ночам за письменным столом, взбадривал сам себя по утрам ледяным душем и крепчайшим кофе, разговаривал о продовольствии, оружии и нефти и работал снова… Он смотрел за этим человеком со стороны, и для него, настоящего, действительно реальным был лишь вопрос: достаточно ли прошло времени для того, чтобы удобным было вновь позвонить Иде и договориться о встрече?
Этот день начинался счастливо: вчера Ида сказала о том, что ей хотелось бы иметь что-нибудь из стихов К. Р. Вадим обещал поискать на набережных у букинистов, и вот, воспользовавшись коротким затишьем в работе съезда, уже шел по набережной Великих Августинцев к набережной Вольтера, где чаще торговали иностранными книгами…
«Этот парк у воды в Ситэ, пожалуй, самый красивый, если бы еще не рыболовы… Что за черт, пятая лавчонка с английскими книгами — неужели нет ни одной русской? А, кажется, вот!» — Вадим, нагнувшись в низкой двери, вошел в неприметную лавочку с покрашенной зеленой краской шторой.
В этой обычной на вид грязноватой и полутемной лавочке с литографиями по стенам было почти пусто. Букинист с пожелтевшими от табака гвардейскими усами, пожилой и неряшливый, проглядывал в углу газету. На выходе с Вишневским почти столкнулся немолодой господин с толстой палкой — он сердито прижимал локтем к своему дорогому летнему пальто несколько завернутых в сероватую бумагу небольших гравюр… У прилавка стоял молодой человек в элегантном сером костюме, с гривой отпущенных по плечи, по последней парижской моде, волос — в тот момент, когда Вишневский взглянул на него, он вытаскивал из высокой стопки книгу в темно-красном переплете. Золотой обрез, щиты с гербами на обложке… Вадим узнал эту книгу — «Подвиги короля Артура», детское издательство «Гранстрем»… Как и у многих детей, у Вадима было когда-то около десятка книг Гранстремовского издательства… И эта, «Подвиги короля Артура», и «Падение Гранады», и… что там еще было?
— И тогда сьер Боре бросил в воду меч короля Артура, и из середины озера поднялась рука, которая взяла меч и исчезла вместе с ним… — негромко произнес молодой человек, перелистнув страницу, затем, другим уже тоном, обратился к продавцу: — Je prends се livre. Mettez-le de согй, s'il vous plaot.69
Какие-то характерные интонации этого голоса заставили Вишневского вздрогнуть.
— Сережа?! Господи, Сережа, неужели это и вправду Вы?!
Молодой человек медленно повернулся к Вишневскому.
— Сдается, что да. Здравствуйте, Вадим.
Наваждение… Перед Вишневским действительно стоял Сережа Ржевский, какой-то очень непохожий на прежнего, в штатском, с этими длинными волосами… И все же это был он.
— А Вы, похоже, недавно здесь, Вадим?
— Недавно, но почему Вы догадались, Сережа? Похоже — чем?
— Количеством эмоций. У Вас, судя по всему, еще бежит кровь по жилам. А меня уже обескровил этот милый город, мечта Вашей, кстати сказать, юности.
— «Бойтесь ваших желаний, ибо они могут сбыться» — я живо иллюстрирую сейчас собой это изречение. Но Вы, кажется, здесь не недавно?
— Д-да… порядком. Уже более года.
— И как Ваши дела сейчас? — Вишневский продолжал приглядываться к Сереже: до чего же изменился он со времен дуэли с Юрием! Париж… обескровил… жутковато сказано, но даже внешне — похоже: гладко выбритое лицо — бледно, губы — сероватого оттенка… А тогдашний — раненый, даже раненый, он не терял здорового, свежего цвета лица… По ассоциациям с детскими гранстремовскими книгами, Вишневскому вспомнилось, как Илья Муромец, поваленный печенегом на землю, набирается от нее силы… Тот, раненый, Сережа был на своей земле… Париж… обескровил… вытянул живую, теплую кровь… Каким холодом веет от Сережи, от этих выразительных иронических реплик… Вадим отметил и то, что Сережа как-то особенно худ. Худоба эта была явно болезненного свойства. И то, что, несмотря на безупречную складку брюк и элегантный покрой, Сережин серый костюм не особенно нов и, пожалуй, чересчур легок по такой погоде…
— Так все-таки, Сережа, как Ваши дела сейчас?
— Благодарю, в меру гадостно. Слушайте, Вадим, давайте зайдем в бистро, тут есть рядом.
— Сейчас, только спрошу… Avez-Vous quelque chose de «К. R.» 70 ?
26
— А знаете, откуда произошло слово «бистро»? Ведь это русское «быстро!», только ударение перескочило. Память восемьсот двенадцатого года. — Сережа повертел в руке бокал с опалово-белым абсентом, отставил его на стойку. — Вы один здесь?
— Нет. — Взгляд Вадима скользнул со стойки, выкрашенной красной краской, на мокрые опилки пола: смотреть на Сережу ему отчего-то было неловко. — Я приехал с Тутти Баскаковой. Юрий хочет, чтобы она покамест училась здесь, в частном закрытом учебном заведении.
— Вот как — Тутти здесь?
С улицы донесся звон колокольчика на тележке разносчика. Через открытую дверь была видна бурая кирпичная стена дома, старая, словно в рыболовную сеть, окутанная в остов прошлогоднего плюща, с редкой еще прозеленью новых листьев.
— Ей ведь сейчас где-нибудь около двенадцати?
— Она будет рада Вас увидеть, Сережа.
— Нет, не стоит. К чему? — Сережина рука с гладко отполированными, ухоженными ногтями переставила на красной стойке бокал.
«Спивается? — подумал Вадим. — Нет, не похоже. Совершенно не похоже на то, чтобы он пил. Просто какая-то медленная душевная агония. От него хочется бежать, как от изголовья смертельно больного».
— Мы, вероятно, столкнемся на конференции. Я работаю у Струве, идет разработка плана оказания первой продовольственной помощи освобожденному Петрограду.
— Не очень представляю — такой род занятий, сдается мне, не очень по Вам.
— А по-Вашему, я гожусь еще на что-нибудь? «Тьфу ты черт, действительно бестактно: он мне сейчас ведь чуть не выплеснул свой абсент в лицо за эту фразу — „не очень по Вам“… Но извиниться было бы второй бестактностью».
— А Вы знаете, кто еще сейчас в Париже? Ваша соседка по Крыму, Ида Белоземельцева.
— Ида?.. — в Сережиной позе вдруг проступила сильная усталость. — Я рад, что она не там, хотя ее я тоже не хотел бы видеть… Сказать по правде, Вадим, видеть я бы никого не хотел.
27
Когда Тутти поняла, что эта новая, неожиданно наступившая жизнь не временна, а, напротив, так и будет неизвестно как долго продолжаться далее — с такою же пугающе-механической равномерностью; что, вместо того чтобы подходить к концу, она безжалостно втягивает ее самое в свой ход, — пришло доходящее до ужаса отчаяние.
Первое столкновение с новой жизнью вызвало у Тутти безотчетное недоумение: эта жизнь не таила в себе опасности. Один раз Тутти довелось уже узнать безопасную жизнь — но тогда она прошла незамеченной ее сознанием и была скорее отдыхом, просто необходимой кратковременной передышкой.
…Они жили тогда в Лондоне — около полугода: с января 1920 года — последнего месяца существования Национального центра.
Первые недели Тутти не видела перед собой Лондона, того самого Лондона, Лондона Эдуарда Тюдора, принца Уэльского, ее Лондона — Лондон словно был отгорожен от нее все повторяющимся потоком воспоминаний…
Юрий снял одноэтажную квартиру на первом этаже: некоторое время Тутти боялась лестниц…
Сцена, разыгравшаяся на узкой лестнице черного хода на Большой Спасской, то и дело снилась ей в кошмарах, сначала — каждую ночь, потом — реже и реже…
В ушах снова и снова звучал жесткий голос Юрия:
— Быстро оденься и беги через черный ход на Морскую…
— А Вы?
— Мне надо сжечь некоторые бумаги — на это уйдет с полчаса.
— Тогда я подожду? Пойдемте вместе, дядя Юрий, я боюсь одна…
— Вздор. Владимир Ялмарович арестован — здесь опасно оставаться лишнюю минуту, а я не могу уйти, не уничтожив бумаг, ты должна это понимать. Не спорь — дело серьезно, и твои детские страхи неуместны. Иди и на всякий случай — на. Если я нагоню тебя на улице, сделай вид, что идешь сама по себе.
Говоря это, Юрий складывал в эмалированный умывальный таз пачки бумаг, конвертов, карт, чертежей…
На лестнице было двенадцать ступенек — Тутти как-то их сосчитала от нечего делать… Она ступила на вторую, когда у подножия ей преградил дорогу темноволосый молодой человек в черной кожанке… Он ставил уже ногу на нижнюю ступень, когда увидел Тутти.
И тогда случилось то, о чем Тутти все пребывание в Лондоне не могла вспоминать наяву, но и сами эти кошмары тоже пришли к Тутти только в Лондоне. Тогда у Тутти не было времени на то, чтобы по-настоящему испугаться своего поступка, — события этого дня мчались с кинематографической быстротой…
Воздушный путь был уже отрезан, явки — провалены, ЧК шла по следам…
Несколько часов спустя Некрасов и Тутти были уже в том самом пригородном домишке, с которого когда-то началось для Юрия петроградское подполье: оставшимся на свободе членам Центра нужно было спешно, по двое, по трое идти через границу…
…Идти трудно — сырой снег: с утра была необычная для января оттепель…
Неожиданно останавливается идущий впереди Ян:
— Секрет…
— Далеко?
Звуки выстрелов: Ян падает и остается лежать, раскинув руки. Из лесу бегут красноармейцы… За спиной — поросший мелким лесом берег и изгиб скованной льдом речки.
Юрий уходит — левой рукой таща подхваченную под мышки Тутти, правой — навскидку отстреливаясь из маузера…
Юрий уходит, таща Тутти и поэтому зная, что уйдет, что на это хватит сил, каких бы не было в нем, если бы он уходил налегке: в прижатом к боку маленьком теле он уносит весь воплотившийся смысл этой жизни и все упование на грядущую, — это сознание дает ему нечеловеческие силы…
Для Тутти это же воспоминание было только трудностью неудобного положения, болью в ребрах от стальными тисками зажавшей ее грудную клетку руки Юрия, несколько отрешенным детским приятием пассивной роли: сейчас она ничего не может сама и нельзя мешать…
…Потемневший, покрытый тонким трепещущим слоем воды речной лед… Оттепель… При мысли о том, что надо вступить на этот лед, по телу пробегает невольная дрожь.
Но иного выхода нет: Юрий знает, что красноармейцы не решатся преследовать его по льду — не решатся потому, что для того, кто решится на это, надо тащить на себе это маленькое тело, завернутое в дубленый полушубок, надо спасать эту маленькую, невыносимо драгоценную жизнь…
«Господи, благости Твоей… Благости Твоей вверяю жизни наши, Всеблагий и Всемогущий… Благости Твоей вверяю жизни наши…» — произнес про себя много лет не молившийся Юрий, без колебания вступая на покрытый струящейся водной пленкой лед.
Они стреляли вдогонку — с невысокого, заросшего заснеженным ивняком бережка… «Благости Твоей…»
Юрий больше не отстреливался, оставляя один патрон — для Тутти…
Через несколько недель они были в Лондоне. Но Лондон, через полгода за которым вновь последовал Петроград, все же не вызывал в сознании Тутти всех этих сцен с такой беспощадной яркостью, как отчего-то делал это теперь Париж…
…Когда ее память, память девятилетнего ребенка, только что пережившего арест отца, навсегда впитывала страшные фразы, срывавшиеся с запекшихся губ бредившего Сережи, только что вырванного из Чеки, — она не могла бы и представить себе, насколько яркой окажется эта память…
…Это появление Сережи из Чрезвычайки Тутти тоже запомнилось страшным: хлопнула дверь, и послышались тяжелые, но какие-то бестолковые шаги, и в комнату вошли Зубов и Некрасов, таща на руках безжизненно повисшее тело: на ходу качалась висящая как плеть рука с почерневшими в кровавой коросте распухшими пальцами… Вид этих пальцев заставил Тутти вскрикнуть.
— Ну что ты стоишь! — Только Зубов заметил ужас Тутти. — Быстро беги греть воду!
— Без стрельбы? — спросил Вишневский, распахивая перед ними следующую дверь.
— Почти… — бросил сквозь зубы Юрий. — Ты лучше взгляни, кто это…
— Ржевский?! — изумленно прошептал Вадим, взглянув в откинувшееся назад измученное лицо.
— Я сам был слегка удивлен… Хорошо, что жив… если, конечно, выживет.
Через полчаса из комнаты, в которую внесли раненого, вышел Даль. «Похоже, ничего особенного, — хмурясь произнес он на ходу, — недели за две поставим на ноги. Если, конечно, не отбиты почки».
…Тутти помнила и не хотела забывать сцен из жизни петроградского подполья: Тутти очень многое помнила. Шла размеренная жизнь пансиона с расписаниями уроков в дневнике, музицированием и играми в окружавшем жилые здания пансиона саду — а в душе внешне живущей этой жизнью двенадцатилетней девочки бушевал революционный Петроград…
Тутти не могла понять, почему она, нимало не думая о творящемся вокруг, учась в советской школе и живя по подложным документам, теперь не могла думать ни о чем другом… Когда-то она могла с увлечением читать Дюма, живя в квартире на Богородской, а сейчас мушкетеры, лорд Фаунтлерой, принц Уэльский и княжна Джаваха — отступили куда-то в сторону, маня издалека, но не подходя близко, а в Тутти, словно бес, вселился Петроград… Это было непостижимо — но тем не менее когда Петроград был вокруг Тутти, его не было внутри ее.
Неужели она не могла уехать из Петрограда, не увезя его с собой — весь?
Неужели он — весь — мог поместиться в ней одной, такой огромный и кровавый? Иногда, на улице или посреди урока, на Тутти находило странное состояние: замолкнув посреди фразы, она начинала пристально и внимательно оглядываться по сторонам — но в детских лицах одноклассниц или в мирной сутолоке парижских улиц Петрограда не было… И Тутти как бы снова понимала то, что весь Петроград находится только в ее душе…
«Возьмите меня обратно, дядя Юрий!»
Ей казалось, что освободиться от Петрограда, перестать думать о нем можно будет, лишь вернувшись туда.
Только в Петрограде она сможет стать свободной от Петрограда.
Однако шла неделя за неделей, и детская душевная гибкость начинала незаметно для Тутти брать свое… Под особенным вниманием учителей и прислуги (история ее, конечно, была известна), против своей воли, но все же втянувшись в школьный ход, Тутти начала успокаиваться. Стремление в Петроград ослабло.
Отчасти сыграла здесь роль дружба с очень потянувшейся к Тутти Лерик Гагариной. В общении с ней Тутти сначала как бы вела своего рода игру, притворяясь прежней собой, с прежними своими книжными интересами, но не замечая, как дружеское притворство все чаще становится правдой: понемногу оживали помертвевшие было страницы книг…
Но Петроград порой напоминал о себе.
28
— «Vulpus et uva» 71, mademoiselle Baskakove.
— Je n'ai pas mussi cette traduction.
— C'est dommage.. Vous pouvez Vous asseoir72.
Тутти села на место с пылающими щеками: такое случалось не первый уже раз. Правота Некрасова подтверждалась: Тутти то здесь, то там обнаруживала позорнейшее свое отставание от сверстниц — это она, привыкшая в советской школе не учась быть первой, быть лучше всех, всегда и во всем быть лучше всех… Иногда начинали терзать опасения, что нагнать так и не удастся…
— Хочешь, я помогу тебе с Федром?
— Нет, спасибо! Как-нибудь обойдусь сама, — вскинув голову отрезала Тутти: девочки шли по уставленному зеленью полутемному вестибюлю первого этажа, Тутти провожала Леру до выхода, где ту обычно ждал после уроков экипаж из дома.
— Почему? Я же действительно могу помочь тебе разобрать его, — недоумевающе протянула Лерик.
— В отличие от тебя я во всем разбираюсь сама, — Тутти как-то слышала от Лерика, что к ней ходят на дом учителя. — Поэтому, может быть, и знаю меньше тебя.
— Значит, ты полагаешь, что все, что я знаю, — только из-за учителей? — сверкнув глазами, остановилась Лерик.
— А по-твоему — сама? — Тутти тоже остановилась напротив княжны. — Что ты вообще в своей жизни делала сама? Легко говорить, что брата расстреляли большевики, и при этом ездить в экипаже два квартала от школы до дома, и учить уроки, и по звонку ложиться спать! А ты знаешь, как расстреливают? Ты это знаешь? Ты это видела? Что ты вообще видела и что ты вообще знаешь?! Я не знаю, почему я вообще с тобой говорю, между нами пропасть — потому что ты, девочка из детской, ничего не можешь противопоставить тому, что знаю я! Ты не имеешь права говорить со мной на равных!
Тутти говорила, не понимая сама, откуда с такой силой выплескивается эта доставляющая ей странную радость жестокость. Она говорила, видя, что ее слова попадают в цель, причиняя боль…
— В таком случае, если ты думаешь… что только ты… Ты можешь вообще со мной больше не говорить! Никогда, слышишь, никогда!..
— Я думаю, что больше нам говорить не о чем!
— Я тоже… так думаю! Если ты… — княжна не продолжила фразы, а замолчала, неожиданно прижав к горлу ладонь, и, словно перестав замечать перед собою Тутти, как будто ощупью найдя стоявшую рядом банкетку, села.
Упоение неожиданно нахлынувшей жестокостью прошло: Тутти стало не по себе. Сидящая на банкетке Лерик низко наклонилась вперед, почти упав головой на колени.
— Ты… что с тобой?!
— …Надо скорее домой… пока приступа нет, — с трудом проговорила Лерик, поднимая на Тутти до желтизны побледневшее лицо. — У меня… астма… вот… что я… знаю.
Когда Лерик нетвердой походкой вышла из подъезда и села в поджидающий ее экипаж, Тутти, сама не зная почему, постаралась заглушить в себе поднимающееся раскаяние. Весь вечер она провела за учебниками, со злостью вгрызаясь в задания на следующий день. Так или иначе, но показать Лерику, что она способна учиться не хуже, было необходимо. Злость оказалась подходящим рычагом, и Тутти, против обыкновения спеша утром в класс, уже заранее торжествовала победу — как нельзя более кстати: уже начинали выводиться итоговые оценки перед каникулами. Место Лерика оказалось пустым. Это вызвало у Тутти такую досаду, что она не сразу связала отсутствие княжны с тем, что произошло накануне, а только услышав разговор сидящих впереди нее девочек:
— Gagarine est absente aujourd'hui73, — шепнула соседке темноволосая Луиза Молье, вставляя в ручку другое перо.
— Elle est encore malade74, — ответила соседке Эли Ренар, голубоглазая и белокурая девочка с капризным выражением лица.
«Malade» 75 — это слово связалось вдруг для Тутти со вчерашней ссорой… «Malade» — из-за нее? Из-за этого, казалось, приносящего ей, Тутти, облегчение, ощущения выплескиваемой жестокости?
…После уроков Тутти пошла к начальнице просить разрешения навестить mademoiselle Гагарину.
29
Подходя к скрытому за решеткой довольно большого сада особняку Гагариных, Тутти почувствовала, что решимость начинает ее оставлять. Принятое решение по-прежнему оставалось единственно правильным, но эта правильность стала безжалостной: выполнить его представлялось уже почти невозможным. Мысль о заболевшей из-за нее Лерик казалась невыносимой, воспоминание о побледневшем до желтизны личике княжны и сломленно поникшей позе хрупкого тела обжигало сознанием вины… И все же переступить через свое самолюбие было невозможно. Княжна слишком походила на Тутти, и поэтому в том, чтобы уступить ей, Тутти чудилось унижение.
Готовая разреветься от злого отчаяния, Тутти опустилась на белую скамейку недалеко от ограды, от которой нельзя было уйти и которую нельзя было переступить.
— Quelque chose ne va pas, Mademoiselle76?
— Нет, ничего, — забывшись, ответила по-русски Тутти.
— Вот как, соотечественница?.. Не являетесь ли вы к тому же mademoiselle Баскаковой?
Тутти с изумлением подняла глаза: стоявший перед ней пепельно-светловолосый элегантный молодой человек лет шестнадцати был ей незнаком, но черты его лица кого-то напоминали.
— Да. Как Вы догадались?
— Это секрет, — со смехом ответил молодой человек, перебрасывая легкую трость из руки в руку. — Я — брат Леры Гагариной, с которой Вы учитесь в одном классе.
— Как она себя чувствует? — спросила Тутти, глядя на молодого князя несколько настороженно.
— Благодарю Вас, ничего. Ведь Вы, вероятно, хотели ее навестить?
— Я… да… не знаю…
— Пойдемте! — Гагарин приветливо улыбнулся Тутти. — Вы знаете, она будет очень рада Вас видеть.
30
Не бывавшая прежде у Леры Тутти, переступив порог гагаринского особняка, неожиданно почувствовала себя перенесенной из центра Парижа в дореволюционную Россию, даже — в Россию прошлого века По рассказам она уже знала, что этот особняк построен еще дедом Лерика. По свойству всех старых русских домов, некоторая обветшалость обстановки и придавала своеобразный уют внутреннему убранству дома. Узкие окна коридора были затенены разросшейся зеленью сада, широкая лестница с дубовыми перилами вела наверх, на второй этаж.
Поднявшись по лестнице и пройдя через комнату, представляющую из себя нечто среднее между классной и детской, с книгами в застекленном шкафу, с глобусом на подставке, с партой из светлого полированного дерева, но при этом — с большими куклами, сидящими в углу на диване с высокой спинкой: одна из кукол была одета гусаром, другая — паяцем в колпаке с бубенчиками, третья наряжена в пышное розовое платье. Другие игрушки, поменьше, тоже валялись на столе, в креслах и прочих не для игрушек предназначенных местах… Игрушек в комнате было очень много, была даже мальчишеская железная дорога. Тутти и Гагарин подошли к двери во вторую комнату.
— Лерик, к тебе можно? — негромко спросил Гагарин.
— Можно, — послышался из-за двери слабый голос княжны.
Комната, в которую они вошли, была спальней. Это была совсем взрослая спальня, нисколько не похожая на спальню двенадцатилетней девочки, с большой деревянной кроватью, большим старинным трюмо вдоль стены, с темной и строгой мебелью. Сейчас в ней царил беспорядок: дверь в ванную была не закрыта, в кресле валялась большая кислородная подушка с обернутым салфеткой краном, у изголовья стоял какой-то непонятный белый металлический штатив с укрепленной наверху стеклянной банкой с делениями на стенке и краном внизу: от банки тянулся резиновый провод, оканчивающийся иголкой. На трюмо и на столике теснились лекарства, на ковре у кровати зачем-то стоял белый эмалированный таз, на дне которого была налита розовая ароматическая вода, почти повсюду валялись носовые платки.
Лерик, на кровати которой лежала груда потрепанных книг, читала, сидя в подушках, посреди всего этого жутковатого для Тутти беспорядка. Когда Тутти и брат вошли, она не подняла глаз от страницы. Белая кружевная кофточка подчеркивала бледность ее осунувшегося лица Глаза казались на нем огромными из-за фиолетовых кругов. Светлые волосы выглядели потускневшими и грязными.
— Ты опять отослала сиделку? — недовольно произнес Гагарин. — Кто тебе разрешал это делать?
— Я не могу все время оставаться с чужим человеком, — ворчливо ответила княжна, не отрывая глаз от книги.
— А то, что тебе нельзя оставаться одной, ты, кажется, не понимаешь, противная девчонка? Дождешься того, что я вызову родителей из Лондона, пусть бросают все дела и разбираются с тобой сами… Стоите Вы после этого, mademoiselle, чтобы Вас навещали подруги?
— Какие подруги? — Лерик с удивлением подняла глаза и побледнела еще сильнее. — Тутти!
— Я отпросилась у madame Термье тебя навестить, — с трудом ворочая непослушным вдруг языком, выговорила Тутти. Еще недавно так терзавшие ее мысли о том, приходить ли первой к Лерику, испарились, будто их не было. Чтобы их не стало, довольно оказалось увидеть этот пугающий беспорядок в комнате, выступившие скулы на лице княжны, заметные даже под кружевом кофты ключицы. Теперь Тутти по-настоящему поняла то, что казалось ей прежде непонятным во всем облике княжны: это было знание физического страдания.
Физическое страдание Тутти доводилось видеть и прежде, но это было другое страдание, причина его всегда была проста и приходила извне — и чаще всего этой причиной был выстрел. Это же страдание таилось внутри княжны, как будто какая-то злая сила, слишком большая для этого хрупкого тела. Физически крепкая, Тутти с мистическим ужасом почувствовала болезнь Лерика как вселившегося в княжну злого духа
Не зная о мыслях Тутти, Лерик, казалось, не находила в своем состоянии ничего страшного.
— Как ты… себя чувствуешь?
— Хорошо. Только слабость — у меня всегда после приступа слабость. Ты садись, пожалуйста.
— Ладно, не стану вам мешать, юные девы.
— Конечно, не мешай.
— Милая особа моя сестра, не правда ли, mademoiselle Баскакова? «Конечно, не мешай» — в виде признательности за неусыпные мои братские заботы, — с этими словами молодой князь скрылся в дверях. Его непринужденная веселость, сначала шокировавшая Тутти в беспорядке этой комнаты, становилась ей понятна.
— Ты что, сразу все эти книги читаешь?
— Это детские. Я люблю пересматривать свои старые детские книги, когда болею, — улыбнулась Лерик, откладывая книгу, которая была у нее в руках. Серо-зеленая обложка показалась Тутти знакомой.
— Лагерлеф? Тебе нравится?
— Нет. Мне она и в детстве не нравилась — по-моему, так писать о Христе глупо.
— По-моему, тоже, — подхватила обрадованная легко завязывающимся разговором Тутти, — особенно эта история про глиняных птичек. Да и про пальму не умнее.
— Лучше всего тут история про рыцаря, который нес свечу от Гроба Господня. Когда и грабители нападают, а он не может сопротивляться, чтобы свеча не погасла, и все им отдает, помнишь?
— Да, это, конечно, лучшая, — как всегда, Лерик и Тутти, увлеченные разговором, забывали удивляться тому, до чего совпадали их мнения. — Но и она какая-то… детская. Я никогда не любила детских историй — по-моему, лучше настоящая история.
— О, еще бы! Знаешь историю про Годвина, как Эдуард Исповедник обвинил его на обеде в убийстве принца Альфреда? — Лерик рывком села на постели и обхватила руками хрупкие, даже под одеялом, коленки.
— А Годвин поднялся за столом с куском хлеба в руке и сказал: «Пусть я подавлюсь этим хлебом, если я виновен!» — откусил хлеб, подавился и умер!
— Ведь это же было на самом деле… Я не люблю сказок, я люблю настоящее…
— А ты знаешь историю о том, как Черный Дуглас вез в золотом ларце сердце Брюса?
— Сердце Брюса? — непонятно отчего, но Лерик посмотрела на Тутти почти с испугом. — Брюса?.. Нет, не знаю, расскажи! Что ты знаешь о Брюсах?
— Что они пришли в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем, а откуда они взялись в его войске — неизвестно. Вильгельм Завоеватель сделал Брюсов баронами. Несколько столетий спустя Давид I Шотландский гостил в Англии и так полюбил тогдашнего Брюса, что подарил ему Анандэйл в Шотландии, и Брюсы стали лордами Анандэйлскими. Потом один из них женился на племяннице Уильяма Льва, короля Шотландского, а еще некоторое время спустя Роберт Брюс сел на шотландский престол Его сын Давид тоже был королем, но жил недолго. А потом, по женской линии, через Марджери Брюс, королями стали Стюарты. Больше всего историй рассказывается о короле Роберте… А из них мне больше всего нравится про Черного Дугласа. Когда король Роберт умер, надо было, как он завещал, отвезти его сердце в Святую Землю. Сердце набальзамировали и положили в золотой ларец, и вассал короля Роберта Черный Дуглас сел на коня и повез его в Святую Землю. Но на пути его встретили сарацины, которых было множество. Дуглас начал рубиться с неверными, и они один за другим падали под его мечом, но на месте каждого сраженного в бой вступал еще десяток. Тогда Дуглас понял, что ему не одолеть неверных, и швырнул в них ларец с сердцем, громко призывая на помощь своего короля. И произошло чудо: сарацины в ужасе обратились в бегство. Ты разве не знала этой истории?
— Нет, — в лице Лерика очень явно боролись желание что-то сказать и сомнение. — Про Черного Дугласа я не знала. Но я знаю про Черного Глебова.
— Про кого?
— Про Черного Глебова, — очень серьезно повторила Лерик. — Но, знаешь, я не стану тебе этого сейчас рассказывать. Лучше, когда мне можно будет вставать, я покажу тебе одну вещь… Из нашего масонского архива.
— Масонского?
— Да… Понимаешь, ведь у нас было очень много масонов в роду — и так, за двести с лишним лет, с конца семнадцатого века, собрался очень большой архив масонских документов. По большей части его собирал сенатор Гавриил Петрович Гагарин, который имел огромное влияние в масонстве, но не только он, конечно. Вот, года два назад, я тогда болела хуже, чем сейчас, Петька мне как-то рассказал историю о Черном Глебове, а потом я и сама ее прочитала Я тебе все покажу, когда встану.
Девочки расстались еще ближе, чем были до ссоры.
31
Это была массивная дубовая дверь, двустворчатая, напоминающая глухие ворота.
— Заперто? — с недоумением посмотрев на княжну, спросила Тутти. — А почему нет ни ручки, ни замочной скважины?
— Это же архив, — Лерик, приподнявшись на цыпочки, отодвинула какой-то деревянный щиток рядом с дверью. Открылся ряд металлических кнопок с цифрами от нуля до девятки. — Дверь открывается шифром. А если неправильно набрать, то загудит…
— И ты знаешь шифр?
Искушение щегольнуть перед Тутти посвященностью в подобную тайну было велико, но боязнь ступить на скользкую почву пересилила его, и Лерик неохотно сказала правду:
— Да… Когда у меня последний раз был приступ, в декабре, я перед этим простудилась на катке. Приступ оказался очень сильным, и Петька обещал, что я буду сама открывать архив, когда поправлюсь, и папа согласился, только сказал, чтобы ничего оттуда не выносить, а то потеряю. Да в самом шифре особой тайны и нет — его и горничные знают, они же убираются… Просто от грабителей.
Последнее признание было особенно тяжелым, ибо прибирающиеся горничные, пользующиеся тем же шифром, начисто уже обесценивали знание Лерика. Но так или иначе — с этим было покончено, и пальцы княжны проворно забегали по кнопкам, набирая нужную комбинацию цифр. Половины двери не без скрипа разъехались, и девочки вошли в просторную прямоугольную комнату, вид которой вызвал у Тутти некоторое разочарование. Комната ничем не напоминала таинственное хранилище старинных рукописей. Это была обыкновенная современная комната, очень светлая из-за венецианских окон, забранных чугунными узорчатыми решетками, но не солнечная из-за того, что окна выходили в сад, где толстые беловато-серые стволы разросшихся платанов подступали совсем близко к дому, а за ними зеленой стеной тянулись высокие подстриженные кусты, комната с рассохшимся паркетным полом и глухими книжными шкафами вдоль стен — над одним из шкафов висел натюрморт фламандской школы.
— Это — архив тайных масонских бумаг? — Тутти недоуменно огляделась по сторонам, ожидая увидеть что-нибудь наподобие узкой дверки, ведущей в подвал.
— Да. — Движения Леры были уверенными и решительными, чувствовалось, что она привыкла бывать в этой комнате: она пододвинула стремянку к одному из шкафов. — Вот, эти два шкафа мне можно смотреть, а тот, третий, — нельзя. Он заперт на второй ключ. Его папа даже Петьке не дает. Но там не интересно — там идут бумаги начиная со второй половины прошлого века Я бы их и сама не стала смотреть. Помоги мне, он тяжелый такой…
Лерик вытаскивала с верхней полки темно-красный деревянный ларец довольно ветхого виду: казалось, он развалился бы, если бы не оковывающие его металлические полоски.
Кое-как стащив ларец вниз, девочки перенесли его на небольшой квадратный столик у окна. Лерик с немного торжественным выражением лица подняла крышку.
Верхним на кипе бумаг лежал плотный, пожелтевший лист, на котором тушью (цвета передавала штриховка) был начерчен герб, увенчанный тремя шлемами, — щит герба держался справа единорогом и слева — львом.
— Постой, не говори, чей это герб, я попробую прочитать…
— Ты хорошо читаешь?
— Не знаю… Дядя Юрий меня как-то учил. Постой… — держа бумагу на вытянутой руке, Тутти несколько минут напряженно рассматривала герб. — Щит четверочастный, в середине малый щиток — золотой, да, золотой, это золото… На нем — крест из двух перевязей, Андреевский, кажется, красный… Сам щит — первая часть — поле лазурь, справа налево — серебряная, серебро не обозначается, крепостная стена, он, переходит на четвертую часть — тоже стена по лазури… В каждой — над стеной серебряное ядро, не знаю, как называются эти три лучика от каждого ядра… Третья и вторая части тоже одинаковые, орлиные головы на серебряном фоне, по бокам означены зелеными дугами. Головы черные, с коронами, в профиль. Значит, главные цвета — голубой; величие, красота, ясность; серебро — невинность; зелень — надежда и свобода; черный — образованность и печать; лев — сила, великодушие, власть; единорог — чистота… Дальше… Девиз — «Fuimus», это — «Мы были»… Дальше — на первом шлеме — баронская корона с куском стены… На втором непонятно какая корона — венец с рукой, держащей золотую булаву… Третий шлем — графская корона с такой же орлиной головой… Очень сложный герб — может быть, тут имеется в виду, что в этом роду есть и бароны, и графы? Чей это герб?
— Брюсов! У них действительно были и графы, и бароны, и короли… А вот — дальше, эти два герба так и были здесь вместе — потом поймешь почему…
Лерик протянула Тутти второй лист бумаги, напоминающий первый.
— А этот без намета и без корон… Ну-ка… Первая и четвертая части — белая лилия на червленом фоне. Это — не русский герб?
— Русский. Есть несколько русских гербов с лилией, только очень мало.
— Дальше… Вторая часть — в лазоревом поле золотой лук с золотой стрелой — острие к правому нижнему краю… Третья часть — олень вправо по лазоревому полю бежит из золотого леса… Олень означает воина, обращающего в бегство неприятеля… Красный цвет — храбрость… А этот чей?
— Глебовых. А вот это — я сама не знаю кто… — Лерик положила на стол небольшой поясной портрет молодого человека в наряде начала восемнадцатого столетия.
— А это не твой Черный Глебов?
— Нет… Я видела один портрет Черного Глебова — это не он. Но этот портрет тут же был.
У изображенного на портрете молодого вельможи было скорее неправильное, чем красивое лицо с мелкими невыразительными чертами и острым подбородком. Лоб был высок, но узок, скулы — остры. Губы и нос — тонки. Цвет волос — неразличим из-за закрывающего их короткого парика. Единственной привлекающей внимание частью этого лица были глаза — неестественно большие, очень странного разреза — с чуть вытянутой линией век, какая встречается обыкновенно у желтой расы, но при этом не узкие, а широкие, наподобие еврейских, того редкого черного цвета, когда радужная оболочка как бы сливается со зрачком, оттеняя его глубину… От выражения этих глаз становилось не по себе, хотя оно не несло в себе угрозы, а было скорее бесстрастным и отрешенным — словно через эти глаза холодно смотрела сама древность. Портрет был замкнут по краям в образующую как бы квадрат линию — однако же это был не совсем квадрат.
— Ну и взгляд… — Тутти поежилась от пробежавшего по телу холодка.
— Заметила? Я на него боюсь долго смотреть — у него живые глаза… А вот теперь смотри — это самое главное.
Убрав портрет обратно, Лерик положила на стол две плотные связки бумаг. Первая из них, пожелтевшая, с истрепанными краями, в первую очередь обратившая на себя внимание Тутти, была исписана характерной скорописью восемнадцатого века.
— Здесь ничего не понять, это — сама рукопись моего предка князя Петра Гаврииловича Гагарина, она называется «О ЧУДОВИЩНОЙ ВРАЖДЕ МЕЖДУ „ОЗИРИСОМ“ И „ЛАТОНОИ“ И СКРЫТЫХ В СЕЙ ПРИЧИНАХ — ЗАПИСКИ ОЧЕВИДЦА КНЯЗЯ ПЕТРА ГАГАРИНА, СОСТАВЛЕННЫЕ В НАЗИДАНИЕ ПОТОМКАМ» и датируется 1816 годом. Но он уже был тогда глубоким стариком, поэтому и язык и буквы — все восемнадцатого века. А вот…
Вторая связка, значительно менее первой, соединяла обыкновенные современные листки писчей бумаги — зеленоватой, ворсистой и глянцевито-плотной. Она была покрыта карандашными строчками современного почерка.
— Этого здесь, конечно, прежде не было, — отвечая на удивленный взгляд Тутти, сказала княжна. — В шестнадцатом году папа решил подготовить рукопись для публикации в «Русской старине», а Федя ему помогал расшифровывать — он очень любил историю, хотя и решил стать военным… Он был очень одаренным человеком. Сейчас бы мне о многом хотелось с ним поговорить, а тогда я была ребенком. И вот Федя сделал как бы переделку в виде стилизованного рассказа — по этой рукописи. Вот она здесь и лежит. С тех пор как его убили, и будет здесь лежать — всегда! Знаешь, его ведь просто разорвали на посту… — Лерик закусила губу и развернула первый лист рукописи брата.
«Раннею весною года 1785-го от Р. X., завершив к семнадцати годам свое образование под родительским кровом, я прибыл в С.-Петербург, где был представлен ко двору. „Жалованная грамота“ в ту пору уже вступала в силу: я не занял должности — не по причине тяготения к праздности, напротив, исполненный благородными стремлениями пыл юности делал намерение быть полезну отечеству первым движением моего сердца, но, по свойству большинства вступающих в жизнь молодых людей, душевный жар не находил еще во мне согласия с разумом и скорее опьянял меня, нежели помогал найти должное применение моим силам. В этой простительной нерешительности не вступив в должность, я предавался развлечениям вошедшего в свет молодого человека, ожидая, покуда Фортуна сама не пошлет мне возможность действия. Счастливый, как мне представлялось, случай не заставил себя ожидать.
Я свел знакомство с молодым N, блестящим офицером гвардии, и вскоре по быстроте дружбы, свойственной юности, уже взаимно делился с ним сокровенными чаяниями. Немногим не сошедшим еще в могилу моим сверстникам, помнящим те далекие годы, не покажется странным, что следствием сей дружбы было скорое мое вступление в орден «Блистающей звезды» ложи «Латона». И лишь тому, кто прошел в младые свои годы подобным же путем, может быть понятно овладевшее мною в ту пору состояние. Так вот чего алкала моя душа! — думалось мне. — Вот раскрывшийся предо мною высокий мир Идеала, на алтарь коего я готов без остатку сложить жизнь!
Идеи Равенства, Братства и Свободы целиком захватили меня. Может статься, что благодаря этому встреча с человеком, воспоминания о котором побуждают меня взяться за перо, особенно запечатлелась в моей памяти. Молодого Глебова мне впервые довелось увидеть на бале в Зимнем дворце (не теперешнем, а тогдашнем, деревянном, из коего за десятилетие до этого выступала в Ораниенбаум Государыня)77 . Вступающему в свет и не искушенному жизнью юноше, каким был я в ту пору, казалось, что предо мною раскрылися сияющие чертоги царицы Савской: робея танцевать, я любовался, отошед за колонну, великолепием движущихся в ярком сиянии свечей пар… Государынино платье было в тот день смарагдового цвету: драгоценности ее переливались разноцветною игрою… Я не заметил, как ко мне подошел мой знакомец N, представляющийся мне тогда добрым моим гением, — сколь жестоко я ошибался!
«Отчего ты скучаешь, князь?» — ласково обратился ко мне он.
«Я сделал мало знакомств, и мне не хотелось бы еще выставлять на вид своей персоны, — смеясь, отвечал я, — но я был бы рад, если бы ты рассказал мне, кто есть кто в сей роскошной веренице».
«О, тебе повезло, — сказал N. — Взгляни на третью пару — видишь молодого человека, выступающего с меньшей княжною Долгоруковой?»
Взглянув, куда он мне указывал, я увидел молодого вельможу, показавшегося мне моим однолетком (он был на деле на десяток лет старше меня, как узнал я немного спустя)… Наружность его была примечательна необыкновенно: бледное, матовое, изумляющее совершенством черт лицо, прекрасные черные глаза, черные, свои, волосы его были собраны в короткую косу, переплетенную лентами черного же атласа. Волоса были вместо пудры посыпаны золотым песком — золото красиво и таинственно поблескивало в их черноте. Противу запрещению, камзол на нем был черного цвету (благодаря этому фигура его сразу обращала на себя внимание в ярко нарядной толпе), отделанный черными же кружевами, и на ткани, словно капельки крови, горели рубины, сиявшие также и на тонких его перстах. Молодой человек, выступая грациозно и легко, вел в менувете юную княжну Долгорукову, одетую в палевое платье… Так изящен был его поклон перед княжной, присевшей с прижимающими к корсажу незримый букет руками, так ловок его поворот, что я не мог не залюбоваться…
— Кто это?
— Это — Глебов, — отвечал N значительно. — Прежде узнай о нем то, что знают все: он богат как Крез, и только это обстоятельство может дать исход его прихотливейшей фантазии — волоса он пудрит только золотом, золотом же присыпает свои письма. Говорили, что он растворял в вине жемчуг и пил его, хотя он до странного неприхотлив в еде: обычно он пьет одну только воду и не ест мяса и рыбы. Изумительный фехтовальщик, пиит, музыкант, живописец, работы коего хвалят лучшие голландские мастера, химик, страстный любитель лошадей и превосходный наездник, удачливый талант — вот тебе лицо Глебова в свете. Но есть и еще одно лицо Глебова, о коем не знает свет, но узнаешь ты… Несмотря на молодость — он уже мастер, и «Латона» прочит его далее. Я не знаю среди молодых братьев более просвещенного и великодушного, чем он. Менувет закончился! Пойдем, я тебя ему представлю!
Вблизи Глебов оказался не юношей, как мне показалось, а молодым человеком лет двадцати шести. N представил меня как князя Гагарина, но сопроводил слова условленным жестом. С ласковою улыбкой Глебов протянул мне унизанную рубинами (иных камней он не носил, как узнал я после) руку: я сердечно ее пожал.
С этого дня я привязался к Глебову со всем жаром юности: казалось, он отвечал на мою симпатию взаимностью. В Глебове меня восхищало все: его марциаловский гумор, скорее, впрочем, веселый, нежели желчный, его отвага, его доброта и ровная приветливость — он, казалось, ничуть не был горд, что представлялось странным для такого блистательного молодого вельможи — но с последним поселянином в рваном армяке он разговаривал столь же ласково, сколь и со знатным царедворцем… Кнут никогда не свистал в его имениях: ничто не возмущало его так, как самая мысль о насилии… Именно эта мысль распаляла его душу неукротимым гневом, когда на собраниях ложи он произносил профетически вдохновенные речи о равенстве, братстве и свободе. Он представлялся образцом совершенства, примером для подражания…
Только один раз довелось мне быть свидетелем тому, как обыкновенная доброжелательная манера изменила Глебову.
Стояли дни начала июня 1785 года, редкостно жаркие и солнечные для Санкт-Петербурга. Светская молодежь затеяла катание на лодках в заливе. Все сияло праздником: солнце трепетало в брызгах морской воды, разлетающихся под веслами проворных гребцов… Яркие наряды и разукрашенные лодки красиво выделялись на дробящейся от легкого Зефира водной глади. Я сидел в одной лодке с Глебовым, неизменно одетым в черное, неизменно веселым. В руке у него была раскрытая книга Тасса.
Вдалеке от нашей лодки от вставшего на якорь судна (оснастку коего я и разглядывал в тот момент через подзорное стекло) отделился ялик: мне был хорошо виден путешественник в голубом камзоле, отдающий какие-то приказания носильщикам. Багаж его состоял из трех объемистых сундуков — я заключил, что путешественник прибыл издалека.
— Любопытно, кто этот приезжий, — сказал я, протягивая трубу Глебову. — Взгляни, он не знаком тебе?
— Погоди, тут великолепна сцена Армиды и Ринальдо, — не отрываясь от книги проговорил Глебов, отстраняя жестом мою руку.
Отошед от борта, ялик уже приближался к нам: теперь и без увеличительной трубы был виден приезжий, который стоял на носу, выпрямившись и сложив руки на груди, глядя на приближающуюся пристань. Его лицо, обрамленное перлово-серым париком, было незначительно, но приятно. Казалось, он полной грудью вдыхал животворный воздух отечества.
— Воистину, мы не умеем еще владеть нашим же языком, — произнес Глебов, закрывая книгу. — Сколь гармоничнее звучат для слуха… — он замолк, не докончив фразы: ялик приезжего поравнялся с нашей лодкой.
— Тебе знаком этот путешественник? — спросил я, когда мы миновали ялик.
— Знаком ли он мне? — Прекрасные глаза Глебова сверкнули огнем, лицо его исказила чудовищная гримаса ненависти — я отшатнулся в ужасе: никогда прежде не приводилось мне видеть в человеческом лице такого сатанинского озлобления; но еще ужаснее был последовавший за этим смех. — Ты спрашиваешь, князь, знаком ли мне Яков Брюс, ничтожный сын великого рода и внучатый племянник человека, по вине коего я… — Глебов осекся, не договорив до конца. — Впрочем, это пустое. Скажу тебе, что этот человек является большим врагом «Латоны».
— Так он — противник движения вольных каменщиков?
— Напротив того — он сам каменщик, — отвечал Глебов, уже вполне овладев собою.
— Как же может каменщик быть врагом «Латоны»?
— Он из ложи «Озирис», — прекрасное лицо Глебова снова омрачилось. Так я впервые узнал о вражде между двумя ложами. Но прошло несколько времени, прежде чем я узнал, сколь роковые причины были у Глебова ненавидеть ложу «Озирис». Увы, они открылись мне слишком поздно, непоправимо поздно!
Через Глебова же я свел в тот год знакомство с Василием Баженовым, завершавшим тогда свой десятилетний труд — постройку загородного дворца в Царицыне. Не могу хотя бы вскользь не коснуться в своих записках исключительной сей личности. Обаяние Баженова было необыкновенно. Я с уверенностью могу утверждать, что обаяние его в общении было столь же велико, сколь в архитектуре — его дарование. Играющий остроумием, рассыпающий своим появлением блистательные фейерверки каламбуров и острот, этот недюжинного ума и большой образованности человек имел в характере как бы некоторые черты избалованного всеобщей любовью ребенка Жизненные неудачи, кои, казалось, по воле злобного рока преследовали его, он переносил с необыкновенною твердостью духа. Ко мне Баженов отнесся с обыкновенной своею душевной сердечностью и вскоре предложил мне сопровождать его в поездке к Цесаревичу Павлу. Мне было уже известно о том, что Его Высочество имеет твердое намерение присоединиться к братству вольных каменщиков (с этой целью особо подготавливался уже московский особняк Глебова). Я с восторгом согласился.
Дорога прошла в приятнейшей беседе: мне доводилось уже слышать о том исключительном доверии, коим дарил прославленного зодчего молодой наследник престола, и я с сугубым вниманием прислушивался к рассказам Баженова о цесаревиче Павле. Впрочем, из рассказов этих у меня не складывалось определенного впечатления о личности Цесаревича, которого никогда доселе не доводилось мне видеть. Баженов предавался воспоминаниям о том, каким милым ребенком был Его Высочество; как, спустя несколько лет, нашел он Его Высочество уже взрослым молодым человеком — но слушать это было интересно благодаря дару рассказчика, которым был в избытке наделен Баженов, и не успел я опомниться, как колеса везшей нас кареты застучали по мостовой въезда в Гатчинский парк.
Несмотря на роскошь начинающейся весны, в самом воздухе парка жило веяние какой-то гнетущей тревоги: нам не единожды преграждали дорогу, спрашивая об именах и цели нашего прибытия. Ближе к подъезду сновала усиленная охрана, и замок странно напоминал военный гарнизон: придворной же жизни, которую ожидал я увидеть, не было и следа.
Вошед в полупустой зал, в коем не было заметно никого, кроме лакеев и дежурных офицеров охраны, мы услышали доносящийся сверху звук торопливых шагов: нам навстречу по лестнице спускался молодой человек в камзоле цвета бледной сирени.
— Наконец-то! — радостно воскликнул он, на ходу раскрывая Баженову объятия. — Я так соскучился ожиданием, что не поверил даже, когда мне доложили о Вашем приезде…
— Так Ваше Высочество благоволили не забыть об ожидаемом визите Вашего преданного слуги? — почтительнейше обнимая молодого человека, спросил Баженов.
— Забыть о Вас, добрый, дорогой мой друг? Возможно ли это — спросите у того маленького одинокого мальчика, коему Вы привезли из далекой Италии книгу с чудесными картинками! — смеясь отвечал молодой человек, в коем я сразу угадал Цесаревича Павла. Он не напоминал чертами Государыню, был приятно голубоглаз, белокур, хорош не столько красотой лица, сколько открытым его выражением и молодостью и, как сразу бросилось в глаза, неровен в движениях.
— Вы слишком добры ко мне, Ваше Высочество. Однако же позвольте представить Вам молодого князя Гагарина, почтительнейше преданного Вашему Высочеству, — Баженов сопроводил слова условленным жестом.
— Я рад Вам, князь, хотя и не много цены имеет благосклонность изгнанника, — обратился ко мне Его Высочество: за разговором мы прошли уже в отделанный белым мрамором голубой кабинет. Цесаревич жестом отослал лакеев.
— Не впадайте в преждевременное отчаяние, Ваше Высочество, — как бы отвечая на сказанную мне фразу, произнес Баженов, предусмотрительно прикрывая дверь. — Я убежден, что скорое вступление Ваше на праведную стезю принесет Вам желаемое утешение.
— Скоро ли будет завершен Царицынский дворец? — как бы внезапно решившись и с сильным волнением, не вяжущимся с сутью вопроса, спросил Цесаревич. — Я считаю месяцы и дни до завершения его постройки — иногда мне кажется, что я умру от ожидания, Баженов!
— Ваше Высочество, mon cher enfant78, — голос Баженова дрогнул, — Вам должно быть известно, что я не смогу возвести своды Царицынского дворца ранее, чем Вы пройдете под «стальным сводом». Если бы здание возводилось моей лишь мыслью архитектора — о, на постройку не понадобилось бы десяти лет, дворец был бы готов назавтра! Но армия каменщиков, которые кладут кирпичи и замешивают раствор, — вот кто диктует архитектору сроки!
— Так значит, милый мой, добрый друг, — Цесаревич положил руки на плечи Баженову и заглянул ему в глаза, — если я желаю знать, скоро ли будет завершен Царицынский дворец, я должен спрашивать, завершен ли глебовский особняк в Москве?
— Да, mon pauvre enfant79, — печально и твердо ответил Баженов.
— Что же, в таком случае я спрашиваю об этом.
— Ваше Высочество, я прибыл с тем, чтобы обговорить сроки Вашей поездки в Москву.
— Значит — мне уже так скоро предстоит перейти Рубикон? Что же — я рад: довольно сомнений и колебаний — будь что будет, Баженов! Мне сделалось непереносимо бездействие и непременный спутник его — страх. Да, страх — преданный компанион бездействия! Я устал жить в бездействии и страхе. Я боюсь убийц — тебя лишь одного я встречаю безбоязненно, Баженов, в каждом ином мне представляется убийца, ею посланный убийца… Друг мой, мне слишком часто кажется, что я начинаю сходить с ума. Однако довольно об этом.
— То, что отнимает у Вас покой, невозможно, Ваше Высочество.
— Было бы невозможно, если бы не было малютки Александра.
Мы пробыли в Гатчине более трех дней, и разговор этот, в коем было много неясного для меня, канул в моей памяти затем, чтобы неожиданно всплыть несколько месяцев спустя — в день торжественного въезда Государыни в Царицыно. Подробности этого события глубоко врезались в мою память.
Стоял погожий летний день: солнечные лучи играли в зеркальных стеклах карет растянувшегося поезда, сопровождаемого кавалеристами и уланами с флажками на пиках.
Генерал Измайлов и Баженов, встретившие поезд в Царицыне, с роскошнейшими почестями повели вышедшую из запряженной осмериком золоченой кареты Государыню к зданиям воздвигнутых строений. Постройки эти, возведенные в мавританско-готическом вкусе, красиво выделяющиеся в летней зелени кладкой темно-красного, как кровь, кирпича и белоснежным кружевом узоров, потрясали грозно-совершенной своей гармонией.
…Неожиданно какой-то неизвестный молодой человек, одетый с причудливою мрачностью, в закрывающей лицо бархатной красной полумаске, появившийся откуда-то из-за деревьев парка, пробившись через свиту, упал на колено перед Государыней, протягивая ей какую-то свернутую бумагу. Все присутствующие при этой сцене подумали сперва, что в бумаге заключается стихотворное приглашение Государыне вступить под гостеприимный кров нового замка, — необычный наряд незнакомца изрядно способствовал тому, что ему удалось предстать перед Государыней, все уверились в том, что это происходит согласно плану увеселений. С благосклонной улыбкой взяв послание из рук молодого человека, Государыня развернула бумагу. Молодой человек, отвесив грациозный поклон, смешался с толпой.
Не изменившись в лице, Государыня свернула прочитанное и последовала далее. Свита тронулась за нею.
Разряженные черкесами и турками слуги встретили появление Государыни у главного подъезда увеселяющей музыкой, исполняемой на разнообразных инструментах.
Не дошед немного до крыльца, Государыня, по левую руку от которой шел Баженов с семьею, а по правую — генерал Измайлов с сенатором Козловым, остановилась, и вослед за нею остановилась вся процессия.
— Это острог, а не дворец! — медленно и спокойно проговорила Государыня, обернувшись к Баженову. За сим она сделала движение, обозначающее желание уйти, и добавила: — Распорядись, Михаил Михайлович, оное до основания сломать, дабы возвести иной.
Бледный как смерть, Баженов, однако же, выступил перед Государыней и с трепетом отчаявшегося бесстрашия в голосе остановил ее словами:
— Государыня! Я достоин Вашего гнева, не имев счастья угодить Вам, но жена моя ничего не строила.
В этот момент кто-то взял меня сзади за локоть: обернувшись, я увидел графа S, к прямому подчинению которому обязывал меня его ранг в «Блистающей Звезде». Он был почти так же бледен, как Баженов, десятилетний труд коего только что пошел прахом: это было непонятным.
— Немедленно скачи в Москву, князь, — с быстротою, на которую ты только способен, скачи к Черному Глебову, я не рискну сейчас писать, запомни на словах: ЗАГОВОР РАСКРЫТ. ПУСТЬ УВЕДОМИТ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ. Опиши ему происшедшее своими словами, скажи, что я узнал его, несмотря на маску, — это Александр Альбрехт. Скажи ему, тут рука «Озириса»…А теперь — скачи!
…Спустя несколько часов я поднимался уже по лестнице глебовского особняка.
— Что случилось, князь? — встревоженно обратился ко мне Глебов, несмотря на непоздний час вышедший из спальни в халате. Вид его был утомлен и бледен. — Ты выглядишь так, словно проскакал немало верст, между тем как костюм твой не вполне соответствует подобным упражнениям.
— Я не могу сказать тебе, что случилось, Федор, ибо случившееся непонятно для меня, а Добродетель Повиновения не позволила мне задавать вопросы, — отвечал я, тяжело дыша. — Я могу только передать тебе слова графа S.
И я в точности повторил слова графа, присовокупив к этому рассказ о происшедшем на моих глазах. Глебов остался спокоен.
— Альбрехт… Внучатый племянник покойного графа Александра Брюса? Вот уж действительно «рука „Озириса“! — промолвил он, усмехнувшись. — Я узнаю почерк этой руки… Нанести удар в ту минуту, когда победа представлялась уже достигнутой… Бедный Баженов! Когда-нибудь Брюсы отплатят мне за все!
— Но о какой победе ты говоришь, Федор? Рыдания подступают у меня к горлу, когда я думаю о чудовищном крушении баженовского труда, — но о каком заговоре идет речь? Добродетель Повиновения препятствует мне требовать от тебя ответа, но я прошу тебя о нем не как каменщик, но как друг твой, коим я смею себя почитать.
— О каком заговоре? Разумеется, о царицынском. Ты мог бы понять это и сам: сделавшись каменщиком, Павел не мог бы выйти из Добродетели Повиновения, ты помнишь: «оказывать повиновение согласно данной клятве, под страхом навлечь на себя наказания, помянутые этой клятвой»… Разумеется, такой Император был бы весьма полезен «Латоне». Екатерина не вышла бы из Царицына, войди она в него.
— Ты хочешь сказать, что я принимал участие в заговоре противу жизни Государыни?!
— Разумеется.
Удар был так силен, что я едва устоял на ногах.
— Но это чудовищно, Глебов!
— Это — полезно «Латоне», Гагарин.
— Так значит — братство каменщиков, ставящее перед собою духовное преображение мира и озарение его светом истины, — принимает участие в кровопролитных переворотах?
— Принимает участие? — Глебов устало рассмеялся и, достав из мозаичного шкафика бутыль коричневого стекла, наполнил один бокал вином. — Дитя! Кто же, по-твоему, их устраивает?
Мне захотелось разрыдаться. Я был подобен человеку, узревшему змею в розах манившего его ложа.
Глебов наполнил второй бокал водой из серебряного кувшина и протянул первый мне. Я взял вино из его руки, но словно забыл о том, для чего оно могло предназначаться.
— А знаешь ли ты, — Глебов казался спокоен: рукою, наполовину тонущей в черных кружевах, он подносил к лицу хрустальную склянку с духами, — что есть причина, делающая заговор противу этой женщины оправдывающим его участников?
— Ты имеешь в виду Цесаревича Павла?
— Нет, — Глебов рассмеялся, и от этого смеха кровь застыла у меня в жилах. — Я имею в виду то, что в заговоре участвовал я.
— Я не понимаю тебя, объяснись. Отчего твое участие оправдывает заговор?
— Оттого, что эта женщина занимает ныне мое место.
— Твое?!
— Да… Выпей секту, тебя колотит… Я, а не эта немка, должен бы сейчас носить шапку Мономаха.
— Бога ради, что это значит? — произнес я в совершенном смятении.
— Дело очень простое… Когда движение каменщиков вместе с Петром явилось России, оно было представлено в ней двумя ложами — «Латоной» и «Озирисом». «Озирис», целиком захватив влияние на Петра, оттеснил «Латону» — и Яков Брюс, не теперешний, а тогдашний великий маг Брюс, уже почти один стоял у правила незримой тенью Петра. Тень можно было убрать только вместе с отбрасывающим ее предметом… На это решился мой прадед, тайно обвенчанный с заточенной в монастырь Евдокией Лопухиной, с младенческих лет любившей его и разделявшей его стремления. Лопухина же в действительности доводится мне прабабкой: мой род насчитывает двух цариц — на престол садились и с меньшими правами, во всяком случае с меньшими правами сели когда-то в Шотландии Брюсы, вместе с нарышкинским отродьем обрекшие моего прадеда мучительнейшей чудовищной смерти…
— Но отчего тогда ты интригуешь в интересах Цесаревича? Ведь этим ты не возвратишь себе престола, Глебов.
— Пусть так… Я не могу вернуть себе своего престола, мысль о коем ни на мгновение не покидала меня с тех пор, как я узнал о судьбе прадеда, — но я не хочу отказываться от того, чтобы хотя бы распорядиться им по своему усмотрению.
— Отчего мысли о престоле занимают тебя? Не ты ли клеймил в речах тиранство и презирал бренность порфир?!
— Не всегда желаешь получить то, пред чем благоговеешь. Иногда желаешь презренного тобою же. — Глебов засмеялся.
— Умоляю тебя, не смейся, Глебов! — вскричал я. — Мне представляется сейчас, что предо мною рушится мир! Умоляю тебя, скажи мне, что я ошибаюсь и что не личные страсти, но стремление к добру движет тобою!
— Что есть Добро, — небрежно отвечал Глебов, пожав плечами. — И где проходит граница между ним и Злом?
— Ты хочешь сказать…
— Что разница между ними неведома мне, да и, пожалуй, никому не ведома. Однако я устал — а мне надлежит заниматься делами наших братьев, хотя мне и не хотелось бы сейчас отрываться от некоторых важных вычислений, которые я произвожу… Не советую тебе забывать о клятве, Гагарин. Мне ты нужен будешь послезавтра, в одиннадцать вечера. Прощай.
…С тяжелым сердцем уходил я от Глебова. Мог ли я знать, что спустя два дня этот свинец на моей душе не покажется мне тяжестью!»
32
Вишневский помнил, что телефон находился в лавке на нижнем этаже, поэтому его не удивило то, что вслед за коротким ответом на его просьбу последовало продолжительное молчание, прерываемое приглушенными далекими гудками… Наконец раздался щелчок, обозначающий, что трубку снова подняли, и послышался голос, далекий и безжизненный на фоне телефонных шумов…
— Аllф?.. Ici Rjevski80.
— Сережа! Добрый вечер, это Вишневский… Очень плохо слышно…
— …Да, но лучше тут не будет… Здравствуйте, Вадим…
— Простите, что я потревожил Вас, но я-таки не видел Вас ни разу на съезде и вот решил узнать, в чем дело.
— …Меня и не было ни на одном заседании… Я попросил несколько дней отпуску, я… болен…
— Больны? Что-нибудь серьезное?..
— …Нет…
— Может быть…
— …Простите, очень плохо слышно…
— Может быть, мне навестить Вас?
— …Благодарю Вас, Вадим, не стоит… Нет, право же, не стоит беспокоиться… мне просто нужен отдых. Еще раз спасибо.»
— Всего доброго, Сережа!
— Au revoire!..
В трубке загудел отбой: Вишневский отошел от аппарата.
В оконные рамы хлестал вечерний тревожный дождь. С каким липом повесил сейчас трубку Сережа? Даже этого нельзя понять по бесцветно-далекому телефонному голосу. И чем он, явно сознательно отгородивший себя от встреч с соотечественниками, вообще может заниматься сейчас? Часами валяться на кровати, слушая шум дождя? Спать? Курить? Ни о чем не думать? Перелистывая детские книги, купленные на набережной Вольтера? Да, конечно, все это есть… Но какое-то логическое звено выпадало из представленной схемы: от всего разговора у Вишневского осталось неприятно ускользающее ощущение, что Сережа что-то недоговаривает.
Телефон неожиданно зазвонил, и этот звонок как-то соединился у Вишневского с мыслями о Сереже. Конечно, сам Сережа перезванивать не мог, но трубку Вадим снимал с мыслью, что услышит сейчас что-то могущее разъяснить ему эту недоговоренность.
— Аllф!
— Вишневский, Вы? Говорит Звягинцев.
— Я Вас слушаю, Иван Сергеевич. — Вишневский почувствовал удивление: этот звонок не мог иметь отношения к Сереже. Да что за бред, в конце-то концов?! Ведь Сережа уходит, не прося ничьей помощи и ничьего общества. …Ну что тут можно сделать? Только одно: выбросить из головы Сережу со всеми его проблемами. Но отчего-то не получается.
— Вадим Дмитриевич, Вы не могли бы сейчас приехать ко мне?
— Сейчас?..
— Да, и как можно скорее. Дурные новости, крайне дурные.
«Что могу рассказать я о тяжких мыслях, лишивших меня покоя и сна? Разговор с Глебовым потряс меня, однако же, связанный клятвой, я не мог в минуту опасности бежать людей, доверившихся мне, пусть даже и скрыв от меня при этом преступные свои помыслы. Преодолевая все росшую в душе необъяснимую тревогу и мучительное нежелание видеть Глебова, я подошел в назначенный час к его дому.
В окнах, по обыкновению, сияли яркие огни: не встретясь ни с кем на ступенях, я прошел через отворенные настежь парадные двери и остановился в изумлении: лестница была пустой. Срывающимся от необъяснимого волнения голосом я кликнул слуг — ответом мне было молчание, ничьи шаги не прерывали его… Неожиданно я обратил внимание, что фитиль толстой свечи из ближайшего ко мне канделябра коптит: он был так длинен, что конец его загнулся вдвое. Я обернулся на другую свечу — по ней также было видно, что фитиля давно не оправляли. Мне стало ясно, что никто не откликнется на мой зов. Все мое мужество понадобилось мне для того, чтобы не броситься прочь — я поднялся по лестнице и прошел через еще одни с таким же сатанинским гостеприимством распахнутые двери… Затем — еще через одни…
Безлюдные, но ярко освещенные комнаты и залы одна за другой являлись моему взору. Дом как будто вымер: ни одного лакея не попалось мне навстречу, когда я торопливо шел к знакомому мне кабинету Глебова. И прежде того вызывавшие во мне невольный трепет росписи потолков и стен теперь, казалось, глумились надо мною, сплетаясь в дьявольском своем танце.
Двери кабинета оказались растворены, как и почти все двери, встретившиеся на моем пути. В кабинет я почти вбежал.
Глебова я увидел сразу: как раненый зверь, метался он по комнате — лицо его, искаженное, как в припадке падучей, было мертвенно бело… В какой-то неистовой злобе он с тканью рвал с платья многочисленные рубины, с треском пальцев сдирал кольца с рубинами с рук и швырял на пол, топча ногами…
— Глебов, Бога ради! — закричал я, кидаясь к нему, чтобы удержать его неистовство.
— Прочь!! — страшно закричал Глебов, отшвыривая меня с такой силою, что я, отлетев несколько шагов, упал на пол, ударясь об угол стола. Я видел, как при этом крике пена проступила в углах его посиневшего рта; проступив, тут же окрасилась, кровью разодранных зубами губ… Впрочем, заметя меня на полу, Глебов как бы очнулся — в его встретившихся с моими глазах скользнуло выражение недоумения. Не произнеся более ни слова, он с лихорадочною поспешностью поднял свой лежавший на диване черный плащ, накинул его и, прицепив шпагу, решительно направился к двери, уже не обращая на меня внимания… Жест, которым он прицепил шпагу, был полон того зловещего смысла, который всегда выдает намерение убивать… (Я замечал уже не раз, что по человеку, прицепляющему второпях шпагу, всегда можно наверное различить, имеет ли он намерение ею немедленно воспользоваться или попросту следует привычке…)
— Нужна ли тебе моя шпага, Федор? — спросил я, имея намерение сопровождать его.
— Он ловко провел меня, ловко провел, — вместо ответа произнес Глебов, оборачиваясь на мой голос, но не ко мне обращаясь. — Он сбил меня с ног… Я думал, что он — это рыжий Яков, а он — это Племянник… Гениальный шах… перед гениальным матом!
Я подумал, что сознание в нем помутилось. Однако Глебов, казалось, вновь увидел меня (за всю ту чудовищную ночь, проведенную с Глебовым, я не раз еще был свидетелем того, как Глебов, только что разговаривавший со мною, вдруг забывал обо мне и каждый раз как бы вновь обнаруживал мое присутствие).
— Мне не нужна твоя шпага, Гагарин, — сказал он, закидывая полу. — Но ты, может быть, мне еще понадобишься — жди меня здесь и не смей следовать за мною! — с этими словами он повернулся в дверях, и вскоре я, прильнув к окну, увидел, как, выскользнув из боковой узкой двери, Глебов как в омут канул в темноту ночных улиц.
Я остался один. В дикирии на столе оплывали свечи розового воску. По обрамленной позолотой плавно-многоугольной малахитовой доске стола были в беспорядке разбросаны бумаги, свитки и книги… Среди них мне бросилась в глаза карта звездного неба, но выполненная не так, как привычно было мне. Полярная звезда была заключена в ней в контур рисунка бегемота. Другие контуры рисунков, намеченные на созвездиях, также были странны. Среди бумаг и книг лежали карты, напоминающие игральные, но отличные от них: каждая из этих карт состояла из рисунка, цифры, буквы древнееврейского алфавита, зодиакального знака и еще каких-то неведомых мне символов. Рисунок ближней ко мне представлял из себя деву с закрытым фатою лицом, восседающую на кубическом престоле между красной и синей колоннами, увенчанными солнцем и луною. Я заметил, что ни одна из странных бумаг, находившихся на столе, не была явно масонской…
Среди бумаг и на узорчатом паркете пола капельками крови поблескивали сорванные Глебовым рубины… Поскрипывала узкая дверка соединенной с кабинетом вифлеофики Глебова — в первый раз я видел отверзтым вход в это оберегаемое Глебовым даже от слуг хранилище…
Тревога терзала мне душу.
Часы на камине пробили половину второго: Глебов отсутствовал более двух часов… С последним ударом послышались торопливые шаги и он вошел в кабинет.
Он тяжело дышал, но казался более спокоен.
— Ты еще здесь, Гагарин? — переводя дыхание, спросил он.
— Ты говорил, что я могу еще понадобиться тебе…
— Нет, — Глебов засмеялся, отирая полой плаща острие шпаги, — с меня довольно, и тебя я уже не убью. Я кружил по улицам, убивая каждого, кто попадался на моем пути, и, кажется, утолил этим первую ярость…
Я содрогнулся: шпага его была окровавлена по рукоять.
— Я думал — ты направился убивать своего врага, о котором упоминал уходя.
— Моего врага? Ты не знаешь, о чем говоришь, — враг мой недосягаем для моей шпаги.
Передо мной стояло еще несколько часов тому назад бывшее моим другом чудовище в человеческом облике. Мне казалось, что бездна разверзается предо мною.
— Коли так — прощай! У меня нет более охоты оставаться в твоем доме.
— Ты слишком многому сейчас свидетель, князь, и потому не выйдешь отсюда до тех пор, пока я не завершу некоторых своих вычислений.
— Я не желаю оставаться, Глебов.
— В таком случае я все же убью тебя.
— Я умею держать шпагу, в отличие от многих, кого ты уже убил сегодня.
— В сравнении со мною — не умеешь. Сядь и молчи — то, что происходит здесь, столь неизмеримо значимей всех твоих чувств и тебя самого, что гнев твой только смешон.
Не знаю, что заставило меня повиноваться. Я сел на диван у камина.
Уселся за свой стол и Глебов, снова переставший замечать меня. Напряженная работа мысли проступила в прекрасных чертах его бледного лица… Навсегда врезалось мне в память это лицо, склонившееся над столом, — этот очерк высокого благородного чела, как черные звезды озаряющие его глаза, выбившаяся из косы прядь черных тонких волос…
Прежде всего Глебов взялся за карты: сдвинув в сторону бумаги, он начал перемешивать карты медленными вращательными движениями тонкой руки… Смешав карты, он разложил перед собою нечто наподобие пасьянса.
— Глупец… Да только раз услышав эту легенду о Донском монастыре, я уже мог бы понять, что она значит… А я не понял, глупец, жалкий глупец!.. Видали ли еще смертника, который с безразличием и веселостью слушает свой смертный приговор?.. Кольцо с рубином… У Северных ворот… Глупец, какой же я глупец, что не догадался обо всем сразу!
Непонятны и страшны были эти слова, которые шептал Глебов, не отрывая внимательного взгляда от карт, перекладывая то одну, то другую из них. Я не смел напоминать о своем присутствии. Не шевелясь и затаив дыхание, наблюдал я за Глебовым.
— Нет… не вижу… корни этого будущего покуда не проросли… Не могу понять, что значит эта линия…
Вновь смешав карты прежними вращательными движениями, Глебов вытащил на этот раз длинную карту звездного неба, испещренную непонятными мне знаками и линиями, и разложил ее перед собой. Затем, не отрываясь взглядом от своего занятия, он протянул руку к бронзовому письменному прибору, стоявшему на столе, сильным движением нажал на чернильницу с крышкой в виде головы льва: чернильница ушла в подставку. Откуда-то послышались негромкие звуки менуэта. Из доски стола выдвинулся маленький ящик, из которого Глебов извлек шкатулку, инкрустированную золотом. Ящик так и остался выдвинутым — было видно, что для Глебова потеряло уже значение то, что посторонний свидетель видит его тайник: он навряд ли думал об этом…
Раскрыв шкатулку, Глебов вытряхнул из нее на ладонь несколько странно отшлифованных камней: форма их напоминала маленькие гробы. Первый камень был прозрачным и ярко-синим, второй — красным, как живая кровь, третий, только третий показался мне знакомым — это был лазурит. Вслед за этими камнями на разложенной по столу бумаге появился аметистовый диск. Свет свечей заиграл в гранях камней… Золотыми маленькими щипцами Глебов начал очень медленно передвигать гробы вдоль пересекающих карту линий, установил аметистовый диск на каком-то значке посередине: все это ничуть не напоминало то, что доводилось видеть мне в масонстве, несмотря даже на серебряный циркуль, которым вскоре также вооружился Глебов.
— «Нет, нельзя… Водолей… люди Водолея… Какой же это год? Змея… Два сотрясения падет на змею… Змея дважды подползает к России… Не скоро… Очень не скоро придет столетие, когда Россию обовьют смертные кольца змеи… Водолей… Красная змея — первое кольцо… Люди Водолея… Но эта синяя линия — откуда она? Не похоже, чтобы это была его линия, однако она пересекается и препятствует… Пустое! Я сумею преодолеть сие сопротивление! Иного же выхода нет… Красный цвет… Да, при таком сотрясении я смогу… Я смогу попытаться вернуть себе все, что он отнял… Белый бык, железо… Хвала богам, я еще могу сделать попытку отыграться!
Глебов отер кружевным платком чело и рассмеялся с облегчением… Затем, достав из того же тайника еще одну шкатулку — китайскую, из слоновой кости, размером менее ладони, он раскрыл ее, поднялся из-за стола и обернулся ко мне.
— Я еще не совсем проиграл, Гагарин, — произнес он, вытряхнув на ладонь горошину цвета засохшей крови и поднеся ее к губам. — Один-единственный шанс отыграться у меня все же есть: и этого не мало в нынешнем моем положении.
— Или отпусти меня, или объяснись, Глебов, — ответствовал я со всею твердостью, которую нашел в себе собрать.
— Ты хочешь объяснения? — к Глебову, казалось, вернулась его обязательная манера. Он выглядел успокоенным. — Хорошо же, ты получишь его, тем более что я не рискую ничем: если ты станешь пересказывать услышанное, то не успеешь оглянуться, как очутишься в бедламе. И тем более что тебе еще придется пробыть со мною до тех пор, покуда яд не подействует.
— Несчастный, ты принял яд?!
— Да, но это пустое. — Глебов прошелся по комнате и опустился затем в кресло перед каминным экраном. Теперь дела мои не так плохи, как были несколько часов тому назад.
— Не так плохи?! Ты намереваешься умереть через…
— Через час. — Глебов перевернул оправленные в серебро песочные часы, стоящие на белом мраморе каминной доски. — Я должен умереть, когда последняя песчинка упадет на дно — в противном случае мне придется признать себя плохим аптекарем, а ведь я готовил эти пилюли по древним арабским рецептам. Это — растительный, убивающий без единого неприятного ощущения яд сложного состава: быстрота же смерти зависит от дозировки. Съев половину пилюли, я жил бы еще час, но четверть ее вместо блаженного небытия обрекла бы меня на жалкое существование калеки. А теперь я готов отвечать на твои вопросы, но прежде… — Глебов вернулся к столу и быстро написал несколько строк. — Взгляни!
«Пусть имя той, коей сердечная непреклонность обрекла меня сему роковому шагу, останется неизвестным людскому суду», — прочел я. Глебов рассмеялся с прежней своей веселостью.
— Смерть мою надобно как-то объяснить в глазах света, — сказал он. — Не забыл ли я еще о чем-либо? В завещании оговорен тот случай, в коем Эраст наследует мне несовершеннолетним, и опекуны ему определены. Надеюсь, что, вступив в права наследства, милый малютка простит мне свое сиротство; из всех богатых отцов я самый обязательный к своему отпрыску — другие не так спешат…
Он смеялся и шутил, перебирая бумаги на столе.
— Смотри внимательно, Гагарин, — эту связку писем ты должен будешь сжечь, всю, до последнего клочка — тут упоминается Василий Баженов, и это единственные уличающие его документы. Если они будут уничтожены — он безопасен: ни один из масонов не покажет на следствии на Баженова — кто из любви к нему (а не любить Баженова невозможно!), кто из корыстного расчета, но его будут выгораживать все до последнего. Запомни — эту связку. А остальным пусть занимаются душеприказчики! Теперь я готов отвечать на твои вопросы, Гагарин, — надобно же как-то убить оставшееся время!
Треть песка лежала уже на дне часов. Слушая Глебова, я не мог заставить себя не коситься на тонкую песчаную струйку. Глупость, но мне хотелось перевернуть часы на бок, чтобы остановить их.
— Я не знаю, какие вопросы должен я задавать тебе, Федор, — слишком многое представляется мне непонятным. Если ты хочешь отвечать, то скажи мне прежде всего, кто твой враг, недостижимый для твоей шпаги?
— Мой брат, — отвечал Глебов просто.
— Владимир?! — с изумлением спросил я, вспомнив открытое жизнерадостное лицо младшего Глебова — двадцатилетнего кавалергарда, не имеющего никакого отношения к масонству.
— Нет, конечно, не Владимир, однако же досадно — вот кого моя смерть искренне опечалит. Я говорю о другом моем брате.
Я по-прежнему ничего не понимал: других братьев у Глебова не было.
— Это давняя история, Гагарин, и вдаваться в подробности нет времени, — голос Глебова стал приглушенным, как будто неживым: глаза его обратились куда-то перед собой. — В конце восьмого столетия, когда неведомые прежде варяги устрашили изумленный мир своими походами, от Нёрвисунда до Ерсалаланда с трепетом произносилось имя исландского конунга Ульва Облагина. Он казался самим Твэгги, воплощением Одина, когда, могучий и страшный в своей ярости, в наброшенной на плечи поверх сияющего доспеха волчьей шкуре, с развевающимися по ветру золотыми волосами, водил в бой свои ладьи…
Возвращаясь же на родину из далеких восточных походов и кровопролитных набегов на скоттов и бриттов, Ульв Облагин уединенно жил в своем доме — он был ярилем и держался в стороне от людей; говорили, что ему ведомо тайное и темное, но, вдумываясь в зловещий смысл его имени, соотечественники далеко стороной обходили в полнолуние его жилище.
Шли годы, но Ульв Облагин не брал в дом жены, хотя лучшие из исландских дев, юные, как весна, и могучие, как валькирии, не устранись ни шкуры на плечах, ни желтых отблесков в глазах Ульва, охотно переступили бы его порог.
Но вот прошел слух, что конунг отправляется искать себе жену по свету — неизвестно, что отвращало его сердце от прекрасных исландских дев, но в назначенный день ладьи Ульва отошли от берегов и канули в морской дали.
Прошло два года, но известий об Ульве не было, и стали уже говорить о его гибели, когда на исходе третьего года дошла весть, что конунг возвращается к исландским пределам.
Толпы народа собрались на пристани приветствовать жену Ульва Облагина. «Не самою ли деву валькирию из воинства Одина взял Ульв, что странствовал так долго?» — говорили и думали люди.
Но вздох изумления пробежал по толпе собравшихся на берегу, когда упали сходни и со звероглавой ладьи Ульва на берег, сбросив на руки прислужниц меховой плащ, сошла дева, каких не видала прежде суровая земля исландцев. Облаченная в белоснежный лен одежд, черноволосая и черноокая, она напоминала слабое беззащитное дитя — и тонким станом, который, казалось, мог сломиться под рукою любого исландского ребенка, и обвитыми златыми ремешками сандалий ногами, не назначенными для трудных стезей. Это была Меритнет, дитя умирающего Египта, жрица Изиды, жены пресветлого Озириса, отца Гора, ведающего ходом перерождений.
И могучее исландское племя недоуменно расступилось перед слабой и нежной девой-ребенком, оказывая ей почтение.
«Госпожа моего сердца, да процветет земля, на которую ты ступила, ибо в том есть великий смысл», — произнес Ульв Облагин.
Завершился пышный свадебный пир, со дня коего, казалось, многократно умножились темные силы конунга, в мире и великой любви зажившего со своей женою. Две силы, заключенные в крови, из рода в род несущей по жилам темное знание, сплавились в духовном тигле: семикратно нечеловеческую силу должно было унаследовать их дитя. И вот жена конунга понесла, и расположение звезд указало, что не последующие, а только лишь это дитя будет способно приять силу. Когда же наступили родины, Облагин уединился гадать на костях. Кинув кости в первый раз, он увидел, что они говорят ему: «Убей сына, и ты спасешь сына!» Облагин гадал трижды, и трижды слагалось то же. Когда Облагин вышел из своего убежища, ему сказали, что жена разрешилась от бремени близнецами. И конунг понял угрозу, о которой сказали кости. Передающуюся из поколения в поколение силу рода нельзя делить: ее наследует лишь один. Одного из братьев надлежало убить, но этому воспротивилась Меритнет, так как близнецы почитались в Египте священными. Одного из братьев нарекли Сёрквиром, другого — Ерундом. Они возросли, и каждый из них оказался способен приять силу. Но на пути каждого встал другой. И тогда ненависть черным пламенем разгорелась в наших сердцах. Нет мук отчаяннее, чем муки тщетно призывающей силу магической крови. Томление юноши по женщине томление женщины по материнству, томление жаждущего по глотку воды напоминает этот властный зов. Черное пламя ненависти разгоралось все сильнее… В день двадцатишестилетия мы решили разрешить наш спор поединком. Никто из нас не мог уступить, если бы даже захотел этого. Мы бились на мечах более трех суток, покуда не упали замертво, сразив друг друга. Сила же осталась неприятой. И тогда Облагин вырезал руны, препятствующие нам впредь являться в плоть своего рода одновременно. Сила этих рун жива и поныне. И каждый раз когда мне открывается земной мир, брат мой уже мертв.
— Что ты говоришь, Глебов?! — закричал я в ужасе, отказываясь верить услышанному.
— Перед тобою нет Глебова, — отвечал тусклый мертвый голос, слетавший с едва шевелящихся губ. — Перед тобой всего лишь одна из оболочек странствований духа в отвечной цепи перерождений.
— Но дух не может знать своих странствий! Человеческий разум не в силах был бы выдержать это!!
— Человеческий — да. Хочешь ли ты слушать дальше?
— Хочу, — отвечал я, споря с леденящим страхом, объявшим мои члены.
— Проклятый по воле злобного рока, наш род может хранить свою силу только в равновесии чаш весов: покуда жив я, перевешивает та ветвь рода, которая зовется Глебовыми, пока жив брат — верх держат Брюсы. Чаши колеблются, сила рода живет. Вражда эта длится так долго, что многие из обеих ветвей умирают, не узнав, что когда-то были единым родом со своими врагами. Так будет до тех пор, покуда один из нас не перетянет силу. Я с незапамятных времен не видел своего брата, но каждое рождение сталкиваюсь со следами его действий, направленных против меня… То же встречает и он. Во всяком случае так было прежде.
— Но же станется теперь? — с трудом проговорил я: что-то необъяснимое заставляло меня поверить в то, что предо мною не сумасшедший.
— Он нанес мне удар, сокрушительный по силе своей неожиданности. В предыдущем своем рождении он вычислил, что следующее мое воплощение может принести мне решающую удачу: няньки и мамки не качали еще маленького Степана Глебова, и не детские игры с Лопухиной можно было прочесть в вечных знаках, но созвездия складывались в возможность удачи, и брату досадно было уходить в могилу, не воспрепятствовав этому… И вот — он приманил в род того, кого знают как Якова Брюса, — я же, слепец, не мог постичь, как вышло то, что Степан и рыжий Яков родились одновременно! Я уверен был, что он — это Яков, нашедший способ появиться не в свой час, чтобы встать на дороге Степана Глебова Сегодня же я вычислил, что, выставя Якова за решающую фигуру на доске, он скрылся в роли пешки, в не оказавшем внешнего влияния на ход событий графе Александре Брюсе! И, уже как Александр, он с неведомой мне целью обрушил на меня удар чудовищной силы — он пошел на то, чтобы сила рода, вместо того чтобы, как всегда, перейти от него ко мне, ушла из рода… Эта проклятая легенда означает одно — он призывает преемника не по крови, к которому должна перетечь ушедшая с ним в могилу сила… Сегодня я завершил свои расчеты и обнаружил, надо сознаться — к немалой своей досаде, — в голосе Глебова, неожиданно ставшем снова именно его, а не чьим-то еще теневым голосом, прозвучала горькая насмешка, — милый сей сюрприз любезного моего братца — я обречен в этом рождении быть всего-навсего политическим заговорщиком и… гроссмейстером ложи «Латона» со всеми детскими игрушками масонства. Ибо то, что ушло от меня, отличается от того, что имеют масоны, как орган отличается от детской дудочки! Что в сравнении с этим проделки Якова, в свое время лишившего меня престола?!
— Но отчего необходимость принять яд? — спросил я: потрясенный услышанным, я не следил уже за часами.
— Там, где способность обречена не воплотиться в возможность, надобно убрать и самое способность. Покуда способность не утратилась втуне, надобно искать возможности в ином месте. И одну возможность мне удалось сейчас, в твоем уже присутствии, найти… Она сводится к тому, что… однако же, время мое вышло — прощай, Гагарин, и не вздумай, коли не хочешь прослыть сумасшедшим, болтать об услышанном! — Глебов вновь рассмеялся. Я взглянул на часы — как раз вовремя, чтобы заметить, как упали на дно последние песчинки. Смех Глебова неожиданно смолк. Я поднял глаза: он сидел передо мною, откинувшись на высокую спинку кресла, черные глаза его были невидяще неподвижны. Он был мертв.
— Кто бы ни было это существо, Господи, прости его многогрешную душу! — со слезами произнес я, склонив голову перед тем, что уже не было Глебовым.
Затем я сжег бумаги, относящиеся к Баженову, и покинул глебовский дом.
В свете ходило много слухов о страсти Глебова к молодой графине R, безответной по причине крайней сердечной приязни графини к младшему Шаховскому: некоторые же склонялись считать, что причиною суровости графини к Глебову являлась не склонность к Шаховскому, а жестокий деспотизм графа R., козни которого препятствовали свиданиям влюбленных.
Я присутствовал на похоронах: Владимир Глебов был безутешен и с охотою взялся за препорученную ему братом заботу о маленьком Эрасте. Я не мог даже облегчить его скорбь: печать страшного знания камнем лежала на моей душе, и под этим гнетом рыдающий над телом брата Владимир казался мне почти счастливцем».
33
— Ой, Петька, когда ты вошел? Мы не заметили…
— Не удивительно — когда я вошел, вас, юные девы, в этой комнате не было.
— Как это — не было?
— Вы изволили пребывать в восемнадцатом столетии, притом не в Париже, а в Москве. A mademoiselle Баскакова, кажется, еще и сейчас по крайней мере одной ногой находится там, — добавил Гагарин, взглянув в отрешенное личико Тутти.
— Нет, я уже здесь, — произнесла Тутти, неожиданно повернувшись к Гагарину. — Во всяком случае…
— …Насколько это сейчас возможно?
— Да.
— А помнишь, мы говорили о сказках?
— Да, когда ты болела. Мы говорили, что вымышленное всегда легковесно по сравнению с тем, что бывает на самом деле … Но это — самое потрясающее из всего, что мне доводилось читать прежде…
— Жаль, что Федя не доделал этой рукописи по-настоящему…
— Мне она показалась доделанной.
— Видите ли, mademoiselle Баскакова, — Петька Гагарин, легко подойдя к окну, открыл одну из створок: особенно яркий зеленоватый свет, разлившийся по видной сквозь крупную решетку зелени сада, говорил о приближающихся сумерках. Отворив створку, Петька так и остался стоять у окна — тонкий и болезненно бледный, удивительно похожий на Лерика. — С литературной стороны рукопись, конечно, доделана, но суть в том, что в настоящей рукописи были строчки, которых он, вероятно, не смог сразу разобрать — эта ужасная скоропись XVIII века — и обошелся без них, это ведь черновик…
— А ты мне об этом не говорил… — протянула Лерик недоуменно.
— А имело ли смысл об этом говорить, если я не знал, что пропущено? — засмеялся Гагарин. — Кроме того, это могло оказаться не имеющим значения, как, вероятно, и подумал Федя. Мне пришлось перебрать кучу рукописей из архива — я сличал варианты написания букв скорописи… Было бы обидно провозиться впустую! Этих неразборчивых строчек было на всю рукопись от силы двадцать…
— И это оказалось важно?
— Очень. — Гагарин не без торжества улыбнулся. — Забавно, что такое совпадение: я ведь сейчас тоже шел за этими рукописями…
Тутти, увидевшая, как выжидающе натянулась тонкой стрункой Лерик, почувствовала ее нетерпеливое желание узнать, о чем упомянул сейчас брат. Но, почувствовав, она поняла, что сама не хочет сейчас этого: она была как будто оглушена и, как ныряльщик, вынырнувший из полной волшебных кораллов и водорослей морской глубины, даже и не все разглядев в ней, все же не может погрузиться обратно, не отдышавшись на воздухе, она хотела сейчас говорить о чем-нибудь другом и о чем-нибудь другом думать. Например, о том, что Лерик и Петька очень похожи, или о том, как Лерик недавно обмолвилась, что Петька никак не может добиться отправки в Совдепию, и это очень его мучает. Для Лерика это было более странным, чем для Тутти. Прекрасно знавшая, как дорого обходится нередко переход через границу, Тутти понимала, что переправлять в подполье шестнадцатилетнего неопытного юношу там, где есть возможность переправить бывалого офицера, настолько неоправданно, что на это никто не пойдет. Однако она понимала и то, что Гагарину от этого не легче.
— Ты расскажешь? — напряженный голос Лерика заставил Тутти вздрогнуть, возвращая туда, куда она еще не хотела возвращаться.
— Конечно, — просто произнес Гагарин, — иначе бы я не стал об этом упоминать. Прежде всего, меня и раньше смущало в Фединой рукописи то место, где говорится о том, что граф Александр привлек в плоть рода некую сильную личность, явившуюся как рыжий Яков. Тут была какая-то неопределенность. А в основном тексте как раз начинались непонятные строчки.
— Ты выяснил, кто был рыжий Брюс?
— Ульв Облагин.
Лерик изумленно вскрикнула, а Тутти неожиданно ощутила себя вновь стремительно погружающейся в захватывающую глубину.
— Но почему он хотел помочь одному сыну против другого?
— Потому, что другому тоже помогали.
— Кто?
— Меритнет. Из-за этих неразборчивых строчек выпало то, что во всей этой многовековой истории не одна магическая «дуэль», а две… Во всяком случае во всех этих «играх», а ведь такие вещи действительно напоминают больше всего шахматную партию, есть определенные правила, нарушение которых не может не вызвать каких-то последствий, тоже определенных. Точнее, так: нарушение правил определяет последствия. А какое было нарушение правил, попробуй угадать, Лерик, ты ведь достаточно читала всякой литературы, которую мне, может быть, и не следовало давать тебе.
— Одного из детей надо было убить, — быстро проговорила Тутти.
— Именно так, — с некоторым удивлением взглянув на Тутти, сказал Гагарин. — Из этого и вышла вся эта история. Там, где сказано, что Меритнет воспрепятствовала этому, тоже шло дальше непроясненное место в тексте. Дело не только в почитании близнецов в Египте… В рукописи идут довольно туманные намеки на то, что детские годы в Александрии Египетской Меритнет отчасти провела в христианской общине, где ее воспитанием занимался некий христианский понтифик… Кстати, надо будет мне посмотреть по датам, кто это мог быть… Но это все довольно нечетко, а вот дальше идет предельно ясная формулировка клятвы, данной ею в детстве своему наставнику, как там сказано, Держателю Знака, не знаю, что это значит: «Не поддаваться искусу сотворить худое во имя доброго, какими бы бедами сие ни грозило»… Так что беда была предопределена, как, в общем-то, предопределены все беды в древнескандинавском эпосе… И получается, что, следуя христианскому правилу, Меритнет пошла наперекор могущественнейшим магическим закономерностям…
— Хорошо, пусть так, — на бледных обыкновенно щеках Лерика выступил румянец возбуждения. — Но откуда и почему тогда вторая «дуэль»?
— Потому, что кроме крови даже в магии есть и плоть… Муж и жена — «плоть едина», а конкретным воплощением единства их плоти является дитя… Есть какие-то тонкие связи между кровью, плотью и мистическои силой… И поэтому, поскольку воплощение единства их плоти разделилось в самом себе и братья пошли друг на друга, силы родителей не могли из-за этого не вступить в противоборство между собой… Поэтому Ульв и Меритнет не смогут соединиться до тех пор, пока один из братьев не перетянет силы. Брюсу помогает Ульв, а Глебову — Меритнет… Второй стал бы тогда в следующих рождениях обычным человеком (как и случилось бы сначала, если бы правила не были нарушены), и все встало бы на свои места…
— А как тогда хоронили? — неожиданно спросила Лерик.
— Клали в ладью, украшенную коврами и шкурами, лицом к небу, с мечом в ногах, и отталкивали от берега… А в тот день, наверное, оттолкнули две ладьи одновременно…
— Как при короле Артуре… Я это как будто вижу.
— А я не понимаю одного, — нахмурившись произнесла Тутти. — Ведь Глебов… его жалко, но он же действительно — чудовище, ведь он — это сила зла… Я не понимаю — Меритнет нарушила «правило игры» из христианской клятвы «не творить худого во имя добра, какими бы бедами это ни грозило»… Беды пришли, пусть, но отчего же от этого вышло зло? Ведь зла-то тут не могло выйти… Никак не могло — я не понимаю!..
— Я тоже не очень понимаю: единственное объяснение, которое можно тут подобрать, то, что партия еще не закончена… Хотя что-то не очень там идет к хорошему концу…
— Пойдемте в сад! — резко встряхнув волосами, заявила Тутти. — Тем более что за мной уже скоро должны приехать.
34
Было еще светло, хотя увлажненная зелень пахла по-вечернему сильно.
Близился серый закат, Воздух был нежен и хмелен, -негромко процитировал Гагарин.
И отуманенный сад Как-то особенно зелен, -подхватила Лерик.
— Вы чем-то расстроены, mademoiselle Баскакова?
— Нет… — Тутти задумчиво следила за тем, как просеянный песок дорожки шевелился под носком ее «бронзовой» туфельки. — Вам не кажется, что весь Глебов, при всем том, какой-то очень русский?
— Я об этом не думал. Почему?
— Он сбивает с толку схожестью с героями выдуманных готических и романтических романов… Но именно сбивает… Ведь он на них не похож… Ведь там нужны замки и мрачные своды… Вот если, к примеру, старика и девушку из «Острова Горнгольм» перенести из замка на скале в богатый особняк посреди Москвы…
— Вдобавок на Колымажный двор, где и стоял глебовский дом, — рассмеялся Петька. — Да, все пропадет… Вы правы — он все несет в себе. Престранные они все же — русские Екатерининской эпохи!.. Очень трудно понять дух этого времени, и этот дух действительно ни на что не похож.
— А где был Колымажный двор?
— Там, где сейчас новый Александровский музей.
— Знаю, это недалеко от храма Христа Спасителя. Мы с папой в нем были, когда ездили на Пасху в Москву, к бабушке. Это было в семнадцатом году, и мне было тогда семь лет. Но я даже в Петрограде сейчас хотела бы оказаться, не то что в Москве… Знаете, наверное, это очень глупо: когда вы сказали «дуэль», мне вспомнилась одна очень забавная история, которую мне рассказал один человек, он сейчас там, в Петрограде… Когда ему было лет одиннадцать, его двоюродный брат, студент-медик, с кем-то стрелялся… Дома не было никого из старших, когда он приехал с друзьями на извозчике. Когда он поднимался в квартиру, очень бледный, его вели под руки. Мальчиков, и его, и его друга, которому тоже было около одиннадцати, тут же выставили, а сами заперлись в квартире — видимо, делали перевязку. Медикам легко обойтись без врача, который обязан регистрировать огнестрельные ранения… И вот с этого дня им, ему и Другу, стало ясно, что сами они тоже непременно должны стреляться. Они сами не могли себе объяснить, зачем это было нужно, непременно. Они только об этом и думали. Через несколько дней им удалось раздобыть оружие. Причем почему-то само собой подразумевалось, что драться им надо только друг с другом… Они долго придумывали повод для этой дуэли, нисколько не чувствуя себя врагами, напротив — они были тогда как-то особенно близки, потому что просто горели одним, общим на двоих, желанием. А желание это было — оказаться друг против друга с револьвером в руках. Выбрали секундантов в своем третьем классе…
— И действительно стрелялись?
— Да. На пустыре недалеко от гимназии. К счастью, никто никого не ранил. Но история выплыла наружу, и им, что называется, влетело, и влетело так, как ни до, ни после не влетало… Этот человек сам не мог понять этой истории, но они не только не перестали быть друзьями, но даже стали с тех пор ближе… А я не могу понять, почему эта история мне вспомнилась, когда вы рассказывали о Меритнет… Странно, да?
— Нет, не странно, так иногда бывает, — негромко ответил Петька.
Некоторое время все трое шли молча. Тутти сорвала плотный лист сирени и откусила его горький черенок. Ей было необыкновенно легко: неизвестно отчего, она впервые чувствовала, что собственная взрослость уже не так ее тяготит. Как будто какая-то внутренняя душевная одежда, которая была велика, стала наконец впору.
Послышалось тарахтенье мотора. Длинный и большой открытый автомобиль остановился, подъехав к воротам ограды.
— Это за тобой, — вздохнув, сказала Лерик. — Вадим Дмитриевич, а с ним еще какой-то господин.
Тутти подняла голову — почти одновременно с сидевшим рядом с Вишневским широкоплечим человеком в бежевом костюме и летней светлой шляпе. Жалобно, ранено вскрикнув, она сорвалась с места и стрелой, как бегают только дети, полетела к автомобилю и в следующее мгновение, забыв обо всех правилах сдержанности, повисла на шее у выскочившего ей навстречу человека, отчаянно крича:
— Дядя Юрий!! Дядя Юрий!
35
«Как странно быстро наступила осень, — думал Вишневский, торопливо шагая под уже тронутыми желтизной деревьями парка Монсо. — Я уже несколько месяцев в Париже — на два с половиной месяца дольше, чем Юрий, который впал уже в состояние холодного бешенства… Но у меня есть еще одна, своя, причина стремиться обратно — возвращение туда разрубило бы узел, который я не в состоянии развязать… Если, впрочем, не удастся сделать это сегодня… Сегодня…»
— Вадим? Вы, как всегда, минута в минуту… Проходите!
…Белая свежевыкрашенная дверь в кухоньку была приотворена: в комнату проникал маслянистый теплый запах пекущихся в духовом шкафу каштанов.
— Я живу сейчас одна. Приходит Жюли, поденщица. Но мне нравится хозяйничать самой. — Ида, в бежевой блузке и светлой юбке — по-парижски узкой, собирала на стол. В ее осторожных, привыкших к милтону и китайским сервизам руках, простенькие новые чашки и блюдца почему-то казались дорогим фарфором.
— А Ирина Андреевна?
— Тетя поехала в Бонн.
— Вот как?
— Да, до конца сентября. Какие-то денежные вопросы. Что-то куда-то переводить. Сюда, кажется. Я же в этом ничего не понимаю. — Ида засмеялась. — А тетя у нас Министр Финансов, это было ее прозвище на даче. В Крыму. Одно лето это было каким-то дачным поветрием — придумывать всем прозвища.
— Дача у вас, кажется, была в Алуште?
— Нет, в Профессорском уголке. Это недалеко от Алушты, час езды верхом.
В открытом окне с темными от времени коричневыми ставнями видна была часть высокой крыши соседнего дома: золотые и рыжие листья начинающегося сентября живописно выделялись на фоне бурой черепицы.
— А что слышно на бульварах?
— Я не завсегдатай модных мест, Ида…
— А все же?
— Появилась какая-то новая ересь: насколько я могу судить, почище штейнерианской и еще эклектичнее… Тем не менее стремительно входит в моду. Попытка подведения космогонической базы под господ в черных кожанках… Очень многое нахватано из йоги, а вообще — скверновато пахнущий дилетантизм, за которым неизвестно что стоит на самом деле… Честно говоря, довольно противно: воспевание эдакого раздутого в России мистического костра, в огне которого должно сгорать все, мешающее всеобщему блаженству. Так воспевать кровь можно, только сидя за письменным столом! Впрочем, все апостолы мракобесия были теоретиками, к сожалению, кроме последних… Простите, Ида, кажется, я увлекся.
— Вы чем-то очень взбудоражены, Вадим.
— Просто узнал сегодня, что снова откладывается мое возвращение в Петроград.
«Схватился за спасительную полуправду… А ведь сейчас на этот вопрос, надо было сказать… «Мне надо поговорить с Вами, Ида Дело в том… дело в том, что я люблю Вас — люблю с юношеской силой и чистотой, каких не ожидал в себе обнаружить…
— Не мучьте себя так, Вадим. Ведь Вы нужны здесь.
— Для боевого офицера это не Бог весть какое утешение, Ида. Изумительный чай. Как надоел вечный здешний кофе…
— А вы когда-нибудь слушали самого Штейнера?
— Почему Вы об этом спросили?
— Просто так, пришло в голову, когда Вы упомянули о штейнерианцах.
— Нет, ни разу. С меня хватило речей его бешеных последователей. Я с изрядным их количеством был знаком через Женю Ржевского — одно время он было увлекся этим, но быстро охладел.
«Я же сам себя топлю… Зачем я упомянул сейчас Ржевского? И словно кто-то за язык тянул его непременно упомянуть».
— Я не знала, что Женя увлекался антропософией, но не удивлена. Непредсказуемость своего поведения он, мне кажется, сам доводил до крайности. Странно, насколько они все же непохожи были с Сережей, не правда ли?
— Не знаю. В них больше сходства, чем представляется на первый взгляд. Сережа унаследовал ту же непредсказуемость, я бы сказал — неуправляемость. Он не мог бы быть кадровым военным. Это фамильное свойство его натуры мне несколько знакомо по петроградскому подполью.
Все то же светлое, приветливое выражение лица, та же характерная осанка екатерининки — но все же сидящая напротив Вишневского Ида как-то мгновенно и очень сильно изменилась — словно произошло нечто очень важное.
— Вы хотите сказать, Вадим, что встречали Сережу Ржевского после революции?
— Встречал? Я думал, что говорил Вам об этом… Конечно, не однажды встречал и работал с ним в девятнадцатом году, правда — недолго. Но… — в следующее мгновение Вишневский понял.
— Он… очень изменился?
— Не могу Вам ответить, я до революции не был с ним знаком, только слышал о нем от Жени.
«Значит, в действительности все выглядит еще проще: там, где поперек дороги Юрия встал старший брат, на моем пути появился младший. Как все просто!» — Вишневскому захотелось рассмеяться. Он знал теперь, что ничего уже не скажет, что объяснение, которого в действительности не произошло, все же не оставляет ему и слабой надежды.
«Но ведь получается, она не знает, что Сережа Ржевский в Париже?.. Значит, приятный долг сообщить ей об этом выпадает на мою долю? Забавно, хотя и несколько жестоко. Но не сделать этого было бы бесчестным…»
Перед Вишневским неожиданно возникло лицо Сережи — усталое и очень равнодушное, губы, искривленные иронической усмешкой: «Я рад, что она здесь, но видеть ее не хотел бы… Сказать по правде, Вадим, я никого не хотел бы видеть».
«Нет! Тысячу раз — нет… Она не должна встретиться с этимСережей… Он убьет ее, даже этого не заметив… Пусть лучше не знает… Пусть лучше молится за далекого беспечного мальчика с обаятельной улыбкой… Пусть что угодно, только не это.
И какой счастливый дух уберег меня от того, чтобы за несколько месяцев ни разу не упомянуть при ней к слову о том, что он — здесь? Господи, не мне играть тут жестокую роль фатума… Только не мне…»
— Что с Вами, Вадим? Вам дурно?
— Нет, простите, так… Мы, кажется, говорили о Ржевском?
Вишневский вздрогнул: в маленькой квартире громко заработал телефонный звонок.
— Извините. — Ида с какой-то печальной легкостью поднялась и вышла в темный коридорчик к аппарату. Дверь осталась приоткрытой.
— Алло? — как во сне слышал ощутивший внезапную слабость Вадим.
— Да… Вы, Юрий Арсениевич? Да? …Да, я сейчас дам его Вам…
— Алло?
— Вишневский? — голос Некрасова звучал как-то странно ровно. — Приезжай как можно скорее. Я в твоем номере.
36
Некрасов сидел в глубоком кресле у телефонного аппарата. Звук открывшейся двери не заставил его даже поднять голову. На журнальном столике перед ним стояла почти пустая бутылка виски. Вишневский уже несколько лет не видел Юрия пьяным — с тех пор как появилась Тутти.
— Юрий!
Некрасов поднял глаза, и Вадим, столкнувшийся с ним взглядом, с испугом понял, что он трезв — опустошающе-беспощадной пьяной трезвостью.
— Что случилось?
— Сядь, — Юрий кивнул на второе кресло у столика
— Пойдем в гостиную — там удобнее говорить.
— Не стоит отходить от телефона.
— Плохие вести… оттуда?
— Никаких, — Юрий усмехнулся. — В том-то и дело, что никаких.
— Этого не может быть. Более двух-трех каналов одновременно из строя не выходит… Просто не выходит…
— Все каналы одновременно. Сейчас проверяют последний — дипломатический. Подполье молчит… как покойник. Ты догадываешься, что это может означать?
37
Лампа в оранжевом абажуре рассеивала неяркий мягкий свет. Телефон молчал пятый час. Некрасов, взявшийся за вторую бутылку, вопросительно взглянул на Вишневского. Вадим отрицательно качнул головой — горло было сжато спазмой. Юрий выплеснул остатки виски в свой стакан, и просто, как будто пил воду, осушил его. Он был все так же устрашающе трезв, как несколько часов назад.
Сколько еще русских не отходит от телефона в эту ветреную парижскую ночь? Подполье молчит… Ожидание и неизвестность.
Вишневский поднялся и прошелся по комнате: от напряжения и усталости собственное тело казалось ему невесомым. Усталость — отчего? Усталость бездействия? Усталость ожидания.
— Знаешь, Вишневский, — по темному в оранжевом свете лицу Юрия пробежала нехорошая улыбка, — я чувствую себя в положении человека, который, когда жгли дом со всеми близкими, собирал грибочки в лесу. Надо признаться, что ощущение не из приятных.
«Да, после того как станет наверное известно, что все-таки делается сейчас там, невозможно будет простить себя за то, что был в это время здесь… Знать… даже самое худшее, но только бы поскорее знать, больше невозможно терпеть эту неизвестность… Неужели это действительно конец? Юрию есть для чего жить, а мне… Как последовательно рушится мир».
38
Холодная вода привела Вишневского в себя. Когда он вышел из ванной, было уже совсем светло. Юрий по-прежнему сидел наверху у телефона.
Утренний кофе был уже подан. Рядом, на подносе, лежала свежая почта. Вадим машинально развернул газету.
«Кража со взломом в частном масонском архиве… Подозреваются… Исчезновение документов, относящихся к современному масонству…»
Господи, какая глупость! Масонство — что-то из оперетты плаща и шпаги… Пьер Безухов… Радищев…
Неужели это может всерьез кого-то занимать сейчас, когда…
Из газеты вывалился узкий серый конверт. Адрес на нем был надписан незнакомым Вишневскому ломким женским почерком.
39
— Борис!
Андрею показалось, что Ивлинский не услышит его, однако Борис, подняв голову, молча кивнул другу и застыл в прежней позе — ссутулившись, обхватив руками колени.
Андрей сел рядом с ним на обломок какой-то старой плиты, криво торчавшей из разросшейся крапивы.
— Тихо здесь, правда? — негромко произнес Борис, глядя перед собой. — И пахнет морем… Как все это странно, Шмидт… Ты знаешь, ведь мы же сами не поняли еще, до чего странная у нас судьба… Взрослым этого не понять, даже таким, как Николай Владимирович… Скажи, только честно, как ты помнишь прежний Петербург?
— Смутно. Как будто это сон или было не со мной.
— Какой Невский тебе естественней представить: на котором движется пестрая толпа, через нее трудно пробираться, если спешишь, мелькание лиц, открывающиеся туда-сюда двери, яркие витрины, автомобили, пролетки, теснота экипажей и автомобилей… Или наполовину скрытые травой камни огромного пустыря с неподвижно застывшими зданиями-полуруинами? Когда легко бродить, не глядя на то, мостовой или тротуаром ты идешь?
— Как и тебе — второй.
— А им — первый. Они смотрят на Невский и думают, что он стал таким. А мы, если и думаем об этом, то думаем, что он был другой… Это не одно и то же — «стал таким» и «был другой»… Тут разное первично. Ты понимаешь?
— Да.
— Я думал… Вероятно, такими же, как мы, были люди на закате античности. Которые тоже выросли среди величественных руин, зарастающих травой… Руины — это красота смерти. Мы совсем другие, чем они. Нам трудно представить, что в этом городе когда-то кипела жизнь, работали фабрики и заводы… Мы выросли в городе руин, где мостовые заросли травой, поют птицы и пахнет морем… Как это все странно, Андрей!
— Странно… Я видел вчера Миронова из твоей «Раковины».
— Занятия идут?
— Да.
— Что он еще говорил?
— Блок тяжело болен. Кажется, очень тяжело. Ходасевич собирался за город — ао конца лета. Даль все еще в Москве. Может быть, пойдем?
— Что? А да, конечно. Мама беспокоится. — Борис поднялся, не глядя на простой крест, поставленный над невысоким свежим холмиком.
— Знаешь, я и сам понимаю, что так даже лучше… Само существование стоило ей невероятных усилий… Я просто… просто… просто мне как-то не по себе каждый раз оставлять ее одну.
— Она не здесь.
— Знаю. И все равно ничего не могу поделать. Пошли!
Борис, обгоняя друга, быстро зашагал по Смоленскому кладбищу.
«…До чего же все-таки странно — умирать летом, это как-то не вяжется между собой — лето и смерть… Блок болен…»
«Блок болен, а Гумми — последовательно беспощаден», — вспомнился Борису обрывок разговора в «Диске».
— У Гумми нет иного выхода: он бьется не лично с Блоком— И потом вопрос упирается в то, что это как раз тот случай, когда микрокосм не равен макрокосму…
— То есть?
— Если брать за микрокосм литературные круги Петербурга, а за макрокосм — всю остальную Россию… Гумми побеждает Блока, а по всей России… Он потому и беспощаден. Представьте фанатизм, с которым бьются защитники последней не павшей крепости, в которой хранятся святыни и знамена… Влияние на молодежь, литературный климат, борьба за сохранение лучших традиций… Поймите, первое — это не так уж и мало, и второе — это для Гумми последняя крепость.
— Гумми — монархист?
— Он — прежде всего противник идеи о праведном кровопролитии… Помните у Блейка? «The iron hand chrush'd the tyrant's head, And became a tyrant in his stead» 81…
— Однако же он воевал.
— Мне думается, что это и способен понять только воевавший.
«Да, он не испытывает к Блоку ничего, кроме сострадания, — подумал Борис, — иначе бы он не пошел к нему тогда с делегацией… „Блок, не уходите, мы — люди одной культуры“. Но он пошел только потому, что битва выиграна… Милый Николай Степанович! Как хочется его увидеть… Пойду завтра в студию, непременно! Сегодня уже поздно… Мама заждалась». — Борис, подходивший уже к дому, непроизвольно взглянул на полускрытые пышно разросшимися тополями окна квартиры…
«Почему такой яркий свет?»
Ивлинским принадлежало теперь три узких окна: все они были празднично ярко освещены.
«Что это?!» — Борис как вкопанный замер на тротуаре: по освещенным проемам быстро скользили туда-сюда темные силуэты…
«Мама!» — в арку двора Борис почти вбежал…
— Эй!! Борька, погодь, кому говорю! — Дворник Василий схватил Бориса за рукав. Василий, служивший в доме уже десяток лет, помнил Бориса еще тем первоклассником, которого, вместе с другими мальчишками, нередко гонял метлой с крыш дровяных сараев…
— Чего, Василий?
— Домой не ходи, вот чего…
— Ты что — пьян?!
— Ждут там, вот тебе «пьян»… Тебя ждут… Видел — мотор стоит? На нем и прикатили. — Дворник зло сплюнул. — Беги-ка, малый, подальше, мамаша-то как-никак за тебя не ответчица… Авось уедут.
— Давно приехали?
— С час… Да куда ж ты, дурья башка?! Борис взлетал уже по ступенькам…
В двери торчали двое парней: они не сразу поняли, что рвущийся в квартиру молодой человек и был тем, кого в ней ждали…
— Куда прешь?! Нельзя сюда…
В глубине квартиры мелькнула мама: даже издалека бледная, она стояла у косяка, наблюдая за чем-то происходившим в комнате.
Отшвырнув с дороги не пускавшего его парня (тот ударился о сложенную в углу поленницу — со стуком полетели дрова), Борис влетел в квартиру.
…Выдвинутые ящики письменного стола валялись на диване: присевший на корточки человек в черных галифе рылся в их содержимом… Часть бумаг валялась уже на полу, и по ним ходили… Распахнутые дверцы комода, перерытое постельное белье…
— Я еще раз повторяю, что мой сын выехал из города в неизвестном мне направлении, и… — мама осеклась на середине фразы — зрачки ее глаз в ужасе расширились.
— Что здесь происходит? — Голос Бориса прозвучал уверенно и по-взрослому властно.
— Кто такой, черт побери?!
— Я — Ивлинский.
— Ты-то нам и нужен.
— Полагаю, что я, раз вы вломились в мой дом. Еще раз спрашиваю, что здесь происходит… Г-м… Чека… понятно, благодарю Вас…
— Собирайтесь, Ивлинский. Вы арестованы по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре.
«Главное — вести себя так, будто у меня нет и не может быть никакого „смитта“ в куртке… Увереннее, естественнее, так, как не ведут себя при аресте люди, у которых грозящее смертью без суда оружие в кармане…
«Может быть, по дороге удастся выбросить… Господи, хоть бы удалось! Мой, освященный, „смитт“ — в их руки… Нет, удастся, удастся…»
— Боринька, — Евгения Алексеевна Ивлинская видела, что сын был как будто в радостном опьянении — он, казалось, не замечал перед собой лиц… Щеки горели, от возбуждения его немного трясло…
— Мама, дорогая, милая, поверь мне… Самое главное… ты… тебе не придется стыдиться меня, слышишь?
Словно во сне, Борис собрался и спустился в автомобиль.
— Боря — декабрист, — как-то обронил в разговоре с Андреем Даль. — Типичный пример вытесненной биографии.
— То есть?
— Старые мистики говорят — в каждом человеке три биографии: реальная, внутренняя, вытесненная… Во мне, например, вытеснена биография музыканта… А Борис — декабрист с головы до пят, но в нем не может развиться соответствующее этой биографии проявление, так как оно противоречит окружающему миру… Заметили, например — он синтезирует понятия дружбы и политики. Типичная психология тех… «Друзья, прекрасен наш союз…» Он еще в себе давит отчасти то, чего там избытке: все эти разбавления политических акций объятиями, поцелуями, клятвами, слезами, шампанским с лихим тостом — бокалы вдребезги… Много… Не дай ему Бог случая для геройства…
— Отчего же, Николай Владимирович? Смелость и здесь не лишняя…
— Не тот сорт смелости, Андрей, для здешних условий не годится… Борис на эшафот пойдет как на праздник, легче, чем мы с вами. Но ему нужна публика, нужно ощущение своей индивидуальной принадлежности истории. Его поведет экстаз, эйфория. А ВЧК напоминает не темницу с видом из окна на красиво драпированный черным сукном эшафот, а дурно пахнущую бойню, и — в полнейшей антисанитарии… Не знаю, что бы сталось, очутись он вместо одиночки или дружеского круга в камере с какими-нибудь грязными мешочниками…
Последние слова Даля оказались пророческими. Допросов, которых с таким бурлением душевных сил ждал Борис, не последовало. Был один допрос, в первую же ночь всего один, если это вообще можно было назвать допросом. Допрашивал какой-то странно безликий человек: у него как показалось Борису, все черты находились на месте, но при этом отчего-то не составляли лица, а так и оставались глазами, ртом, носом…
— Фамилия? Имя? Отчество?
— Ивлинский Борис Александрович.
— Так. — Взгляд в бумаги. — Год рождения… девятьсот пятый… Бывш. дворянин… Признаете себя участвующим в контрреволюционной деятельности?
— Безусловно!
— Так… Кем были вовлечены?
— Поэтом Леонидом Каннегисером.
Борису казалось, что вызывающие ответы повисают в воздухе, не достигая цели… Это вообще не походило на допрос, а напоминало скорее какую-нибудь скучную перерегистрацию продовольственных карточек. Он не знал, что первый этот допрос и будет последним, что ему предстоит прожить еще несколько недель в ужасающей мысли, что он навсегда забыт в тюремной грязи: в нескольких, но разделенных кирпичом, метрах от друзей по организации — в общих камерах слева, справа и напротив, но не в той, куда странный каприз судьбы забросил его самого…
— Товарищ Кузнецов! Привезли профессора Тихвинского…
— Давай сюда — этот будет поважнее… Увести!
40
«ЗАПИСКА УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДЕЛАМИ СНК И СТО. ТОВ. ГОРБУНОВ! НАПРАВЬТЕ ЗАПРОС В ВЧК. ТИХВИНСКИЙ НЕ СЛУЧАЙНО АРЕСТОВАН: ХИМИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ДРУГ ДРУГА.
3/IX ЛЕНИН» 82
41
— А говорите-ка вы потише, господа! — с улыбкой произнесла Мари, наклоняясь над последним ящиком еще зимой пошедшего на дрова комода. — Ее Высочество спит.
— Извини, Маша, — Женя, поморщившись неприятному привкусу подкрашенного травой кипятка, поставил стакан на стол.
— Ты как с куклой возишься.
— Надо сказать, Николаев, что ты весьма своеобразно выражаешь свои родительские чувства.
— Не могу сказать, чтобы я отчетливо представлял, каковы должны быть эти чувства. Ну скажи, Чернецкой, что можно чувствовать к существу, которое способно только спать или смотреть в потолок, притом — совершенно бессмысленно? Вдобавок другие куклы мяукают, только когда им нажимают на живот, а эта — в любое время дня и ночи… Мари, может быть, окно прикрыть?
— Нет, Митя, не надо. Пусть свежий воздух идет. — Поправив еще какую-то, неизвестно чем не угодившую ей, складку одеяльца. Мари вернулась к столу, за которым сидели Женя и Митя. — Никогда в Петербурге не было такого свежего воздуха — даже морем пахнет…
— Еще бы — не первый год стоит вся промышленность, и на один жилой дом приходится десяток необитаемых… А странно, я никогда не любил Питера, а сейчас…
— Неожиданно возлюбил?
— Не смейся… Ведь все-таки мы не даем ему умереть… Хотя бы эти розы, которые ты принес сегодня Мари… Ну не странно ли, что в городе, где каждый день умирают от голодного истощения, все-таки продают цветы?
— Мор и глад… А суета — сгорела. — Женя рассмеялся. — А ведь пословицу о пушках и музах придумали сытые… Нет более гадкой лжи, чем эта пословица… Ох ты… Маша, Бога ради, что это такое?! — немного изменившись в лице, Женя обернулся к отошедшей Мари, которая, переменяя что-то в «кроватке», едва слышно успокаивала ребенка какой-то колыбельной. — Что ты поешь?..
— Заплачку, — улыбнулась Мари. — Меня научила когда-то одна старуха в деревне.
— Ты не можешь сказать все слова?
— Если я ничего не перепутала:
Открывай глаза, мое солнышко, Улыбнись скорей, моя зоринька, Поднимайтесь, сын и доченька, Просыпайтеся, брат с сестричкою! Привела я к вам вороных коней. Вороных коней с длинной гривою, Заждалося вас поле чистое, Заскучал без вас буйный ветер. Не ответят мне мои детоньки, Не откроют глаз мои любушки, Под плитой лежат сын и доченька. Во сырой земле брат с сестричкою…Кажется, так… Только, конечно, сначала там «просыпайтесь», а «поднимайтесь» потом.
— Надо сказать, что-то в этом есть не то… Двусмысленная petite chanson83… Кстати, непонятно — почему под плитой? Ведь в деревнях не кладут каменных плит на могилу…
— Могу объяснить, — Женя засмеялся. — Откуда вообще взялся надгробный памятник? В обрядах бывает, когда утрачивается первоначальный смысл… А ведь он ведет свое происхождение от простого камня потяжелее, которым придавливали могилу, причем — далеко не всякую… — Как обычно, когда Женя говорил на такие темы, голос его звучал не по-хорошему вкрадчиво и дразняще… Эта интонация завораживала, увлекала…
— А какую, если не всякую?
— А такую, где надо, чтоб не вылазил… Так что милые детки из этой песенки — суть нечто вроде моих родственников… Ведь такого вы обо мне мнения, друзья мои любезные? В особенности ты, Николаев, Маша, как всякая женщина, смотрит несколько более трезво… — С Жениного лица неожиданно исчезло двусмысленно-дразнящее выражение, мгновенно уступившее место доброй насмешливости. — Может быть, довольно делать из меня Джона Мельмота?
— Женя, почему ты никогда не рассказываешь о себе? — смягчающим слишком прямой вопрос тоном спросила Мари.
— Да попросту потому, что рассказывать особенно нечего. Должен тебя разочаровать, Маша, у меня самая прозаическая биография. До девяти лет я жил больше в Стрешневе, нашем подмосковном имении, чем в Москве. Я рос банальным книжным ребенком. Потом, после смерти отца, жил до тринадцати с половиной лет за границей, в семье, тесно связанной с моей не кровными, но скорее деловыми узами, которой и была поручена опека, — я довольно богат, во всяком случае — был… В тринадцать лет я вернулся в Москву и поступил в пятый класс Поливановской гимназии… Ну а дальше и совсем просто — Добрармия и Дон… Вот и все — ничего романтического. А кстати, Николаев, сегодня ведь — среда?
— Среда, но я не был в Доме…
— И я пропустил, причем — как-то очень глупо. Меня занесло в некое место на Фонтанке, где я наслушался бреда на всю оставшуюся жизнь, причем бред был философический.
— В ВОЛЬФИЛЕ, что ли?
— Именно. Нет, на самом деле там иной раз бывает любопытно, хотя публика пестрая. Просто на сей раз пережевывали «Петербург», а у меня сие кушанье не вызывает аппетита. Кстати, опять сегодня слышал, что Блок очень плох.
— Меня поражает, Женя, я слышала, что родные хлопочут, чтобы увезти его куда-нибудь лечиться, но ничего пока не добились, хотя ясно, что зимы он в Петрограде не переживет… Неужели же…
— Что же тут странного, Маша… Он сыграл свою роль, и больше им не нужен. А пожалуй — и нежелателен.
— Ну вот, опять… Чувствую, что моя дщерь, прослышав, что мне вставать ни свет ни заря, твердо вознамерилась не дать нам сегодня сомкнуть глаз…
— В таком случае она отменно сообразительна для своих лет. А вставать ни свет ни заря тебе, кстати, не придется, Николаев, — невзначай уронил Женя, вытаскивая портсигар.
— То есть?
— Вместо тебя иду я. Эту ситуацию вчера переиграли. Ой, извини, Маша, опять чуть не забыл, что тут не стоит курить.
— Погоди, я тоже, — Митя вышел вслед за Женей во дворик, выходящий на Большую Морскую: с приездом Мари Николаевы заняли довольно пригодную для жилья комнату в полуразрушенном доме — недалеко от Дома Искусств, но и не рядом… Раньше там жил кто-то из переехавших в Москву завсегдатаев Дома литераторов, Женя не помнил кто…
Ночь действительно отчетливее обыкновенного доносила дыхание моря.
Женя, подтянувшись с мальчишеской резкостью движений, уселся на каменных перилах крыльца и, болтая в воздухе ногой, начал сворачивать самокрутку. Митя, вставший, облокотись, рядом, тоже закурил.
— У тебя хорошие вышли?
— Кончились, будь они неладны! — Женя сердито сплюнул попавшим в рот кусочком папиросной бумаги. — Сегодня вышли… Не курить не могу — я по натуре наркоман, хотя настоящих наркотиков никогда себе не позволял… А от запаха махорки меня рвет. Мерзостный запах.
— Зато сегодняшние розы весьма неплохо пахнут… Вот скажу Мари, откуда они взялись, — чтоб тебе впредь неповадно было.
— Да ладно тебе, подумаешь — жертва… Не могу же я, в самом деле, являться без цветов в дом такой очаровательной женщины, как твоя жена? Но с папиросами ты неплохо сшерлокхолмствовал.
— Метод дедукции, — Митя засмеялся. — Ты у нас останешься?
— Нет.
— Тогда тебе пора — быстрым шагом впритык…
— А, плевать… Я в этом отрезке знаю все подворотни.
— Смотри сам… — Митя немного помолчал. — Слушай, Чернецкой, я начинаю замечать, что происходит одно из двух — либо, покуда я тут занимался своими семейными делами, организация видоизменилась в филиал «Белой ромашки» и борется со сквернословием и курением, либо… меня намеренно отстраняют от серьезных операций.
— А чего бы ты хотел, Николаев? По-твоему, мы имеем нравственное право тобой рисковать, если можно лишний раз рискнуть кем-нибудь другим, например — мною?
— По-моему — да, имеете. Связав свою судьбу с моей, Мари знала, на что шла.
— И поэтому, если понадобится именно твоя жизнь, мы без колебаний ею распорядимся. А покуда необходимости именно в твоей жизни нет — согласись, мое право на риск больше твоего.
— Женя, прости, но неужели нет женщины, с которой связана твоя жизнь? — немного неуверенно спросил Митя.
— Нет… — очень медленно процедил Женя, глядя куда-то перед собой. — Такой женщины не может быть, потому что ее не должно быть… Я никого не люблю.
Никак не ожидавший этой странной откровенности, Митя изумленно посмотрел на друга.
— Моя возлюбленная была бы очень несчастна, — уже более обычным голосом ответил Женя.
— Ты уверен в этом?
— Так же как в том, что я не разрешил бы ей иметь детей, понятно это тебе, счастливый отец? Собственно, я и не знал ни одной женщины для того, чтобы быть уж точно уверенным в том, что у меня их не будет. — Женя засмеялся. — Нет, не думай, тут нет никакой патологии. Я здоров. Просто я сознательно меняю все счастье любви на горьковатое удовольствие сознания, что мне удается замкнуть кольцо.
— Я не понимаю тебя, — сказал Митя тихо.
— А тебе не надо меня понимать, — усмехнулся Женя.
— Ты уверен в этом?
— Уверен. Ты думаешь, что я не вижу, чего ты хочешь? Я ведь это давно вижу, Николаев. Брось, даже самые мысли об этом оставь, слышишь? Ты очень мне дорог, я с радостью жизнь отдам за тебя и за Машу — но большего, чем уже есть, от меня не жди. Я одному только человеку открыл больше, но этот человек меня спас. Правда, сам того не зная, но все же спас. А так спасти меня можно было только однажды, потому что теперь уже, к счастью, случилось то, чего бы без него очень могло вообще не случиться. Поэтому никто, кроме него, не услышит от меня большего, чем ты слышишь сейчас. Извини.
— Это ты извини меня, Чернецкой, — опустив голову сказал Митя. — Я не имел права хотеть того, чтобы ты открывал для меня эту дверь.
— Но ведь я открываю для тебя другую. — В голосе Жени послышалась неожиданно теплая нотка. — Ладно, мне пора. Кланяйся Маше — я уж не зайду. Кстати, какое сегодня число?
— Третье августа.
42
— Что, Женя ушел?
— Да, просил за него извиниться. Скоро пойдут патрули… — Митя устало провел ладонью по лицу. — Дашенька спит?
— Сейчас только уснула. Вы довольно долго курили…
— Странно. Я думал — минут десять.
— Ты расстроен?
— Нет, просто устал. Послушай, когда ты в последний раз говорила с дядей Сашей?
— За два дня до его смерти, в начале марта Я плохо себя чувствовала тогда и уже не могла у него бывать каждый день… — Мари отложила шитье на край стола. — Знаешь, Митя, это был какой-то удивительно хороший разговор… Сначала мы говорили о тебе, потом — о ребенке, а потом, он почему-то думал, что это будет мальчик, он стал рассказывать легенду о вавилонской царице, я сначала не запомнила, потому что больше думала тогда о том, что он очень неважно выглядит. Его все время знобило, он чаще сидел в комнате в шубе… Это потом я вспоминала все эти разговоры… А потом я нашла эту сказку в его бумагах. Она очень красивая.
— Погоди, — Митя опустился на пол рядом со стулом, на котором сидела Мари. — Теперь рассказывай…
— Когда царица Шаммурат, — с улыбкой начала Мари, ероша тонко выточенными пальцами темно-русую шевелюру мужа, — родила царевича Энкшу-ра, она приказала послать за прорицательницей Эммиуту. И когда прорицательница явилась пред очи царицы, Шаммурат спросила ее: «Что сулит грядущее сыну моему Энкшуру?» И Эммиуту гадала на лопатке барана, а потом ответствовала так: «О царица, удачливым и могучим правителем станет сын твой Энкшур, если только на самой заре царствования остережет его совет женщины от опрометчивого поступка». И тогда царица Шаммурат сказала: «Я остерегу сына моего Энкшура, ибо кто остережет лучше матери?» Но Эммиуту отвечала ей так: «Нет, царица, не ты остережешь его, ибо прежде за тобою явится Намтар и уведет тебя во владения Нергала». И услышав это, Шаммурат громко зарыдала, и плач ее услышала богиня Иштар, жрицей которой и была царица. И Иштар сказала царице Шаммурат: «Есть кому остеречь, кроме матери». И тогда Шаммурат молвила «Знаю я теперь, как мне поступить». И она призвала к себе птицу Мунги-Нинуту, рыбу Эни-Мунир и змею Нэшти. Тут, знаешь, Митя, он говорил, что собственные имена свидетельствуют о том, что это не просто рыба или птица, а мистическое существо из тех, которые существуют в образе животного… И когда они явились, царица спросила Мунги-Нинуту: «Не ты ли, Мунги-Нинуту, оборотишься возлюбленной для сына моего Энкшура и остережешь его?» И птица Мунги-Нинуту отвечала ей: «Нет, Шаммурат, не я это буду». Тогда царица спросила рыбу Эни-Мунир: «Не ты ли, Эни-Мунир, оборотишься возлюбленной для сына моего Энкшура и остережешь его?» И рыба Эни-Мунир отвечала ей: «Нет, Шаммурат, не я это буду». И тогда царица спросила змею Нэшти: «Не ты ли, Нэшти, оборотишься возлюбленной для сына моего Энкшура и остережешь его?» И змея Нэшти отвечала ей: «Да, Шаммурат, я это буду и остерегу его». «Пусть будет так», — сказала царица Шаммурат…
— Удивительно красиво… Интересно, почему — змея?
— Может быть, потому, что она — на земле?..
— А дальше?
— Дальше он не рассказал… Он ведь начал об этом рассказывать для будущего мальчика, как он думал… Он говорил, что его поразила идея этой сказки: всякая иная любовь вторична по отношению к материнской… Мы еще смеялись, я спросила, не думает ли он, что я буду создавать возлюбленных для своего сына — пусть сам ищет… А он сказал: «Не думаю, чтобы царица Шаммурат была единственной матерью, которой приходила в голову такая затея…» И добавил, что, конечно, в древности, потому что главное отличие древних от нас в том, что они ближе стояли к настоящему миру…
— В это я могу поверить.
— Митя, а ведь мне еще надо дошить Дашину распашонку, а потом стирать. Ты нагреешь воды?
— Сейчас… Только скажи, о чем ты думала минуту назад?
— Сказать?
— Да.
— О Чернецком. Митя, знаешь, он — чудесный, он — очень милый, но в нем есть что-то… не знаю, не могу объяснить. Бывают люди, которым — при том, что они очень хороши, было бы как-то более «к лицу» быть очень дурными. Женя — из них.
43
— Я зашибу когда-нибудь эту сволочную свинью, — сердито пробурчал Женя, пробираясь по темной кухне: поросенок особенно громко постукивал копытцами по кафелю, топчась в своем закутке. Поросенок этот, упорно откармливаемый Ефимом, давно уже сделался в доме притчей во языцех так же, как и прочие связанные с Ефимом легенды… Женя усмехнулся, вспомнив свой любимый ефимовский «перл», сказанный во время подготовки одного из недавних карнавалов Пясту, срочно для чего-то искавшему Мандельштама: «Господин Мандельштам у госпожи Павлович жабу гладят» (имелось в виду жабо…). Обожающий разносить словечки и злые эпиграммы (даже на самого себя), Пяст не удержался пустить великолепное высказывание гулять по всему Дому…
— О, Евгений, это Вы?
— Добрый вечер, Владислав Фелицианович: я что-то давно Вас не видел.
— И опять долго не увидите, — Ходасевич коротко рассмеялся: в усталом смехе явственно прозвучали хрипы. Нервно подвижные черты его лица даже в тускло освещенном коридорчике говорили о сильном обострении хронического заболевания, которым, как знал Женя, Ходасевич страдал с проведенной в практически нетопленой московской квартире зимы восемнадцатого года.
— Что так?
— Утром я уезжаю за город.
— Таки удалось добиться разрешения? Но это же превосходно!
— Да, пожалуй… Вот обхожу наших с прощальным визитом. К Вам уж тогда не загляну, коль скоро сами попались.
— Отдохните как следует, Владислав Фелицианович! Добрый путь.
— Спасибо, не премину. Прощайте.
…Женя поднялся к себе и запер дверь. Ветерок, проникающий через раскрытое окно, шелестел разбросанными по столику бумагами.
«Тьфу ты, стоило бы прибраться, — подумал Женя, зажигая коптилку. — Даже и весьма стоило бы, г-н подпоручик, поелику сие напоминает обиталище Ефимова protegee… Доктора Штеинера мы, с позволения господ антропософов, запихнем подале… А это еще что такое? А, да… Надо прочитать… А вот это уже роскошь — целая папироса!» Тут же позабыв о намерении прибраться, Женя, сдвинув книги, уселся на мраморной доске столика и, закурив, развернул взятый лист бумаги.
Стелется теплый туман, Муза поет все призывней, Муза зовет в океан, К берегу Индии дивной. Кончены сборы с утра, Пенные глуби бездонны, Сердце шепнуло: Пора! Кончено с юдолью сонной!
«Нет, это невозможно! Во всяком случае, я дальше читать не стану — так и скажу Нине. Какие слабые перепевы Гумми… Однако же Гумми довольно-таки благоволит к этому Владимирову… Впрочем, он довольно приятен внешне, кроме того — военный моряк из старинной морской семьи, а Гумми это любит». Не знаю, ничего не могу сказать против Владимирова, кроме, конечно, того, что его стихи бездарны, но все-таки он чем-то мне не нравится… Причем — это не просто какой-то антипатический ток, как иногда бывает, а что-то другое, что-то значительнее антипатического тока, с неприятным ощущением, что это что-то непременно надо разгадать… Ладно, ну его! Почему же он все-таки нравится Гумми? Хотя Гумми нравится все, где угадывается стремление к риску… Потому что стремление к риску — это неотъемлемая часть натуры самого Гумми… Гумми… Гумми любит схематизировать и делить на типы… А ведь он и сам великолепно укладывается в довольно своеобразный тип — это тип сверхчеловека, но специфически русский… Собственно, русский и западный сверхчеловек разнятся тем, что русский сверхчеловек всегда религиозен… Религиозность сверхчеловека для Запада — синтез почти немыслимый. Если идти по гумилевской логике структуры — надо выделить характерные признаки типа… Первое составляющее — почти физическое влечение к риску, риск — как непременное условие существования… Второе — известное бретерство и позерство… Кстати, яркий пример этой категории — декабрист Лунин, они фантастически похожи с Гумми… А любопытно — мне раньше не приходило в голову: ведь та дуэль Гумми и Волошина так невероятно напоминает дуэль Пьера Безухова с Долоховым, как будто Толстой ее списал из будущего… а ведь Толстой же писал Долохова с Лунина! Неплохо!.. Странно, что для того, чтобы прийти к истинному гуманизму, а гуманизм Лунина поднимается над воззрениями других декабристов так же, как ясная и простая религиозность стихов Гумми поднимается над надломленной религиозностью современных поэтов, — обоим им надо было с шиком относить облачение бретера и убийцы… Кто мог бы угадать в дуэлянте и позере Михаиле Лунине будущий «светильник разумной оппозиции», человека, ао конца последовательного в своем хладнокровном мученичестве… В кандалах, в обществе каторжников, без права чтения и переписки создающего в себе царство Божие. «В этом мире несчастны только глупцы или скоты», — скажи это кто другой, но закованный и брошенный на годы в Акатуйскую яму… Какая нечеловеческая несгибаемость под обстоятельствами! «Я не принимал участия в мятежах, присущих толпе, и заговорах, присущих рабам… Единственное мое оружие — мысль…» — надо сказать, что тут больше позы, чем правды, но сколько правды в этой позе! Да и какой идиот первым поставил на сути позы однозначный минус?! А религиозность Гумми многим непонятна именно в силу своей глубины — такая глубина кажется чуждой нынешнему хорошему тону, она не современна, Гумилеву, как и Лунину, более подошли бы рыцарские доспехи… В своей религиозности Гумми никогда не будет жалок, как жалки магические выкрутасы Брюсова и компании Белого: не осквернясь ни единым спиритическим сеансом, он, с глубинным чутьем творца, сроду не занимался иной магией, кроме творчества… А ведь если понять суть его религиозности, то в столбняк можно впасть от потрясения… Ведь она в том, что для Гумми верить в Бога так же естественно, как дышать… И перестать верить для него так же невозможно, как перестать дышать! Да где нам это понять — изломанным, мятущимся, больным… Вся наша религиозная тонкость — только попытки больного вылечиться, а у него их нет, он — религиозно здоров… Вот их и удивляет — почему он не лечится? Их можно понять — такая религиозность редка, я сам ее вижу… во второй раз. Ведь первый раз я увидел ее в Сереже».
Женя уже не замечал, что ходит из угла в угол…
«Надо сказать, тогда это был шок… Тот самый шок, который исцеляет. Господи, как странно… какие-то три недели вместе: и, даже если мы никогда не встретимся более, этих недель хватит на мою оставшуюся жизнь… А ведь хватит… Не знаю, как тебе, Сережа, а мне — хватит. Странно все-таки: ведь я даже не сразу обратил на тебя внимания, там, в Коувала, когда увидел впервые… Было несколько штабных, несколько наших — еще какие-то солдаты, выносившие к автомобилям у подъезда телефонную аппаратуру и ящики с документацией… Обычная сутолока, когда штаб снимается с места… Все двери хлопают, тут тащат что-то, там — кричат… Я даже и не помню, чего мне-то надо было в штабе… Отошел в сторонку переждать эту сутолоку…
До чего же явственно я все помню…
На паркете валялась оброненная кем-то в суматохе книга…
Я хотел ее поднять — чисто машинально… В тот момент, когда это произошло, я смотрел на валявшуюся на паркете книгу — я еще не успел сделать движения, чтобы ее поднять — это длилось какие-то секунды…
И в следующее уже мгновение я увидел наступивший на книгу носок щегольского сапога.
До блеска начищенный сапог, наступивший на книгу — с намерением наступить…
Всего какую-то секунду все это длилось: я, вспыхнув, вскинул голову…
И увидел — отвращение, с невероятной яркостью светящееся в заурядно смазливых чертах липа… Твое лицо светилось чистотой этого отвращения, это было какое-то даже первоначальное значение слова отвращение, религиозное значение этого слова — торжествующая чистота отвращающейся от скверны души…
И тут — опять опустив глаза — я увидел, что эта книга — Вольтер.
…Это была «Орлеанская девственница». Мальчишеская выходка… Ничего особенно внешне не было в этой сцене — но я внутренними глазами увидел ее ослепительную суть… Твое явление мне с первого мгновения было мистическим прозрением.
«Mock on, mock on, Voltaire, Rouaseau: Mock on, mock on; tis all in vain!» — негромко сквозь зубы процитировал я: до чего же обычно все это выглядело внешне! «You throw the sand against the wind, And the wind blows it back again» 84, — немедля продолжил ты, встречаясь со мной глазами.
— Но ходить по книгам — все же признак варварства, г-н прапорщик.
— Не могу с вами не согласиться, г-н подпоручик… Так, нашло что-то… Вдруг показалось, что это не книга, а свернувшаяся в клубок змея — черная, лоснящаяся — захотелось раздавить.
— У вас всегда такое зрение, г-н прапорщик?
— Очень редко. И всегда — неожиданно.
— И — отчетливо?
— Нет… Никогда нельзя с уверенностью сказать, было или померещилось… Поэтому это очень легко выбрасывать из головы — собственно, я сейчас пытаюсь это анализировать потому, что вы поймали меня «на месте преступления». Такие вещи очень неявны…
— Это скорее из области Нави, с чего им быть явными? Слишком явны мы — поэтому и стремимся забывать…
— Как ни обидно с этим мириться, но мы видим столько, сколько в силах увидеть… Ведь Вы, конечно, помните у Достоевского?
— Свидригайлов о привидениях? Еще бы нет… Однако — более чем своеобразный разговор для людей даже не представившихся… Евгений Чернецкой!
— Сергей Ржевский!
…Так мы и говорили — в сразу же нами взятой иронической нашей манере, и никто не мог бы со стороны понять, что в короткой этой сцене заключено было чудо, которое явил мне ты, — в этом чуде было мое спасение.
Ведь к моменту твоего явления мне оставалось сделать один только шаг до роковой грани: я сдавался… я не мог более противиться тому, что все более властно влекло меня назад… Мне уже нечего было противопоставить сводящей с ума мысли: а не является ли признаком трусости совершаемый мною отказ? Как меня тянуло… Какой игрушкой ощущал я себя в руках превышающих мое понимание сил!
Каждый новый день нес мне все новые сомнения в правильности решенного, и они неуклонно разрушали все, что я силился противопоставить… Оставался шаг… Которого я не сделаю теперь никогда.
…В ослепительном свете твоего отвращения я неожиданно увидел, как прочно легло на должное место прежде не видимое мною логическое звено… Я увидел повапленный гроб. Прежде меня влек внешний вид гроба — позолота гроба, я знал, что он таит в себе, но не думал, об этом… И вдруг я увидел разложение внутри… Красота зла неожиданно встала в одну логическую линию с его мерзостью… зло было для меня умозрительной величиной — и вдруг я услышал смрад. Я услышал смрад, когда еще не было поздно…
И чистота твоего отвращения от скверны отвратила от нее меня.
Знал бы ты это… Ты никогда этого не узнаешь, Сережа. Впрочем, я тоже знаю не все…
— Что это?
— Я этого и сам не знаю.
— Эта штучка очень древняя… Кажется, египетская.
Я сказал тогда меньше, чем знал — сам не знаю — почему… Это был анк или анх — синий знак торжествующей жизни… Но что-то заставило меня об этом промолчать… То, что смутило меня, крылось, как ни странно, не в самом амулете, а в том, что ты показал его мне… В этом был какой-то тайный смысл, весть, которую мне не удалось прочесть… Странно до нелепости — но я мог бы поклясться в том, что это — весть, и весть мне… Но от кого?! Мне казалось, что я знаю того, от кого это послано… Что-то в этом — что-то очень важное для меня… Но я же не мог прочитать, вестником кого был для меня Сережа! Не мог… не умею.
Ладно, г-н подпоручик, а не пора ли вам почивать? Вставать ни свет ни заря — идти завтра за Николаева… И некстати же, однако… Ладно, впрочем — завтра я буду в лучшей форме, это все мои посты — есть не хочется, но шатает здорово… Особенно к ночи… «В Вашем догматизме много рисовки, Чернецкой. Можете, конечно, вегетарианствовать, но не есть ничего по средам и пятницам — это уже через край…» Плевать, я за догматизм… Среда — день предательства, пятница — день распятия.
Значит, сегодня день предательства… Среда, третье августа. Ладно, спать, — ох и устал же я все-таки!»
Женя глубоко вздохнул и, уже окончательно забыв о беспорядке на столе, вытащил жестяной умывальный таз (кувшин с холодной водой стоял на подоконнике — но умываться приходилось ставя таз на постель: в комнате некуда было впихнуть даже табуретку) и начал расстегивать потрепанную легкую куртку.
— Кто там?
— Откройте, Чернецкой! Это я, Владимиров…
— Сейчас… Вы — один? Я вообще-то уже не вполне в официальном виде…
— Неважно — открывайте скорее! Очень дурные новости.
Несмотря на явно встревоженный голос человека за дверью, Женя, прежде чем отпереть, застегнулся и провел по волосам щеткой.
44
Кузов автомобиля привычно грохотал от тряски по полуразвороченной мостовой. Мелькали зияющие провалы разобранных на дрова деревянных домов и холодные каменные стены…
Ночь была промозглой. Дину Ивченко, сидящую у правого борта грузовика, знобило.
— Ордера носила?
— Нет, потом подпишет. Некогда было. — Дине отчего-то хотелось, чтобы эта утомительная тряска не прекращалась… С тяжелой неохотой думалось о том, что автомобиль скоро остановится, придется вылезать, идти, что-то говорить, делать, может быть — стрелять… Раньше было легче, намного легче… Раньше, при любой усталости, гнев вспыхивал, как порох, в который швырнули спичку, — спичкой этой могло быть что угодно: портретик какого-нибудь гада-офицерика на стене — и рука сама тянется к маузеру… И все легко, очень легко — можно стрелять и идти под пули…
Теперь вызывать в себе эти вспышки становилось с каждым разом труднее. Стремительная, двигающая ненависть ушла в прошлое: теперь она лежала чугунным мертвым грузом — этот груз, как привязанный свинец, тянул вниз, в покой оцепенения…
Это началось уже давно, с того страшного вечера, когда, взломав дверь явочной квартиры, она с Петровым и Ананьевым, пробежав по пустому коридору, распахнула двери освещенной домашне-уютным светом керосиновой лампы гостиной…
Олька сидел, уронив голову на грудь, длинные пепельные кудри наполовину закрывали его лицо: он казался очень пьяным — это была одна из ею излюбленных пьяных поз… Это было кричаще нелепо — но на столе перед ним стоял пустой бокал рядом с бутылкой… Другой бокал стоял на буфете: наполовину полный.
«Олег!» — Дине еще казалось, что сейчас Олька лениво поднимет голову.
…Олька остался неподвижен: такой же опущенной осталась голова, таким же тяжело развалившимся тело, так же безвольно свисала рука… Дина закричала.
Под рукой, на паркете, валялся пистолет.
«Олег!»
«Наповал…» — процедил Петров, стаскивая кепку: Володька последовал его примеру.
…В подбитой мехом куртке дырка оказалась незаметной — мех и впитал кровь…
Сжавшей обеими руками Олькину голову, пытающейся приподнять ее Дине показалось, что Олька взглянул на нее — пьяным пустым взглядом…
Она плохо помнила, что было дальше.
Было невозможно понять, что же произошло в этой квартире… «Его душа — заплеванный Грааль, его уста — орозенная язва, Так: ядосмех сменяла скорби спазма, Смеясь рыдал иронящий Уайльд. У знатных дам смакуя Ризевальт, Он замечал, как едкая миазма Щекочет мозг — щемящего сарказма Змея ползла в сигарную вуаль…» — Олька часто с удовольствием цитировал эти с ускользающим смыслом плавные строки, которые, казалось, нельзя было и произносить иначе, чем с этим нарочито московским, безупречно московским произношением…
Это был буржуйский поэт, но Олька позволял себе любить его… Еще он любил Блока и какую-то московскую Марину Цветаеву… Особенно Блока…
«…Мы действительно скифы… У нас дыба в крови… Зверство, но не на западный лад — веселое зверство — с кистенем по дорогам да в шелковом кафтане… Зверство-молодечество — его и былины несут» — это произносилось не без удовольствия…
Со смертью Ольки что-то как будто ушло из стен Гороховки — это ощущали все… Даже недоброжелателям, не прощавшим Олькиного барства, стало его не хватать…
…Автомобиль резко остановился перед одноэтажным домом. Два окна были еще неярко освещены.
— Тьфу ты, надо было проехать пару домов мимо, — с досадой проговорил Володька. — Не вспугнуть бы…
— Кто там?
— За шведским мылом.
— Сейчас…
Дверь отворилась: на пороге стоял русоволосый молодой человек с военной выправкой. При виде чекистов он попытался захлопнуть дверь снова, но было уже поздно.
— У вас имеется ордер?
— Имеется.
Дина поняла, что никакой стрельбы не будет. За не покрытым скатертью дубовым столом, на котором в глиняном умывальном кувшине стояли три дымчато-белые розы на длинных стеблях, сидела — как показалось на первый взгляд — девчонка лет четырнадцати: в козьей шали на щуплых плечах и с золотыми, не пушистыми, но рассыпающимися в прическе волосами, собранными на затылке в узел… Девчонка что-то шила — какой-то маленький непонятный предмет, нет — понятный: это был детский чепчик… Ребенок тоже был в комнате — он спал невдалеке, в приспособленном под кроватку ящике комода… Вот как! Можно было не опасаться, что офицерик даст себя арестовать без звука.
— Сдать оружие!
Офицерик молча положил на стол револьвер — так спокойно, словно и не подписывал одним этим свой смертный приговор.
— Митя… Это — конец?
— Боюсь, что да. Слушайте, мадмуазель, я попросил бы Вас не курить в комнате, где находится ребенок.
— Нежности какие, не сдохнет. Скоро на корню ваше семя давить начнем. — Дина с непонятным для себя волнением следила за выражением лица продолжавшей свое шитье юной женщины: не изменится ли оно, не проступит ли в нем страх, страх от понимания того, что никто не сможет помешать ей, чекисту Дине Ивченко, разрядит маузер в это крошечное существо, бессмысленно раскрывшее на нее мутные голубовато-темные глаза… Дине хотелось этого страха. Лицо той оставалось спокойно; оборвав нитку, она расправила слабыми детскими пальцами готовую оборку. Офицер, презрительно усмехнувшийся на Динину реплику, сидел на краю стола, наблюдая за обыском.
«А если бы разрядить — как бы тогда запела, дрянь?» — Это напоминало прежние времена нахлынувшая ненависть сейчас захлестывала все Динино существо, но от этого было почему-то нестерпимо больно… И, что казалось совсем необъяснимым, было чувство, что в этой боли чем-то повинен Олька…
Олька… В Дининых ушах неожиданно (хотя такое случалось не в первый раз) прозвучал насмешливо плавный московский голос:
«Прежде всего — попытайся выбить его из седла, в котором он пока довольно крепко держится… А как ты думаешь — почему? Потому что он уверен, что под ударом только он… Лиши-ка его этой уверенности — и посмотрим тогда…»
«Арестовать вместе с ним?»
«Не будь дурой — девчонку надо оставить на свободе: даже если она сама не побежит к тем, кто еще остался, она нас все равно на них наведет… Думаешь, эти белоручки не станут пытаться выяснить, что с ней и с младенчиком?.. Соображать же надо! Только не делай от него секрета, что она останется в виде приманочки… Уразумела?»
Как хочется, чтобы эта дрянь перестала корчить из себя принцессу!
— Ну что!
— Ни бумажки… Пусто.
— Ладно. Давай-ка я сама подмахну ордерок — и господину Николаеву придется проследовать с нами… Что же касается мадам с сосунком — то их мы брать не будем, во всяком случае — пока…
— Слушай, Ивченко, — Володька Ананьев выглядел взволнованным. — Твое слово, конечно, решающее, но подумай все-таки, ты не впадаешь в дамские сентименты? Подумай — у нас в руках великолепная возможность развязать ему язык… Какого черта ей не воспользоваться?
Дина краем глаза заметила, что у побледневшего офицера по-мальчишески задрожали губы.
— А такого, Ананьев… Неужели непонятно, что за сегодняшнюю ночь мы, вероятнее всего, не всех заметем? Пусть останется приманкой… Они непременно клюнут… Даже если заметят, что стережем… Особенно если заметят. А потом, само собой, заберем… Еще бы не забрать. Просто вместо одной возможности у нас появляются две… — Дина говорила твердо отчеканивая слова.
— Ну ты даешь, Ивченко! Не зря тебе абардышевское место доверили — его школа!
— Потому и доверили. Остаешься стеречь — с Климовым и Белкиным: ты в квартире, они — во дворе. Само собой, если мадам вдруг захочет кого навестить, ни в коем случае не задерживать — пусть идет… Вряд ли захочет, конечно. Сами придут… Давать войти в квартиру… Инструкции ясны? Поехали.
— Tout ira bien, ne t'inquinte pas, cheri85, — негромко произнесла Мари, глядя в глаза Мите.
«Ближе к повороту на Гороховую — попытаюсь выскочить из автомобиля и в подворотню у аптеки — темно… Если хоть кто-нибудь не арестован, через час я буду вооружен, и тогда… тогда можно попытаться их вырвать… Если меня убьют при попытке выпрыгнуть — по крайней мере Мари с ребенком не будет угрожать то, что их возьмут, чтобы шантажировать меня… Может быть, тогда их вообще не возьмут — потеряет смысл…»
45
«Тов. Уншлихту И. С. от комиссара Ивченко Д. Докладная. Арестованный по делу Таганцева Николаев Д. В. убит при попытке к бегству по пути следования на Гороховую. 4 авг. 1921».
46
Было слышно, как заводили мотор, потом в ночной темноте замолк грохот автомобиля, увозившего Николаева.
Ананьев уселся у стола и начал сворачивать самокрутку.
Послышался похожий на писк плач. Женщина подошла и наклонилась над ящиком, распеленывая почти незаметного в груде белья ребенка. Движения ее были автоматически размеренны, лицо — неподвижно.
Забота об этом ребенке была уже бессмысленна, он был обречен — в лучшем случае на приют, где не заживались и постарше… В лучшем случае. Пусть. Так и надо — с их детьми, с их женами…
Это была тайна, которую Ананьев под дулом маузера оставил бы при себе: самый сильный испуг в его карьере чекиста был связан с ребенком.
С этого дня прошло полтора года, но январский этот слякотный день стоял в памяти во всех подробностях, как будто от него Ананьева отделяло не больше нескольких дней.
Добивали Национальный центр… Да, это были последние дни НЦ.
Девочка лет десяти, появившаяся в дверях черного хода явочной квартиры, была темноволоса и одета в белую цигейковую шубку. Володька тут же сообразил, что эта девчонка — та самая, которая как-то непонятно мелькала уже в двух или в трех доносах агентов… Большой, неребячий испуг в лице отшатнувшейся назад девочки подтвердил его догадку.
Это было детское, какое-то даже слишком детское лицо, обрамленное спадающими из-под белой шапочки прямыми волосами цвета корицы — детскими были слишком большие глаза, неопределившаяся форма носа и капризный рот; это лицо казалось лицом семилетней, хотя девочке было не меньше десяти…
«А не дочь ли она того инженера, с которым зря проваландались в апреле?! — неожиданно вспыхнуло в мозгу Ананьева, уже вступившего на лестницу навстречу в испуге отшатнувшемуся ребенку. — Той было как раз столько…»
Выражение лица девочки неожиданно изменилось: страх исчез… Нет, изменилось не выражение — изменилось, нет, начало стремительно и страшно меняться само лицо… Холодная, жестокая твердость проступила в его чертах — куда-то как будто пропали и шапочка с меховыми помпонами, и распущенные пряди, оставалось только это лицо — беспощадная уверенность прищурившихся глаз, и где-то в другом мире, бесконечно далеко — медленно поднимающаяся маленькая рука с револьвером…
Володьке казалось, что эта рука поднималась вечность… Дуло искало верного прицела — а он не мог пошевелиться… Кошмар этого лица прервала обжигающая боль в боку… Второй выстрел прошел почти под сердцем — сгустившаяся темнота скрыла лицо девочки.
После этого — два месяца валяться в больнице, прикованным к растреклятой койке…
— Кто ж тебя так зацепил?
— А черт его знает… Из-за двери палили.
Нет… Этих волчат, остервенело кусающихся, когда их давишь, этих волчат надо вырезать на корню… Класс впитывается с молоком.
— Только давай сразу договоримся — без истерик. На меня это не действует.
Женщина молчала.
— Слышишь или нет, что тебе говорю? — усилием воли подавляя закипающее бешенство, бросил Ананьев.
— Я привыкла, чтобы ко мне обращались на «Вы», — произнесла Мари, впервые взглянув на сидящего за столом человека, и отложила пеленку в корзину приготовленного для стирки белья. Собственные движения казались ей какими-то бесплотно замедленными, как бывает во сне… Не нужно было сдерживать слезы — их не было, Мари даже не чувствовала отчаяния — случилось наконец то, что должно было случиться, предчувствие чего придавало особый привкус каждому поцелую…
Как будто оборвалось наконец что-то висевшее на тонкой нити: все чувства застыли — потому что более не существовало тревоги.
Тревога была прежде постоянным спутником каждого проходящего часа — и теперь ее не стало.
Митя был жив — но тревожиться было больше не о чем.
«Это — конец?»
«Боюсь, что — да…» — он ни за что не сказал бы ей этого, если бы мог дать хоть какую-то надежду.
«Это — конец?»
«Боюсь, что да…»
Мари была спокойна.
— Привыкла, чтобы обращались на «Вы»? Чтобы носили цветочки, тоже, надо думать, привыкла? — Ананьев презрительно щелкнул по закачавшемуся на длинном стебле цветку. — Не надо было путаться с белым офицерьем, не пришлось бы так быстро отвыкать…
Мари, не желая продолжать разговор, подошла к окну: в темноте не было видно присутствия чужих за деревьями недалеко от входа — но все же они там были.
— Отойти от окна!
Вздрогнув от неожиданного окрика, Мари обернулась.
— Можешь не высматривать, сами придут. «Сами придут».
Тяжелое спокойствие мгновенно разбилось об эту фразу: Мари невольно опустила глаза, словно боясь, что в них можно будет прочесть ее мысли…
Да, они придут. Они придут ей на помощь… Кто остался на свободе? Даль, еще не приехавший из Москвы? Женя? Кто бы ни остался, она может погубить этого человека… Она осталась зачумленной только что унесшим Митю вторжением… всякий, кто приблизится к ней, погибнет… Этого нельзя допустить… Нельзя допустить и другого — чтобы Митю смогли шантажировать ее жизнью и жизнью Даши…
Как не допустить этого? Как?
Присутствие чекиста мешало: Мари захотелось хоть на несколько минут остаться наедине со своими мыслями. Подняв корзину с детским бельем, она прошла в темную ванную с выщербленным колкой дров кафельным полом.
Вода, налитая в таз, пристроенный на угол проржавевшей ванны, была теплой: каких-нибудь сорок минут назад, сидя за шитьем, она слышала, как Митя гремел ведром, выливая кипяток… Нет, сейчас нельзя об этом думать… Нельзя…
Мари, с облегчением вздохнув, прикрыла дверь.
Надо думать о том, что можно сделать… Не может быть, чтобы вообще не было никакого выхода.
— Дверь не закрывать! — чекист стоял в дверях ванной.
— Как Вы смеете?..
— Я тебе уже объяснял, что ломаться не придется. Горничных в Чека не имеется, а по инструкции положено наблюдать за каждым твоим движением, уразумела? За каждым.
— Какая… мерзость.
— А чего ты ждала? Думать надо было, во что лезешь.
Мари, не отвечая, опустила в воду белье. Чекист, небрежно прищурившись, наблюдал за ее стиркой, привалясь к дверному косяку.
Значит, то, что уже пришло ей в голову, неосуществимо… К тому же это ничего не решило бы: ведь осталась бы Даша…
Прежде всего нужно решить, как поступить с Дашей.
…Начавшийся дождь припустил сильнее. Володька невольно подумал о том, что ребята здорово намокнут во дворе.
— Ты это куда собралась? — Ананьев с изумлением посмотрел на Мари, надевавшую темно-серую легкую жакетку.
— Кажется, Вам было приказано в этом случае мне не мешать? — спокойно ответила Мари, заворачивая ребенка в одеяльце.
— Дура! На что ты надеешься? — нарочито грубо, пряча за этой грубостью какое-то непонятное волнение, заговорил Володька. — Уйти тебе не удастся, ты должна это понимать, если хоть что-нибудь соображаешь… Думаешь — шлепнем тебя «при попытке»? Не шлепнем — поймаем, только и всего… Ты нам пока нужна. И никуда ты не денешься от того, что придется-таки тебе сыграть в наших интересах… Некуда тебе от этого деться — так что лучше не дури.
Это было неслыханно… Володька мог бы поклясться, что ненавидит эту дрянь со сволочной этой дворянской спесью: будто и не унижают ее ни «тыканье», ни загаженные пеленки в руках, ни необходимость кормить в присутствии постороннего… Но почему, какого же тогда черта он говорит такое, что, услышал бы кто из своих…
Взяв дочь на руки, Мари вышла из квартиры.
47
Дверь стукнула: успевший изрядно продрогнуть Климов напрягся, отступая за дерево. Похожая на гимназистку женщина со светло отливающими в темноте волосами спускалась с крыльца, бережно неся тоненький сверток в одеяле.
— Кроме тебя и Васьки кто-нибудь есть? — негромко спросил выскользнувший следом за ней Ананьев.
— Еще один — Ивченко прислала…
— Мало… Ну да где в такую ночь больше взять, и на том спасибо… Кто хоть?
— Герш — из новых…
— Тьфу, сопляк… Ну ладно: Белкин пусть остается с ним в квартире, а ты со мной: видишь, пошла?
— Видеть-то вижу…
— Я сам не понимаю, рассчитывает все-таки смыться по дороге? Это бы хорошо… Ладно, пошел…
Еще немного переждав, Ананьев последовал за Мари — шагах в тридцати, держась стен домов… Он, не оборачиваясь, знал, что, немного отставая от него, через несколько минут так же пойдет Климов…
48
Этот дом Мари запомнила случайно — в одну из прогулок с Митей ей захотелось узнать, что в нем находится…
Дождь лил все сильнее. Массивная дверь между двумя нишами оказалась закрытой.
Очень медленно поднявшись по сильно стершимся ступеням, Мари неуверенно взялась за старомодный медный молоток.
Со щелчком приоткрылось маленькое железное оконце.
— Кто там? — спросил усталый женский голос.
— Откройте, скорее, прошу Вас… У меня ребенок, — твердо проговорила Мари в темноту раскрывшегося окошечка.
— Подождите минуту.
Дверь отворилась: высокая сухопарая женщина, жесткость лица которой подчеркивали белоснежные крылья чепца милосердной сестры, пропустила Мари в вестибюль с коричневым кафельным полом и покрашенными бурой краской стенами, по которым стояли две деревянные скамьи со спинками — одна напротив другой.
— Вы хотите отдать своего ребенка? У Вас есть на это необходимые бумаги?
— Нет. Это не мой ребенок. Я нашла его в своем подъезде.
— Вы промокли. Присядьте и отдохните, — увлекая Мари на скамью, произнесла женщина: сев рядом, она взяла холодные ладони Мари в свои. — Не лгите, я вижу, что Вы кормите. Вы кормите и можете выкормить — честно ли обделять детей, не имеющих того, что может иметь Ваше дитя?
— Я не очень долго смогу ее кормить. Может быть — очень недолго. Пребывание со мной может стоить ей… Ей не надо быть со мной. Может быть, за ней придут и сюда — но тогда ничего уже нельзя поделать.
— В этом случае я попытаюсь спрятать Вашу девочку среди других детей…
— Благодарю Вас, но…
— Не тревожьтесь — подобная ошибка исключена: это приют для детей красноармейцев. Подумайте лучше о другом: ведь и для Вас будет крайне затруднительно ее найти.
— У меня не будет такой возможности. Мой муж уже арестован, а я…
— Я понимаю. Значит, Вы решаетесь на то, чтобы оставить своего ребенка расти… здесь? То, что Вы пришли сюда в мое дежурство, — это почти чудо. Меня держат потому, что опытных сестер не хватает. Это — красный приют. Вы понимаете это?
— Другого выхода нет.
— Хорошо, подождите меня здесь, — сестра вышла из вестибюля.
Оставшись одна, Мари с испугом почувствовала, что механическое отчуждение, овладевшее ею, когда выход был найден, уходит: на ее коленях лежало утопающее головкой в оборках чепчика существо с благородно-младенческими тонкими чертами лица: Даша не достигла еще того возраста, когда личико младенца становится уютно-забавным — в нем была еще точеная, неземная хрупкость, какое-то знание недавней, другой жизни, из мрака или света которой недавно явилось это существо…
Неожиданно подступили слезы: Мари, наклонившись над дочерью, начала с жадностью отчаяния покрывать поцелуями точеное нежное личико…
«Ты вспомнишь, ты вспомнишь… В лучший день ты вспомнишь… Пусть, пусть тебя воспитывают они, ты вспомнишь, ты не можешь не вспомнить… Ты — наша, ты — наша боль, ты — плоть нашей боли… Костью, плотью — заклинаю тебя — живи и… вспомни! Ведь в твоей плоти аллеи наших царицынских прогулок, их желтые листья, наша любовь, моя гордость и Митин подвиг… Ты — наша, ты — вспомнишь… Ты вспомнишь, потому что больше нам не на что надеяться».
Милосердная сестра вошла, бережно неся наполненный чем-то граненый стаканчик.
— Выпейте, у Вас плохой пульс. Я, кажется, в состоянии сделать так, чтобы Вашего ребенка нельзя было найти…
Женщина ничего не прибавила к сказанному: Мари ни к чему было знать, что за время дежурства, всего час назад, умерла и уже отвезена служителем Иваном (по правилам это полагалось делать немедленно — формальность вызова врача не соблюдалась с тех пор, как прежний врач умер от тифа, а нового как-то не определилось…) заболевшая с вечера девочка и что никто еще не знает об этой смерти… Иван промолчит — на него можно положиться, и девочка ночной гостьи наследует чужое имя… навсегда лишившись своего.
— Я очень благодарна Вам. Мне надо спешить. — Мари передала ребенка сестре — не глядя, боясь, что последний взгляд ослабит ее решимость: лицо ее, не просохшее от слез, казалось спокойным.
…За спиной лязгнул засов. Мари была свободной.
49
Это было совсем непонятно: выйдя, как и следовало ожидать, уже без ребенка, из здания приюта, она свернула в переулок и торопливыми мелкими шагами почти побежала в сторону, противоположную своему дому.
Недоумевая, Володька двинулся за ней — по-прежнему прячась между перебежками за деревья, выступы домов и афишные тумбы…
Было бы слишком хорошо, нет, просто неправдоподобно… Она же знает, что за ней должны следить…
Прежнее двойственное чувство, возникшее у Ананьева там, в квартире, исчезло: на смену ему пришел знакомый азарт преследования…
Тонкая девичья фигурка впереди, казалось, стремительно летела по залитой дождем улице — темными крыльями казались отведенные в стороны локти поддерживающих изнутри раздувающуюся от ветра накидку рук…
Отступив в глубину невысокой арки, Ананьев подождал, пока с ним поравняется Климов.
— Чтоб я чего понимал…
— Похоже, она думает, что «ушла»… Когда войдем в дом, я пойду за ней, а ты — за оперотрядом…
— Ясненько…
Володька понял, что погоня близится к концу: походка преследуемой стала неуверенней и медленнее — то и дело вскидывая голову, она на ходу вглядывалась в фасады домов, словно опознавая по каким-то признакам тот, который был ей нужен…
…Подойдя к шестиэтажному квартирному дому, она торопливо поднялась по ступенькам первого от угла подъезда…
Это был большой современный дом с двумя квадратными арками, симметрично расположенными посередине, с выведенными на лицевую сторону, открытыми, забранными каменными перилами площадками, примыкающими к лестницам подъездов…
Зайдя следом, Володька понял, что чутье не обмануло его: она вошла в этот подъезд не в надежде проскочить черным ходом — откуда-то сверху доносился мелкий и быстрый стук торопливых шагов… Ей нужен был именно этот дом.
Номер квартиры сейчас, не вспугнув, не определишь… Ананьев вышел на улицу и перешел на другую сторону, чтобы удобнее было наблюдать за входом…
Через сорок-пятьдесят минут Климов будет с оперотрядом — тогда останется только обшарить весь подъезд… В таких домах подъезды не соединяются внутренними ходами.
Ананьев торопливо обдумывал неучтенные варианты. Выходило, что концы сводятся с концами — кажется, учтено было все…
…Он так и не понял, что заставило его оторвать взгляд от входа и посмотреть наверх.
Сначала он увидел лицо — белеющее в темноте пятно на площадке шестого этажа. В следующую секунду, еще прежде чем маленькая темная фигурка, сначала — одной ногой, а потом — выпрямившись во весь рост, встала на каменные перила, он понял, что ей удалось его провести…
«Сука!..» — эта мысль обожгла бессильным уже бешенством. Удалось… Удалось…
…Через мгновенье Ананьев, в ушах которого еще звучал тяжелый и страшный удар о камни мостовой, подбежал к распростертому телу…
Она упала липом — хотя лица, конечно, уже не было: распустившиеся волосы, светясь в темноте, медленно и неохотно намокали в луже крови.
50
— Ни с места, Чернецкой! Вы арестованы! — крикнул Владимиров, ворвавшийся в Женину комнату со вскинутым в руке наганом. Следом за ним проник один из сгрудившихся у двери чекистов, тоже с маузером наготове… за ними — третий, уже просто так.
«Чернецкой? Наверное, о нем можно сказать только одно — это человек, который никогда не улыбается, но очень часто смеется: правда, смех этот никого особенно не веселит», — неожиданно вспомнился Владимирову обрывок из какого-то недавнего «дисковского» разговора…
На этот раз Женя улыбнулся.
Эта чуть приоткрывшая некрупные зубы улыбка была женственной, вкрадчиво-нежной — это была очень нехорошая улыбка.
— А скверные у Вас стихи, Владимиров.
— Смотря на чей вкус, — справляясь со смущением, ответил молодой и блестящий морской офицер, отводя все же взгляд от скользнувшего в Жениных глазах золотистого огонька. — Руки.
Усмехнувшись, Женя сделал движение, которое при большом желании можно было принять за поднятие рук.
Видимо решивший этим удовлетвориться, Владимиров, не опуская нагана, провел по Жениным карманам рукой.
— Нету.
— Естественно, нету — я не мальчишка, чтобы таскать при себе подобные доказательства.
— Это все — с собой, что ли? — спросил один из чекистов, сгребая бумаги на столе.
— Не здесь же смотреть — некогда!
— Долго возитесь! — произнес немолодой грузный чекист, появившись в проеме распахнутой двери.
«Пожалуй, что мое несопротивление их сбило… И однако же я не испытываю особенного желания принимать любезное приглашение… надобно в тактичной форме его отклонить… Как бы это так сделать, чтобы гости не обиделись… Первый шаг выигран — руки свободны… При выходе к автомобилю? Глупо — слишком открытое место, тут верное „при попытке“… Хотя нет — хуже, просто поймают… Один и безоружен. Не вариант… А если действовать по примеру благородного Гектора в бою с тупицей Ахиллом? Пожалуй — в этом единственный шанс — я знаю Дом… По лесенке в кухню можно идти только в ряд… Вдобавок — она вьется… Один пройдет впереди и минует закоулок, в котором есть вторая дверь в чулан, минует прежде, чем я с ним поравняюсь, — остальные в этот момент будут еще на лесенке… Не пожив самому в Доме, ни за что не сообразишь, что из чулана может быть спуск в подвал банка… Запор на двери есть — его хватит на ту пару минут, чтобы подвалить какую-нибудь дрянь потяжелее — благо дверь обита железом, если Ефим его не содрал, как собирался… Как нарочно, все продумано до мелочей — вариант для бездарностей. Однако не будем слишком разборчивы».
— А книги брать?
— Ох, черт, надо бы, но… Ладно, пока можно опечатать.
— Скажите, г-н мичман, — Женя, выходя в коридор, с брезгливым любопытством обратился к морскому офицеру. — Вы действительно из Владимировых?
— Да, разумеется.
— Жаль. Впрочем, это неважно, — Женя рассмеялся, чувствуя в теле гармонически звериную собранность нервов и мышц, которой хватило бы на десяток побегов…
Осознание провала заговора придет потом — сейчас ему не место, сейчас оно может только помешать…
Женя вздрогнул: дверь загораживало какое-то белеющее в темноте пятно.
На мгновение как будто бы сделалось светлее — явственно выступило обрамленное двумя десятками блестяще черных кос длинноглазое лицо девочки, облаченной в окаймленный золотом белый лен… На воздетых в запрещающем жесте тонких руках горели золотые браслеты с перетекающими узорами древних знаков…
Неферт!
Напоминая белоснежный цветок лотоса и гибкую черную змейку, девочка преграждала путь к спасению; лицо ее расплывалось, более четко выступали из тьмы поднятые гибкие руки.
ГОСПОДИ, КАК ЖЕ Я НЕ ПОНЯЛ ЭТОГО СРАЗУ?
Белое облако растаяло.
Не изменившись в лице, Женя прошел мимо двери.
…На улице шел дождь. Уже садясь в автомобиль, Женя успел краем глаза заметить князя Ухтомского, выходящего из подъезда в сопровождении нескольких человек, одетых в заблестевшие от воды кожанки. Вдоль тротуара стояло еще три автомобиля.
51
— Чернецкой… Год рождения — девятьсот первый… Бывший дворянин… Мне думается, Уншлихт, начать надо с него… Есть сведения, что он был в Добровольческой… И очень молод.
— Есть и моложе.
— Что они знают, сопляки? Выжать из них легче, но нечего…
— С Чернецкого так с Чернецкого…
52
— Садитесь.
Светловолосый плотный человек средних лет — вид простоватый, даже плебейский, но это не русский вариант плебея. От второго — высокого, темноволосого, в галифе и пенсне — веет какой-то канцелярской холодностью.
Женя сел на предложенный стул перед покрытым зеленым сукном столом.
— Что же, Чернецкой, Вы должны были уже понять Ваше положение.
— Так много времени на это не надо.
— Как бывшему офицеру, мы не можем гарантировать Вам жизнь, но все же, при полной даче показаний и в случае их особой ценности…
— Бывшим офицером является офицер, изменивший присяге.
— Так значит, Вы признаетесь в том, что Вы офицер?
— Я этого не отрицаю.
— Своего участия в заговоре Вы также не отрицаете?
— Простите, в каком заговоре?
— Не валяй дурака! Будешь говорить или нет?
— Нет, разумеется, — лицо Жени приняло скучающее выражение.
— А немедля в гараж не хочешь?
— Представьте, ничего не имею против.
— Вот оно что… А как ты запоешь, если мы доберемся до твоих родных?
— До моих родных?.. Сделайте одолжение, я очень хотел бы посмотреть, как это у Вас получится.
Мальчишка откровенно издевался; и это издевательство попадало в цель потому, что за ним чувствовалось действительное спокойствие — это и сбивало с толку.
— У нас есть средства развязывать языки, молодой человек… Очень надежные средства.
— Очень интересно. Вы не могли бы рассказать — какие именно?
— Не рекомендую Вам хорохориться. Многие начинают с этого, а кончают… В подвале Вы познакомитесь с нашими способами воздействия.
— А Вы не будете меня пытать.
— Что?!
Женя насмешливо взглянул на собеседника и завернул манжет куртки, открыв тонкое запястье. — Будьте любезны, положите пальцы на пульс.
— Это еще зачем?
— Увидите.
Уншлихт неуверенно коснулся лежащей на зеленом сукне Жениной руки.
— Прощупали?
— Ну…
— А теперь слушайте дальше…
Женины глаза приняли отсутствующее выражение. На голубоватой коже висков выступили прозрачные капельки пота.
— Что за черт?!
— Сейчас будет еще быстрее… А сейчас — мед-лен-не-е… медлен-не-е…
Женя, казалось, говорил в пустоту, не видя перед собой лиц. Голос, слетавший с посиневших губ, был безжизненно тусклым.
— А сейчас я его ненадолго остановлю совсем…
— Ничего не понимаю — действительно пропадает… Совсем пропал… Сердце не бьется!
— Вправду не бьется?!
— Д-Да…
— Ну и… доста-точ-но… Вот… так… — Женя глубоко вздохнул и высвободил руку. — Должен признаться, я терпеть не могу всяких антиэстетических способов воздействия. Поэтому, как только вы сунетесь ко мне со своей дрянью, я его снова остановлю, но уже окончательно… Дошло наконец, что вы мне ничего не можете сделать?
53
«Здесь отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду — по мне. А любопытно, что здесь было лет эдак пять назад?»
— А знаете, Женя, — Гумилев неожиданно резко повернулся от забранного решеткой оконца, выходящего на тротуар внутреннего двора — у этого окна он стоял уже около часа. — Очень жаль, что у меня уже нет времени. Я хотел бы написать египетскую поэму… И героем был бы юноша, списанный с Вас. Я еще на свободе обратил внимание на Ваше лицо. Конечно, люди — необыкновенно слепые существа, но за Вас мне как-то сразу стало страшновато. Неужели современная одежда может служить достаточно неуязвимой маскировкой, подумал я, что люди не видят Вашего лица? Ведь Ваше лицо — это трогательно прекрасное лицо юного фараона, обреченного ранней смерти… Вы могли по-мальчишески надвигать козырек фуражки на самые глаза — но ведь Ваших трехтысячелетних глаз не спрячешь, милый Женичка… Я ломал голову над тем, как люди не отгадали в Вас чужого? Ведь Вы даже не похожи на них — Вы похожи на… — Гумилев щелкнул пальцами, подбирая сравнение. — На алебастровую статую фараона-юноши… Где-нибудь во мраке гробниц такая, конечно, есть… Я просто вижу ее сейчас — гладкий, нежный, печально-белый алебастр, и черным лаком, нет, краской — волосы и глаза… Когда-нибудь ее отроют, но уж, разумеется, никто не будет знать, что Вы неизвестно зачем расхаживали по Совдепии в начале двадцатых годов… Я еще там об этом подумал, а здесь, в тюрьме, все это проступило в Вас с предельной ясностью. Удивительно досадно, что уже нет времени!
— Мне, вероятно, еще более жаль, — усмехнулся Женя.
— Передача Гумилеву! — лениво крикнул появившийся в двери охранник.
— Наконец-то! — Гумилев принялся нетерпеливо развязывать узел, форма которого указывала на содержащиеся в нем книги.
— Библия и Гомер? Довольно своеобразное сочетание.
— Нет, именно то, над чем мне сейчас хотелось поработать: могучая юность народов. Свирепая красота… Я боялся, что Анне не разрешат их мне передать.
— Неужели Вы можете здесь работать, Николай Степанович!
— О, большая скученность людей мне не мешает. Я очень хорошо могу отключать сознание от окружающего.
«Пустыня? Я ее не заметил. Я ехал на верблюде и читал Ронсара», — вспомнилась Жене одна из Гумилевских фраз, брошенная кому-то в несказанно давние времена…
— Мне доводилось читать Гюисманса под гаубичным обстрелом…
«Но тогда я был спокоен. Риск жизнью не мог поколебать моего внутреннего мира: то же, что происходит со мной здесь, колеблет его», — этой фразы Женя не произнес вслух.
— Так в чем же причина Вашей меланхолии? Не смерти же Вы боитесь, в конце концов?
«При всей нашей с Ржевским склонности к бретерству мне остается в этой игре только подыгрывать, — невольно отметил Женя. — Бретерство Гумми — это бретерство высшей пробы. Это „не смерти же Вы боитесь?“ бесподобно. Ржевский бы оценил. Чуть не подумал: жаль, что его тут нет», — Женя негромко рассмеялся.
— Нет, разумеется. Я думал вот о чем, Николай Степанович: мне крайне жаль, что у меня недостанет сейчас душевной силы возлюбить и простить весь этот сволочной кровавый сброд… Я знаю, что это надобно непременно сделать, и… не могу. Не могу, понимаете? Сказать по чести, меня изрядно пугает то, что, стоя одной ногой в могиле, я, вероятнее всего, так и не смогу отрешиться от злобы и простить…
— А не слишком ли много Вы раздумываете о Ваших палачах? — На этот раз салонно ироническая интонация Гумилева неприятно кольнула Женю. — Милый Женичка, ведь это прежде всего — люди вопиюще дурного тона.
— Я не понимаю Вас, Николай Степанович. Вы заботитесь о том, как бы не уронить себя слишком серьезным взглядом на людей «дурного тона», пусть они будут даже Вашими убийцами. Но согласитесь, ведь перед лицом смерти это все уже… неуместно.
— Открою Вам маленький секрет, Женя. Избави меня Бог ломать комедию пред ликом Смерти. Но, Женя, эти люди, разве они тут хоть в какой-то степени — при чем? Вспомните, разве не смешна их претензия на то, что это они перерубают нить, которую не они привязали? Разве не унизительно было бы для нас с Вами считать, что к нашему переступлению через таинственнейший из порогов могут иметь хоть какое-то отношение взгляды и планы людей, мировоззрение которых сводится к Эрфуртской программе? Это nonsens, Женя. На уровне совершающегося таинства этих людей — нет. Есть тленная оболочка и бессмертная душа И есть вечность, ослепительный занавес которой раздвигается сейчас перед нами. Есть устремленность к Мировой Душе, благость которой касается каждого из бедных детей земли, даже тех, которые воображают сейчас, что решают нашу судьбу, и которых я отнюдь не прочь позлить завтра, или когда они там соберутся нас расстреливать… А нам надлежит собираться в путь, и благословение Господне да будет с нами.
— Николай Степанович, Вы… — Женя вскинул подбородок и ушел продолжительным черным взглядом в серо-стальные глаза Гумилева. — Вы даже больше своих стихов.
54
Еще на пятые сутки в общей камере установилось нечто наподобие ночного дежурства Дежурили по двое — час, затем будили следующую пару — и так до утра. Сменяясь, дежурные передавали друг другу общий запас импровизированных бинтов, надобность в которых могла возникнуть ежеминутно. В этот раз, когда за лязгом запора тело вновь прибывшего тяжело растянулось на полу, дежурили Орловский и Гумилев. Пока Николай Степанович поспешно разжигал самодельную коптилку, Орловский приподнял новичка за плечи и устроил голову у себя на коленях.
— Господи, мальчишка… Не из Ваших?
— Кажется, пару раз я его видел среди своих, но имени не знаю… Вы слышите нас?
Глаза невидяще скользнули по склонившимся лицам Орловского, Гумилева и уже подбежавшего к ним Владимира Таганцева. Заботливые руки расстегивали одежду, выискивая повреждения, мягко скользнули по телу. Кто-то уже смачивал в жестянке с водой носовой платок.
Подошедший вслед за Таганцевым Женя резко, всем телом вздрогнул: жестковатые темно-русые волосы, слипшиеся в крови на высоком правильной формы лбу, были так же знакомы, как и запекшиеся губы, временами пропускающие негромкий стон… Не может быть!! Это — сцена двухлетней давности! Это — бред, чудовищный, больной бред! Ведь он — в Париже! В следующее мгновение Женя узнал мальчика, дежурившего когда-то под окнами квартиры Шелтона.
— Кости целы, хотя били здорово. А это еще что такое? — Таганцев нагнулся и поднял какой-то небольшой предмет, вывалившийся из куртки молодого человека.
Это была маленькая, изрядно обгрызанная и покрытая чернильными пятнами школьная линейка. Женя разглядел старательно выведенную букву «Т» и начало второй, скрытой под кляксой, буквы инициала.
— Такие вещи не хранят просто так. Надо сохранить, пока он не очнулся.
— Пока идет не к этому: его сильно лихорадит, очень сильно, он скоро начнет бредить.
55
«А все-таки странно, что меня опять тащат на допрос — я рассчитывал, что отбил у них охоту со мной возиться», — подумал Женя, переступая порог знакомого обшарпанного кабинета.
Петерс был не один: он стоял у письменного стола, с какой-то с трудом подавляемой суетливостью показывая разложенные бумаги сидящему за ним человеку.
— Так что — сами видите…
— Благодарю Вас, Яков Христофорович, — холодно произнес сидящий за столом, поднимая глаза на Женю. — Это — на допрос?
Женя, по многолетней защитной привычке рассеивая взгляд, встретился глазами с незнакомцем, который представлял собой распространенный тип комиссара: впалые щеки, острая бородка, старая застиранная гимнастерка… Впрочем, впечатление это было мимолетным Смотревшие на Женю глаза были глазами рыбы: это был мертвящий, студенисто-черный, холодно выжидающий взгляд — от столкновения с ним становилось неприятно беспокойно. Руки казались вялыми и безвольными. От этого человека вообще исходило непонятное ощущение скрипучего деревянного каркаса, который держит что-то очень желеобразное, холодное и вялое.
Незнакомец почти сразу перевел взгляд в бумаги.
— Это — Чернецкой, Вы утром интересовались…
— Ах да… Можно его досье? Благодарю. Так… Садитесь, Чернецкой… Г-м… девятьсот первый год, февраль… бывший дворянин, офицер, данных о семье не имеется…
Петерс с удивлением отметил, что молодому человеку, казалось, изменило спокойствие.
— Нам хотелось бы дать Вам последнюю возможность спасти свою жизнь.
— Оставьте меня в покое! Я не желаю с вами разговаривать.
…Откуда так неожиданно взялся этот вызывающе грубый тон вместо прежнего иронически-вежливого? Взгляд волком, исподлобья. Тогда еще, может быть, и возможно что-то выжать — значит, нервы сдали. Значит — притомился, голубчик. Значит — это великолепное безразличие к смерти было всего-навсего игрой, хорошей, убедительной, но все же игрой, на которую больше не хватает сил… Да на самом-то деле что он, не человек, что ли?
— Я Вас больше не задерживаю, Яков Христофорович.
Петерс вышел, прихватив какую-то папку со стола. Дверь закрылась. Женя облегченно вздохнул и уселся поудобнее.
— Надеюсь, я не скомпрометировал Вас перед этим болваном? — с легкой насмешливостью спросил он.
— Это вполне в твоем духе, Евгений, — начинаешь с того, что пытаешься навязать мне одолжение. Недурно, мой мальчик. Но давай все же поздороваемся — я рад тебя видеть, — произнес собеседник, слегка обнимая Женю за плечи и с интересом вглядываясь в его лицо. — А надо сказать, что ты не очень изменился: я узнал бы тебя на улице, хотя и видел в последний раз семь лет назад — тебе не было четырнадцати.
— Мне было тринадцать.
— Но тем не менее ты был уже совершенно проявившейся личностью — потому ты и не очень изменился с тех пор, только, как принято говорить о детях, вырос и возмужал… — Собеседник улыбнулся. — Но так или иначе — мы встретились, и эта встреча не случайна
— Случайностей с оккультной точки зрения не бывает, — Женя рассмеялся. — Будьте столь любезны подать мне стакан воды — препогано себя чувствую.
— Мало кто может похвалиться самочувствием в твоем положении, — усмехнулся собеседник, подавая Жене стакан. — Однако же я предполагал, что наша встреча произойдет при подобных обстоятельствах.
— Я также не исключал такой возможности.
— Помнится, ты не переносишь запах плохого табака — но эти тебя устроят.
— «Ротмэнз»? Шлепнули очередного несчастного спекулянта? — Женя, откинувшись на спинку стула, с удовольствием затянулся папиросой с позолотой на мундштуке.
— С твоей стороны, мальчик мой, было бы глупостью этой возможности не предусмотреть, зная, что связываешься с демагогами-профессорами, которые пытаются делать политику чистыми руками… Надеюсь, теперь ты убедился, что для успеха нужна твердая рука.
— «Горячее сердце, холодная голова»? — Женя засмеялся снова. — Кстати, Вы это сами придумали? Уж очень претенциозно звучит — такое сказать впору дураку Луначарскому.
— Не валяй дурака, Евгений: положение очень серьезно. Я говорю не о твоем положении.
— Так о чьем же?
— О положении дел в стране: оно катастрофически тяжело — степень этой тяжести невозможно даже понять, играя в оловянные солдатики ПБО, организации несколько несерьезной…
— Доказывая вам, что ПБО — организация достаточно серьезная, я рискую… гм… чересчур наглядно продемонстрировать Петерсу Ваше умение вести допрос.
— Неужели ты думаешь, что я стал бы подлавливать тебя таким дешевым способом? — подавшись вперед, быстро спросил собеседник.
— Почему бы и нет, если я попался… — не сразу, отведя в сторону руку с папиросой и следя за рассеивающейся в воздухе струйкой дыма, нарочито медленно заговорил Женя. — Кстати, не так уж и дешево: ставка на страсть отечественной интеллигенции к полемике, в пылу каковой нередко отбрасывается всяческая осторожность… И потом — ловлю вас на слове: ПБО — несерьезна, а положение отчего-то катастрофично?
— Революция вызвала стихийный разгул сил. Его необходимо обуздывать: необходима законность, необходим порядок, иначе в тартарары полетит все… Ты не можешь представить себе, каких титанических усилий стоит держать в клетке этого зверя.
— Я должен понимать это как предложение переиграть? — с неожиданной фехтовальной быстротой бросил Женя, резко вскидывая подбородок.
— Как напоминание о том, что черная фигура не может долго играть за белых, — бесстрастно отчеканивая слова, произнес собеседник. — А черный ферзь тем более не может играть за белую пешку. Ведь ты, кстати, не станешь отрицать, что играешь роль белой пешки потому, что не можешь играть белым ферзем?
— Да, я действительно не могу, — задумчиво и негромко проговорил Женя, скорее рассуждая вслух, чем отвечая, и это не осталось не замеченным тем, кто сидел напротив него, по другую сторону стола с разбросанными бумагами. — И не смогу подняться выше белой пешки — потому, что мне все время приходится быть… ну, чем-то наподобие плотины, которая сдерживает огромный поток… И вся моя сила пока что уходит только на то, чтобы быть этой плотиной.
— А ведь это противоестественно. Само собой, еще и расточительно — тратить все силы души только на то, чтобы помешать самому себе быть собой, но главное, что это — противоестественно. Если бы решение, вызвавшее эту ситуацию, было верным, — возникла бы сама ситуация? Попробуй-ка честно ответить на этот вопрос, мальчик…
— Было время, когда этот вопрос заставлял меня лезть на стенку… — в голосе Жени прозвучала непритворная искренность: он как будто продолжал думать вслух, не замечая, что рассуждает не один. — Тогда мне казалось, что честный ответ неминуемо возвратит меня к тому, чего я бежал. А потом я все же смог на него ответить себе. Этого ответа я не хочу сейчас повторять Вам. Довольно того, что я все же остался в роли пешки.
— А не слишком ли унизительна для тебя эта бездарная тусклая роль?
Едва бросив эту неожиданно громко прозвучавшую фразу. Женин собеседник с досадой поморщился, поняв, что сделал неверный выпад: Женя вздрогнул, мгновенно очнувшись от своей задумчивости. На губах его заиграла пропавшая было улыбка.
— Унизившийся возвысится. Во всяком случае, других способов возвышения я не ищу.
— А ведь, исполняя роль пешки, ты бежишь ответственности.
— Пусть. Ответственность — это цена, которую приходится платить за силу, а обстоятельства нынче сложились так, что сила меня не очень-то прельщает. С чего я должен платить? — Женя высокомерно и холодно взглянул на собеседника.
— Предпочитаешь довольствоваться жалкой ролью сопливого щенка в свите Гумми? — в напускном сожалении собеседника скользнула нарочито плохо скрываемая издевка. — Кстати, он этого не оценит: он плохо разбирается в людях и оказался неспособен понять разницы между тобой и… нашим провокатором.
— Это — неважно. — Женя осторожно погасил в пепельнице догоревшую до мундштука папиросу.
— Что ж, если ты так на это смотришь… — Собеседник, небрежно листающий досье, приподнял бровь. — Однако! При личном обыске… «изъято… нож с прямым лезвием… девять дюймов… свинец… серебро… в диаметре»™ Женя, мальчик, тебе не стыдно самому? Мне впору за тебя краснеть. Недалеко же ты ушел от своего тринадцатилетнего развития.
— К счастью. — На Жениных щеках выступил слабый румянец. — Мне безусловно стыдно. Впрочем, последние месяцы я использую эту игрушку в основном для разрезания бумаги. А в кармане ношу по привычке. Я жду Вашего следующего хода.
— А станешь ли ты отрицать то, что на вашей стороне доски назревает мат?
— Сдается, что так.
— В таком случае, ты просто должен перейти на другую сторону. И знаешь почему?
— Не представляю.
— Потому, что если наведение вашего порядка нереально, то, согласись, лучше способствовать наведению нашего, чем оставить все вообще без всякого. Поза, в которую ты сейчас встал, конечно, весьма эффектна и благородна, но при этом и весьма глупа. Для мыслящего существа более логично было бы переменить знамя и максимально сделать свое дело под ним. Ты полагаешь, я не мог бы благородно и эффектно встать к стенке рядом с Александровичем? Впрочем, тебе должны быть известны мои разногласия с Лениным.
— Милые бранятся — только тешатся. Я слишком хорошо знаю, что вас объединяет.
— Следовательно — ты должен знать, против чего ты идешь.
— Против власти рабочих и крестьян.
— Остроумно. — Собеседник поднялся и подошел к окну: внутренний двор был пуст. Посередине валялась лопнувшая автомобильная покрышка. Железные ворота в стене из старого кирпича были слегка приотворены: казалось, что нет ничего проще, чем пересечь этот сырой двор и выйти на улицу. Продолжая безразлично рассматривать невидимый Жене двор, собеседник заговорил снова: — Итак, ты сделал попытку отказаться от дороги, открытой для тебя по праву рождения.
— Мне с вами не по дороге.
— До тех пор, пока ты плутаешь никуда не ведущими романтическими тропинками, — да. — Собеседник всем корпусом повернулся от окна и пристально посмотрел на Женю. — Кстати, направления этих тропинок нам не так неизвестны, как ты, вероятно, думаешь. Может быть, то, что я сейчас скажу, заденет твое самолюбие, однако же для успешного продолжения нашего разговора лучше, чтобы ты это знал. Тебе никогда не приходило в голову, что, когда ты довольно категорически выразил желание ехать в Россию и учиться в Москве, в которой ты не бывал с девятилетнего, кажется, возраста, тебе слишком легко пошли навстречу?
— Мне приходило в голову, что меня отпустили на веревочке, — спокойно, но немного сдавленным голосом ответил Женя.
— Именно так. Наполовину интуитивно, наполовину сознательно, ты угадал приближение решающего момента и сделал вид, что не угадал. Ты бежал решающего момента, маскируя побег видимостью непонимания… Побег удался. Но кого ты думал этим обмануть?
— Я понял, что обмануть не удалось.
— А отчего?
— Оттого, что я как-никак был ребенком.
— Не только… — Собеседник вернулся к столу: казалось, его мерно прозвучавшие в напряженном молчании шаги отсчитывали мгновения Жениного размышления. — Тебе не удалось никого ввести в заблуждение потому, что от тебя именно этого и ждали, более того, от тебя этого надеялись дождаться.
— Вот как? — спросил Женя еще более спокойным голосом.
— Не делай вид, будто ты ожидал сейчас это услышать. Повторю — от тебя этого ждали, надеялись дождаться и дождались. И сила сопротивления души, которая из тебя забила, показала, что самые смелые надежды на твой счет обоснованы. Было ясно, что ты должен вернуться, без этого ты метался бы сам внутри себя, как узник в карцере — от этого ощущения сходят с ума… А выпустить узника из карцера ты не смог бы самостоятельно. Это и есть веревочка, которая должна была привести тебя обратно.
— Это я и сам понял. Но меня удивляет то, что ситуация была просчитана не когда возникла, как я думал, а прежде, чем возникла,
— Что же в этом странного? Неужели ты думаешь, что ты в ней — первый? — уронил собеседник со снисходительной издевкой.
— Д-да, действительно. — Женя криво усмехнулся. — Я просто об этом как-то не задумывался.
— Итак, ты оказался в московской гимназии и, как это обыкновенно случается в отрочестве со слишком рано повзрослевшими детьми, увлеченно зажил бездумной жизнью сверстников. Ты как бы поплотнее задвинул занавес, за который тебе удалось заглянуть, и уверил себя, что не заглядывал. Не так ли?
— Так.
— За тобой никто не следил до такой степени: ситуация типична. Всегда бывает так. Но надолго этого хватить не могло — запертый узник стал о себе напоминать.
Собеседник искоса скользнул по Жене взглядом и невольно усмехнулся контрасту сути происходящего разговора с внешностью противника. Какая-то своеобразная женственность, растворенная во всем облике Жени, делала его на несколько лет моложе даже своего двадцатилетнего возраста Небрежно положив ногу на ногу и сведя на колене тонкие пальцы рук, белизна которых просвечивала нежным узором голубых жилок, Женя, видимо, в задумчивости сам не замечая этого, слегка раскачивался на стуле. Глядя на него, было очень трудно поверить в то, что это — боевой офицер, прошедший две кампании, и заговорщик с трехлетним опытом подполья.
Он казался шестнадцатилетним мальчиком, за плечами которого нет еще жизненного опыта иного, чем затрепанная тетрадка стихов в клеенчатом переплете.
— Разумеется. Еще задолго до окончания гимназии я почувствовал себя на этом крючке. Тогда еще — неосознанно. Вдобавок — к этому моменту мне удалось так здорово задернуть эту занавесочку, что и своим детским ощущениям я наполовину не доверял…
— Но тут происходит изменение обстоятельств, нарушающее естественный ход событий. Ты спешишь им воспользоваться: меняешь имя (ты взял фамилию матери) и бросаешься во фронтовой водоворот, ты ведь, кажется, даже «первопоходник»… Здесь твой след теряется, чего ты, разумеется, и добивался. Но веревочка, на которой ты отпущен, все же остается, хотя тебе и удается на некоторое время успокоить внешними бурями внутреннее существо. Но к этому моменту ты должен уже отчетливее сознавать его суть и понимать, что отсрочка временна. И вот мы подошли с тобой к моменту, который может все поставить на свои места. Ты не можешь не стремиться к знанию, которое тебе необходимо. Тебе остается только протянуть руку. — Собеседник небрежно сдвинул к краю стола разворошенные листы Жениного «дела». — Протяни руку и возьми.
— Благодарю покорно, я — крещен.
— Кровь Адонирама смоет воды крещения. Ты бы прошел по шотландскому ритуалу — сразу в тридцатую степень: выше есть только три степени.
— Вы говорите от себя? — спросил Женя с неподдельным любопытством.
— Я имею полномочия говорить от братства.
— Значит, братство по-прежнему заинтересовано во мне?
— Более, чем ты можешь себе представить.
— Польщен. «Для юношей — открылись все дороги, Для старцев — все запретные труды, Для девушек — янтарные плоды И белые как снег единороги…»
— Думаю, что сейчас он уже задумался над тем, что мы этого не любим.
— Полагаю, он и раньше подозревал, что это — небезопасно. Кстати, по-моему, с этим конгрессом Коминтерна вы сами себя высекли. Вы же работаете под материалистов. Логичнее с жизнерадостным смехом уверять, что вас не бывает. А вы вытащили на весь честной народ вопрос о членстве братьев в РКП (б)… Тем самым вы расписываетесь в своем существовании. — Небрежно светский Женин тон разительно не вязался с напряженным выражением его лица.
— Об этом забудут. Мы вынуждены были пойти на поднятие этого вопроса в Коминтерне из-за некоторых моментов несогласия с заграничными членами братства.
— Ну да, старый прием: само собой, они не смогут потребовать разделения власти ао тех пор, покуда вы не перестанете официально утверждать, что у нее не находитесь.
— Разумеется. Вся работа здесь проделана нами, и, как говорится, каждому свое.
— И каждый — при своем. Давайте расстанемся на этом: Вы — с ответственностью и будущим ответом за свои большие дела, я — трусливо избегая ответственности, с легким выходом в расстрел.
— Ты хочешь смерти? — Женин собеседник неожиданно подобрался, напоминая хищного зверя перед прыжком. Вопрос прозвучал вкрадчиво.
— Нет. Я просто принимаю ее как самый приемлемый выход из создавшейся ситуации.
— Ложь. Ты хочешь смерти. Игрой в красивые позы ты стремишься скрыть то, что ты хочешь смерти. И знаешь почему? Ты ведь устал. Ты очень устал — ведь даже со мной, своим врагом, ты говоришь гораздо откровеннее, чем с самыми дорогими тебе из тех, с кем ты хочешь обрести человеческую судьбу… На кого из своих друзей ты можешь возложить бремя своей откровенности, кого из близких тебе ты можешь не пощадить до такой степени, чтобы подвергнуть своей откровенности? Ты очень устал.
— А что, ведь мою усталость тоже можно было предугадать с тем, чтобы сейчас пытаться вот так сыграть на ней? — с видимым трудом вначале, но с каждым словом делаясь увереннее, проговорил Женя. — Ведь кто-то тоже проходил это и до меня, значит — подобный бьющий в цель вопрос, на который очень трудно ответить из-за содержащейся в нем правды, — тоже входит в общую систему обработки? Кажется, я угадал?
— Дрянь! — с неожиданным раздражением бросил Женин собеседник. — Маленькая дрянь, ловко же ты фехтуешь… игрушечной шпагой.
Женя молча допил оставшуюся в стакане воду: его била легкая дрожь, но вид его казался спокоен.
— Что же ты молчишь?
— А что еще не сказано? Не самому же мне отдавать приказ о моем расстреле?
— Мальчишка… Ты не можешь себе даже представить, что ты хочешь убить. Ты не знаешь, кого ты убиваешь…
— А я и не хочу этого знать. Отказ совершен. Я не желаю знать о грехах, которые сейчас искупаю. С меня довольно того, что я намерен-таки их искупить. Здесь и сейчас, чего бы мне это ни стоило. Счастливо оставаться! — Женя поднялся и подошел к установленному на столе звонку для вызова конвоя.
— Не совершай чудовищной нелепости, мальчик! — поспешно проговорил собеседник, останавливая потянувшуюся к кнопке Женину руку. — Подумай: мы стоим у власти, и от нашей руки гибнет последний из Глебовых-Стрешневых!.. Это бессмысленно!
— А я в этом вижу некоторый смысл. Пожалуй — даже довольно глубокий.
Женя снова протянул руку к звонку, но собеседник опять перехватил ее.
— Пусть будет по-твоему — не могу тебя не уважать, Евгений… — В голосе собеседника проступила мягкая усталость, когда он снова, после некоторой паузы, заговорил. — Я не стану предлагать тебе побег — это бессмысленно, и ты этого не примешь… Но я могу сделать для тебя другое — то, что ты сможешь принять… Если хочешь, я могу спасти жизнь кому-нибудь из твоих друзей — но только одному человеку.
Женя взглянул на собеседника в легком недоумении.
— На большее у меня сейчас, пожалуй, нет возможности… — отвечая на Женино недоумение, пояснил собеседник. — А одного еще туда-сюда — повременить с приговором… затянуть… выпустить, когда все стихнет… Разумеется, я ничего не потребую от тебя за это.
«Машенька, ты здесь жила и пела, Мне, жениху, ковер ткала, Где же теперь твой голос и тело. Может ли быть, что ты…»— Кого же?
— А никого! — Женя презрительно-торжествующе рассмеялся в лицо собеседнику. — В конце концов это просто дешево — разыгрывать передо мной такие мелодрамы. Неужели я мог не понять, во что Вы втягиваете меня предложением сделать такой безнравственный выбор? Вы спутали бы меня — эдак невзначай по рукам и ногам — принятием ваших правил игры, а потом ненароком оставили бы в живых… Спасибо! Впрочем — так ли это дешево? Я был уверен в полной победе — подходящий момент для реванша… Но я увидел Вашу игру на несколько ходов вперед — не угодно ли удостовериться? Скорее всего, вопрос: «кого же?» — должен был вызвать у меня колебание… Следующим ходом было бы предложение подождать, подумать, которое я, скорее всего, принял бы, не так ли? Само собой, думать я отправился бы уже в одиночку. А потом, когда я ответил бы, кого, тут же выяснилось бы, что я, именно относительно данного человека, долго думал… Я продолжаю угадывать, не так ли?
— Это было бы вернее всего. Но тебе удалось бы все же кого-нибудь спасти, если бы ты ответил сразу, правда — довольно дорогой ценой… Кстати, ты ведь не выходишь пока из нашей логики. Предположим, ты увидел ловушку. Но что из этого? Ради того чтобы остаться чистеньким самому, ты готов пожертвовать нам жизнь, которую все же имеешь возможность спасти. Ведь грех падет на тебя, а не на того, кого ты спасешь… Я открыто говорю тебе — сделай выбор, которого не должен делать, вступи в игру, в которую не должен вступать, но спаси того, кто об этом даже не узнает. А иначе, милый мальчик, выйдет, что твоя чистота для тебя дороже чужой жизни, вдобавок — жизни дорогого человека.
— Выйдет, что мне дорога не только своя чистота, но и чужая. Неужели я не смогу сообразить, что в таких ситуациях невозможно взять на себя весь грех? Кое-что перепадет и тому, ради кого он совершен, — сомнительная услуга. Я не оказываю своим друзьям сомнительных услуг за их спиной. Может быть — довольно? Я не устал обходить ваши капканы, но мне это, честно говоря, уже надоело. Меня не удастся взять — я все-таки Глебов-Стрешнев.
— Как тебе будет угодно, — сказал собеседник, совершенно спокойно скользнув по Жене мертвым рыбьим взглядом — холодно отчуждаясь от происшедшего.
Женя нажал кнопку звонка: вошли два красноармейца.
— Увести.
«А ведь мальчика придется действительно поскорее убрать: не продержать в тюрьме, а именно убрать, и поскорее. Он может стать очень опасен… Сам не знает, что еще немного, и он перерастет уже и белую пешку… Какая сила в этом щенке! И именно поэтому придется от него отказаться: играть дальше рискованно… Что же — не нам, так по крайней мере — никому. Собственно, мне можно сегодня же возвращаться в Москву — Уншлихт и без меня доведет дело до логического завершения».
«Сережа… Сережа Ржевский, Держатель Знака, не ведающий своей сути… Вот ты и победил меня окончательно. И на оставшееся время я пресуществился в тебя, какую гору понадобилось мне сбросить с плеч… Как легко, Сережа!»
56
— Ухтомский, Гумилев, Тихвинский, Таганцев, Шведов, Орловский, Лебедев, Миронов, Чернецкой…
— По крайней мере без лишней волокиты, господа…
— Вы правы, князь, — поправляя не державшиеся без галстука воротнички, усмехнулся Владимир Таганцев — молодой светский лев, одинаково свободно чувствующий себя в опасной экспедиции, за письменным столом и в великосветской гостиной…
Женя легко поднялся и подошел к все еще бредившему на нарах у окна молодому человеку. Медленно опустился на колени на склизкий от смешавшихся за многие месяцы в тошнотворную пахнущую пленку плевков, рвоты, грязи и крови пол — лицо его оказалось на одном уровне с лицом лежавшего. Немного помедлив, Женя наклонился и поцеловал высокий лоб с присохшими кровью прядями темно-русых волос, так удивительно напоминающих волосы Сережи. Затем, поднимаясь, очертил над лежавшим странный знак, напоминающий крест, расходящийся наверху петлей, и, не оглядываясь, вышел из камеры.
Как делалось обычно, когда выводили на расстрел, в гулком, из побуревшего красного кирпича, сыром коридоре не было ни души. Камеры зияли железом дверей. Жене захотелось разбежаться по темному сырому кирпичу и подпрыгнуть — идти по коридору было необыкновенно приятно в сравнении с сидением в камере…
— Не торопитесь, Женя. — В голосе Гумилева звучала улыбка. — Ваше нетерпение выдает то, что это — первая женщина, которую вам предстоит узнать…
— О, в таком случае мне можно позавидовать, не так ли, Николай Степанович? — Женя рассмеялся, и шедший рядом князь Ухтомский невольно подумал, что отчего-то не замечал раньше, какая светлая и открытая улыбка у этого Жени Чернецкого.
— Володя!
Неуловимо похожая в свои двадцать семь лет на гимназистку Лидия Таганцева по-детски повисла на шее мужа, спрятав лицо у него на груди. Друзьям было видно, как помертвело невидимое Лидии лицо Владимира: встреча с женой здесь и сейчас могла обозначать только одно…
— Скажи, что ты рад, Володя, Володинька, скажи, что ты рад меня видеть!.. Ведь это хорошо, что вместе, вместе, Володя, вместе…
Когда Лидия подняла лицо, Таганцев встретил ее взгляд улыбкой: это была нежно-восхищенная улыбка молодого влюбленного мужа.
— Я рад, Лида.
— Так вы говорили, князь, то собрание финифтей…
— Изумительно, совершенно изумительно, Михаил Михайлович…
Еще одна лязгнувшая дверь — и слишком ярким для глаз показалось ясно-серое дневное небо, с четырех сторон замкнутое кирпичной стеной. Эта глухая стена, отделяющая от других дворов этот двор, вполне обычный на вид, темнела сырым кирпичом.
Дощатые, покрашенные коричневой краской двери одного из гаражей были распахнуты: паренек в заломленной на затылок кепке заводил мотор стоящего в нем автомобиля — было похоже, будто он вращает тугой ворот колодца
— А осень уже чувствуется…
— Эй, Лукьянов! Витюха!
— Ну? — громко, через весь двор, крикнул кто-то из распахнутой двери подвала.
— Возьмешь человек пять-семь — съездите сейчас захлопнуть ров. На Колькином моторе.
— На прежнее место, что ли?
— На прежнее!
— Да там уж негде — опять вон больше дюжины… Три… пять… восемь… тринадцать… семнадцать человек!
— Вот эти и будут последние — в другой раз уж на новое место свезем…
— Ладно! Захлопну…
— «Via dolorosa» 86, — усмехнувшись в усы, проговорил князь Ухтомский.
«Via dolorosa… Значит, эта глухая кирпичная стена, такая нестрашно-будничная, несмотря даже на эти выщербинки, которых так много, эта стена и есть — Голгофа? Да, это она и есть. А коридор, по которому мне хотелось разбежаться и подпрыгнуть — via dolorosa… Как все просто — я и не понял сразу», — Женя улыбнулся.
Конвойные и чекисты с озабоченно-скучающими лицами уже отошли в сторону.
Без суда осужденные стояли в кирпичном тупике, образованном гаражом и стеной. Словно подчиняясь безмолвному сигналу, мужчины пропустили женщин вперед — в этом было значительно больше смысла, чем было бы его в бесполезной попытке загородить…
Охранники уже целились.
— «Они любили друг друга так сильно, что умерли в один день», — с мальчишеской веселостью шепнул Таганцев на ухо жене.
Лидия еще улыбалась, когда зазвучали первые выстрелы…
Стрельба длилась около двух минут: первые шесть выстрелов Женя успел сосчитать. Вместо седьмого последовал упругий удар в сердце — такой сильный, что Женя попытался, но не смог удержаться на ногах.
57
Недоумевающе пожав плечами, Вишневский разорвал конверт и извлек из него несколько торопливо исписанных карандашом плотных листков бумаги.
«Г-н Вишневский! Возможно, Вас удивит это письмо, кроме того, покажется шокирующим и, во всяком случае, несколько странным. Смерть перестала быть сколько-нибудь значительным событием для русских, и нет причин особо выделять смерть экс-прапорщика Добрармии Сергея Ржевского из сотен других…
Я далека от мысли просить кого бы то ни было проявлять к этой смерти чрезмерный интерес. Тем не менее я знаю, что деловые обстоятельства могут столкнуть Вас с лицом, для которого мой рассказ не покажется излишне подробным. Это — Евгений Чернецкой, и я буду крайне Вам признательна, если Вы сумеете переадресовать это письмо ему.
Бывших знакомых, помнивших Сережу Ржевского по передовой и подполью, неприятно удивлял его более чем замкнутый образ жизни в Париже. Причина была более чем проста: Сережа был тяжело болен физически и душевно и слишком горд, чтобы этого не скрывать. Помимо временами обостряющейся лихорадки (пуля, извлеченная чуть ли не перочинным ножом) Сережу чем дальше, тем сильнее беспокоило пробитое на Дону правое легкое: по утрам он часами откашливался кровью. Сереже было не совсем по силам то количество работы, которое он вез на себе в Комитете. Винить некого — когда он, безупречно одетый, как всегда летяще быстрым, насмешливо-отчужденным появлялся в Комитете или в Школе Хартий, где был занят последние месяцы научным наследием отца, погибшего в Москве от тифа, никто не мог бы подумать, что каждое такое появление на людях обходится ему приступами болезни. Кто бы узнал его в эти часы? С какой-то необыкновенной быстротой худевший, с обметанными жаром губами и спутавшимися влажными волосами — он мог так долго неподвижно лежать на постели, глядя в потолок — такой низкий, слушая дождь, с такой нерусской тоской бьющий по наклонному окну; револьвер всегда лежал у него под рукой — по привычке, появившейся после Чеки… Так темнел в эти часы взгляд его серых глаз… В бреду лихорадки к нему приходило то единственное воспоминание, которое он скрывал от меня наяву. Женя, может быть, Вы лучше, чем я, это поймете: там, в Петрограде, случилось что-то, чего Сережа так и не смог пережить, что-то, бесконечно отвратившее его от любых попыток дружеского к нему участия… Он был вынужден сделать что-то слишком противное своей сути. Любых неформальных отношений с людьми своего круга Сережа в последние полтора года своей жизни не хотел и не принимал.
Летом 1920 года я служила судомойкой в цыганском кабаре «У Яра». Название кабаре, впрочем, было бы слишком громким для подвала на полтора десятка столиков с перегороженными фанерой клетушками уборных, по которым всегда гуляли сквозняки: мне не один раз доводилось там ночевать. Одна из актрис, исполнительница романсов — Нина, на правах старой знакомой обратилась ко мне с просьбой поставить свечу за упокой души ее знакомого офицера. С его гибели исполнялся год. Это поручение привело меня в пригородную церковь Сергия Радонежского, ту, в которой мы через месяц обвенчались — по Сережиному настоянию — с соблюдением всех прадедовских обрядов…
Я не рассчитала дороги и вошла в церковь сразу после службы: было уже полутемно. «Упокой, Господи, душу раба твоего Платона», — негромко произнесла я, ставя свечу.
«Графа Зубова», — почти шепотом сказал кто-то у меня за спиной. Кто бы не вздрогнул на моем месте? Я поспешно обернулась: молодой человек, как мне показалось, лет семнадцати, — Вы знаете, что Сережа всегда казался моложе своих лет — тоже держал в руке свечу. «Да, графа Зубова, откуда Вы это знали?» Не отведя от меня чуть прищуренного холодно-серого взгляда, он вместо ответа зажег свою свечу от моей и повторил мои недавние слова: «Упокой, Господи, душу раба твоего Платона». «Сегодня годовщина, — произнес он, идя со мною к дверям, — я тоже шел за этим. Надеюсь, Вам это не покажется дерзостью — я обязан покойному графу жизнью, и долга мне уже не отдать». «У меня нет права на Ваше объяснение, — поторопилась ответить я. — Я всего лишь выполняю поручение подруги».
«Вы позволите мне представиться? Сергей Ржевский. Если Ваша подруга — знакомая или родственница графа, я был бы рад засвидетельствовать ей свое почтение». «Думаю, что это несложно», — спокойно сказала я. Сережа смотрел на меня: ослепительно-чистый в своей холодности — и все отвращение к людям, которое побуждало меня в глупой браваде браться за самую унизительную работу, сохраняя свободу одиночества, вспыхнуло во мне приливом ненависти. Еще больше я ненавидела в эту минуту себя — за доверие, которое Сережа вызвал во мне с первого взгляда. Разбить это доверие — только этого мне хотелось, разбить скорее, пока это еще не может причинить оскорбительной боли.
Грязной лестницей черного хода мы поднялись в кабаре. «Вы позволите?» Светскость тона, с которым он распечатал пачку каирских папирос, была бы более уместна в приличной гостиной, чем в третьеразрядной уборной с фанерными стенками, оклеенными рекламами мыла и женского белья. «Постой же», — подумалось мне. «Нина, тут тебе хотят засвидетельствовать почтение». «Настя, кандилехо, да никак ты с кавалером? — с цыганской напевностью протянула моя подруга. — Ай ночевать негде?» Сейчас он вспыхнет и заторопится уйти; этот чистенький красивый мальчик. Я посмотрела на него с вызовом. «Благодарю Вас, мы как-нибудь выйдем из положения. — Сережины глаза смеялись, встретясь с моими. Сдвинув груду запачканных гримом тряпок, он сел на диван. — Расскажите мне о Платоне».
В ту ночь мы просидели втроем до пятого часа утра. Через месяц мы с Сережей были женаты. Мы были счастливы целый год — счастливы несмотря на то, что не могли быть счастливыми, счастливы, слишком часто открывая друг другу во сне все, что таили днем. Сережа умел быть счастливым до конца.
Это случилось в начале августа, более точно — второго числа. Как будто вчера: летящие Сережины шаги по лестнице… Что могло меня обмануть? Этот мальчишеский беспечный смех, с которым он вытаскивал из карманов еще горячие бумажные пакетики каштанов… Презрительно-веселый взгляд, брошенный на груду бумаг на столе, — с такой тоскливой неуклонностью грозящую отнять вечер, может быть, и кусок ночи. «Настенька, имеем мы право хоть раз в жизни послать все это к черту? Мы сто лет не гуляли по ночным бульварам». В тот вечер мы словно блуждали за тенью Рембо, «Сезон в аду» которого последние месяцы был для Сережи настольной книгой.
Сена весело качала в черной воде цветные отражения фонарей. Сережа читал на память свои любимые строчки о золотых струнах, рассказывал о вашей пьянке в Коувала… Сережа был очень весел в этот вечер.
— А все же, в честь чего мы кутим сегодня?
— В честь отъезда в Медон: я заходил в банк.
— Тебе дают отпуск?
— Нет, вы с Женькой едете без меня (Сережа не допускал мысли, что ребенок может оказаться девочкой).
— Я не поеду одна.
— Одну я бы тебя и не отпустил, кандилехо. — Сережа обернулся от парапета: лицо его казалось в ночи мертвенно-бледным, и в черноте зрачков, как в воде Сены, дрожали отражения фонарей. Он переплел свои пальцы с моими. Спокойствие исходило от его теплой руки. — Я отпускаю вас обоих. Настя, я не хочу, чтобы Женька вдыхал аромат этой гнилой «серой розы». Погуляйте по лесам. Настя, в Медоне охотились короли.
«В сосновом бору живет эхо дальнего рога?» — Мой взгляд притягивала черная вода — так редко выбирались мы в те месяцы на набережную вечерами. «Эхо дальнего рога…» Я обернулась слишком стремительно: Сережа, закрывая ладонью глаза, закусывал нижнюю губу с каким-то беспомощно-детским выражением боли.
— Что ты?
— Мигрень, устал от бумаг. Пожалуй, буду без тебя отменно гулять вечерами, — он улыбнулся, — в Медоне охотились короли.
«2.VIII. 10, Rue de Grenoble. Dr. Lacasse.
12 p. m. Ds. Tuberculosis. Un mois!» 87 — прочла я в его записной книжке месяц спустя.
Я воздержусь от подробностей, конец наступил через три недели, в мое отсутствие, как того и хотел Сережа. До последней недели своей жизни мой муж не прекращал работать.
Вот, собственно, и все, Женя. Прощайте, и храни Вас Бог!
3-й день сентября 1921 года».
Анастасия Ржевская,
урожд. кн. Мстиславская.
ЭПИЛОГ 1925 год. Туруханский край
1
Очаровансоблазнами жизни, Не хочу я растаять во мгле, Не хочу я вернуться к отчизне, К усыпляющей мертвой земле……Ноги в разбитых сапогах проваливались в тонкий мох — каждый шаг был мучительно труден.
Пусть высоко на розовой влаге Вечереющих горных озер Молодые и стройные маги Кипарисовый сложат костер…Эта спасительная привычка не давала сойти с ума уже несколько лет. Если бы знать раньше… Надо было учить наизусть Евангелие. Надо было все учить наизусть. Эти мысли грызли часто — но не теперь… Теперь было уже давно не до мыслей — стихи продолжали звучать где-то внутри, как бы сами, все отдаляясь и отдаляясь.
И покорно склоняясь, положат На него мой закутанный труп, Чтоб смотрел я с последнего ложа С затаенной усмешкою губ…Боль в груди становилась все невыносимее… Андрей Шмидт шел, закрыв глаза от усталости и слепящего гнуса, чувствуя, как с каждым шагом тяжелеет тело, как смачивает корни волос обильный пот озноба… Это тоже было привычно — закрыв глаза, идти в мертвом ходе колонны… Этот ход Андрей чувствовал телом — тоже уже давно.
И когда заревое чуть тронет Темным золотом мраморный мол, Пусть задумчивый факел уронит Благовонье пылающих смол…Под грязной одеждой было знобяще липко — озноб приходил на смену невыносимому недавно жару…
Выросший в семье врача, Андрей еще несколько недель назад понял, что поврежденное ребро затронуло легкое (само по себе ребро начинало уже срастаться — сразу же натуго перевязанное чем попалось под руку) и что пошедший процесс в условиях этапной перегонки не сможет не довести дело до конца… Да и если бы даже случилось чудо — если бы оказаться сейчас на операционном столе в лучшей клинике, и то надежд на спасение было бы очень немного: цвет постоянно набивающейся в рот мокроты говорил о гнойной форме плеврита… От этого не спасают даже врачи. Андрей понимал это — таившаяся в нем неукротимая воля к жизни была слишком трезва и ясна, чтобы препятствовать этому пониманию…
И свирель тишину опечалит, И серебряный гонг запоет В час, когда задрожит и отчалит Огневеющий траурный плот…Мох сменился трактом — идти стало легче, но Андрей этого не почувствовал. Им владело странное ощущение: как будто если бы он шел сам, а не был бы включен в равномерный ход колонны — он упал бы уже давно, очень давно…
Упасть? Как легко упасть лицом в прохладный мох — а дальше конвойный пустит пулю в затылок, а может быть, даже и не пустит. Упасть? Нет! Еще один шаг… Второй… Третий…
Словно демон в лесу волхований, Снова вспыхнет мое бытие, От мучительных красных лобзаний Зашевелится тело мое…— Что за дыра растреклятая? — Хриплый голос идущего рядом доносился как будто издалека, он был гораздо дальше звучавших стихов.
— Кажись, Туруханск… Тоже город — две улицы косых да церква. Тут все такие…
И пока к пустоте или раю Необорный не бросит меня, Я еще один раз отпылаю Упоительной жизнью огня.— Туруханск…
…Колонна медленно, как широко разлившаяся река, текла по съеденному кое-где мхом дорожному тракту: мелькали обросшие, одинаковые своей изможденностью лица и лохмотья арестантских одежд… Колонна текла медленно, похожая на нескончаемую реку.
Комсомолец Лешка Дроздов придержал лошадь и закурил: головы и плечи людской реки потекли мимо… Люди брели, устало глядя под ноги, — мелькнувшее поднятое лицо обратило на себя внимание Дроздова.
Этого парня Лешка запомнил и раньше — в нем невольно приковывало взгляд жесткое неподвижное выражение, как маска врезавшееся в лицо, и всегда шевелящиеся, шепчущие что-то губы… Сейчас эти губы не шевелились — они были полуоткрыты, глотая воздух… При взгляде на изможденное лицо арестанта казалось, что идет дождь, — прозрачные крупные капли появлялись и стекали по нему тонкими, исчезающими в неровной юношеской бородке струйками: не сразу становилось понятно, что это — холодный пот.
Лешке Дроздову было без двух недель восемнадцать — в год революции ему было десять лет… Это было чертовски обидно, но не смертельно: им не раз объясняли то, что врагов хватит и на них — недобитой сволочи еще полно… Лешка, как и многие комсомольцы красноярской ячейки, не понимал одного: Аля чего нужны эти пересылки и лагеря — неужели нельзя покосить всю сволочь разом?.. Лешка был комсомольцем нового времени, но он не чувствовал, что уступает в чем-то старшим — ведь и он ежедневно боролся с врагами, так же, как и они в его годы. Комсомолец второго поколения, он не отдавал себе отчета в том, что ни разу в жизни не смотрел в глаза вооруженному врагу… Гордясь умением обращаться с оружием, защищающий советскую власть комсомолец Лешка Дроздов изначально соединил в своем сознании понятие «враг» с представлением о безоружном и беззащитном человеке… Не сам по себе — точно так же принимали борьбу Мишка, Левка, Катька и все остальные комсомольцы красноярской ячейки… Холерическая возбудимость первого поколения сменялась уверенной жизнерадостностью второго…
Лешка усмехнулся, подумав о Катьке — настоящей девушке нового, освобождающего из-под мирового ига капитала мира: решительная, как взмах садовых ножниц, отхвативших ее толстую каштановую косу, уверенная и не знающая усталости, она всегда и во всем шла впереди других — арестовывали ли «за агитацию» собственного дядю-бакалейщика, проводя ли ревизию библиотеки (все, что казалось «буржуйской» литературой, решено было изъять на растопку и самокрутки), выплясывая ли на вечеринке, говоря ли на митинге… С Катькой было просто — она, по собственному выражению, знала, «откуда берутся детки», и никаких этих буржуйских штучек в ней не было…
Через месяц Катька будет ждать его в Красноярске. Еще через месяц! Скорей бы уж хоть Туруханск…
А этот до Туруханска не дойдет… Явно не дойдет… Лешкина рука сама потянулась к кобуре: ему нравилось лихо, с седла, пускать пулю в выбившегося из сил арестанта: было в этом что-то революционное… Эх ты, дьявол, нет… Нельзя… На последней ячейке продергивали как раз за это — Дроздов, дескать, чуть не по воробьям палит и не бережет государственный патрон… И Катька зубоскалила первая… Конечно, тренироваться в стрельбе надо, но Лешка знал, что злоупотребляет расходованием патронов из удовольствия пострелять… Нет, ни одного не израсходовать за этап — и бросить это небрежненько Катьке в лицо по приезде… Так-то, дескать…
А этот сам упадет — не сейчас, так через пару часов. Лешка поехал медленнее, наблюдая.
Его догадка оказалась верна. Прошло не более получаса, как арестант начал шататься на ходу… Качнувшись, остановился и, медленно сжав руками грудь, опустился сначала на колени, а затем как-то боком упал на дорогу… Шедшие рядом арестанты замешкались, пытаясь приподнять его, — в ходе колонны возник затор…
— Эй, не мешкать! — прикрикнул Лешка.
— Мешкай не мешкай — кончается их благородие, — зло процедил в бороду высокий, похожий на цыгана мужик, стаскивая треух. — Отмучился, слава Богу…
— Отмаялся… Теперя отдохнет…
— Эхма, всем нам тут косточками полечь! Колонна шла дальше, отекая упавшее тело, как вода реки отекает островок… Дроздов проехал вперед.
— Эй, Леха! — Дроздова догнал Мишка Тушнов по прозвищу Ерш. — Ты что, кончил гада? — там свалился…
— Сам сдохнет… Тьфу ты, дьявол, гвоздь в сапоге сидит — мочи нет…
— Скоро уж Туруханск — хоть в бане вымыться… Эх ты, смотри!
По обочине, против движения колонны, шел священник в грубой рясе с обтрепанным подолом… Неся на плече небольшой мешок, напоминающий солдатский сидор, он шел медленно, время от времени плавным и широким жестом благословляя кого-нибудь из идущих…
— Эй ты, поп! — подмигнув Ершу, прокричал издали Лешка — Там еще по твоей части — отпускай грехи!
Священник, казалось, не услышал фразы и хохота комсомольцев. Однако, когда Ерш и Дроздов поравнялись с ним, он с какой-то деловитой сухостью спросил:
— Где умирающий?
— Дальше! Ждет — не дождется! — Ерш махнул рукой назад, и комсомольцы, хохоча, проскакали мимо.
…Колонна уходила. Показались замыкающие охранники… Теперь священнику было явственно видно шагах в сорока тело, упавшее ничком на изъеденный пятнами мха тракт… Он быстрым шагом приблизился к нему, снимая мешок с плеча.
…Это походило на бред и, вероятно, и было бредом: из туманящих зрение волн наплывающей боли, из серого пасмурно-низкого неба, из тучи вьющейся мошкары выступило иконно-красивое, строгое лицо синеглазого человека с длинными волосами и почти коснувшимся лица Андрея крестом на шее…
Боль переставала быть мучительной — Андрею казалось, что он качается на ее волнах, и одна из них вот-вот унесет его — теперь явление этого лица обрело смысл… Тело стало бесплотным, но все же к ощущению стремительного внутреннего движения, которому целиком отдавался Андрей, присоединилось детское ощущение внешнего передвижения, каких-то прикосновений… Лицо, по какую бы сторону бытия оно ни находилось, не исчезало, и не исчезал крест, к которому в последнем проблеске сознания Андрею захотелось приложиться… Он попытался попросить священника приложить крест к губам, но изо рта вырвался только хрип… Досада на неудачу этого усилия вынудила Андрея собрать еще какие-то в глубине держащиеся силы… На мгновение почти придя в себя, он понял, что склонившийся над ним человек существовал еще въяве. Чувствуя, что сознание снова начинает уходить, Андрей хотел повторить свою просьбу, но сил опять не хватило.
— Эй, Ерш! Гляди-ка..
Тушнов обернулся назад, куда показывал Дроздов: священник, широкоплечий и высокий, шел по дороге, неся безжизненно повисшее тело арестанта с такой легкостью, словно на руках его лежал ребенок.
— Эй, папаша, а ну брось эту падаль! — молодцевато крикнул с седла Дроздов, когда оба комсомольца подскакали ближе. Колонна была уже далеко впереди, вместе с остальными конвойными, но это нимало не волновало ни Дроздова, ни Ерша. Ерш, в лихо заломленной на затылок кепке, вытащил наган, чтобы пугнуть попа, если тот начнет артачиться…
— Прочь с дороги, воронье! — Священник неожиданно остановился со своей ношей в руках: в его синих молодых глазах вспыхнул суровый огонь. — Человечины захотелось?
— Н-но ты, поп, — немного неуверенно произнес Тушнов, поднимая наган, неуверенность вызвала сдерживаемая сила, клокочущая в этом глубоком, исходящем из широкой груди голосе. — Дырку в шкуре просверлить? Я мигом…
Все оставалось по-прежнему: их было двое, и они были вооружены, а священник, с занятыми руками, стоял перед ними — безоружный, пеший, один… И все же… Говорить так не мог беспомощный и беззащитный… Исходящая от него грозная сила, казалось, защищала обессилевшего арестанта.
— А черт с ним, брось, патрона жалко, — нехотя, но почему-то знал, что беспардонная эта слабина не найдет возражений у приятеля, проговорил Дроздов. — Пускай возится — эта сволочь все равно подыхает…
— Уж его точно, — бросил Тушнов, не глядя, однако, на товарища. — Поехали!
Комсомольцы повернули лошадей и поскакали догонять колонну.
2
Это были мягкие черные волны — медленно качая, они плавно и скользяще вели куда-то, они уносили… Не было мысли, не было боли — были только уносящие, качающие черные волны…
И был неожиданно вспыхнувший синий огонь где-то вдали — синяя, идущая наперерез мощная высокая волна, она мчалась, рассекая движение черных волн, нарушая их ход, сметая все на своем пути, — она захлестнула и подхватила, увлекая обратно, подбросила на стремительном изгибе гребня — и с силой швырнула вниз, озарив сознание ослепительной вспышкой боли, последовавшей за хрустом впивающейся в грудь прохладной иглы…
«ГОСПОДИ, ВОЗДВИГНИ СИЛУ ТВОЮ И ПРИИДИ ВОЕЖЕ СПАСТИ НЫ!»
Вспышка боли озарила грозное, со сверкающими глазами и гневно раздувающимися ноздрями лицо воиня, который повергал какого-то невидимого врага. Это был древнерусский воин — длинные русые волосы его были схвачены повязкой на высоком лбу…
«ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ, И РАСТОЧАТСЯ ВРАЗИ ЕГО».
В этом лице было упоение боя…
«И ДА БЕЖАТ ОТ ЛИЦА ЕГО НЕНАВИДЯЩИЙ ЕГО. ЯКО ИСЧЕЗАЕТ ДЫМ, ДА ИСЧЕЗНУТ».
Освещаемое вспышками боли лицо не исчезало, оно возникало тем явственнее, чем мучительнее становилась раздирающая боль.
В затылке стало горячо, так горячо, будто там разгорался костер… тяжело и быстро застучало сердце.
Где-то между ребрами в живой плоти скользнул стальной быстрый холодок: нервы натянулись в безмолвном крике всепоглощающей боли и порвались.
…Рот обожгло спиртом: невыносимый запах спирта ударил в ноздри.
— Теперь дыши глубже, — произнес успокаивающе мягкий голос где-то рядом. — Грудь освободилась. Дыши.
В голосе была неожиданная усталость.
3
— Задал ты мне работы: общее истощение да гнойный плеврит… Сколько лет назад ты сослан?
— Уже четыре года.
— Сколько тебе лет?
Вопросы звучали как приказания — но не подчиняться им отчего-то было немыслимо.
— Около двадцати.
Странный священник сидел в ногах кровати: рука его еще лежала на пульсе Андрея.
Бревенчатая, с железной печкой комната была обставлена скудно и просто. Пестрые ситцевые занавески закрывали дверь в сени — комната была единственной: вторая дверь из нее вела в операционную. Под потолком, на протянутой наискось веревке, покачивались связки сухих трав. Под несколькими теплилась лампадка. На одной из стен висело несколько акварелей и рисунков углем — в основном местные пейзажи. В шкафике в углу виднелись склянки медицинских препаратов. Скобленый стол, придвинутый к низкому окну, служил письменным — на нем теснились папки бумаг. Внимание Андрея привлекла сделанная на корешке одной из папок размашисто-ровная надпись: «Материалы к кн. „Гнойная хирургия“.
— Срок?
— Пожизненно.
— Что было причиной или поводом для ареста?
— Я шел по делу о заговоре Таганцева.
— В шестнадцать лет? — священник сдержанно улыбнулся. — Тебе около двадцати лет, и почти четверть из них ты провел по тюрьмам. Как тебя зовут?
— Андрей Шмидт. А Вы… Вы… — Пораженный неожиданной догадкой, Андрей попытался приподняться, но священник мягко ему помешал. — Ведь Вы — Владыко Лука, Вы — Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий! И Вы — Вы — здесь!
— Да, я — Воино-Ясенецкий. Воино-Ясенецкий оказался почти таким, каким когда-то и представлял его Андрей по рассказала Даля: широкоплечий, высокий, с чем-то хищно-львиным в посадке крупной головы и красивых чертах лица — он казался властным и суровым, но в этой властности не было властолюбия, а в суровости — безразличия. Весь облик его дышал скорее грозным мужеством, чем благостью: с ним невольно связывалось представление о черном клобуке инока Пересвета — это был священник-воитель.
— Ты — лютеранин?
— Нет, я православный.
— Ты все четыре года не причащался?
— Да, конечно.
— Ты устал — попытайся уснуть. Ты хотел бы исповедоваться сегодня вечером?
— Да… мне хотелось бы. Очень хотелось.
— Хорошо, сын мой. А теперь — спи, — с осторожностью укрыв Андрея вторым, меховым, одеялом, Воино-Ясенецкий сложил пальцы хирурга в благословляющем жесте.
4
Высокие пятистенки-дома с небольшими окнами, расположенными довольно высоко от земли…
Но стоят не в ряд, а словно хотят попросторнее рассыпаться под этим высоким небом… И от этого ли или от того, что деревья чахлы и редки, а окоем — бескраен, крепкие, с высокими крышами дома кажутся маленькими детскими игрушками, разбросанными по огромной доске стола. В России, когда выходишь на деревенскую улицу даже с домишками куда ниже и плоше этих, пространство замыкается ощущением жилья, места, обжитого людьми…
А здесь человек чувствует себя беззащитным и крошечным, затерянным в бесконечности раскрывшихся под этим высоким небом просторов.
Туруханск… Простор пространства, переливающегося через называемый городом поселок… Деревянная колокольня городской церкви.
Андрей покачнулся: перебирая рукой колья редкой изгородки, сделал еще два шага до сваленных в кучу бревен и сел. Голова была очень тяжелой — захотелось уронить ее в колени, но Андрей заставил себя не делать этого — он давно уже заметил, что силы восстанавливаются быстрее, если заставлять себя делать усилия…
Метрах в ста от Андрея у высокой бревенчатой стены какого-то амбара играли в городки дети — не очень маленькие, восьми-десяти лет. Детей, с непокрытыми головами, но в ярко расшитых кухлянках, было трое: двое мальчишек с обычными для русской деревни лицами и смуглая скуластая девчонка с черными до блеска, забавно-короткими косичками…
Андрей невольно залюбовался девочкой, отскочившей несколько шагов с поднятой в руке битой: белизна кухлянки живописно подчеркивала темный цвет ее лица и веселую черноту волос… Местная… якутка?.., эвенка?.. Андрею много уже доводилось видеть коренных уроженцев этих мест, в основном издали, но кто из них кто — он не знал…
«Я был бы рад, если бы ты перестал путать эвенков с якутами — между ними нет ничего общего», — нахмурясь, произнес недавно Воино-Ясенецкий.
Какая, в чем тут может быть разница?.. Господи, как все это странно: играющие дети, стены бревенчатых домов, городишки затерянные в безбрежных пространствах…
Человеческое утро — дикий мир… «Что бы сказал Борис? Странно, как будто это было вчера, вчера мы сидели с ним на Смоленском у могилы Таты Ильиной… Я помню Борькино шестнадцатилетнее лицо, помню весь наш последний разговор… А ведь это действительно было для меня вчера — как будто я прыгнул в воду мертвяще-черной реки и вновь вышел на берег за много верст по течению… Концы сходятся — это было вчера. Борька говорил тогда о том, что мы — странное поколение: такое же, как поколение заката античности… Юность среди распада и руин. Но ведь и эти руины дышали нашейцивилизацией! Ведь она, воплощенная в руинах, все же была вещественнее, чем сейчас, когда она — на тысячи верст вокруг — только рожденный моей памятью признак! Закат античности… Борис был прав… Как будто со мной уже когда-то было то, что происходит сейчас… Как будто я воином, случайно влившимся в Великое Кочевье юных варварских племен, неся в себе одном странный груз мудрости Платона и гекзаметров Гомера, шел среди них — бесконечно далекий… И тоже тогда, как и теперь, задавал себе вопрос — куда должен я нести свою неизмеримо драгоценную ношу? Куда?
Господи, как странно… Но ведь я для чего-то нужен, если я остался жив, если нужно было то сражение со смертью, которое выдержал за меня Воино-Ясенецкий? Сам Воино-Ясенецкий, человек, имя которого я с детства привык слышать произносимым с благоговейным трепетом… А вот сейчас живу в доме подвижника, каждый день вижу его — и все это так обычно и просто… Но ведь я же знаю, не докторским бы я рос ребенком, если бы не понимал того, что только наитие высшей силы делает эти руки способными на то, что делается ими!.. Я понимаю, что вижу перед собой что-то нечеловеческое, но это нечеловеческое так мудро, так просто облечено в человеческие покровы… Странно, Господи, как странно!»
5
— Мне кажется, что я проснулся от тяжелого сна и этих четырех лет в действительности не было, — Андрей улыбнулся, вдохнув клубящийся над жестяной кружкой пар травяного отвара. — Как будто я еще вчера бродил по питерским улицам и вместе с Ивлинским готовился к вступительным экзаменам в Екатерининский горный… Я как тот герой Ирвинга: проснулся и понял, что четыре года вычеркнуто из жизни. Я остановился на уровне развития шестнадцатилетнего мальчишки, а ведь мне — двадцать.
— Четыре года — не так уж много. Выпей траву до конца… К тому же — если бы этот вред был самым большим из всего причиненного тебе вреда… Я имею в виду даже не тот вред, который причинен твоему телу. В эти четыре года — были минуты или часы, когда ты призывал смерть?
— Нет. Никогда.
— У тебя оставалась надежда на иное освобождение?
— Откуда? Слишком на широкую ногу поставлено дело, которое мне последнее время привелось наблюдать. Мне надо было бы быть идиотом, чтобы не понять, что приходится ожидать отнюдь не благодетельных перемен.
— Так что же не давало тебе хотеть смерти? Господь не осуждает молящего о ней, если тот не пытается приблизить ее сам. Или кошмар кровавого бреда, по которому ты шел, был для тебя дороже инобытия? Отвечай.
— Не знаю. В этом нет логики. Но все силы моей души, независимо от меня, были направлены на то, чтобы во что бы то ни стало выжить — я не понимал, для чего… Но это было сильнее меня — что-то заставляло меня без цели идти вперед, хотя в аду пересылок смерть не мыслилась ничем иным, кроме отдыха и покоя… Я читал стихи, чтобы не сойти с ума, нет, даже нет, чтобы не утратить его гибкость… Не сойти с ума мне не давало что-то другое…
— Неплохо, — Воино-Ясенецкий улыбнулся. — Чем больше я наблюдаю тебя, тем более убеждаюсь в правоте принятого мною решения. Боюсь, что ты еще слишком слаб, чтобы начинать этот разговор, однако время не терпит. Беда в том, что, пока ты находишься здесь, я ни на минуту не могу быть уверен в твоей безопасности. Как ко всякому ссыльному, ко мне в любой час могут нагрянуть нежелательные посетители. Если ты не согласишься на то, что я намерен тебе предложить, я должен буду попросту переправить тебя в более безопасное место… Но счастье и беда одновременно заключаются в том, что ты из тех натур, для кого только на первое время довольно будет возможности безопасно существовать. Поэтому я спрашиваю тебя сейчас — и берегись ошибиться в ответе, сын мой, — настолько ли ты доверяешь мне, чтобы безоговорочно и слепо отдать свою жизнь в мои руки? Я хочу, чтобы ты дал мне право распорядиться всей твоей дальнейшей жизнью по своему усмотрению. Не спеши отвечать — сейчас решается твоя судьба.
Лицо Воино-Ясенецкого было сумрачно-грозно. Сложив руки на груди, он неподвижно сидел за столом, заваленном бумагами и хирургическими инструментами. Андрей, преодолевая головокружение, поднялся и, пройдя через комнату, с трудом опустился на колено перед священником.
— Владыко Лука… Я беспрекословно и слепо вверяю свою судьбу этой руке, — твердо произнес Андрей, склонив голову над рукой Воино-Ясенецкого.
— Господь с тобой. Голова сильно кружится, когда встаешь?
— Немного кружится.
— Погоди, я тебе помогу, — Воино-Ясенецкий поднялся и, легко приподняв Андрея, поднял и донес его обратно до кровати. — Не спеши, мальчик, я еще успею благословить тебя.
6
— Владыко Лука! Владыко Лука! — звонкий голос ворвавшегося в избенку мальчишки лет тринадцати, синеглазого, соломенноволосого, с веселой россыпью веснушек на носу и щеках, одетого в распахнутую на груди кухлянку, звучал с торжествующим нетерпением. — Я нашел Степана Захарова — он велел передать, что скоро будет.
— Так быстро? Молодец, Ваня. — Похвалив вспыхнувшего от удовольствия мальчишку, Воино-Ясенецкий исподволь взглянул на Андрея. Андрей заметил этот взгляд — ему и без того почувствовалась уже связь между этим именем и происшедшим три дня назад разговором, к которому Воино-Ясенецкий с тех пор ни разу не возвращался.
Андрей был еще очень слаб — хотя он уже каждый день выходил из избы и часами сидел на крыльце, он не мог еще, не устав, пройти двадцати шагов и каждый раз, вернувшись в дом, вынужден был около часу лежать. Андрей лежал и сейчас — когда вбежал Ваня, для которого, как и для многих приходящих к Воино-Ясенецкому туруханских прихожан, появление Андрея уже перестало быть новостью.
— Как себя чувствует Маша?
— Вашей милостью — поправляется, владыко Лука.
— Божьей помощью, Ванюша. Скажи матери — вечером зайду сделать перевязку, до меня пусть ничего не трогает. Беги-ка домой.
— Одного им все-таки не удается добиться, владыко Лука, — усмехнулся Андрей, когда мальчик убежал, мелькнув в низком окне расшитой кухлянкой, — им не удается помешать Вам врачевать и тела и души.
— К сожалению, удается, сын мой, — нахмурясь, произнес Воино-Ясенецкий, вклеивая какую-то вставку в толстую историю болезни. — В известной мере удается. Вина тех, по чьей воле я нахожусь здесь, заключается в том, что только в окружности трехсот верст от моего жилья можно найти такое количество больных, которому я при иной населенности оказывал бы помощь за неделю… Ранее, в земстве, мне доводилось иной раз принимать по триста больных в сутки…
— По триста? Признаться, владыко Лука, я слышал эту цифру раньше, но считал преувеличенной.
— Нет, это действительно так… Вот, тоже плеврит, но твой был куда интереснее — тут хватило прокола… Что я говорил? Ах да: человек способен на значительно большее, чем принято считать, сын мой. Поэтому вина тех, кто обрек меня на работу в четверть силы, неоспорима. Что же касается другого моего долга — здесь они действительно оказались бессильны мне помешать, во всяком случае, покуда я жив и не заперт в одиночку… Когда меня засылали в места, где вообще не было храмов, я служил в березовых рощах… И все же — здесь у меня хватает времени даже на это давно мною оставленное занятие, — Воино-Ясенецкий кивком головы показал на пейзажи и рисунки на стене.
— Я давно хотел спросить у вас — что это за место? — Андрей показал на две висевшие рядом акварели. Оба рисунка относились явно к одному и тому же месту: это было какое-то старое кладбище. Редкие солнечные лучи, проникающие через образующую единый темно-зеленый покров листву тесно сплетенных в вышине ветвей, скользили по замшелым камням надгробий… Воздух казался сумрачно темно-зеленым, как на дне пруда, хотя снаружи угадывался солнечный день. На первом рисунке в этом темно-зеленом воздухе дробился вдали сочный яркий сурик кирпичной, напоминающей монастырскую, стены; тоскующий мраморный ангел в порыве скорби припадал к урне. На втором рисунке стены не было видно, но в напоминающем темно-зеленую воду пространстве кладбища угадывались ее красноватые блики. Это было несколько могил, относящихся к одной семье: одинаковые урны стояли на надменно тонких столбах белого мрамора, украшенных тяжелыми чугунными гербами. Из надписи на одной из них можно было прочесть слова: «… Федор Глебов… 17… всего жития его было… Прохожий, помолись за его душу!»
— Донской монастырь, — улыбнулся Воино-Ясенецкий. — Самое, наверное, красивое место в Москве и во всяком случае — одно из самых таинственных.
— Вот оно что… Я слышал про этот монастырь. Ведь в нем как-то раз Гумилев просидел ночь и написал «Взгляни, как злобно смотрит камень…», — Андрей засмеялся.
— А ты не был в Москве?
— Можно сказать, что нет.
«И не буду. Да и есть ли она сейчас, Москва? Я никогда не увижу этого золотого древнего сердца России, я никогда его не почувствую. Я успел увидеть в жизни только одно — умирающий Петербург».
— Они постараются сделать все, чтобы уничтожить Москву и извести московский дух… Постой! — В комнате опять стало на мгновение темнее из-за того, что кто-то, проходя, заслонил окно. — Это он!
Отставя пачку историй болезни, Воино-Ясенецкий поднялся и вышел в сени — почти тут же Андрей услышал, как ударила входная дверь.
— Здравствуй, Степан. Я рад, что тебя так скоро нашли: я отправлял на поиски десять человек.
— Ты решил, Валентин? — В голосе вошедшего скользили мягкие придыхающие звуки. Чуть растянутые концы слов делали произнесенную фразу длиннее, чем она была в действительности. Это была очень своеобразная, но необыкновенно приятная манера речи.
— Нет, Степан, тяжесть моего креста по-прежнему не тяготит моих плеч. Степан, я хочу, чтобы с тобой ушел другой. Но я хочу не только того, чтобы он был в безопасности. Я хочу отдать его тебе.
— Где он?
— Там.
Послышались шаги: причем, как показалось Андрею, это были шаги одного только Воино-Ясенец-кого — он вошел первым. За ним, ступая бесшумно, несмотря на свои тяжелые кирзовые сапоги, вошел человек, при виде которого Андрей сдержал невольный возглас изумления.
Хранящее холодное и вместе с тем как бы странно сонное неподвижное выражение, лицо этого одетого в наброшенную поверх полуохотничьего-полувоенного френча меховую куртку человека показалось ему лицом Чингачгука — ожившей иллюстрацией детских книг.
Это было смуглое, широкоскулое неевропейское лицо — отчужденное выражение облекало в нем медально-точеные черты индейского вождя: даже расположение морщин казалось изначально отлитым в металле, вообще лицо это казалось скорее маской бронзового идола, чем лицом: было очень трудно представить эти черты в движении.
Когда незнакомец вошел вслед за Воино-Ясенецким в комнату, глаза в его лице, и без того узкие и небольшие, были дремотно полузакрыты веками. В следующее мгновение он взглянул на Андрея.
Детское сравнение с индейским вождем мгновенно вылетело из головы: Андрей почувствовал нечто наподобие резкого толчка, почти удара — этот удар исходил из непроницаемых своей угольной чернотой глаз, которые, одни, заняли все окружающее пространство. Потом снова появилось лицо, но глаза по-прежнему приковывали к себе все внимание — их взгляд был скорее неприятен: казалось, он скользил по телу и душе, выискивая и находя какие-то уязвимые места
Этот взгляд был мимолетно-быстр — почти сразу же незнакомец перевел глаза на что-то, находящееся за Андреем, и со смягчающей твердость голоса плавностью интонаций произнес:
— Отпусти его, Эшу.
Затем, отвечая на недоумевающий взгляд Андрея, неожиданно улыбнулся (это производило странное впечатление вдруг перелившейся в другую форму бронзы) и, как бы поясняя, добавил:
— Я попросил ее снять руку с твоего плеча.
— Да, случай тяжелый, в особенности из-за общего истощения, — произнес Воино-Ясенецкий, ставя на железную печку чайник.
— Плохая смерть — красная точка на лбу, красная точка на груди, — ответил ему незнакомец.
— Прокол плевральной полости, резекция ребер. Хотя сейчас я предвижу больше сложностей относительно психической стороны.
— Его души еще можно расплести. Он сильный. Я хочу его взять. — Со стремительной мягкостью повернувшись снова к ошеломленному Андрею, незнакомец неожиданно спросил: — Ты пойдешь со мной?
— Да. — Андрей сам не знал, откуда взялась та решимость, с которой его губы как будто сами произнесли ответ. Он невольно попытался приподняться навстречу наклонившемуся над ним незнакомцу, но тот мягким, но властным нажатием в плечо заставил его опуститься на подушку.
— Лежи! Дай левую руку.
На мгновение Андрею показалось, что севший рядом на кровать незнакомец хочет прощупать пульс — жест, которым эта небольшая смуглая рука легла на его запястье, удивительно напоминал Воино-Ясенецкого. Но прикосновение этой руки напоминало Воино-Ясенецкого чем-то еще — от нее шла ровная, успокаивающая сила.
— Ты знаешь, где я живу?
— Нет.
— Это далеко отсюда. Много дней пути. Русские называют это место Оленьими горами. Там есть большая река.
Рука Андрея лежала в руке незнакомца. Успокаивающе мягко слетали с узких губ фразы, казалось, обращенные к пятилетнему ребенку. Непостижимые, прощупывающие угольные глаза словно спрятались в сетке сдерживающих улыбку морщинок. Андрей неожиданно почувствовал себя ребенком, с которым только и надо говорить такими простыми, короткими фразами: от этого сделалось беспричинно весело и радостно, захотелось рассмеяться от странного, щекочущего ощущения счастья.
— Ты умеешь охотиться?
— Нет.
— Я научу тебя. Ты умеешь стрелять?
— Да.
Смеющиеся морщинки пропали: глаза черно скользнули по Андрею в узкой щели век.
— Это дурная стрельба. Забудь о ней. Я сам подберу тебе ружье.
«Дурная стрельба — в человека?..»
— Ты хочешь меня о чем-нибудь спросить?
— Нет, — твердо ответил Андрей, сам не понимая, отчего отвечает так, но знал наверное, что от него ждут этого ответа.
— Хорошо.
— Степан? — В голосе Воино-Ясенецкого, разлившего травяной чай в две жестяные кружки и державшего в руке третью, прозвучал какой-то вопрос.
Незнакомец, явно отвечая на этот непонятный Андрею вопрос, кивнул Воино-Ясенецкому, а затем, выпустив руку молодого человека, с юношеской легкостью поднялся на ноги.
Воино-Ясенецкий налил чай в третью кружку. Прежде чем сесть за стол, незнакомец взял кружку (именно ту, последнюю) и поднес ее Андрею: того поразила какая-то ласковая бережность, с которой незнакомец держал в руках этот грубый неживой предмет — впрочем, по этому жесту он понял, что для незнакомца вообще не существует ничего неодушевленного.
— Пей.
На столе появилась сковородка с неприхотливым местным блюдом — пресной лепешкой, замешанной без дрожжей на воде. Лепешки эти пеклись без масла — на раскаленной сковородке — и съедобны были только в теплом виде: остыв, они превращались в камень.
Воино-Ясенецкий разделил лепешку на три части, и Захаров, опять поднявшись, снова передал одну Андрею.
— Ешь.
«Это не сон и не бред, — думал Андрей, не замечая тепловатого вкуса теста, — что-то происходит сейчас… Если бы понять, что…»
— Когда ты думаешь увести его?
— Завтра, Валентин.
— Я боюсь, что он слишком еще слаб. Хотя чем скорее, тем лучше.
— Надо спешить. Думаю, что он сможет идти.
— Я все же провожу вас до Сухого русла.
— Да, Валентин. Я ухожу сейчас. — Захаров встал из-за стола и, уже подходя к двери, обернулся к Андрею:
— Я приду за тобой завтра.
Андрей, сидевший уже на кровати, молча кивнул. Серьезная сосредоточенность его лица отчего-то заставила Захарова улыбнуться — улыбкой простой и веселой. Вдруг возвратившись от двери, он подошел к Андрею и очень неожиданно, забавным жестом взъерошил ему волосы.
«Все будет хорошо, не бойся» — словно сказал этот жест.
Но в это же мгновение Андрей с беспощадно вспыхнувшей ясностью сознания понял, что этот человек может быть нечеловечески страшен. И что придет, не может не прийти день, когда ему придется это увидеть.
7
— Д-да… — сквозь зубы процедил наконец Андрей: после ухода Захарова он долгое время молча сидел на кровати, глядя на закрывшуюся дверь — грудь его вздымалась от прерывистого взволнованного дыхания. — То есть я даже не знаю, что сказать… У меня нет слов… просто нет.
— А ты думал, что они только выплясывают с бубнами? — Воино-Ясенецкий добродушно рассмеялся.
— Приблизительно так.
— Хорошо, что ты все же не стал его расспрашивать, — он остался доволен. Ты многое делаешь правильно, сам того не подозревая. Но тебе что-то хотелось бы спросить у меня… Я вижу, лучше спроси.
— Я не знаю, как об этом спросить, — ответил Андрей неуверенно.
— Договаривай. Ты это знаешь, но боишься спрашивать.
— Я… Владыко, я действительно хочу пойти за ним, но я не понимаю, как вы, вы благословляете меня на это.
— Среди эвенков такие люди, как Степан, крещены прежде всех.
— Он крещен?!
— Кажется, я предупреждал тебя — не делай резких движений. Это и в здоровом состоянии отменно скверная с медицинской точки зрения привычка. Впрочем, тебя от нее скоро отучат. Разумеется, он крещен. Нет ничего более само собой разумеющегося применительно к такому человеку, как Степан.
— Ничего не понимаю.
— Просто ты очень мало знаешь… И тем не менее ты — один из нескольких тысяч, кто, оказавшись на твоем месте, мог бы пойти по этому пути.
— Почему?
— Каждый человек несет в себе определенное психологическое значение типа. По типу ты охотник. Попробую объяснить: представь, к примеру, на своем месте твоего друга… Ты — звено, которое можно перемкнуть на другую цепь. И в новой цепи ты станешь таким же прочным и естественным звеном, причем само звено при этом не изменится. Ты будешь собой. Прежняя цепь — цивилизация, культура, связи — те связи и та культура… Та жизнь. А новая жизнь — одиночество, просторы диких земель, одиночество как отсутствие всех прежних связей и невозможность их в жизни… Твоего Бориса, о котором ты рассказывал, здесь все время тянуло и звала бы та цепь, звеном которой, одной, он только и может быть… А ты сможешь войти в ход этой… Ты — охотник.
— Теперь я понимаю. Но наверное ли это так?
— Предоставь судить об этом нам. Через несколько лет ты немало повеселишься, вспомнив нынешний день.
— Которого не было бы, если бы Вы случайно…
— Случайностей не бывает.
Услышав эту фразу, Андрей улыбнулся, вспомнив о Дале. Но он не знал того, что, произнося ее, о Дале думал и сам Воино-Ясенецкий. Но воспоминания Воино-Ясенецкого не связывали Даля с Петроградом. Воино-Ясенецкий видел перед собой маленький добрый московский домик в Дегтярном переулке: крыльцо под железным навесом, тесную прихожую, невысокие окна, распахнутые в заросший сиренью садик, и ведущую в заставленный ящиками картотек кабинет широкую лестницу, которой никогда не видел Андрей, лестницу, по которой не один раз поднимался Воино-Ясенецкий и по которой, с рассказом о Каирской пелене, взбегал когда-то взволнованный Владимир Голенищев.
8
Костер разгорался: стало жарко, но Андрей не отодвинулся от него.
Этот отдых был первым. Привала не было с раннего утра, когда воздух был туманен, а сопки вдали казались голубыми.
Уже полдня ягель под ногами был молочно-бел. Упруго подаваясь, он почти по щиколотку схватывал сапог, делал бесшумным шаг. Над тундрой, захлестываемой кое-где языками тайги, стояла пронзительная тишина. Серебристые, отливающие пеплом стежки корневищ простегивали ковровую пышность ягеля, деревья набегали на исполинские валуны, шатрами переплетались древесные остовы. Все, чего касался взгляд, манило своей завершенностью, призывало к бесконечному созерцанию и покою. Все, чего касался взгляд, растворяло душу.
За плечами оставался день пути, но Андрей не ощущал слабости.
«Ты можешь идти», — сказал утром Захаров. И Андрей неожиданно почувствовал, что на самом деле может.
Через несколько часов, тоже под утро, с этого места, где разведен сейчас костер, они разойдутся в разные стороны: Воино-Ясенецкий вернется обратно в Туруханск, а они с Захаровым пойдут дальше — в сторону каких-то неведомых Оленьих гор.
Костер был разведен на камнях, под закрывающим от ветра обрывом пересохшего русла.
Сидящие у костра люди были погружены в глубокое молчание: потрескивание ветвей казалось в вечерней тишине отчетливым и громким.
Лицо Воино-Ясенецкого было каменно-неподвижным в свете огня. Через несколько часов — с уходом Воино-Ясенецкого — порвется последняя нить, связывающая с прежним и до недавнего времени — единственным миром. Место и миг одного шага, и этот шаг — окончательное и единственное преступление грани. Миг, когда одна нога не оторвалась еще от прежней земли, а другая вступила уже на неизведанную…
Андрей был спокоен. Сам не зная почему, он не спешил ворошить в памяти оставляемое или думать о предстоящем, он чувствовал только одно: глубокое отдохновение, разлившееся в душе и теле. Это был отдых перед началом нового пути, пути бесконечно далекого и трудного.
…Где-то в глубине, в трепещущем красном тумане огня, возникло лицо одиннадцатилетней девочки.
Андрей улыбнулся: эту девочку звали Тина, но ему было известно другое, настоящее и забавное ее имя:
Тутти.
Девочка засмеялась и сложила руки так, как обыкновенно делают дети, когда собираются что-то ловить…
И Андрей понял.
Расстегнув внутренний карман куртки, он вытащил маленькую детскую линейку — самую обычную школьную линейку, обгрызанную и запачканную чернилами.
Этот маленький предмет он пронес через ад всех пересылок…
Немного подержав линейку в руке, Андрей бросил ее в костер.
Ему показалось, что девочка в огне поймала линейку в сложенные руки.
— Что ты бросил в огонь?
— Так… одну вещь, которая больше не нужна, — ответил Андрей.
«Теперь ты сможешь быть моей спутницей, куда бы я ни шел?»
«Я пройду с тобой все твои дороги».
Андрей просидел у догорающего костра всю ночь, ни Воино-Ясенецкий, ни Захаров не потревожили его больше.
9
— Пора, Валентин! Ты успеешь к вечеру.
— Да, Степан.
Грубая ряса Воино-Ясенецкого надувалась и хлопала на ветру. Свежий утренний ветер полоскал и его русые, не схваченные повязкой волосы.
— Ты появишься не скоро, не так ли?
— Да, не скоро. Меня не будет два года — на этот срок я должен уйти с ним от людей. Туда, — Захаров, чуть улыбнувшись, показал на голубеющие вдали сопки. — Я застану тебя здесь через два года?
— Едва ли… — Воино-Ясенецкий усмехнулся. — Они не дают мне подолгу задерживаться в одном месте. Вероятно, нам больше не доведется встретиться. Прощай, Степан, — благословение Господне да будет с тобой!
— Прощай, Валентин, — Захаров мгновение помедлил, обменявшись последним взглядом с Воино-Ясенецким. — Пусть твоя кровь будет золотой!
февраль 1982 — апрель 1985, вторая редакция 2005 г.
Примечания
1
Deus conservat omnia — Бог сохраняет все (лат.).
(обратно)2
Дортуар — (фр. dortoir) — общая спальня в закрытом учебном заведении.
(обратно)3
Следовательно (лат.).
(обратно)4
Николаев А.П. (1860-1919) С ноября 1918 г. — командир 19-й стрелковой дивизии Кр. армии. Участник Первой мировой войны, закончивший ее в чине генерал-майора. Выпускник юнкерского училища. Происходил из семьи простого солдата. В мае 1919 г. взят в плен и расстрелян в Ямбурге как предатель.
(обратно)5
Имеется в виду ахалтекинская порода.
(обратно)6
Мы всегда убиваем тех, кого любим (англ.).
(обратно)7
Книга Ф. Ницше
(обратно)8
Рембо (фр.)
(обратно)9
Вот и все (фр.).
(обратно)10
Публичное чтение стихов было модным в описывамые времена.
(обратно)11
Иначе — ассасины. Наркоманы-смертники, убивавшие по приказу легендарного Старца Горы. Фактически — первые исламские террористы.
(обратно)12
Я ищу Фортуну, как черный кот, при свете луны вечером на Монмартре (фр.).
(обратно)13
Закон суров, но это закон (лат.).
(обратно)14
Василий Блаженный (англ.).
(обратно)15
Vexilla regis prodeunt inferni — «Вот близятся знамена царя ада» (лат.) — Ад, XXXIV, I.
(обратно)16
Юденич Н.Н. (1862—1933), один из глав Белого Дела, генерал от инфантерии, дворянин, выпускник Академии Генштаба, участник Японской и Первой мировой войн. В 1919 г. возглавлял наступление СЗА на Петроград.
(обратно)17
Оставим (фр.).
(обратно)18
«Если ты не теряешь головы, когда все вокруг теряют головы» (англ.).
(обратно)19
Хрия — разновидность небольшого письменного упражнения по литературе.
(обратно)20
Горничная (фр.).
(обратно)21
Я старше, к чертям собачьим, делайте, что сказано (фр.).
(обратно)22
Вы меня убедили, что ведете игру. Но кто сдает карты? (фр.).
(обратно)23
За игрой (фр.).
(обратно)24
Хорошо (фр.).
(обратно)25
Вероятно, прозвище Ф. Дзержинского. (Е.Ч.)
(обратно)26
Вероятно, прозвище В.Ульянова-Ленина (Е.Ч.)
(обратно)27
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 399.
(обратно)28
Граф (фр.).
(обратно)29
биография — (искаж. лат.).
(обратно)30
Кстати, ничего, что я «тыкаю»? (фр.).
(обратно)31
— Сойдет для анархиста. А что до древней истории… Предпочитаю, чтобы другие не замечали моих чувств… хватит и тебя (фр.).
(обратно)32
Я прапорщик (фр.).
(обратно)33
Я тоже (фр.).
(обратно)34
Я натянул канаты от колокольни к колокольне, гирлянды от окна к окну, золотые цепи от звезды к звезде — и я танцую» (франц.).
(обратно)35
«Молот ведьм» (лат.)
(обратно)36
«Град Бога» (лат.)
(обратно)37
«Исповедь» (лат.).
(обратно)38
Ваше поведение, прапорщик, как Вам кажется, прилично для русского офицера? (фр.).
(обратно)39
Рукоплещите, граждане, рукоплещите, друзья (лат.).
(обратно)40
Черт возьми (фр.).
(обратно)41
Всегда твой (лат.).
(обратно)42
Я хочу сказать (фр.).
(обратно)43
Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. М.: Политиздат, 1975. С. 323.
(обратно)44
А. Никитенко был убит при переходе границы на Лужском направлении фронта.
(обратно)45
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 106.
(обратно)46
Голинков А. А. Крушение антисоветского подполья в СССР, М.: Политиздат, 1975. С. 324.
(обратно)47
Крупица соли (лат.).
(обратно)48
Зрелища (лат.).
(обратно)49
Ваше здоровье! (фр.)
(обратно)50
Дерьмо! (фр.)
(обратно)51
Что вы сказали? (фр.)
(обратно)52
Третье дано (лат.).
(обратно)53
Студент М.Шидловский, осуществлявший связь с начальником Ораниенбаумского дивизиона Бергом, через которого шли тайные полеты в Финляндию, был предан и заманен в устроенную чекистами ловушку бортмехаником Д. Солоницыным.
(обратно)54
Будем здоровы! (лат.)
(обратно)55
Приемные дни Н. В. Даля в доме № 10 по Дегтярному переулку — понедельник, среда, пятница — с часу до шести, по предварительной записи. Тел. 210-14.
(обратно)56
Ныне — Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
(обратно)57
В момент передачи пелены В. С. Голенищевым музею ее инвентарный номер 4229. Ныне инвентарный номер 5749.
(обратно)58
Неведомые земли (лат.).
(обратно)59
«Она» (англ.).
(обратно)60
«Fuimus» — «мы были» (лат.) — девиз герба графов Брюс
(обратно)61
— Мистера Шелтона нет дома.\\— Я подожду его в гостиной.\\— Да, сэр. Дочь мистера Шелтона мисс Тина, сэр. (англ.)
(обратно)62
— Извините, мисс. Меня зовут Евгений Чернецкой. Ваш отец приглашал меня к шести. Могу я подождать его здесь?\\— Конечно, мистер Чернецкой. Присаживайтесь, пожалуйста. Чашку чаю? (англ.)
(обратно)63
— Вот и папа! (англ.)
(обратно)64
Так называлась часть общежития, где жили Л. Лунц. А. Грин, Вс. Рождественский, В. Пяст.
(обратно)65
Превратности войны. Путаница войны (фр.).
(обратно)66
— Хорошая погодка для побега преступников.\\— Недостает тумана.\\— Право? (англ.)
(обратно)67
«Полынь» (греч.)
(обратно)68
Так как сборник Е. Ржевского «apcepiSia» в настоящее время является библиографической редкостью, его текст приводится целиком. — М: Скоропечатня А. А. Левенсона в Трехпрудном пер., 1915.
(обратно)69
Я возьму эту книгу. Отложите, пожалуйста (фр.).
(обратно)70
Есть ли у вас что-нибудь из «К. Р.»? (фр.).
(обратно)71
«Лиса и виноград» (лат.).
(обратно)72
— Я не сделала этого перевода.\\— Печально. Вы можете сесть (фр.).
(обратно)73
Гагариной сегодня нет (фр.).
(обратно)74
Она больна, как обычно (фр.).
(обратно)75
Больна (фр.).
(обратно)76
Что-нибудь случилось, мадемуазель? (фр.)
(обратно)77
До второй половины XVIII столетия Зимний дворец находился на месте описываемого в настоящем романе Дома Искусств — угол Невского и Мойки.
(обратно)78
Мое дорогое дитя (фр.).
(обратно)79
Мое бедное дитя (фр.).
(обратно)80
Алло! Ржевский.
(обратно)81
«Рука с мечом, казнив тирана, тем сотворит нового» (англ.)
(обратно)82
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.53. С.169
(обратно)83
песенка (фр.).
(обратно)84
«Глумитесь, глумитесь, Вольтер и Руссо, Глумитесь, глумитесь, все это тщетно!» «Против ветра бросаете вы песок, Он по вас будет брошен ветром» (англ.).
(обратно)85
Все будет хорошо, не думай, дорогой (фр.).
(обратно)86
Дорога скорби (лат.)
(обратно)87
«2. VIII. 10, улица Гренобль. Др. Лакасс. В 12 час. Диагноз: туберкулез. Один месяц!» (фр.)
(обратно)
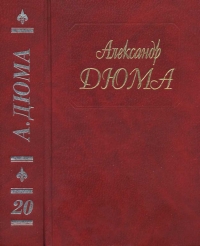



Комментарии к книге «Держатель знака», Елена Петровна Чудинова
Всего 0 комментариев