Артур Конан Дойль Приключения бригадира Жерара
I. Как бригадир лишился уха
Старый бригадир Жерар, сидя в кафе, рассказывал:
— Да, друзья мои, многое множество городов перевидал я на своем веку. Вы не поверите, если я скажу, сколько раз вступал я в города победителем во главе восьмисот лихих рубак, которые ехали за мной под стук подков и бряцание оружия. Кавалерия шла впереди Великой армии, гусары Конфланского полка — впереди кавалерии, а я — впереди гусар. Но из городов, где нам довелось побывать, Венеция всех нелепей, — и кто ее только построил! Ума не приложу, о чем думали эти строители, ведь для кавалерии там нет никакой возможности маневрировать. Сам Мюрат или Лассаль — и те не сумели бы провести эскадрон на главную площадь. Поэтому тяжелую кавалерийскую бригаду Келлермана и моих гусар мы оставили в Падуе, на материке. Город заняла пехота под командованием Сюше, а он взял меня в ту зиму к себе в адъютанты, потому что ему понравилось, как я разделался в Милане с одним итальянцем, который ловко умел рубиться на саблях. Этот малый знал свое дело, и, к счастью для Франции, именно я вышел против него и поддержал честь нашего оружия. Да и проучить его следовало: ведь если кому не нравится, как поет примадонна, тот может и помолчать, а когда публично срамят красивую женщину, этого стерпеть нельзя. Поэтому общее сочувствие было на моей стороне, а когда дело было сделано и вдове итальянца назначили пенсию, Сюше взял меня в адъютанты, и я отправился с ним в Венецию, где со мной и произошел тот удивительный случай, о котором я вам сейчас расскажу.
Вы не бывали в Венеции? Ну, конечно, нет, французы ведь нелегки на подъем. А мы вот в наше время довольно путешествовали. Всюду побывали, от Москвы до самого Каира, только хозяевам не по душе было такое множество гостей, да и пропуска свои мы везли на лафетах. Плохо придется Европе, когда французы снова вздумают путешествовать, — они неохотно покидают свои дома, но если уж сдвинутся с места, кто знает, где они остановятся, особенно если их поведет такой человек, как наш император, даром что он невысок ростом. Но те славные дни прошли, те славные люди мертвы, и я, последний из них, сижу в кафе, пью сюренское вино и рассказываю о былом.
Но о чем это я… Ах, да, о Венеции. Люди там живут, как водяные крысы на илистых отмелях, но дома хороши, ничего не скажешь, и я нигде не видывал таких великолепных церквей; особенно замечателен Собор св. Марка. Но более всего они гордятся своими статуями и картинами, знаменитыми по всей Европе. Многие в армии считают, что их дело — воевать, и ни о чем другом, кроме сражений да добычи, и думать не стоит. К примеру, был у нас один такой старик Буве, его убили пруссаки в то самое время, когда император пожаловал мне медаль; попробовали бы вы заговорить с ним не про бивак да провиант, а про книги или про искусство, он стал бы только глаза таращить. Но настоящий воин, вот как я, к примеру, должен разбираться в тонких материях, которые дают пищу для ума и для души. Правда, я поступил в армию совсем еще мальчишкой и единственным моим учителем был квартирмейстер, но тот, у кого есть глаза во лбу, поневоле многому научится, пройдя чуть ли не полсвета.
Так что я мог оценить картины, какие видел в Венеции, и знал имена великих людей, Майкла Титиена[1], и Ангелюса[2], и других, которые их нарисовали. И всякий вам скажет, что сам Наполеон тоже был от них в восторге, потому что он, когда взял город, первым делом велел отправить лучшие из них в Париж. Мы забрали все, что только могли, и на мою долю достались две картины. Одну, которая называлась «Испуганные нимфы», я оставил себе, а другую, «Святую Барбару», послал в подарок матушке.
Но что греха таить, некоторые из наших молодцов плохо обращались со статуями и картинами. Венецианцы их очень любили, а в четверке бронзовых коней, что стояли над воротами самой большой ихней церкви, они просто души не чаяли, как в родных детях. Я всегда знал толк в лошадях и хорошенько осмотрел эту четверку, но ничего особенного не нашел. Для легкой кавалерии ноги у них слишком толстые, а для орудийной запряжки они слабоваты. Но поскольку, кроме этой четверки, во всем городе не было больше ни единой лошади, живой или дохлой, тамошние жители просто-напросто ничего лучшего не видели. Когда этих коней снимали и отправляли во Францию, все горько плакали, а ночью из каналов выловили десять французских солдат. В наказание у них отобрали еще многое множество картин, и наши солдаты принялись ломать статуи и палить из ружей по разноцветным оконным стеклам. Это привело народ в ярость, венецианцы нас возненавидели. Многие офицеры и солдаты пропали в ту зиму без вести, и даже трупы их найти не удалось.
У меня в то время дел было по горло, скучать не приходилось. В каждой стране, куда меня забрасывала судьба, я старался выучить тамошний язык. Для этого я всегда искал милую даму, которая согласилась бы выучить меня, чтоб потом нам вместе попрактиковаться. Нет более приятного способа обучиться иностранному языку, и мне не исполнилось еще тридцати, когда я уже говорил чуть ли не на всех европейских языках; но скажем прямо, те слова, какие можно выучить таким способом, не очень-то годятся в обычной жизни. Вот мне, к примеру, приходилось все больше иметь дело с солдатами да крестьянами, а какой толк говорить им, что я люблю их одних и вернусь к ним, когда кончится война?
Никогда не было у меня такой милой учительницы, как в Венеции. Звали ее Лючия, а по фамилии… но благородному человеку не пристало помнить фамилии. Могу только сказать, не будучи нескромным, что она дочь венецианского сенатора, а дед ее был дожем. Она была редкостная красавица — а уж ежели я, Этьен Жерар, говорю «редкостная», это, друзья мои, что-нибудь да значит. Я кое-что смыслю в этих делах, и память у меня хорошая, да и сравнивать есть с чем.
Из всех женщин, какие меня любили, не наберется и двух десятков, про которых я мог бы так сказать. Но Лючия, говорю вам, была редкостная красавица. Среди брюнеток я не припомню ей равной, — разве только вот Долорес из Толедо. Да еще была у меня одна брюнеточка в Сантареме, когда я служил под началом у Массена в Португалии… как, бишь, ее звали?.. запамятовал. Она была само совершенство, но все же до Лючии ей далеко — и фигуру не сравнить и грация не та. Была еще, правда, Агнесса. Я не отдавал ни одной из них предпочтения, но по справедливости надо признать, что Лючия была лучшей из лучших.
Из-за этих самых картин я с ней и познакомился, — дворец ее отца стоял по ту сторону Большого канала, у моста Риальто, и все стены в нем сплошь были разрисованы, поэтому Сюше выслал отряд саперов с приказом вырезать некоторые куски и отправить в Париж. Я пошел с ними, увидел Лючию, всю в слезах, и сразу сообразил, что если штукатурку со стен снять, она вся потрескается. Я доложил об этом, и саперов отозвали. С тех пор я стал другом их дома и раздавил с ее папашей не одну бутылочку кьянти, а дочка дала мне не один сладостный урок итальянского языка. В ту зиму в Венеции кое-кто из французских офицеров женился, и та же судьба могла постичь меня, потому что я любил Лючию всем сердцем; но Этьен Жерар никогда не забывает о чести своего оружия, о своем коне, своем полку, своей матери, об императоре и о карьере. В сердце доброго гусара всегда найдется место для любви, но жена — дело другое. Так рассуждал я в те дни, друзья мои, и не думал, что наступит время, когда я останусь один как перст и буду тосковать о той, которой давно уж нет, и отводить взгляд при виде старых боевых товарищей, которые сидят себе в кресле в кругу взрослых детей. Да, любовь казалась мне тогда шуткой, баловством, и теперь только я понял, что это главное в жизни, самое возвышенное и святое на свете… Спасибо вам, друзья мои, спасибо! Винцо превосходное, и лишняя бутылочка мне не повредит.
А теперь слушайте, я расскажу вам, как любовь к Лючии ввергла меня в самое ужасное из всех невероятных приключений, какие мне довелось пережить, — тогда-то я и лишился верхней половины правого уха. Вы часто спрашивали меня, как это случилось. Сегодня я наконец расскажу вам об этом.
Ставка Сюше находилась в ту пору в старинном дворце дожа Дандоло, на берегу лагуны, неподалеку от площади святого Марка. Дело уже шло к весне, и вот как-то вечером прихожу я из театра Гольдини[3], а меня уже дожидается записка от Лючии и гондола. Она умоляла меня приехать не мешкая, потому что с ней случилась беда. На такую записку у французского офицера может быть только один ответ. Через секунду я был уже в гондоле, и гондольер, отталкиваясь веслом, поплыл по темной лагуне. Помню, садясь на скамейку, я еще подивился, какой это здоровенный малый. Хоть и невысок ростом, зато плечи широченные, я таких сроду не видывал. Но гондольеры в Венеции народ крепкий, и силачей среди них немало. Так вот, он занял свое место у меня за спиной и стал грести.
Хороший солдат во вражеской стране должен всюду и всегда быть начеку. Это было одно из главных моих правил, и если я дожил до седых волос, то лишь потому, что неизменно ему следовал. Но в ту ночь я был беспечен и глуп, как желторотый новобранец, который больше всего на свете боится, как бы не подумали, что он трусит. Пистолеты я в спешке позабыл дома. Сабля была при мне, но это оружие не всегда самое удобное. Я откинулся на спинку скамьи и задремал под баюкающий плеск воды и мерное поскрипывание весла. Путь наш лежал через лабиринт узких каналов, по обоим берегам которых стояли высокие дома, так что над головами у нас виднелась лишь узкая полоска неба, усыпанного звездами. Кое-где на мостах, перекинутых через канал, тускло мерцали керосиновые фонари, да иногда в нише, где горела свеча перед статуей святого. В целом же вокруг была кромешная, непроницаемая тьма, только белое пятно пенилось под длинным черным носом нашей лодки. Час был поздний, да и обстановка располагала ко сну. Мне вспомнилась вся моя жизнь, вспомнились великие дела, в которых я участвовал, кони, на которых я ездил, и женщины, которых любил. А потом я стал думать о своей матушке и представил себе, как она обрадовалась, когда вся наша деревня заговорила о геройстве ее сына. А еще я думал об императоре и о Франции, нашей милой родине, о солнечной Франции, вскормившей многих прекрасных дочерей и отважных сынов. Душа моя исполнилась ликования при мысли о том, что мы пронесли знамена Франции за много сотен лиг от ее границ. Служению ей я посвящу всю свою жизнь. Я приложил руку к сердцу и поклялся в этом, но тут гондольер вдруг навалился на меня сзади.
Когда я говорю, что он навалился на меня, то нисколько не преувеличиваю: он не просто напал, а именно обрушился на меня всей тяжестью. Гондольер, когда гребет, стоит у пассажира за спиной, на возвышении, так что его не видать, и от такого нападения никак не уберечься. Только что я сидел, исполненный самых благородных порывов, а теперь вот лежал на дне гондолы, к которому это чудовище пригвоздило меня, и не мог даже вздохнуть. Я чувствовал его горячее, яростное дыхание у себя на затылке. Он живо сорвал у меня с пояса саблю, натянул мне на голову мешок и крепко захлестнул его веревочной петлей. Я лежал на дне гондолы, беспомощный, как птичка, запутавшаяся в силке. Я не мог крикнуть, не мог пошевельнуться и был словно узел с тряпьем. Вскоре я снова услышал плеск воды и скрип весла. Этот негодяй сделал свое дело и преспокойно поплыл дальше как ни в чем не бывало, словно привык каждый день набрасывать мешок на голову гусарского полковника.
Не могу описать вам то чувство унижения и то бешенство, наполнявшее мою душу, когда я лежал там, беспомощный, как баран, которого волокут на бойню. Меня, Этьена Жерара, которому не было равных в шести бригадах легкой конницы, первого рубаку во всей Великой армии, осилил один безоружный человек, и каким образом! Но я лежал смирно, потому что всему свое время — надо знать, когда сопротивляться, а когда беречь силы. Я уже испытал хватку этого малого и знал, что перед ним я слабее ребенка. Поэтому я молча ждал своего часа, но сердце мое пылало яростью.
Долго ли я пролежал на дне гондолы, не знаю; мне показалось, что очень долго, а вода все плескалась и весло скрипело. Несколько раз мы сворачивали в сторону — я знал это, потому что слышал протяжный, тоскливый крик, которым гондольеры предупреждают друг друга о своем приближении. Наконец после долгого пути я почувствовал, как борт лодки скребнул о пристань. Гондольер трижды ударил веслом по доскам, и я услышал грохот засовов и скрежет ключа в замке. Тяжелая дверь повернулась на ржавых петлях.
— Ты привез его? — спросил чей-то голос по-итальянски.
Негодяй захохотал и пнул мешок, в котором я лежал.
— Вот получайте, — ответил он.
— Они ждут, — сказал голос. И добавил еще что-то, чего я не понял.
— Ну и берите его, — сказал гондольер.
Он подхватил меня, поднял на несколько ступеней и швырнул на твердый пол. Через мгновенье загрохотали засовы и снова раздался скрежет ключа. Я очутился в плену.
Судя по голосам и звукам шагов, меня, видимо, окружало несколько человек. Я неважно говорю по-итальянски, но понимаю куда лучше и поэтому отлично разобрал, о чем шла речь.
— Ты случайно не придушил его, Маттео?
— А хоть бы и так.
— Клянусь, ты ответишь за это перед судом.
— Но ведь его все равно казнят, верно?
— Да, но не тебе и не мне быть судьями.
— Тьфу! Да я и не думал его убивать. Мертвые не кусаются, а он, подлец, прокусил мне руку, когда я натягивал мешок ему на голову.
— Но он не двигается.
— А вы вытряхните его из мешка и сами увидите, что он живехонек.
Веревку развязали и мешок стянули у меня с головы. Зажмурившись, я неподвижно лежал на полу.
— Клянусь всеми святыми, Маттео, ты сломал ему шею.
— Ну нет. Это он в обмороке. И если не очнется, что ж, тем лучше для него.
Я почувствовал, как чья-то рука залезла мне под мундир.
— Маттео прав, — послышался голос. — Сердце у него стучит, как молот. Пускай отлежится, придет в чувство.
Я выждал минуту-другую, а потом рискнул бросить украдкой взгляд из-под опущенных ресниц. Сперва я ничего не увидел, потому что долго пробыл в темноте и теперь очутился как бы в тумане. Но вскоре я разглядел у себя над головой высокий сводчатый потолок, разрисованный разными богами и богинями. Значит, меня приволокли не просто в логово головорезов, а в вестибюль какого-то венецианского дворца. Тогда я, не шевелясь, очень медленно и осторожно оглядел людей, стоявших вокруг меня. Я увидел гондольера, этого злобного негодяя со смуглым, словно высеченным из камня, лицом и еще троих — один из них был щуплый, сутулый, начальственного вида, со связкой ключей в руке, двое других — рослые молодые слуги в щегольских ливреях. Из их разговора я понял, что щуплый — это дворецкий, и все остальные у него под началом.
Итак, их четверо — правда, щуплый дворецкий не в счет. Будь у меня оружие, я только посмеялся бы над таким превосходством сил. Но голыми руками мне невозможно справиться и с одним из них, даже если остальные трое ему не помогут. Значит, оставалось надеяться на хитрость, а не на силу. Я стал искать какого-нибудь пути к бегству и при этом чуть-чуть повернул голову. Сколь ни неприметно было это движение, оно не ускользнуло от моих врагов.
— Эй ты, очнись! — крикнул дворецкий.
— Вставай-ка, французик, — проворчал гондольер. — Слышишь, вставай. — И он снова пнул меня ногой.
Ни один приказ еще не был исполнен с такой быстротой. В мгновенье ока я вскочил и со всех ног бросился в дальний конец вестибюля. Они пустились за мной, словно английские гончие, которые как-то у меня на глазах травили лису, но я уже бежал по длинному коридору. Поворот налево, еще раз налево, и я снова очутился в вестибюле. Они уже настигали меня, и раздумывать было некогда. Я бросился было к лестнице, но по ней спускались какие-то двое. Я кинулся назад и сделал попытку открыть дверь, через которую меня втащили, но она была заложена тяжелыми засовами, которые мне не удалось отодвинуть. Гондольер бросился на меня с ножом, но я нанес ему такой удар ногой, что он упал навзничь. Нож громко звякнул о мраморный пол. Схватить его я не успел, потому что на меня накинулись сразу шестеро. Я бросился, но тут щуплый дворецкий подставил мне ножку, и я с грохотом упал, однако сразу же вскочил, вырвался из их рук, раскидал их во все стороны и бросился к двери в другом конце вестибюля. Я успел добежать до нее первым, ручка легко поддалась нажиму, и я издал торжествующий крик, потому что дверь вела наружу и путь был свободен. Но я забыл, какой это нелепый город. Там что ни дом, то остров. Я распахнул дверь и хотел уже выскочить на улицу, и тут свет из вестибюля упал на глубокую, спокойную, черную воду, которая подступала к верхней ступеньке крыльца. Я попятился, и они навалились всем скопом. Но меня так просто не возьмешь. Действуя руками и ногами, я снова вырвался, хотя один из них, стараясь удержать меня, выдрал из моей головы здоровый клок волос. Дворецкий огрел меня тяжелым ключом, я был весь избит и исцарапан, но снова расчистил себе дорогу. Я побежал вверх по широкой лестнице, распахнул одну за другой несколько больших двустворчатых дверей, которые попались на пути, и наконец увидел, что все мои усилия пропали даром.
Комната, куда я ворвался, была ярко освещена. Судя по раззолоченным карнизам, массивным колоннам, расписным стенам и потолкам, это, вероятно, была парадная зала какого-то великолепного венецианского дворца. Таких дворцов в этом странном городе не сосчитать, и в каждом есть залы, которым позавидовали бы Лувр и Версаль. Посередине было возвышение, на котором полукругом сидели двенадцать человек, одетые в черное с ног до головы будто францисканские монахи, и все, как один, в полумасках. Отряд вооруженных людей — по виду настоящих бандитов — охранял вход, а впереди, лицом к возвышению, стоял молодой человек в пехотной форме. Когда он обернулся, я узнал его. Это был капитан Оре из седьмого полка, молодой баск, с которым я в ту зиму выпил не одну бутылку вина. Он, бедняга, был бледен, как смерть, но держался среди этих палачей, как подобает мужчине. Никогда не забуду, как в его темных глазах блеснула искра надежды, когда он увидел, что в комнату ворвался товарищ, но надежда тут же сменилась отчаяньем: он понял, что я явился разделить его участь, а не изменить ее.
Можете себе представить, как удивились все эти люди, когда я вихрем влетел в залу. Преследователи мои сгрудились позади меня и отрезали путь к двери, так что теперь уж нечего было и думать о побеге. В такие вот минуты и проявляется по-настоящему мой характер. Я с достоинством подошел к судьям. Мой мундир был изорван, волосы встрепаны, голова разбита и в крови, но было в моих глазах и в моей осанке нечто, заставившее их понять, что перед ними не простой человек. Меня даже не пытались задержать, и я остановился перед величественным седобородым стариком властного вида, решив, что и по возрасту и по внешности он должен быть тут главным.
— Синьор, — сказал я, — не соблаговолите ли объяснить мне, по какому праву меня схватили и насильно привезли сюда? Я честный солдат, как и вот этот человек, и требую, чтобы нас обоих немедленно освободили.
Зловещее молчание было ответом на мои слова. Мне стало не по себе, когда двенадцать итальянцев в масках устремили на меня глаза, пылающие мстительной злобой. Но я не дрогнул, как и подобает доброму солдату, а в голове у меня невольно мелькнула мысль, что я не посрамил своим поведением чести гусар Конфланского полка. Не думаю, чтобы кто-нибудь на моем месте сумел в столь трудных обстоятельствах держаться лучше. Я бесстрашно переводил взгляд с одного палача на другого и ждал ответа.
Молчание нарушил седобородый.
— Кто этот человек? — спросил он.
— Его зовут Жерар, — ответил дворецкий из дверей.
— Полковник Жерар, — поправил я. — Не вижу причин скрывать это. Да, я Этьен Жерар, тот самый полковник Жерар, который пять раз упомянут в донесениях и представлен к награждению почетной шпагой. Я адъютант генерала Сюше и требую, чтобы меня и моего товарища немедленно освободили.
Снова то же зловещее молчание воцарилось в зале, и те же двенадцать пар беспощадных глаз устремились на мое лицо. Заговорил опять седобородый:
— Сейчас не его очередь. У нас в списке до него еще двое.
— Но он вырвался из наших рук и вломился сюда.
— Пускай ждет своей очереди. Отведите его в деревянную камеру.
— А если он будет сопротивляться, ваша светлость?
— У вас есть на то кинжал. Суд гарантирует вам безнаказанность. Уведите его, пока мы занимаемся остальными.
Они двинулись ко мне, и я подумал было о сопротивлении. Это была бы геройская смерть, но кто увидел бы ее, кто поведал бы о ней потомкам? Конечно, я мог лишь отсрочить роковой конец, и все же я побывал в стольких скверных переплетах и столько раз выходил из них невредимым, что научился надеяться и верить в свою звезду. Я позволил этим негодяям схватить меня, и мы вышли за дверь, причем гондольер не отходил от меня ни на шаг, держа наготове длинный нож. По глазам этого негодяя видно было, с каким удовольствием он всадил бы этот нож в меня, будь у него для этого малейший предлог.
Что за чудо эти огромные венецианские дома, они же дворцы, крепости и одновременно тюрьмы. Меня повели сперва по галерее, а потом вниз по каменной лестнице, и наконец мы очутились в коротком коридоре, где было три двери. Меня втолкнули в одну из них, и позади сразу же защелкнулся замок. Скупой свет проникал внутрь через зарешеченное оконце, выходившее в коридор. Почти ничего не видя, я ощупью обшарил все помещение. Из разговоров, которые я слышал, было ясно, что скоро мне снова придется выйти отсюда и предстать перед судом, но не в моем обычае пренебрегать хотя бы малейшим шансом на спасение.
Каменный пол моей камеры был сырой, а стены на несколько футов в высоту осклизлые и прогнившие, из чего я заключил, что нахожусь ниже уровня воды. Высоко под потолком я обнаружил отдушину, сквозь которую в камеру проникал свет и воздух. Я глянул вверх и увидел яркую звезду, сверкавшую прямо надо мной, и это преисполнило меня спокойствием и надеждой. Я не был слишком набожен, хоть всегда уважал искренне верующих, но мне не забыть ту ночь, когда сияющая звезда заглядывала в мое подземелье, словно всевидящее око, и я чувствовал себя робким, безусым новобранцем, который в разгаре боя ощутил на себе спокойный взгляд своего полковника.
Три стены моей темницы были каменные, а четвертая деревянная, и было ясно, что она сколочена совсем недавно. Очевидно, один большой подвал разделили деревянными перегородками на две камеры поменьше. Толстые, старинные стены, крепкая дверь, крошечное оконце — тут надеяться было не на что. Оставалась только деревянная перегородка. Конечно, я понимал, что если и проникну за нес — это, кстати, было не так уж трудно, — то попаду всего-навсего в другую камеру, не менее прочную, чем эта. Все же я всегда предпочитал действовать, чем сидеть сложа руки, и занялся деревянной стеной со всей решительностью, на какую был способен. Там были две доски, плохо пригнанные одна к другой, они держались так непрочно, что их, без сомнения, легко можно было оторвать. Я поискал подле себя какое-нибудь подходящее орудие и отломал ножку койки, стоявшей в углу. Я уже засунул ее в щель между досками, как вдруг быстрые шаги заставили меня остановиться и прислушаться.
Ах, если бы я мог забыть то, что услышал! У меня на глазах умирали на поле битвы многие сотни людей, да и сам я убил стольких, что лучше и не вспоминать, но все это было в честном бою, при исполнении воинского долга. Совсем другое дело — слышать, как человек принимает смерть в этом логове убийц. Они волокли кого-то по коридору, а он сопротивлялся и ухватился за дверь моей темницы. Видно, его втолкнули в третью камеру, самую дальнюю от меня. «Помогите! Помогите!» — закричал он, и я услышал звук удара и отчаянный вопль. «Помогите! Помогите!» — закричал он снова, а потом: «Жерар! Полковник Жерар!» Это убивали несчастного пехотного капитана. «Подлые убийцы!» — загремел я и стал колотить ногами в дверь, но тут он снова вскрикнул, и все стихло. А еще через минуту раздался громкий всплеск, и я понял, что на этом свете никто уж не увидит Оре. Он погиб, как сотни других, которых в ту зиму недосчитались на перекличке наши полки в Венеции.
В коридоре снова раздались шаги, и я подумал, что пришли за мной. Но вместо этого я услышал, как отперли дверь соседней камеры и вывели оттуда кого-то. Шаги замерли на лестнице. Тогда я снова принялся за перегородку и в какие-нибудь несколько минут так расшатал доски, что их можно было свободно вынуть и вставить на место, когда мне заблагорассудится. Через отверстие я проник в соседнюю камеру; как я и ожидал, она оказалась частью подвала, разделенного перегородкой. Это нимало не приблизило меня к моей цели, потому что здесь уже не было деревянной стены, сквозь которую я мог бы пробраться, а дверь была заперта на замок. И никаких следов, по которым я мог бы судить, кто был мой товарищ по несчастью. Я вернулся в свою камеру, вставил доски на место и, собрав все свое мужество, стал ждать вызова, который, по всей видимости, предвещал для меня смерть.
Ждать пришлось довольно долго, но вот в коридоре снова раздались шаги, и я приготовился услышать звуки еще одной отвратительной расправы и крики несчастной жертвы. Но ничего подобного не случилось, пленника ввели в камеру без борьбы. Я не успел заглянуть туда через щель, потому что в тот же миг дверь моей камеры распахнулась и вошел негодяй-гондольер вместе с другими убийцами.
— Выходи, француз, — сказал он.
Он сжимал в волосатой ручище окровавленный нож, и я прочел в его сверкавших злобой глазах, что он мечтает всадить этот нож мне в сердце и ждет только предлога. Сопротивление было бессмысленно. Я вышел без единого слова. Меня повели вверх по каменной лестнице в ту же великолепную залу, где заседал тайный суд. Когда меня впустили туда, я с удивлением увидел, что на меня никто не обращает внимания. Один из них, высокий темноволосый молодой человек, стоял перед возвышением и тихим, но идущим от самого сердца голосом упрашивал о чем-то остальных судей. Голос его дрожал от волнения, он то простирал к ним руки, то прижимал их к груди в отчаянной мольбе.
— Вы не сделаете этого! Не сделаете! — говорил он. — Я умоляю суд пересмотреть приговор!
— Отойди, брат, — сказал старик, главный среди них. — Приговор вынесен, и мы переходим к следующему делу.
— Ради всего святого будьте милосердны! — воскликнул молодой человек.
— Мы были милосердны, — отозвался тот. — Даже смерть — слишком легкая кара за такое преступление. Молчи и не мешай суду.
Я видел, как юноша в отчаянии упал на стул. Но мне недосуг было раздумывать, отчего он так сокрушается, потому что одиннадцать его собратьев уже устремили на меня суровые взгляды. Роковой миг настал.
— Вы полковник Жерар? — спросил свирепый старик.
— Да.
— Адъютант грабителя, который именует себя генералом Сюше и, в свою очередь, подчинен другому грабителю, какого не видел свет, Бонапарту?
Я едва удержался, чтобы не назвать его лжецом, но иногда лучше воздержаться от возражений.
— Я честный солдат, — сказал я. — Я повиновался приказам и выполнял свой долг.
Кровь бросилась старику в лицо, глаза яростно сверкнули из-под маски.
— Все вы воры и убийцы, все до единого! — воскликнул он. — Что вам здесь надо? Вы французы. Так и сидели бы у себя во Франции. Разве мы звали вас в Венецию? По какому праву вы здесь? Где наши картины? Где кони с Собора святого Марка? Кто вы такие, что крадете сокровища, которые наши предки собирали столько столетий? Наш город славился на весь мир, когда Франция была еще пустыней. Ваши пьяные, буйные, невежественные солдаты погубили созданное святыми и героями. Что можешь ты возразить на это?
Вид у старика был грозный, нет слов, его седая борода встала торчком от ярости, голос звучал отрывисто, как лай бешеной собаки. Я, конечно, мог бы ему возразить, что с его картинами ничего не сделается в Париже, что из-за этих коней не стоит поднимать шума, а уж героев — не говоря о святых — он может увидеть, не обращаясь к своим далеким предкам и даже не вставая с кресла. Все это я мог бы ему сказать, но это было бы все равно, что спорить с мамелюком о религии. Я пожал плечами и промолчал.
— Подсудимому нечего сказать в свое оправдание, — произнес один из судей в маске.
— Хочет ли кто-нибудь высказаться перед вынесением приговора?
Старик сверкающим взглядом обвел остальных.
— Тут есть одно обстоятельство, ваша светлость, — сказал один из них. — Конечно, касаясь его, приходится бередить раны нашего брата, но все же напоминаю вам, что есть особая причина примерно покарать этого офицера.
— Я помню об этом, — отозвался старик. — Брат, если в одном деле суд причинил тебе боль, то в другом ты получишь полное удовлетворение.
Молодой человек, который просил суд о милосердии, когда меня ввели, шатаясь встал на ноги.
— Нет, мне этого не вынести! — вскричал он. — Ваша светлость, простите меня. Я не могу больше участвовать в суде. Я болен. Я теряю рассудок.
Он в отчаянии простер руки к суду и выбежал из зала.
— Пускай уходит! Пускай! — сказал старик. — От человека из плоти и крови нельзя требовать слишком много, он не может оставаться здесь. Но он настоящий венецианец, и, когда первое отчаяние пройдет, он поймет, что иначе мы поступить не могли.
Обо мне на время забыли, и хотя я не привык, чтобы мной пренебрегали, тут я был бы рад, если бы обо мне не вспомнили подольше. Но вот старик снова сверкнул на меня глазами, словно тигр, который возвращается к своей жертве.
— Ты заплатишь за все, это будет только справедливо, — сказал он. — Ты, наглый проходимец, чужак, посмел поднять нечистый взгляд на внучку самого дожа Венеции, который уже обручил ее с наследником Лореданов. За такую честь придется заплатить дорогой ценой.
— Невозможно заплатить за то, чему нет цены, — ответил я.
— Послушаем, что ты скажешь, когда придет твой час, — сказал он. — Может статься, что спеси у тебя сильно поубавится. Маттео, отведи пленника в деревянную камеру. Сегодня понедельник. Не давай ему ни пить, ни есть, а в среду вечером пускай снова предстанет перед судом. Тогда и решим, какой смерти его предать.
Конечно, хорошего впереди было мало, но все же я получил отсрочку. Когда косматый дикарь заносит над тобой окровавленный нож, бываешь благодарен и за малое снисхождение. Он вытолкнул меня из залы, потащил вниз по лестнице и снова швырнул в ту же камеру. Щелкнул замок, и я остался наедине с собственными мыслями.
Первым делом я решил снестись со своим соседом и товарищем по несчастью. Я подождал, пока шаги не замерли вдали, потом осторожно вынул обе доски и заглянул в щель. Так как было почти совсем темно, мне удалось лишь смутно различить фигуру, съежившуюся в углу, и я услышал шепот: узник молился так горячо, как молится человек, охваченный смертельным страхом. Должно быть, доски скрипнули. Послышался удивленный возглас.
— Мужайся, друг мой, мужайся! — воскликнул я. — Не все еще потеряно. Не падай духом, ибо с тобой Этьен Жерар.
— Этьен! — Голос был женский, и он прозвучал для меня как музыка. Я мигом протиснулся в щель и обнял девушку.
— Лючия! Лючия! — воскликнул я.
Несколько минут только и слышно было, что «Этьен!» да «Лючия!», ведь в такие минуты не до разговора. Она опомнилась первая.
— Ах, Этьен, они тебя убьют. Как ты попал к ним в руки?
— Я получил твою записку.
— Но я не писала никакой записки.
— Коварные дьяволы! Ну, а ты?
— Я тоже получила записку от тебя.
— Лючия, да ведь и я не писал записки.
— Значит, они поймали нас обоих на одну удочку.
— О себе я не беспокоюсь, Лючия. К тому же мне сейчас ничто и не грозит. Они просто снова посадили меня сюда.
— Этьен, Этьен, они тебя убьют! Ведь там Лоренцо.
— Это кто, старик с седой бородой?
— Нет, нет, молодой, черноволосый. Он любил меня, и я тоже думала, что люблю его, пока… пока не узнала, что такое настоящая любовь, Этьен. Он не простит тебе этого. У него сердце из камня.
— Пусть делают что хотят. Они не в силах отнять у меня прошлого, Лючия. Но ты… Что будет с тобой?
— Да ведь это совсем не страшно, Этьен. Мгновенная боль — и все кончено. Они хотят заклеймить меня позором, мой дорогой, но я приму это как венец чести, ведь я принимаю его благодаря тебе.
От этих слов кровь заледенела у меня в жилах. Все превратности моей судьбы были ничто по сравнению с этой ужасной тенью, которая вдруг омрачила мою душу.
— Лючия! Лючия! — воскликнул я. — Сжалься, скажи мне, что задумали эти душегубы! Скажи же, Лючия! Скажи!
— Нет, Этьен, не скажу, потому что тебе это причинит гораздо большую боль, чем мне. Ну, ладно, ладно, скажу, а то ты бог весть что подумаешь. Старый судья приказал отрезать мне ухо, чтобы навеки заклеймить за любовь к французу.
Ее ухо! Крошечное, милое ушко, которое я так часто целовал. Я по очереди коснулся бархатистых раковинок и убедился, что кощунство еще не совершено. Только через мой труп они это сделают. Я поклялся в этом перед ней сквозь стиснутые зубы.
— Не беспокойся, Этьен. Но все же я рада, что ты беспокоишься обо мне.
— Эти дьяволы не тронут тебя!
— Есть еще надежда, Этьен. Там Лоренцо. Он молчал во время суда, но, может быть, просил о милосердии, когда меня увели.
— Да, просил. Я сам слышал.
— И, может быть, сердца их смягчились.
Я знал, что это не так, но как было сказать ей? Однако напрасно старался я скрыть правду, — с женской проницательностью она прочла мои мысли.
— Ну, конечно, они не стали его и слушать! Мой дорогой, говори прямо, не бойся. Увидишь, что я достойна любви такого героя, как ты. Где Лоренцо?
— Он ушел из залы.
— Может быть, он вообще покинул этот дом?
— Кажется, да.
— Значит, он предоставил меня моей судьбе. Ой, Этьен, они уже идут!
Я услышал в отдалении роковые шаги и позвякивание ключей. Зачем они шли сюда теперь, когда некого было уже тащить на суд? Им оставалось сделать только одно: привести в исполнение приговор над моей возлюбленной. Я встал между ней и дверью, готовый драться, как лев. Я решил, что разнесу весь дом, но не дам к ней прикоснуться.
— Уходи! Уходи, Этьен! — вскричала она. — Они убьют тебя. А мне по крайней мере смерть не грозит. Если любишь меня, Этьен, уходи. Это совсем не страшно. Я не издам ни звука. Ты ничего и не услышишь.
Она, это нежное существо, схватила меня и — откуда только у нее взялись силы — подтащила к щели в перегородке. Вдруг в голове у меня сверкнула новая мысль.
— Еще можно спастись, — шепнул я ей. — Живо, делай, что я тебе скажу, и не спорь. Лезь в мою камеру. Скорей!
Я втолкнул ее в щель и помог ей поставить доски на место. Плащ ее я удержал в руках и, завернувшись в него, забился в самый темный угол камеры. Я уже лежал там, когда дверь отворилась и вошли несколько человек. Я надеялся, что они пришли без фонаря, как и в прошлый раз. Я казался им лишь темным пятном в углу.
— Принесите огня, — сказал один.
— На кой он нам черт! — воскликнул грубый голос, и я узнал этого негодяя Маттео. — Такое дело мне не по нутру, и чем меньше я буду видеть, тем лучше. Мне очень жаль, синьора, но приговор суда надо привести в исполнение.
Первым моим порывом было вскочить на ноги, раскидать их и выбежать в открытую дверь. Но как тогда помочь Лючии? Допустим, мне удастся вырваться, но она останется у них в руках, пока я не приведу помощь, — ведь в одиночку нечего и надеяться освободить ее. Все это мгновенно промелькнуло у меня в голове, и я понял, что мне остается лишь одно — лежать смирно, покориться судьбе и ждать своего часа. Грубая рука негодяя ощупала мои волосы, которые до тех пор гладили лишь женские ручки. Вот он схватил меня за ухо, и все мое тело пронзила нестерпимая боль, словно меня жгли каленым железом. Я закусил губу, чтобы не закричать, и почувствовал, как по шее и по спине струится теплая кровь.
— Ну вот, слава богу, все кончено, — сказал гондольер, дружески потрепав меня по голове. — Вы храбрая девушка, синьора, этого нельзя не признать, жаль только, что у вас такой дурной вкус и вы полюбили француза. Так что вините его, а не меня.
Мне ничего не оставалось, кроме как лежать тихо, стиснув зубы от бессильной досады. Но, как всегда, мою боль и ярость успокоила мысль, что я пострадал ради любимой женщины. Мужчины имеют обыкновение говорить дамам, что были бы счастливы претерпеть ради них любую боль, мне же выпала честь доказать, что это не пустые слова. И еще я подумал, как благородно будет выглядеть этот мой поступок, если когда-нибудь про него узнают, и как будет гордиться Конфланский полк своим командиром. Эта мысль помогла мне перенести страдания, не издав ни звука, а кровь все текла у меня по шее, и слышно было, как она капала на каменный пол. Этот звук чуть не погубил меня.
— Она истекает кровью, — сказал один из слуг. — Надо позвать доктора, не то утром вы найдете ее мертвой.
— Что-то она не шевелится и даже не пикнула, — сказал другой. — Наверное, не пережила такого потрясения.
— Вздор! Молодую женщину не так-то просто убить. — Это был голос Маттео. — И отхватил-то я самую малость, только чтобы видно было клеймо. Вставайте, синьора, вставайте!
Он тряхнул меня за плечо, и сердце мое упало, я боялся, что он нащупает под плащом эполет.
— Ну как вы себя чувствуете? — спросил он.
Я не отвечал.
— Проклятие! Куда лучше иметь дело с мужчиной, чем с женщиной, да еще с первой красавицей в Венеции, — сказал гондольер. — Эй, Николас, дай-ка мне носовой платок да принеси фонарь.
Все пропало. Случилось самое худшее. Теперь уж ничто не могло меня спасти. Я по-прежнему лежал, съежившись, в углу, но весь напрягся, как дикая кошка, готовая к прыжку. Уж если умирать, решил я, так пусть мой конец будет достоин славной жизни, которую я прожил.
Один из них ушел за фонарем, а Маттео стоял, склонившись надо мной, с платком в руке. Еще мгновенье, и тайна моя будет раскрыта. Вдруг он выпрямился и словно окаменел. В тот же миг через оконце под потолком донесся невнятный шум. Это был плеск весел и гул многих голосов. Потом наверху раздались громкие удары в дверь, и грозный голос загремел:
— Откройте! Откройте! Именем императора!
Император! Это слово было подобно святому имени, которое одним звуком своим может обратить в бегство дьяволов. Все бросились наутек, испуская крики ужаса: Маттео, слуги, дворецкий, вся эта шайка убийц. Снова грозный окрик, потом удар топора и треск разрубаемых досок. В прихожей раздались бряцание оружия и громкие голоса французских солдат. Еще мгновенье, и какой-то человек, промчавшись по лестнице, ворвался ко мне в камеру.
— Лючия! — вскричал он. — Лючия!
Он стоял в тусклом свете, тяжело дыша, и не находил слов. Наконец он взволнованно заговорил:
— Теперь ты видишь, Лючия, как я люблю тебя? Что еще мог я сделать в доказательство своей любви? Я предал свою родину, нарушил клятву, погубил друзей и пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти тебя.
Это был молодой Лоренцо Лоредан, у которого я отнял невесту. В ту минуту мне стало жаль его, но в конце концов ведь в любви каждый стоит за себя, и если кто несчастлив, пусть утешается, что он побежден благородным и великодушным соперником. Я хотел было сказать ему это, но не успел слова вымолвить, как он испустил удивленный возглас, выбежал за дверь, схватил фонарь, висевший в коридоре, и осветил мое лицо.
— Так это ты, негодяй! — воскликнул он. — Ты, развратник! Ты заплатишь мне за все зло, которое причинил.
Но тут он заметил бледность моего лица и кровь, которая все не унималась.
— Что это? — спросил он. — Каким образом вы лишились уха?
Я пересилил свою слабость и, зажав рану платком, встал на ноги, беспечный и веселый, как и подобает гусарскому полковнику.
— Это пустяк, царапина. С вашего позволения не станем говорить об этом, тем более, что дело сугубо личное.
Но тут из соседней камеры вбежала Лючия и, схватив Лоренцо за руку, рассказала все как было.
— Этот благородный человек занял мое место, Лоренцо! Он все перенес ради меня. И пострадал, чтобы меня спасти.
Я понимал борьбу чувств, которая отразилась на лице итальянца. Наконец он протянул мне руку.
— Полковник Жерар, — сказал он, — вы достойны истинной любви. Я прощаю вас, ибо если вы причинили мне зло, то искупили его своим благородным поступком. Но я удивлен, что вижу вас в живых. Я покинул суд до вынесения приговора, но знал, что ни одному французу нечего надеяться на снисхождение с тех пор, как погибли сокровища Венеции.
— Он в этом не повинен! — воскликнула Лючия. — Это благодаря ему целы сокровища в нашем дворце.
— Во всяком случае, одно из них, — сказал я, наклонился и поцеловал ей руку.
Вот при каких обстоятельствах, друзья мои, я лишился уха. Лоренцо нашли с ножом в сердце на площади св. Марка через два дня после этой бурной ночи. Из числа судей и их гнусных пособников Маттео и еще трое были расстреляны, остальные высланы из города. Лючия, милая моя Лючия, ушла в монастырь в Мурано, когда французские войска оставили город, там она, верно, живет и поныне, стала, я думаю, доброй аббатисой и давным-давно забыла те дни, когда наши сердца бились так дружно и весь мир казался таким ничтожным по сравнению с любовью, пылавшей в нашей крови. А может быть, это и не так. Может быть, она ничего не забыла. Как знать, а вдруг безмятежный монастырский покой нарушают иногда воспоминания о старом солдате, который любил се в те далекие дни! Юность прошла, страсть угасла, но душа благородного человека остается неизменной, и Этьен Жерар готов снова склонить перед этой женщиной седую голову и с охотой лишиться ради нее второго уха.
II. Как бригадир взял Сарагоссу
А рассказывал ли я вам когда-нибудь, друзья мои, при каких обстоятельствах довелось мне вступить в гусарский Конфланский полк во времена осады Сарагоссы и про тот замечательный подвиг, который я совершил, когда мы брали этот город приступом? Нет? Право, об этом стоит послушать. Сейчас я расскажу вам все, как было. Вы будете первые, кто про это услышит, кроме разве нескольких мужчин да двух-трех десятков женщин.
Итак, надо вам знать, что я служил сперва лейтенантом, а потом капитаном во втором гусарском полку, который именовался Шамберанским. Мне тогда едва исполнилось двадцать пять лет, и я был безрассудным и отчаянным, как все солдаты нашей Великой армии. В то время война в Германии уже прекратилась, а в Испании еще шла вовсю, и император, желая укрепить там армию, перевел меня в чине капитана в гусарский Конфланский полк, который в то время действовал в составе Пятого армейского корпуса под командованием маршала Ланна.
Путь от Берлина до Пиренеев не близкий. Мой новый полк был среди войск, которые во главе с маршалом Ланном осаждали в то время испанский город Сарагоссу. Я направил коня к этому городу и примерно через неделю был уже в нашей главной штаб-квартире, где мне указали дорогу в расположение Конфланского полка.
Вы, без сомнения, читали о знаменитой осаде Сарагоссы, и я скажу только, что ни перед одним генералом не стояла еще такая трудная задача, как тогда перед маршалом Ланном. Огромный город был переполнен испанцами — солдатами, крестьянами, священниками, — и все пылали самой что ни на есть отчаянной ненавистью к французам и самой ярой решимостью умереть, но не сдаться. Город защищало восемьдесят тысяч человек, а осаждающих было всего тридцать тысяч. Зато у нас была мощная артиллерия, и наши саперы не имели себе равных. Такой осады еще не видел свет, ведь обычно, когда стены взяты, город сдается, а здесь только, когда мы взяли штурмом стены, и началась настоящая битва. Каждый дом превратился в бастион, каждая улица — в поле боя, и нам приходилось медленно, день за днем, прокладывать себе путь вперед, взрывая дома вместе с их защитниками, пока больше половины города не было разрушено. Но вторая половина по-прежнему не сдавалась, и защищаться там было легче, потому что она сплошь состояла из огромных монастырей со стенами не хуже, чем у Бастилии, которые не так-то легко было убрать с пути. Так обстояли дела, когда я прибыл в армию.
Скажем прямо, от кавалерии при осаде города не много пользы, хотя было время, когда я никому не позволил бы произнести эти слова безнаказанно в моем присутствии. Конфланский полк расположился к югу от города, в его задачу входило патрулировать окрестности и не допускать продвижения испанцев в этом направлении. Командир плохо знал свое дело, и у гусар не было того боевого духа, которым полк отличался потом. Уже в первый вечер я пришел в ужас, и было от чего: ведь я приучен к образцовому порядку и не мог без душевной боли видеть плохо устроенный бивак, неухоженную лошадь или расхлябанного кавалериста. В тот вечер я ужинал вместе с двадцатью шестью офицерами своего нового полка и, боюсь, переусердствовал, слишком ясно дав им понять, что у них по части порядка далеко до того, к чему я привык, сражаясь в Германии. После моих слов за столом наступило молчание, и я, поймав на себе их взгляды, понял свою бестактность. Полковник был в ярости, а майор, по фамилии Оливье, первый дуэлянт в полку, сидевший прямо напротив меня, подкручивал большие черные усы и пожирал меня глазами. Однако я не вспылил, поскольку чувствовал, что действительно был нескромен, и если еще в первый же вечер поссорюсь с офицером, который старше меня чином, это произведет дурное впечатление.
Итак, я допускаю, что был неправ, но слушайте дальше. После ужина полковник и некоторые офицеры вышли из комнаты — мы ужинали в крестьянском доме. Осталось с десяток офицеров, и так как принесли меха с испанским вином, все мы развеселились. И тогда этот Оливье задал мне несколько вопросов насчет нашей армии в Германии и моего участия в кампании. Разгоряченный вином, я так и сыпал всякими историями. Что ж тут удивительного, друзья мои? Я уверен, вы меня поймете. Там я был образцом для офицеров своего поколения во всей армии. Я был первым рубакой, самым отчаянным кавалеристом, героем сотни приключений. Здесь же не только не знали про мою славу, но и смотрели на меня косо. Мудрено ли, если мне хотелось показать этим храбрецам, что за человека к ним прислали? Мудрено ли, если мне хотелось сказать: «Радуйтесь, друзья, радуйтесь! Сегодня к вам прибыл не кто-нибудь, а я, собственной персоной, сам Жерар, герой Ратисбона, покоритель Йены, человек, который прорвал каре при Аустерлице!». Но я не мог так прямо им сказать это. И я пустился вспоминать разные боевые случаи, чтобы они сами это мне сказали. И что же? Они слушали меня с полнейшим равнодушием. Увлекшись, я рассказал им, как провел армию через Дунай, и тут грянул дружный смех. Я вскочил, красный от стыда и бешенства: я попался на их удочку! Они, оказывается, потешались надо мной. Они были уверены, что имеют дело с хвастуном и лжецом. Неужто мне суждено быть принятым так конфланскими гусарами? На глазах у меня выступили слезы обиды, а они, видя это, захохотали еще громче.
— Скажите-ка, капитан Пеллетан, что, маршал Ланн все еще командует армией? — спросил майор.
— Насколько мне известно, да, — отвечал капитан.
— Право, я готов был подумать, что теперь, когда прибыл капитан Жерар, в его присутствии едва ли есть необходимость.
Снова грянул смех. Как сейчас, вижу все эти лица, эти насмешливые глаза, разинутые рты — Оливье с его длинными черными усами, худого и насмешливого Пеллетана, — даже юные подпоручики и те корчились от смеха. Боже, какое унижение! От ярости слезы высохли у меня на глазах. Я снова стал самим собой, холодным, спокойным, замкнутым, снаружи лед, а внутри пламя.
— Позволено ли мне будет спросить вас, сударь, — обратился я к майору, — в котором часу состоится утренний сбор полка?
— Надеюсь, капитан Жерар, вы не намерены изменить распорядок? — сказал он, и снова раздался взрыв смеха, который, однако, сразу стих, когда я огляделся вокруг.
— В котором часу сбор? — резко спросил я у капитана Пеллетана.
У него уже готов был вырваться насмешливый ответ, но мой взгляд заставил его прикусить язык.
— В шесть, — ответил он.
— Благодарю вас, — сказал я.
Потом я пересчитал присутствующих и обнаружил, что имею дело с четырнадцатью офицерами, двое из которых были юнцы прямо из Сен-Сира[4]. Им можно было простить их неучтивость. Оставались майор, четыре капитана и семь поручиков.
— Господа, — сказал я, переводя взгляд с одного на другого. — Я буду чувствовать себя недостойным этого славного полка, если не потребую у вас удовлетворения за вашу грубость, и буду считать вас недостойными его, если вы под каким-либо предлогом мне откажете.
— Ну, тут у вас не будет никаких затруднений, — заявил майор. — Я готов забыть о своем чине и дать вам любое удовлетворение от имени конфланских гусар.
— Премного благодарен, — отвечал я. — Но я требую того же и от всех остальных офицеров, которые надо мной смеялись.
— С кем вы хотите драться? — спросил капитан Пеллетан.
— Со всеми, — отвечал я.
Они удивленно переглянулись. Потом отошли в другой конец комнаты и стали шептаться. Они смеялись. Видимо, все еще думали, что имеют дело с жалким хвастуном. Наконец они вернулись.
— Ваша просьба несколько необычна, — сказал майор Оливье, — но она будет удовлетворена. Как предлагаете вы вести такую дуэль? Мы предоставляем вам назвать условия.
— Будем рубиться на саблях, — ответил я. — И начну я по старшинству с вас, майор Оливье, ровно в пять часов. Таким образом, до сигнала трубы я успею уделить каждому по пяти минут. Однако должен просить вас назначить место встречи, поскольку я незнаком с окрестностями.
Моя холодная деловитость произвела на них впечатление. Улыбок на их губах как не бывало. Лицо Оливье стало уже не насмешливым, а мрачным и суровым.
— За коновязями есть небольшая поляна, — сказал он. — Мы там уже улаживали дела чести, и все проходило как нельзя лучше. Будем ждать вас там, капитан Жерар, в назначенный вами час.
Я уже наклонил голову в знак благодарности за это согласие, как вдруг дверь распахнулась и быстрым шагом вошел взволнованный полковник.
— Господа, — сказал он, — мне поручено найти среди вас добровольца для дела, сопряженного с величайшей опасностью. Не скрою, дело это весьма и весьма серьезное, и маршал Ланн решил послать кавалерийского офицера, потому что кавалеристы не так нужны ему, как пехотинцы или саперы. Семейных приказано не брать. Итак, кто из остальных вызовется добровольцем?
Незачем и говорить, что все холостые офицеры сделали шаг вперед. Полковник оглядел их в некотором замешательстве. Я понимал его затруднение. Пойти должен был лучший из лучших, и в то же время этот лучший был ему особенно необходим.
— Господин полковник, — сказал я, — позвольте мне высказать предложение?
Полковник бросил на меня неприязненный взгляд. Он не забыл моих замечаний за ужином.
— Говорите! — сказал он.
— Обращаю ваше внимание на то, господин полковник, что это задание должен выполнить я и по праву и по соображениям целесообразности.
— Но почему же, капитан Жерар?
— По праву потому, что мой чин обязывает меня к этому, а по соображениям целесообразности потому, что если я не вернусь, это не будет утратой для полка, где меня еще никто не знает.
На лице полковника выразилось облегчение.
— Вы совершенно правы, капитан Жерар, — сказал он. — Мне кажется, вы в самом деле лучше всех подходите для этого дела. Следуйте за мной, я передам вам приказ.
Я простился со своими новыми товарищами и, уходя, повторил, что буду к их услугам утром в пять часов. Они молча поклонились, и по выражению их лиц я мог заключить, что они начинают более справедливо судить о моем характере.
Я ожидал, что полковник сразу объяснит мне суть дела, но он шел молча, и я следовал за ним. Мы прошли через весь лагерь, потом через окопы, мимо груд каменных обломков, оставшихся от городской стены. Дальше начался лабиринт ходов, проложенных среди развалин домов, взорванных саперами. Огромное пространство было усыпано обломками стен и кирпичом, а ведь когда-то здесь было густонаселенное городское предместье. Ходы тянулись во все стороны, на углах висели фонари с надписями, указывавшими направление. Полковник быстро шагал вперед, и вот, наконец, впереди выросла высокая серая стена, которая тянулась прямо поперек нашего пути. Здесь, под прикрытием баррикады, расположились наши передовые посты. Полковник ввел меня в дом с сорванной крышей, и я увидел там двух генералов — стоя на коленях у барабана, на котором была разложена карта, они внимательно рассматривали ее при свете фонаря. Один, гладко выбритый, со скрюченной шеей, был маршал Ланн, другой — генерал Разу, который командовал саперами.
— Вот капитан Жерар, он вызвался добровольцем, — сказал полковник.
Маршал Ланн встал с колен и пожал мне руку.
— Вы храбрец, — сказал он. — Вот, возьмите, этот подарок приготовлен для вас, — добавил он, протягивая мне тоненькую стеклянную трубочку. — Доктор Фарде специально составил яд. Если не будет другого выхода, вам довольно положить его в рот — смерть наступает мгновенно.
Начало было многообещающее. Признаться, друзья мои, по спине у меня пополз холодок, а волосы на голове встали дыбом.
— Прошу прощения, — сказал я, отдавая честь. — Я понимаю, что вызвался на очень опасное дело, но мне еще не сообщили, в чем оно состоит.
— Полковник Перрен, — строго сказал Ланн. — Это несправедливо: вы позволили этому храбрецу вызваться добровольцем, а он не знает даже, какие опасности его ждут.
Но я уже снова стал прежним Жераром.
— Ваше превосходительство, — сказал я, — да позволено мне будет заметить, что чем больше опасность, тем больше и слава, и мне придется только пожалеть, что я вызвался добровольцем, если окажется, что никакого риска нет.
Это были благородные слова, и выражение моего лица подкрепляло их. Вид у меня в тот миг был геройский. Я почувствовал на себе восхищенный взгляд Ланна и с восторгом подумал, что блестяще начинаю свою службу в Испании. Если бы я погиб в ту ночь, то обессмертил бы свое имя. Новые и старые товарищи, которые ни в чем другом не могли бы столковаться, единодушно отдали бы дань любви и восхищения Этьену Жерару.
— Генерал Разу, разъясните обстановку! — коротко приказал Ланн.
Командующий саперами встал, держа циркуль в руке. Он подвел меня к двери и указал на высокую серую стену, которая высилась среди развалин.
— Вон там проходит теперь вражеская линия обороны, — сказал он. — Это стена большого монастыря Мадонны. Если нам удастся взять его приступом, город падет, но они заложили вокруг монастыря контрмины, а стены такие толстые, что пробить их артиллерийским огнем невероятно трудно. Однако нам стало известно, что в одном из подвалов противник устроил большой пороховой склад. Если его удастся взорвать, путь нашим войскам будет свободен.
— А как туда пробраться? — спросил я.
— Сейчас объясню. У нас есть в городе свой человек по имени Юбер. Этот смельчак поддерживал с нами регулярную связь и обещал взорвать склад. Он должен был сделать это ранним утром, и вот уже два дня штурмовой отряд из тысячи гренадеров ждет, пока будет пробита брешь. Но взрыва не было, и эти два дня мы не имеем никаких вестей от Юбера. Судьба его нам неизвестна.
— Значит, я должен пойти туда и все выяснить?
— Совершенно верно. Может быть, он заболел, или ранен, или убит? Ждать ли нам взрыва или же предпринять наступление в каком-нибудь другом месте? Мы не можем решить это, пока не узнаем, что с ним сталось. Вот план города, капитан Жерар. Как видите, за этим кольцом монастырей лежат улицы, которые сходятся к главной площади. Если вы доберетесь до площади, то увидите на одном из ее углов собор. Он стоит на углу улицы Толедо. Юбер живет в маленьком домике между мастерской сапожника и винной лавкой, по правую руку, если идти от собора. Вам все ясно?
— Вполне.
— Вы найдете его дом, поговорите с Юбером и узнаете, осуществим ли еще наш план или же придется отказаться от него. — Он протянул мне сверток грязной материи. — Вот облачение францисканского монаха, — сказал он. — Это самая удобная одежда.
Я попятился.
— Не хочу быть шпионом! — воскликнул я. — Нет уж, пойду в мундире.
— Это невозможно! Как надеетесь вы пройти по улицам? И, кроме того, вспомните, что испанцы пленных не берут, и вас постигнет одинаковая судьба, в какой бы одежде вы ни были.
Это была правда, я уже достаточно долго пробыл в Испании и знал, что судьба эта будет похуже смерти. Я напялил на себя монашескую одежду.
— Я готов.
— У вас есть оружие?
— Сабля.
— Они могут услышать звяканье. Вот, возьмите этот нож, а саблю оставьте здесь. Скажите Юберу, что в четыре часа, перед рассветом, штурмовой отряд снова будет наготове. У двери ждет сержант, он укажет вам дорогу в город. До свиданья и желаю удачи!
Когда я выходил из комнаты, треуголки обоих генералов уже снова склонились над картой. У двери меня ждал унтер-офицер инженерных войск. Я подпоясался и, сняв кивер, натянул на голову капюшон. Шпоры я тоже снял и молча последовал за своим проводником.
Двигаться приходилось с большой осторожностью, так как на стенах у нас над головами стояли испанские часовые, которые то и дело обстреливали наши передовые посты.
Прячась в тени высокой монастырской стены, мы медленно и осторожно пробирались меж грудами развалин, пока не дошли до большого каштана. Здесь сержант остановился.
— На это дерево нетрудно залезть, — сказал он. — Проще, чем по веревочной лестнице. Полезайте, и вы увидите, что с верхней ветки можно перебраться на крышу вон того дома. Оттуда вас поведет ваш ангел-хранитель, потому что я больше ничем не могу помочь.
Я послушался совета и, подоткнув полы тяжелой коричневой рясы, влез на дерево. Серп месяца ярко светил, и силуэты крыши четко выделялись на лиловом, усыпанном звездами небе. Дерево стояло в тени дома. Я медленно перебирался с ветки на ветку, пока не долез почти до самой верхушки. Оставалось только проползти по какому-нибудь толстому суку, чтобы очутиться за стеной. Вдруг я услышал шаги, прижался к стволу и постарался слиться с ним в полутьме. Кто-то шел по крыше в мою сторону. Я увидел темную фигуру — человек крался, пригнувшись, вытянув шею, держа ружье наперевес. Поведение его было необычайно настороженным. Несколько раз он останавливался, потом шел дальше и наконец очутился у парапета в нескольких шагах от меня. Здесь он встал на колени, прицелился и выстрелил.
Я был до того поражен этим внезапным грохотом у себя под самым носом, что чуть не свалился с дерева. В первый миг мне даже показалось, что он ранил меня. Но вот внизу послышался громкий стон, а испанец перегнулся через парапет и захохотал, и тогда я понял, что произошло. Стонал бедняга сержант, который все это время оставался внизу, ожидая, когда я доберусь до крыши. Испанец увидел его под деревом и выстрелил. Вы можете подумать, что он был метким стрелком, но эти люди вооружены «трабукос», или мушкетонами, которые набивают камнями и кусочками металла, и им попасть в человека так же легко, как мне в фазана, сидящего на ветке. Испанец стоял, вглядываясь в темноту; внизу опять раздался стон. Испанец огляделся — вокруг было тихо и спокойно. Возможно, он подумал, что хорошо бы прикончить этого проклятого француза, а может, собирался обшарить его карманы, — каковы бы ни были его побуждения, он положил ружье, пригнулся и прыгнул на дерево. В тот же миг я всадил в него нож, и он, ломая ветки, с громким треском полетел вниз и шлепнулся на землю. Я услышал шум короткой борьбы и французские ругательства. Раненый сержант отомстил за себя.
Несколько минут я не смел шелохнуться, мне все казалось, что шум непременно кто-нибудь слышал. Однако все было тихо, только колокола в городе отбивали полночь. Я прополз по ветке и перелез на крышу. Там лежало ружье испанца, но мне от этого не было толку, так как пороховница осталась у него на поясе. В то же время я знал, что, если ружье найдут, это насторожит врагов, и счел за благо перебросить его через стену. Потом я огляделся, раздумывая, как бы спуститься с крыши.
Было совершенно ясно, что проще всего спуститься тем же путем, каким сюда поднялся этот испанец, а как он это сделал, выяснилось очень скоро. На крыше раздался оклик: «Мануэло! Мануэло!» Он повторился несколько раз, и я, съежившись в тени, увидел при свете луны бородатую голову, которая высунулась из слухового окна.
Не получив ответа, бородач вылез на крышу, а за ним еще трое, все вооруженные до зубов. Вот видите, как важно не пренебрегать никакими, даже самыми мелкими предосторожностями: ведь оставь я на месте ружье испанца, они стали бы искать его самого и наверняка обнаружили бы меня. А так патруль, не найдя своего часового, без сомнения, решил, что тот пошел дальше по крышам. Они поспешили следом за ним, а я, едва они повернулись ко мне спиной, бросился к окну и спустился по лестнице вниз. Дом оказался пустым, я прошел его весь из конца в конец и через открытую дверь вышел на улицу.
Это была узкая, пустынная улочка, но она выходила на другую, пошире, где горели костры, вокруг которых спало много солдат и крестьян. В городе стоял такой ужасный смрад, что можно было только удивляться, как здесь живут люди: ведь осада длилась уже много месяцев, а они ни разу даже не пытались очистить улицы или похоронить мертвых. Многие переходили от костра к костру, и среди них я увидел нескольких монахов. Убедившись, что они ходят свободно и никто не задает им никаких вопросов, я собрался с духом и быстро зашагал в сторону большой площади. Один раз какой-то человек, лежавший у костра, вскочил и схватил меня за рукав. Он указал на женщину, неподвижно лежавшую на мостовой, и я понял, что она умирает и он просит напутствовать ее перед кончиной. Я постарался отделаться немногими латинскими фразами, которые еще помнил. «Ora pro nobis[5], — пробормотал я из-под капюшона. — Te deum laudamus[6]. Ora pro nobis». При этом я поднял руку и указал вперед. Он выпустил мой рукав и молча отступил, а я, сделав торжественный жест, поспешил дальше.
Как я и ожидал, широкий бульвар вел на главную площадь, где было полно войск и ярко пылали костры. Я быстро шел вперед, и хотя несколько раз со мной заговаривали какие-то люди, я не обратил на них внимания. Я миновал собор и пошел по улице, о которой мне было сказано. В этой части города, удаленной от наших позиций, войск не было, и вокруг царила темнота — разве только изредка в каком-нибудь окне мелькнет свет. Я без труда нашел нужный дом между винной лавкой и сапожной мастерской. Окна не светились, и дверь была закрыта. Я осторожно дернул ручку, и она подалась. Неизвестно было, кто там внутри, но приходилось рисковать. Я отворил дверь и вошел.
Темно было — хоть глаз выколи, тем более, что я прикрыл за собой дверь. Я ощупью нашарил стол. Потом остановился, не зная, что делать дальше, как узнать что-нибудь о хозяине этого дома. Малейшая оплошность не только стоила бы мне жизни, но и означала бы провал всего дела. Может быть, он живет не один. Может, он только снимает комнату у какого-нибудь семейного испанца и мой приход для него равносилен смерти, так же как и для меня. Не часто в своей жизни бывал я так растерян. И вдруг кровь заледенела у меня в жилах. Над самым ухом у меня раздался тихий голос, да, да, голос. «Mon Dieu! — простонал кто-то, и в этих словах звучала смертная мука. — Oh, Mon Dieu! Mon Dieu!»[7]. Потом в темноте раздались глухие рыдания, и все снова стихло.
Этот голос привел меня в ужас, но вместе с тем в душе моей блеснула надежда: ведь то был голос француза.
— Кто здесь? — спросил я.
Послышался стон, но ответа не было.
— Это вы, мсье Юбер?
— Да, да, — прошептал голос так тихо, что я едва мог его расслышать. — Воды, ради всего святого, воды!
Я пошел на голос, но уперся в стену. Снова послышался стон, на этот раз, без сомнения, у меня над головой. Я поднял руки, но не нащупал ничего, кроме пустоты.
— Где вы? — воскликнул я.
— Здесь! Здесь! — прошептал этот странный, дрожащий голос. Я принялся шарить по стене и нащупал голую ногу. Она была на уровне моего лица, но, насколько я мог понять, висела без всякой опоры. Я в изумлении отпрянул. Потом достал из кармана кремень с трутом и высек огонь. При первой вспышке мне показалось, что человек парит передо мной в воздухе, и от удивления я выронил кремень. Потом я снова дрожащей рукой ударил стальным кресалом по кремню, и на этот раз зажег не только трут, но и вощеную бумагу. Я поднял ее над головой и увидел такое, что перестал удивляться, и теперь единственным чувством, наполнявшим меня, был ужас.
Человек был распят на стене, как распинают крестьяне ласку на двери курятника. Руки и ноги его пронзали огромные железные штыри. Бедняга был в предсмертной агонии, его голова свесилась на плечо, а почерневший язык вывалился изо рта. Он умирал от ран и от жажды, а эти бесчеловечные негодяи поставили перед ним на столе чашу с вином, чтобы усугубить его страдания. Я поднес чашу к его губам. У него хватило сил сделать несколько глотков, и глаза его несколько оживились.
— Вы француз? — прошептал он.
— Да. Меня послали выяснить, что с вами сталось.
— Они узнали, кто я. И предали меня казни. Но перед смертью я расскажу вам все, что знаю. Умоляю, еще глоток вина! Скорей же, скорей! Мне немного осталось жить. Силы покидают меня. Слушайте! Порох хранится в келье матери-настоятельницы. В стене уже просверлено отверстие, и конец шнура выведен в келью сестры Анхелы, что рядом с часовней. Все было готово еще два дня назад. Но они перехватили донесение и стали меня пытать.
— Боже правый! Неужели вы висите здесь целых два дня?
— Эти дни показались мне годами. Товарищ, скажи, ведь я послужил Франции верой и правдой? Тогда окажи мне одну маленькую услугу. Всади мне нож в сердце, дорогой друг! Заклинаю тебя всем святым, положи конец моим страданиям.
Действительно, состояние его было безнадежным и милосерднее всего было бы выполнить его просьбу. И все же я не мог хладнокровно всадить в него нож, хотя знал, что на его месте я сам молил бы о смерти, как о милосердии. И вдруг я вспомнил, что в кармане у меня яд, действующий мгновенно и безболезненно. Этот яд должен был избавить от пыток меня самого, но несчастный Юбер нуждался в нем самым отчаянным образом и достойно послужил Франции. Я достал пузырек и вылил его содержимое в чашу с вином. Я уже подносил чашу к его губам, как вдруг услышал снаружи бряцание оружия. В мгновенье ока я погасил свет и притаился за шторой. Дверь распахнулась, и в дом ввалились двое испанцев, свирепые, смуглолицые, в гражданской одежде, но с ружьями за плечами. Я смотрел на них сквозь щель меж за занавесками, дрожа при мысли, что они напали на мой след, но было ясно, что они пришли просто для того, чтобы насладиться страданиями моего несчастного соотечественника. Один из них поднес фонарь, который держал в руках, к лицу умирающего, и оба громко, злорадно захохотали. Потом взгляд того, что держал фонарь, упал на чашу с вином, стоявшую на столе. Он взял ее, с дьявольским смехом поднес к губам Юбера, а когда бедняга невольно потянулся к ней, отдернул ее и сам сделал большой глоток. В тот же миг он с диким криком схватил себя за горло и бездыханный свалился на пол. Его товарищ смотрел на него в страхе и изумлении. Вдруг, охваченный суеверным ужасом, он издал пронзительный вопль и, как безумный, выбежал из комнаты. Я слышал, как его шаги прогрохотали по мостовой, потом все стихло.
Горящий фонарь остался на столе, и я, выйдя из-за занавески, увидел при его свете, что голова несчастного Юбера поникла на грудь, и он тоже мертв. Движенье, которое он сделал, пытаясь дотянуться до чаши губами, было последним. В доме громко тикали часы, и больше ничто не нарушало тишины. На стене висело поникшее тело француза, на полу валялся недвижный труп испанца, и все это освещал тусклый фонарь. Впервые в жизни отчаянный страх приковал меня к месту. Я видел, как десять тысяч человек лежали на земле, терзаемые всеми страданиями, какие только можно вообразить, но даже это зрелище потрясло меня меньше, чем две безмолвные фигуры, перед которыми я очутился в этой полутемной комнате. Я опрометью выбежал на улицу, как тот, второй испанец, — только бы вырваться из этого жуткого дома, и опомнился, лишь когда добежал до самого собора. Там я остановился в темном углу, тяжело дыша, прижал руку к сердцу и попытался собраться с мыслями и решить, что же теперь делать. Пока я стоял там, все еще не в силах перевести дух, огромные медные колокола дважды ударили у меня над головой. Два часа. А в четыре штурмовой отряд выйдет на рубеж для атаки. У меня оставалось два часа времени.
Собор был ярко освещен изнутри, люди то и дело входили и выходили; я тоже вошел, решив, что там едва ли кто-нибудь заговорит со мной и я смогу спокойно обдумать план действий. На этот собор, скажу я вам, стоило посмотреть — он служил одновременно госпиталем, укрытием от ядер и складом. Один придел был завален всякими припасами, другой — переполнен больными и ранеными, а посередине ютилось множество беспомощных людей, которые даже развели на мозаичном полу костры и стряпали себе пищу. Многие молились, и я тоже встал на колени у колонны и молился всем сердцем, прося бога помочь мне выбраться из этой переделки живым и совершить в эту ночь подвиг, который сделает мое имя столь же славным в Испании, как и в Германии, Я дождался, пока часы пробили три, вышел из собора и направился к монастырю Мадонны, откуда нашим войскам предстояло начать приступ. Вы ведь меня знаете, не такой я человек, чтобы струсить и вернуться к своим с докладом, что наш лазутчик погиб и надо искать иных путей прорваться в город. Либо я должен был найти средство завершить незаконченное дело, либо в Конфланский гусарский полк назначили бы нового капитана взамен погибшего.
Я беспрепятственно прошел по широкому бульвару, о котором уже рассказывал, и очутился у огромного монастыря с каменными стенами, этого главного бастиона в обороне города. Монастырь стоял на площади, перед ним росли деревья. Здесь сосредоточилось несколько сот человек, вооруженных и готовых к бою, — ведь защитники города, конечно, знали, что именно отсюда французы скорей всего начнут штурм. До тех пор нашей армии приходилось драться в Европе лишь с регулярными войсками. И только здесь, в Испании, мы узнали, как это ужасно — воевать против всего народа. С одной стороны, никакой славы — велика ли слава одолеть этот сброд, этих пожилых лавочников, невежественных крестьян, фанатичных священников, обезумевших женщин и прочих вояк, из которых состоял гарнизон? С другой стороны, это было крайне хлопотно и опасно, потому что они не давали нам ни минуты покоя, не соблюдали законов ведения войны и были полны решимости донять нас не мытьем, так катаньем. Я начал понимать, что мы делаем недоброе дело, когда увидел пеструю, но грозную толпу, которая собралась вокруг сторожевых костров во дворе монастыря Мадонны. Конечно, не наше солдатское дело рассуждать о политике, но с самого начала в этой Испании над нами словно висело проклятие.
Однако у меня не было времени раздумывать обо всем этом. Как я уже говорил, проникнуть в монастырский сад не составляло никакого труда, зато пройти внутрь самого монастыря, мимо часовых, было не так-то просто. Первым делом я обошел сад и сразу обратил внимание на большое окно с цветным стеклом, — вероятно, там и была часовня. Из слов Юбера я понял, что келья матери-настоятельницы, где теперь пороховой склад, находится рядом с часовней и шнур протянут через дыру в стене из соседней кельи. Я должен был любой ценой проникнуть внутрь. У дверей стояла стража — как же войти без объяснений? И тут меня вдруг словно какое-то вдохновенье осенило — я понял, как это можно сделать. В саду был колодец, рядом с ним стояло несколько пустых ведер. Я наполнил водой два ведра, взял их и подошел к двери. Не приходится объяснять, зачем идет человек, у которого в каждой руке по полному ведру. Стража расступилась и пропустила меня. Я очутился в длинном, вымощенном каменными плитами коридоре, освещенном фонарями, по одну сторону которого были расположены кельи монашек. Наконец-то я был на верном пути. Я, не колеблясь, пошел дальше, так как еще в саду заметил, в какую сторону надо идти, чтобы попасть к часовне.
По коридору, покуривая, слонялось много испанских солдат, некоторые заговаривали со мной, когда я проходил мимо. Наверное, они просили у меня благословения, и мое «ora pro nobis» как будто вполне их удовлетворяло. Вскоре я добрался до часовни — здесь сразу видно было, что в соседней келье устроен склад, так как пол перед дверью был весь черен от пороха. Дверь была закрыта, и снаружи ее охраняли два свирепых с виду молодца, у одного из которых за поясом торчал ключ. Будь нас только двое, этот ключ живо оказался бы у меня в руках, но в присутствии второго часового мне нечего было и надеяться завладеть им силой. Соседняя со складом келья, видимо, и принадлежала сестре Анхеле. Дверь была приоткрыта. Я собрал все свое мужество и, оставив ведра в коридоре, беспрепятственно вошел в келью.
Я ожидал найти там по крайней мере шестерых испанских головорезов, но то, что я увидел, смутило меня еще больше. Келья, очевидно, была отдана в распоряжение монахинь, которые по какой-то причине отказались покинуть монастырь. Их было три: одна пожилая, с суровым лицом, очевидно, сама настоятельница, а две другие — молодые и хорошенькие. Они сидели рядом в дальнем конце кельи, но встали, едва я вошел, и я не без удивления понял по их поведению и выражению лиц, что моего прихода ждали и рады ему. Ко мне сразу же вернулось присутствие духа, и я сообразил, в чем дело. Поскольку ожидался штурм монастыря, эти сестры, разумеется, полагали, что их отведут в какое-нибудь убежище. Возможно, они дали обет не покидать эти стены, и им велели оставаться в келье до дальнейших распоряжений. Так или иначе, я действовал, исходя именно из этого, ведь необходимо было как-то удалить их из кельи, а тут подвернулся удобный повод. Первым делом я оглянулся на дверь и убедился, что ключ торчит в замке изнутри. Тогда я знаком велел монахиням следовать за мной. Настоятельница о чем-то спросила меня, но я нетерпеливо покачал головой и снова сделал знак. Она колебалась, но я топнул ногой и так властно указал на дверь, что все три немедленно повиновались. Самым безопасным местом была часовня, я отвел их туда и поместил в дальнем от порохового склада конце. Когда монахини расселись наконец перед алтарем, сердце мое подпрыгнуло от радости и гордости, — я понял, что последнее препятствие устранено с моего пути.
И все же я всегда каким-то нюхом чувствовал приближение самой опасной минуты. Собираясь уйти, я еще раз посмотрел на настоятельницу и с тревогой увидел, что ее пронзительный взгляд прикован к моей правой руке, а на лице у нее написано удивление, быстро переходящее в подозрительность. Что же могло привлечь ее внимание? Во-первых, моя рука была обагрена кровью часового, которого я ударил ножом на дереве. Само по себе это ничего не значило, ведь нож у монахов Сарагоссы в таком же ходу, как и требник. Во-вторых, на указательном пальце я носил массивное золотое кольцо — подарок одной немецкой баронессы, чье имя я называть не стану. Оно ярко сверкало при свете лампады. А кольцо на руке у монаха — это уже нечто невиданное, поскольку он принес обет бедности. Я быстро повернулся и пошел к двери, но дело уже невозможно было поправить. Оглянувшись, я увидел, что настоятельница спешит за мной следом. Я выбежал из часовни и бросился по коридору, но она пронзительным голосом выкрикнула предостережение часовым у склада. К счастью, у меня хватило присутствия духа тоже крикнуть и указать вперед, словно мы оба гнались за кем-то еще. Тем временем я проскочил мимо них, вбежал в келью, захлопнул тяжелую дверь и запер ее изнутри. На этой толстой деревянной двери сверху и снизу были засовы, а посередине — здоровенный замок, и взломать ее было нелегко.
И все же, если б у них хватило ума подложить под дверь бочку с порохом, песенка моя была бы спета. Это была их последняя возможность, потому что я уже оказался у цели. Наконец-то, после множества опасностей, какие мало кому довелось пережить, я очутился у одного конца шнура, другой конец которого был протянут на склад, где хранился весь порох Сарагоссы. Они выли в коридоре, как волки, и колотили в дверь прикладами. Я не обращал никакого внимания на весь этот шум и торопливо озирался в поисках шнура, о котором говорил Юбер, Разумеется, шнур должен быть в стене, примыкающей к складу. Я прополз на четвереньках вдоль всей стены, заглядывая в каждую щель, но не нашел никаких следов. Две пули прошили дверь насквозь и расплющились о стену. Удары прикладов становились все громче. Я заметил в углу что-то серое, бросился туда с радостным криком и увидел, что это всего лишь мусор. Тогда я, встав сбоку, у самой двери, где пули, которые буквально изрешетили ее, не могли причинить мне вреда, попытался отвлечься от оглушавшего меня дьявольского воя и сообразить, где же может быть этот шнур. Юбер искусно спрятал его, в противном случае он не укрылся бы от монахинь. Я попытался представить себе, как проложил бы его я сам на месте Юбера. Внимание мое привлекла статуя святого Иосифа, стоявшая в углу. Вокруг пьедестала выл венок из листьев, среди которых теплилась лампада. Я бросился к статуе и сорвал венок. Да, да, я увидел там тонкий черный шнур, исчезавший в едва приметном отверстии в стене. Я опрокинул лампаду и распластался на полу. Через мгновенье раздался громовой взрыв, стены зашатались и рухнули, потолок обвалился и, перекрывая вопль перепуганных испанцев, раздался грозный боевой клич: это гренадеры пошли на приступ. Как во сне — в счастливом сне — услышал я этот клич и больше уж ничего не слышал.
Когда я очнулся, двое французских солдат помогли мне сесть, — голова у меня звенела, как котел. Шатаясь, я встал на ноги и огляделся. Вся штукатурка осыпалась, скамьи валялись на полу, в кирпичах зияли пробоины, но никаких следов бреши. Да, стены монастыря были слишком толсты, и взрыв порохового склада их не разрушил. Но зато этот взрыв посеял такую панику среди защитников, что нашим штурмовым частям удалось без особого труда высадить окна и двери. Выскочив в коридор, я увидел, что он запружен французскими войсками, и тут сам маршал Ланн вошел туда в сопровождении своего штаба. Он остановился и с интересом выслушал мой доклад.
— Великолепно, капитан Жерар, просто великолепно! — воскликнул он. — О вашем подвиге непременно будет доложено императору.
— Осмелюсь заметить, ваше превосходительство, что я только завершил то, что задумал и подготовил мсье Юбер, отдавший свою жизнь за великое дело.
— Его заслуги не будут забыты, — сказал маршал. — Однако, капитан Жерар, уже половина пятого, и вы, наверное, умираете с голоду после столь трудной ночи. Я со своим штабом буду завтракать в городе. Прошу вас быть моим почетным гостем.
— Я вскоре догоню ваше превосходительство, — сказал я. — У меня тут одно небольшое дельце.
Он посмотрел на меня с удивлением.
— Как, в такой час?
— Да, ваше превосходительство, — отвечал я. — Я обману ожидания моих товарищей офицеров, с которыми я только вчера познакомился, если не повидаюсь с ними в этот час.
— В таком случае до свидания, — сказал маршал Ланн и проследовал дальше.
Я поспешно вышел через разбитые ворота монастыря. Возле дома с сорванной крышей, куда накануне вызвал меня маршал, я сбросил монашеское одеяние и надел кивер и шпагу, которые оставил там. Снова став гусаром, я поспешил к роще, где была назначена встреча. Голова у меня все еще кружилась после контузии, и я был измучен волнениями этой ужасной ночи. Рассвет еще только занимался, и я шел как во сне, а вокруг тлели гаснущие костры и гудела просыпающаяся армия. Сигнальные трубы и барабаны во всех концах созывали пехоту, так как взрыв и крики уже оповестили о случившемся. Я все шел и, наконец, добравшись до дубовой рощицы за коновязями, увидел двенадцать своих товарищей. Все они были при саблях и ждали меня, собравшись в кружок.
Когда я приблизился, меня встретили любопытными взглядами. Быть может, теперь, когда лицо у меня было черным от пороха, а руки обагрены кровью, я показался им совсем иным Жераром, нежели тот молодой капитан, над которым они потешались накануне.
— Доброе утро, господа, — сказал я. — Приношу глубочайшие извинения, что заставил вас ждать, но это не моя вина.
Они молчали, но по-прежнему смотрели на меня с любопытством. Как сейчас вижу их: они стояли в ряд, рослые и приземистые, толстые и худощавые, — Оливье, со своими воинственными усами, Пеллетан с худым, горячим лицом, юный Удэн, покрасневший от волнения перед своей первой дуэлью, Мортье, с косым шрамом на морщинистом лбу. Я снял кивер и обнажил саблю.
— Господа, у меня к вам только одна просьба, — сказал я. — Маршал Ланн пригласил меня к завтраку, и я не могу заставить его ждать.
— Что же вы предлагаете? — спросил майор Оливье.
— Прошу освободить меня от обещания уделить каждому из вас пять минут и позволить мне драться со всеми разом.
Сказав это, я встал в боевую позицию.
Ответ их был великолепен и достоин истых французов. Единым движением все двенадцать клинков вылетели из ножен и поднялись вверх, салютуя мне. Все двенадцать офицеров замерли, вытянувшись, и каждый поднял саблю перед собой.
Я попятился, переводя взгляд с одного на другого. Сначала я не мог поверить своим глазам. Эти люди, которые накануне смеялись надо мной, теперь отдавали мне дань уважения! И вдруг я все понял. Они оценили мой благородный поступок и не хотели остаться в долгу. Человек слаб, он может закалить себя против опасности, но не против чувств.
— Друзья! — вскричал я. — Друзья мои!
И больше не мог вымолвить ни слова. Что-то сдавило мне горло, дыхание перехватило. В тот же миг Оливье обнял меня, Пеллетан жал мне правую руку, Мортье — левую, кто-то трепал меня по плечу, кто-то хлопал по спине, со всех сторон на меня смотрели улыбающиеся лица, и я понял, что принят конфланскими гусарами.
III. Как бригадир убил лису
Во всем великом французском войске был только один офицер, к которому англичане из армии Веллингтона питали глубокую, ярую, неугасимую ненависть. Были среди французов грабители, насильники, заядлые игроки, дуэлянты и повесы. Все это можно простить, поскольку нетрудно было найти им подобных и среди англичан. Но один офицер из армии Массена совершил преступление невиданное, неслыханное, ужасное; не к ночи будь оно помянуто, разве только когда вторая бутылка развяжет языки. Весть об этом донеслась до Англии, и джентльмены из глухих ее уголков, которые мало что знали о войне, краснели от ярости, когда слышали об этом, а йомены из всех графств грозили в небо веснушчатыми кулаками и изрыгали проклятия. И кто бы вы думали совершил это ужасное деяние? Ну конечно же, наш друг бригадир Этьен Жерар из Конфланского гусарского полка, лихой наездник, забияка, добрый малый, любимец дам и шести бригад легкой кавалерии.
Но самое удивительное, что этот храбрый и благородный человек совершил такой ужасный проступок и стал пользоваться самой дурной славой на Пиренейском полуострове, даже не подозревая, что повинен в преступлении, которое невозможно описать никакими словами. Он умер в преклонных годах и никогда в своей невозмутимой самоуверенности, которая украшала или, быть может, скорее портила его репутацию, даже не заподозрил, что многие тысячи англичан охотно повесили бы его собственными руками. Напротив, он числил это приключение среди прочих подвигов, которые прославили его на весь мир, не раз, посмеиваясь и любуясь собой, рассказывал о нем в кругу друзей, ловивших каждое его слово, в том скромном кафе, где между обедом и партией в домино он вспоминал, то со смехом, то со слезами, неповторимые наполеоновские времена, когда Франция, подобно ангелу гнева, вознеслась, прекрасная и ужасная, над трепещущей Европой. Послушаем же этот рассказ из его собственных уст и попытаемся увидеть все его глазами.
— Да будет вам известно, друзья мои, — начал он, — что в конце тысяча восемьсот десятого года мы с Массена и всеми остальными теснили Веллингтона, надеясь сбросить его самого и его армию в Тахо. Но еще в двадцати пяти милях от Лиссабона мы обнаружили, что нас обманули: этот англичанин построил мощную линию укреплений на том месте, которое называется Торрес Ведрас, и даже мы не в силах были ее прорвать! Она протянулась через весь полуостров, а мы были так далеко от родины, что не рисковали повернуть назад, так как еще при Бусако поняли, что война с этим народом совсем не детская игра. Что нам оставалось, кроме как остановиться перед этими укреплениями и блокировать их всеми силами? Мы проторчали там полгода в невыносимых условиях, и Массена потом говорил, что совершенно поседел за это время. Что касается меня, то я не очень тревожился, меня заботили только кони, которым нужно было отдохнуть и подкормиться на зеленых пастбищах. А мы пили местное вино и веселились, как только могли. Была у меня одна знакомая в Сантарене… но нет, молчок! Благородный человек обязан хранить тайну, хотя вправе дать понять, что мог бы сказать многое.
Однажды вызывает меня Массена к себе. Я тотчас явился в его палатку, где он сидел за столом и рассматривал большую карту. Он молча посмотрел на меня своим единственным орлиным глазом, и по выражению его лица я понял, что дело нешуточное. Он нервничал, хмурился, но мой бравый вид, видимо, его ободрил. Всегда полезно побыть в обществе храбреца.
— Полковник Этьен Жерар, — сказал он, — я не раз слышал, что вы храбрый и находчивый офицер.
Не мне было подтверждать это, но и отрицать такие вещи тоже глупо, так что я звякнул шпорами и отдал честь.
— Кроме того, говорят, вы отлично ездите верхом.
Я не возражал.
— И лучший рубака на все шесть бригад легкой кавалерии.
Массена славился своей осведомленностью.
— Так вот, — продолжал он, — взгляните на эту карту, и вы сразу поймете, чего я от вас хочу. Вот линии укреплений Торрес Ведрас. Посмотрите, как они растянуты, и вам станет ясно, что силы англичан сильно разбросаны. А за укреплениями до самого Лиссабона тянется голая равнина. Мне чрезвычайно важно знать, как расположены на этом пространстве войска Веллингтона, и я прошу вас отправиться туда и принести точные сведения.
От его слов мне стало не по себе.
— Ваше превосходительство, — сказал я, — немыслимо кавалерийскому полковнику унизиться до роли шпиона.
Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу.
— Гусар — всегда горячая голова, иначе какой же это гусар, — сказал он. — Выслушайте меня, и вы поймете, что я вовсе не посылаю вас шпионить. Что вы скажете вот об этой лошадке?
Он подвел меня к окну, где егерь прогуливал замечательного коня. Конь был серый, в яблоках, не очень рослый, пожалуй, немногим повыше пяти футов, но с короткой, красиво выгнутой шеей, как у лошадей арабских кровей. Ноги крепкие, мускулистые, но бабки такие тонкие, что я, едва взглянув на него, пришел в полный восторг. Никогда не мог смотреть равнодушно ни на хорошую лошадь, ни на красивую женщину, и не могу даже теперь, когда семьдесят зим поостудили мою кровь. Представьте же себе, каков я был в десятом году.
— Это Вольтижер, — сказал Массена, — лучший скакун во всей армии. Итак, отправляйтесь сегодня же вечером, вы должны обогнуть противника с фланга, объехать его тылы и, вернувшись с другого фланга, привезти сведения о расположении вражеских частей. Вы будете в мундире, и поэтому, если попадете в плен, вас не казнят, как шпиона. Вполне возможно, что вы проедете через линию обороны незамеченным, так как вражеские посты сильно разбросаны. Когда же вы окажетесь по ту сторону, вас никому не догнать, пока светло, а если станете избегать дорог, то, пожалуй, вообще никого не встретите. Жду вас до завтрашнего вечера, после чего буду считать, что вы попали в плен, и предложу им в обмен на вас полковника Петри.
Ах, какой гордостью и радостью преисполнилась моя душа, когда я вскочил в седло и галопом проехался на этом изумительном коне. Конь был великолепен — мы оба были великолепны, и Массена захлопал в ладоши и закричал в восторге. Я не набивался на похвалу, он сам сказал, что достойному коню — достойный всадник. А когда я, как молния, промчался мимо него в третий раз, и султан мой развевался, а доломан, трепеща, летел следом, по его суровому, словно каменному, лицу было видно, что он больше не сомневается в правильности своего выбора. Я обнажил саблю, поцеловал эфес, отсалютовал и поскакал в расположение своего полка. Все уже знали, что мне поручено важное дело, и мои дьяволы высыпали из палаток, приветствуя меня. Ах! И сейчас, в старости, на глазах у меня выступают слезы, когда я вспоминаю, как гордились они своим полковником. И я тоже гордился ими. Они были достойны своего лихого командира.
Ночь обещала быть ненастной, и это оказалось мне на руку. Я постарался сохранить свой отъезд в строжайшей тайне: ведь было ясно, что если англичане пронюхают о моей отлучке из армии, они, естественно, поймут, что дело тут нешуточное. Поэтому моего коня вывели за линию пикетов, как будто на водопой, я же пошел пешком и там сел в седло. У меня была при себе карта, компас и письменные инструкции маршала — с этой бумагой на груди, под мундиром, и с саблей на боку я пустился в опасный путь.
Моросил дождь, луна была скрыта облаками — словом, можете себе представить, обстановка не очень приятная. Но на сердце у меня было легко, когда я думал о том, какая честь мне оказана и какая слава меня ожидает. Этот подвиг должен был умножить блестящий список, благодаря которому я получу вместо сабли маршальский жезл. Ах, каким мечтам предавались мы, глупые молодые люди, опьяненные успехом! Мог ли предвидеть в тот вечер я, избранный из шестидесяти тысяч, что буду на старости лет выращивать капусту за сотню франков в месяц! Ах, моя юность, мои мечты, мои боевые друзья! Но колесо судьбы вертится, не останавливаясь. Простите, друзья мои, старика за его слабость.
Итак, путь мой лежал через плато Торрес Ведрас, потом через ручеек, мимо сгоревшего дома, который теперь служил только ориентиром, и дальше через небольшую дубраву к монастырю святого Антония, который находился на левом фланге англичан. Оттуда я повернул на юг и стал тихонько спускаться с горы, так как именно здесь, как считал Массена, легче всего было проехать через вражеские позиции незамеченным. Ехал я шагом, поскольку тьма стояла такая, что я не видел дальше собственного носа. В таких случаях я всегда отпускаю поводья и целиком полагаюсь на лошадь. Вольтижер уверенно шел вперед, а я, удобно сидя в седле, только поглядывал вокруг да держался подальше от всяких огней. Так мы осторожно продвигались часа три, и я уже решил было, что все опасности позади. Я поскакал быстрее, так как хотел к рассвету оказаться в тылу вражеской армии. В тех местах много виноградников, и зимой ехать через них верхом одно удовольствие — скачи себе напрямик.
Но Массена недооценил коварство англичан: как выяснилось, там была не одна линия обороны, а все три, и как раз третью, самую сильную, я и проезжал в тот миг. Я ехал, радуясь удаче, как вдруг впереди вспыхнул фонарь, и я увидел блеск ружейных стволов и красные мундиры.
— Кто едет? — окликнул меня голос, и какой голос! Я взял вправо и помчался во весь опор, но из темноты вылетело с десяток огненных стрел, и вокруг меня запели пули. Это пение мне хорошо знакомо, друзья мои, но я не стану утверждать, как какой-то глупый новобранец, будто мне оно по душе. Однако же я по крайней мере никогда не терял при этом голову и теперь знал, что остается только одно — скакать вперед что есть духу и попытать счастья где-нибудь в другом месте. Я оставил позади пикеты англичан и, не слыша больше ни звука, справедливо заключил, что уж теперь-то проехал линию обороны. Я проскакал пять миль на юг, время от времени высекая огонь, чтобы взглянуть на карманный компас. А потом вдруг — до сих пор, как вспомню об этом, душа обливается кровью — мой конь, даже не споткнувшись, без единого звука пал подо мной!
Я и не подозревал, что одна из пуль, пущенных этим проклятым пикетом, ранила его навылет. Благородное животное даже не дрогнуло, оно скакало до последнего издыхания. Только что я чувствовал себя неуловимым на самом быстром, самом великолепном скакуне в армии Массена. И вот он лежит на боку, и толку от него никакого, разве только шкуру содрать, а я стою над ним, спешенный гусар — самое беспомощное, самое нелепое существо на свете. На что мне теперь сапоги, шпоры, сабля, волочащаяся по земле? Я был глубоко во вражеском тылу. Как мог я надеяться вернуться? Не стыжусь признаться, что я, Этьен Жерар, присел на труп своего коня и в отчаянии закрыл лицо руками. На востоке уже брезжил рассвет. Через полчаса станет совсем светло. Я преодолел все препятствия, и вот теперь, в последний миг, оказался беспомощным среди врагов, провалил поручение и попал в плен — разве мало того, чтоб привести в отчаяние солдата?
Но не огорчайтесь, друзья мои! Даже у самых отважных бывают минуты слабости; но у меня дух, как стальная пружина, — чем больше его сгибаешь, тем выше он рвется вверх. Мгновенный приступ отчаяния миновал, и вот уж мой ум холоден как лед, а сердце пылает огнем. Не все было потеряно. Я прошел через столько опасностей, пройду и через эту. Я встал и начал раздумывать, как быть.
Мне сразу же стало ясно, что возвращаться назад нельзя. Прежде чем я успею миновать английские позиции, будет уже совсем светло. Надо где-то спрятаться до вечера, а ночью попытаться унести ноги. Я снял с бедняги Вольтижера седло, кобуру и уздечку и спрятал их в кустах, чтобы нельзя было узнать, если кто на него наткнется, что лошадь французская. Потом, оставив его там, я отправился на поиски какого-нибудь укрытия, где можно будет отсидеться до вечера. Со всех сторон от меня на склонах холмов горели бивачные костры, и вокруг них уже закопошились люди. Надо было спрятаться поскорее, иначе я пропал.
Но куда? Я забрел в виноградник, где еще торчали сухие лозы, но зелени не было. Здесь не укроешься. Кроме того, чтобы переждать до ночи, мне нужна была пища и вода. Становилось все светлее, и я поспешил вперед, надеясь, что случай мне поможет. И мне не пришлось разочароваться. Случай что женщина, друзья мои, он всегда благосклонен к отважному гусару.
Так вот, шел я, спотыкаясь, через виноградник, вдруг вижу, впереди что-то маячит — это я набрел на большой квадратный дом с длинной низкой боковой пристройкой. Дом стоял на скрещении трех дорог, и нетрудно было догадаться, что это posada, иными словами — таверна. Окна не светились, всюду было темно и тихо, но я, разумеется, понимал, что такая удобная квартира не может пустовать и, скорее всего, занята кем-нибудь из высокого начальства. Одно я по опыту знал, что чем ближе опасность, тем порой бывает надежней убежище, и вовсе не собирался уходить. Пристройка, видимо, была хлевом, и я забрался туда, поскольку дверь оказалась незапертой. В хлеву было полно волов и овец, — ясно было, что их спрятали здесь от лап мародеров. Вверх, на сеновал, вела лестница, я залез туда и уютно устроился на сене. Наверху было маленькое незастекленное оконце, откуда я мог видеть крыльцо и дорогу. Я устроился у окна и стал ждать.
В недолгом времени стало ясно, что я не ошибся: здесь расположилось какое-то высокое начальство. Вскоре после восхода солнца прискакал английский легкий драгун с донесением, и больше уже не было ни минуты тишины, офицеры то и дело приезжали и уезжали. И на устах у всех одно имя: «Сэр Стэплтон, сэр Стэплтон». Нелегко мне было лежать на сене с пересохшей глоткой и видеть, как хозяин таскает этим офицерам здоровенные бутыли с вином, но я забавлялся, глядя на их свежие, гладко выбритые, беззаботные физиономии и представлял себе, что они подумали бы, если б знали, что у них под самым носом пристроился такой знаменитый человек, как я. Лежу я себе, поглядываю и вдруг вижу такое, что впору рот раскрыть от изумления, Просто невероятно, до какой наглости доходят эти англичане! Что, по-вашему, сделал милорд Веллингтон, когда узнал, что Массена его блокировал и ему с армией некуда податься? Ни за что не угадаете. Скажете, что он пришел в бешенство или в отчаяние, собрал все свои войска и обратился к ним с речью, говорил о славе и родине, а потом повел в последнее, решительное сражение. Нет, милорд не сделал ничего подобного. Он отправил в Англию военный корабль за гончими и начал травить лисиц. С места мне не сойти, если вру. За укреплениями Торрес Ведрас эти сумасшедшие англичане три дня в неделю охотились на лисиц. Слухи об этом доходили до нас и раньше, а теперь мне предстояло своими глазами убедиться в их правдивости.
По дороге, про которую я говорил, бежали эти самые собачки, штук тридцать, не то сорок, белые с коричневым, и у всех хвосты торчали под одинаковым углом, как штыки в старой гвардии. Клянусь богом, на это стоило посмотреть! А позади и посередке ехали трое в остроконечных шапочках и красных куртках — я догадался, что это егери. Следом двигалась целая толпа конных в мундирах всех родов войск, они тянулись по двое или по трое, со смехом болтая о чем-то. Ехали они мелкой рысью, и я подумал, что лиса, которую они собирались затравить, видно, не больно резвая. Однако это было их дело, а не мое, и вскоре все они проехали мимо моего убежища и скрылись из виду. Я притаился и ждал, готовый воспользоваться любым благоприятным случаем.
Вскоре по дороге проскакал офицер в голубой форме, похожей на ту, что носят наши конные артиллеристы, немолодой уже, грузный человек с седыми бакенбардами. Он остановился и начал разговаривать с драгунским штабным офицером, ждавшим у крыльца, и тут я убедился, как важно знать английский язык, которому у меня был случай научиться. Я слышал и понимал каждое слово.
— Где место сбора? — спросил офицер.
Второй ответил, что возле Альтары.
— Вы опаздываете, сэр Джордж, — сказал ординарец.
— Да, пришлось заседать в трибунале. Сэр Стэплтон Коттон уехал?
В этот миг отворилось окно, и в него выглянул красивый молодой человек в блестящем мундире.
— Хелло, Мэррей! — сказал он. — Меня задержали эти чертовы протоколы, но я вас сейчас нагоню.
— Прекрасно, Коттон. Я опаздываю и поеду вперед.
— Велите груму подвести мне коня, — сказал молодой генерал через окно ординарцу, а пожилой двинулся дальше по дороге.
Ординарец отъехал куда-то к конюшне, и через несколько минут появился проворный английский грум с кокардой на фуражке, ведя под уздцы коня, — ах, друзья мои, кто не видел английского охотничьего скакуна, тот ничего не видел! Это было настоящее чудо: рослый, широкий в кости, сильный, стройный и быстроногий, как олень. Масти вороной, без единого пятнышка, а что за шея, круп, ноги, бабки — описать невозможно. Он весь блестел под солнцем, как полированное черное дерево, нетерпеливо пританцовывал на месте, легко и изящно поднимая копыта, тряс гривой и тонко ржал. Сроду не видел я такой силы, красоты и грации. Раньше я часто удивлялся, как это английским гусарам удалось обскакать гвардейских егерей под Асторгой, но когда увидел английских лошадей, то перестал удивляться.
У двери в стену было ввинчено кольцо, грум привязал лошадь, а сам вошел внутрь. Я мигом сообразил, какой счастливый случай посылает мне судьба. Стоит вскочить в седло, и положение мое станет еще выгодней, чем вначале. Даже Вольтижер не мог бы сравниться с этим великолепным конем. Долго раздумывать не в моих привычках. Вмиг спустился я с лестницы и был у дверей хлева. Еще миг — и, выскочив наружу, я схватил повод и прыгнул в седло. Кто-то, хозяин или слуга, ошалело закричал мне вслед. Но что мне его крики! Я дал коню шпоры, и он ринулся вперед так резво, что лишь столь искусный наездник, как я, мог усидеть в седле. Я отпустил поводья и дал ему волю — мне было безразлично, куда скакать, лишь бы подальше от постоялого двора. Конь пронесся вихрем по виноградникам, и через несколько минут целые мили легли между мной и моими преследователями. В этой дикой стране им уже не узнать было, в какую сторону я поскакал. Я почувствовал себя в безопасности и, доехав до вершины невысокого холма, достал из кармана карандаш и записную книжку и принялся зарисовывать местность и набрасывать план позиций.
Подо мной был славный конь, но рисовать, сидя на нем, оказалось нелегким делом — он все время прядал ушами, дрожал и водил боками от нетерпения. Сначала я не мог понять, что это с ним, но потом заметил, что он делает это, только когда откуда-то из дубравы под нами доносится странный звук: «Улю-лю-лю». Потом вдруг этот нелепый крик сменило дикое порсканье и отчаянный рев рога. Мой конь словно обезумел. Глаза его метали искры. Грива встала дыбом. Он высоко прыгнул раз, другой, дрожа всем телом. Карандаш мой полетел в одну сторону, записная книжка — в другую. А когда я взглянул вниз, в долину, то увидел необычайное зрелище. Туда лавиной мчались охотники. Лисицы мне видно не было, но собаки так и заливались лаем, они уткнули носы в землю, задрали хвосты и бежали такой тесной гурьбой, что казались большим летящим желто-белым ковром. А за ними следом скакали охотники — бог мой, какое это было зрелище! Представьте себе всех офицеров, какие только входят в состав большой армии. Некоторые были в охотничьих костюмах, но большинство в мундирах: голубые драгуны, красные драгуны, гусары в красных рейтузах, зеленые стрелки, артиллеристы, уланы в мундирах с золотой оторочкой, и почти сплошь красные, красные, красные, потому что пехотные офицеры ездили верхом не хуже кавалеристов. Ну и толпа — одни хорошо сидели в седле, другие плохо, но каждый летел вперед во весь опор, младшие офицеры и генералы сшибались и теснили друг друга, давали лошадям шпоры, дергали поводья, забыв обо всем на свете, кроме одного — они жаждали крови этой разнесчастной лисы! Право, странный народ эти англичане!
Но у меня не было времени любоваться на охоту или дивиться на глупых островитян, потому что впереди всех этих сумасшедших несся конь, на котором я сидел. Понимаете, это был охотничий конь, и собачий лай для него значил то же, что для меня сигнал кавалерийской трубы, раздайся он сейчас на улице. Этот конь ошалел. Он обезумел. Он сделал скачок, потом другой и вдруг, закусив удила, пустился с холма вслед за собаками. Я ругался, дергал поводья, тянул их изо всех сил, но ничего не мог поделать. Этот английский генерал ездил только с трензелем, и пасть у его коня была как из железа. Бесполезно было и пробовать его сдержать. С таким же успехом можно пытаться оторвать гренадера от бутылки с вином. Я отбросил всякую надежду остановиться и, покрепче усевшись в седле, приготовился к самому худшему.
Что это был за конь! В жизни мне не доводилось на таком ездить. С каждым прыжком он весь подбирался и несся вперед все быстрей, распластавшись, как борзая, а ветер хлестал меня в лицо и свистел в ушах. На мне была обычная форма, простой и скромный мундир — хотя, конечно, есть люди, которые любой мундир способны украсить, — и я из осторожности, когда отправлялся, снял с кивера высокий плюмаж. Поэтому не привлекал к себе внимания среди пестрых мундиров охотников, и никто из этих людей, увлеченных травлей, меня не заметил. Мысль, что среди них может скакать французский офицер, была до такой степени нелепой, что не могла прийти им в голову. Я не удержался от смеха, потому что, хотя меня со всех сторон окружала опасность, в моем положении было что-то комическое.
Я уже говорил, что не все охотники одинаково хорошо умели ездить верхом, и через несколько миль они уже не скакали единым строем, как атакующий полк, а сильно растянулись — лучшие наездники мчались впереди, следом за собаками, но многие отстали. Само собой, я был лучшим из лучших, а конь мой не имел себе равных, так что, сами понимаете, он вскоре вынес меня вперед. И когда я увидел собак, мчавшихся по равнине, и егерей в красных куртках, от которых меня отделяло всего семь или восемь всадников, произошло самое поразительное — я, Этьен Жерар, тоже ошалел! Азарт вмиг охватил меня, я жаждал показать себя и пылал ненавистью к лисе. Ах, бестия, как смеешь ты нас дразнить! Разбойница, минуты твои сочтены! Ах, что за славное чувство — этот азарт, друзья мои, это желание растоптать лису копытами коня! И я вместе с англичанами принял участие в травле. А ведь был в моей жизни и такой случай — когда-нибудь я вам о нем расскажу, — я дрался против самого Бастлера из Бристоля. И, надо вам сказать, спорт — удивительная штука, он захватывает и подобен безумию.
Мой конь летел все быстрее, и вот уже всего трое скачут рядом со мной за собаками. Страх, что меня разоблачат, как рукой сняло. Голова у меня закружилась от волнения, кровь взыграла в жилах, — казалось, только ради одного и стоит жить на свете: чтобы настичь эту проклятую лисицу. Я обскакал еще одного охотника, он был гусар, как и я. Теперь впереди оставались только двое: один в черном мундире, второй — артиллерист в голубом, тот самый, которого я видел около постоялого двора. Ветер трепал его седые бакенбарды, но скакал он лихо. Еще с милю он продержался впереди, но потом, когда мы помчались вверх по крутому склону, я благодаря тому, что был легче его, вырвался вперед. Я обошел обоих и по холму скакал голова в голову с маленьким, суровым на вид егерем. Впереди были собаки, а в сотне шагов перед ними — рыжий комок, лисица, которая распласталась в бешеном беге. При виде ее кровь бросилась мне в голову.
— Ага, попалась, подлая! — завопил я и стал криками подбадривать егеря. Я махнул ему рукой, давая понять, что не подкачаю.
Теперь меня отделяли от лисицы только собаки. Они нужны для того, чтобы указывать охотнику, где зверь, и теперь стали только помехой, потому что я не знал, как их обойти. Егерь тоже был в затруднении, из-за собак он не мог настичь добычу. Он был неплохой наездник, но смекалки ему не хватало. Я знал, что если спасую, то посрамлю конфланских гусар. Неужели Этьена Жерара остановит свора собак? Какой вздор! Я гикнул и дал коню шпоры.
— Держитесь, сэр! Держитесь! — кричал егерь.
Он боялся за меня, добрый малый, но я успокоил его, с улыбкой махнув рукой. Собаки шарахнулись от меня в стороны. Может быть, нескольким досталось копытами, но что поделаешь! Лес рубят — щепки летят. Я слышал позади восхищенные крики егеря. Наддал еще, и вот уж собаки позади. Передо мной только лисица.
Ах, какую радость и гордость я почувствовал! Подумать только, я обставил англичан в их национальном спорте. Три сотни охотников жаждали убить этого зверя, а он достанется мне. Я подумал о своих товарищах из кавалерийской бригады, о своей матушке, об императоре, о Франции. Я прославил их всех. С каждым мгновением я настигал лисицу. Пришла пора действовать, и я обнажил саблю. Я взмахнул ею, и молодцы англичане издали дружный крик.
Только тут я понял, какое это трудное дело — травля лисицы: рубишь по ней и рубишь, но никак не можешь попасть. Она ведь маленькая и ловко увертывается. При каждом ударе я слышал ободряющие крики, и они подстегивали меня. Наконец настал миг моего торжества. Лисица попыталась увернуться, и тут-то я накрыл ее таким же точно боковым ударом, каким я зарубил адъютанта русского императора. Я рассек ее надвое, голова покатилась в одну сторону, а хвост — в другую. Я оглянулся и взмахнул окровавленным клинком. Торжество переполняло меня — это было замечательно!
Ах, до чего же мне хотелось остановиться и принять поздравления моих благородных соперников! Их было человек пятьдесят, и все они махали руками и кричали. Право, не такие уж они флегматичные, эти англичане. Геройский поступок на войне или на охоте всегда разжигает их сердца. Что же до старика егеря, он был ближе всех ко мне, и я собственными глазами видел, как он был поражен тем, что произошло. Его словно хватил столбняк — рот разинут, поднятая рука с растопыренными пальцами застыла в воздухе. Я готов был повернуть назад и расцеловать его.
Но в ушах у меня уже звучал зов долга, и к тому же эти англичане, несмотря на братство, объединяющее всех охотников, без сомнения, взяли бы меня в плен. Теперь не было никакой надежды выполнить поручение маршала, хотя я сделал все, что в человеческих силах. Я видел расположение войск Массена, французы были недалеко, так как по счастливой случайности мы скакали именно в ту сторону. Я объехал мертвую лисицу, отдал салют саблей и поскакал прочь.
Но эти славные охотники не дали мне уйти так легко. Теперь я оказался на месте лисицы, и мы лихо помчались по равнине. Только когда я поскакал прямо к нашим позициям, они поняли, что я француз, и теперь все устремились за мной. Лишь на расстоянии выстрела от наших передовых постов они остановились кучками, но не поворачивали назад, а кричали и махали мне руками. Нет, я не верю, что это было выражением враждебных чувств. Скорей, мне кажется, души их исполнились восхищением, и они хотели только одного — обнять чужеземца, проявившего такую доблесть и искусство.
IV. Как бригадир спас армию
Я уже рассказывал вам, друзья мои, как мы полгода, с октября тысяча восемьсот десятого по март одиннадцатого года, осаждали англичан в Торрес Ведрас. Как раз тогда мне довелось охотиться с ними на лису и показать им, что среди них нет ни одного кавалериста, способного обскакать гусара Конфланского полка. Когда я вернулся в расположение своих войск, на моем клинке еще не высохла лисья кровь, и передовые посты, которые все видели, встретили меня радостными криками, да и английские охотники надрывали глотки у меня за спиной, — так что меня приветствовали обе армии. Я прослезился, когда увидел, сколько храбрецов мной восхищается. Эти англичане — благородные противники. В тот же вечер нарочный под белым флагом привез сверток, адресованный «гусарскому офицеру, убившему лису». Вскрыв его, я нашел там эту самую лису, разрубленную мной надвое. Кроме того, там была записка, короткая, но очень сердечная, вполне в английском духе, в ней говорилось, что, поскольку я убил лису, мне остается только съесть ее. Откуда им было знать, что мы, французы, не имеем обычая есть лисиц, но, значит, они считают, что добыча принадлежит победителю. Однако француз не может позволить, чтобы его перещеголяли в вежливости, и я вернул лисицу этим удальцам-охотникам на закуску к следующему dejeuner de la chasse[8]. Вот как воюют благородные люди.
Я привез с собой довольно подробный план английских позиций и в тот же вечер выложил его перед генералом Массена.
Я надеялся, что это побудит его начать наступление, но все наши маршалы в то время перегрызлись, они щелкали зубами и рычали, как свора голодных собак. Ней ненавидел Массена, Массена ненавидел Жюно, а Сульт — их обоих. Поэтому мы бездействовали. Припасы наши тем временем таяли, и наша прекрасная конница имела печальный вид из-за бескормицы. К весне мы начисто опустошили всю страну и сидели голодные, хотя и посылали фуражные команды к черту на рога. Даже самым отчаянным храбрецам было ясно, что настало время отступать. Мне самому пришлось признать это.
Но отступить было не так-то легко. И не только потому, что люди вымотались и ослабели от голода, но еще и потому, что враг, видя, как долго мы бездействуем, воспрянул духом. Веллингтона мы не очень-то боялись. Мы знали, что он смел и благоразумен, но не слишком предприимчив. Кроме того, в этой разоренной стране он не мог быстро нас преследовать. Но с флангов и в тылу сосредоточились большие силы португальского ополчения, состоявшего из вооруженных крестьян и других партизан. Всю зиму они держались от нас на почтительном расстоянии, но теперь, когда кони у нас отощали, они вились, как мухи, вокруг наших передовых постов, и если кто попадал к ним в лапы, то за его жизнь нельзя было дать ни единого су. Я мог бы назвать с десяток офицеров, которых лично знал, погибших в те дни, и счастливее всех был тот, кому пуля, пущенная из-за скалы, угодила прямо в голову или в сердце. Некоторых постигла до того страшная смерть, что об этом было запрещено сообщать родственникам. Этих ужасных случаев было столько и они производили такое впечатление на наших людей, что стало нелегко заставить их выйти за пределы лагеря. Особенный ужас наводил на них один негодяй, командир партизан Мануэло по прозвищу «Шутник». Это был здоровенный толстяк, такой благодушный с виду, он засел со своей бандой головорезов в горах у нас на левом фланге. Можно было бы написать целую книгу о жестоких делах этого малого, но командовать он, надо прямо сказать, умел и так вышколил своих бандитов, что они не давали нам шагу ступить. Это ему удалось, потому что он ввел у себя железную дисциплину и за малейший проступок наказывал без всякой жалости, так что люди его наводили ужас на всех, однако это, как вы сейчас услышите, привело к самым неожиданным последствиям. Если бы он не высек собственного лейтенанта… но об этом речь впереди.
При отступлении нас ждало немало всяких трудностей, но было совершенно ясно, что другого выхода нет, и Массена принялся поспешно готовить обоз и лазарет к отправке из Торрес Новас, где был штаб, в Коимбру, первый укрепленный пост на его коммуникациях. Однако это невозможно было сделать незаметно, и партизаны сразу начали роиться все ближе и ближе к нашим флангам. Одно из наших подразделений, которым командовал Клозель, вместе с кавалерийской бригадой Монбрена находилось далеко к югу от Тахо, и было необходимо сообщить им, что мы готовимся к отступлению, так как иначе они остались бы без всякой поддержки, одни в самом сердце враждебной страны. Помнится, я все думал, как же Массена это сделает, ведь нарочные проехать туда не могли, а мелкие отряды, без сомнения, были бы сразу же уничтожены. Нужно было как-то передать им приказ об отступлении, иначе Франция потеряла бы четырнадцать тысяч человек. Но я и не думал тогда, что именно мне, полковнику Жерару, выпадет честь совершить поступок, который для всякого другого мог бы стать величайшим подвигом в жизни, да и среди тех подвигов, что прославили меня, окажется не на последнем месте.
В то время я состоял при штабе Массена, и, кроме меня, у него было еще два адъютанта, тоже храбрые и неглупые офицеры. Фамилия одного была Кортекс, другого — Дюплесси. Оба были старше меня по возрасту, но во всех прочих отношениях старшим мог считаться я. Кортекс был маленький, темноволосый, очень живой и подвижный. Прекрасный был солдат, но его погубила самонадеянность. Послушать его, так он первый герой во всей армии. Дюплесси был гасконец, мой земляк, славный малый, как все гасконцы. Мы дежурили по очереди, и в то утро, о котором у нас пойдет речь, дежурил Кортекс. Я видел его за завтраком, а потом он куда-то исчез, и коня его тоже не было в стойле. Весь день Массена был по обыкновению мрачен и долго осматривал в подзорную трубу позиции англичан и суда на Тахо. Он ни слова не сказал о том, с каким поручением послал нашего товарища, и не нам было задавать ему вопросы.
Около полуночи, когда я стоял у дверей штаба, он вышел и полчаса не двигался с места, сложив руки на груди, вглядываясь во тьму на востоке. Он был так неподвижен в своей настороженности, что его закутанную фигуру в треуголке можно было принять за изваяние. Я не понимал, чего он ждет; наконец он с досадой выругался, круто повернулся и, войдя в дом, с грохотом захлопнул за собой дверь.
На другое утро Массена о чем-то долго говорил со вторым адъютантом, Дюплесси, после чего тот тоже исчез вместе с конем. Ночью, когда я сидел в прихожей, маршал прошел мимо меня, и я видел через окно, как он стоял и смотрел на восток, точно так же, как накануне. Он простоял там не меньше получаса, застыв в темноте черной тенью. Потом он вошел, хлопнула дверь, и я услышал звяканье его шпор и ножен в коридоре. Конечно, это был всего-навсего вспыльчивый старик, но когда он приходил в ярость, я предпочел бы предстать перед самим императором, чем попасться ему на глаза. Я слышал, как он всю ночь шагал по комнате и ругался у меня над головой, но меня он не вызвал, а я слишком хорошо его знал, чтобы пойти без зова.
На другое утро снова пришлось дежурить мне, так как я остался единственным из адъютантов. Я был любимцем маршала. Сердце его всегда бывало открыто для бравого солдата. И, честное слово, когда он утром позвал меня, в его черных глазах блестели слезы.
— Жерар! — сказал он. — Подойди сюда!
Он дружески взял меня за рукав и подвел к открытому окну, выходившему на восток. Внизу был лагерь пехотинцев, рядом — позиции кавалерии с длинным частоколом коновязей. Видны были наши передовые посты, а дальше — открытая равнина, вся в виноградниках. За ней — цепь гор, над которыми возвышалась одна, самая высокая. У подножия этих гор лежала широкая полоса леса. Единственная дорога была отчетливо видна, она вилась белой полоской то вверх, то вниз, а потом исчезала среди гор.
— Это Сьерра де Меродаль, — сказал Массена, указывая на высокую гору. — Видишь ты что-нибудь на ее вершине?
Я ответил, что ничего не вижу.
— А теперь? — спросил он, протянув мне подзорную трубу.
В трубу я увидел на вершине горы небольшую пирамиду.
— Это бревна, заготовленные для сигнального костра, — сказал маршал. — Мы сложили его, когда эта территория была в наших руках. Жерар, сегодняшней ночью костер этот необходимо зажечь. Это нужно сделать ради Франции, ради императора, ради нашей армии. Двое твоих товарищей отправились туда, но ни один не добрался до вершины. Сегодня твоя очередь, и да пошлет тебе бог удачи.
Солдату не положено обсуждать приказ, и я уже хотел выйти, но маршал удержал меня, положив руку мне на плечо.
— Ты должен знать все. Так узнай же, какой важности это дело, ради которого ты рискуешь жизнью, — сказал он. — В пятидесяти милях к югу от нас, по другую сторону Тахо, стоит армия генерала Клозеля. Лагерь его разбит близ горы, которая называется Сьерра д'Осса. На ее вершине тоже приготовлен сигнальный костер, и у костра дежурит дозорный. У нас условлено, что если Клозель в полночь увидит наш сигнал, то в ответ зажжет свой и сразу же присоединится к главным силам. Если он не выступит немедленно, мне придется уйти без него. Вот уже два дня я пытаюсь подать ему сигнал. Он должен увидеть костер сегодня. Иначе его армия будет отрезана и разбита.
Ах, друзья мои, какой гордостью преисполнилась моя душа, когда я услышал об этой великой задаче, посылаемой мне судьбой! Если я останусь в живых, еще одна лавровая ветвь появится в моем венце. Если же мне суждено погибнуть, я умру так же достойно, как жил. Я не сказал ни слова, но не сомневаюсь, что все эти благородные мысли были написаны у меня на лице, так как Массена крепко пожал мне руку.
— Вон там гора и сигнальный костер, — сказал он. — На пути у тебя только этот бандит со своими людьми. Я не могу отрядить на это дело крупные силы, а маленькую группу они заметят и уничтожат. Так что ты должен все сделать в одиночку. Каким образом, решай сам, но сегодня в полночь я должен увидеть костер на вершине горы, — Если костер не загорится, — сказал я, — прошу вас, маршал Массена, прикажите продать все мое имущество, а деньги отослать моей матери.
Я отдал честь и повернулся кругом, а сердце мое ликовало от мысли, какой славный подвиг мне предстоит.
Я посидел немного у себя в комнате, раздумывая, как лучше приняться за это дело. Если ни Кортексу, ни Дюплесси, весьма исполнительным и энергичным офицерам, не удалось добраться до вершины Сьерры де Меродаль, это означало, что за местностью пристально наблюдают партизаны. Я прикинул по карте расстояние. Выходило, что прежде чем я достигну гор, нужно пересечь десять миль открытой местности. Дальше начиналась полоса леса у подножия шириной мили в три-четыре. И наконец самая гора, не такая уж высокая, но спрятаться там решительно негде. Таковы были три этапа предстоящего мне пути.
Я решил, что стоит только пробраться к лесу, и дальше все пойдет как по маслу: я пролежу там до вечера, а на гору заберусь под покровом темноты. С восьми вечера до полуночи целых четыре часа темного времени. Значит, серьезно обдумать надо лишь первый этап.
На равнине заманчиво белела дорога, и я вспомнил, что оба моих товарища уехали верхом. Ясное дело, это их и погубило, потому что бандитам легче легкого следить за дорогой, и всякий, кто там появлялся, попадал к ним в лапы. Мне ничего не стоило бы пересечь верхом равнину, ведь лошади у меня в ту пору были отличные — не только Фиалка и Барабан, два лучших скакуна во всей армии, но и великолепная английская вороная охотничья лошадь, которую я угнал у сэра Коттона. Однако, поразмыслив, я решил идти пешком, надеясь, что так мне легче будет воспользоваться всяким благоприятным случаем, какой только представится. Что же до одежды, то я накинул поверх гусарского мундира длинный плащ, а на голову надел серую фуражку. Вы спросите, почему я не переоделся в крестьянскую одежду, но, скажу я вам, благородному человеку вовсе не улыбается умереть смертью шпиона. Одно дело — расправа, другое — справедливая казнь по законам войны. Я не хотел позорной смерти.
Под вечер я украдкой вышел из лагеря и прошел мимо наших передовых постов. Под плащом у меня была подзорная труба, небольшой пистолет, и, конечно, сабля. В кармане — трут, кремень и кресало.
Первые несколько миль меня скрывали виноградники, и я ушел так далеко, что уже ликовал, думая про себя, что нужно только иметь голову на плечах да умеючи взяться за дело — и успех обеспечен. Конечно, Кортекса и Дюплесси сразу заметили, когда они скакали по дороге, но Жерар не так прост, он избрал путь через виноградники. И, представьте себе, я прошел не меньше пяти миль, прежде чем наткнулся на первое препятствие. На пути у меня оказалась маленькая таверна, вокруг которой я увидел несколько повозок, а около них суетились люди — первые, кого я встретил. Я уже далеко ушел от наших позиций и знал, что здесь могут быть только враги, а потому припал к земле и подполз поближе, желая узнать, что происходит. Я увидел, что это крестьяне и что они нагружают две повозки пустыми бочонками из-под вина. Так как мне от них не могло быть ни вреда, ни пользы, я продолжал путь.
Но вскоре я понял, что дело совсем не так просто, как кажется. Когда я поднялся повыше, виноградники кончились, и я очутился на открытом склоне, усеянном невысокими пригорками. Присев в лощине, я осмотрел их в подзорную трубу и сразу обнаружил, что на каждом из них сидит дозорный и что у португальцев есть линия передовых постов не хуже нашей. Я много слышал о том, какую железную дисциплину поддерживал среди своих людей этот негодяй по прозвищу Шутник, и вот теперь передо мной неоспоримое свидетельство, что это правда. В ущелье тоже оказался кордон, и хотя я несколько взял в сторону, впереди по-прежнему были враги. Я не знал, что делать. Укрыться было решительно негде, тут даже крыса не проскользнула бы. Конечно, я мог бы без труда пройти этот открытый участок ночью, как пробрался через позиции англичан в Торрес Ведрас, но до горы было все еще далеко, и я не поспел бы туда вовремя, чтобы зажечь костер в полночь. Я лежал в лощине и строил сотни планов, один рискованнее другого. И вдруг меня словно озарила вспышка света — вот что значит не падать духом.
Помните, я уже говорил, что около таверны грузили пустыми бочонками две повозки. Быки были повернуты на восток, и, значит, направлялись они именно в ту сторону, куда мне нужно. Если только мне удастся спрятаться в одном из них, едва ли я найду более удобный и легкий путь проникнуть через позиции партизан. План был так прост и удачен, что, когда он пришел мне в голову, я не удержался от радостного возгласа и поспешил к таверне. Там, спрятавшись в кустах, я хорошенько пригляделся к тому, что происходило на дороге.
Трое крестьян в красных шапках грузили бочонки; одна повозка была уже нагружена доверху, вторая — только в один ряд. Много пустых бочонков еще лежало перед домом, ожидая погрузки. Судьба была ко мне благосклонна, я всегда говорил, что она — женщина и не может устоять перед бравым молодым гусаром. Пока я наблюдал, все трое вошли в таверну, так как день был жаркий и с усталости им захотелось промочить глотку. Я пулей выскочил из своего укрытия, залез на повозку и забрался в пустой бочонок. Он был с дном, но без крышки и лежал на боку, открытой стороной внутрь. Я заполз туда, как собака в конуру, подобрав колени к подбородку, так как бочонки были не очень большие, а я малый рослый. Тем временем крестьяне снова вышли, и вскоре я услышал грохот у себя над головой и понял, что сверху взвалили еще один бочонок. Они громоздили их все выше, и я уже не знал, как выберусь на волю. Но думать о том, как переправиться через Вислу, надо, когда будешь уже за Рейном, и я не сомневался, что, если случай и смекалка помогли мне добраться сюда, они помогут мне и дальше.
Вскоре повозка была нагружена, и крестьяне тронулись в путь, а я знай себе посмеивался, сидя в бочонке, так как меня везли именно туда, куда мне было надо. Ехали мы медленно, крестьяне шли пешком рядом с повозками. Я знал об этом потому, что слышал рядом их голоса. Мне показалось, что они веселые парни, потому что они над чем-то смеялись от всего сердца. В чем была соль я не понял. Хоть я и неплохо изъяснялся на их языке, но в обрывках разговора, которые до меня долетали, я не усмотрел ничего смешного.
Прикинув скорость упряжных быков, я решил, что мы делаем около двух миль в час. И когда прошли два с половиной часа — да каких, друзья мои, ведь я лежал скрючившись, задыхаясь, едва не отравившись винными парами, — когда они прошли, я был уверен, что опасная открытая полоса осталась позади и мы уже у подножия горы, на опушке леса. Теперь надо было подумать, как выбраться из бочки. Я перебрал несколько способов и тщательно взвешивал каждый, как вдруг вопрос решился сам собой, просто и неожиданно.
Повозка вдруг остановилась, и я услышал грубые, раздраженные голоса.
— Где, где? — крикнул один.
— Да у нас в повозке, — ответил другой.
— А кто он? — спросил третий.
— Французский офицер. Я видел его фуражку и сапоги.
Все так и покатились со смеху.
— Я глянул в окно, вдруг вижу, как он сиганет в бочонок, будто тореадор, за которым гонится севильский бык.
— В который же бочонок?
— Да вот сюда, — сказал этот малый и кулаком стукнул по бочонку у самой моей головы.
Ну и положеньице, доложу я вам, друзья мои, для такого прославленного человека, как я! Даже теперь, сорок лет спустя, я краснею, как вспомню об этом. Сидеть, словно птица в силке, беспомощно слушать грубый смех этих мужиков и знать, что дело, которое мне поручено, заканчивается столь постыдным и даже смешным образом, — да я благословил бы всякого, кто пустил бы в бочонок пулю и избавил меня от унижения.
Я услышал грохот сбрасываемых бочонков, а потом на меня глянули две бородатые рожи и два ружейных ствола. Меня ухватили за рукава и вытащили на свет божий. Вероятно, нелепый был у меня вид, когда я стоял, хлопая глазами от слепящего солнечного света. Я скрючился, как калека, не в состоянии расправить затекшее тело, и одна половина моего мундира стала красной, как у англичан, от остатков вина, в которых я лежал. А эти псы все хохотали, и когда я попытался жестами и всем своим видом выразить то презрение, которое я к ним испытывал, они загоготали еще пуще. Но даже в этих нелегких обстоятельствах я держался с обычным достоинством и медленно переводил с одного на другого взгляд который никто из этих насмешников не мог выдержать.
Этого единственного взгляда вокруг мне оказалось достаточно, чтобы сообразить, где я. Крестьяне завезли меня прямо в лапы партизанам, к их передовым постам. Я увидел восемь бородатых дикарей — головы у них были повязаны под сомбреро бумажными платками, на них были куртки со множеством пуговиц, перепоясанные цветными шарфами. У каждого было ружье и по два, а то и по три пистолета за поясом. Начальник, здоровенный бородатый бандит, наставил ружье прямо мне в ухо, а остальные обшарили мои карманы, стянули с меня плащ, отобрали пистолет, подзорную трубу, саблю и, что хуже всего кремень, трут и кресало. Теперь, как бы ни обернулось дело, все погибло, потому что даже если я доберусь до вершины горы, мне нечем будет разжечь костер.
Я был один, друзья мои, безоружный, против восьмерых, да тут еще эти трое крестьян! Но неужто вы думаете, что Этьен Жерар отчаялся? Нет, вы меня слишком хорошо знаете; но они-то еще меня не знали, эти проклятые головорезы. В жизни не делал я столь могучего и великолепного усилия, как в этот миг, когда, казалось, все пропало. И все же вам пришлось бы долго гадать, прежде чем вы доискались бы способа, с помощью которого я от них ускользнул. Вот послушайте, я вам расскажу.
Они обыскали меня, а потом стащили с повозки, и я, все еще весь скрюченный, стоял среди этой толпы. Но постепенно оцепенение проходило, и вот уже мой мозг начал лихорадочно искать какого-нибудь способа бежать. Разбойничья засада находилась в узком ущелье. С одной стороны был крутой обрыв. С другой — тянулся длинный склон, спускавшийся в поросшую кустарником долину в сотне футов под нами. Сами понимаете, эти ребята были прирожденные горцы и, конечно уж, лазали по горам быстрей меня. На них были «абаркас», кожаные башмаки, привязанные к ногам, как сандалии, в которых всюду можно пройти. Человек менее решительный пришел бы в отчаянье. Но я в мгновенье ока заметил, какой редкий случай посылает мне судьба, и воспользовался им.
На самом краю склона валялся один из винных бочонков. Я тихонько подвинулся к нему, а потом прыгнул, как тигр, нырнул в бочонок ногами вперед и, дернувшись всем телом, покатился по склону.
Никогда не забыть мне это ужасное путешествие — с грохотом и треском летел я, подпрыгивая, по проклятому склону. Я подобрал колени и локти, свернувшись в тугой клубок, чтобы придать себе устойчивости; но голова все равно торчала наружу, и просто чудо, что мне не вышибло мозги. Сперва склон был пологий и довольно ровный, потом пошли крутые откосы, и бочонок уже не катился, а скакал, как козел, летя вниз с громом и дребезгом, от которого трещали все мои косточки. Ох, как свистел ветер у меня в ушах, и все вокруг кружилось, так что меня стало тошнить, и я чуть не лишился чувств! Со свистом, хрустом и треском вломился я в кусты, которые только что видел далеко внизу под собой, пролетел их насквозь и врезался в рощицу, где мой бочонок, налетев на деревцо, развалился. Я выполз из кучи обломков досок и обручей, все тело у меня ныло, но сердце громко пело, ликуя, и я воспрянул духом, радуясь своему замечательному подвигу, и уже словно видел костер, пылающий на вершине горы.
Во время спуска меня так швыряло, что нестерпимая тошнота подкатывала к горлу, и я чувствовал себя, как в море, когда мне впервые довелось испытать силу ветра и воды, которыми англичане так бессовестно воспользовались[9]. Пришлось мне посидеть немного, обхватив руками голову, подле обломков бочонка. Но прохлаждаться было некогда. Я уже слышал крики наверху, свидетельствовавшие, что мои преследователи спускаются. Я бросился в самую чащу и бежал до тех пор, пока совершенно не выбился из сил. Тогда я, задыхаясь, упал на землю и стал напряженно прислушиваться, но все было тихо. От погони я ушел.
Когда я отдышался, то поспешил дальше и прошел вброд по руслам нескольких ручьев, где мне было по колено, потому что партизаны могли пойти по моему следу с собаками. Выйдя на поляну и оглядевшись, я, к радости своей, обнаружил, что не слишком отклонился от своего пути. Надо мной высилась вершина Меродаля, ее голый пик торчал над рощами карликовых дубов, растущих по склонам. Эти рощи были продолжением того леса, в котором я укрылся, и я подумал, что теперь бояться нечего, пока не доберусь до дальней опушки. Но я не забывал ни на минуту, что со всех сторон окружен врагами и они многочисленны, а я безоружен. Я никого не видел, но слышал несколько раз пронзительный свист и отдаленные выстрелы.
Нелегко было продираться сквозь кусты, и я обрадовался, когда пошли деревья побольше и появилась тропинка, которая вела через лес. Конечно, я был не такой дурак, чтобы идти по ней, но держался поблизости, продвигаясь в том же направлении. Я шел уже довольно долго и считал, что опушка близко, как вдруг услышал какие-то странные стоны. Сначала я подумал, что кричит какой-нибудь зверь, но потом услышал слова, из которых разобрал только французское восклицание «Mon Dieu!». Я с большой осторожностью двинулся на голос и увидел вот что.
На подстилке из сухих листьев лежал человек в таком же сером мундире, какой был на мне. Видимо, он был тяжело ранен, потому что прижимал к груди тряпку, красную от крови. Вокруг растеклась целая лужа, и над раненым, назойливо жужжа, роились мухи, которые наверняка привлекли бы мое внимание, если б я даже не услышал стоны. Сначала я затаился, опасаясь ловушки, но потом сострадание и чувство товарищества взяли верх над всем остальным, и я бросился вперед и опустился подле него на колени. Он повернул ко мне осунувшееся лицо, и я узнал Дюплесси, который отправился прежде меня с тем же поручением. Достаточно было одного взгляда на его ввалившиеся щеки и помутневшие глаза, чтобы понять, что он умирает.
— Жерар! — сказал он. — Жерар!
Я мог лишь взглядом выразить свое сострадание, но он, хотя жизнь быстро покидала его, помнил о своем долге, как и подобает храбрецу.
— Костер, Жерар! Вы зажжете его?
— А есть у вас кремень и кресало?
— Вот!
— В таком случае сегодня ночью он загорится.
— Теперь я могу умереть спокойно. Они подстрелили меня, Жерар. Но скажите маршалу, что я сделал все возможное.
— А Кортекс?
— Ему повезло еще меньше. Он попал к ним в лапы и принял страшную смерть. Жерар, если увидите, что вам не уйти, пустите пулю в сердце. Не дай вам бог умереть, как он.
Я видел, что дыхание его слабеет, и должен был низко склониться к нему, чтобы расслышать его слова.
— Что вы мне посоветуете? — спросил я.
— Де Помбаль. Он поможет. Положитесь на де Помбаля.
С этими словами он уронил голову и испустил дух.
— Вы слышали, положитесь на де Помбаля. Это хороший совет!
Тут я с удивлением увидел, что совсем рядом стоит человек. Я был так занят своим товарищем, так жадно ловил его слова, что незнакомец подошел незамеченным. Я мигом вскочил с колен и повернулся к нему. Он был высокий, темноволосый, черноглазый и чернобородый, с длинным печальным лицом. В руке он держал бутылку вина, а через плечо у него, как у всех партизан, висел «трабуко». Он не сделал движения снять мушкетон, и я понял, что это ему вверил меня мой погибший друг.
— Увы, он мертв! — сказал де Помбаль, склоняясь над Дюплесси. — Когда его ранили, он скрылся в лесу и вскоре упал, но, к счастью, я нашел его и облегчил его конец. Я устроил ему вот это ложе и принес вина, чтобы он мог утолить жажду.
— Сеньор, — сказал я. — Благодарю вас от лица Франции. По чину я всего лишь кавалерийский полковник, но меня зовут Этьен Жерар, а это имя не из последних во французской армии. Могу ли узнать…
— Да, я Алоисиус де Помбаль, младший брат знаменитого дворянина, носящего ту же фамилию. В настоящее время я офицер в отряде у Шутника Мануэло.
Клянусь, рука моя потянулась к тому месту, где недавно висел пистолет, но де Помбаль только улыбнулся.
— Я правая рука Мануэло, но в то же время злейший его враг, — сказал он. — С этими словами он скинул куртку и поднял рубаху. — Вот поглядите! — воскликнул он и повернулся ко мне спиной, которая вся была исполосована и иссечена красными и багровыми рубцами. — Вот что сделал Шутник со мной, с человеком, в чьих жилах течет кровь самого благородного рода в Португалии. Но вы еще увидите, что я сделаю с Шутником!
В его глазах и усмешке была такая ненависть, что я больше не сомневался в правдивости его слов, да и кровавые, запекшиеся рубцы на спине подтверждали это.
— Со мной десять человек, которые поклялись мне в верности, — сказал он. — Я надеюсь вскоре присоединиться к вашей армии, вот только улажу здесь кое-какие дела. А пока… — Вдруг лицо его странным образом изменилось, и он схватился за ружье. — Руки вверх французский пес! — заорал он. — Руки вверх, не то я вышибу тебе мозги!
Вы вздрогнули, друзья мои! У вас глаза полезли на лоб! Представьте же себе, что было со мной, когда наш разговор закончился столь неожиданно. На меня смотрел черный ствол, и над ним блестели черные злые глаза. Что было делать? Податься некуда. Я поднял руки. В тот же миг со всех сторон послышались голоса, крики, свистки, быстрый топот множества ног. Из зеленых кустов высыпал всякий сброд, десяток рук схватили меня, и я, жалкий, несчастный, взбешенный, снова очутился в плену. Слава богу, за поясом у меня не было пистолета, не то я пустил бы себе пулю в лоб. Будь у меня в тот миг оружие, я не сидел бы сейчас здесь в кафе и не рассказывал вам эти давнишние истории.
Грязные, волосатые руки вцепились в меня со всех сторон и потащили по тропинке через лес, а этот негодяй де Помбаль отдавал приказы. Четверо головорезов несли труп Дюплесси. Уже смеркалось, когда мы вышли из леса на голый склон горы. Меня повели вверх, и наконец мы очутились в главном штабе партизан, в ущелье под самой вершиной. Прямо у нас над головами высился тот самый костер, из-за которого меня постигла столь ужасная судьба. Ниже лепились хижины — раньше тут, без сомнения, жили пастухи, а теперь разместились эти негодяи. Меня, связанного и беспомощного, втолкнули в одну из них, а рядом швырнули тело моего бедного товарища.
Я лежал на полу, и одна мысль не давала мне покоя: как протянуть еще несколько часов и добраться все-таки до этой кучи дров у меня над головой? Но вдруг дверь распахнулась, и вошел какой-то человек. Не будь у меня связаны руки, я вцепился бы ему в горло, потому что это был не кто иной, как де Помбаль. Следом за ним вошли еще двое, но он приказал им выйти и плотно притворил дверь.
— Ты подлец! — сказал я.
— Тс! — остановил он меня. — Говорите шепотом, потому что нас могут подслушать, а на карту поставлена моя жизнь. Мне нужно кое-что сказать вам, полковник Жерар. Я желаю вам добра, как желал вашему несчастному умершему другу. Когда мы разговаривали у его тела, я вдруг увидел, что мы окружены и вас неизбежно схватят. Замешкайся я хоть на миг, мне пришлось бы разделить вашу участь. Я тотчас взял вас на мушку, чтобы сохранить доверие отряда. Рассудите сами, и здравый смысл скажет вам, что ничего другого мне не оставалось. Не знаю, удастся ли мне теперь спасти вас, но я по крайней мере попытаюсь.
Дело приняло новый оборот. Я сказал, что не могу быть уверен в его искренности, но буду судить об этом по его поступкам.
— Лучшего я и не желаю, — сказал он. — И позвольте дать вам один совет. Сейчас вас отведут к командиру. Говорите ему правду, не перечьте ему ни в чем. Выложите ему все сведения, какие он потребует. Это ваш единственный шанс на спасенье. Если вы сумеете выиграть время, быть может, случай придет нам на помощь. А теперь медлить больше нельзя. Выходите скорей, не то меня заподозрят.
Он помог мне встать и, открыв дверь, грубо выволок меня из хижины, а потом вместе с теми двумя, что ждали снаружи, грубыми пинками и ударами погнал туда, где сидел их командир, а вокруг столпились его подчиненные.
Этот Шутник Мануэло был удивительный человек. Толстый, румяный, самодовольный, с широким, чисто выбритым лицом, ни дать ни взять добропорядочный отец семейства. Увидев его открытую улыбку, я не мог поверить, что это в самом деле тот презренный негодяй, чье имя приводило в трепет английскую армию да и нашу тоже. Все знают, что впоследствии английский офицер Трент повесил его за зверства. А сейчас он сидел на валуне и улыбался мне, словно встретил старого знакомого. Однако от меня не укрылось, что один из его подчиненных опирался на длинную пилу, и этого было довольно, чтобы рассеять все мои иллюзии.
— Добрый вечер, полковник Жерар, — сказал он. — Штаб генерала Массена оказал нам высокую честь. Сначала нас посетил майор Кортекс, на другой день — полковник Дюплесси, а теперь — полковник Жерар. Как знать, может, и самому маршалу придется нанести нам визит. Я полагаю, Дюплесси вы видели. А Кортекса вы найдете вон там внизу. Остается только решить, как нам лучше всего поступить с вами.
Это была не слишком обнадеживающая речь. Но его жирное лицо все время морщилось в улыбке, и говорил он самым успокаивающим и благодушным тоном. Но вдруг он подался вперед, и я почувствовал, что он буквально сверлит меня взглядом.
— Полковник Жерар, — сказал он. — Я не могу обещать, что подарю вам жизнь, ибо не таков наш обычай, но в моей воле предать вас легкой смерти или смерти в страшных мучениях. Какую вы предпочитаете?
— А чего вы потребуете от меня взамен?
— Если хотите умереть легко, вы должны правдиво ответить на все мои вопросы.
У меня в голове мелькнула внезапная мысль.
— Вы намерены меня убить, — сказал я. — Вам все равно, как я умру. Если я отвечу на ваши вопросы, позволите ли вы мне самому выбрать смерть?
— Отчего ж, — ответил он. — Но все должно быть кончено сегодня до полуночи.
— Поклянитесь! — вскричал я.
— Слoва португальского дворянина должно быть достаточно, — сказал он.
— Я ничего не скажу, пока вы не дадите клятву.
Он побагровел от ярости и покосился на пилу. Но по моему тону он понял, что у меня слово не расходится с делом и меня не запугаешь. Он вынул из-под «самарра», полушубка из черной овчины, крест.
— Клянусь, — сказал он.
Ах, как я обрадовался, когда услышал это! Какой конец, какой великолепный конец для первого рубаки Франции! Я готов был смеяться от восторга.
— Спрашивайте! — сказал я.
— Поклянитесь и вы, что скажете правду.
— Клянусь честью солдата и дворянина.
Как видите, я дал ужасную клятву, но это был пустяк по сравнению с тем, что я мог выиграть.
— Ну что ж, сделка честная и прелюбопытная, — сказал он, доставая из кармана записную книжку. — Не соблаговолите ли вы обратить свой взор в сторону французского лагеря?
Взглянув туда, куда он указывал, я увидел внизу, на равнине, наш лагерь. Хотя до него было пятнадцать миль, прозрачный воздух позволял разглядеть все до мельчайших подробностей. Я видел прямоугольники наших палаток, домики с коновязями и темные пятна — десять артиллерийских батарей. Как грустно было думать о моем славном полку, который ждет меня там, внизу, и знать, что никогда больше не видеть им своего полковника! Будь со мной один только эскадрон, я стер бы этих головорезов с лица земли. Я жадно вглядывался вдаль, и глаза мои наполнились слезами, когда я взглянул на тот угол лагеря, где, я знал, были восемьсот человек, любой из которых отдал бы за своего полковника жизнь. Но моя печаль рассеялась, когда я увидел за палатками дымок над главным штабом в Торрес Новас. Там был Массена, и, слава богу, ценой своей жизни я выполню сегодня ночью его приказ. Душа моя исполнилась ликованием и гордостью. Мне хотелось крикнуть громовым голосом, так, чтобы меня услышали: «Глядите, это я, Этьен Жерар, я умираю, чтобы спасти армию Клозеля!» Право, обидно было думать, что некому будет потом рассказать о моем славном подвиге.
— Итак, — сказал разбойничий главарь, — вон лагерь, а вон, дорога, которая ведет в Коимбру. Она вся забита вашими фургонами и санитарными повозками. Значит ли это, что Массена готовится к отступлению?
Мне были видны темные очертания движущихся фургонов, среди которых порой поблескивали штыки конвойных. Не говоря уж о том, что я обещал ответить на все вопросы, не было никакого смысла отрицать очевидное.
— Да, он намерен отступить.
— На Коимбру?
— Насколько мне известно, да.
— А как же армия Клозеля?
Я пожал плечами.
— Все дороги, ведущие на юг, отрезаны. Снестись с Клозелем нет никакой возможности. Если Массена отступит, армия Клозеля обречена.
— Видно, такова уж ее судьба, — сказал я.
— Сколько у него солдат?
— Вероятно, около четырнадцати тысяч.
— А кавалерии?
— Одна бригада из дивизии Монбрена.
— Какие полки в ее составе?
— Четвертый егерский, Девятый гусарский и один полк кирасиров.
— Все верно, — сказал он, справившись в своей книжке. — Я вижу, вы говорите правду, но, если вздумаете соврать, пеняйте на себя.
После этого от перебрал всю армию, подразделение за подразделением, расспрашивая о составе каждой бригады. Нужно ли говорить вам, что я скорее дал бы вырвать себе язык, чем выдал бы все это, не будь у меня более важной цели? Пускай знает все, только бы спасти армию Клозеля.
Наконец он закрыл свою книжку и сунул ее в карман.
— Я весьма признателен вам за все эти сведения, которые завтра же будут переданы лорду Веллингтону, — сказал он. — Вы, со своей стороны, соблюли условия сделки, теперь моя очередь. Как же вам желательно умереть? Вы солдат и, без сомнения, предпочтете расстрел, но некоторые считают, что прыжок в меродальскую пропасть более легкая смерть. Ее приняли многие, но мы, к несчастью, ни разу не имели возможности узнать потом их мнение. Мы, конечно, можем и вздернуть вас на суку, но это нежелательно, потому что придется спускаться к лесу. Однако слово есть слово, а вы, я вижу, славный малый, так что мы исполним ваше желание.
— Вы сказали, — ответил я, — что я должен умереть до полуночи. Я хочу, чтобы это произошло в двенадцать часов без одной минуты.
— Прекрасно, — сказал он. — Правда, это ребячество так цепляться за жизнь, но ваше желание будет исполнено.
— Что же до способа казни, — сказал я, — то хочу умереть так, чтобы меня видел весь мир. Положите меня вон на ту кучу хвороста и сожгите заживо, как сжигали некогда святых и мучеников. Это не совсем обычный конец, но ему мог бы позавидовать сам император.
Такая мысль, видимо, показалась ему очень забавной.
— Отчего же, — сказал он. — Раз Массена послал вас сюда шпионить, он, быть может, догадается, что значит этот костер.
— Вот именно, — подтвердил я. — Вы попали в самую точку. Конечно, он догадается, и все будут знать, что я умер смертью, достойной солдата.
— Не имею ничего против, — сказал разбойник со своей гадкой улыбочкой. — Я пришлю вам козлятины и вина. Солнце садится, скоро восемь. Через четыре часа будьте готовы покончить счеты с жизнью.
Мир был так прекрасен, и мне не хотелось умирать. Я поглядел на золотистую дымку внизу, где последние лучи заходящего солнца сверкали на голубой поверхности извилистого Тахо и поблескивали на белых парусах английских грузовых судов. Как все это было прекрасно, как не хотелось расставаться с жизнью! Но есть вещи во сто крат прекрасней! Пожертвовать собой ради других, во имя чести, долга, верности и любви — прекраснее этого нет ничего на земле. Сознание собственного благородства наполнило мою грудь восторгом, и я раздумывал о том, узнает ли хоть одна живая душа, как я по собственной воле взошел на костер, спасая армию Клозеля. Я надеялся и молил об этом бога — ведь только подумать, каким утешением это было бы для моей матушки, каким примером для всей армии, какой гордостью для моих гусар. Когда наконец ко мне пришел де Помбаль с едой и вином, я первым делом попросил его написать донесение о моей смерти и послать во французский лагерь. Он ничего не ответил, но за ужином у меня прибавилось аппетита от мысли, что моя славная судьба не останется безвестной.
Я пробыл в хижине около двух часов, когда дверь снова отворилась и в нее заглянул главарь разбойников. Я сидел в темноте, но сопровождавший его бандит держал факел, и я увидел, как блестят его глаза и оскаленные зубы.
— Готов? — спросил он.
— Еще не время.
— Вы непременно хотите дотянуть до последней минуты?
— Слово есть слово.
— Отлично. Будь по-вашему. А мы пока займемся собственными делами — один из моих молодцов осмелился оказать неповиновение. А у нас на этот счет строго, спросите хоть у де Помбаля, более достойного свидетеля не найти. Де Помбаль, ты свяжешь его и положишь на костер, а я потом приду поглядеть, как он будет поджариваться.
Де Помбаль и человек с факелом вошли в хижину, а шаги начальника замерли где-то в отдалении. Де Помбаль притворил дверь.
— Полковник Жерар, — сказал он, — доверьтесь этому человеку, он один из наших. Спасение или смерть. Мы еще можем вас выручить. Но я многим рискую и хочу получить от вас обещание. Если мы вас спасем, обещаете ли вы, что французы примут нас дружески и прошлое будет забыто?
— Обещаю.
— Я верю вашему слову. А теперь скорей, нельзя терять ни секунды! Если этот злодей вернется, нам всем не миновать лютой смерти.
И он принялся за дело, а я с удивлением следил за ним. Схватив длинную веревку, он опутал ею труп моего погибшего товарища и заткнул ему рот тряпкой, которая почти скрыла лицо.
— Ложитесь сюда! — крикнул он и уложил меня на то место, где только что лежал труп. — Там за дверью четверо моих людей, они положат тело на костер.
Он открыл дверь и отдал приказ. Несколько человек вошли и вынесли Дюплесси. А я остался лежать на полу, и в голове у меня беспорядочно смешались надежда и удивление.
Минут через пять де Помбаль и его люди вернулись.
— Вы уже лежите на костре, — сказал он. — Пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что это не вы. А во рту у вас такой кляп, руки и ноги так туго связаны, что вы не можете ни пошевельнуться, ни пикнуть. Ну, а теперь остается только вынести отсюда труп Дюплесси и сбросить его в меродальскую пропасть.
Двое из них подхватили меня за руки, а двое — за ноги и вынесли из хижины, причем я не пошевельнулся и не издал ни звука. Очутившись под открытым небом, я чуть не вскрикнул от удивления. Над костром светила луна, и в ее серебристом свете отчетливо видно было распростертое тело. Бандиты либо были в своем лагере, либо столпились вокруг костра, так как наш маленький отряд никто не остановил и не задал нам никаких вопросов. Де Помбаль повел своих людей к пропасти. Вскоре мы скрылись за уступом, и тогда мне позволили встать на ноги. Де Помбаль указал на узкую извилистую тропинку.
— Она ведет вниз, — сказал он и вдруг вскрикнул: — Dios mio[10], что это?
Ужасный вопль донесся из леса внизу под нами. Я видел, как де Помбаль дрожит, как испуганная лошадь.
— Ах, дьявол, — прошептал он. — Расправляется с кем-то, как расправился со мной. Но вперед, вперед, потому что если мы попадем к нему в лапы, да смилуется над нами небо.
Мы гуськом двигались по узкой, протоптанной козами тропе. Спустившись в ущелье, мы снова очутились в лесу. Вдруг над нами вспыхнуло желтое пламя, и черные тени стволов вытянулись впереди. Это подожгли костер. Даже издалека нам видно было тело, недвижно распростертое среди языков пламени, и черные фигуры бандитов, которые, воя, как людоеды, плясали вокруг костра. Ух! Как я грозил им кулаком, этим псам, и какие давал клятвы, что настанет день, когда я с моими гусарами сведу с ними счеты.
Де Помбаль знал расположение дозоров и все тропинки, которые вели через лес. Но, чтобы избежать встречи с этими негодяями, нам пришлось углубиться в горы, путь через которые был нелегким, и пройти немало миль. И все же с какой охотой прошел бы я не одну лигу, только бы увидеть это зрелище! Было, наверное, около двух ночи, когда мы остановились на скалистом горном отроге, по которому вилась тропа. Оглянувшись, мы увидели красное зарево костра, словно на высокой вершине Меродаля началось вулканическое извержение. Но вот я увидел нечто такое, отчего радостно вскрикнул и, упав, начал от восторга кататься по земле. Далеко на юге, у самого горизонта, мерцал дрожащий желтый свет, он то ярко вспыхивал, то мерк — это был не огонек в окне, не звезда, а ответный сигнал со Сьерра д'Осса: армия Клозеля увидела костер Жерара.
V. Как бригадир прославился в Лондоне
Я уже рассказывал вам, друзья мои, как я прославился среди англичан во время охоты на лису, которую гнал таким бешеным галопом, что даже свора прекрасных гончих не могла со мной тягаться, и собственной рукой разрубил ее надвое. Быть может, я слишком много говорю об этом, но есть в охотничьих победах радость, которую не приносит даже война, — ведь на войне делишь славу со своим полком и армией, а на охоте завоевываешь лавры без чужой помощи. У англичан есть перед нами то преимущество, что все они, и простые люди и аристократы, увлекаются спортом. Может быть, дело тут в том, что они богаче нас, а может, у них просто больше досуга, но я диву давался, когда был там в плену, до чего широко распространено это увлечение и как заполняет оно умы и жизнь людей. Скачки и бега, петушиные бои, травля собаками крыс, бокс — да они ради любого из этих зрелищ отвернулись бы от самого императора во всей его славе.
Я мог бы многое рассказать вам об английском спорте, потому что довольно насмотрелся на эти штуки, когда гостил у лорда Рафтона после того, как в Англию пришел приказ о моем обмене. Минуло много месяцев, пока удалось отправить меня во Францию, и все это время я жил у гостеприимного лорда Рафтона в его чудесном доме в Хай-Коме, в северной части Дартмура. Когда я удрал из Принстауна, он поехал вслед за мной вместе с полицией, меня нагнали, и я понравился лорду, как он понравился бы мне, если б я встретил у себя во Франции храброго и доброго малого, у которого нет на чужбине ни единого друга. Одним словом, он взял меня к себе, одевал, кормил и обращался со мной, как с родным братом. Надо отдать справедливость англичанам, они всегда были благородными противниками, и воевать с ними — одно удовольствие. На Пиренейском полуострове передовые посты испанцев выставляли нам навстречу ружья, а англичане — фляги с коньяком. Но и среди этих благородных людей не было ни одного, кто мог бы сравниться с достойным милордом, который от всей души протянул руку врагу, попавшему в печальные обстоятельства.
Ах, сколько воспоминаний о спорте пробуждает во мне одно название — Хай-Ком! Как сейчас вижу этот низкий, длинный гостеприимный дом из красного кирпича, с белыми оштукатуренными колоннами перед входом. Лорд Рафтон был большой любитель спорта, и все его друзья тоже. Но могу вас порадовать, я им почти ни в чем не уступал, а иногда мог бы дать и фору. За домом был лес, в котором разводили фазанов, и лорд Рафтон обожал их стрелять. Перед охотой в лес посылали людей, чтобы они гнали оттуда фазанов, а лорд со своими друзьями стоял на опушке и стрелял. Я же взялся за дело иначе: я изучил привычки фазанов и как-то вечером, когда они спали на деревьях, отправился в лес. Я не сделал почти ни одного промаха, но выстрелы привлекли лесника, и он, бестактный, как все англичане, стал упрашивать меня пощадить хотя бы уцелевших. В тот вечер лорда Рафтона ждал сюрприз: я принес к ужину двенадцать фазанов. Он смеялся до слез, так это его обрадовало. «Ох, Жерар, вы меня уморите!» — воскликнул он. Он частенько повторял это, потому что я то и дело удивлял его своими успехами в английском спорте.
Есть такая игра, которая называется крикет, в нее играют летом, и я ей тоже выучился. Главный садовник Радд был знаменитым игроком в крикет, да и сам лорд Рафтон ему не уступал. Перед домом была лужайка, и на ней-то Радд и учил меня. Это славная забава, самая что ни на есть подходящая игра для солдата, в ней каждый пытается попасть в другого шаром, а отбивать шар можно только маленькой палочкой. Три колышка сзади обозначают место, дальше которого нельзя отступать. Это не детская игра, скажу я вам, и должен признаться, что хоть мне и довелось участвовать в девяти кампаниях, я почувствовал, что бледнею, когда шар в первый раз пронесся мимо меня. Он летел так быстро, что я не успел даже поднять свою палку, чтобы отразить удар, но, на мое счастье, он попал не в меня, а в деревяшки, которые отмечали границу поля. Потом настала очередь Радда защищаться, а моя — нападать. Еще мальчишкой в Гаскони я научился бросать камни далеко и метко и не сомневался, что сумею попасть в этого храброго англичанина. Я с криком разбежался и метнул шар. Быстро, как пуля, шар летел ему прямо в грудь, но он без единого слова взмахнул палкой, и шар взвился высоко в небо. Лорд Рафтон захлопал в ладоши с криком одобрения. Шар вернулся ко мне, и снова пришла моя очередь бросать. На этот раз шар пролетел мимо его головы, и теперь он побледнел. Но он был не трус, этот садовник, и снова встал передо мной. Ах, друзья мои, настал час моего торжества! На нем был красный жилет, и я нацелился в этот жилет. Вы сказали бы, что я канонир, а не гусар, потому что трудно представить себе более точную наводку. С душераздирающим криком — так кричит храбрец, видя свое поражение, — он опрокинулся на деревянные колышки позади и вместе с ними рухнул на землю. А этот английский милорд был жестокий человек: он так смеялся, что не мог даже прийти на помощь своему слуге. Пришлось мне, победителю, броситься вперед, подхватить смелого игрока и поставить его на ноги со словами похвалы, ободрения и надежды. Он весь скорчился от боли и не мог разогнуться, но все же этот честный малый признал, что моя победа не случайна. «Он это нарочно! Нарочно!» — снова и снова повторял он. Все-таки замечательная игра крикет, и я охотно сыграл бы еще, но лорд Рафтон и Радд сказали, что сезон уже кончился и больше играть они не будут.
Конечно, это глупо, когда я, немощный старик, рассказываю о своих победах, и все же должен признаться, что в старости меня очень утешают и успокаивают воспоминания о женщинах, любивших меня, и о мужчинах, которых я в чем-либо превзошел. Приятно вспомнить, что через пять лет, когда заключили мир, лорд Рафтон приехал в Париж и заверил меня, что мое имя все еще гремит по всему северному Девонширу после удивительных подвигов, которые я совершил. В особенности, сказал он, много говорят о моем боксерском матче с достопочтенным Болдоком. Дело было так. По вечерам у лорда Рафтона собирались спортсмены, они выпивали немало вина, заключали самые невероятные пари и толковали о лошадях и травле лисиц. Как сейчас помню этих странных людей: сэр Бэррингтон, Джек Лаптон из Барнстейбла, полковник Эддисон, Джонни Миллер, лорд Сэдлер и мой противник, достопочтенный Болдок. Все они были на один лад — пьяницы, сумасброды, драчуны, игроки с вечными причудами и прихотями. Но все же они были по-своему добрые ребята, хоть и грубые, кроме этого Болдока, толстяка, который ужасно кичился своими боксерскими талантами. Его насмешки над французами, которые, мол, ничего не смыслят в спорте, и заставили меня вызвать его на бокс, в котором он был так силен. Вы скажете, что это глупость, друзья мои, но графин с вином уже не раз обошел стол, и молодая, горячая кровь взыграла во мне. Я буду драться с этим хвастуном; я покажу ему, что если мы и не владеем боксерским искусством, то храбрости нам не занимать. Лорд Рафтон не хотел допустить этого состязания. Я настаивал. Остальные подзадоривали меня и хлопали по спине.
— Черт побери, Болдок, нельзя же так, ведь он наш гость, — сказал Рафтон.
— Но он сам вызвался, — возразил тот.
— Послушайте, Рафтон, если они наденут перчатки, то не покалечат друг друга! — воскликнул лорд Сэдлер.
На том и порешили.
Я уже хотел вынуть из кармана перчатки, но нам тут же принесли четыре большие кожаные подушки, похожие на фехтовальные рукавицы, только побольше. Мы сняли сюртуки и жилеты, после чего нам надели эти самые рукавицы. Стол вместе с бокалами и графинами задвинули в угол, и вот мы стоим лицом к лицу! Лорд Сэдлер уселся в кресло с часами в руке.
— Первый раунд! — объявил он.
Признаюсь вам, друзья мои, что в этот миг я почувствовал вдруг такую дрожь, какой не испытывал ни на одной дуэли, а дрался я несчетное количество раз. Со шпагой или с пистолетом в руке я чувствую себя как рыба в воде, а тут я только понимал, что должен драться с этим толстяком и сделать все, что в моих силах, чтобы его одолеть, несмотря на здоровенные подушки у меня на руках. Да еще с самого начала меня лишили лучшего оружия, которое оставалось.
— Запомните, Жерар, ногами бить нельзя, — сказал лорд Рафтон мне на ухо. На мне была только пара тонких вечерних туфель, и все же при тучности противника несколько удачных пинков могли бы обеспечить мне победу. Но тут существует определенный этикет, так же как и в дуэли на саблях, и я воздержался от пинков. Я посмотрел на этого англичанина и подумал, как лучше его атаковать. У него были большие оттопыренные уши. Я мог бы ухватиться за них и повалить его на землю. Я бросился на него, но меня подвели толстые перчатки, и его уши дважды выскользнули из моих рук. Он ударил меня, но что мне его удары — я снова схватил его за ухо. Он упал, а я навалился сверху и стукнул его головой об пол. Как они подбадривали меня и хохотали, эти храбрые англичане, как хлопали меня по спине!
— Ставлю на француза один к одному! — воскликнул лорд Сэдлер.
— Но он дерется нечестно! — крикнул мой противник, потирая покрасневшее ухо. — Бросился на меня, как зверь, и повалил на пол.
— Ну, вы сами напросились, — холодно сказал лорд Рафтон.
— Второй раунд! — объявил лорд Сэдлер, и мы снова заняли боевые позиции.
Мой противник побагровел, его маленькие глазки сверкали злобой, как у бульдога. На лице была написана ненависть. Я, со своей стороны, держался непринужденно и добродушно. благородный француз в драке не испытывает ненависти. Я встал перед ним и поклонялся, как делал на дуэли. Поклоном можно выразить любезность и учтивость, равно как и вызов; я же вложил в него все эти три оттенка, да еще слегка насмешливо пожал плечами. В этот миг он нанес мне удар. Все вокруг завертелось. Я упал навзничь. Но в мгновение ока я был уже на ногах и перешел в ближний бой. Я хватал его то за уши, то за волосы, то за нос. И снова радостное безумие боя зажгло мою кровь. С уст моих сорвался старый победный клич.
— Vive l'Empereur! — закричал я и ударил его головой в живот. Он обхватил меня за шею и, удерживая одной рукой, другой начал осыпать ударами. Я вцепился ему в руку зубами, и он взвыл от боли.
— Разведите нас, Рафтон! — взвизгнул он. — Разведите, слышите! Он кусается!
Меня оттащили. Никогда не забуду этот день — смех, приветствия, поздравления! Даже мой противник не затаил на меня злобы и пожал мне руку. Я же, со своей стороны, расцеловал его в обе щеки. Через пять лет после этого лорд Рафтон сказал мне, что доблесть, проявленная мною в тот вечер, все еще живет в памяти моих английских друзей.
Однако сегодня я хочу рассказать вам не о своих спортивных победах, а о леди Джейн Дэкр и о странном приключении, которому она послужила причиной. Леди Джейн Дэкр была сестрой лорда Рафтона и хозяйкой в его доме. Боюсь, что до моего появления она чувствовала себя одинокой, ведь это была красивая и утонченная женщина, у которой не могло быть ничего общего с окружавшими ее людьми. Право же, это относится ко многим английским дамам того времени, поскольку мужчины там все были грубые, неотесанные, низменные, с мужицкими замашками, лишенные каких-либо достоинств, а женщины — самые милые и нежные, каких я только знал. Мы с леди Джейн стали большими друзьями, и я, поскольку мне не под силу выпить после обеда три бутылки портвейна, как этим девонширским джентльменам, искал приюта в ее гостиной, где она каждый вечер играла на клавикордах, а я пел ей французские песни. В эти безмятежные минуты я забывал о своих горестях и тоске, которая меня охватывала, когда я вспоминал, что мой полк остался без любимого командира и вождя перед лицом врага. Право, я готов был рвать на себе волосы, когда читал в английских газетах о славных сражениях в Португалии и на границах Испании, ведь я бы участвовал в них, не попади я в плен к милорду Веллингтону.
Из того, что я рассказал о леди Джейн, вам, друзья мои, конечно, уже ясно, какой оборот приняло дело. Этьен Жерар очутился в обществе молодой и красивой женщины. Чем это может кончится для него? И для нее? Не мне, гостю, да еще пленному, заводить шашни с сестрой хозяина. Я был сдержан. Я был скромен. Старался обуздать свои чувства. Правда, боюсь, что я все-таки выдал себя с головой, ведь когда язык молчит, глаза становятся особенно красноречивыми. Я перелистывал ноты, когда она играла, и дрожание пальцев обнаруживало мои чувства. Но она… она была восхитительна. В таких делах женщина способна на непостижимое притворство. Если б я не разгадал ее, мне нередко казалось бы, что она просто-напросто забывала о моем присутствии. Она часами сидела, погруженная в задумчивость, а я любовался ее бледным лицом и красивыми локонами, освещенными лампой, и трепетал от восторга при мысли, что так сильно затронул ее чувства. Наконец я нарушал молчание, она вздрагивала в своем кресле и смотрела на меня с восхитительным притворством, будто удивленная, что я здесь. Ах! Как хотелось мне броситься к ее ногам, поцеловать ее белую ручку, сказать ей, что я разгадал ее тайну и не обману ее доверия! Но нет, я не был ей равным, я жил в ее доме как отверженный, как враг. Мои уста были замкнуты. Я попытался подражать ей в ее поразительном притворном равнодушии, но, как вы можете себе представить, с нетерпением ждал малейшего повода быть ей полезным.
Однажды утром леди Джейн села в карету и уехала в Оукхемптон, а я пошел пешком по дороге, надеясь встретить ее, когда она будет возвращаться. Зима была в самом начале, и увядшие папоротники клонились к извилистой дороге. Унылое место этот Дартмур — глушь да скалы, край ветров и туманов. Я шел и размышлял, что не мудрено, если англичане страдают сплином. У меня у самого было тяжело на сердце, и я присел на пригорок у дороги, глядя на унылые окрестности, а душа моя была беспокойна и полна дурных предчувствий. Но вдруг, взглянув на дорогу, я увидел такое, что все прочие мысли разом вылетели у меня из головы, и я вскочил на ноги с криком удивления и гнева.
Из-за поворота дороги показалась карета, и лошадка, которой она была запряжена, скакала во всю прыть. В карете сидела та, которую я вышел встречать. Она нахлестывала лошадь, словно спасалась от какой-то страшной опасности, то и дело оглядываясь. Ее преследователь был скрыт за поворотом дороги, и я бросился вперед, не зная, что меня ждет. В тот же миг я увидел этого преследователя, и удивление мое возросло еще больше. Это был джентльмен в красной охотничьей куртке, верхом на большой серой лошади. Он летел, как на скачках, и благодаря размашистому шагу своего прекрасного коня вскоре настиг карету. Я видел, как он наклонился, схватил вожжи и остановил лошадь. И тут же у них начался какой-то серьезный разговор, он что-то горячо говорил, склонившись с седла, а она жалась в угол, прячась от него, со страхом и отвращением.
Вы сами понимаете, друзья мои, что я не мог смотреть на это спокойно. Каким восторгом преисполнилось мое сердце, когда я подумал: вот прекрасный случай быть полезным леди Джейн! И я побежал — бог мой, как я бежал! Наконец, задыхаясь, не в силах вымолвить ни слова, я добежал до кареты. Этот человек, голубоглазый, как все англичане, скользнул по мне взглядом, но он был так поглощен разговором, что не обратил на меня никакого внимания, и леди тоже не сказала ни слова. Она все еще сидела, забившись в угол, и ее прекрасное бледное лицо было обращено к нему. Он был недурен собой — высокий, ладный, смуглолицый; когда я взглянул на него, то почувствовал укол ревности. Он говорил тихо и быстро, как все англичане, когда ведут серьезный разговор.
— Слышите, Джинни, я люблю вас, только вас одну, — сказал он. — Не будьте злопамятны, Джинни. Что было, то было, забудем прошлое. Ну, скажите же, что все забыто.
— Нет, Джордж, никогда, слышите, никогда! — воскликнула она.
Ее красивое лицо побагровело. Он едва сдерживал ярость.
— Почему вы не хотите простить меня, Джинни?
— Я не в силах забыть случившееся.
— А, черт, вы должны выбросить это из головы! Довольно я умолял вас. Настало время требовать. У меня есть на вас права, понятно?
Он грубо схватил ее за руку.
Я тем временем перевел наконец дух.
— Мадам, — сказал я, приподнимая шляпу, — простите за вмешательство, но не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?
Однако оба они обратили на меня не больше внимания, чем на муху, которой вздумалось бы жужжать около них. Они не сводили глаз друг с друга.
— Слышите, у меня есть права! И я достаточно долго ждал.
— Напрасно вы хотите меня запугать, Джордж.
— Так вы согласны?
— Никогда в жизни!
— Это ваше последнее слово?
— Да, последнее.
С уст его сорвалось проклятие, и он бросил ее руку.
— Ну ладно, миледи, я приму меры.
— Простите, сэр! — сказал я с достоинством.
— Ах, да подите вы к черту! — воскликнул он, поворачивая ко мне искаженное злобой лицо. С этими словами он дал шпоры коню и поскакал назад.
Леди Джейн провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, и я с удивлением заметил, что она вовсе не хмурится, а улыбается. Потом она повернулась ко мне и протянула руку.
— Благодарю вас, полковник Жерар. Я знаю, вы сделали это из благородных побуждений.
— Мадам, — сказал я, — если вы соблаговолите сообщить мне имя этого джентльмена, ручаюсь, что он никогда более не посмеет вам докучать.
— Нет, нет, заклинаю вас, не поднимайте скандала! — воскликнула она.
— Мадам, посмею ли я забыться до такой степени! Будьте уверены, что в этой истории имя леди мною упомянуто не будет. Послав меня к черту, этот джентльмен избавил меня от щекотливой необходимости искать повода для ссоры.
— Полковник Жерар, — сказала леди Джейн серьезно, — вы должны мне обещать как благородный человек и офицер, что с этим делом покончено и что вы не скажете моему брату о том, что видели. Обещаете?
— Как вам будет угодно.
— Ловлю вас на слове. А теперь садитесь и поедем домой, по дороге я вам все объясню.
Первая же фраза пронзила меня, как клинок.
— Этот человек — мой муж, — сказала она.
— Ваш муж!
— Разве вы не знали, что я замужем?
Казалось, мое волнение удивило ее.
— Не знал.
— Это лорд Джордж Дэкр. Мы поженились два года назад. Не к чему рассказывать, как он меня обидел. Я ушла от него, и брат приютил меня. До сегодняшнего дня этот человек оставлял меня в покое. Больше всего я опасаюсь дуэли между моим мужем и братом. Страшно даже подумать об этом. Вот почему лорд Рафтон не должен ничего знать о нашей сегодняшней случайной встрече.
— Если мой пистолет может избавить вас от затруднения…
— Нет, нет, об этом даже не думайте. Вспомните свое обещание, полковник Жерар. И ни слова в Хай-Коме о том, что вы слышали!
Ее муж! В своем воображении я видел ее молодой вдовой. И вот смуглолицый негодяй с его «подите к черту» оказался мужем этой нежной голубки. Ах, если б только она позволила мне освободить ее от ненавистной обузы! Нет более быстрого и надежного способа развестись, чем тот, который я мог ей предложить. Но слово есть слово, и я сдержал его. Я никому ничего не сказал.
Через неделю меня должны были отправить из Плимута в Сен-Мало, и я думал, что никогда не узнаю продолжения этой истории. Но судьбе угодно было, чтобы она имела продолжение, и я сыграл в ней весьма приятную и почетную роль.
Всего через три дня после того случая, о котором я рассказал, лорд Рафтон вдруг ворвался ко мне в комнату. Он был бледен и, как видно, чем-то крайне взволнован.
— Жерар! — воскликнул он. — Вы видели леди Джейн Дэкр?
Я видел ее после завтрака, а теперь было уже за полдень.
— Клянусь богом, совершено злодеяние! — воскликнул мой бедный друг, бегая по комнате, как безумный. — Приезжал бейлиф и сказал, что люди видели, как карета, запряженная парой, мчалась что есть духу по Тавистокской дороге. Когда она проезжала мимо кузницы, кузнец услышал женский крик. Джейн исчезла. Провалиться мне на месте, если ее не похитил этот негодяй Дэкр. — Он резко позвонил. — Немедленно оседлать двух лошадей! — крикнул он. — Полковник Жерар, где ваши пистолеты? Сегодня же я привезу Джейн назад из Грэйвел-Хэнгера, или же в Хай-Коме появится новый хозяин.
И вот через полчаса мы, как странствующие рыцари в старину, скакали на выручку леди, попавшей в беду. Лорд Дэкр жил близ Тавистока, и в каждом доме, на каждой дорожной заставе мы слышали о почтовой карете, мчавшейся впереди, так что не приходилось сомневаться, куда они держат путь. Дорогою лорд Рафтон рассказал мне о человеке, которого мы преследовали. Его имя было притчей во языцех по всей Англии, он стал символом всяких безобразий. Вино, женщины, кости, карты, скачки — всеми этими скандальными делами он стяжал себе дурную славу. Этот человек был из древнего и знатного рода, и, когда женился на красавице леди Джейн Рафтон, все надеялись, что он уймется. В самом деле, несколько месяцев он вел себя хорошо, а потом затеял какую-то грязную интрижку. Оскорбленная в своих лучших чувствах, Джейн бежала из дому и нашла приют у брата, из-под чьего крова ее теперь похитили силой, против воли. Судите же сами, может ли быть цель более благородная, чем та, которая свела нас с лордом Рафтоном в тот день.
— Вон Грэйвел-Хэнгер! — воскликнул он наконец, указывая хлыстом вперед; там, на зеленом склоне холма, стоял старинный дом из кирпича и дерева, такой очаровательный, какой встретишь только в английской глуши. — У ворот парка есть постоялый двор, там мы оставим лошадей, — добавил он.
Но я считал, что раз наше дело правое, нам всего лучше смело подскакать к дверям и потребовать, чтобы он отпустил леди. Однако тут я ошибался. Ибо англичанин боится только одного — закона. Он сам его устанавливает, но стоит закону войти в силу, и он становится тираном, перед которым пасуют самые отчаянные храбрецы. Англичанин с улыбкой преступит порог смерти, но побледнеет от страха, если придется преступить закон. Пока мы шли через парк, лорд Рафтон кое-что объяснил мне, и из его слов выходило, что в этой истории закон не на нашей стороне. Лорд Дэкр имел право увезти жену, так как она принадлежит ему, мы же ничем не отличались от грабителей, посягающих на чужую собственность. А грабителям нельзя открыто подходить к парадной двери. Мы могли забрать леди Джейн силой или хитростью, но не могли сделать это по праву, так как закон был против нас. Вот что объяснил мне мой друг, когда мы притаились в кустах под окнами. Из кустов мы могли наблюдать за этой крепостью и решить, удастся ли нам занять здесь прочные позиции и, главное, как снестись с прекрасной пленницей.
И вот мы с лордом Рафтоном засели в кустах, сжимая пистолеты в карманах охотничьих курток, и наши сердца были исполнены решимости не возвращаться домой без леди Джейн. Мы нетерпеливо вглядывались в длинный ряд окон. Никаких признаков присутствия пленницы заметно не было; но на усыпанной гравием дорожке перед дверью остались глубокие следы колес. Без сомнения, они уже приехали. Затаившись в кустах, мы шепотом держали военный совет, который вдруг был прерван самым необычным образом.
Из дома вышел высокий, белокурый человек, ни дать ни взять правофланговый гренадерской роты. Когда он повернул к нам смуглое, голубоглазое лицо, я узнал лорда Дэкра. Широким шагом он прошел по дорожке прямо к тому месту, где мы прятались.
— Выходите, Нед! — крикнул он. — Не то лесник, чего доброго, всадит в вас порцию свинца. Выходите, приятель, нечего сидеть в кустах.
Нельзя сказать, чтобы вид у нас был очень геройский. Мой бедный друг встал, весь красный от смущения. Я тоже вскочил на ноги и поклонился как можно учтивее.
— А! И этот француз тоже здесь? — сказал он, не отвечая на мой поклон. — Мы уже с ним столкнулись недавно. Что же касается вас, Нед, я знал, что вы примчитесь по горячим следам, и сам искал вас. Я видел, как вы прошли через парк и засели в кустах. Входите в дом, приятель, и сыграем в открытую.
Ну что ж, он был хозяином положения, этот рослый красавец, который непринужденно стоял у дверей дома, пока мы выбирались из своего убежища. Лорд Рафтон не сказал ни слова, но по его потемневшему лицу и мрачному взгляду я видел, что вот-вот грянет буря. Лорд Дэкр первый вошел в дом, мы последовали за ним. Он сам ввел нас в гостиную, отделанную дубовыми панелями, и плотно затворил дверь. Потом окинул меня наглым взглядом.
— Послушайте, Нед, — сказал он, — до сих пор англичане сами улаживали свои семейные дела. Какое отношение имеет этот чужеземец к вашей сестре и моей жене?
— Сэр, — сказал я, — да будет мне позволено заметить, что речь здесь идет не только о жене или сестре, — я друг леди Джейн и имею неотъемлемое право, как всякий благородный человек, защищать женщину от жестокого обращения. Слова бессильны выразить то, что я о вас думаю, поэтому вот, извольте!
В руке у меня была перчатка, и я хлестнул его по лицу. Он отшатнулся со зловещей усмешкой, взгляд его был тверд, как кремень.
— Значит, Нед, вы привезли с собой наемника, — сказал он. — Могли бы по крайней мере сами драться, если уж без драки не обойтись.
— Я буду драться, — сказал лорд Рафтон. — И немедленно, не сходя с места.
— Ну нет, сперва я уложу этот французского нахала, — сказал лорд Дэкр. Он подошел к столику, стоявшему у стены, и открыл ящик с медной отделкой. — Клянусь, — сказал он, — один из нас выйдет отсюда ногами вперед. Я не хотел ссориться с вами, Нед, разрази меня гром, но я пристрелю вашего прихвостня, это так же верно, как то, что я Джордж Дэкр. Сэр, выбирайте себе пистолет, стреляться будем через стол. Оба заряжены. Цельтесь хорошенько и постарайтесь меня убить, потому что, если вы промахнетесь, клянусь, ваша песенка спета.
Напрасно лорд Рафтон пытался обратить его ярость на себя. Я твердо помнил два обстоятельства: первое, что леди Джейн больше всего на свете боялась дуэли между своим мужем и братом, и второе, что, если мне удастся убить этого рослого милорда, все устроится как нельзя лучше раз и навсегда. Лорд Рафтон хочет от него избавиться. И леди Джейн тоже. Поэтому я, Этьен Жерар, их друг уплачу им долг благодарности, освободив их от этой обузы. Да иного выбора у меня и не было, так как лорд Дэкр жаждал всадить в меня пулю, и я, со своей стороны, желал оказать ему ту же услугу. Напрасно лорд Рафтон спорил и ругался. Остановить дальнейший ход событий не было возможности.
— Ну, если уж вы непременно хотите драться не со мной, а с моим гостем, пускай дуэль состоится завтра утром, в присутствии двух свидетелей! — воскликнул он наконец. — А стреляться через стол — ведь это же просто убийство.
— Меня это вполне устраивает, Нед, — сказал лорд Дэкр.
— И меня! — подхватил я.
— Тогда я умываю руки! — воскликнул лорд Рафтон. — Говорю вам, Джордж, если вы убьете полковника Жерара при таких обстоятельствах, то окажетесь на скамье подсудимых. Я отказываюсь быть секундантом.
— Сэр, — сказал я, — что до меня, я вполне готов обойтись без секунданта.
— Но это невозможно! Это не по правилам! — вскричал лорд Дэкр. — Послушайте, Нед, не валяйте дурака. Вы же видите, мы не шутим. Черт подери, да единственное, что от вас требуется, — это бросить платок.
— Я в этом деле не участвую.
— Ну, раз так, придется мне найти кого-нибудь другого, — сказал лорд Дэкр. Он положил пистолеты на стол, прикрыл их скатертью и позвонил. Вошел лакей.
— Попросите полковника Беркли зайти сюда. Он в бильярдной.
Через минуту вошел высокий, худой англичанин с длинными усами, что редко встретишь в этой стране среди гладко выбритых лиц. Позже я узнал, что усы носили только гвардейцы и гусары. Этот полковник Беркли был гвардеец. Он был странный, вялый, ленивый, медлительный, и из его огромных усов, как шест из кустарника, торчала длинная черная сигара. Он с чисто английской флегматичностью оглядел нас и не выказал ни малейшего удивления, узнав о наших намерениях.
— Отлично, — сказал он. — Отлично.
— Я отказываюсь участвовать в этом, полковник Беркли! — воскликнул лорд Рафтон. — Имейте в виду, эта дуэль не может состояться без вашего согласия, и я возлагаю лично на вас ответственность за все, что произойдет.
Полковник Беркли, очевидно, был знатоком дуэлей, потому что он вынул сигару изо рта и скрипучим голосом стал разъяснять, что к чему.
— Обстоятельства несколько необычны, однако не противоречат правилам, лорд Рафтон, — сказал он. — Один джентльмен нанес удар, другой джентльмен его получил. Все совершенно ясно. Время и условия зависят от человека, который требует удовлетворения. Превосходно. Этот человек желает стреляться немедленно, не сходя с места, через стол. Это — его право. Ответственность я готов взять на себя.
Разговаривать больше было не о чем. Лорд Рафтон сидел в углу мрачнее тучи, насупив брови и глубоко засунув руки в карманы брюк. Полковник Беркли осмотрел оба пистолета и положил их на середину стола. Лорд Дэкр стал по одну сторону, а я по другую — нас разделяло теперь восемь футов полированного черного дерева. Рослый полковник встал на коврик спиной к камину, держа платок в левой руке, а сигару зажав между двумя пальцами правой.
— Когда я брошу платок, вы берете пистолеты и стреляете без команды. Готовы?
— Да! — воскликнули мы.
Он разжал руку, и платок упал. Я быстро наклонился вперед и схватил пистолет, но стол, как я уже говорил, был длиной в восемь футов, и длиннорукому милорду было легче дотянуться до оружия. Я не успел выпрямиться, как он уже выстрелил, — это меня и спасло. Если б я стоял прямо, он вышиб бы мне мозги. А так пуля только задела мои волосы. Я тоже вскинул пистолет, но в этот миг дверь распахнулась, и чьи-то руки обхватили меня. В лицо мне заглянуло прекрасное, раскрасневшееся, взволнованное лицо леди Джейн.
— Не стреляйте! Полковник Жерар, ради меня, не стреляйте! — воскликнула она. — Это ошибка, уверяю вас, ошибка! Он самый лучший, самый любящий из мужей. Я никогда больше его не покину!
Ее руки скользнули по моей правой руке и закрыли дуло пистолета.
— Джейн, Джейн! — воскликнул лорд Рафтон. — Пойдем! Тебе здесь не место. Я уведу тебя.
— Все это чертовски не по правилам, — сказал лорд Беркли.
— Полковник Жерар, ведь вы не выстрелите, правда? Если вы его убьете, я этого не перенесу.
— Черт побери, Джинни, дай этому малому честно получить свое! — воскликнул лорд Дэкр. — Он выдержал мой выстрел, как настоящий мужчина, и я не допущу, чтобы ему помешали. Будь что будет, я сам во всем виноват.
Но мы с леди Джейн уже успели переглянуться, и она все поняла. Она выпустила мою руку.
— Я отдаю в руки полковника Жерара жизнь моего мужа и мое счастье, — сказала она.
Ах, как эта восхитительная женщина меня понимала! Секунду я раздумывал с пистолетом в руке. Мой противник храбро стоял передо мной, и его загорелое лицо ничуть не побледнело, а дерзкие голубые глаза ни разу даже не моргнули.
— Что же вы медлите, сэр, стреляйте! — воскликнул полковник, стоявший у камина.
— Пора кончать, — сказал лорд Дэкр.
Должен же я был по крайней мере показать им, что его жизнь в моих руках. Этого требовала моя гордость. Я поискал глазами какую-нибудь мишень. Полковник смотрел на моего противника, ожидая, что вот сейчас он упадет. Я видел его лицо сбоку — длинная сигара торчала изо рта, и на ее конце было с дюйм пепла. С быстротой молнии я вскинул пистолет и выстрелил.
— С вашего позволения, я стряхнул пепел с вашей сигары, сэр, — сказал я и поклонился с изяществом, недоступным этим островитянам.
Я убежден, что всему виной пистолет, потому что глаз у меня верный. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что отстрелил сигару у самых его губ. Он стоял, уставившись на меня, и из его опаленных усов торчал искромсанный обломок сигары. Как сейчас вижу его глупые, злые глаза и длинное, худое, растерянное лицо. А потом он открыл рот. Я всегда говорил, что англичане вовсе не флегматичный и молчаливый народ, надо только их расшевелить. В жизни не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил так оживленно, как этот полковник. Леди Джейн зажала уши.
— Послушайте, полковник Беркли, — сказал лорд Дэкр сурово, — вы забываетесь. Здесь дама. Полковник неловко поклонился.
— Если леди Дэкр будет настолько любезна выйти из комнаты, — сказал он, — я выскажу этому мерзкому французу все, что я думаю о нем и о его дурацких выходках.
Я с великим бесстрастием пропустил его слова мимо ушей и обратил внимание только на вызывающий тон.
— Сэр, — сказал я, — я готов принести вам извинения за эту неприятную случайность. Мне было ясно, что, если я не разряжу свой пистолет, это нанесет ущерб чести лорда Дэкра, но в то же время после всего, что сказала эта леди, мне было решительно невозможно целиться в ее мужа. Поэтому я искал мишень и, к величайшему несчастью, выбил у вас изо рта сигару, хотя намеревался просто стряхнуть пепел. Меня подвел пистолет. А теперь, сэр, когда я объяснился и принес свои извинения, если вы все-таки желаете удовлетворения, мне незачем говорить, что в этом я никак не могу вам отказать.
Я держался безупречно и всех их покорил этим. Лорд Дэкр подошел и стиснул мне руку.
— Черт возьми, сэр, — сказал он, — никогда бы не думал, что могу испытывать такие теплые чувства к французу. Вы настоящий мужчина и благородный человек, больше мне нечего к этому добавить.
Лорд Рафтон ничего не сказал, но его рукопожатие было красноречивей слов. Даже полковник Беркли преподнес мне комплимент и заявил, что готов забыть об этой несчастной сигаре. А она… ах, если б вы только видели, каким взглядом она меня подарила, как вспыхнули ее щеки, увлажнились глаза, задрожали губы! Когда я вспоминаю мою красавицу леди Джейн, она представляется мне именно такой, какой была в тот миг. Они настойчиво приглашали меня отобедать, но, сами понимаете, друзья мои, некстати было бы ни лорду Рафтону, ни мне оставаться в Грэйвел-Хэнгере. Примирившаяся чета жаждала уединения. В карете лорд Дэкр убедил ее в своем искреннем раскаянии, и они снова стали любящими мужем и женой. А дабы они такими и остались, мне лучше всего было удалиться. Зачем разрушать семейный мир? Против моей воли мое присутствие и вид могли подействовать на леди Джейн. Нет, нет, прочь из этого дома, даже она не могла убедить меня остаться. Много лет спустя я узнал, что чета Дэкров — одна из самых счастливых в Англии и что жизнь их больше не омрачило ни одно облачко. И все же осмелюсь сказать, что, если б он мог прочесть мысли своей жены… но нет, ни слова больше! Тайна женского сердца священна, и боюсь, что леди Джейн вместе со своей тайной давно уж погребена на каком-нибудь Девонширском кладбище. Быть может, нет уж на свете и тех веселых людей, которые ее окружали, и леди Джейн живет лишь в памяти старого французского бригадира в отставке. Зато он никогда ее не забудет.
VI. Как бригадир побывал в Минске
Сегодня, друзья мои, мне хочется глотнуть чего-нибудь покрепче, и я, пожалуй, выпью бургундского вместо бордо. А все потому, что мое сердце, сердце старого солдата, не на месте. Просто диву даешься, как незаметно подкрадывается старость. Не думаешь, не гадаешь; душа все так же молода, и не чувствуешь, как разрушается и дряхлеет тело. Но наступает день, когда понимаешь это, когда вдруг, как блеск разящего клинка, осеняет прозрение, и видишь, каким ты был и каким стал. Да, да, сегодня со мной это случилось, и я выпью бургундского. Белого бургундского — монтраше. Мсье, я ваш должник.
Все это произошло сегодня утром на Марсовом поле. Простите, друзья, старика за то, что он изливает вам свои горести. Ведь вы были на смотру. Правда, великолепно? Я был на местах, отведенных для ветеранов, кавалеров почетных орденов. Ленточка у меня на груди служила мне пропуском. А крест я храню дома в кожаном кошельке. Нам оказали честь, отвели места там, где войска проходят церемониальным маршем, а справа от нас был император и кареты придворных.
Я бог весть сколько лет не ходил на смотры, потому что многого не одобряю. Не одобряю красные рейтузы пехотинцев. Раньше пехота сражалась в белых рейтузах. А красные должна носить кавалерия. Того и гляди, они присвоят еще наши кивера и шпоры! Если б я показался на смотру, все решили бы, что я, Этьен Жерар, примирился с этим. Вот я и сидел дома. Но сейчас идет Крымская война, а это меняет дело. Люди отправляются в бой. И не мне сидеть дома, когда собираются храбрецы.
Честное слово, они недурно маршировали, эти пехотинцы! Хоть рост и не тот, но крепкие ребята и выправка отличная. Когда они проходили мимо меня, я обнажил голову. А потом двинулась артиллерия. Добрые пушки, лошади, и люди тоже не плохи. Я обнажил голову. Дальше пошли саперы, и перед ними я тоже снял шляпу. Нет на свете людей храбрее саперов. А там — кавалерия: уланы, кирасиры, егеря, спаги[11]. Я снимал шляпу перед всеми, кроме спаги. У императора их не было. Но, как вы думаете, кто ехал в самом конце? Гусарская бригада в боевом строю! Ах, друзья мои, какая краса, гордость, слава, великолепие, блеск, грохот подков и звяканье уздечек, развевающиеся гривы, благородные лица, облако пыли и колыхание стальных сабель! Сердце мое стучало, как барабан, когда они проезжали мимо меня. А самым последним проскакал мой собственный полк. Я увидел серебристо-черные доломаны, чепраки из леопардовых шкур и словно сбросил с себя бремя лет, увидел своих удальцов, которые мчались за своим молодым полковником на добрых конях во всем блеске молодости и силы сорок лет назад. Я поднял трость. «Charges! En avant! Vive L'Empereur!»[12]. Это прошлое взывало к настоящему. Но, боже, какой у меня был тонкий, писклявый голос! Неужели это его слышала вся наша непобедимая бригада? А рука едва могла поднять трость. Неужели это те стальные, несокрушимые мускулы, которым не было равных в могучей армии Наполеона? Мне улыбались. Меня приветствовали. Император засмеялся и кивнул. Но я видел все вокруг, как в туманном сне, а явью были мои восемьсот павших гусар и прежний Этьен, которого давным-давно уже нет. Но довольно — храбрец должен встретить старость так же, как встречал казаков и улан. И все же иногда монтраше лучше, чем бордо.
Эти войска отправляются в Россию, и я расскажу вам о России. Сейчас это кажется мне страшным сном! Кровь и лед. Лед и кровь. Озверелые лица и заледеневшие бакенбарды. Посиневшие руки, протянутые в мольбе о помощи. И через всю бесконечную равнину протянулась непрерывная вереница людей; они брели, брели — одну сотню миль за другой, а впереди была все та же белая равнина. Иногда ее однообразие нарушали еловые леса, иногда она расстилалась до самого голубого холодного горизонта, а черная вереница все тянулась вперед. Эти измученные, оборванные, умирающие от голода люди, промерзшие до самого нутра, не смотрели по сторонам, — понурившись и сгорбившись, они уползали туда, во Францию, как зверь в свою берлогу. Они не разговаривали, и снег заглушал их шаги. Только один раз я услышал смех. Это было под Вильно. К командиру нашей ужасной колонны подъехал адъютант и спросил, это ли Великая армия. Все, кто был поблизости и слышал его слова, огляделись и, увидев этих павших духом людей, эти разбитые полки, эти закутанные в мех скелеты, которые когда-то были гвардейцами, засмеялись, и смех затрещал по колонне, как фейерверк. Я много слышал в своей жизни стонов и криков, но куда ужасней был этот смех Великой армии.
Как же в таком случае русские не перебили этих беспомощных людей? Почему казаки не подняли их на пики или не сбили в стадо и не угнали в глубь России? Вокруг черной, извивавшейся по снегу, как змея, колонны со всех сторон мелькали смутные тени, они то появлялись, то исчезали с обоих флангов и в хвосте. Это были казаки, они рыскали вокруг нас, как волки вокруг овечьего стада. А не нападали они только потому, что весь лед России не мог остудить сердца некоторых храбрецов. До самого конца они готовы были в любую минуту встать между этими дикарями и их добычей. И когда нависла опасность, один из них в особенности показал, как он велик, и прославился в дни бедствий гораздо больше, чем тогда, когда вел наш авангард к победе. Я поднимаю бокал за него, за Нея, этого рыжегривого льва, который, сверкая глазами, оглядывался через плечо на врага, а тот боялся подступить к нему слишком близко. Я вижу его так, словно это было вчера, — широкое бледное лицо искажено яростью, светлые голубые глаза мечут искры, могучий голос гремит среди ружейных выстрелов. Его потрепанная треуголка без пера была знаменем, вокруг которого в эти ужасные дни сплотилась вся Франция.
Всем известно, что ни я, ни Конфланский гусарский полк не были в Москве. Мы оставались в тылу, охраняя коммуникации в Бородине. Ума не приложу, как мог император наступать без нас. Когда он этим решением ослабил армию, я понял, что он уж не тот, что прежде. Однако солдат должен повиноваться приказу, и я остался в этой деревне, отравленной смрадом тридцати тысяч трупов людей, павших в великой битве. Весь остаток осени я занимался тем, что подкармливал лошадей своего полка и кое-как экипировал людей, так что, когда армия снова отступила к Бородину, мои гусары были лучшими в кавалерийских частях и получили приказ двигаться под начальством Нея в арьергарде. Что делал бы он без нас в эти ужасные дни? «Ах, Жерар!» — сказал он как-то вечером, но не мне повторять его слова. Достаточно того, что он выразил мысли всей армии. Арьергард прикрывал армию, а конфланские гусары прикрывали арьергард. В этих словах была святая правда. Казаки ни на минуту не оставляли нас в покое. Нам то и дело приходилось их сдерживать. Не было дня, чтобы мы не обтирали кровь со своих клинков. Да, нам пришлось-таки послужить императору.
Но между Вильно и Смоленском положение стало отчаянным. С казаками мы, хоть и промерзшие до костей, кое-как справлялись, но бороться с голодом оказалось нам не под силу. Надо было добыть провиант любой ценой. В тот вечер Ней вызвал меня в свой фургон. Он сидел, уронив свою большую голову на руки.
— Полковник Жерар, — сказал он, — наши дела отчаянно плохи. Люди умирают с голоду. Необходимо любой ценой их накормить.
— Лошади, — предложил я.
— Кроме тех, что остались у горстки ваших кавалеристов, больше ни одной нет.
— Музыканты, — сказал я.
Несмотря на все свое отчаяние, он рассмеялся.
— Почему же именно музыканты?
— Всех, кто может сражаться, надо беречь.
— Так, — сказал он. — Вижу, вы не выйдете из игры до последнего, и я тоже. Молодец, Жерар! — Он стиснул мне руку, — Но у нас еще остается одна надежда. — Он снял с крюка фонарь, который висел под крышей фургона, и поставил его около карты, развернутой перед ним. — Вот здесь, к югу от нас, — сказал он, — город Минск. Русский перебежчик сообщил, что в городской ратуше хранятся большие запасы зерна. Берите людей, сколько считаете нужным, отправляйтесь в Минск, захватите зерно, погрузите его на повозки, какие найдете в городе, и присоединитесь к нам на Смоленской дороге. Если вы потерпите неудачу, что ж, мы потеряем только один отряд. Зато в случае успеха это — спасение для всей армии.
Конечно, это было не совсем удачно сказано, ведь было ясно, что наша неудача не просто потеря отряда. Важно ведь не только количество, но и качество. И все же какое почетное задание, какой благородный риск! Если только это в человеческих силах, зерно из Минска будет доставлено. Так я и сказал ему и добавил несколько горячих слов о долге храбреца, после чего маршал до того растрогался, что встал и, ласково обняв меня за плечи, вытолкнул из фургона.
Мне было ясно, что для успешного исполнения дела нужно взять небольшой отряд и рассчитывать более на внезапность, чем на численность. Большому отряду не пройти незамеченным, ему трудно добыть пропитание, и русские приложат все силы, чтобы его истребить. А небольшой кавалерийский отряд, если только ему удастся незаметно проскользнуть мимо казаков, вполне возможно, не встретит больше войск на своем пути, так как мы знали, что главные силы русских находятся в нескольких переходах от нас. Зерно в Минске наверняка предназначалось для них. Эскадрон гусар да тридцать польских улан — вот все, кого я выбрал для этого рискованного дела. В ту же ночь мы выступили и двинулись на юг, к Минску.
По счастью, до полнолуния было еще далеко, и враг нас не заметил. Два раза мы видели яркие костры на снегу и вокруг них высокий густой частокол. Это были казачьи пики, воткнутые на ночь в снег. как хотелось нам напасть на казаков врасплох и отомстить им за все; мои товарищи выжидающе поглядывали то на меня, то на красные мерцающие круги в темноте. Клянусь богом, я сам едва поборол искушение, ведь это послужило бы врагам отличным уроком и научило бы их держаться от французской армии на почтительном расстоянии. Но для хорошего командира важнее всего на свете не отвлекаться от главной цели, и мы тихо ехали по снегу, объезжая стороной казачьи биваки. Ночное небо позади нас все было охвачено заревом, там наши бедняги боролись за жизнь, чтобы встретить новый день, полный невзгод и голода.
Всю ночь мы медленно продвигались вперед, держась так, что полярная звезда светила нам в спину. В снегу было проторено множество троп, и мы ехали по ним, чтобы никто не обнаружил здесь следов кавалерийского отряда. По таким мелким предосторожностям всегда узнаешь опытного офицера. Кроме того, тропа скорее приведет в деревню, а только в деревнях можно было рассчитывать добыть еду. На рассвете мы очутились в густом еловом лесу, снег лежал на ветках так плотно, что свет едва пробивался сквозь них. Когда мы наконец выбрались оттуда, уже совсем рассвело, край восходящего солнца поднялся над заснеженной равниной, и вся она, из края в край, стала красной. Я остановил своих гусар и улан на опушке и стал осматривать местность. Неподалеку стоял какой-то домик. В нескольких милях за ним была деревня. А вдали, на горизонте, виднелся большой город, над которым во множестве сверкали купола церквей. Видимо, это и был Минск. Следов войск я нигде не заметил. Ясно было, что мы миновали казачьи посты и ничто не преграждало нам путь к цели. Радостный крик вырвался у моих людей, когда я сказал им, где мы находимся, и мы быстро двинулись к деревне.
Однако, как я сказал, перед нами был домик. Когда мы подъехали к нему, я увидел, что у двери привязан прекрасный серый конь под кавалерийским седлом. Я пришпорил своего коня, но прежде чем успел доскакать до домика, из двери выбежал какой-то человек, прыгнул в седло и умчался во весь опор, оставляя за собой облако хрусткого, сухого снега. Солнце играло на его золотых эполетах, и я понял, что это русский офицер. Если его не настичь, он поднимет на ноги всю округу. Я дал Фиалке шпоры и пустился в погоню. Мои люди последовали за мной; но ни одна из наших лошадей не могла сравниться с Фиалкой, и я знал, что если не настигну русского сам, то на других надеяться нечего.
Только очень искусный всадник на быстром скакуне может надеяться уйти от Фиалки с Этьеном Жераром в седле. Он неплохо скакал, этот молодой русский офицер, и сидел недурно, но постепенно мы его измотали. Он то и дело оглядывался через плечо — смуглый красавец с орлиными глазами, — и я, настигая его, понял, что он взглядом измеряет расстояние, разделяющее нас. Вдруг он обернулся — вспышка, треск выстрела, и пистолетная пуля просвистела у самого моего уха. Прежде чем он успел обнажить саблю, я настиг его, но он все еще вонзал шпоры в бока своего коня, и мы скакали бок о бок, и все-таки я успел ухватить его левой рукой за плечо. Вдруг я увидел, что он быстро поднес руку ко рту. Я мигом перетянул его на свою луку и стиснул ему горло, чтобы он не мог ничего проглотить. Лошадь вырвалась из-под него, но я держал его крепко, а Фиалка остановилась. Сержант Удэн из гусарского полка первым подскакал к нам. Это был старый вояка, он сразу смекнул что к чему.
— Держите его крепче, полковник, — сказал он. — А остальное предоставьте мне.
Он вытащил нож, просунул лезвие между стиснутыми зубами русского и, повернув лезвие, заставил его открыть рот. На языке у него был мокрый клочок бумаги, который он старался проглотить. Удэн взял бумажку, а я отпустил горло русского. Он, полузадушенный, не сводил с нее глаз, и я понял, что это донесение большой важности. Его руки сжимались, как будто он хотел вырвать у меня бумагу. Но когда я попросил прощения за грубость, он пожал плечами и беспечно улыбнулся.
— А теперь к делу, — сказал я, когда он прокашлялся и отплевался. — Ваше имя?
— Алексис Бараков.
— Чин и полк?
— Капитан гродненских драгун.[13]
— Что это у вас за письмо?
— Это записка к моей возлюбленной.
— И зовут ее, — сказал я, разглядывая адрес, — гетман Платов.[14] Ну нет, меня не обманете, это важный военный документ, вы везли письмо одного генерала другому. Живо говорите, что там написано.
— Прочтите сами.
Он, как большинство образованных русских, превосходно говорил на французском языке. Но ему было прекрасно известно, что и один французский офицер на тысячу едва ли знает хоть слово по-русски. Записка состояла всего из одной строчки и выглядела так:
«Пусть французы придут в Минск. Мы готовы».
Я посмотрел на записку и пожал плечами. Потом показал ее своим гусарам, но и они не могли взять в толк, что это может значить. Все поляки были простые, неграмотные люди, кроме сержанта, но он был родом из Мемеля и не знал русского языка. С ума можно было сойти, ведь я понимал, что в руки мне попала важная тайна, от которой, может быть, зависит судьба всей армии, и ни слова не мог прочесть! Я опять попросил пленного перевести записку и обещал отпустить его за это на свободу. Но он только улыбнулся в ответ. Я невольно восхищался им, потому что сам точно так же улыбался, когда попадал в подобное положение.
— Тогда скажите нам по крайней мере, как называется эта деревня? — спросил я.
— Это Доброва.
— А вон там, вдали, вероятно, Минск?
— Да, это Минск.
— Что ж, поедем в деревню, там нам живо переведут эту депешу.
И мы тронулись. По обе стороны пленника ехали мои люди с карабинами на изготовку. Деревня оказалась маленькой, и я поставил часовых в каждом конце ее единственной улицы, чтобы никто не мог ускользнуть. Необходимо было остановиться и добыть еды для людей и корм лошадям, ведь они ехали всю ночь, и путь предстоял неблизкий.
Посреди деревни стоял большой каменный дом, к которому я и направился. В доме жил священник, злой и угрюмый старик, который не ответил вежливо ни на один наш вопрос. В жизни не видел более мерзкого человека, но, клянусь богом, его единственная дочь, которая вела у него хозяйство, ничуть на него не походила. Она была брюнетка, что редко увидишь в России, с белоснежной кожей, волосы черные, как вороново крыло, и самые чудесные темные глаза, какие только загорались при виде бравого гусара. Я с первого взгляда понял, что она передо мной не устоит. Конечно, при исполнении своего долга солдату не время заниматься амурами, но все же за скромным завтраком, который мне подали, я непринужденно болтал с дамой, и не прошло и часа, как мы стали самыми лучшими друзьями. Ее звали Софи, а фамилии я не знаю. Я научил называть меня Этьеном и постарался ободрить, потому что ее милое лицо было печально, а в прекрасных темных глазах стояли слезы. Я захотел узнать, что ее так печалит.
— Как же мне не печалиться, — сказала она по-французски, очаровательно шепелявя, — когда один из моих бедных соотечественников попал к вам в плен. Я видела, как он въехал в деревню под конвоем двух гусар.
— Таковы превратности войны, — сказал я. — Сегодня его черед, завтра, быть может, мой.
— Но подумайте, мсье…
— Этьен, — подсказал я.
— Ах, мсье…
— Этьен.
— Ну, хорошо! — воскликнула она с отчаянной решимостью и мило покраснела. — Подумайте только, Этьен, ведь этого молодого офицера отвезут к вам, и там он умрет с голоду или замерзнет, потому что, если этот поход, боюсь, нелегок для ваших солдат, то какова же будет участь пленного?
Я пожал плечами.
— У вас доброе лицо, Этьен, — сказала она. — Вы не можете обречь этого беднягу на верную смерть. Молю вас, отпустите его!
Ее нежная рука коснулась моего рукава, темные глаза умоляюще заглянули мне в лицо.
Вдруг у меня мелькнула счастливая мысль. Я исполню просьбу, но взамен потребую от нее услуги. Я приказал привести пленного.
— Капитан Бараков, — сказал я, — эта молодая особа просит меня отпустить вас, и я готов уступить ее просьбе, но дайте мне слово не покидать этот дом ровно сутки и не пытаться сообщить кому-либо о наших действиях.
— Даю слово, — сказал он.
— Полагаюсь на вашу честь. Одним человеком больше или меньше — ничего не изменит в войне между такими огромными армиями, а привезти вас с собой как пленника значит обречь на смерть. Ступайте же и благодарите не меня, а первого французского офицера, который попадет к вам в руки.
Когда он вышел, я достал из кармана бумагу.
— Ну вот, Софи, — сказал я, — я исполнил вашу просьбу, а теперь преподайте мне за это урок русского языка.
— С удовольствием, — сказала она.
— Начнем с этого, — сказал я и положил бумагу перед ней. — Переведем все слова подряд и посмотрим, что получится.
Она посмотрела на записку с удивлением.
— Здесь сказано, — объяснила она, — что если французы придут в Минск, все погибло. — И вдруг ужас мелькнул на ее красивом лице. — Боже мой, — воскликнула она, — что я наделала! Я предала свою родину! Ах, Этьен, эти слова меньше всего предназначались для ваших глаз. Зачем вы прибегли к хитрости и заставили бедную, простодушную, наивную девушку изменить своей родине?
Я утешил как мог бедняжку Софи и заверил ее, что тут нет ничего зазорного, если ее перехитрил такой старый вояка и проницательный человек, как я. Но мне было не до разговоров. Из записки стало ясно, что зерно действительно в Минске, а защищать его некому, потому что войск там нет. Высунувшись из окна, я поспешил отдать приказ, трубач заиграл сбор, и через десять минут мы, оставив деревню позади, уже скакали к городу, золоченые купола церквей и колоколен которого поблескивали над заснеженным горизонтом. Они поднимались все выше и выше, и вот, когда солнце уже начало клониться к западу, мы очутились на широкой главной улице и поскакали по ней под крики мужиков и визг испуганных женщин, пока не оказались перед ратушей. Я остановил своих кавалеристов на площади, а сам с двумя сержантами, Удэном и Папилетом, бросился внутрь.
Господи, никогда не забуду, что я там увидел! Прямо перед нами, выстроившись в три ряда, стояли русские гренадеры. Когда мы вошли, они вскинули ружья, и прямо в лица нам грянул залп. Удэн и Папилет упали на пол, подкошенные пулями. С меня же пуля сбила кивер, и в доломане появились две дыры. Гренадеры бросились на меня со штыками.
— Измена! — закричал я. — Нас предали! По коням!
Я выбежал из ратуши, но вся площадь была запружена войсками. Со всех боковых улиц на нас скакали драгуны и казаки, а из домов открыли такую пальбу, что половина моих людей рухнула на землю.
— За мной! — крикнул я и вскочил на Фиалку, но тут русский драгунский офицер, здоровенный, как медведь, обхватил меня, и мы покатились по земле. Он обнажил саблю, чтобы убить меня, но передумал, схватил меня за горло и стал бить головой о камни, покуда я не потерял сознания. Так я попал в плен к русским.
Когда я пришел в себя, то жалел лишь об одном, что он сразу не вышиб мне мозги. Там, на главной площади в Минске, лежала половина моих людей, мертвых или раненых, а русские с ликующими криками столпились вокруг. Жалкую горстку уцелевших согнали на крыльцо ратуши под конвоем казачьей сотни. Увы, что я мог сказать, что мог поделать? Было ясно, что я завел их в хитроумную западню. Враги узнали, зачем мы здесь, и приготовились к встрече. А виной всему это донесение, которое заставило меня пренебречь предосторожностями и ехать прямо в город. Как мне оправдаться? Слезы потекли по моим щекам, когда я увидел гибель своего эскадрона и подумал о тяжкой судьбе моих товарищей из Великой армии, которые ждали, что я привезу им еду. Ней доверился мне, а я не оправдал доверия. Как часто вглядывается он теперь в снежную даль, ожидая отряда с зерном, который никогда не порадует его взор! Да и собственная моя участь была не из легких. Ссылка в Сибирь — вот лучшее, на что я мог рассчитывать. Но поверьте мне, друзья, что не о себе, а о голодающих товарищах горевал Этьен Жерар, когда по щекам его покатились слезы, которые тут же замерзали.
— Что такое? — раздался около меня грубый голос, и я, повернувшись, увидел того самого здоровенного чернобородого драгуна, который стащил меня с седла. — Глядите-ка, француз плачет! А я-то думал, за корсиканцем идут одни только храбрецы, а не дети.
— Если б мы встретились один на один, я показал бы вам, кто храбрее, — сказал я.
Вместо ответа этот негодяй дал мне пощечину. Я схватил его за горло, но десяток русских солдат оттащили меня от него и держали за руки, а он снова ударил меня.
— Презренный пес! — воскликнул я. — Разве так обращаются с офицером и дворянином?
— Никто вас не звал в Россию, — сказал он. — А уж ежели вы сюда пришли, то и получайте, что заслужили. Будь моя воля, я попросту пристрелил бы тебя на месте.
— Когда-нибудь вы за это ответите! — воскликнул я, вытирая с усов кровь.
— Если гетман Платов одного со мной мнения, завтра в этот час тебя уже не будет в живых, — ответил он и бросил на меня свирепый взгляд. Потом он сказал своим солдатам несколько слов по-русски, и все они мигом вскочили в седла. Подвели бедняжечку Фиалку, у которой вид был такой же несчастный, как у ее хозяина, и велели мне сесть. Мою левую руку обвязали ремнем, другой конец которого прикрепили к стремени драгунского сержанта. И вот я с остатком своих людей в самом плачевном положении выехал из Минска на север.
В жизни не видал такого негодяя, как этот майор Сержин, начальник конвоя. В русской армии можно найти и самых лучших и самых худших людей в мире, но хуже Сержина, майора киевского драгунского полка, я не видел ни в одних войсках, кроме партизан на Пиренейском полуострове. Это был рослый малый со свирепым, жестоким лицом и щетинистой черной бородой, которая топорщилась поверх его кирасы. Говорят, потом его представили к награде за храбрость и силу, что ж, могу только сказать, что лапы у него медвежьи, это я почувствовал на себе, когда он стащил меня с седла. По-своему он был неглуп и все время отпускал по-русски шуточки в наш адрес, отчего драгуны и казаки покатывались со смеху. Дважды он стегнул моих товарищей плетью, а один раз подъехал ко мне, уже занеся плеть, но, видно, взгляд у меня был такой, что он не посмел ее опустить. Так, жалкие и несчастные, терзаемые холодом и голодом, ехали мы печальной вереницей через огромную снежную равнину. Солнце село, но мы продолжали свой тягостный путь в долгих северных сумерках. Я весь закоченел, голова у меня болела от побоев, и, сидя на своей верной Фиалке, я не знал, где я и куда еду. Лошадь плелась, понурившись и поднимая голову только затем, чтобы презрительно фыркнуть на захудалых казачьих лошаденок.
Вдруг конвой остановился, и я увидел, что мы на единственной улице какой-то русской деревушки. На одной стороне улицы была церковь, а напротив — большой каменный дом, который показался мне знакомым. Я огляделся в полумраке и увидел, что нас снова привезли в Доброву и мы стоим у дверей все того же дома священника, где наш отряд останавливался утром. Здесь очаровательная и наивная Софи перевела мне ту злополучную записку, которая столь странным образом нас погубила. Подумать только, всего несколько часов назад мы выехали отсюда, полные надежд на успех своего дела, а теперь остатки нашего отряда, побежденные и униженные, ожидали своей участи, которую решит жестокий враг! Но такова судьба солдата, друзья мои; сегодня поцелуи, а завтра побои. Токайское во дворце, грязная вода в лачуге, роскошные меха или отрепья, туго набитый кошелек или пустой карман, непрестанные переходы от лучшего к худшему, и лишь храбрость и честь остаются неизменны.
Русские спешились, и моим бедным товарищам тоже приказали сойти с лошадей. Было уже поздно, и конвойные явно намеревались заночевать в деревне. Крестьяне громко ликовали и радовались, когда узнали, что все мы попали в плен, они высыпали на улицу с факелами, женщины поили казаков чаем и водкой. Вышел и старик священник, тот самый, которого мы видели утром. Теперь он весь расплылся в улыбке и вынес на подносе что-то вроде горячего пунша, запах которого я помню до сих пор. За спиной у отца стояла Софи. Я с ужасом увидел, как горячо она пожала руку майора Сержина, поздравив его с победой и взятием врагов в плен. Старик священник, ее отец, со злобой посмотрел на меня и отпустил на мой счет какие-то оскорбительные замечания, указывая на меня худой грязной рукой. Красавица Софи тоже посмотрела на меня, но ничего не сказала, и я прочел в ее темных глазах жалость. Потом она повернулась к майору Сержину и что-то сказала ему по-русски, отчего он нахмурился и раздраженно покачал головой. При свете, падавшем из открытых дверей, видно было, как она упрашивала его. Я не отрываясь глядел на их лица — красивой девушки и темноволосого свирепого мужчины, чутьем угадав, что они спорят о моей судьбе. Офицер долго качал головой, потом наконец ее мольбы смягчили его, и он, видимо, уступил. Он повернулся ко мне, стоявшему под охраной сержанта.
— Эти добрые люди предлагают тебе ночлег под своим кровом, — сказал он, окидывая меня злобным взглядом с головы до ног. — Мне трудно им отказать, но не скрою, что я охотно оставил бы тебя валяться на снегу. Это охладило бы твой пыл, французская сволочь!
Я взглядом выразил все свое презрение к нему.
— Кто родился дикарем, дикарем и умрет, — сказал я.
Мои слова, видимо, уязвили его, он выругался и занес плеть, чтобы ударить меня.
— Заткнись, корноухий пес! — заорал он. — Будь моя воля, я выморозил бы за ночь всю твою наглость. — Овладев собой, он обратился к Софи в соответствии со своими понятиями об учтивости. — Если у вас есть погреб с надежным запором, пускай этот малый проведет там ночь, раз уж вы оказали ему такую честь и позаботились о его удобстве. Я возьму с него слово, что он не станет выкидывать фокусов, ведь я отвечаю за него, пока не сдам его завтра гетману Платову.
Я больше не мог выносить этого высокомерия. Видимо, он нарочно разговаривал с девушкой по-французски, чтобы я понимал, как оскорбительно он обо мне отзывается.
— Я не приму от вас никаких одолжений, — сказал я. — Делайте, что хотите, но слова я вам не дам.
Русский пожал широченными плечами и отвернулся, видимо, считая, что вопрос исчерпан.
— Ну что ж, милейший, тем хуже для твоих рук и ног. Посмотрим, каков-то ты будешь утром, когда проведешь ночь на снегу.
— Одну минуту, майор Сержин, — сказала Софи. — Вы не должны так сурово обходиться с этим пленником. Есть особые причины, по которым он имеет право на нашу доброту и милосердие.
Русский подозрительно посмотрел сперва на нее, потом на меня.
— Какие еще причины? Я вижу, вы к этому французу неравнодушны, — сказал он.
— Главная причина здесь та, что не далее как сегодня утром он по собственной воле отпустил Алексея Баракова, капитана гродненских драгун.
— Это правда, — сказал Бараков, который тем временем вышел из дома. — Сегодня утром он взял меня в плен и отпустил под честное слово вместо того, чтобы отправить под конвоем во французскую армию, где я умер бы с голоду.
— Поскольку полковник Жерар поступил так благородно, теперь, когда он попал в беду, вы, конечно, позволите ему провести эту холодную ночь у нас в погребе, — сказала Софи. — Это не слишком большая награда за его благородство.
Но драгун все еще злился.
— Пускай сперва даст слово, что не будет пытаться бежать, — сказал он. — Слышишь, ты? Дашь слово?
— Не дам, — сказал я.
— Полковник Жерар! — воскликнула Софи с пленительной улыбкой. — А мне вы дадите слово, правда?
— Вам, мадемуазель, я ни в чем не могу отказать. С удовольствием даю вам слово.
— Ну вот, майор Сержин! — с торжеством воскликнула Софи. — Этого вполне достаточно. Вы сами слышали, он сказал, что дает мне слово. Я отвечаю за то, что с ним все будет благополучно.
Русский медведь изъявил свое согласие невнятным ворчаньем, и меня повели в дом, а следом шел священник, бросая мне в спину недобрые взгляды, и огромный чернобородый драгун. Под домом был большой и просторный подвал, где хранились дрова. Туда меня и отвели, и я понял, что здесь проведу ночь. Половина этого унылого подвала была до потолка завалена дровами. Каменный пол, голые стены, в одной из них — единственное узкое оконце, надежно забранное железной решеткой. С низкого потолка свисал большой фонарь. Майор Сержин с усмешкой снял его и осветил все углы мрачного помещения.
— Как вам нравятся наши русские отели, мсье? — спросил он со злобным смешком. — Не слишком роскошные, но лучших у нас нет. Быть может, в следующий раз, когда вам, французам, вздумается путешествовать, вы изберете другую страну, где будет больше удобств.
Так он насмехался надо мной, и его белые зубы сверкали из-под бороды. Потом он ушел, и я услышал, как заскрежетал в замке большой ключ.
Целый час, весь продрогший, я сидел на куче дров в совершенном отчаянии, закрыв лицо руками, одолеваемый самыми печальными мыслями. В этих четырех стенах было довольно холодно, но мысль о том, как тяжко приходится моим людям на дворе, заставляла меня страдать вдвойне. Я начал ходить взад-вперед, хлопать в ладоши, бить ногами в стену, чтобы не замерзнуть окончательно. Фонарь давал немного тепла, но все-таки холод был собачий, и я с утра ничего не ел. Мне казалось, что про меня все забыли, но вот наконец в замке заскрежетал ключ и вошел — как вы думаете кто? Мой недавний пленник, капитан Алексис Бараков. Под мышкой у него была бутылка вина, а в руках — большая тарелка горячего жаркого.
— Тс! — шепнул он. — Ни слова! И не падайте духом! Я не могу сейчас ничего объяснить, потому что Сержин еще здесь. Не спите и будьте готовы!
Торопливо сказав все это, он поставил еду, от которой у меня потекли слюнки, и выбежал за дверь.
«Не спите и будьте готовы!» Эти слова продолжали звучать в моих ушах. Я съел жаркое и выпил вино, но не это согрело мне душу. Что значили слова Баракова? Почему мне нельзя спать? К чему быть готовым? Неужели есть еще надежда на побег? Я всю жизнь презирал людей, которые никогда не молятся, а в минуту опасности прибегают к молитве. Точно так же плохой солдат старается угодить своему полковнику только тогда, когда ему нужна какая-нибудь поблажка. Но я вспомнил о соляных копях в Сибири и о моей матушке, которая ждала меня во Франции, и молитва излилась сама собой, не с моих уст, а из сердца, — я молился о том, чтобы слова Баракова не обманули моих надежд. Но часы на деревенской колокольне отбивали час за часом, а ничего не было слышно, кроме переклички русских часовых на дворе.
И вдруг сердце мое дрогнуло: я услышал за дверью легкие шаги. Через секунду щелкнул замок, дверь отворилась, и вошла Софи.
— Мсье!.. — воскликнула она.
— Этьен, — подсказал я.
— Вы неисправимы, — проговорила она. — Но, скажите, вы в самом деле не питаете ко мне ненависти? Вы простили меня за то, что я сыграла с вами эту шутку?
— Какую шутку? — спросил я.
— Господи боже! Возможно ли, что вы до сих пор не поняли? Помните, вы попросили меня перевести записку. Я сказала вам, что там написано: «Если французы придут в Минск, все погибло».
— А что же там было?
— Там было сказано: «Пусть французы приходят в Минск. Мы их ждем».
Я отпрянул от нее.
— Вы меня предали! — воскликнул я. — Вы заманили меня в ловушку! Из-за вас все мои люди убиты или попали в плен. Какой же я был дурак, что поверил женщине!
— Будьте же справедливы, полковник Жерар. Ведь я русская, и для меня всего важнее долг перед моей родиной. Разве вы не хотели бы, чтобы французская девушка поступила точно так же? Ведь если б я правильно перевела записку, вы не поехали бы в Минск, и ваш отряд ускользнул бы от наших войск. Скажите же, что прощаете меня.
Она была очаровательна, когда стояла передо мной, прося простить ее. И все же, вспомнив про своих убитых товарищей, я не мог пожать ее протянутую руку.
— Ну хорошо, — сказала она, опуская руку. — Вы любите своих, а я своих, значит, мы квиты. Но, полковник Жерар, здесь, в этом доме, вы произнесли мудрые и добрые слова. Вы сказали: «Одним человеком больше или меньше — ничего не изменит в войне между такими огромными армиями». Ваш урок благородства не пропал даром. Вон там, за дровами, есть дверь, которую никто не караулит. Вот ключ. Уходите, полковник Жерар, и, надеюсь, мы никогда больше не встретимся.
Мгновенье я стоял с ключом в руке, и голова у меня шла кругом. Потом я вернул ей ключ.
— Не могу, — сказал я.
— Но почему же?
— Я дал слово.
— Кому? — спросила она.
— Да вам же.
— Я возвращаю вам его.
Сердце мое дрогнуло от радости. Ну, конечно же, она права. Я отказался дать слово Сержину. С ним я ничем не связан. Если она освобождает меня от обещания, честь моя останется незапятнанной. Я снова взял ключ.
— В конце улицы вас ждет капитан Бараков, — сказала она. — Мы, северяне, не забываем ни зла, ни добра. У него ваша лошадь и сабля. Не медлите ни секунды, потому что через два часа начнет светать.
Я вышел в звездную русскую ночь и в последний раз увидел Софи, смотревшую мне вслед через открытую дверь. Она провожала меня тоскливым взглядом, словно ожидала чего-то большего, нежели та холодная благодарность, которую я ей принес, но у самого скромного человека есть гордость, и не стану утверждать, будто моя гордость не была задета тем, что она меня провела за нос. Я не мог заставить себя поцеловать ей руку, не говоря уж о губах. Дверь вела в узкий проулок, в конце которого стоял закутанный с ног до головы человек, державший под уздцы Фиалку.
— Вы сказали, чтобы я помог первому французскому офицеру, который окажется в беде, — сказал он. — Желаю удачи! Bon voyage[15], — шепнул он, когда я вскочил в седло. — И запомните: пароль «Полтава».
Хорошо, что он сказал мне пароль, так как я дважды наталкивался на казачьи пикеты, прежде чем выехал в открытое поле. Только я миновал последний пост и уже думал, что свободен, как вдруг у меня за спиной раздался глухой стук копыт по снегу, и огромный человек на здоровенной лошади стал быстро настигать меня. Первой моей мыслью было дать Фиалке шпоры. Второй, когда я увидел длинную черную бороду поверх стальной кирасы, остановиться и подождать его.
— Я так и знал, что это ты, французский пес, — сказал он, потрясая обнаженной саблей. — Негодяй, ты нарушил слово!
— Я не давал слова.
— Врешь, собака!
Я огляделся — вокруг ни души. Казачьи посты вдали словно вымерли. Мы были совершенно одни, только луна над головой да снег под ногами. Судьба всегда была благосклонна ко мне.
— Я не давал вам слова.
— Ты дал его девушке.
— Перед ней я и отвечу.
— Еще бы, этого только тебе и надо. Но, к несчастью, ответ придется держать передо мной.
— Я готов.
— Эге, да при тебе сабля! Тут пахнет изменой! Я все понял! Эта женщина помогла тебе бежать. Теперь ей не миновать Сибири.
Этими словами он подписал себе смертный приговор. Ради Софи я не мог отпустить его живым. Наши сабли скрестились, и через мгновенье мой клинок проткнул его черную бороду и вонзился ему в горло. Как только он упал, я тотчас соскочил на землю, но одного удара оказалось достаточно. Он умер, норовя укусить меня за ногу, как бешеный волк.
Через два дня я нагнал нашу армию в Смоленске и снова оказался в печальной колонне, которая плелась по снегу, оставляя за собой длинный кровавый след.
Но довольно, друзья мои; не стану пробуждать воспоминания о несчастьях и смерти. Они все еще преследуют меня во сне. Мы, наконец, остановились в Варшаве, потеряв по дороге пушки, обоз и три четверти наших товарищей. Но не честь Этьена Жерара. Говорили, что я нарушил слово. Но попробовал бы кто-нибудь сказать мне это в лицо, потому что я рассказал вам святую правду, и хотя я стар, мой палец еще может спустить курок, когда надо встать на защиту своей чести.
VII. Как бригадир действовал при Ватерлоо
1. Рассказ о лесной харчевне
Из всех великий сражений, в каких мне выпала честь обнажать саблю за нашего императора и за Францию, ни одно не было проиграно. При Ватерлоо же, где я хотя и присутствовал, но был лишен возможности сражаться, враг восторжествовал. Не мне говорить, что одно тут связано с другим. Вы слишком хорошо меня знаете, друзья мои, чтобы подумать, что я способен на такую нескромность. Но это дает пищу для размышлений, и кое-кто пришел к лестным для меня выводам. В конце концов надо было только прорвать несколько английских каре, и победа была бы за нами. Кто скажет, что гусары Конфланского полка во главе с Этьеном Жераром не могли бы это сделать? Но судьба решила иначе: я оказался в стороне, и империя пала. При этом судьба решила также, что этот день траура и скорби должен принести мне такое торжество, какого я не знал, даже когда летел на крыльях победы из Булони в Вену. Никогда моя слава не сияла так ярко, как в этот великий миг, когда все вокруг окутала тьма. Вы понимаете, что я остался предан императору в его несчастьях и не пожелал продать свою шпагу и честь Бурбонам. Никогда больше я не почувствую под собой своего боевого коня, никогда не услышу у себя за спиной звуки серебряных труб и литавр, не поскачу впереди моих орлов. Но, друзья мои, я утешаюсь и умиляюсь до слез, когда вспоминаю, как достойно я вел себя в этот последний день своей военной службы, и я думаю о том, что из всех замечательных подвигов, которые стяжали мне любовь стольких красавиц и уважение стольких благородных людей, не было ни одного, который блеском, дерзостью и благородством цели мог бы сравниться с моей знаменитой поездкой в ночь на девятнадцатое июня тысяча восемьсот пятнадцатого года. Я знаю, эту историю часто рассказывают в офицерском обществе, за столом и в казармах, так что в армии она известна всякому, но скромность заставляла меня молчать, а сегодня, друзья мои, я разоткровенничался с вами и готов рассказать все как было.
Прежде всего смею вас заверить в одном. Никогда еще у Наполеона не было такой замечательной армии, как та, которая участвовала в этой кампании. К тринадцатому году Франция обессилела. На каждого бывалого солдата приходилось пятеро желторотых птенцов — «марий-луиз», как мы их называли, потому что, пока император воевал, императрица занималась набором рекрутов. Но в пятнадцатом году все переменилось. Пленные вернулись на родину — из снегов России, из подземелий Испании, с галер Англии. Это были отчаянные люди, ветераны двадцати сражений, они жаждали снова заняться любимым делом, и сердца их были полны ненависти и мести. В армии было немало солдат, носивших по два и по три шеврона[16], и каждый означал пять лет службы. Дух их был неукротим. Полные ярости, беспощадные, слепо преданные делу, они боготворили императора, как мамелюки своего пророка, и готовы были самих себя поднять на штыки, если их кровь ему потребуется. Видели бы вы, как эти свирепые старики-ветераны шли в бой с налитыми кровью лицами, со сверкающими глазами, с грозным ревом, и вам стало бы ясно, что никто перед ними не устоит. Так высоко поднялся боевой дух Франции в то время, что ему нигде не было равных; но у этих англичан нет ни боевого духа, ни души, а только жесткая, неподвижная туша, о которую мы напрасно бились. Вот как оно было, друзья мои! С одной стороны, поэзия, доблесть, самопожертвование, все, что есть прекрасного и героического. А с другой — туша. Наши надежды, идеалы, мечты — все разбилось об эту ужасную тушу Старой Англии.
Вы читали о том, как император собрал свои войска, а потом мы с ним, во главе ста тридцати тысяч ветеранов, стремительным маршем двинулись к северной границе и обрушились на пруссаков и англичан. Шестнадцатого июня Ней завязал с англичанами сражение под Катр-Бра, а мы разбили пруссаков при Линьи. Не мне говорить, сколь много сделал я для этой победы, но хорошо известно, что гусары Конфланского полка покрыли себя славой. Пруссаки дрались крепко, и восемь тысяч их осталось лежать на поле боя. Император уже думал, что с ними покончено, и послал маршала Груши с войском в тридцать две тысячи человек преследовать их, чтобы они не помешали дальнейшим его планам. А сам с восьмьюдесятью тысячами войска повернул на этих проклятых англичан! Нам надо было за многое с ними расквитаться: за гинеи Питта, за корабли Портсмута, за вторжение Веллингтона, за вероломные победы Нельсона! И наконец день расплаты настал.
У Веллингтона было шестьдесят семь тысяч солдат, но мы знали, что среди них много голландцев и бельгийцев, которые не очень-то рвались в бой против нас. Хорошего войска у него не набралось бы и пятидесяти тысяч. Очутившись перед лицом самого императора и восьмьюдесятью тысячами людей, этот англичанин оцепенел от страха и не мог ни сам сдвинуться с места, ни двинуть свои войска. Вы видели кролика под взглядом удава? Вот так застыли англичане на склоне у Ватерлоо. Накануне император, у которого под Линьи убили адъютанта, приказал перевести меня в штаб, и я передал своих гусар под начало майора Виктора. Не знаю, кто из нас был более огорчен, он или я, тем, что меня отозвали перед самым сражением, но приказ есть приказ, хорошему солдату остается только пожать плечами и повиноваться. Вместе с императором я проехал восемнадцатого утром вдоль вражеских позиций, он осматривал их в подзорную трубу и обдумывал план сокрушительного удара. Рядом с ним были Сульт, Ней, Фуа и другие, которые воевали с англичанами в Португалии и в Испании.
— Будьте осторожны, ваше величество, — сказал Сульт. — Английская пехота — твердый орешек.
— Вы считаете их хорошими солдатами, потому что они вас разбили, — сказал император, и мы, из тех, кто был помоложе, отвернулись, пряча улыбку. Но Ней и Фуа хранили суровую серьезность. Английские позиции, пестревшие красным и синим и усеянные батареями, в настороженном молчании лежали от нас на расстоянии ружейного выстрела. По другую сторону неглубокой долины наши люди, покончив с супом, готовились к бою. Незадолго перед тем прошел сильный дождь, но теперь выглянуло солнце и осветило французскую армию, превратив наши кавалерийские бригады в сверкающие реки стали, его лучи блестели и переливались на бесчисленных штыках пехотинцев. При виде этой великолепной армии, ее красоты и величия, я не мог более сдерживаться, привстал на стременах, взмахнул кивером и крикнул: «Vive l'Empereur!» — и этот клич оглушительным громом покатился из края в край наших позиций; кавалеристы размахивали саблями, а пехотинцы — своими фуражками, надев их на штыки. Англичане словно окаменели на склоне. Они знали, что их час пробил.
Так оно и получилось бы, если б в этот миг был отдан приказ и вся армия двинута в наступление. Нам стоило только навалиться на них, и мы бы стерли их в порошок. Не говоря уже о мужестве, мы превосходили их численностью, были опытнее в ратных делах, и полководец наш был не ихнему чета. Но император хотел действовать по всем правилам, он ждал, пока земля подсохнет, чтобы артиллерия могла маневрировать. Из-за этого мы потеряли три часа и только в одиннадцать увидели, как колонны Жерома Бонапарта двинулись с левого фланга, и услышали пальбу, возвестившую начало сражения. Потеря этих трех часов погубила нас. Войска с левого фланга наступали на крестьянский дом, где засели английские гвардейцы, и мы услышали три восхищенных возгласа, которые поневоле вырвались у защитников. Они все еще держались, а корпус Д'Эрлона уже продвигался справа, чтобы занять еще часть английских позиций, но тут наше внимание привлекло то, что происходило далеко от нас.
Император смотрел в подзорную трубу на крайний левый фланг английских позиций. Вдруг он повернулся к герцогу Далматийскому, или, попросту, Сульту, как мы, солдаты, предпочитали его называть.
— Что это там, маршал? — спросил он. Все мы посмотрели в ту сторону, одни в подзорные трубы, другие — просто приставив в глазам ладонь. Там был густой лес, за ним — длинный голый склон, а дальше — снова лес. На открытом пространстве между двумя лесами виднелось что-то темное, похожее на тень движущегося облака.
— По-моему, это стадо, ваше величество, — ответил Сульт.
В тот же миг среди этой темной тени что-то быстро сверкнуло.
— Это маршал Груши, — сказал император и отнял от глаз подзорную трубу. — Теперь англичане окончательно погибли. Они у меня в кулаке. Им не уйти.
Он огляделся и остановил взгляд на мне.
— А! Вот он, король гонцов, — сказал он. — Под вами хороший конь, полковник Жерар?
Подо мной была моя любимая Фиалка, гордость всей бригады. Я так и сказал императору.
— Тогда скачите во весь опор к маршалу Груши, видите, вон его войска. Скажите, чтобы он напал на англичан с левого фланга и с тыла, а я ударю с фронта. Вместе мы их раздавим, ни один живым не уйдет.
Я отдал честь и, не сказав ни слова, поскакал, а сердце у меня так и прыгало от радости, что на меня возложили столь ответственное поручение. Я посмотрел на длинную, сплошную красно-синюю линию, маячившую сквозь пороховой дым, и на скаку погрозил ей кулаком. «Мы их раздавим, ни один живым не уйдет». Так сказал император, и я, Этьен Жерар, должен претворить его слова в дело. Мне не терпелось поскорей добраться до маршала, и я подумал, не прорваться ли напрямик через левый фланг англичан. Мне приходилось совершать и более дерзкие дела и выходить целым и невредимым, но я подумал, что, если мой замысел не удастся и меня убьют или возьмут в плен, донесение не будет доставлено и планы императора рухнут. Поэтому я проехал мимо нашей кавалерии, мимо егерей, улан, гвардейцев, карабинеров, конных гренадеров и, наконец, мимо своих дьяволов, которые проводили меня прощальными взглядами. За кавалерией стояла старая гвардия, двенадцать полков, все как на подбор ветераны многих сражений, суровые и решительные, в длинных синих шинелях и высоких медвежьих шапках, с которых были сняты плюмажи. На спине у каждого был кожаный ранец, все надели синие с белым парадные мундиры, чтобы назавтра войти в них в Брюссель. Проезжая мимо них, я думал, что эти люди никогда не знали поражения, и при виде их обветренных лиц и строгой, спокойной осанки я сказал себе, что они никогда и не будут разбиты. Господи, я не подозревал о том, что произойдет всего через несколько часов!
Справа от старой гвардии стояли молодые гвардейцы и шестой корпус Лобо, а на крайнем левом фланге растянулись уланы Жакино и гусары Марбо. Все эти войска ничего не знали о корпусе, приближавшемся к ним через лес, внимание их было поглощено сражением, которое разворачивалось слева от них. Более сотни пушек гремело с каждой стороны, грохот стоял ужасный, — из всех сражений, в каких мне довелось участвовать, не наберется и полдюжины таких бурных. Я оглянулся через плечо и увидел две бригады кирасиров, английскую и французскую, она катились вниз по склону, и клинки сверкали, как грозовые молнии. Как хотелось мне повернуть Фиалку и повести гусар в гущу битвы! Ах, что это было за зрелище! Этьен Жерар едет, повернувшись спиной к горячей схватке между кавалеристами. Но долг есть долг, и я проехал мимо конных дозорных Марбо к лесу, оставив слева деревню Фишермон.
Передо мной был большой лес, почти сплошь дубовый, который назывался Парижским, и через него вели узкие тропки. Доехав до леса, я остановился и прислушался, но из его мрачной глубины не донеслось ни звука трубы, ни стука колес, ни топота копыт, которые возвестили бы о продвижении большой колонны, хотя я своими глазами видел, как она двигалась к этому лесу. Позади меня кипело сражение, а впереди все было тихо, как в могиле, уже готовой для стольких храбрецов. Ветки сомкнулись у меня над головой, закрыв солнце, и густой запах прели поднимался от влажной земли. Несколько миль я проскакал таким галопом, на какой немногие решились бы, когда внизу торчат корни, а над головой — ветки. И вот наконец я увидел авангард Груши. Отдельные отряды гусар проехали по обе стороны от меня среди деревьев. Я услышал в отдалениибой барабана и тихий, глухой шум, какой издает армия на марше. В любой миг я мог встретить штаб и передать приказ лично Груши, так как знал, что при таком переходе маршал Франции, несомненно, едет в авангарде своей армии.
Вдруг лес поредел, и я обрадовался, поняв, что он кончается: теперь-то я увижу всю армию и найду маршала. На опушке, куда сходятся тропы, стояла маленькая харчевня, в таких обычно пьют вино лесорубы и возчики. Я придержал коня у двери харчевни и огляделся. В нескольких милях впереди я увидел второй лес, Сен-Ламберский, откуда выходили войска, когда их заметил император. Нетрудно было понять, однако, почему они так долго не могли достичь второго леса, ведь путь им преграждало глубокое Ланское ущелье. Не мудрено, что растянутая колонна — кавалерия, пехота и артиллерия — только сползала по одному склону и взбиралась на второй, тогда как авангард был уже позади меня в лесу. По дороге проезжала артиллерийская батарея, и я уже хотел подъехать и спросить командира, где найти маршала, как вдруг увидел, что, хотя артиллеристы и в голубых мундирах, на них нет доломанов с красными нашивками на воротниках, какие носят наши. Пораженный, смотрел я на этих солдат, растерянно озираясь, как вдруг чья-то рука коснулась моего колена, и я увидел хозяина харчевни, который выбежал ко мне.
— Сумасшедший! — воскликнул он. — Как вы сюда попали? Что вы здесь делаете?
— Ищу маршала Груши.
— Да ведь вы в самой гуще прусской армии! Скачите прочь!
— Не может быть! Это корпус Груши.
— Откуда вы знаете?
— Так сказал император.
— Значит, император совершил роковую ошибку! Говорю вам, патруль силезских гусар только что был в моей харчевне. Разве вы не встретили их в лесу?
— Я встретил гусар.
— Это враги.
— А где Груши?
— Сзади. Они его обогнали.
— Как же я могу вернуться? Мне надо ехать вперед, тогда я могу еще встретить его. У меня приказ, я должен найти его хоть под землей.
На мгновение он задумался.
— Скорей! — крикнул он, хватая моего коня под уздцы. — Слушайтесь меня, еще не все потеряно. Вас не заметили. Я спрячу вас, пока они не пройдут.
За домом была низенькая конюшня, и туда он ввел Фиалку. Меня же он даже не повел, а буквально поволок на кухню. Она была почти пустая, с кирпичным полом. Краснолицая толстуха жарила на очаге котлеты.
— В чем дело? — спросила она, враждебно поглядывая то на меня, то на хозяина. — Кого это ты привел?
— Это французский офицер, Мари. Мы не можем допустить, чтобы пруссаки схватили его.
— Это почему же?
— Как почему? Разрази меня гром, да разве сам я не был солдатом Наполеона? Разве меня не наградили карабином в числе самых доблестных гвардейцев? Неужели я допущу, чтобы моего боевого товарища взяли у меня на глазах? Мари, мы должны его спасти.
Но женщина смотрела на меня весьма недружелюбно.
— Пьер Шарра, — сказала она, — видать, ты не успокоишься, покуда твой дом не спалят, да и тебя самого заодно. Неужели ты не понимаешь, дубина, что ежели ты воевал за Наполеона, то лишь потому, что Наполеон правил Бельгией? А теперь кончилась его власть. Пруссаки — наши союзники, а он нам враг. Я не потерплю француза в своем доме. Ступай выдай его!
Хозяин почесал в затылке и в отчаянье посмотрел на меня, но я сразу смекнул, что этой женщине дороги не Франция и не Бельгия, она боится только за свой дом.
— Мадам, — сказал я, собрав все свое достоинство и хладнокровие, — император уже громит англичан, и еще до вечера французская армия будет здесь. Если вы поможете мне, то получите награду, а если выдадите, — понесете наказание, и ваш дом сожжет военная полиция.
Это произвело на нее должное впечатление, и я поспешил закрепить победу, переменив тактику.
— К тому же, — сказал я, — возможно ли, чтобы у такой красавицы было столь жестокое сердце? Я уверен, что вы не откажетесь спрятать меня.
Она взглянула на мои бакенбарды и сразу смягчилась. Я взял ее за руку, и через две минуты мы уже так наладили отношения, что ее муж сам пообещал выдать меня, если я не остановлюсь.
— К тому же вся дорога запружена пруссаками! — воскликнул он. — Скорей, скорей на чердак!
— Скорей на чердак! — подхватила его жена, и они вдвоем повели меня к лестнице, которая поднималась к люку в потолке. Тут в дверь громко постучали, и, сами понимаете, в одно мгновенье шпоры мои сверкнули в люке, и крышка захлопнулась. Внизу подо мной сразу же послышалась немецкая речь.
Я очутился на длинном, во весь дом, чердаке под самыми стропилами. Чердак находился над харчевней, и сквозь щели в полу я мог видеть и кухню, и комнату для приезжих, и питейный зал. Окон не было, но, поскольку дом сильно обветшал, в крыше не хватало нескольких досок, сквозь щели проникал свет, и можно было наблюдать, что делается снаружи. Чердак был завален всяким хламом. В одном конце лежала куча соломы, в другом — целая груда пустых бутылок. Кроме люка, через который я забрался, здесь не было ни окон, ни дверей.
Несколько минут я просидел на куче сена, стараясь прийти в себя и собраться с мыслями. Дело приняло весьма серьезный оборот, раз прусские войска оказались на поле битвы, опередив наши резервы, но, кажется, тут был всего один корпус, а одним корпусом больше или меньше — невелика разница для такого человека, как император. Ему ничего не стоило разгромить англичан, невзирая на такое преимущество. Поскольку Груши позади, лучшее, что я мог сделать для императора, — это переждать, пока пруссаки пройдут, а потом ехать дальше, найти маршала и передать ему приказ. Если он вместо того, чтобы преследовать пруссаков, выйдет в тыл англичанам, все будет хорошо. Судьба Франции зависела от моего благоразумия и самообладания. Вам известно, что мне к этому было не привыкать, и вы знаете также, что я мог быть твердо уверен: ни благоразумие, ни самообладание мне не изменят. Разумеется, император не ошибся, поручив это дело мне. Он назвал меня «королем гонцов». Что ж, я не посрамлю это звание.
Ясно было, что, покуда пруссаки не пройдут, предпринять ничего нельзя, и я коротал время, разглядывая их. Я их всегда терпеть не мог, но должен признать, что дисциплина у них железная: ни один не зашел в харчевню, хотя на губах у них запеклась пыль и сами они чуть на падали от усталости. Солдаты, стучавшие в дверь, внесли товарища, который был без сознания, и, оставив его, сразу вернулись в строй. Принесли еще нескольких раненых, их уложили на кухне, и молодой врач, совсем еще мальчик, остался ухаживать за ними. Рассмотрев все это через щели в полу, я принялся глядеть сквозь отверстия в крыше, откуда все было прекрасно видно. Прусские войска все шли и шли мимо. Сразу было ясно, что они совершили невероятно тяжелый марш и почти не ели, потому что на них было страшно смотреть: они были измучены и с головы до ног облеплены грязью, так как то и дело падали на скользкой дороге. И все же, несмотря ни на что, они были полны боевого духа и на себе выволакивали пушки, когда колеса уходили по ступицы в топкую грязь, а измученные лошади проваливались до колен, силясь их вытащить. Офицеры разъезжали верхом вдоль колонны, ободряя усердных похвалами, а нерадивых ударами саблей плашмя. И все время спереди, из-за леса, доносился оглушительный грохот сражения, словно все реки на земле собрались в один гигантский водопад, который бурлит и низвергается с высоты. Длинный шлейф дыма, разостлавшийся высоко над деревьями, был подобен огромной сбруе. Офицеры указывали на него саблями, с их запекшихся губ срывались хриплые крики, и люди, облепленные грязью, рвались на поле боя. Целый час двигались они мимо меня, и я решил, что их авангард уже столкнулся с дозорными Марбо и император знает об их появлении.
— Что ж, друзья, вы очень спешите на поле боя, но поглядим, с какой скоростью вы станете улепетывать назад, — сказал я себе, и эта мысль меня утешила.
Я томился в ожидании, но вскоре произошло нечто такое, что рассеяло мою скуку. Я сидел на своем наблюдательном посту, радуясь, что почти весь корпус прошел и скоро дорога будет свободна, как вдруг в кухне послышалась перебранка по-французски.
— Не пущу! — закричал женский голос.
— Нет, пустите! — воскликнул мужчина, и поднялась громкая возня.
В мгновенье ока я был у щели в полу. Я увидел, что моя толстуха, как верная сторожевая собака, стоит у лестницы, а молодой врач, бледный от ярости, пытается подняться наверх. Несколько немцев, придя в сознание, сидели на кухонном полу и тупо, но пристально следили за ними. Хозяина видно не было.
— Вина там нет, — сказала женщина.
— А мне вино и не нужно. Я возьму сена или соломы на подстилку для раненых. Почему она должны валяться на кирпичах, когда на чердаке есть солома?
— Нет там соломы.
— Что же там?
— Пустые бутылки.
— И больше ничего?
— Ничего.
Врач уже готов был отказаться от своего намерения, но один солдат указал на потолок. Из его слов я понял, что он видит солому, торчащую между досками. Напрасно женщина спорила с ним. Двое солдат с трудом встали на ноги и оттащили ее, а врач полез наверх, поднял люк и забрался на чердак. Едва он поднял крышку, я спрятался за нее, но на беду он снова закрыл ее за собой, и мы оказались лицом к лицу.
В жизни еще не видел, чтобы человек был так растерян.
— французский офицер! — пробормотал он.
— Тихо! — сказал я. — Говорите шепотом. — И я обнажил саблю.
— Я не солдат, — сказал он. — Я врач. Отчего вы грозите мне саблей? Я безоружен.
— Я не хотел бы вас трогать, но вынужден защищаться. Я скрываюсь здесь.
— Шпион!
— Шпионы не ходят в военных мундирах и вообще не числятся в составе армии. Я по ошибке оказался среди прусского корпуса и укрылся здесь, надеясь ускользнуть, когда все пройдут. Я не трону вас, если вы поклянетесь молчать о моем присутствии, иначе вам не уйти отсюда живым.
— Можете вложить саблю в ножны, мсье, — сказал врач и дружелюбно посмотрел на меня. — Я поляк по происхождению и не питаю ненависти ни к вам, ни к французам вообще. Я сделаю все возможное для раненых, но не больше. В обязанности врача не входит брать в плен гусар. С вашего разрешения я только захвачу охапку соломы на подстилку этим беднягам.
Я хотел взять с него клятву, но по опыту знал, что, если человек решился лгать, он не поколеблется дать ложную клятву, и промолчал. Врач поднял крышку люка, сбросил вниз соломы сколько ему было нужно и спустился с лестницы, закрыв крышку. Я внимательно следил за ним — он вернулся к своим раненым, моя добрая хозяюшка не отходила от него ни на шаг, но он занялся своими обязанностями, не сказав ни слова.
К этому времени я был уже уверен, что весь корпус прошел, и направился к отверстию в крыше, полагая, что путь свободен, — разве только на дороге окажется несколько отставших, на которых нечего и обращать внимание. Действительно, первый корпус прошел, и я видел, как последние ряды пехоты скрылись в лесу; но представьте себе мое разочарование, когда из Сен-Ламберского леса показался второй корпус, столь же многочисленный, как и первый. Сомнений не оставалось: вся прусская армия, которая, как мы считали, была разгромлена при Линьи, вот-вот обрушится на наш правый фланг, а Груши попался на какую-то нелепую удочку. Рев пушек, который стал теперь гораздо ближе, возвестил, что прусские батареи, проехавшие мимо меня, уже вступили в дело. Представьте себе мое положение! Проходил час за часом, солнце клонилось к западу. А эта проклятая харчевня, в которой я укрылся, все еще была островком среди бурного потока свирепых пруссаков. Мне было необходимо найти маршала Груши, а я не мог высунуть носа из харчевни — меня немедленно взяли бы в плен. Можете вообразить, как я ругался и рвал себе волосы. Как мало знаем мы, что нас ждет! Но в то самое время, когда я в ярости роптал на судьбу, она готовила мне предназначение гораздо более высокое, нежели доставить приказ Груши, предназначение, которое я никогда не исполнил бы, если б не застрял в этой грязной харчевне на опушке Парижского леса.
Два прусских корпуса уже прошли, и мимо меня двигался третий, как вдруг я услышал в комнате для гостей громкий шум и голоса. Я перебрался на другое место и заглянул вниз, желая узнать, что там происходит.
Прямо подо мной два прусских генерала склонились над картой, расстеленной на столе. Несколько адъютантов и штабных офицеров молча стояли вокруг. Один из генералов был злобный старик, седой и морщинистый, с растрепанными седеющими усами и голосом, похожим на собачий лай. Другой был помоложе, с длинным суровым лицом. Он измерял расстояние по карте с усердием студента, а первый генерал топал ногами, злился и ругался, как гусарский капрал. Странно было видеть старика в такой ярости, тогда как молодой сохранял полнейшее самообладание. Целиком их разговор я не понял, но мог поручиться за общий смысл.
— Говорю вам, надо наступать — вперед и только вперед! — крикнул старик и страшно выругался по-немецки. — Я обещал Веллингтону, что прибуду со всей армией, даже если меня придется привязать, чтобы я не упал с лошади. Корпус Бюлова уже в деле, Цитен поддержит его всеми силами и огнем всех пушек. Вперед, Гнейзенау, вперед!
Второй покачал головой.
— Ваше превосходительство, не следует забывать, что если англичане будут разбиты, они отступят к морю. Каково же будет ваше положение, когда Груши отрежет вас от Рейна?
— Мы их разобьем, Гнейзенау. Мы с герцогом сотрем их в порошок. Вперед, я приказываю! Война будет закончена единым ударом. Подтяните войска Пирша, и мы сможем бросить на чашу весов шестьдесят тысяч человек, а Тильман будет удерживать Груши за Вавром.
Гнейзенау пожал плечами, но тут в дверях появился ординарец.
— Прибыл адъютант герцога Веллингтона, — доложил он.
— Ага! — вскричал старик. — Послушаем, чем он нас порадует!
В комнату, шатаясь, вошел английский офицер, его красный мундир почернел от грязи и запекшейся крови. Рука у него была перевязана окровавленным платком, и, чтобы не упасть, он оперся о стол.
— Я послан к маршалу Блюхеру, — сказал он.
— Я маршал Блюхер. Говорите скорей, в чем дело! — воскликнул нетерпеливый старик.
— Герцог приказал передать вам, что английская армия не дрогнет и он нисколько не сомневается в успехе. Французская кавалерия разбита, две пехотные дивизии полностью уничтожены, в резерве осталась только гвардия. Если вы поддержите нас сильным ударом, французы будут разгромлены наголову, и…
Тут колени его подкосились, и он, как мешок, свалился на пол.
— Все ясно! — воскликнул Блюхер. — Гнейзенау, пошлите к Веллингтону адъютанта, пусть сообщит, что герцог может полностью на меня рассчитывать. Вперед, господа, у нас много дела!
Он выбежал из комнаты, и весь его штаб, звякая шпорами, поспешил следом, а двое ординарцев передали раненого англичанина на попечение врача.
Гнейзенау, который был начальником штаба, помедлил немного, потом положил руку на плечо одному из адъютантов. Этот человек сразу привлек мое внимание, потому что на достойных людей глаз у меня наметанный. Он был высок и строен, хоть сейчас в кавалерию; право, у нас с ним было даже кое-что общее во внешности. В темном его лице было что-то ястребиное, черные глаза грозно сверкали из-под густых, косматых бровей, а с такими усами, как у него, ему нетрудно было бы попасть в лучший эскадрон моих гусар. На нем был зеленый мундир с белыми обшлагами и кивер с конским хвостом — я понял, что он драгун и самый лихой из всех кавалеристов, каких я с удовольствием проткнул бы саблей.
— Послушайте, граф Штейн, — сказал Гнейзенау. — Если враг будет разгромлен, но императору удастся бежать, он соберет новую армию, и нам придется все начинать сначала. Если же мы возьмем императора в плен, тогда войне конец. Ради этого стоит не пожалеть стараний и рискнуть головой.
Молодой драгун ничего не ответил, но слушал очень внимательно.
— Допустим, герцог Веллингтон прав, французская армия будет разбита наголову и обращена в бегство. Тогда император, несомненно, отправится назад через Женап и Шарлеруа, так как это самая короткая дорога к границе. Надо полагать, у него будут хорошие лошади и отступающие войска очистят ему дорогу. Наша кавалерия будет преследовать разбитую армию, но император окажется далеко впереди своих войск.
Молодой драгун наклонил голову.
— Вам, граф Штейн, я поручаю императора. Если вы возьмете его в плен, ваше имя войдет в историю. Берите себе в помощь кого хотите — думаю, что десяти или двенадцати человек вам хватит. В бой не ввязывайтесь, отступающих не преследуйте, езжайте стороной и берегите силы для достижения более высокой цели. Вы меня поняли?
Драгун снова наклонил голову. Он не тратил слов, и это произвело на меня впечатление. Я понял, что он и в самом деле опасный человек.
— Ну что ж, остальное предоставляю на ваше усмотрение. Отбросьте все, кроме главного. Карету императора и его самого вы узнаете без труда, ошибиться невозможно. А теперь мне нужно догнать маршала. Прощайте! Если мы еще увидимся, я не сомневаюсь, что смогу поздравить вас с подвигом, который будет греметь по всей Европе.
Драгун отдал честь, а Гнейзенау поспешно вышел из комнаты. Молодой офицер постоял немного в глубокой задумчивости. Потом он вышел вслед за начальником штаба. Я с любопытством следил за ним через щель, ожидая, что он будет делать дальше. Его конь, красивый, сильный, гнедой, с белыми чулками на передних ногах, был привязан у двери харчевни. Он вскочил в седло и, выехав наперерез колонне кавалеристов, показавшейся на дороге, заговорил с офицером, ехавшим во главе передового полка. После короткого разговора двое гусар — полк был гусарский — выехали из рядом и встали рядом с графом Штейном. Затем он остановил следующий полк, и к нему присоединились двое улан. Из следующего полка он взял двух драгун, потом двух кирасиров. Наконец, он отвел свой маленький отряд в сторону, собрал всех вокруг себя и стал объяснять, что им предстоит сделать. А потом десять человек тесной группой исчезли в Парижском лесу.
Незачем и объяснять вам, друзья мои, что все это означало. Ведь этот Штейн действовал именно так, как стал бы действовать я сам на его месте. У каждого полковника он взял двоих лучших кавалеристов и собрал такой отряд, от которого никому не уйти. И если они пустятся в погоню за императором, а при нем не будет конвоя, да помилует его бог!
Представьте же себе, дорогие друзья, каково было мне — меня била лихорадка, бросало в жар, я едва не лишился рассудка. О Груши я больше не думал. На востоке не было слышно стрельбы. Значит, он далеко. Если он и подойдет, то все равно опоздает, и исход сражения будет уже решен. Солнце стояло низко, до темноты оставалось всего два или три часа. Так что не имело никакого смысла выполнять приказ. Зато появилось другое, более срочное и важное дело, от которого зависело спасение императора, а может быть, и его жизнь. Любой ценой, невзирая ни на какую опасность, я должен прорваться к нему. Но как это сделать? Путь к своим мне преграждала вся прусская армия. Они отрезали все дороги, но дорогу долга отрезать невозможно, когда Этьен Жерар видит ее перед собой. Дольше медлить было нельзя. И я решился ехать.
Спуститься с чердака я мог только по лестнице, тут уж ничего не попишешь, так как другого люка не было. Я заглянул в кухню и увидел, что молодой врач все еще там. Раненый английский адъютант сидел на стуле, а рядом на соломе лежали в совершенном изнеможении двое прусских солдат. Остальные уже пришли в себя, и их отправили в тыл. Итак, мне, чтобы добраться до своего коня, предстояло пройти мимо врагов. Врача мне нечего было бояться; англичанин был ранен, и к тому же его сабля вместе с плащом лежала в углу; двое немцев валялись почти без чувств, и ружей около них не было видно. Чего же проще? Я поднял крышку люка, соскользнул вниз по лестнице и появился среди них с обнаженной саблей в руке.
Видели бы вы их удивление! Врач, тот, конечно, все знал, но англичанину и двум немцам, должно быть, показалось, что сам бог войны спустился с небес. Пожалуй, на меня и впрямь стоило посмотреть, я был великолепен в серебристо-сером мундире со сверкающей саблей в руке. Оба немца окаменели, вытаращив глаза. Английский офицер привстав, но от слабости снова упав на стол, разинул рот.
— Что за черт! — повторил он. — Что за черт!
— Ни с места, — сказал я. — Я никого не трону, но горе всякому, кто попытается меня задержать. Если вы не будете мне мешать, вам нечего бояться, но берегитесь оказаться на моем пути. Я полковник Этьен Жерар из Конфланского гусарского полка.
— Ах черт! — сказал англичанин. — Тот самый, что убил лису.
Его лицо перекосилось от злобы. Охотничья зависть — низменное чувство. Этот англичанин ненавидел меня за то, что я, а не он убил лисицу. До чего же разные у нас характеры! Сделай он это у меня на глазах, я обнял бы его, радуясь и ликуя. Но пререкаться было некогда.
— Мне, право, очень жаль, сэр, — сказал я. — Но я вынужден буду позаимствовать у вас плащ.
Он попытался встать со стула и дотянуться до сабли, но я загородил угол, где она лежала.
— Есть у вас что-нибудь в карманах?
— Шкатулка, — ответил он.
— Не стану вас грабить, — сказал я. Взяв плащ, я вынул из кармана серебряную флягу, квадратную деревянную шкатулку и подзорную трубу. Все это я отдал ему. Но тут этот негодяй открыл шкатулку, достал пистолет и прицелился мне в лоб.
— А теперь, милейший, — сказал он, — положите-ка свою саблю и сдавайтесь.
Я был так поражен этим низким коварством, что буквально остолбенел. Я пытался говорить о чести, о благодарности, но глаза его над стволом пистолета стали еще злее.
— Довольно болтать! — сказал он. — Бросай оружие!
Мог ли я вынести такое унижение? Лучше умереть, чем дать себя обезоружить таким образом. Я уже готов был крикнуть: «Стреляй!», — как вдруг англичанин куда-то исчез, и на его месте выросла груда сена, среди которой барахтались рука в красном рукаве и пара ботфорт. Ах, моя храбрая хозяюшка! Бакенбарды меня спасли.
— Беги, солдатик, беги! — воскликнула она и навалила еще сена на барахтающегося англичанина. В мгновенье ока я перебежал двор, вывел Фиалку из конюшни и вскочил в седло. Из окна грянул выстрел, пуля просвистела у самого моего плеча, и я увидел искаженное яростью лицо. Я презрительно усмехнулся, пришпорил лошадь и вылетел на дорогу. Последний прусский солдат уже скрылся в лесу, путь к исполнению долга был свободен. Если Франция победила, все в порядке. Если Франция побеждена, то от меня и от моей лошади зависит даже больше, чем победа или поражение, от меня зависит спасение и жизнь императора. «Вперед, Этьен, вперед! — воскликнул я. — Из всех твоих славных подвигов тебе сейчас предстоит самый великий, пусть даже он будет последним!»
2. Рассказ о девяти прусских кавалеристах.
В прошлый раз, друзья мои, я рассказал о том, как император поручил мне доставить важный приказ маршалу Груши, но мне не удалось исполнить его поручение в силу неожиданных обстоятельств, и я целый долгий день просидел на чердаке харчевни, не имея возможности выйти, потому что вокруг были прусские войска. Вы помните, как я подслушал приказ прусского начальника штаба графу Штейну и узнал про опасный план, который они сразу начали приводить в исполнение, — убить или взять в плен императора после разгрома французской армии. Сперва я не мог этому поверить, но пушки гремели весь день, и канонада не приближалась, а это значило, что англичане, во всяком случае, не отступают и отбили все наши атаки.
Я уже говорил, что в тот день душа Франции натолкнулась на тушу Англии, но надо признать, что туша оказалась весьма крепкой. А если императору не удалось справиться с одними англичанами, то теперь, когда шестьдесят тысяч этих проклятых пруссаков лезут с фланга, ему и впрямь приходится туго. И как бы то ни было, зная о тайных планах врага, я должен быть рядом с ним.
В прошлый раз я вам рассказывал, как смело я вырвался из харчевни и умчался во весь опор, а этот идиот английский адъютант в бессильной злобе грозил мне кулаком из окна. Оглянувшись на него, я поневоле рассмеялся, потому что его злое, красное лицо все было облеплено сеном. Выехав на дорогу, я привстал на стременах и накинул красивый черный плащ на красной подкладке, принадлежавший англичанину. Он доходил мне до самых ботфорт и совершенно скрыл мундир, который мог меня выдать. Что же до моего кивера, то такие носят и немцы, следовательно, он не должен был привлечь к себе внимание. Если со мной никто не заговорит, я вполне смогу проехать через всю прусскую армию; но, хотя я и понимал по-немецки, поскольку в то золотое время, когда мы воевали в этой стране, у меня там было очень много знакомых дам, говорил я с красивым парижским акцентом, который сразу отличишь от их грубой, немелодичной речи. Я знал, что этот акцент сразу же меня выдаст, но мне оставалось только уповать на бога и надеяться, что я сумею проехать молча.
Парижский лес был такой огромный, что нечего было и думать объехать его стороной, поэтому я собрал все свое мужество и поскакал прямо по дороге, по которой прошла прусская армия. Найти дорогу не составило труда, колеи от пушек и повозок с зарядными ящиками были глубиной не меньше двух футов. Вскоре я увидел, что по обе стороны от меня валяются раненые, пруссаки и французы, — здесь авангард Бюлова столкнулся с гусарами Марбо. Один старик с длинной седой бородой, видимо, врач, окликнул меня и побежал вслед за мной, но я даже головы не повернул и не обратил никакого внимания на его крики, только пришпорил коня. Он давно уже скрылся за деревьями, а крики его еще были слышны.
Вскоре я доехал до прусских резервов. Пехотинцы стояли, опершись на ружья, некоторые, обессилев, лежали на мокрой земле, а офицеры собрались кучками, прислушиваясь к могучему грохоту и обсуждая вести с поля битвы. Я промчался мимо них во весь опор, но один из них выбежал на дорогу, преградил мне путь и поднял руку, приказывая остановиться. На меня смотрели глаза пяти тысяч пруссаков. Да, это был ужасный миг! Вы бледнеете, друзья мои, от одной мысли об этом. А у меня просто волосы встали дыбом. Но ни на секунду меня не покинули самообладание и мужество. «Генерал Блюхер!» — крикнул я. Не мой ли ангел-хранитель шепнул мне на ухо эти слова? Пруссак отскочил в сторону, отдал честь и указал вперед. У них прекрасная дисциплина, у этих пруссаков, да и кто он такой, чтобы остановить офицера, который скачет с донесением к генералу? Теперь я словно обрел талисман, с которым невредимый пройду через все опасности, и при этой мысли душу мою наполнило ликование. Я был в таком восторге, что уже не ждал вопроса, а сам, проезжая среди войск, кричал направо и налево: «Генерал Блюхер! Генерал Блюхер!» — и все указывали вперед и расступались, давая мне дорогу. Бывают обстоятельства, когда нахальство — это высшая мудрость. Но нельзя злоупотреблять этим, а я, признаться, перестарался. Когда я был уже совсем близко от поля сражения, один уланский офицер схватил моего коня под уздцы и указал на группу людей, которые стояли подле горящего дома.
— Вон маршал Блюхер. Передайте ему донесение! — сказал он, и правда, этот ужасный седой старик был от нас на расстоянии пистолетного выстрела и смотрел прямо на меня.
Но мой добрый ангел-хранитель не оставил меня. Как молния промелькнула у меня в голове фамилия генерала, который командовал авангардом прусских войск.
— Генерал Бюлов! — крикнул я. Улан отпустил уздечку. — Генерал Бюлов! Генерал Бюлов! — кричал я, а мой добрый конь с каждым шагом уносил меня все ближе к своим.
Я проскакал через горящую деревню Планснуа, промчался между двумя колоннами прусской пехоты, заставил лошадь перепрыгнуть через изгородь, зарубил силезского гусара, бросившегося мне наперерез, и через мгновенье, распахнув плащ, чтобы виден был мой мундир, пронесся через ряды Десятого полка и снова оказался в самой середине корпуса Лобо. Его обошли с флангов, и он медленно отступал перед превосходящими силами противника. Я поскакал дальше, думая только о том, как добраться до императора.
Но то, что я увидел, приковало меня к месту, словно я вдруг превратился в величественную конную статую. Не в силах пошевельнуться, я едва дышал. Я очутился на холме, и передо мной открылась вся длинная, неглубокая долина Ватерлоо. Еще недавно, уезжая отсюда, я видел по ее краям две огромные армии, а посередине открытое пространство. Теперь же на обоих склонах виднелись лишь остатки потрепанных и разбитых полков, а посередине — целая армия убитых и раненых. На две мили в длину и на полмили в ширину земля была сплошь усеяна трупами. Но вид побоища был для меня не нов, и не от этого я оцепенел. А оттого, что на длинном склоне, где были английские позиции, вырос подвижный лес, черный, шевелящийся, колышущийся, густой. Мне ли не узнать медвежьи шапки гвардейцев? Не мое ли чутье солдата подсказало мне, что это последний резерв Франции, что император, как отчаявшийся игрок, поставил все на последнюю карту? Гвардейцы поднимались все выше, великолепные, бесстрашные, не дрогнув под ружейными залпами и ураганным огнем артиллерии, они катились вперед грозной черной волной и захлестнули английские батареи. В подзорную трубу я увидел, как английские артиллеристы попрятались под свои пушки или бросились бежать. А волна медвежьих шапок катилась все дальше и наконец с грохотом, который донесся до меня, схлестнулась с английской пехотой. Прошла минута, другая, третья. У меня упало сердце. Они топтались на месте; они уже не наступали; их остановили. Боже правый!
Возможно ли, чтобы они дрогнули? Одна черная точка скользнула вниз по склону, потом две, четыре, десять, и вот огромная, беспорядочная, бурлящая толпа дрогнула, остановилась, снова дрогнула и наконец в беспорядке, обезумев, устремилась вниз. «Гвардия разбита! Гвардия разбита!» Этот крик несся со всех сторон. По всему фронту пехота обратилась в бегство, артиллеристы побросали пушки.
«Старая гвардия разбита! Гвардия бежит!» Выкрикивая эти слова, мимо меня пробежал офицер с мертвенно-бледным лицом. «Спасайтесь! Спасайтесь! Нас предали! — кричал другой. — Спасайтесь! Спасайтесь!» Люди, потеряв рассудок, бежали прочь с поля боя, они метались и прыгали, как стадо перепуганных баранов. Со всех сторон неслись крики и вопли. Я оглядел английские позиции, и то, что я увидел, мне никогда не забыть. На фоне зловещего заката отчетливо вырисовывался черный силуэт одинокого всадника. Он был такой черный и недвижный в мрачном, мертвенном свете, словно сам бог войны спустился в эту ужасную долину. Я видел, как он высоко поднял над головой шляпу, и по этому сигналу, с глухим яростным ревом, подобным реву прибоя, вся английская армия хлынула по склону и захлестнула долину. Длинные, ощетинившиеся сталью красно-синие шеренги, стремительные волны кавалерии, конные батареи, с грохотом подпрыгивавшие на кочках, разом устремились вниз, на наши редеющие ряды. Все было кончено. От одного нашего фланга до другого пронесся душераздирающий крик храбрецов, которые видят безнадежность своего положения, и вмиг вся славная армия была сметена, превратилась в обезумевшую, охваченную ужасом толпу. Вы видите, друзья мои, что даже теперь я не могу говорить об этом ужасном мгновении без слез и без дрожи в голосе.
Сначала этот дикий поток захватил меня и понес, как ручей соломинку. И вдруг среди смешавшихся полков я увидел суровых всадников в серебристо-серых мундирах, которые ехали, высоко подняв порванное и потрепанное знамя! Вся мощь Англии и Пруссии не могла сломить гусар Конфланского полка. Но, когда я приблизился к ним, сердце мое облилось кровью. Майор, семь капитанов и пятьсот рядовых остались лежать на поле брани. Командовал полком молодой капитан Сабатье, и когда я спросил его, где пять недостающих эскадронов, он указал назад и сказал: «Вы найдете их вокруг одного из английских каре». Люди и кони едва дышали, они были взмыленные и грязные; но когда я увидел, что остатки потрепанного полка все же едут сомкнутым строем и все как один, от юного трубача до старого полкового сержанта, на своих местах, сердце мое преисполнилось гордостью. Если б я мог повести их за собой для охраны императора! Окруженный гусарами Конфланского полка, он был бы в полной безопасности. Но их кони слишком устали и еле плелись шагом. И я поехал вперед, отдав приказ собраться возле деревушки Сент-Онэ, где мы два дня назад стояли лагерем. Я нахлестывал лошадь, торопясь найти императора.
Пробираясь через эту ужасную толпу, я насмотрелся такого, что никогда не изгладится из моей памяти. По ночам мне снова снится это море мертвенно-бледных лиц, с вытаращенными глазами, ртами, разинутыми в крике, которое плескалось подо мной. Это был настоящий кошмар. В пылу победы не чувствуешь всех ужасов войны. Только в леденящем душу ознобе поражения сознаешь их до конца. Помню старого гвардейца-гренадера, он лежал на обочине дороги, и его сломанная нога торчала в сторону. «Братцы, братцы, не наступайте мне на ногу!» — кричал он, но все равно его топтали и пинали. Передо мной ехал уланский офицер, голый до пояса. Ему только что отняли руку в лазарете. Повязка съехала. Это было ужасно. Двое артиллеристов пытались протащить свое орудие. Какой-то егерь вскинул ружье и выстрелил одному из них в голову. Я видел, как майор кирасирского полка вытащил из седельной кобуры два пистолета и сначала пристрелил свою лошадь, а потом пустил пулю себе в лоб. У самой дороги человек в синем мундире вопил и бесновался, как одержимый. Лицо у него почернело от порохового дыма, мундир разорвался, одного эполета не было, другой болтался на груди. Только подъехав к нему совсем близко, я узнал его — это был маршал Ней. Он буквально выл на бегущие войска, да, да, это был вой зверя. Вдруг он поднял обломок своей шпаги — она была сломана в трех дюймах от эфеса.
— Глядите, как умеет умирать маршал Франции! — воскликнул он.
Я с охотой последовал бы его примеру, но мой долг звал меня дальше. Вы знаете, что он не нашел тогда смерти, которой искал, но хладнокровно принял ее через несколько недель от своих врагов.[17]
Есть старая пословица, что в наступлении француз смелее льва, а в отступлении — хуже зайца. И в тот день я понял, что это так. Но даже в этой сумятице я видел такое, о чем могу рассказать с гордостью. Через поля, в отдалении от дороги, двигались три резервных батальона Камброна, краса и гордость нашей армии. Они шагали медленно, выстроившись в каре, и знамена развевались над величественными медвежьими шапками. Вокруг них неистовствовала английская кавалерия, черные уланы герцога Брауншвейгского набегали волна за волной, с грохотом разбивались о них и откатывались. Когда я видел этих гвардейцев в последний раз, шесть английских пушек разом выпалили в них картечью, английская пехота окружила их с трех сторон и осыпала пулями; но, подобно тому, как отважный лев отбивается от свирепых собак, которые наседают на него с боков, остатки доблестной гвардии с честью выходили из последнего боя, медленно, шаг за шагом, то и дело останавливаясь, выравнивая и смыкая ряды. Неподалеку на склоне стояла гвардейская батарея двенадцатифунтовых пушек. Все артиллеристы были на местах, но пушки молчали.
— Почему вы не стреляете? — спросил я, проезжая мимо, у их полковника.
— Порох кончился.
— Тогда почему же не отступаете?
— Может быть, мы их хоть немного отпугнем своим видом. Надо дать императору время спастись.
Таковы были французские солдаты.
Под прикрытием этих храбрецов остальные перевели дух и двигались уже без прежней паники. Они разбрелись в стороны от дороги, и в сумерках я повсюду видел трусливую, беспорядочную, перепуганную толпу, которая десять часов назад была лучшей армией из всех, какие когда-либо вступали в бой. Я на своей резвой лошади вскоре выбрался из толпы и, миновав Женап, нагнал императора с остатками его штаба. Сульт все еще был при нем, и Друо, Лобо и Бертран тоже, вместе с пятью гвардейцами егерского полка, но лошади их едва плелись. Было уже почти темно, и когда император повернулся ко мне, лицо его смутно белело.
— Кто это? — спросил он.
— Полковник Жерар, — ответил Сульт.
— Вы нашли маршала Груши?
— Нет, ваше величество. Там были пруссаки.
— Это не имеет значения. Теперь ничто не имеет значения. Сульт, я вернусь назад.
Он попытался повернуть, но Бертран схватил его коня под уздцы.
— Ах, ваше величество, — сказал Сульт, — враг и без того торжествует.
И, окружив императора, они заставили его ехать дальше. Он ехал молча, склонив голову на грудь, — самый великий и скорбный из людей. А далеко позади все грохотали неумолимые пушки. Иногда в темноте слышались крики, стоны и быстрый глухой стук копыт. Но мы лишь пришпоривали коней и спешили вперед, обгоняя отступающие в беспорядке войска. Мы ехали всю ночь при свете луны и наконец оставили позади и преследователей и преследуемых. Когда мы миновали мост при въезде в Шарлеруа, уже занималась заря. Должно быть, в ее холодном и ясном свете мы казались толпой призраков — император с бледным, словно восковым, лицом, Сульт, весь черный от порохового дыма, Лобо в пятнах крови! Но теперь мы ехали спокойнее и перестали оглядываться назад, так как Ватерлоо осталось более чем в тридцати милях позади. В Шарлеруа мы взяли одну из карет императора и теперь, остановившись на другом берегу Самбры, спешились.
Вы спросите, почему я все это время ни словом не обмолвился о самом главном — о необходимости бдительно охранять императора. Клянусь, я пытался заговорить об этом и с Сультом и с Лобо, но они были так потрясены несчастьем и так заняты неотложными заботами, что невозможно было заставить их понять, какие важные сведения я привез. Кроме того, весь этот долгий путь вместе с нами по дороге двигалось много французских беглецов, и, как ни подавлены они были, мы все же могли не бояться нападения девяти человек. Теперь же, в это раннее утро, когда мы стояли вокруг кареты императора, я с тревогой увидел, что на длинной белой дороге, уходившей вдаль позади нас, нет ни одного французского солдата. Мы опередили армию. Я огляделся в поисках каких-нибудь средств защиты. Кони егерей пали, и нас сопровождал теперь только один из них, сержант с седыми бакенбардами. Оставались Сульт, Лобо и Бертран; но при всех их талантах, если дойдет до настоящей схватки, я предпочел бы одного-единственного гусарского квартирмейстера всем троим вместе. Кроме них, был еще сам император, кучер и камердинер, который присоединился к нам в Шарлеруа, итого восемь человек; но из этих восьми только двое, егерь и я, были настоящими бойцами, на которых можно было положиться в крайнюю минуту. Я похолодел, когда понял, как мы беспомощны. И тут, подняв глаза, я увидел, что в гору поднимаются девять прусских всадников.
Дорога в том месте шла через широкую холмистую равнину — часть ее желтела посевами, а часть была поймой Самбры и поросла густой травой. К югу от нас была цепь невысоких холмов, через которую переваливала дорога во Францию. По этой дороге и ехала кучка всадников. Граф Штейн неукоснительно выполнил приказ, он взял южнее, уверенный, что обгонит императора. Теперь он двигался нам навстречу — с этой стороны мы меньше всего могли ожидать нападения. Когда я их заметил, они были в полумиле от нас.
— Ваше величество! — воскликнул я. — Пруссаки!
Все вздрогнули и вытаращили на меня глаза. Молчание нарушил император.
— Кто говорит, что это пруссаки?
— Я, ваше величество, я, Этьен Жерар!
Когда кто-нибудь сообщал императору неприятную новость, он всегда гневался на этого человека. И он принялся ругать меня хриплым, надтреснутым голосом, с корсиканским акцентом, который у него появлялся, когда он выходил из себя.
— Вы всегда были шутом! — воскликнул он. — С чего это вам, болван вы этакий, взбрело на ум, что там пруссаки? Как могут пруссаки ехать из Франции? Если у вас и была голова, вы ее потеряли.
Его слова как плетью хлестали меня, но каждый из нас испытывал к императору те же чувства, что старая собака к своему хозяину. Она тут же все забывает и прощает ему побои. Я не стал спорить или оправдываться. Мне сразу бросились в глаза белые чулки на передних ногах головной лошади, и я отлично знал, что на ней сидит граф Штейн. Девять всадников придержали коней и принялись нас разглядывать. Потом они дали коням шпоры и с торжествующим криком помчались по дороге прямо к нам. Они знали, что добыча не ускользнет.
Когда они стремительно ринулись на нас, всякие сомнения исчезли.
— Ваше величество, клянусь богом, это действительно пруссаки! — воскликнул Сульт. Лобо и Бертран метались по дороге, как две перепуганные курицы, егерский сержант, изрыгая проклятия, обнажил саблю. Кучер и камердинер вопили и ломали руки. Наполеон стоял с каменным лицом, поставив одну ногу на подножку кареты. А я… ах, друзья мои, я был великолепен! Какими словами описать мое поведение в этот славный миг моей жизни? Я весь подобрался, призвал на помощь все свое хладнокровие, всю ясность ума и был готов действовать. Он назвал меня болваном и шутом. Как быстро и как благородно я отомстил ему! Когда он сам потерял голову, помог ему не кто иной, как Этьен Жерар.
Вступать в бой было бы нелепо, бежать — смешно. Император был такой грузный и к тому же валился с ног от усталости. Да и вообще он никогда не был хорошим кавалеристом. Разве ему уйти от этих людей, лучших наездников в целой армии? Ведь среди них самый знаменитый кавалерист Пруссии. Но я был самым знаменитым кавалеристом Франции, Только я и мог с ними тягаться. Если они примут меня за императора и погонятся за мной, есть еще надежда на счастливый исход. Все эти мысли молнией сверкнули у меня в голове. Еще мгновенье, и я перешел к быстрым и решительным действиям. Я бросился к императору, который, казалось, окаменел; от врагов его скрывала карета.
— Ваш сюртук, ваше величество! Вашу шляпу! — воскликнул я.
Я сорвал с него сюртук и шляпу. Никогда еще с ним не обращались так непочтительно. Мгновенно облачившись в них, я втолкнул его в карету. Потом вскочил на его знаменитого арабского скакуна и вылетел на дорогу.
Вы уже, конечно, поняли, что я задумал; но у вас может возникнуть вполне справедливый вопрос: как это я рассчитывал, что меня примут за императора? Ведь вы еще сейчас можете видеть, как я прекрасно сложен, он же никогда не был хорош собой, — полный, невысокого роста. Но когда человек сидит в седле, трудно определить его рост, что же касается всего прочего, то достаточно пригнуться, сгорбить спину и стараться быть похожим на мешок с мукой. На мне была треуголка и широкий сюртук с серебряной звездой, знакомый в Европе каждому ребенку. Подо мной был знаменитый белый конь императора. Этого было довольно.
Пруссаки были уже от нас в двух сотнях шагов. Я с нарочитым отчаянием взмахнул руками и заставил коня вскочить на придорожную насыпь. Этого оказалось достаточно. Пруссаки издали крик, полный торжества и злобной ненависти. Это был вой голодных волков, почуявших добычу. Я пришпорил коня и помчался через пойменные луга, оглядываясь назад и прикрывая лицо ладонью. Ах, это был славный миг, когда я увидел, что восемь всадников один за другим перемахнули через насыпь и устремились за мной! Только один замешкался, и я услышал крики и шум схватки. Я вспомнил про старого сержанта и с уверенностью сказал себе, что одним врагом стало меньше. Путь был свободен, император мог ехать дальше.
Теперь пришло время подумать о себе. Если пруссаки настигнут меня, они рассвирепеют, и расправа будет короткой. Ну что ж, раз уж мне суждено умереть, я по крайней мере дорого продам свою жизнь. Но я надеялся, что мне удастся уйти от них. Будь там обычные всадники на обычных лошадях — это не составило бы для меня никакого труда, но и всадники и кони были лучшие из лучших. Подо мной конь был отличный, но он устал после долгой ночной скачки, а император не очень-то умел беречь лошадей. Он совсем о них не думал и без жалости рвал поводья. Но ведь Штейн и его люди тоже совершили долгий и быстрый бросок. Скачки проходили на равных.
До сих пор я действовал под влиянием мгновенного порыва и не успел подумать о том, как спастись самому. Подумай я об этом, я, разумеется, поскакал бы назад по той же дороге и в конце концов добрался бы до своих. Но я проехал уже больше мили в сторону от дороги, прежде чем это пришло мне в голову. Оглянувшись, я увидел, что мои преследователи растянулись длинной вереницей, стараясь отрезать меня от дороги на Шарлеруа. Я не мог повернуть назад, но мог по крайней мере постепенно забирать к северу. Я знал, что вся округа полна нашими отступающими войсками и рано или поздно кто-нибудь их своих попадется мне на пути.
Но я забыл об одном — о Самбре. Разгоряченный, я не вспомнил об этой реке до тех пор, пока не увидел ее, широкую и полноводную, сверкающую под лучами утреннего солнца. Она преградила мне путь, а пруссаки радостно выли у меня за спиной. Я доскакал до воды, но дальше конь никак не шел. Я дал ему шпоры, но берег был высок, а река глубока. Дрожа и фыркая, он попятился. Торжествующие вопли все приближались. Я повернул и помчался во весь опор по берегу. В том месте река образовывала излучину, через которую мне предстояло как-то перебраться, так как путь назад был отрезан. И вдруг в душе у меня блеснула надежда — я увидел на этом берегу дом, а на том — еще один. Два таких дома обычно означают, что между ними брод. К воде вел пологий спуск, и я направил по нему коня. Он повиновался, и вскоре вода дошла до седла, она пенилась справа и слева. Один раз конь потерял опору, оступился, и я уже думал, что мы пропали, но он снова нащупал дно и через мгновенье уже скакал по противоположному склону. Когда мы выбрались из воды, я услышал позади плеск — это первый из пруссаков въехал в воду. Нас разделяла теперь только ширина Самбры.
Я ехал, втянув голову в плечи, как это делал Наполеон, и не смел оглянуться, боясь, что они увидят мои усы. Чтобы хоть как-то скрыть их, я поднял воротник серого сюртука. Ведь даже теперь они, поняв свою ошибку, еще могли повернуть назад и настичь карету. Скоро мы снова скакали по дороге. Стук копыт за моей спиной становился все громче — погоня настигала меня. Мой конь мчался по каменистой, избитой дороге, которая вела от брода. Я украдкой взглянул назад из-под руки и увидел, что меня нагоняет только один всадник, который далеко опередил своих товарищей. Это был маленький, щуплый гусар на огромном черном коне, он оказался впереди благодаря своему малому весу. Быть впереди почетно, но вместе с тем и опасно, в чем ему вскоре довелось убедиться. Я ощупал кобуры, но к моему ужасу пистолетов там не оказалось. В одной я нашарил подзорную трубу, другая была набита бумагами. Моя сабля осталась на седле у Фиалки. Но я был не совсем безоружен. На седле висела сабля самого императора. Она была короткая и кривая, с золотой насечкой, — такая штука более пригодна для того, чтобы сверкать на парадах, чем служить воину в минуту смертельной опасности, но я выхватил ее из ножен, какую ни на есть, и ждал только случая пустить в ход. С каждой секундой стук копыт приближался. Я слышал фырканье лошади и угрожающие крики всадника. Впереди был крутой поворот, и, едва миновав его, я поднял своего белого арабского скакуна на дыбы. За поворотом я оказался лицом к лицу с прусским гусаром. Он не успел остановиться, и ему оставалось лишь одно — сшибить меня с разгона. Если б это удалось ему, он погиб бы сам, зато искалечил бы меня или мою лошадь, и я уже не мог бы спастись бегством. Но этот болван, видя, что я жду его, взял вправо и проскакал мимо. Я сделал выпад через шею своего скакуна и вонзил свою игрушечную саблю ему в бок. Должно быть, она была из превосходной стали и острая, как бритва, потому что я не почувствовал, как она вошла в него, но кровь обагрила клинок почти до самого эфеса. Лошадь поскакала дальше, и раненый еще сотню шагов держался в седле, а потом повалился вперед, зарывшись лицом в гриву, соскользнул на бок и упал на дорогу. А я уже скакал вслед за его лошадью. Все, о чем я рассказал, продолжалось лишь несколько секунд.
Я услышал, как пруссаки злобно завопили далеко позади, — это они проехали мимо своего мертвого товарища, и я не удержался от улыбки при мысли о том, каким лихим кавалеристом и рубакой они считают императора. Я снова украдкой поглядел назад и увидел, что ни один из семерых не остановился. Судьба товарища была ничто в сравнении с их главной целью. Они были неутомимы и кровожадны, как гончие. Но я вырвался далеко вперед, и мой скакун шел ходко. Я уже думал, что спасен, но в этот самый миг на меня надвинулась смертельная опасность. Я очутился на развилке и выбрал из двух дорог ту, что поуже, потому что она заросла травой и коню мягче было по ней скакать. Представьте же себе мой ужас, когда, проехав через какие-то ворота, я очутился в тупике среди конюшен и крестьянских домов, откуда был только один путь — назад! Ах, друзья, если волосы мои белы, как снег, то разве мало мне пришлось пережить?
Нечего было и думать повернуть обратно. Я огляделся, — глаз-то у меня острый от природы, ведь для солдата это важнее всех прочих качеств, а для кавалерийского командира тем более. Между длинным рядом низких конюшен и одним из домов был загон для свиней. Передняя стена была бревенчатая, высотой в четыре фута, задняя — каменная и выше передней. Что за нею, я не знал. Переднюю стену от задней отделяло всего несколько ярдов. И я решился на отчаянную попытку. Стук копыт нарастал с каждым мгновеньем. Я заставил своего скакуна прыгнуть в загон. Бревенчатую стену он перемахнул без труда, но, угодив передними копытами в спящую свинью, поскользнулся и упал на колени. Я перелетел через вторую стену и свалился ничком на мягкую цветочную клумбу. Мой конь был по одну сторону стены, я — по другую, а пруссаки в это время ворвались во двор. Но я мигом вскочил на ноги, перегнулся через стену и схватил упавшего коня под уздцы. Стена была сухой кладки, я сбросил сверху несколько камней, благодаря чему образовалась брешь. Я с криком дернул поводья, мой храбрый конь прыгнул, очутился по эту сторону стены, и я мигом вдел ногу в стремя.
Когда я вскочил в седло, мне пришла геройская мысль. Этим пруссакам, чтобы одолеть стену, придется прыгать по одному, и справиться с каждым по отдельности будет не так уж трудно, потому что враг не успеет прийти в себя после прыжка. Почему бы мне не подождать и не перебить их одного за другим? Это была славная мысль. Пусть знают, что нельзя безнаказанно гоняться за Этьеном Жераром. Я схватился за саблю, но представьте себе мои чувства, друзья, когда оказалось, что ножны пусты. Сабля выпала, когда конь споткнулся об эту проклятую свинью. Вот от каких нелепых пустяков зависит человеческая судьба — свинья на одной чаше весов, Этьен Жерар — на другой! Может быть, перепрыгнуть через стену и подобрать саблю? Нет, поздно! Пруссаки были уже во дворе. Я повернул своего коня и снова пустился наутек.
Но тут я попал в еще худшую ловушку. Я очутился в фруктовом саду с грядками цветов по краям. Сад был обнесен высокой стеной. Однако, я сообразил, что должен же тут быть какой-то вход, ведь едва ли хозяева рассчитывали, что все гости станут прыгать сюда через свинарник. Я поскакал вдоль стены. Как я и ожидал, в ней оказалась калитка, ключ торчал изнутри. Я слез с лошади, повернул ключ, открыл калитку и увидел в каких-нибудь шести футах от себя прусского улана на коне.
Секунду мы таращили друг на друга глаза. Потом я захлопнул калитку и снова запер ее. В дальнем конце сада послышались шум и крики. Я понял, что один из моих врагов свалился с лошади, пытаясь перепрыгнуть через стену свинарника. Как мне было выбраться из этого тупика? Ясно, что часть отряда поскакала кружным путем, а часть пустилась вслед за мной. Будь при мне сабля, я без труда справился бы с уланом у калитки, а так сунуться туда означало верную смерть. И все же, если я стану медлить, несколько пруссаков, спешившись, наверняка переберутся через свинарник, и как мне тогда быть? Надо действовать немедленно, иначе я пропал. Но именно в такие мгновенья мой мозг работал особенно четко. Взяв коня под уздцы, я пробежал вдоль стены шагов сто от того места, где меня подстерегал улан. Там я остановился и с грохотом свалил со стены несколько камней. Сделав это, я бросился назад к калитке. Как и следовало ожидать, он решил, что я разваливаю стену, намереваясь улизнуть, и я услышал стук копыт — он спешил отрезать мне путь. Вернувшись к калитке, я оглянулся и увидел, как всадник в зеленом мундире — я знал, что это граф Штейн, — перескочил через стену свинарника и теперь с ликующим криком скакал во весь дух по саду.
— Сдавайтесь, ваше величество, сдавайтесь! — кричал он. — Мы вас пощадим.
Я выскользнул в калитку, но не успел запереть ее за собой. Штейн мчался за мной по пятам, а улан уже повернул коня назад. Вскочив на своего скакуна, я снова понесся по травянистой равнине. Штейну пришлось спешиться, открыть калитку, провести в нее лошадь, а потом снова сесть в седло, прежде чем продолжать погоню. Его я опасался больше, чем улана, чья лошадь была нечистых кровей и к тому же устала. Я проскакал во весь опор с милю, прежде чем рискнул оглянуться, и тут оказалось, что Штейн в ружейном выстреле от меня, улан следует за ним примерно на таком же расстоянии, а далеко позади видны еще только трое. Теперь пруссаков было уже не девять, число их поубавилось, но даже один из них легко справился бы с безоружным.
Меня удивило, что за время этой долгой погони я не видел ни одного из наших отступающих солдат, и я подумал, что сильно удалился к западу от их пути и теперь, чтобы встретиться с ними, надо взять восточнее. В противном случае мои преследователи если и не настигнут меня, будут продолжать погоню до тех пор, пока мне не преградит путь кто-нибудь из их товарищей, двигающихся с севера. Взглянув на восток, я увидел вдалеке облако пыли, растянувшееся на много миль. Там, конечно, была дорога, по которой отступала наша несчастная армия. Но вскоре я убедился, что некоторые из отставших французов попали и на этот проселок, так как вдруг увидел лошадь, которая паслась на краю поля, а неподалеку, привалившись спиной к насыпи, сидел ее хозяин, французский кирасир, видимо, смертельно раненный. Я соскочил с коня, схватил длинную тяжелую саблю кирасира и поскакал дальше. Никогда не забуду лицо этого бедняги, когда он взглянул на меня угасающими глазами. Это был старый, седоусый солдат, слепо преданный своему долгу, и, когда он в предсмертные мгновенья увидел императора, для него это было подобно откровению свыше. Удивление, любовь, гордость озарили его бледное лицо. Он что-то сказал — боюсь, что это были его последние слова, но мне некогда было слушать, и я помчался дальше.
Все это время я скакал через пойменные луга, пересеченные широкими лощинами. Лощины эти иногда достигали четырнадцати, а то и пятнадцати футов в ширину, и у меня душа уходила в пятки всякий раз, как конь через них прыгал, — ведь стоило ему оступиться, и я погиб. Но тот, кто выбирал лошадей для императорской конюшни, видимо, знал свое дело. Конь только один раз заупрямился на берегу Самбры, но с тех пор ни разу меня не подвел. Мы мчались, обгоняя ветер. И все же я никак не мог оторваться от этих проклятых пруссаков. Всякий раз, перемахнув через какой-нибудь ручей, я с надеждой оглядывался назад и неизменно видел Штейна, который так же легко, как я, брал препятствие на своем белоногом гнедом коне. Это был мой враг, но я уважал его за мужество.
Снова и снова я прикидывал на глаз расстояние, отделяв шее меня от преследователя. У меня мелькнула мысль: что, если резко повернуть назад и зарубить его, как зарубил я того гусара, прежде чем его товарищ подоспеет к нему на помощь. Но остальные пруссаки подтянулись и тоже были теперь близко. Я подумал, что этот граф Штейн, вероятно, владеет саблей не хуже, чем конем, и с ним сразу не справишься. А тем временем остальные поспешат к нему на выручку, и песенка моя спета. Поэтому разумнее всего уносить ноги.
Я увидел дорогу, обсаженную по обеим сторонам тополями, которая шла через равнину с востока на запад. Она должна была привести меня к облаку пыли, поднятому отступающими французами. Поэтому я повернул коня и поскакал по ней. Справа от дороги показался одинокий дом с большой веткой над дверью вместо вывески — это была таверна. Возле нее стояло несколько крестьян, но их я не боялся. Испугало меня другое: впереди мелькнул красный мундир, значит, там англичане. Однако я не мог ни свернуть, ни остановиться, оставалось только махнуть рукой на опасность и скакать дальше. Регулярных частей поблизости не было, значит, это отставшие или мародеры, которых опасаться нечего. Приблизившись, я увидел, что двое англичан сидят на скамье у входа и пьют вино. Я видел, как они, шатаясь, встали на ноги, — ясно было, что оба мертвецки пьяны. Один, пошатываясь, вышел на середину дороги.
— Это Бонапарт! — воскликнул он. — Провалиться мне, если не Бонапарт!
Он растопырил руки и кинулся мне навстречу, но, на свое счастье, спьяну споткнулся и упал ничком на дорогу. Второй был опаснее. Он бросился в таверну, и я, промчавшись мимо, успел заметить, как он снова выскочил оттуда с ружьем. Он припал на одно колено, а я распластался на шее лошади. Одиночный выстрел пруссака или австрийца — это пустяк, но англичане были в то время лучшими стрелками в Европе, и как только этот пьянчуга почувствовал у плеча приклад, весь хмель с него соскочил. Я услышал грохот, и мой конь сделал такой отчаянный скачок, что немногие всадники усидели бы на этом в седле. У меня мелькнула мысль, что он ранен смертельно, но, обернувшись назад, я увидел кровь на его задней ноге. Я поглядел на англичанина — этот негодяй уже забивал в ствол новый заряд, но, прежде чем он успел насыпать на полку пороху, я был уже вне выстрела. Эти люди были пешие и не могли присоединиться к погоне, но я слышал, как они гикали и улюлюкали мне вслед, словно травили лисицу. Крестьяне тоже с криками бежали через поле, размахивая палками. Со всех сторон неслись вопли, всюду мелькали бегущие, размахивающие руками фигуры моих преследователей. Подумать только, ведь это была облава на великого императора! Ах, как мне хотелось хорошенько угостить этих негодяев саблей!
Но я уже чувствовал приближение конца. Я сделал все, что было в человеческих силах, и даже больше, а теперь не видел выхода из положения. Кони моих преследователей были измучены, но мой измучен не меньше и к тому же ранен. Он истекал кровью, и мы оставляли за собой на белой пыльной дороге красный след. Он бежал все медленней, и я знал, что рано или поздно он падет подо мной. Я оглянулся — пятеро пруссаков упорно настигали меня: Штейн скакал на сотню шагов впереди, за ним улан, а дальше — остальные трое. Штейн обнажил саблю и размахивал ею. Но я решил не сдаваться. Посмотрим, скольких пруссаков я сумею утащить с собой на тот свет. В этот славный миг все подвиги моей жизни живо предстали у меня перед глазами, и я понял, что этот последний подвиг — поистине достойное завершение такого пути. Моя смерть будет роковым ударом для всех, кто меня любит, для моей дорогой матушки, для моих гусар и еще для некоторых, их я не назову. Но всем им дорога моя слава и честь, и я был уверен, что когда они узнают, как я скакал и как сражался в последний день своей жизни, то почувствуют не только скорбь, но и гордость. Я заставил молчать свое сердце и, видя, что мой скакун все сильнее припадает на раненую ногу, обнажил длинную саблю, которую взял у кирасира, стиснул зубы и изготовился к смертельному бою. Я уже хотел было натянуть поводья, боясь, что, если еще помедлю, мне придется пешим драться против пятерых конных. Но тут я взглянул вперед, и в сердце моем сверкнула надежда, а с губ сорвался ликующий крик.
Передо мной был лесок, а над ним виднелась церковная колокольня. Второй такой колокольни не найти — ее угол обрушился или был разбит молнией, и это придало ей совершенно фантастическую форму. Я видел ее всего два дня назад, это была церковь в деревне Госсели. Но сердце мое возликовало не оттого, что я надеялся добраться до деревни, — нет, теперь я знал, как спастись, ведь всего в полумиле оттуда был дом, его крыша уже виднелась среди деревьев, тот самый дом в Сент-Онэ, где мы стояли лагерем и где я назначил капитану Сабатье место сбора конфланских гусар. Они, конечно, уже там, мои орлы, надо только добраться туда. Мой конь слабел с каждым шагом. А шум погони все приближался. Я слышал хриплые немецкие ругательства буквально у себя за спиной. У самого уха просвистела пистолетная пуля. Вонзив шпоры в бока моего бедного скакуна и немилосердно колотя его саблей, я гнал его, заставляя бежать из последних сил. Вот и открытые ворота усадьбы. Там, впереди, блеснула сталь. Штейн был уже в каком-нибудь десятке шагов позади, когда я влетел в ворота.
— Ко мне, друзья! Ко мне! — крикнул я что было мочи.
Послышалось гудение, словно в потревоженном улье. И тут мой великолепный арабский скакун пал подо мной, и я, свалившись на мощенный камнем двор, потерял сознание.
Таков был мой последний и самый славный подвиг, дорогие друзья, — весть о нем разнеслась по всей Европе, и имя Этьена Жерара вошло в историю. Увы! Все мои старания принесли императору всего несколько недель свободы, потому что пятнадцатого июля он сдался в плен англичанам. Но не моя вина, что он не сумел собрать войска, которые еще ждали его призыва во Франции, и одержать победу при новом Ватерлоо. Будь все остальные так же верны ему, как я, ход мировой истории мог бы измениться, император сохранил бы свой трон, и мне, старому, заслуженному бойцу, не пришлось бы влачить жалкую жизнь, сажая капусту, или коротать время на старости лет, рассказывая истории в кафе. Вы хотите знать, что сталось со Штейном и остальными пруссаками? О тех троих, которые отстали по дороге, я ничего не знаю. Одного, как вы помните, я убил. Остались пятеро. Троих из них зарубили мои гусары, которым в первый миг показалось, что они в самом деле спасают императора. Штейн, легко раненный, попал в плен, и один из улан тоже. Они тогда так и не узнали правды, поскольку мы считали, что никакие сведения о местопребывании императора, истинные или ложные, распространять не следует, и граф Штейн был уверен, что всего несколько шагов отделяло его от славного подвига.
— Да, вы не напрасно преклоняетесь перед своим императором, — сказал он, — я никогда в жизни не видел человека, который так владел бы конем и саблей.
И он никогда не мог взять в толк, почему молодой гусарский полковник от души смеялся над его словами. Со временем он узнал, в чем дело.
VIII. Последнее приключение бригадира
Больше, дорогие друзья, вы не услышите моих рассказов. Говорят, человек, что заяц, который бежит по кругу и возвращается умирать на то же место, откуда начал свой путь. И вот меня зовет родная Гасконь. Вижу голубую Гаронну, которая вьется меж виноградников, и синий океан, куда она несет свои воды. Вижу старинный город и лес мачт у длинной каменной пристани. Моя душа жаждет воздуха родины и тепла ее солнца. Здесь, в Париже, у меня есть друзья, дела, развлечения. А там все, кто знал меня, уже в могилах. И все же, когда юго-западный ветер шумит за моим окном, мне кажется, что это родная земля зовет сына, которому пора вернуться в ее лоно. В свое время я совершил то, что мне было суждено. Это время прошло. И жизнь тоже прошла. Нет, друзья мои, не печальтесь: что может быть счастливее жизни, которая оканчивается в почете и среди друзей. Разве не чувствуете вы торжественность минуты, когда человек приближается к концу долгого пути и виден поворот, за которым ждет неведомое? Император и все его маршалы уже прошли этот темный поворот и скрылись за ним. Мои гусары тоже — их не осталось и пятидесяти в этом мире, остальные ждут меня там. Я должен идти. И сегодня, в этот прощальный вечер, я расскажу вам не просто случай, а нечто большее — я открою вам великую историческую тайну. До сих пор мои уста были сомкнуты, но я не вижу, почему бы не оставить после себя память об этом замечательном приключении, которое иначе бесследно канет в вечность, потому что я единственный из всех живущих на земле знаю о нем.
Итак, прошу вас перенестись вместе со мной в тысяча восемьсот двадцать первый год. Вот уже шесть лет не было с нами нашего славного императора, и только изредка из-за моря доходили слухи. Вы не можете себе представить, как тяжко было всем нам, любившим его, знать, что он в плену и его великая душа изнывает на пустынном острове. С той минуты, как мы просыпались по утрам, и до ночи, когда сон смыкал наши глаза, мы были с ним всеми помыслами и стыдились, что он, наш вождь и повелитель, так унижен, а мы бессильны ему помочь. Многие были бы счастливы пожертвовать остатком своей жизни, чтобы хоть как-нибудь облегчить его участь, но, увы, мы могли только брюзжать, сидя в кафе, глядеть на карту и подсчитывать, сколько лиг океана отделяет нас от нею. Будь он на луне — мы и то не могли бы помочь ему больше ничем. Ведь все мы были простыми солдатами и не знали моря.
Конечно, у нас были свои мелкие невзгоды, которые отравляли жизнь не меньше, чем несчастья императора. Многие из нас носили прежде высокие чины и, вернись он к власти, снова получили бы их. Мы не считали возможным служить под белым флагом Бурбонов или принести присягу, которая могла обратить наше оружие против того, кого мы любили. И мы оказались не при деле, без всяких средств. Что оставалось нам, кроме как собираться вместе, пересказывать друг другу слухи и ворчать, и те, у кого было немного денег, платили по счету, а те, у кого ничего не было, пили за компанию. Иногда, на наше счастье, удавалось затеять ссору с кем-нибудь из королевских гвардейцев, и если он оставался лежать в Булонском лесу, нам казалось, что мы снова сражались за Наполеона. Со временем гвардейцы узнали наши излюбленные места и избегали их, словно то были гнезда шершней.
В одном из таких мест — кафе «У великого человека», на рю Варенн, — обычно собирались самые славные и молодые офицеры армии Наполеона. Почти все мы были полковниками или адъютантами, и когда среди нас оказывался человек ниже чином, мы обычно давали ему почувствовать, что это непозволительная вольность. Бывал там капитан Лепин, награжденный в Лейпциге почетной медалью, полковник Бонне, адъютант Макдональда, полковник Журдан, который пользовался в армии почти такой же славой, как и я, Сабатье из моего гусарского полка, Менье из полка Красных улан, Ле Бретон из гвардии и много других. Каждый вечер мы собирались там, беседовали, играли в домино, выпивали стаканчик-другой и размышляли о том, скоро ли вернется император и мы снова встанем во главе своих полков. Бурбоны в то время уже потеряли во Франции всех своих приверженцев, это стало ясно через несколько лет, когда весь Париж поднялся против них и их в третий раз изгнали из Франции. Наполеону стоило только высадиться на французском берегу, и он без единого выстрела дошел бы до столицы, точно так же, как при возвращении с Эльбы.
Вот как обстояли дела, когда однажды февральским вечером к нам в кафе явился преудивительный человечек. Он был невысок ростом, но широкоплеч, с огромной, почти уродливой головой. Его большое смуглое лицо было иссечено странными белыми полосами, а на щеках топорщились седые бакенбарды, как у настоящего морского волка. Золотые серьги в ушах и руки, разукрашенные татуировкой, также свидетельствовали, что он моряк, и мы это поняли прежде, чем он представился нам. У капитана Фурно, офицера императорского флота, были рекомендательные письма к двоим из нас, и не приходилось сомневаться, что он предан делу императора. Кроме того, он сразу завоевал наше уважение, так как участвовал в сражениях не меньше любого из нас, и следы ожогов на его лице были памятью о том, как он до самой последней минуты оставался на палубе «Ориента», взлетевшего в воздух во время битвы на Ниле. Он мало говорил о себе, а сидел в уголке, поглядывая вокруг своими быстрыми глазами, и внимательно прислушивался к нашим разговорам.
Однажды вечером, когда я собрался домой, капитан Фурно вышел за мной следом и, коснувшись моей руки, без единого слова повел меня к себе — он поселился в доме неподалеку от нашего кафе.
— Мне надо с вами поговорить, — сказал он и пригласил меня наверх, в свою комнату. Там он зажег лампу, достал из ящика стола конверт, вынул оттуда лист бумаги и протянул его мне. Письмо было написано несколько месяцев назад во дворце Шёнбрунн в Вене. «Капитан Фурно действует в высших интересах императора Наполеона. Все, кто любил императора, обязаны подчиняться ему, не задавая никаких вопросов. Мария-Луиза». Вот что я там прочел. Я знал подпись императрицы, и у меня не было сомнений в ее подлинности.
— Ну, — сказал он, — удовлетворены ли вы моими верительными грамотами?
— Вполне.
— Готовы ли вы повиноваться моим приказам?
— Этот документ не оставляет мне иного выбора.
— Прекрасно! Во-первых, из ваших слов в кафе я заключил, что вы говорите по-английски.
— Да, говорю.
— Скажите что-нибудь на этом языке.
Я сказал: «Когда бы императору ни понадобилась помощь Этьена Жерара, я готов в любое время дня и ночи отдать свою жизнь в его распоряжение».
Капитан Фурно улыбнулся.
— Это звучит несколько смешно, — сказал он, — но все же лучше такой английский, чем никакой. А я говорю по-английски не хуже настоящего англичанина. Это — единственное, чем я могу похвастать, после того как просидел шесть лет в английской тюрьме. А теперь я открою вам цель моего приезда в Париж. Я приехал, чтобы найти помощника для дела, касающегося императора. Мне сказали, что в кафе «У великого человека» я найду цвет его старых офицеров, которые и по сей день преданы ему. Я присмотрелся ко всем вам и пришел к заключению, что вы более всех прочих подходите для моей цели.
Я поблагодарил за комплимент.
— Что же я должен делать? — спросил я.
— Ничего особенного, просто составить мне компанию на несколько месяцев, — сказал он. — Знайте, что после того, как я вышел в Англии из тюрьмы, я поселился там, женился на англичанке и даже стал капитаном небольшого английского торгового судна, на котором совершил несколько рейсов от Саутгемптона до побережья Гвинеи. Меня считают англичанином. Однако вы понимаете, что я, всей душой любя императора, иногда чувствую себя одиноким, и мне хотелось бы иметь товарища, который разделяет мои чувства. Во время этих долгих рейсов ужасно скучаешь, и, даю слово, вы не раскаетесь, если разделите со мной каюту.
Пока капитан вел со мной этот незначительный разговор, он не сводил с меня своих проницательных серых глаз. Мой ответный взгляд заставил его почувствовать, что он имеет дело не с дураком. Он вынул парусиновый мешочек, туго набитый деньгами.
— Здесь сто фунтов золотом, — сказал он. — Купите себе все, что нужно для путешествия. Советую доставить весь багаж в Саутгемптон, откуда мы отплываем через десять дней. Судно называется «Черный лебедь». Завтра я возвращаюсь в Саутгемптон и надеюсь увидеть вас там на будущей неделе.
— Полно вам, обратился я к нему — Скажите мне откровенно, куда мы возьмем курс?
— Ах, разве я не сказал? — ответил он. — Мы плывем в Африку, на побережье Гвинеи.
— Но как это может быть связано с высшими интересами императора? — спросил я.
— Высшие интересы требуют, чтобы вы не задавали нескромных вопросов, а я не давал на них нескромных ответов, — отрезал капитан. На этом он прервал разговор, и я вернулся восвояси ни с чем, если не считать мешочка с золотом, который подтверждал, что этот удивительный разговор не привиделся мне во сне.
Я не видел причин, почему бы мне не участвовать в этом деле до конца, и через неделю был уже на пути в Англию. Я добрался из Сен-Мало в Саутгемптон и, расспросив встречных в порту, без труда отыскал «Черного лебедя», красивое, стройное суденышко, которое, как я узнал потом, называлось бригом. На палубе я увидел самого капитана Фурно и семь или восемь здоровенных матросов, которые, трудясь в поте лица, мыли палубу и готовили судно к плаванию. Капитан поздоровался со мной и провел меня в свою каюту.
— Вы теперь всего только мистер Жерар, родом с Нормандских островов, — сказал он. — Я буду вам весьма признателен, если вы забудете свои военные привычки и оставите кавалерийское щегольство, когда расхаживаете по моей палубе. И потом, неплохо бы вам отрастить бороду, тогда у вас будет более морской вид, чем с этими усами.
Я пришел в ужас от его слов, но в конце концов в открытом море нет дам, так что не все ли равно? Он позвонил и вызвал стюарда.
— Густав, — сказал он, — поручаю вашим заботам моего друга, мсье Этьена Жерара, который отправляется вместе с нами в плавание. Это Густав Керуан, мой стюард, он бретонец, — объяснил капитан. — Вы можете совершенно на него положиться.
У этого стюарда, с его грубым лицом и суровым взглядом, вид был слишком воинственный для столь мирной должности. Однако я ничего не сказал, хотя, можете быть уверены, глядел в оба. Мне отвели соседнюю с капитаном каюту, которая была вполне удобной, но никак не могла сравниться с великолепием каюты Фурно. Он явно любил роскошь, каюта его была заново отделана бархатом и серебром, что куда больше подходило для яхты какого-нибудь аристократа, чем для суденышка, совершающего торговые рейсы на западное побережье Африки. Именно такого мнения придерживался помощник капитана, мистер Берне, который не мог удержать презрительной усмешки всякий раз, как заходил в его каюту. Этот рослый, широкоплечий, рыжеволосый англичанин помещался в каюте по другую сторону от капитанской. На борту был еще второй помощник по фамилии Тэрнер, чья каюта находилась где-то возле рубки, а также девять матросов и юнга, из которых трое, как сообщил мне мистер Бернс, были, как и я, родом с Нормандских островов. Этот Бернс, первый помощник, очень любопытствовал, зачем мне вздумалось от-правиться в плаванье.
— Я путешествую для удовольствия, — сказал я.
Он вытаращил на меня глаза.
— А вы бывали когда-нибудь на западном побережье Африки? — спросил он.
Я ответил, что не бывал ни разу.
— Так я и знал, — сказал он. — Ну уж во второй раз вы туда не отправитесь.
Дня через три после моего приезда мы развязали веревки, которыми судно было привязано, и пустились в путь. Я никогда не был хорошим моряком, и, признаться, земля давным-давно уже скрылась из виду, когда я почувствовал себя наконец в силах выйти на палубу. Лишь на пятый день я выпил бульон, который принес мне добрый Керуан, сполз с койки и поднялся по трапу. Свежий воздух оживил меня, и с этого дня я кое-как приспособился к качке. Борода у меня тоже начала отрастать, и я не сомневаюсь, что стал бы таким же лихим матросом, как и солдатом, если бы судьба предназначила меня для морской службы. Я научился тянуть веревки, которыми поднимают паруса, и поворачивать длинные палки, к которым они прикреплены. Однако главной моей обязанностью было играть в экарте с капитаном Фурно и составлять ему компанию. Не было ничего странного в том, что он искал приличного общества, так как оба помощника были неграмотны, хоть и отлично знали свое дело. Умри вдруг наш капитан, ума не приложу, как мы нашли бы путь среди всей этой массы воды, потому что только он один умел определять по карте, где мы находимся. Карта висела на стене в его каюте, и он каждый день отмечал на ней пройденный путь. Просто удивительно, как ловко он умел все рассчитывать — например, однажды утром он сказал, что к вечеру мы увидим маяк Кейп-Верд, и в самом деле, он показался с левого борта, едва стемнело. Однако на другой день берега видно не было, и Бернс объяснил мне, что теперь мы не увидим земли, пока не прибудем в свой порт в заливе Биафра. Дул попутный ветер, и с каждым днем мы все дальше уходили на юг. Булавка на карте передвигалась все ближе и ближе к африканскому берегу. Добавлю, что плыли мы за пальмовым маслом, а везли всякие цветные тряпки, старые ружья и прочий хлам, который англичане сбывают дикарям.
Наконец ветер, который так долго нам благоприятствовал, упал и несколько дней мы дрейфовали в спокойном, маслянистом море, под солнцем, от лучей которого смола пузырилась меж досками палубы.
Мы поворачивали паруса во все стороны, ловя каждое дуновение, и наконец вышли из полосы штиля, и опять поплыли на юг со свежим ветром, а все море вокруг так и кишело летучими рыбами. Несколько дней Бернс, казалось, был чем-то обеспокоен, и я заметил, что он то и дело приставляет ладонь к глазам и оглядывает горизонт, словно высматривает землю. Дважды я видел, как его рыжая голова торчала у карты в капитанской каюте — он глядел на булавку, которая с каждым днем приближалась к африканскому берегу, но никак не могла его достичь. И вот однажды вечером, когда мы с капитаном Фурно играли в экарте в его каюте, вошел помощник, на загорелом лице которого было сердитое выражение.
— Прошу извинить меня, капитан Фурно, — сказал он. — Но известно ли вам, куда рулевой держит курс?
— Точно на юг, — ответил капитан, пристально глядя в свои карты.
— А должен на восток.
— Откуда вы знаете?
Помощник что-то сердито проворчал.
— Может, я не такой уж шибко образованный, — заявил он, — но позвольте вам сказать, капитан Фурно, что я начал плавать в этих водах десятилетним мальчишкой и знаю, когда прохожу экватор, а когда — штилевую полосу, и умею найти путь туда, где берут нефть. Мы теперь к югу от экватора и должны держать курс на восток, а не на юг, ежели вы идете в тот порт, куда вас послали хозяева.
— Извините, мистер Жерар. Прошу вас запомнить, что ход мой, — сказал капитан, кладя карты. — Подойдите сюда, мистер Бернс, и я дам вам практический урок кораблевождения. Вот полоса юго-западного пассата, вот экватор, вот порт, куда мы плывем, а вот человек, который командует на своем корабле.
С этими словами он схватил несчастного помощника за горло и душил его до тех пор, пока тот не лишился чувств. Стюард Керуан вбежал с веревкой, они вдвоем связали помощника и заткнули ему рот, так что он стал совершенно беспомощен.
— На руле стоит один из наших французов. А этого, пожалуй, придется швырнуть за борт, — сказал стюард.
— Да, так будет вернее всего, — согласился капитан Фурно.
Но такого я не мог стерпеть. Никакие соображения не заставят меня равнодушно смотреть, как убивают беззащитного.
Капитан Фурно с большой неохотой согласился пощадить Бернса, и мы отнесли его в кормовой трюм под каютой. Там его положили среди тюков манчестерской мануфактуры.
— Нет смысла закрывать люк, — сказал капитан Фурно. — Густав, скажи мистеру Тэрнеру, что мне нужно поговорить с ним.
Второй помощник, ничего не подозревая, вошел в каюту, его мигом связали, как Бернса, и во рту у него оказался кляп. Потом его отнесли вниз и положили рядом с его товарищем. Крышку люка закрыли.
— Этот рыжий болван вынудил нас поторопиться, — сказал капитан, — и мне пришлось раньше времени открыть карты. Однако особой беды тут нет, это не нарушает мои планы. Керуан, выкати для команды бочонок рома и скажи, что капитан просит выпить за его здоровье по случаю перехода экватора. Они ничего не заподозрят. Наших ребят собери у себя в камбузе, и мы проверим, все ли готовы к делу. А теперь, полковник Жерар, с вашего разрешения мы продолжим игру.
Да, такое не забудешь до самой смерти. Этот железный человек тасовал и снимал карты, сдавал и делал ходы, как будто сидел в своем излюбленном кафе. Снизу доносились нечленораздельные звуки, которые издавали оба помощника, чьи рты были заткнуты кляпами из носовых платков. Наверху, под свежим ветром, который гнал нас вперед, скрипела оснастка и гудели паруса. Сквозь плеск волн и свист ветра мы слышали дикие крики английских матросов, которые радовались, откупоривая бочонок с ромом. Мы сыграли партий шесть, после чего капитан встал.
— Ну, теперь они, пожалуй, готовы, — сказал он, вынул из ящика два пистолета и протянул один мне.
Но мы могли не бояться сопротивления, так как сопротивляться было некому. Англичанин в те времена, будь то солдат или матрос, закоренел в пьянстве. Без вина это был бравый и добрый малый. Но стоило поставить ему выпивку, и он буквально терял рассудок — ничто не могло принудить его к воздержанности. В полумраке матросского кубрика мы увидели команду «Черного лебедя» — пять бесчувственных фигур и двое безумных, которые орали, ругались и распевали песни. Стюард принес моток веревки, и мы с помощью двух французов (третий стоял на руле) связали пьяных и заткнули им рты, так что они не могли ни пикнуть, ни пошевельнуться. Их, так же, как обоих помощников капитана, одного за другим бросили в трюм, но на носу, и Керуану было приказано дважды в день приносить им воду и еду. Теперь «Черный лебедь» был целиком в наших руках.
Разыграйся на океане шторм, не знаю, что мы стали бы делать, но корабль весело бежал по волнам все дальше и дальше на юг, и, хотя ветер был достаточно крепок, он не вызывал у нас беспокойства. Вечером третьего дня я застал капитана на мостике, он пристально вглядывался в даль.
— Смотрите, Жерар, Смотрите! — воскликнул он и указал вперед поверх палки, которая торчала на носу судна.
Над темно-синим морем голубело небо, а вдали, на самом горизонте, виднелось какое-то туманное облачко, с четкими очертаниями.
— Что это? — спросил я.
— Земля.
— Какая?
Я напряженно ждал ответа, уже заранее зная, что он скажет.
— Это остров Святой Елены.
Так вот он, остров, о котором я столько думал! Вот она, клетка, в которую посадили великого орла Франции! Многие тысячи лиг океана не помешали Жерару добраться до своего любимого повелителя. Он там, вон на том туманном берегу, за темно-синей водой. Я пожирал остров глазами! Душа моя опережала корабль и летела к императору с вестью, что его не забыли, что после долгой разлуки верный слуга спешит к нему. С каждым мгновеньем темное пятно становилось все отчетливей. Вскоре я уже ясно видел, что это действительно скалистый остров. Наступила ночь, а я все стоял на палубе, преклонив колени, и вглядывался в темноту, туда, где, я знал, находится наш великий император. Прошел час, потом другой, и вдруг золотой, мерцающий огонек загорелся прямо впереди нас. Это светилось окно дома, быть может, его окно! И всего в нескольких милях от нас! О, с каким жаром я простер к нему руки! Вместе со мной, с Этьеном Жераром, простирала к нему руки вся Франция.
У нас на борту огни были погашены, и мы, по приказу капитана Фурно, все разом потянули за какую-то веревку, она повернула наверху одну из палок, и корабль остановился. После этого он попросил меня спуститься в каюту.
— Теперь вам все ясно, полковник Жерар, — сказал он. — и простите, что я не посвятил вас в свой план с самого начала. В столь важном деле я не мог открыться никому. Я давно уже замыслил спасти императора, лишь для этого я остался в Англии и пошел служить в торговый флот. Все получилось так, как я и рассчитывал. Я совершил несколько удачных рейсов к западному побережью Африки, а потом без труда сам подобрал себе команду. Постепенно я взял на борт этих старых французских моряков с военных кораблей. А вас я пригласил потому, что мне нужен был испытанный воин на случай сопротивления и, кроме того, подходящий человек, который состоял бы при императоре во время долгого пути на родину. Моя каюта уже приготовлена для него. Надеюсь, к утру он будет здесь, и этот треклятый остров останется далеко за кормой.
Можете себе представить, друзья мои, какие чувства меня охватили, когда я услышал все это. Я обнял отважного Фурно и заклинал его сказать скорее, чем я могу быть ему полезен.
— Мне придется предоставить все дело вам, — сказал он. — Я хотел бы первым засвидетельствовать императору свою преданность, но мне неразумно сейчас покидать судно. Барометр падает, надвигается шторм, а берег от нас с подветренной стороны. Кроме того, близ острова стоят три английских крейсера, которые в любой миг могут нас обнаружить. Так что я должен оберегать судно, а вы — привезти на борт императора.
Эти слова привели меня в восторг.
— Приказывайте! — воскликнул я.
— Я могу дать вам в помощь только одного человека, ведь мы и так едва управляемся со снастями, — сказал он. — Шлюпка спущена на воду, матрос доставит вас на берег и будет ждать. Свет, который вы видите, горит в Лонгвуде. В доме все друзья, и на них можно положиться, они помогут императору бежать. Правда, там есть английский кордон, но не очень близко от дома. Проникнув в дом, вы откроете наши планы императору, проводите его к шлюпке и привезете на борт.
Сам император не мог бы дать более короткие и ясные указания. Нельзя было терять ни секунды. Шлюпка с матросом ждала у борта. Я спустился в нее, и мы оттолкнулись от корабля. Наша лодчонка плясала на темных волнах, но огонек Лонгвуда все время светил мне в глаза, то был свет императора, звезда надежды. Наконец шлюпка задела килем каменистое дно. Бухта была отдаленная, и караульные нас не заметили. Я оставил матроса в шлюпке и полез вверх на крутой берег.
Тропа, протоптанная дикими козами, петляла среди скал, и я без труда находил дорогу. Само собой разумеется, все пути на Святой Елене вели к императору. Я подошел к воротам. Часового возле них не было, и я беспрепятственно вошел. Еще ворота, и опять нет часового! Я недоумевал, куда подевалась охрана, о которой говорил Фурно. Я уже достиг цели, потому что прямо передо мной, не угасая, горел огонь. Я спрятался и хорошенько огляделся, но никаких признаков врага не заметил. Тогда я подошел к дому и осмотрел его — он был длинный, низкий, с верандой. По дорожке прогуливался человек. Я подкрался ближе и взглянул на него. Возможно, это проклятый Гудзон Лоу. Вот было бы славно, если б я не только спас императора, но и отомстил врагу! Но, вероятнее всего, это был просто английский часовой. Я подкрался еще ближе, а он остановился у освещенного окна, и тут я его разглядел как следует. Нет, то был не солдат, а священник. Я удивился. Что он здесь делает в два часа ночи? Француз он или англичанин? Если он здесь живет, я могу ему открыться. А если это англичанин, тогда все мои планы рухнут. Я приблизился почти вплотную, но в этот миг он отошел от окна и скрылся в доме, из распахнутой двери хлынул поток света. Теперь мне все было ясно, я понял, что медлить нельзя ни секунды. Низко пригнувшись, я бросился к освещенному окну, выпрямился и заглянул внутрь… Император лежал передо мной мертвый.
Ах, друзья мои, я упал на дорожку замертво, словно пуля пробила мне голову. Удар был так ужасен, что не знаю, как я его выдержал. И все же через полчаса я, пошатываясь, встал на ноги — я дрожал всем телом, зубы у меня стучали, и я безумными глазами снова заглянул в эту обитель смерти.
Он лежал в гробу посреди комнаты, спокойный, бесстрастный, величественный, черты его лица были полны той скрытой силы, которая некогда воспламеняла наши сердца на битву. На его бледных губах застыла слабая улыбка, глаза были приоткрыты — словно смотрели на меня. Он показался мне полнее, чем при Ватерлоо, а лицо смягчилось, чего я никогда не видел у него при жизни. По обе стороны гроба горели свечи, их свет, как маяк, звал нас издали, это он указывал мне путь, и его я приветствовал как звезду надежды. Я смутно видел, что в комнате много людей — все они стояли, преклонив колени; это был его скромный двор, мужчины и женщины, разделившие с ним его судьбу, — Бертран с женой, священник, Монтолон. Я тоже помолился бы за него, но сердце мое окаменело, и я не мог молиться. Нужно было уходить, но я не мог покинуть его, не подав о себе знака. Не заботясь о том, что меня могут увидеть, я вытянулся во фронт перед своим умершим вождем, щелкнул каблуками и поднял руку в прощальном приветствии. Потом повернулся и поспешил прочь, во тьму, а перед моим взором все стояли бледные улыбающиеся губы и застывшие серые глаза.
Мне казалось, будто я отсутствовал совсем недолго, но, по словам матроса, прошло уже много часов. И только теперь я заметил, что ветер с моря почти перешел в шторм и волны с ревом набегают на берег. Мы дважды пытались отчалить на своей маленькой шлюпке, но волны отбрасывали нас назад. В третий раз огромная волна захлестнула шлюпку и пробила дно. Беспомощные, мы дождались около нее рассвета и увидели вокруг лишь бушующее море да брызги пены. «Черного лебедя» не было. Мы залезли на скалу и огляделись, но нигде среди бушующего простора океана не мелькал парус. Наш корабль исчез. Затонул ли он, или английские матросы снова захватили его, или же ему была уготована какая-то иная, неведомая судьба, — не знаю. Никогда больше я не видел капитана Фурно и не мог рассказать ему, как мне не удалось выполнить его поручение. Сам я сдался англичанам — мы с матросом сказали, будто спаслись вдвоем с погибшего корабля, и, право, нам не пришлось притворяться. Английские офицеры, как всегда, оказали мне самое щедрое гостеприимство, но прошло много долгих месяцев, прежде чем мне удалось вернуться на свою любимую родину, за пределами которой не может быть счастлив истый француз, каким я всегда был.
Этим вечером, друзья мои, я рассказал вам, как мне довелось проститься с моим повелителем, а теперь я прощаюсь с вами и благодарю вас за то, что вы так терпеливо слушали скучные россказни старого, немощного солдата. Вы побывали вместе со мной всюду — в России, в Италии, в Германии, в Испании, в Португалии, в Англии, увидели моими, уже потускневшими глазами яркий блеск тех великих дней, я вызвал перед вами тени людей, чья поступь некогда сотрясала землю. Сохраните же все это в душе и передайте своим детям, потому, что память о той великой эпохе — самое драгоценное сокровище, какое только может быть у народа. Как дерево питается перегноем собственных палых листьев, так эти умершие люди и минувшие дни могут унавозить почву для новых славных героев, правителей и мудрецов. Я уезжаю в Гасконь, но слова мои останутся в вашей памяти и будут согревать сердца людей и укреплять их дух еще долго после того, как об Этьене Жераре забудут навсегда. Господа, старый солдат приветствует вас и желает вам всех благ.
Примечания
1
Майкл Титиен — бригадир называет так великого итальянского живописца XVI в. Тициана Вечеллио.
(обратно)2
Ангелюс — очевидно, имеется в виду Анжелико, фра Джованни да Фьезоле (1387–1455).
(обратно)3
Имеется в виду Гольдони.
(обратно)4
Французская военная академия.
(обратно)5
Молись за нас (лат.).
(обратно)6
Тебе бога славим (лат.).
(обратно)7
О боже мой! Боже мой! (франц.).
(обратно)8
Охотничьему завтраку (франц.).
(обратно)9
Намек на Трафальгарскую битву, во время которой ветер и волны мешали французскому флоту маневрировать.
(обратно)10
Бог мой (исп.).
(обратно)11
Спаги — кавалеристы из французской колониальной Африки.
(обратно)12
В атаку! Вперед! Да здравствует император! (франц.).
(обратно)13
В составе русской армии были гродненские гусары, а не драгуны.
(обратно)14
Атаман Платов.
(обратно)15
Счастливого пути (франц.)
(обратно)16
Шеврон — нашивка на левом рукаве.
(обратно)17
После реставрации Людовика XVIII маршал Ней был присужден к смертной казни и расстрелян.
(обратно)


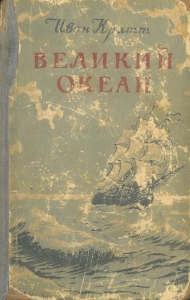
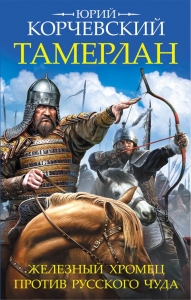


Комментарии к книге «Приключения бригадира Жерара», Артур Конан Дойль
Всего 0 комментариев