Наблюдательный отряд
ПРОЛОГ
На стол перед господином Ронге легла папка, заранее раскрытая услужливым Зайделем. Ронге стал молча читать документы. Документов было немного — два листка. Зайдель стоял перед ним в позе легчайшего, едва намеченного поклона и улыбался уголками губ. Он знал, что донесение начальству понравится. После рижского провала агентов Щёголя, Атлета, Клары и Птички Ронге был мрачен — ещё и потому, что они унесли (двое — на тот свет, а двое — возможно, в Сибирь на каторгу, — многие имена и секреты, с которыми ещё только Эвиденцбюро начало работать. Но кое-какие их затеи удалось возродить к новой жизни.
И вот — донесение, в котором столько важных цифр!
Император Франц-Иосиф глядел с портрета вниз и, кажется, даже вытягивал шею, чтобы рассмотреть исписанные мелким и чётким почерком бумажки. Но при этом соблюдал императорскую осанку — с одной стороны, без неё на портрете, что висит над рабочим столом в кабинете Максимилиана Ронге, возглавляющего военную разведку Австро-Венгерской империи, никак нельзя, а с другой — она с юности так въелась в кровь и плоть, что, кажется, и помирать Франц-Иосиф когда-нибудь будет по стойке «смирно». Впрочем, о смерти он в свои восемьдесят два года ещё особо не думал — был бодр, деятелен, мудро правил своей державой. И не старался окружать себя ровесниками, которые большей частью уже выжили из ума и несли старческую ахинею. Вот Ронге — во внуки императору годится, ещё и сорока юноше нет, а такая должность ему доверена!
— А ведь неплохо, — сказал Ронге. — Весьма неплохо. Надо премировать эту Фиалку...
— Осмелюсь напомнить, заслуга Садовника не меньше, господин Ронге. Это он нашёл Крота. Без него Фиалка бы не справилась.
— Она очень ловко поговорила с Кротом, судя по этим цифрам. Она и в Бремене хорошо себя показала, способности к языкам просто удивительные. Умная девочка, способная, с годами станет посильнее бедной Клары... Да... Жаль Щёголя и Клару, они хорошо поработали...
Зайдель покивал — он тоже огорчился, узнав о смерти ценных агентов. Вспомнилось милое круглое личико Клары, обрамленное пышными тускло-рыжими волосами, если распустить — достанут до пояса, а то и ниже... хотя хитрая Клара наверняка подкладывала в своё бандо и чужие волосы, так многие дамы поступают... и уже не распустить эти ароматных волос никому...
Зайдель не был сентиментален — не то ремесло, чтобы иметь возвышенные чувства. Просто обидно стало — нет больше красивой женщины, с которой при желании можно было бы сговориться. У дам, служивших в Эвиденцбюро, предрассудков по этой части не имелось.
— Но Клара оставила хорошее наследство, — заметил он, имея в виду папку с бумагами.
— Да. Я не был уверен, что Крот нам пригодится, ведь и кроме него были источники информации. Но после того, как Клара со Щёголем утонули, а Атлет с Птичкой сели за решётку...
— После этой беды мы многих источников лишились, и настало время Крота. Но, господин Ронге, раскопать секрет Крота при желании может всякий, кто не пожалеет денег. И тогда Крот станет снабжать сведениями того человека, а нам достанется то, что он сочтёт нужным сообщить.
Зайдель был умён — не стал показывать начальству, что в новой шахматной партии видит на два, а то и на три хода дальше.
— Наши драгоценные союзники, — сразу понял Ронге.
Союзницей Австро-Венгрии была Германия, и союзницей давней — Тройственный союз, куда входили эти два государства и ещё Италия, возник тридцать лет назад. Италию в него, правда, затащили с немалым трудом. Этот трюк проделал Бисмарк, ухитрившись поссорить Италию с Францией. Именно на Францию он был нацелен изначально, хотя возможная война с Россией тоже предполагалась. Но Италия была ненадёжным союзником и отказалась оказывать военную помощь Германии и Австро-Венгрии, если одним из противников будет Великобритания. Англичан итальянцы сильно боялись — итальянские берега были слишком уязвимы, а флот Англии — слишком силён. Да и вообще — Италия гарантировала лишь свой нейтралитет в случае русско-австрийской войны.
Итальянские политики отчаянно лавировали — и Тройственного союза не покидали, и пытались наладить хоть какую дружбу с Францией. Потому что таможенная война, которую Франция объявила Италии, немногим лучше настоящей, с винтовками и мушками. В настоящей гибнут всего-навсего солдаты, а в таможенной гибнут деньги...
Пойдя на многие уступки, Италия заключила с Францией торговый договор. И Ронге подозревал, что итальянцы потихоньку снабжают французскую разведку сведениями о планах и тайных действиях Тройственного союза, которого Италия не покидает. И, если начнётся война, Италия — весьма ненадёжный соратник.
Так что Ронге хорошо понял Зайделя. Итальянский агент — теоретический агент, но где гарантия, что он уже не прибыл в Ригу? — может, собирая ценные сведения, даже не знать, как ими в конце концов распорядится начальство. Возможности такие: первая — сведения будут честно переданы немцам или ведомству Ронге; вторая — сведения будут переданы французской разведке, которой тоже любопытно, как на самом деле готовится к войне союзница Франции Россия; третья — сведения будут переданы русским вместе с источниками этих сведений, чтобы русская контрразведка ликвидировала дырки, из которых просачивается информация.
У русских есть поговорка — «купить кота в мешке», — сказал Зайдель. — Она мне нравится. Я видел в журналах фотографические карточки — русский рынок в провинции и мужик в лаптях, с бородой, настоящий русский мужик, продаёт нечто в мешке. Если открыть мешок — животное убежит. Приходится покупать, не глядя. Значит, покупатель увидит этот товар только дома, в комнате, и тогда поймёт, какого цвета животное, кот это или кошка. Италия сейчас — «кот в мешке». Мы её приобрели, покупка стоила денег, а что там, в мешке, на самом деле — мы узнаем, когда начнётся война.
— Благодарю, — ответил Ронге. — Очень удачное сравнение. Кстати — удалось найти второго переводчика?
В Эвиденцбюро поступали кипы газет со всей Европы и даже кое-что из Америки. Всё это следовало анализировать, выкапывая из пудов ахинеи крупицы важных сведений. Положим, французский язык знает каждый хорошо воспитанный офицер, но итальянский — разве что ценитель оперы. Хороший переводчик с английского — тоже не каждый день попадается. А ведь ещё требовались переводчики с турецкого и с тех невразумительных славянских языков, что процветают на пространстве от Варшавы до Софии.
— Есть одна пожилая дама, — неуверенно сказал Зайдель.
— Дама?
Эту переводческую породу Ронге сильно не уважал. Старые девы, в юности обученные языкам, были дешёвой рабочей силой у издателей — за гроши переводили романы, меньше всего беспокоясь о качестве и точности. Потому Ронге и удивился предложению Зайделя.
— Вдова полковника Хофмана.
— Хм...
— Большая патриотка.
— Но дама.
— Но патриотка.
— Но дама, Зайдель! Существо изначально безмозглое... Хотя...
— Итальянский язык знает в совершенстве — готовилась в певицы, имела дивной красоты меццо-сопрано, я узнавал, могла бы петь во всех операх Пуччини и Верди. Но предпочла брак и звание верной жены и хорошей матери.
— Достойное решение.
— Продолжает давать уроки пения и фортепиано. Пенсия за покойного мужа невелика. И вот, с одной стороны, превосходное знание итальянского, а с другой — дама остаётся дамой... Но другой кандидатуры у нас пока нет.
— Вот что, Зайдель, приведите её ко мне. Хочу сам с ней побеседовать...
Зайдель чуть заметно улыбнулся.
— Будут ещё распоряжения? — спросил он.
— Да. Телефонируйте господину Фрейду. Пусть отвлечётся на минутку от своих истеричных пациенток и ответит на вопрос...
Зайдель чуть ли не из воздуха достал блокнот и карандаш, чтобы записать вопрос.
— ...какой извращённой фантазией нужно обладать, чтобы назвать аэроплан «Дельфином»?
— Господин Ронге изволит шутить?
— Не совсем, Зайдель. Я хочу понять, что за человек придумал этот аэроплан. Вот этого, — Ронге указал на тонкую картонную папку с завязками, — мне мало. Прислали вчера из Берлина, собрали всё, что нашли, а нашли маловато. Тут только послужной список — но весьма любопытный...
Ронге развязал тесёмки и достал отпечатанные на «ремингтоне» листы, но заговорил, почти в них не глядя:
— Виктор Дыбовский, служил на эскадренном броненосце «Николай Первый», участвовал в Цусимском сражении, побывал в японском плену, затем служил на Черном море и на Балтийском, командовал миноносцем... ну, тут полно ненужных подробностей, хотя — как знать... Окончил Морской корпус в Санкт-Петербурге, потом офицерский класс учебного воздухоплавательного парка, два года назад... А год назад окончил в Севастополе авиашколу и получил звание «военный лётчик». Но этого ему мало — он задумал аэроплан собственной конструкции, для военных действий совместно с флотом. И этот аэроплан будут строить на рижском «Моторе».
— Тут нам Крот и пригодится.
— Да. Возьмите папку, Зайдель, подумайте, что из всего этого можно извлечь и что к этому можно добавить. Прикажите русским переводчикам посмотреть газетные подшивки за два года, может, имя вынырнет. И переправьте сведения в Ригу. Надо же, аэроплан — и вдруг «Дельфин»...
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Трудно говорить о важных делах под детский радостный визг. И это бы полбеды, если собеседник приятный. Но Лабрюйер не считал Енисеева таким уж приятным собеседником. Он всё время ждал подвоха. Не умел прощать Лабрюйер насмешек и вранья — а Енисеев и посмешище из него делал, и врал неоднократно.
Детей привели в фотографическое заведение по случаю Рождества, чтобы сделать семейные карточки: маменька сидит в кресле с вычурной спинкой, папенька стоит рядом, а детишки, числом шесть, приникли к ним справа и слева, старший мальчик вообще сидит на полу, младшая девочка у маменьки на руках. Сбоку, разумеется, нарядная ёлка со свечками, яблоками, шарами и пряниками. Выстроить всю эту компанию и добиться от возбуждённых крошек неподвижности — задача сродни Геркулесовым подвигам. С ней и пытался сейчас справиться Хорь.
Енисеев слушал детские голоса и усмехался в усы.
— Это задачка, решить которую можешь только ты, брат Аякс, — сказал он.
Лабрюйер нехорошо на него посмотрел. Не следовало Енисееву называть его Аяксом, лучше бы ему забыть, как они колобродили на штранде, а газетчики называли их «два Аякса». Аякс Локридский и Аякс Саламинский, комические персонажи оперетты «Прекрасная Елена», в которой оба чуть ли не всё лето подвизались.
— Да, да. Ты — здешний. Ты понимаешь то, чего все мы не понимаем, — продолжал Енисеев. — Ты знаешь всех...
— Не всех, — буркнул Лабрюйер.
— Нужно раскопать историю двадцатилетней давности. А может, и не двадцатилетней. Один господин, которого все считают благопристойным и порядочным членом общества, натворил что-то такое, чем его можно шантажировать. И, в общем, уже шантажируют... Выходит, есть свидетельства его безобразий — письменные и, хм... человекообразные. Иначе шантаж, сам понимаешь, не имеет смысла. Сам он ни за что не признается. Значит, нужно понять, что это такое.
Разговор этот шёл в лаборатории «Рижской фотографии господина Лабрюйера».
Фотографическое заведение решено было сохранить — как одну из баз наблюдательного отряда, дислоцированного в Риге. Хотя Эвиденцбюро знает, что хозяин связан с российской контрразведкой, но беда невелика и пусть себе знает. По крайней мере, сразу будет видно, если кто-то подозрительный начнёт крутиться около...
— Так оно даже спокойнее, — сказал Енисеев, когда столичное начальство приняло такое решение. — Будут следить за фотографией и проворонят то, чего им и на ум не брело.
— Значит, и за мной будут следить.
— Естественно. Куда ж ты денешься! Но ты умнее, чем кажешься... То есть кажешься австриякам и, возможно, итальянцам!.. Да, на сей раз мы и с итальянцами имеем дело.
— Допустим, нужно собрать сведения о господине Н. и его на вид безупречной репутации, зная, что в прошлом были какие-то проказы, — продолжал Енисеев. — Дурак начнёт с кухарки и горничной. Умный человек начнёт с архивов рижской полиции... Не было ли какой сомнительной истории, в которой вроде как и нашли виновника, но осталось ощущение, будто не того?
— Я понял. Но тогда мне лучше бы съездить в Москву и посовещаться с господином Кошко.
Аркадий Францевич Кошко был с 1900 года начальником Рижской сыскной полиции, и Лабрюйер принимал участие во многих его делах. Разумеется, всего он не знал — он начинал службу сперва рядовым агентом, потом поднялся до рядового инспектора, но Кошко все эти годы был образцом для подражания: не заседал в кабинете, а сам, переодевшись, с револьвером и двумя-тремя подчинёнными отправлялся брать матёрого злодея. Но Лабрюйер всего-то восемь лет прослужил под командой Кошко. Накануне печальных событий 1905 года Аркадий Францевич по долгу службы расследовал несколько ограблений, которые отличались одной особенностью: добытые деньги предполагалось направить на организацию беспорядков. Кошко не любил революционеров, к какой бы партии они себя ни приписывали, не занимался «политическими» и не ладил с охранкой, но своё дело делал честно и налётов на рижские банки, совершенных с самыми светлыми намерениями, не прощал. Когда несколько налётчиков оказались за решёткой, он стал получать письма с угрозами. Но угрожали не ему лично, а его семье. Он написал рапорт начальству и в 1905 году был переведён в Санкт-Петербург — заместителем начальника Петербургской сыскной полиции. А в 1908 году ему поручили руководство всем московским сыском.
— Да, это возможно, — подумав, сказал Енисеев. — Насколько я знаю, у Аркадия Францевича отменная память. Но вот какая беда — он не захочет признаваться в ошибках и в следствии, не доведённом до блистательного конца. У него ведь тоже амбиции... Послушай, брат Аякс, поищи-ка ты лучше старых полицейских. Это будет актом милосердия. Вряд ли они, старики, живут в роскоши...
— Пусть так. И кто тот человек?
— Брат Аякс, только не бей меня по старой голове табуреткой! Я не знаю!
И Енисеев картинно съёжился, прикрывая лысеющую голову руками.
Лабрюйер знал, что от этого человека можно ожидать любых сюрпризов. Действительно, возникло желание треснуть Аякса Саламинского здоровенным фотоувеличителем — он первый попался на глаза. Но Лабрюйер сдержался, промолчал и уставился на боевого товарища с ледяным любопытством — как на заморскую черепаху в зоологическом саду: нежности эта тварь не вызывает, а понаблюдать, как перемещается на нелепо расставленных лапах, можно.
Енисеев, удивлённый тишиной, выглянул из-под руки, потом принял обычную позу человека, ведущего деловой разговор.
— Мы действительно не знаем, кто он. Вернее, даже так, — мы не знаем, кто это существо, поскольку речь может идти и о женщине. Наш приятель, которого мы знали как Красницкого, будучи толково допрошен, поведал вот что. Фрау Берта, которую теперь допросить может разве что Сатанаил в преисподней, каким-то образом узнала нечто, порочащее человека, имеющего отношение к размещённым на рижских заводах заказам военного ведомства. У неё было множество поклонников, кто-то развлекал её историями из рижской жизни. Красницкий утверждает, что подробности были известны мужу фрау Берты, которого мы знали как господина Штейнбаха. Но он утонул вместе с супругой, и, я надеюсь, вместе с ней кипит, в одном котле со смолой... Красницкий утверждал, что фрау Берта запрашивала Эвидендбюро, нужно ли собирать сведения об этом человеке. Ответ ему неизвестен, коли не врёт. Если бы фрау Берта и Штейнбах получили задание завести с ним знакомство, Красницкий бы об этом знал — да и мы бы знали, потому что разматывали этот клубочек и нашли причастных к делу людей. Но никого, близкого к заводам «Мотор» или «Феникс», среди знакомцев фрау Берты и Штейнбаха не обнаружено. И вот сейчас Эвиденцбюро начало разрабатывать эту загадочную персону.
— Из чего стало понятно, что персона уже сообщает секретные сведения?
— Из того, что они вдруг возникают в Вене и Берлине, в секретных докладах.
— Именно эта персона? Никто другой не мог?..
— Чёрт её, персону, разберёт. Это мерзавец, который либо засел на заводе, либо вертится вокруг «Мотора» и «Феникса», потому что очень уж много знает про военные заказы. Конечно, рано или поздно он себя выдаст. Но, брат Аякс, сам понимаешь...
Отвечать на обращение «брат Аякс» Лабрюйер не желал.
— Значит, того человека шантажируют, а он откупается сведениями? — уточнил Лабрюйер.
— Именно так.
— А если это не местный житель? Когда военное ведомство стало вкладывать деньги в рижские заводы, сюда приехали инженеры из столицы, из других российских городов. Может, кто-то из них?
— Я невысокого мнения о роде человеческом, — признался Енисеев. — На всяких уродов насмотрелся, сам понимаешь. Но мне кажется, что русский инженер в таком положении скорее уж сам пойдёт в полицию признаваться. А немец — тот струсит... Тебе смешон мой патриотизм? Да? Ну, считай, что мне просто хочется так думать...
Енисеев помрачнел.
Из салона раздался такой визг, что Лабрюйер подскочил на стуле.
— Ничего страшного, дети опрокинули ёлку, — сказал Енисеев. — Случается. Иди, восстанови порядок, а я уберусь восвояси. У меня есть ещё дела. Мы ведь, в сущности, всё оговорили.
— Когда тебя ждать?
Лабрюйер редко говорил Енисееву «ты», старался обходиться без обращений, но сейчас само выскочило.
— Постараюсь завтра быть. А ты поторопись. Рождество — самое время, чтобы навестить полицейских старичков, подарки им отнести, что ли. Можешь — из тех сумм, что на непредвиденные расходы. Ну, я пошёл.
Лабрюйер поспешил в салон — и точно, ёлка лежала на боку.
— Ты снимки уже сделал? — спросил Лабрюйер Хоря по-русски.
— Всё сделано, душка, — томным голоском ответил Хорь.
Столичное начальство приказало ему ещё какое-то время пребывать в образе полоумной эмансипэ-фотографессы Каролины, но обещало прислать замену. Он же, сильно недовольный, принялся валять дурака, наряжаясь и румянясь самым карикатурным образом. На сей раз Хорь украсил свою грудь огромным бантом — бледно-лиловым в чёрный горох.
— Позови госпожу Круминь, это всё надо убрать.
— А кто заплатит за поломанные игрушки?
— Сейчас я разберусь...
Разумеется, папаша, респектабельный пятидесятилетний бюргер, утверждал, что ёлку плохо закрепили, оттого она и свалилась. Разумеется, мамаша, сорокалетняя скандальная дама, встала на его сторону. Платить семейство Краузе не желало — пока не пришла госпожа Круминь с метлой и совком.
— Не отдавайте им карточек, господин Лабрюйер, вот и всё, — сказала супруга дворника. — Я их знаю, они тут неподалёку, на Романовской живут. Посторонитесь, господа, мне убирать надо! Отойдите, я тут подмету! Перейдите туда! Ребёнка возьмите!
Подметала она лихо — так и норовила пройтись метлой по подолу длинной мамашиной юбки, по начищенным ботинкам папаши, да и детишкам перепало. Лабрюйер тем временем снял пиджак и поднял ёлку. Хорь, опустившись на корточки, подбирал уцелевшие игрушки. В сущности, пострадали только пряники, подвешенные на цветных ленточках, стеклянные шары и свечки. Набитые ватой ангелочки и паяцы, а также золочёные орехи и яблоки остались невредимы.
— Ущерба примерно на рубль, — сказал Хорь.
— Почему это мы им должны дарить рубль? — возмутилась госпожа Круминь и перешла на немецкий: — Если господин Краузе не заплатит рубль за убытки, весь квартал об этом узнает! Из-за одного рубля будет позора на сто рублей!
В том, что сердитая женщина с метлой способна ради великой цели обойти всех соседок и приятельниц, почтенное семейство ни секунды не сомневалось. И только папаша, выдавая рубль, проворчал, что эти латыши больно много воли взяли, давно их на баронскую конюшню не приглашали...
— Что? — спросила госпожа Круминь и поудобнее взяла метлу.
Спросила она по-латышски, но по-особому. В этом языке «о» выговаривалось скорее как «уо», и обычно это «у» проскальзывало не звуком, а скорее намёком на звук. Но если человек, спрашивая, отчётливо делил «уо» на «у» и «о», это означало сильное недовольство. Латышское «ко?», прозвучавшее как «ku-о?!», было угрожающим.
Семейство Краузе впопыхах оделось и отбыло, швырнув рубль на столик с альбомами.
— И это только начало дня, — философски заметил Лабрюйер.
Мелодичный звон дверного колокольчика сообщил о новых клиентах. Вошли две девушки в модных коротких, по колено, пальто с большими меховыми воротниками, в хорошеньких меховых шапочках.
— Можно нам сняться на маленькие карточки? — спросила по-немецки одна, румяная блондинка.
— Да, прошу вас, разрешите вам помочь, — ответил Лабрюйер, и девушка позволила ему принять на руки скинутое ею пальто. Вторая, тёмненькая, подошла, с трудом протаскивая сквозь петли огромные меховые пуговицы, и вдруг рядом с ней оказался Хорь. Как чёртик из шкатулки, которого стремительно выбрасывает пружина, он подскочил к хорошенькой брюнетке, явно желая помочь ей снять пальто, чтобы при этом самую чуточку приобнять.
— Фрейлен Каролина! — гаркнул Лабрюйер, угадав преступное намерение Хоря. Тот опомнился.
Хорь был молод, в силу ремесла обречён на временный целибат, и потому девичья красота волновала его безмерно. А подружки были действительно хороши, изящны, как фарфоровые статуэтки, и с удивительно гармоничными голосами: у брюнетки голос был пониже, бархатный, а у блондинки — как серебряный колокольчик. Когда они наперебой объясняли, какими должны быть фотокарточки, Лабрюйер просто наслаждался. Он-то знал толк в голосах и мог спорить, что девицы обучаются музыке не приличия ради, потому что девушка на выданье должна уметь оттарабанить на пианино хоть какой-нибудь полонез, а с далеко идущими намерениями.
Догадаться было несложно—девушки так восторженно рассуждали о случившейся на днях премьере «Евгения Онегина» в Рижском латышском обществе, так по косточкам разбирали исполнение молоденькой и неопытной Паулы Лицит, певшей партию Ольги, что Лабрюйер явственно видел: на меньшее, чем роль Виолетты в «Травиате», поставленной в знаменитом миланском театре «Ла Скала», красавицы не согласны.
Хорь предложил барышням занять место перед фоном номер семь, изготовленным нарочно ради Рождества и Нового года, с очаровательным зимним сюжетом: ночное небо с огромными звёздами, чёрные силуэты елей, летящий ангелочек в длинном платьице, дующий в трубу. Но капризные девицы потребовали иного фона — просто одноцветного.
Лабрюйер, чего греха таить, малость тосковавший о театральной суете, спросил, верно ли, что в новорождённой Латышской опере скоро премьера «Демона», и девушки, окончательно к нему расположившись, подтвердили это событие, предложили пойти туда вместе, а ещё похвастались — через неделю они будут петь в домашнем концерте не где-нибудь, а у самого Генриха Пецольда — «Вы же его знаете, господин Лабрюйер, он в Рижском городском театре служит!»
— И что вы исполните, барышни?
— «Баркаролу»! — хором ответили девушки, и Лабрюйер невольно опустил взгляд, вспомнив «Баркаролу» Оффенбаха, так волновавшую его этим летом.
— Я хотела спеть каватину Розины, но Минни сказала: «Как тебе не стыдно, твой итальянский всех только насмешит», — продолжала брюнетка.
Лабрюйер уже знал, что обе они дружат с раннего детства, что обе — Вильгельмины, но одна — Минни, а другая выбрала себе имя Вилли.
— Нет, я так не сказала, я сказала — наш итальянский ни на что не похож, — возразила блондиночка Минни. — И нам нужно брать уроки, если мы чего-то хотим в жизни добиться! Ты ничуть не хуже, чем Лина Кавальери, у тебя есть голос, а у неё только красота. Но она поёт в парижской Гранд-Опера, а ты — нет, потому что она — итальянка, а ты всего лишь немка из Риги, и то...
— А я и не скрываю, что моя бабушка — латышка! И не хочу я корчить из себя немецкую примадонну. В «Латышской опере» поют по-латышски, и я...
— И ты так навсегда и останешься в «Латышской опере», если будешь петь только по-латышски!
Слушая спор, Лабрюйер усмехался в усы. Девушки мечтали о славе, это так естественно...
— Неужели в Риге нельзя брать уроки итальянского? — спросил он.
— Нам нужен настоящий итальянец, для которого этот язык родной, — ответила Вилли.
— Я боюсь, милые барышни, что если в Ригу и забредёт настоящий итальянец, то он окажется обычным авантюристом и пройдохой. Вы уж мне поверьте! — очень убедительно сказал Лабрюйер. И тут в беседу вмешался Хорь.
— Вон там, через дорогу, гостиница «Франкфурт-на-Майне», — сказал он. — Я могу узнать — вдруг там останавливаются и итальянцы? Видите ли, барышни, иностранцы обычно стараются держаться за своих, и рижские итальянцы наверняка знают друг дружку.
— В гостиницу пойду я, — возразил Лабрюйер. — Вам, фрейлен, неприлично одной ходить в такие заведения.
Хорь так на него взглянул, что Лабрюйер понял: вот сейчас убьёт и не поморщится. Нужно было исправлять положение.
— Вы, милые барышни, загляните ну хоть через неделю. Постараемся найти для вас итальянца, — сказал он.
Когда будущие звёзды оперной сцены убежали, он, не желая объясняться с Хорём, надел пальто, шапку и вышел на Александровскую. Хоря он понимал — мальчишка, талантливый актёр и разведчик, просто ошалел от близости двух красивых девиц. А вот себя он не понимал: отчего, напевая привязавшуюся «Баркаролу», он вспоминает Наташу Иртенскую, хотя должен был бы вспоминать ту, что эту «Баркаролу» пела, — Валентину Селецкую?
Валентина вылетела из головы, как пташка из опостылевшей клетки, и Лабрюйеру казалась жуткой мысль, что он готов был жениться на артистке. Подумать только, это было всего лишь летом...
Ещё весной Лабрюйер был честным и скучным пьянчужкой Александром Гроссмайстером, бывшим полицейским инспектором. До Рождества он успел послужить артистом в труппе Кокшарова, получить там звучный псевдоним «Лабрюйер», исполнить роль Аякса Локридского в «Прекрасной Елене», прогреметь на весь рижский штранд пьяными подвигами, кинуться на выручку Валентине, несправедливо обвинённой в убийстве любовника, ввязаться в охоту на шпионов, спасти из большой беды авиаторов, испытывавших на Солитюдском аэродроме переделанный в аэроплан-разведчик «фарман», а потом от злости на Енисеева, недовольства собой и ещё кучи разных сложных соображений наняться на службу в контрразведку и там окончательно стать Лабрюйером, да ещё и Леопардом впридачу. А потом, гоняясь за австрийскими агентами, которым вынь да положь планы строящихся на Магнусхольме батарей, Лабрюйер обзавёлся целым зверинцем: мало того, что сам — Леопард, так и присланная из столицы фотографесса Каролина — на самом деле агент Хорь, и Енисеев отчего-то — Горностай (похож он, долговязый, с прокуренными усами, на милого зверька не более, чем коренастый, даже тяжеловатый Лабрюйер — на леопарда), и ещё два зверя приняли участие в стычках и погонях: Барсук и Росомаха.
Вся эта компания сейчас находилась в Риге, а чем занималась — Лабрюйер не знал: мудрое начальство решило, что нужно дать ему одно конкретное задание — и пусть трудится, а общую картину событий пусть держат в голове Енисеев и Хорь.
Да, ещё летом он был сильно увлечён Валентиной. Но сейчас звучащая в душе «Баркарола» была о совсем иной любви. Как она перескочила с Валентины на Наташу Иртенскую? Уму непостижимо!
Наташа, которую спешно увезли вместе с маленьким сыном в Москву, успела только записочку ему передать, а в записочке — три буквы, РСТ, что означает «рцы слово твёрдо». Этим она сообщала: я за свои слова, сказанные в ночном лесу, в ответе, я правду сказала, а правда эта такая, что и поверить страшно: «я тебя люблю». Записочка хранилась дома, а больше ничего от Иртенской и не было, пропала... забыла?..
Печально, если так.
Недалеко от Матвеевского рынка была хорошая кондитерская. Лабрюйер зашёл, заказал кофе со сливками, кусок яблочного пирога, присыпанного по-особому приготовленным миндалём, и сел у окна — смотреть на прохожих. Естественно, зазевался. И вдруг обнаружил, что недоеденного пирога на тарелочке больше нет, зато женщина, убиравшая со столов посуду, кричит не своим голосом:
— А ну, пошёл вон! Пошёл вон, пьянчужка! Всю почтенную публику распугаешь!
Но она не только кричала — она ещё и била мокрой тряпкой по спине маленького человечка в преогромном, неведомо с чьего плеча, пиджаке. Человечек, прихрамывая, стремился к двери.
Лабрюйер сообразил, что произошло, и кинулся в погоню. Естественно, он не стал бы есть пирог, побывавший в немытых руках. Но человечек показался ему знакомым, и неудивительно — за годы полицейской службы Лабрюйер на всякое ворьё насмотрелся.
Нагнать его и схватить за шиворот оказалось совсем нетрудно.
— Ты у кого апфелькухен стащил, подлец? — спросил Лабрюйер. — Совсем ослеп, что ли?
— Господин Гроссмайстер?!
— Ну и что мне теперь с тобой делать?
«Тяжко быть старым воришкой, — подумал Лабрюйер, — весьма тяжко. Никому ты не нужен, никто тебя не приютит и не покормит, а украсть такой кошелёк, чтобы на неделю жизни хватило, ты уже не в состоянии...»
— Отпустите меня, герр Гроссмайстер! — по-латышски взмолился воришка.
— Отпущу — а ты опять пойдёшь по кондитерским промышлять? А, Ротман? Лет-то тебе сколько? О душе пора подумать, а не о апфелькухенах. Пошли. Пошли, говорю! Не за шиворот же тебя тащить.
Лабрюйер повёл Ротмана на Матвеевский рынок. Там в углу было заведение, где подавали дешёвую жареную кровяную колбасу. Он взял воришке круг колбасы, ломоть чёрного хлеба и кружку пойла, которое здесь называлось «кофе», хотя варилось в кастрюле из цикория и бог весть каких ещё элементов.
— Ешь, несчастный. Пользуйся моей добротой по случаю Рождества.
Ротман, всё это время молчавший, поднял глаза и уставился на Лабрюйера.
— Вот ведь как подшутил милый Боженька... Пока был молод — в лучших корчмах своих угощал и свои меня угощали, а теперь — легавый мне колбаски купил...
— Сколько раз я тебя ловил, Ротман? И ты тогда уже не был молоденьким. Сейчас тебе за шестьдесят? Тогда, значит, за сорок было. Вытаскивай из кармана апфелькухен, ешь. Ты бы хоть сторожем куда нанялся, что ли...
— Кто меня возьмёт в сторожа?
— А ногу где повредил?
— Убегал, под телегу свалился. И — хрясь...
— Ни жены, ни детей?
— Откуда?..
— Думал, всегда будешь молодым добытчиком?
— Лучше бы я тогда под лёд ушёл...
Это была давняя история — полицейские агенты чуть ли не в самый ледоход гнали по Двине, напротив краснокирпичных складов Московского форштадта, шайку, удиравшую с добычей. Добычу ворам пришлось бросить, двое попались, трое всё же убежали.
— Да, лучше бы ты тогда ушёл под лёд, — согласился Лабрюйер. Ротман не имел ни ремесла, ни родни, ни имущества, впереди его ждала смерть под забором. Вот разве что натворит таких дел, чтобы посадили за решётку, да куда ему — он теперь слабосильный...
— Да...
— И что, совсем не к кому прибиться? Совсем никого нет?
— Племянник есть. Но его в Сибирь укатали. А без вины, совсем без вины! Там и пропадёт! — воскликнул Ротман. — Может, уже и пропал...
Лабрюйер насторожился.
— Как это — совсем без вины? Так не бывает!
— За деньги всё бывает, господин Гроссмайстер! Заплатили свидетелям, и — крышка моему Фрицу! А у нас — откуда деньги? Всё, всё подстроили! И Фрица в Сибирь погнали!
— Давно это было?
— Шесть лет назад, герр Гроссмайстер, шесть лет. Я думал, при нём жизнь доживать буду. Он меня жалел...
— Он из вашего воровского сословия?
— Не совсем. Так, помогал иногда, надёжный был, умел молчать... Сын моего братца, герр Гроссмайстер... покойного брата сын... а свидетелям заплатили!..
— Рассказывай.
— Да это всё из-за бунтовщиков...
— Из тебя каждое слово клещами нужно тянуть? — рассердился Лабрюйер.
— Да всё равно — без толку...
— Рассказывай.
— Что — рассказывай?..
— Про племянника.
— Всё равно ему уже ничем не поможешь. Сгинул в Сибири...
Такой увлекательный разговор продолжался ещё с четверть часа и порядком надоел Лабрюйеру.
— Ну, вот что, Ротман. Надумаешь рассказать правду — ищи меня в фотографическом заведении напротив «Франкфурта-на-Майне», на Александровской, знаешь?
— Знаю.
— А сейчас мне жаль время на тебя тратить. Уговариваю тебя, как солдат девку. Будь здоров.
С тем Лабрюйер и ушёл с Матвеевского рынка.
По его мнению, Ротману было нечего рассказать — про племянника сбрехнул, чтобы разжалобить доброго господина Гроссмайстера. И всё это оказалось обычной рождественской благотворительностью — кто-то вон в богадельню корзину калачей везёт, а бывший полицейский инспектор Гроссмайстер бывшего вора обедом покормил, авось когда-нибудь на небесах зачтётся.
Теперь следовало подумать о задании Енисеева. Он был прав — что-то могут знать бывшие полицейские. Но и неправ одновременно — вряд ли бы при Кошко отправили на скамью подсудимых заведомо невиновного человека. Скорее всего, это случилось уже после того, как Кошко переехал в Санкт-Петербург. После его отъезда в Риге и окрестностях были такие беспорядки, что полиция их ещё долго расхлёбывала. 1905 год — беда всей империи...
Начать Лабрюйер решил с давнего приятеля — Ивана Панкратова, который был теперь многим известен как Кузьмич. Этот агент был надёжным помощником Аркадия Францевича и продержался в сыскной полиции чуть ли не до пятидесяти лет, потом решил, что хватит с него безумных приключений, и нанялся в гостиницу «Петербург», что на Замковой площади, — смотреть за порядком. Потом он неожиданно получил наследство от тётки, которую давно уже считал покойницей, а она чуть ли не до девяноста прожила. Деньги он не пропил, а приобрёл несколько квартир в доме на Конюшенной улице и стал содержателем меблированных комнат — на старости лет очень подходящее занятие.
Встал вопрос: чем поздравить старика с Рождеством? Не конфеты же ему дарить. Он, конечно, старик крепкий и выпить не дурак, но бутылка шнапса — не очень-то рождественский подарок.
Лабрюйер пошёл советоваться к госпоже Круминь, а она предложила испечь луковый пирог с беконом. С этим пирогом, уложенным на изготовленную из плотного картона тарелку и увязанным в большую салфетку, Лабрюйер и отправился по Александровской в ту часть города, которую называли Старой Ригой. Прогулка была приятной, а предвкушение пирога со стаканчиком шнапса грело душу.
Кузьмич был занят делом — выдворял из комнаты на третьем этаже жильца, не заплатившего за три месяца.
Жилец был ещё молод, но уже плешив, жалок на вид, имущества у него набралось — всего-то два чемодана, большой и маленький. Но он хорохорился:
— Вы ещё об этом пожалеете! Вы ещё гордиться будете, что такой человек, как я, изволил в вашем свинарнике проживать!
— Какой такой человек? — заинтересовался Лабрюйер.
— Вам не понять!
— И всё же?
— Я изобрёл!.. Нет, всё равно не поймёте!
— Вечный двигатель, — подсказал Лабрюйер.
— По-вашему, я похож на сумасшедшего? Когда моё изобретение будет признано, о!.. О, тогда!..
Странный жилец схватил со стола какие-то исчёрканные карандашом и чернилами бумажки.
— О, тогда! — повторил он. — Вам станет стыдно, ничтожные людишки! Я — Собаньский, а вы кто?
— Побудьте с ним, Александр Иванович, а я за орманом схожу, — мрачно попросил Панкратов. — Гривенник заплачу, чтобы куда-нибудь этого пана увёз подальше. Одно разорение с этими чудаками из захолустья.
— Вам станет стыдно! Я опередил прогресс! А вы кто? — вопросил пан Собаньский, но Панкратов не ответил — он уже вышел из комнатёнки.
— Откуда вы? — спросил Лабрюйер.
— Из Люцина, — признался изобретатель. — А отчего вы спрашиваете? Вы хотите украсть моё изобретение?
— Не говорите глупостей.
Большое сомнение вызвала у Лабрюйера фамилия «Собаньский». Чудак не очень-то был похож на поляка, не тот имел выговор — или перенял еврейское произношение, ведь Люцин, если вдуматься, — еврейское местечко.
Изобретатель, глядя на Лабрюйера с большим подозрением, собрал свои драгоценные бумажки в стопку, поместил в старую зелёную папку, а папку — в чемоданчик.
Панкратову повезло — ормана он изловил возле реформатской церкви и сам вынес на улицу большой чемодан. Пан Собаньский, не прощаясь и высоко задрав нос, вышел из комнаты, а через минуту вернулся Панкратов.
— Я сговорился — его к Александровскому мосту отвезут, а дальше — как знает. Идём ко мне, вниз.
— Раздувай самовар, Кузьмич, заедим твоё горе вкуснейшим пирогом.
— Вот дурень...
— Кто?
— Да этот мой чудак. Вон, чертёж забыл.
В спешке пан Собаньский уронил лист плотной бумаги, и тот залетел под кровать. Панкратов поднял и уставился на чертёж, как баран на новые ворота:
— Батюшки мои, это что за чудо?!
И впрямь, бывший жилец старательно изобразил сущее чудо — корпус, как у лодки, два крыла, как у самолёта-биплана, но в придачу два гребных колеса, как у тех пароходиков, что бегают по Двине. И, для полноты картины, на носу странного судна четырёхлопастный винт.
— Всё ясно, непризнанный механический гений, — сказал Лабрюйер. — Жаль времени, потраченного на это художество. Может, ещё вернётся. Так ты вздуваешь самовар, Кузьмич?
Четверть часа спустя они сидели за столом визави и ели ароматный пирог, прихлёбывая из фаянсовых кружек горячий чай.
— Я к тебе с таким вопросом, Кузьмич, что даже и не знаю, как приступиться, — сказал Лабрюйер. — Ты в полиции целую вечность, начинал мальчишкой-рассыльным, так?
— Так. Ещё при покойном государе Александре Николаиче, царствие ему небесное.
— Во всяких переделках побывал...
— Так, так, побывал...
— Всякое ворьё и жульё ловил...
— Ох, всякое... А нельзя ли прямо?
— Прямо? Ну, ладно, попытаюсь. Не было ли такого, Кузьмич, что вроде и за руку вора схватили, и каторга ему грозит, а потом вдруг — р-раз! И судят за его безобразия совсем другого человека? Или же — распутывали какое-то дело, а дело от рижских сыщиков вдруг забрали в Петербург или в Москву, хотя только и оставалось, что подлеца в тюрьму препроводить?
— А на что вам, господин Гроссмайстер?
— А вот на что — ведь человека, который в своё время кары избежал, могут потом шантажировать.
— И очень даже просто... Было дельце, было — но я тогда уже из сыскной полиции ушёл, а лишь подрабатывал по внешнему наблюдению иногда... Это надо Лемана спрашивать, Петера Лемана. Я его недавно встречал, недавно... батюшки, на Пасху, ничего себе недавно...
— Кузьмич, а ведь и я его недавно встречал! Нет, не на Пасху, летом...
— Без Гаврилы не обойтись!
Гаврила служил одно время в филёрах, раза три уходил из полиции и опять возвращался, а завершил свою карьеру в должности церковного сторожа. Но до него ещё поди доберись — он поселился на штранде, в Дуббельне, при Владимирском храме, а кто зимой станет ездить на штранд? Поезда вряд ли ходят, разве что ормана нанять?
Но Гаврила был напарником Лемана и мог знать его адрес.
Решили совершить вылазку на штранд с утра — мало удовольствия странствовать в потёмках.
Вернувшись в своё фотографическое заведение, Лабрюйер обнаружил там наблюдательный отряд почти в полном составе — Горностая, Барсука, Росомаху и Хоря.
— Садись, Леопард, — сказал Барсук. — Мы тут насчёт итальянцев совещаемся.
Лабрюйер посмотрел на Хоря.
— Что, затеяли всем отрядом брать уроки бельканте? — спросил он.
— Ты обещал двум хорошеньким барышням поискать для них живого итальянца, чтобы поучил их произношению, — напомнил Горностай-Енисеев. — Как это ни смешно, а поиски итальянца для нас очень важны. И девицы со своими глупостями пришлись очень кстати. Тебе нужно подружиться с ними Леопард. Даже поухаживать за ними... Хорь, не сопи! Скоро тебе на смену пришлют человека, тогда Росомаха уедет, а ты будешь за него. В своём изначальном образе, как тебя Бог создал, в штанах и даже с усами, если успеешь отрастить.
— На что нам итальянец? — прямо задал вопрос Лабрюйер.
— Пришло сообщение. Как будто нам мало Эвиденцбюро — есть подозрение, что в Риге вертится вокруг заводов ещё и итальянский агент. Недостаёт лишь эскимосов и папуасов... — ответил Енисеев. — Вот, ломаем головы, как до него добраться.
— Никак, если он хорошо говорит по-немецки, — сразу отрубил Лабрюйер. — Он же не станет валяться на скамейках в парке, как натуральный лаццарони, исполняя баркаролы и канцонетты. Скорее всего, если при нём заговорят по-итальянски, он сделает вид, будто ни слова не понимает.
— Или же, наоборот, изобразит нам классического итальянца с чёрными усами и склонностью к изящным искусствам.
— Есть и третья возможность, — вмешался Барсук. — Итальянцы наняли человека, не похожего на брюнета с чёрными усами. Допустим, белобрысого шведа или голландца.
— Шведку или голландку, — добавил Росомаха. — Опять у нас русская народная сказка: поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.
— Завтра я искать итальянца не стану, потому что с утра уезжаю в Дуббельн, — предупредил Лабрюйер. — Кажись, напал на след...
— Чей?
— Человека, который избежал скамьи подсудимых, хотя должен был бы на ней сидеть. Ведь именно это от меня требовалось?
По физиономии Енисеева Лабрюйер видел, что возможна стычка, и решил не уступать. Тем более, что на него смотрят Хорь, Барсук и Росомаха.
Енисееву явно хотелось отправить Лабрюйера по следу воображаемого итальянца, но и он видел, что Леопард готов сопротивляться. Поскольку наблюдательный отряд формально возглавлял Хорь, Енисеев не стал спорить и навязывать своё мнение.
— Барсук, ты с утра пораньше найди Мартина, чтобы Леопард на нём поехал, — сказал он.
Орман Мартин Скуя раза два или три возил Енисеева, получил хорошие чаевые, и они поладили. Это был здоровенный детина, по сведениям — большой драчун, так что при необходимости мог и защитить Лабрюйера. Экипаж у него был новый, на резиновых шинах, с крытым верхом, с ковровой полстью — укрывать ноги седокам, для запряжки он держал двух лошадей, сильного выносливого мерина и довольно резвую кобылу.
— Будет сделано, — ответил Барсук.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Зима на штранде — время тишины и пустоты. Немногие местные жители ходят по воскресеньям в церкви, а во Владимирской их можно было бы сосчитать на пальцах одной руки. Два раза в месяц приезжает батюшка с причтом, служит, исповедует и причащает. Тем важнее содержать сторожа — слишком велик соблазн утащить из пустого храма серебряную богослужебную утварь.
Гаврила жил в сторожке, устроившись там, как в раю: он с осени припасал дрова и шишки для растопки — целыми мешками. Уж чего-чего, а шишек на штранде хватало. На дворе, во избежание пожара, стояли бидоны с керосином, необходимым для лампы. Раз в неделю Гаврила брал санки и шёл к соседям-рыбакам, оттуда привозил ковригу хлеба, молоко и масло, копчёную рыбу, а чай, мёд, сало, крупы и картошку запасал сам. Гаврила был грамотен, покупал у домовладельцев за гроши оставленные дачниками книги и газеты, читая их в полное своё удовольствие — прихлёбывая горячий чаек, закусывая ломтём хлеба с салом.
Дорога от «Рижской фотографии господина Лабрюйера» до Владимирского храма в Дуббельне — немногим более двадцати вёрст, и Лабрюйер вместо элегантного пальто, в котором только на Александровской щеголять, надел тулуп, одолженный у дворника Круминя, и обул валенки. Панкратов, приглашённый на эту прогулку, тоже был в тулупе и валенках. Чуть ли не три часа по морозцу ехать — это учитывать надо!
Конечно, можно было и автомобиль нанять. Но поездка на бричке зимой — это особая радость, это наслаждение красотой пейзажа, чего автомобиль не позволяет.
Лабрюйер и Панкратов обнаружили Гаврилу возле сарая — он колол дрова и был очень этим занятием доволен. А ещё больше был доволен давними знакомцами, которые привезли угощение — двухфунтовую сахарную голову в синей бумаге и круг колбасы.
— Где живёт Петер Леман, я знаю, — сказал Гаврила. — Он при дочке, внуков нянчит. После той истории... Да ты ж помнишь, Кузьмич! Ему дали понять: не заткнёшь свою поганую пасть, тебя не тронем, а доченьке и внукам достанется...
— Так что за история? — нетерпеливо спросил Лабрюйер.
Гаврила замялся.
— Говори уж, раз начал! — прикрикнул на него Панкратов.
— Пусть он сам расскажет, если захочет.
— А где его искать?
— Я же говорю — при дочке состоит. Доченька хорошо вышла замуж, совсем молоденькая была, а хватило ума — не за голодранца, а за почтенного человека. У него уже внуки были, когда он в эту историю ввязался. Потом подал в отставку, все связи с полицией не то что оборвал, а как топором обрубил.
— Искать-то где?
— В Агенсберге. Так на углу Капсюльной и Голубейной, поди. Там люди подолгу живут, все своих соседей знают. Место тихое, там у дочки с мужем свой дом, сами живут и квартиры сдают. Ну, и он там скучает...
— Скучает? — удивился Лабрюйер.
— Так он же молодой совсем, ему и шестидесяти нет! — ответил семидесятилетний Гаврила. — Ему бы делом заниматься, а не внукам носы утирать. Я ему говорил — ты хоть в сторожа наймись, что ли, на людях будешь. Нет — не хочет, от всех спрятался. Стыдно ему, вот что.
Напившись у Гаврилы чаю, Панкратов запросился домой, но Лабрюйеру взбрело в голову выйти на пляж, подышать морским воздухом.
Дачный посёлок Дуббельн стоял на узком перешейке между берегом залива и петлёй, которую делала река, Курляндская Аа, по дороге к морю. От бело-голубой церкви до пляжа было с полверсты.
Он прошёл эти полверсты пешком, взрывая снег валенками и полами тулупа. Он поднялся на невысокую дюну и увидел замерзший залив — огромное пустое пространство. Между ровным белым пляжем и ровным сероватым заливом вдоль берега шла полоса кривых ледяных глыб. И — всё. И — долгожданная тишина. Ни одной живой души — только лёд, снег, сосны и Лабрюйер.
Это было необходимо — чтобы привести в порядок мысли. Им следовало прекратить суету и течь неспешно, правильно, чтобы одно вытекало из другого, а не прыгало поперёк другого.
Следовало понять: то, что привязывает его к Наташе Иргенской, — любовь? Или он вляпался в увлечение, вроде летнего интереса к Валентине Селёдкой?
Валентина была просто женщина, чья молодость на исходе, женщина-артистка, которой уже необходимо надёжное мужское плечо. Можно держать пари на тысячу рублей, что она, уехав из Риги, вскоре совершила ещё одну попытку — и ещё один мужчина показался ей сильным и надёжным.
Ну и Бог ей в помощь...
А Наташа — женщина, которой владеют сильные чувства. И она ошибается, но не так, как Валентина. Валентина ничего не сделает сгоряча. А Наташа сгоряча объяснилась в любви человеку, которого совершенно не знает. Что это такое было?..
Он вспомнил их последнюю встречу на Магнусхольме. Она была уверена, что погибнет в эту ночь, и, Господи, чего она тогда наговорила!..
А он ведь поверил. И ждал от неё хоть весточки. А весточки всё не было, только Енисеев как-то обмолвился, что госпожа Иртенская с сыном в Подмосковье. Надо было спросить о ней, но Лабрюйер не мог, он бы не выдержал ехидного енисеевского прищура, с него бы сталось и с разворота в ухо заехать.
Так что ждать приветов и поклонов от госпожи Иртенской, похоже, не стоит. Следует успокоиться. Чтобы пейзаж души был, как этот зимний пейзаж, что перед глазами: застывшее море до горизонта, ледяной простор, серое небо, белый снег...
Он повернулся и пошёл прочь от чересчур холодного пейзажа.
Оказалось, Панкратов и Мартин Скуя ждут неподалёку.
— Едем в Агенсберг, — сказал Лабрюйер. — Будем искать Лемана.
Дом, где бывший полицейский агент Петер Леман нянчил внуков, был почтенным каменным трёхэтажным зданием, что в Задвинье пока было редкостью. Строились, конечно, дома на новый лад, шестиэтажные и украшенные лепниной, но — ближе к реке и мосту, ближе к крытому рынку. На Капсюльной улице пока что стояли деревянные двухэтажные домишки.
Этот дом, судя по всему, имел два выхода — на улицу и во двор. Панкратов остался караулить парадное крыльцо, а Лабрюйер распахнул калитку.
Во дворе сидел сторож — большой чёрный пёс, привязанный к будке длинной верёвкой. Он яростно облаял незваных гостей. Лабрюйер остановился у калитки, ожидая, пока на лай выглянет кто-то из хозяев.
Из дверей чёрного хода появился мальчишка лет двенадцати, в ученической шинельке и фуражке.
— Уходите, это частное владение! — крикнул он, не распознав под тулупом и меховой шапкой человека, с которым стоит обращаться повежливее.
— Скажи деду, что пришёл господин Гроссмайстер, — ответил Лабрюйер.
— Деда нет дома.
— Он дома, но не хочет принимать гостей. Скажи ему — пусть немедленно выйдет! — перекрикивая пса, заорал Лабрюйер.
Мальчишка скрылся.
Несколько минут спустя на пороге появился сильно постаревший Леман. Первой приметой старости были довольно длинные волосы — жидкие седые пряди вдоль щёк. Мужчина, отрастивший такое, словно расписывался в своём бессилии и нежелании жить, он полностью принадлежал своей старости и смирился с этим. Затем — седая щетина на щеках и усы, также седые, потерявшие всякий пристойный вид. А ведь Лабрюйер помнил Лемана щеголеватым моложавым мужчиной в котелке и модных ботинках, с изящными, красиво подкрученными усиками.
— Тихо, Кранцис! Господин Гроссмайстер, я давно отошёл от дел, я даже разовых поручений не выполняю. Я хочу тихо дожить те годы, что мне ещё отпущены Всевышним, — сказал бывший агент.
— Леман, мне нужен всего лишь ваш совет.
— Я больше не даю никаких советов.
— Всего несколько слов. По одному давнему делу, восьмилетней давности. Дело было сомнительное, вы его сразу вспомните.
— Оставьте меня в покое, господин Гроссмайстер.
Тут Лабрюйер наконец понял, в чём его ошибка.
— Леман, я больше не служу в полиции! И не собираюсь туда возвращаться. Я ищу вас по частному поручению. В полиции никто не узнает, что мы встречались и разговаривали. Поклянусь чем хотите!
Старый агент спустился на две ступеньки. Лабрюйер удивился было — как же быстро Леман нажил горб. Потом вспомнил — такую сутулость он всегда хорошо изображал, когда переодевался для выполнения задания.
— Леман, вы же помните, почему я ушёл из сыскной полиции. И вы прекрасно знаете, что я пил, как сапожник... как целый батальон сапожников! С полицией у меня теперь ничего общего. Я нашёл вас, потому что вы можете помочь, и я вам заплачу. Нужны подробности, которых, кроме вас...
— Господин Гроссмайстер, я никаких советов давать не буду. И я очень вас прошу... прошу, понимаете? Забудьте сюда дорогу! Вас не должны тут видеть! Вы хороший человек, господин Гроссмайстер, но не приходите больше!
— Хорошо, Леман, я больше не приду. Прощайте.
С тем Лабрюйер и отступил за калитку.
Разговор получился странный, ясно было одно — Леман здорово напуган. А вот чем напуган — это вопрос... Той ли давней историей, о которой говорили Панкратов и Гаврила?
Лабрюйер полез в бричку, где ждал его Панкратов.
— Вот что, Кузьмич. Леман совсем человеческий вид потерял, разговаривать не захотел. Давай выкладывай, что ты знаешь о той истории.
— Да мало что знаю. Там, видно, какие-то большие господа были замешаны. Вы, Александр Иванович, помните, как в Московском форштадте, у пристани, под причалом, подняли тело девчонки?
— Вроде нет... Наверно, я тогда уже ушёл из полиции.
— Девчоночка, лет тринадцати, в чём мать родила... Горло перерезано... Вспомнить — жуть берёт. По розыску вышло, что девчонка рано в б...дское ремесло пошла. Откуда взялась — непонятно, опознала её одна проститутка, и она же подсказала, где девчоночка по вечерам околачивалась. Имя назвала, сказала — вроде то ли из Режицы, то ли из Люцина, в общем, из тех краёв, сбежала из дому. А кому и для чего понадобилось её убивать — непонятно. Несколько матросиков к делу притянули, сторожей, что при спикерах состоят...
Спикерами Панкратов на рижский лад называл большие кирпичные амбары на двинском берегу.
— И без толку?
— Грузчика одного обвинили. На суде как-то всё так связно получилось, что грузчика упекли...
— По свидетельству проститутки?
— А что она, не человек, что ли? Трезвая пришла, чистенькая, говорила толково, чего ж ей не поверить? А Леман как раз и не поверил. У него две внучки уже были, старшенькая — ненамного моложе, он над внучками трясся прямо.
— Когда ж он женился?
— Совсем смолоду женился, и не на девке, а на брюхе, — усмехнулся Панкратов. — Успел, потрудился! Дочку они родили. Ту, что потом хорошо замуж вышла, дома вот этого хозяйку.
— Поехали! Я завезу тебя, Кузьмич, на Конюшенную, а ты мне по дороге всё расскажешь.
Зимой двинский лёд был весь исчерчен колеями, иная дорога наискосок, от Ильгюциема до Московского форштадта, была даже ёлочками для красоты обтыкана. Пока пересекали реку, Панкратов рассказал про другое дело — от первого оно отличалось тем, что тело нашли на чердаке заброшенного дома весной, а сколько оно там пролежало — неизвестно, так что — и концы в воду, и судить некого.
— Московский форштадт? — уточнил Лабрюйер.
— Где ж ещё... Вечно там всякие безобразия, вы же помните. А вот третье дело... Да вы непременно про него в газетах читали.
— Точно! — воскликнул Лабрюйер.
— Вот в третьем наш Леман, кажется, и того... отступил...
История была похожая — убитая девочка, тело поднято на Кипенгольме, на Лоцманской улице, в кустах за чьим-то огородом. Девочка непростая, приехала в Ригу с гувернанткой, погостить у родственников, и пропала. И в Москве у неё родня, да ещё какая! Леман, ещё когда девочка пропала, взял след, и на сей раз не случилось проститутки, которая трезвой пришла в полицию и наговорила на девочку всякого. Зато пропала гувернантка. И дальше было непонятное...
Вроде бы Леман где-то отыскал эту гувернантку, но куда она после того девалась — неизвестно. Вроде бы чуть ли не за руку схватил человека, который собрался эту гувернантку убивать. С Леманом был напарник, молодой агент Митин, так тот — погиб, и о его смерти Леман рассказал подозрительно кратко: — вот только что был жив, отошёл за угол, и потом — лежит за углом с перерезанным горлом...
— Что его запугали, понятно. И что он знает, кто убийца, тоже понятно, — сказал Лабрюйер. — И что молчанием платит за жизнь внуков, понятно. И что убийца имеет возможность в любую минуту стремительно напасть и убить детишек, — понятно... А осудили, помнится, какого-то студентишку. Его рыбаки ночью видели неподалёку от места, где подняли тело.
— Да, адвокат ещё доказывал, что парень не в своём уме. С ним особо и не спорили — спятил так спятил, главное — пойман и осуждён. Так-то, господин Гроссмайстер. И Леман показал на того студента и чуть ли не на следующий день ушёл из полиции. Но мы все тогда Леману поверили — опознал парнишку, какие могут быть разговоры? А потом стал я думать, думал, думал... И так, и сяк это дело вертел в голове. Гувернантку-то ведь не нашли, жива или нет — непонятно. И на суде как-то так обошли это дело с гувернанткой... Зря мы к Гавриле ездили! Если Леман не хочет говорить — и не заговорит.
— Сам вижу.
Лабрюйер замолчал. У него в голове начал выстраиваться план действий.
— Убийца-то, значит, ещё в Риге... — пробормотал он.
Панкратов покивал.
Мартин Скуя волей-неволей слышал этот разговор.
— Если господа позволят сказать... — осторожно начал он.
— Говори, братец, — разрешил Лабрюйер.
— У меня тут поблизости тёща живёт. Наверняка всё про соседей знает.
— А ты с тёщей ладишь? — спросил сообразительный Панкратов.
— Когда как. Но могу к ней заехать ради праздника, взять жену, детей — и в гости.
— Это ты хорошо придумал.
— Тёще подарок надо бы, давно она от нас ничего не видала...
— Намёк понял, — ответил ему Лабрюйер. — Держи полтинник. Купи ей два фунтовых творожных штолена с цукатами...
Это лакомство недавно принёс в фотографическое заведение Хорь, и оно всем понравилось. Как и большинство немецкого рождественского печева, оно могло храниться долго, хоть до Пасхи.
В «Рижской фотографии господина Лабрюйера» опять было шумно — дворник Круминь вколачивал в стенку гвозди для хитрой конструкции с кронштейном, собственного изобретения, которой следовало удерживать от падения ёлку, а Хорь, стоя рядом, давал смехотворные советы, от которых Ян и Пича чуть за животы от хохота не хватались.
Ян, красивый восемнадцатилетний парень, с утра бегал, разнося заказанные карточки, а теперь, переодевшись в приличный костюм, был готов обслуживать клиентов. Костюм ему купили в складчину — десять рублей дали родители, другие десять — Лабрюйер в счёт будущих заслуг. Кроме того, Ян начал отращивать усы, и Енисеев, чьи великолепные усищи, неслыханной густоты, у многих вызывали зависть, подарил ему особую щёточку для расчёсывания и укладки, а также усатин под названием «Перу», реклама обещала, что за три недели на пустом месте от этого усатина вырастет целый лес. Это был царский подарок — флакон стоил целых полтора рубля. Но Енисеева, видимо, развлекала суета вокруг Яновой растительности на физиономии.
Пича всё собирался залить во флакончик усатина чего-нибудь неподходящего, но госпожа Круминь, догадавшись о такой диверсии, заранее пригрозила своему младшенькому розгами.
Сама она сидела за столиком, как важная дама, в новой юбке и новом жакете, и изучала альбомы с фотографиями, критикуя неудачные причёски и умиляясь мордочкам детишек.
Словом, в фотографическом заведении царил патриархальный рай, можно сказать — истинно немецкий рай, в котором все улыбчивы и доброжелательны, в меру сентиментальны и деловиты.
К Лабрюйеру поспешили навстречу, освободили его от тулупа и шапки, а валенки он снял уже во внутренних помещениях заведения. Там он обнаружил Енисеева с Барсуком, которые только что явились, но вошли не через салон, а с чёрного хода.
— Не знаю, тот ли след я взял, но на что-то подходящее наткнулся, — сказал Лабрюйер. — Кончится это тем, что я раскрою кучу давно позабытых дел, но нужного человека так и не найду.
— Найдёшь, — твёрдо ответил Енисеев. — Я тебя знаю. Ты только с виду такой праведный бюргер. А когда припечёт, хватка у тебя леопардовая.
— Может, обойдёмся без комплиментов? — почуяв в голосе боевого товарища неистребимое ехидство, спросил Лабрюйер.
— Но ты пробуй и другие варианты. Нам нужен человек, который вертится вокруг «Феникса», «Мотора» или даже резиновой фабрики братьев Фрейзингер. Да, брат Аякс, шины для велосипедов и автомобилей — тоже такой товар, что армии требуется.
На следующий день Лабрюйер пешком, для моциона, отправился в Московский форштадт. Это был именно моцион, без размышлений о маршруте: Лабрюйер вышел на Мельничную улицу и прошагал целых две версты, всё прямо да прямо, и вот ноги сами принесли его к тому месту, где в Мельничную упиралась Смоленская улица, не так давно названная Пушкинской. Новое название пока не прижилось — мало кто из форштадских жителей знал, какой такой Пушкин, а город Смоленск был всем известен.
На углу рядом с постовой будкой стояла скамейка. При виде этой скамейки всякий первым делом подумал бы о слоне, которого она должна выдержать. Но скамейку городские власти (видимо, по предложению покойного градоначальника Армитстеда, любившего интересные затеи) поставили для одного-единственного человека. Это был будочник Андрей, настоящий великан с пудовыми кулачищами. Служить он начал в незапамятные времена, а теперь сделался не просто огромен, но ещё и толст.
Андрея все звали именно так — вряд ли кто из форштадских береговых рабочих, складских грузчиков и жулья знал его фамилию, но вот с кулаками познакомились многие. Если вдруг посреди недели затевалась драка (субботние и воскресные драки были чуть ли не узаконенным развлечением здешних мастеровых), бабы тут же принимались вопить: «Бегите за Андреем!» Его находили на скамье, откуда он созерцал реку, он преспокойно шествовал к тому кабаку, у дверей которого безобразничали, и раскидывал драчунов, как щенят. А в субботу и воскресенье он сам шёл в места, которые считал подозрительными и многообещающими.
Этот-то ветеран и был нужен Лабрюйеру.
— Я с вопросами пришёл, об одном давнем деле, — сказал он. — Ты ведь помнишь, как под причалом нашли убитую девочку, с перерезанным горлом?
— Как не помнить... Беленькая такая, косы длинные...
— И одна проститутка заявила, что девочка тем же ремеслом промышляла, просто рано созрела. Что по вечерам они чуть ли не вместе ходили, знакомились с матросами, со струговщиками.
— Да-а... — протянул Андрей. — Была такая Грунька-проныра, помню. Была...
— А куда подевалась?
— А куда они все деваются? — философски спросил Андрей. — Подцепила французскую хворобу, одного наградила, другого, мужики узнали, поколотили...
— Так она померла?
— А чёрт её знает. Грунька, может, хворобу и не подцепила, да только её раза два били, и за дело били, без зубов осталась. Ну и кому она такая нужна? Про это, может, Нюшка-селёдка знает, вот они как раз вместе ходили.
— А с девочкой она, значит, не ходила?
— Чёрт её разберёт. Если девчонка и точно б...дью заделалась, то не тут, у спикеров, гуляла, а где-то ещё. Тут бы я её заметил. Может, у Андреевой гавани промышляла. Может, вовсе на Кипенхольме. Но не на Канавной — там богатые бордели, оттуда бы её в тычки прогнали, потому — хозяйки лицензию покупают, кому охота из-за малолетки без лицензии остаться? Жалко девку. Попала бы в хорошие руки — под венец бы пошла, детишек бы нарожала.
— А в каком году это было?
— Ещё до бунта. Так что, спросить Нюшку, что ли? Она теперь в кабаке у Прохорова судомойкой.
— Спроси, сделай такую милость.
Вернувшись в фотографическое заведение, Лабрюйер оставил там записку для Енисеева: требовался запрос, не пропадала ли где в близких к Лифляндской губернии городах лет около десяти назад девочка лет двенадцати-тринадцати, светловолосая, с длинными косами. И потом он пошёл к городскому театру, где было одно из мест сбора орманов, известное всему городу. Ждали они также седоков возле Дома Черноголовых, у Тукумского и Двинского вокзалов.
Мартина Скуй там не обнаружилось — он повёз богатых господ куда-то к Гризенгофу. Если не подхватит там других седоков, может скоро вернуться, — так сказал Лабрюйеру приятель Мартина, орман Пумпур. Он же предложил подождать в кондитерской Шварца — там из окон виден ряд бричек, и господин сразу поймёт, что Скуя прибыл. Лабрюйер согласился. После прогулки в Московский форштадт и обратно не грех было бы и хорошо пообедать.
Он взял столик у окошка, заказал чашку горячего бульона с гренками, порцию рождественского гуся с яблоками и чашку кофе с грушевым пряником.
За окном был зимний пейзаж. На первом плане — орманы со своими бричками, составившие довольно длинную очередь, но на заднем — очаровательно заснеженный маленький парк перед городским театром, где нянюшки катали на санках малышей, а дети постарше сами катались с горки. Это было похоже на рождественскую открытку, только ангелочков с музыкальными инструментами в небе недоставало, да не совсем соответствовал благоговейному настроению фонтан работы мастера Фольца. Мастер изобразил обнажённую девицу с весьма пышными формами, гораздо выше человеческого роста, над головой девица держала огромную раковину, летом оттуда лилась вода, а зимой над раковиной возвышался снежный сугроб. Из своего окошка Лабрюйер видел лихо торчащую грудь и усмехался — вот такую бы... Он уже давно был один, но раньше на помощь приходил шнапс, теперь же и на шнапс надежды не было. В голове обитали два образа — Валентина, с которой можно было пошалить, но он не воспользовался моментом, и Наташа — а вот Наташа казалась сущей Орлеанской девственницей, невзирая на семилетнего сына. Даже как-то грешно было представлять её в амурном качестве.
Да и бессмысленно. Мало ли чего она наговорила сгоряча и с перепугу. И это «РСТ»... Как-то всё нелепо, взрослые люди таких записочек не шлют...
— Рцы слово твёрдо, — вдруг сказал он. Вслух и довольно громко.
— Что господину угодно? — поинтересовался по-немецки подбежавший кельнер.
— Счёт.
Всё удачно совпало — появление счёта и приезд Мартина Скуй. Лабрюйер перебежал через улицу и окликнул его.
— Через два дня к тёще поедем, — сказал орман.
— Раньше никак нельзя?
— Не выходит. Кунды...
«Кундами» латыши звали постоянных клиентов, были такие и у хороших орманов.
— Ну, ладно... Сейчас-то свободен?
— Свободен, но... Порядок надо соблюдать.
Лабрюйер понял — Скуя в конце очереди, а по орманскому этикету право на седока имеет тот, кто в её начале.
— Разворачивайся и поезжай к Пороховой башне, там меня подберёшь.
— Как господину угодно.
От Пороховой башни они по Башенной улице проехали до Замковой площади, обогнули Рижский замок и берегом, вверх но течению, мимо рынка и причалов, покатили к Московскому форштадту.
Будочник Андрей сидел на своём законном месте, как всегда, не один — к нему пришёл продавец сбитня, угостить горяченьким.
— Узнал, узнал! — крикнул он, видя, что Лабрюйер хочет, откинув красивую ковровую полсть, прикрывавшую ноги, выйти из брички. — Она в Магдаленинском приюте служит! Там её ищите!
— Спасибо, старина!
— Спасибо — это многовато, а мне бы шкалик! — старой шуткой отозвался будочник.
Лабрюйер рассмеялся и подозвал сбитенщика.
— Вот пятиалтынный, сходи, принеси чего-нибудь подходящего, чтобы ему поменьше разгуливать. Поскользнётся, грохнется — артель грузчиков придётся звать, сам не встанет. Мартин, вези меня на Театральный бульвар, к гостинице.
В «Северной гостинице», что напротив сыскной полиции, Лабрюйер спросил карандаш, листок бумаги и с гостиничным посыльным отправил записочку инспектору Линдеру — просил отыскать себя на Александровской или по домашнему адресу. Это обошлось в пятак.
Был зимний вечер, народ с улиц убрался, все сидели за накрытыми столами, каждый сорокалетний мужчина — в семейном кругу, где старшие, родители или тесть с тёщей, ещё краснощёки и бодры, а самый младшенький лежит в пелёнках и похож на румяного ангелочка с открытки.
Лабрюйера ждала холостяцкая квартира. Печь, правда, натоплена, и хозяйка велела горничной постелить свежее постельное бельё. Можно в одиночестве почитать газеты или даже книжку. Можно немножко выпить — в меру, в меру!..
Выпить — чтобы скорее заснуть, не думая в темноте об Орлеанской девственнице, которую зачем-то поселили в Подмосковье.
Что-то не хотелось идти домой, и Лабрюйер сидел в вестибюле гостиницы, собираясь с духом, чтобы выйти из тепла на мороз.
Швейцар отворил дверь, вошла дама, но вошла незаурядно — вместо пожелания доброго вечера громко провозгласила:
— Чёрт побери, да ещё раз побери!
Лабрюйер покосился на неё. Дама как дама, в годах, очень прилично одета, из-под тёплой шляпы видно бандо белоснежных волос. Немка, на вид — более чем почтенная немка, монументального сложения, но отчего же ругается, как извозчик?
В вестибюле как раз был вернувшийся из полицейского управления мальчик-посыльный. Лабрюйер показал ему пятачок — вдобавок к первому. Мальчик подошёл.
— Кто эта дама? — спросил Лабрюйер, взглядом показав на двери, за которой скрылась ругательница.
Мальчишка усмехнулся.
— Говори, посмеёмся вместе, — ободрил его Лабрюйер.
— У нас такие гости бывают, что в зоологическом саду им место, — шёпотом ответил посыльный. — Приехала в Ригу искать каких-то родственников, в полицию ходит, как на службу. Они там уже не знают, как от неё избавиться.
— Ей прямо сказали, что этих людей в Риге нет?
— Ей это уже сто раз сказали. Не понимает!
— Держи.
— Благодарю, — мальчик, молниеносно спрятав пятак, поклонился.
Лабрюйер за годы службы в полиции на всяких чудаков насмотрелся. Ему не было жаль пятака, напротив — очень часто от гостиничных рассыльных и горничных зависела судьба сложного следствия, так что приятельство с ними в итоге хорошо окупалось.
Утром Лабрюйер пошёл в фотографическое заведение. Весь день прошёл в суете, которая обычного владельца заведения бы радовала — столько клиентов, столько заказов! — а Лабрюйера под вечер сильно утомила. Когда стемнело, на минутку заехал Мартин Скул и сказал, что он с утра свободен.
— Подарок для тёщи купил? — спросил его Лабрюйер.
— Как господин приказал — штолены.
— Тогда, значит, с утра ты свободен, а часа в три дня заедешь за мной и за господином Панкратовым. Можно наоборот, — пошутил Лабрюйер.
Мартын сперва приехал за Лабрюйером. В пролётке уже сидела его жена, совсем молоденькая и очень хорошенькая, с грудным младенцем, укутанным в несколько одеял. Потом подобрали Панкратова, который умостился в ногах, накрылся полстью и хвастался, что устроился лучше всех — при переправе через реку с головой упрятался и не чувствовал ветра.
Тёща Скуи жила на Эрнестининской улице, и это Лабрюйера вполне устраивало — там же поблизости стояли три приюта — один для старух и больных женщин, Магдаленинский, другой — богадельня германских подданных, третий — рижский приют для животных. Как так вышло, что эти заведения собрались все вместе, Лабрюйер не знал.
Мартин Скуя завёл лошадь вместе с пролёткой во двор и закрыл ворота.
— Господин Лабрюйер, если что — в окошко стучите, — сказал он, выглянув из калитки и указав нужное окно.
— Хорошо. Ну, Кузьмич, пошли к старушкам. Глядишь, и тебе невесту посватаем.
— Я и у себя на Конюшенной не знаю, куда от этих невест деваться. Так и норовят на шею сесть.
Лабрюйер засмеялся. Не то чтобы Кузьмич удачно пошутил... Просто вдруг стало смешно, и он сам понимал: такой хохот — не к добру.
Женщины в приюте не бездельничали. Только самые слабые и слепые освобождались от ежедневных работ. Во дворе, а двор у деревянного двухэтажного приюта был довольно большой, две ещё крепкие старухи выколачивали перины, третья развешивала на верёвке выстиранные простыни. Лабрюйер знал, как прекрасно пахнут выкипяченные и вымороженные простыни, квартирная хозяйка никогда такого аромата не добивалась. Четвёртая и пятая накладывали дрова из примостившейся у стены сарая поленницы в большой мешок. Ещё одна вышла на крыльцо — одной рукой она сжимала на груди складки тёплого клетчатого платка, в другой у неё был ночной горшок, и она, медленно и осторожно ступая, понесла его к каморке возле другой стены сарая, почти у забора. Удобства в приюте были самые скромные.
Лабрюйер и Кузьмич видели всё это, стоя у калитки. Наконец их заметила женщина лет пятидесяти, что вышла с костылём — не гулять, а хоть подышать свежим воздухом. Она позвала другую, послала её к начальнице, и гости были впущены во двор.
Груню (её давнего прозвища «проныра» тут не знали) приютские жительницы не видели со вчерашнего дня. Начальница была очень ею недовольна — вместо того, чтобы смиренно просить прощения за тайно пронесённое в приют горячее вино, бывшее под строжайшим запретом, она вообще куда-то исчезла: как считала начальница, полная пожилая фрау, явится дня через два, и её придётся принять, потому что найти для приюта сиделку нелегко, ах, как нелегко.
— Но для чего господам наша сиделка? — прямо спросила начальница.
— Возможно, она родственница одного почтенного человека, — ответил Лабрюйер. — Если так — родственники позаботятся о ней.
— Она может не согласиться жить у родственников, — сразу ответила фрау. — Тут ей многое прощается, а в приличном семействе долго терпеть не станут.
— Фрау хочет сказать, что у этой женщина случаются запои? — предположил догадливый Лабрюйер.
— Да, она выпивает... — фрау вздохнула.
— А живёт она где?
— Здесь, в приюте. Она трудится ночью, смотрит за лежачими постоялицами, а потом спит до обеда в комнате кастелянши. Там же стоит большой баул с её вещами.
— Другого жилья у неё нет? Возможно, фрау знает об этом?
— Один добрый Господь об этом знает! Пусть господин меня простит, я должна идти, у нас дважды в день молятся и читают душеспасительные книги, это нашим постоялицам необходимо.
— Не смею задерживать фрау.
Когда начальница приюта ушла, Панкратов сказал:
— Надо бы тех поспрашивать, кому она горячее вино таскала, они больше знают.
— Хотел бы я знать, откуда таскала, — ответил Лабрюйер. — Не на Ратушную же площадь за ним бегала. Где-то тут наверняка есть местечко. Сделаем так — ты, Кузьмич, потолкуй с бабами, ты для них красавец-мужчина, тебе и карты в руки. А я пойду по окрестностям искать заведение, где вино подают, кухмистерскую какую-нибудь, что ли. Через полчасика вернусь.
Но далеко Лабрюйер не ушёл.
По его разумению, какой ни на есть кабак должен был быть на Шварценгофской улице. Но до неё ещё нужно было дойти. Он и пошёл по узкой тропке вдоль заборов, стараясь не поскользнуться и не сесть в длинный высокий сугроб, зимой вырастающий между дорожкой, по которой ходят, и проезжей частью.
Мальчишки, для которых всякий сугроб — праздник, баловались, устроив скользкий спуск и съезжая прямо на подошвах. По сторонам они, конечно, не смотрели, и Лабрюйер выдернул такого спортсмена прямо из-под конской морды, а потом ещё по-русски обругал кучера — смотреть же надо, куда прёшь?!
— Чего — прёшь, чего — прёшь?! — по-русски же возмутился кучер. — Улица узкая, вбок не принять! Дворники — дармоеды!
Для Задвинья это было малость удивительно. Как в центре Риги жили в основном немцы, в Московском форштадте — русские и евреи, так в Задвинье селились главным образом латыши.
— Тут хозяева снег убирают, — возразил Лабрюйер. — И ты аршином левее мог взять. Навстречу никто не катит.
— Ну вот возьму я аршином левее, и что?!
Сгоряча кучер послал кобылу чуть ли не прямо в сугроб. Кобыле что — она послушалась вожжей. Но телега стала под таким углом, что никак на проезжую часть не вывернуть.
— Экий ты недотёпа, — сказал Лабрюйер. — Сиди уж, я помогу.
Он перебежал улицу, взял кобылу под уздцы и провёл её вперёд, чтобы поставить телегу параллельно забору. Как и следовало ожидать, колёса прошлись по сугробу, пока ещё довольно рыхлому, сбоку примяли снег.
— Батюшки мои! — воскликнул кучер. — Это что за страсти?!
Из сугроба торчала голая рука.
— Беги живо, приведи кого-нибудь с лопатой, — велел Лабрюйер спасённому мальчишке. — А вы чего стали?! Бегите за старшими!
И пяти минут не прошло — пришёл старик, принёс большую фанерную лопату, потом прибыли ещё двое мужчин, у них была лопата обычная. Раскидав снег, обнаружили женское тело.
Женщина была в какой-то чёрной кацавейке, в старой суконной юбке, простоволосая, седая. Достаточно было взглянуть на лицо, чтобы понять: удавили.
— Охраняйте, а я пойду в участок, — сказал Лабрюйер.
Ближе всего был второй участок Митавской части — на Динамюндской улице. Если по прямой — немногим более полуверсты. Но улицы в Задвинье проложены причудливо, с самыми неожиданными поворотами.
В полицейском участке Лабрюйер встретил знакомца, объяснил, где искать тело, и, пока не снарядили телегу и агентов, поспешил назад. Он хотел составить своё мнение об этом деле.
Пока дошёл, вокруг тела собралась толпа. Оказалось, женщину узнали. И даже помнили её прошлое. Странно звучало в латышской речи это «Грунька-проныра».
Лабрюйер понимал — следов убийцы не осталось. Вынести спрятанное тело на улицу, положить вдоль сугроба и завалить снегом мог ночью любой, не только мужчина, но и крепкая баба — Грунька оказалась малорослой и тощей.
Сильно озадаченный поворотом дела, он поспешил к Магдаленинскому приюту — вызволять Кузьмича, который наверняка приглянулся постоялицам. Крепкий старик, прилично одетый, был для них отменным кавалером; ну как удастся стать хозяйкой в его доме, пусть без венчания, пусть так?
— Ну, благодарствую, Александр Иванович! — сказал Панкратов, когда Лабрюйер буквально вытащил его со двора. — Видал я старых ведьм, ох, видывал, но не столько же сразу! Так вот, рапортую...
— Груньку убили.
— Это как же?!
— Удавили. Кому она помешала? Не ради денег же.
— Баул! Нужно выемку сделать. У неё наверняка сколько-то прикоплено. Если деньги в бауле — значит, не в них дело. А если нет — значит, куда-то шла с деньгами ночью...
— Ты почём знаешь, что ночью?
— Так ведьмы же сказали. Сбежала, оставила двух помирающих старух и сбежала.
— С кем-то, видать, назначила рандеву. Ночью, говоришь?
— А чёрт их разберёт, этих ведьм. Темнеет рано. Ложатся они, думаю, в десять, ну, в десять. Вроде и не ночь, а глянешь за окно — она самая... Часов у них нет, темно — значит, ночь.
— Насчёт выемки я узнаю в полиции. Придётся опять Линдера беспокоить. Ты прав, Кузьмич, это важно. А теперь бегом к Мартиновой тёще. Мартин там за чаем засиделся, а тёщу он, кажется, недолюбливает, и мы явимся, как два ангела-хранителя, — вызволять...
— И то! Были у меня две тёщеньки. Вспомню — вздрогну.
Лабрюйер с Кузьмичом нашли нужный дом, постучали в окно, занавеска отлетела в сторону, и они увидели круглую сытую физиономию ормана. По улыбке поняли — пришли вовремя.
Он выскочил в калитку, на ходу надевая шапку.
— Сейчас скотинку свою выведу. А Леман пропал. Второй день родня ищет. Вышел из дому покурить на крыльце и пропал.
— Чёрт возьми! — воскликнул Лабрюйер. — Где его искали?
— Всюду. И по питейным заведениям, и по всем дворам — мало ли, может, кто видел.
— А покурить вышел — когда?
— Вечером. У дочки с зятем сидели гости, а он трубку курит, набивает её таким табаком, что вонь на весь Агенсберг. Вот, накинул старый полушубок, вышел покурить — и нет его... Все соседи головы ломают — куда подевался. Давайте я вас, господа, отвезу и за женой вернусь. Куда прикажете?
— Сперва — на Конюшенную, потом на Александровскую.
По дороге в своё фотографическое заведение Лабрюйер сперва молчал. Потом заговорил:
— Ты, Кузьмич, никому не рассказывал, что я занялся этими тремя делами об убийствах девочек?
— Да что я, сдурел, что ли?
— Пропали два свидетеля по двум убийствам, один в своё время был, я думаю, просто подкуплен, другого запугали. И, заметь, очень быстро они пропали, я и за дело толком взяться не успел. Где протекло?
— Андрей? — предположил Панкратов. — Это вряд ли. А вот Нюшка-селёдка...
— Она знала, где искать Груньку.
— Новопреставленную рабу Божию Аграфену, царствие ей небесное.
— Выходит, Нюшка, узнав, что кто-то интересуется той, первой смертью, знала, куда с этой новостью бежать?
— Чёрт её разберёт. Шлюха — она шлюха и есть.
— Очень всё это странно...
— А чего странного? Нюшка ведь, прежде чем в судомойки пойти, работала в борделе на Канавной улице, а там и чистая публика бывала. Она бог весть с кем может быть знакома.
Канавная была настоящей улицей красных фонарей — в прямом смысле этого слова. Там стояли рядышком три борделя, и возле каждого — пресловутый красный фонарь. Более полусотни молодых и привлекательных проституток обслуживали моряков, рабочих с окрестных заводов, зажиточных торговцев с Агенсбергского рынка. Туда, в Задвинье, и с правого берега Двины господа приезжали.
— Так ты её знаешь?
— Тогда-то знавал, лет — сколько же лет-то?.. Пятнадцать? Ну, не двадцать же. Лет пятнадцать назад. И слышал краем уха, что её из ремесла погнали, так она судомойкой пристроилась. Сколько ж можно в ремесле-то? Там свеженькие нужны.
— Кто, кроме Нюшки, мог знать, что я ищу Груньку и Лемана?
Панкратов пожал плечами.
— Будь осторожен, — предупредил его Лабрюйер. — Теперь и ты к этому делу пристегнулся. Револьвер-то у тебя есть?
— Тсс...
По лукавому взгляду Кузьмича Лабрюйер понял — не то что есть, а целый арсенал припасён.
Происхождение арсенала угадать было нетрудно — в 1905-м печальной памяти году оружия в Риге было великое множество.
Высадив Панкратова у начала Конюшенной, Лабрюйер поехал в фотографическое заведение и сразу пошёл в лабораторию к Хорю.
Сейчас, когда почти стемнело и нельзя было вести съёмку в салоне, двери заперли, а Хорь скинул ненавистную «хромую» юбку и работал в штанах и обычной мужской рубахе.
— Мне Горностай нужен, — сказал Лабрюйер. — Дело осложняется.
— Горностай раньше десяти не придёт. Он вчера на «Феникс» устроился.
— Кем?!
— Чертёжником. То есть устроили его. А чертить он умеет. Это я в корпусе, когда чертёж тушью обводил, проклятая тушь только что в потолок не летела. А он — аккуратный.
До сих пор Лабрюйер за Енисеевым особой аккуратности не замечал. Но знал, что контрразведчик способен исполнить с блеском любую роль — хоть зануды-чертёжника, хоть цыгана-конокрада, хоть вдовой попадьи.
— Пойду-ка я, позвоню Линдеру. Тут такое дело — без полиции эту кашу, боюсь, не расхлебаем.
Линдера звонок застал в полицейском управлении.
— Во втором Митавской части участке тело подняли, — сразу перешёл к сути разговора Лабрюйер. — Женщина, бывшая проститутка. И там же, по соседству, старик один пропал без вести. Так вот — убийство и пропажа могут быть связаны, донеси эту мысль до второго участка.
— Каким манером?
— А таким, что оба связаны с одним и тем же давним делом. Точнее, дел-то трое, а преступник явно один. Слушай внимательно...
И Линдер всё выслушал очень внимательно.
— Ты этим занялся по той же причине, по которой осенью гонялся за приезжими шулерами? — спросил он.
— Да. Мне нужны сведения о всех трёх убийствах. Попробуй взять в архиве хоть на ночь, мне скопируют.
— Я постараюсь.
— Как супруга, как наследник?
— Спать он совсем не даёт, этот наследник, — признался Линдер. — Я даже иногда к тётушке ночевать убегаю. Начальству-то всё равно, что в доме грудной младенец, ему подавай инспектора, который с утра не клюёт носом.
— Это верно. Если сможешь помочь — телефонируй, встретимся.
Линдер позвонил на следующий день из частной квартиры. Телефонограмму принял Ян. Свидание было назначено возле дома на Суворовской, где жил Линдер со своей юной супругой. Особым требованием было — взять с собой саквояж. Лабрюйер прихватил тот ковровый саквояж, с которым прибыл в Ригу Хорь в образе эмансипэ Каролины, и помчался туда к указанному времени. Потом он вернулся в фотографическое заведение и показал Хорю набитый бумагами саквояж.
— У нас в распоряжении ночь. Сейчас пошлём Пичу в кухмистерскую за ужином — и за работу.
Увидев бумаги — на иных чернила были отчётливо видны, на других выцвели, — Хорь присвистнул.
— Ничего себе задачка!
— Всё не так страшно, как кажется. Но бессонная ночь обеспечена. Пошли в лабораторию.
Там они приготовили всё, что требуется, чтобы переснять документы. И началась мука мученическая.
Лабрюйеру нужно было очень быстро пересмотреть бумаги, чтобы решить, какие могут пригодиться, а какие бесполезны. Бесполезных, как и в любом деле, хватало: допросные листы свидетелей, которые ничего не видели и не слышали, хотя были бы просто обязаны. При этом он, отдавая порцию бумаг в лабораторию и получая оттуда уже сфотографированные, должен был всё складывать в изначальном порядке. К четырём часам ночи он понял, что сходит с ума.
В семь утра Хорь и Лабрюйер завершили работу. Хорь обулся, оделся и вместе с Лабрюйером пошёл на Суворовскую — отдавать документы. Он широко и бодро шагал, даже насвистывал — так был рад возможности пройтись в мужском костюме. Лабрюйер плёлся следом, едва не засыпая на ходу. Свёрток с бумагами, замотанный в кусок парусины, они, как было условлено, оставили на лестнице, выше жилища Линдера, у ведущего на чердак люка.
Потом они пошли домой. Хорь, живший в том же подъезде, что и Лабрюйер, пташкой взлетел на шестой этаж. Лабрюйер медленно и чуть ли не со скрипом суставов поднялся к себе на третий. Зависть — отвратительное чувство, но он бешено завидовал двадцатилетнему Хорю.
Нужно было часа за три выспаться и привести себя в такое состояние, чтобы весь день работать с фотографическими карточками, из которых больше половины — таких, что без лупы ни черта не понять.
Лабрюйер разделся, лёг — и услышал музыку.
Это уже было однажды — музыка романса вдруг зазвучала в голове, похожая на пловца в бурном море — то выныривала, то исчезала. Даже слова прорезывались, невнятные, но всё же: «...жаворонка пенье ярче, вешние цветы...» Тогда он не выдержал и кинулся к этажерке, искать на нижней полке ноты. А сейчас чувствовал, что не в силах пошевелиться, зато в силах управлять звуками.
Лабрюйер заставил романс Римского-Корсакова прозвучать внятно, с начала до конца. И затосковал страшно, просто невыносимо. Редко с ним приключались на трезвую голову приступы жалости к себе, одинокому и, кажется, стареющему. Но вот нахлынуло — и да ещё обида прибавилась, обида на далёкую женщину, которая, кажется, совершенно его забыла.
— Ну и Бог с ней, — сказал себе Лабрюйер. — Женюсь на ком-нибудь...
Это была страшнейшая угроза самому себе.
Утром, проснувшись, Лабрюйер сразу вспомнил о двухфунтовой стопке фотографических карточек и чуть не застонал.
Позавтракав на скорую руку (кофе вскипятил на спиртовке, достал из полотняного мешочка, висевшего за окном, кусок деревенского сала и отрезал два порядочных ломтика для бутербродов), Лабрюйер отправился в фотографическое заведение. По дороге купил хорошую лупу.
К ужину он уже составил план действий. Нужно было отыскать мать третьей из убитых девочек и узнать всё, что только возможно, о пропавшей гувернантке.
Тем временем из столицы пришла телефонограмма. Хорь записал её и отдал Лабрюйеру.
Да, действительно, в Выборге пропала девочка тринадцати лет, из хорошей семьи, с длинными светлыми косами, и как раз в то время, когда под причалом возле двинских спикеров нашли тело. Теперь следовало составить другой запрос — в выборгские полицейские участки, занимавшиеся тогда розысками девочки. Любая подробность могла стать решающей.
Лабрюйер подготовил запрос, но без Енисеева отправлять не стал. Зато он телефонировал Аркадию Францевичу Кошко в Москву. Кошко уже более четырёх лет был начальником Московского уголовного сыска и придумал для подчинённых особый значок с буквами «МУС». Он не мог предвидеть, что московское жульё вскоре придумает для его агентов прозвище «мусора».
— Аркадий Францевич, помощь нужна, — прямо сказал Лабрюйер. — По делу, которое оказалось более серьёзным, чем все мы полагали.
Он сам ещё не был убеждён, что взял верный след. Однако старался говорить уверенно и объяснил, кто ему требуется: родня убитой шесть лет назад Марии Урманцевой. Желательно — мать. Если у этой госпожи есть дома телефонный аппарат — то вовсе замечательно.
В то время как девочку убили, Кошко уже служил в Санкт-Петербурге и подробностей дела не знал. Лабрюйер вкратце рассказал о трёх поднятых телах.
— И, полагаю, их было побольше трёх, просто остальные злодей сумел хорошо спрятать, — завершил он. — Вы же знаете, Аркадий Францевич, что такое маньяк. Начнёт — так уж его не остановить.
— Да, это точно, — согласился Кошко. — Чем могу — помогу.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Утром Лабрюйер написал целый меморандум для Енисеева и отдал Хорю. Потом он пошёл взглянуть на дом, где нашли вторую убитую девочку. На всякий случай взял с собой револьвер. Московский форштадт — не то место, где можно вести розыск безоружным.
Этот дом заставил задуматься...
Московская улица шла почти параллельно речному берегу и соединялась с этим берегом короткими безымянными переулками. В одном из них, выходившем к протоке, за которой был остров Эвирзденхольм, и стоял дом, который уже не был заброшенным — кто-то в нём поселился.
Причал у спикеров, дом в трёх шагах от реки, Лоцманская улица на северной оконечности Кипенгольма, там, где он шириной не более сотни сажен...
— Лодка, — сказал Лабрюйер, причём довольно громко.
Но какой безумец возьмётся сосчитать все лодки, что шныряют по Двине?
Срочно нужны были подробности об исчезновении девочки в Выборге! Выборг — он ведь как будто у воды стоит?
Лабрюйер вышел на Романовскую и быстрым шагом понёсся в своё фотографическое заведение.
Там он обнаружил двух хорошеньких певиц, Минни и Вилли. Хорь развлекал их как умел.
— А мы пришли узнать, не нашёлся ли для нас итальянец. Или хоть итальянка, — спросила тёмненькая, Вилли.
Лабрюйер хлопнул себя по лбу.
— Простите, барышни! Столько дел, столько заказов! Но мы найдём, мы непременно найдём! Фрейлен Каролина, сбегайте к госпоже Круминь...
По взгляду Хоря Лабрюйер понял — сейчас парня от девиц и упряжкой владимирских тяжеловозов не оттащишь.
— Или нет, я сам к ней зайду, попрошу, чтобы сварила кофе! — поправился он. — Заодно и принесу пирожных из кондитерской. А вы, фрейлен, пока развлекайте красавиц!
С тем Лабрюйер и убрался прочь через чёрный ход.
Попросив госпожу Круминь подать кофе в большом кофейнике, он поспешил в любимую кондитерскую у Матвеевского рынка.
В дневное время кондитерскую посещали семьями, Лабрюйер не обращал внимания на детский гомон и целенаправленно пробивался к стойке, за которой трудился буфетчик, ловко хватая с подносов и упаковывая пирожные и булочки.
— Господин Лабрюйер, — услышал он. Его позвал женский голос, мягкий и сильный.
Лабрюйер обернулся и увидел Ольгу Ливанову. Она сидела за столиком с дочкой, сыном и гувернанткой.
— Добрый вечер, сударыня, — сказал он, подойдя.
— Добрый вечер. Я уж не знала, как с вами встретиться. В вашу «фотографию» заходить побоялась. Как бы не навредить... А бродить по Александровской, дожидаясь, пока вы выйдете, тоже как-то не с руки... — она смутилась. — Бог весть за кого примут. Посылать письмо с мальчишкой тоже рискованно — я не хотела, чтобы господин Енисеев знал про это письмо.
— Да какое письмо?!
Лабрюйер уже понял — какое! Но верить своей догадке не желал.
— К счастью, оно у меня с собой. Наташа вложила его в конверт, адресованный мне. Вот так и ношу его...
Ольга достала из хорошенького бархатного ридикюля, украшенного модной вышивкой, сложенный вдвое конверт.
— Да забирайте же, — тихо приказала она. — Можно подумать, я пытаюсь вам всучить любовное признание, а вы меня гордо отвергаете.
— Простите...
Лабрюйер быстро сунул конверт в карман. Он настолько ошалел, что не понимал, как продолжать разговор.
— У неё всё хорошо, — сказала Ольга. — И она, и Серёжа в безопасном месте. Родня мужа до неё там уже не доберётся.
— Честь имею кланяться... — пробормотал Лабрюйер и, как сомнамбула, вышел из кондитерской. На улице он понял, что забыл купить пирожные. И встал столбом, мучительно пытаясь принять решение: возвращаться ли в кондитерскую или искать пирожные в ином месте.
Наконец он додумался, что можно взять что-то сладкое во «Франкфурте-на-Майне», напротив фотографического заведения.
В ресторане при гостинице его знали и предложили выпить чашку кофе, пока соберут для него пакет с пирожками и печеньем. Он охотно согласился — это давало возможность прочитать наконец письмо в полном одиночестве. Посетители ресторана — не в счёт.
«Я не знаю, как к тебе обратиться, — так начала Наташа. — Не писать же, право, “Милостивый государь Александр Иванович”. Просто “Александр” — сухо, жёстко. А хотелось бы — Саша, Сашенька... Но могу ли?.. Я, кажется, смертельно перепугала тебя своим признанием. Если так — прости меня. Ты — единственный, кому я хотела рассказать о себе, чтобы ты понял, отчего я такая...»
Лабрюйер понимал женщин настолько, насколько обязан сообразительный полицейский агент и толковый полицейский инспектор. Он знал, на что способны воровки и проститутки, знал также, как становятся воровками благовоспитанные дамы из хороших семейств, знал, как они губят нежеланных детей и зажившихся стариков. Но тонкости и оттенки женского любовного переживания были ему совершенно чужды — и он растерялся.
«Но я не стану начинать с детства, хотя детство в моей истории много значит, — писала она далее. — Любви между родителями не было, ненависти, как это случается, тоже не было, а я, совсем ещё дитя, видела только скуку. Да, скука в их отношениях преследовала меня, она стала страшнейшей из угроз. Вот почему я мечтала о любви страстной, необычной, сметающей все препятствия. И я, неопытная дурочка, отдала эту любовь чуть ли не первому, кто догадался тайно взять меня за руку и поиграть пальчиками...»
— Этого ещё не хватало... — пробормотал Лабрюйер.
Он имел в виду дамскую экзальтированность. Мода на роковых женщин достигла, разумеется, и Риги — с поправкой на немецкую сентиментальность и основательность.
Несколько строк он пропустил — возможно, правильно сделал.
«...и я шла под венец с совершенно неземным восторгом. Потом началась семейная жизнь, и у меня хватало сил не обращать внимания на досадные мелочи, хотя иные терпеть и не стоило, — признавалась Наташа. — Я верила, что обрела свою единственную любовь. Потом родился Серёжа, и я стала счастливой матерью. До той поры, когда я узнала, что муж мне неверен, я жила в идеальном мире. Вечно это продолжаться не могло. Но я теперь понимаю, что идеальный мир хрупок. Тогда я была наивной дурочкой. Мне казалось, что наступил тот самый, обещанный Иоанном на Патмосе, конец света...»
О том, как неудачно Наташа стреляла в неверного мужа, Лабрюйеру рассказывал Енисеев. Знать подробности он совершенно не желал. Он вдруг понял одну важную вещь — чтобы мужчина и женщина были счастливы вместе, им совершенно незачем знать прошлое друг друга во всех мелочах, довольно того, чтобы в общих чертах.
«Когда я вышла из суда, меня встретили овациями, курсистки бросали мне белые цветы. Только не подумай, Саша, будто я хвастаюсь этим, нет, клянусь тебе, нет! Я в тот день вообще очень плохо соображала. За неделю до того умер Григорий...»
— Какой ещё Григорий?.. — удивился Лабрюйер. — Не было никакого Григория!
Он ещё не дошёл до того, чтобы в ресторане вслух с самим собой разговаривать. Но внутренний голос оказался довольно громким — Лабрюйер даже испугался, что это уста заговорили. Несколько секунд спустя он понял — речь о покойном Наташином супруге. Том, кого она желала застрелить, но промахнулась. Супруг оказался трусом — вместо того, чтобы прикрикнуть на обезумевшую жену, сиганул в окошко, неудачно упал, расшибся, образовалось внутреннее кровотечение. Человек, насмотревшийся на покойников и побывавший во всяких переделках, знает, что это за гадость.
«...и накануне суда ко мне пришла его матушка. Боже, как она кричала! Когда я вернулась домой, Серёжи там уже не было, его увезли. Я с ног сбилась, отыскивая следы. Светские знакомые, которые сперва осыпали меня комплиментами, понемногу все от меня отвернулись. Я поняла цену их дружбы...»
— Да уж... — буркнул Лабрюйер. Он очень хорошо понимал людей, которые перестали приглашать к себе даму, что хватается за револьвер из-за сущего пустяка, мужниной интрижки.
«Теперь ты понимаешь, Саша, в каком я была состоянии, когда собралась уйти в монастырь...»
— О Господи... — прошептал он.
Честно говоря, Лабрюйер прекрасно обошёлся бы без этой исповеди. Ему бы вполне хватило простых слов: соскучилась, часто тебя вспоминаю, жду встречи. Он свернул письмо и сунул в карман, решив дочитать на досуге. Что-то с письмом было не так — оно не вызывало желания сразу написать ответ, как полагалось бы. Нужно было думать, а думать об отношениях с женщиной, анализируя их во всех причудливых тонкостях, для многих мужчин — сущий ужас. Так что Лабрюйер взял приготовленный для него свёрток, надел пальто и котелок, вышел на Александровскую и лихо перебежал её прямо перед трамваем.
Хорь сидел в салоне один — разве что в компании остывшего кофейника. Лабрюйер положил на столик свёрток с пирожками и печеньем. Хорь, надувшись, отвернулся.
— Найдём мы им итальянца или итальянку, — вздохнув, сказал Лабрюйер. — Ты ведь догадался взять у них адреса и телефонные номера?
— Они теперь вместе живут, — ответил Хорь. — Родители позволили Вилли немного пожить у Минни, чтобы приглашать домой одного учителя на двоих, так дешевле выйдет. Оплатили её полный пансион. Девицы просто счастливы. Они на Елизаветинской живут. И телефон там есть, Минни записала. Где же теперь искать итальянца?
— Чёрт его знает... — Лабрюйер задумался. Всякий иностранец должен сообщить о себе в полицию. Хозяева гостиниц подают туда сведения о постояльцах. Если синьор или синьора прибыли в Ригу, не скрывая своего происхождения, то в полицейских участках о них знают. А если тайно?
Дверь, ведущая в задние помещения «Рижской фотографии господина Лабрюйера», приоткрылась, и оттуда выглянула круглая румяная физиономия Росомахи.
— Приветствую! — сказал Росомаха и собирался было что-то добавить, но Лабрюйер перебил его:
— Мне нужен Горностай.
— Горностай усердно рисует шестерёнки. Ты знаешь, Леопард, что такое шестерёнка? О, это мечта чертёжника!
— Так ему и надо. Ты увидишь его сегодня?
— Я могу оставить записку для Барсука.
— Сойдёт. Мне нужно сделать запросы в столицу.
— Да, он говорил, что ты взял след.
— И препоганый след...
Лабрюйер взял кофейник с остывшим кофе, пакет с лакомствами и повёл Росомаху в закуток возле лаборатории. Там он рассказал о своих изысканиях и подозрениях так, как, возможно, не рассказал бы Енисееву. Росомаха был ему куда ближе ехидного и причудливого контрразведчика.
— А ты догадываешься, что это может быть злодей, совершенно непричастный к краже сведений? — спросил Росомаха. — Ты так яро пошёл по следу, но всего по одному следу. Что, если ты потратишь время на маньяка, не пытаясь найти других кандидатов в шпионы? А маньяк окажется всего лишь безумцем, давно сидящим в палате на Александровских высотах?
— Александровские высоты? Стой! Это ты хорошо подсказал...
— Рановато ты туда собрался.
Но Лабрюйеру было не до шуточек. Он притащил фотокарточки с копиями документов; бурча и чертыхаясь, отыскал то, чему от усталости и помутнённого рассудка сразу не придал значения.
— Свидетель, у нас есть свидетель... вот, гляди... если только он жив и не спятил всерьёз... вот, студент политехникума, и надо же — латыш, Андрей Клява...
Политехникумом рижане по привычке называли Политехнический институт. Хотя название уже несколько лет как поменялось, но одно слово выговорить сподручнее, чем два.
— Что за фамилия такая странная?
— По-латышски — «клён». У них много таких растительных фамилий. Наш Ян — Круминь, а это «кустик». Клява! Знаешь, сколько в здешней губернии Кляв? А искать родню придётся.
— Ты слишком увлёкся, Леопард, — спокойно сказал Росомаха. — Нельзя так.
— Клява был признан невменяемым и законопачен в лечебницу навеки. Но если он был подсунут суду вместо виновника, значит, были доказательства, что он во время предполагаемой смерти девочки околачивался где-то поблизости. Надо...
— Не надо, Леопард. На Александровских высотах твой Клява в безопасности. Если только он жив. Такие козыри достают из рукава в последнюю минуту. Ты отлично идёшь по следу, но тут — игра...
Росомаха сказал это очень серьёзно. И Лабрюйер понял его куда лучше, чем понял бы Енисеева со всеми енисеевскими выкрутасами.
— Ты считаешь, лучше его пока не трогать?
— Не забудь — Эвиденцбюро знает, что твоя «фотография» — что-то вроде нашего опорного пункта. Тебе ничто не угрожает, но за тобой наблюдают...
— Черт!
— Ты так увлёкся сыском, что, кажется, совсем забыл об этом, — тихо сказал Росомаха.
— Я последняя скотина...
— Нет, ты просто отличный сыщик. Так и Горностай считает. Но ты никогда не был тем, кого преследуют.
— Отчего же, был...
— В молодости, когда гонял всякую шушеру. То ты за ними по крышам скачешь, то они за тобой. Ты увлёкся одной версией, и это плохо. Нужно и прочие попробовать, — рассудительно сказал Росомаха. — Конечно, оба убийства можно считать доказательством, что ты уже приблизился к источнику сведений. Можно — но не успокаиваться на этом.
— Ты хороший товарищ...
Лабрюйер имел в виду, что Росомаха деликатно, но твёрдо разъяснил ему положение дел без всякого ущерба для самолюбия.
— Да и Горностай хороший товарищ, — усмехнулся Росомаха. — Просто ремесло у вас разное. Ты — сыщик, ты загоняешь дичь, вот этим и занимайся. Он... он — актёр, понимаешь? Он кем угодно притворится, чтобы добыть сведения. Вот Хорь у него учится. Думаешь, почему Хорю велено ходить в юбке? Пусть воспитывает самообладание. Я тоже несколько ролей отлично исполняю — пьяного купчину, к примеру, так изображу!..
Лабрюйер вспомнил, как Росомаха извлекал его из гостиничного номера, где фрау Берта чуть было не уложила его в постель.
— А ты — не актёр. И ничего в этом плохого нет. Мы это знаем и актёрствовать тебя не заставим. Так что ищи других непойманных мерзавцев, не только маньяка.
— Как же быть с Клявой?
— Мы попробуем осторожненько узнать, жив ли он вообще. А теперь — вели Пиче сбегать за провиантом. Я голоден, как собака!
Росомаха поел и прилёг отдохнуть. Ему предстояла бессонная ночь, а что за дело — он не сказал. Лабрюйер знал, что обижаться не след — у каждого в наблюдательном отряде своё занятие, вот ему отвели поиск ценной добычи полицейскими способами, прочие исследуют окрестности рижских заводов на свой лад. А военные заказы — всюду: «Руссо-Балт», кроме автомобилей и вагонов, изготавливает походные кухни, телеграфные и телефонные двуколки, ящики для снарядов; «Феникс» стал выплавлять отменную сталь; «Ланге и сын» мало того, что корабли строит, — на подводную лодку замахнулся; «Мюльграбенская верфь» собирается строить миноносцы; «Унион» — электродвигатели...
Заводов и фабрик много, наблюдательный отряд — один.
Лабрюйер малость затосковал — поняв, что наломал дров. Не то чтобы он в годы полицейской службы был совсем уж безупречен и блистал чистотой совести — всякое случалось. Но две смерти подряд? Многовато. Тут кто угодно затосковал бы — от сознания своей преступной глупости.
Лабрюйер ушёл в пустой салон. За стёклами витрины шла вечерняя городская жизнь. Рижане гуляли, шли в гости, возвращались из гостей. Город понемногу близился к той грани, когда кончаются невинные вечерние развлечения честных бюргеров и начинаются иные — с ароматом дорогих коньяков и горьким запахом абсента, с облачками приторно-сладкой пудры на обнажённых плечах и кокаинового порошка, с отчётливым душком дорогого и грошового разврата.
Среди прочего реквизита, в салоне был и подсвечник с двумя свечками. Лабрюйер зажёг их и снова взялся за Наташино письмо. Перечитал. Удивился тому, что оборвано чуть ли не на полуслове:
«Саша, любимый, я не могу больше писать. Помню, всё помню и жду встречи. РСТ. Твоя».
«РСТ» — это было как пароль, «Рцы слово твёрдо». Он помнил, как она это говорила...
Лабрюйер смотрел на листок и мучился: что на это можно ответить? Есть ли в природе такие слова?
С утра он телефонировал Линдеру.
— Посоветоваться надо, — сказал он молодому инспектору. — Давай я тебя завтраком в «Северной гостинице» угощу. И оттуда ты — сразу на службу...
Чуть ли не прямо в трубке раздался рёв младенца.
— Я бегу, жди меня там! — крикнул Линдер и пропал.
Лабрюйер быстро оделся, выбежал на Суворовскую и вскочил на заднюю площадку трамвая. До Полицейского управления и «Северной гостиницы» напротив него было — рукой подать, то есть примерно полторы версты, летом пробежаться — одно удовольствие, а зимой, пожалуй, четверть часа потребуется. Но он не хотел заставлять Линдера ждать. И он догадывался также, что младенец в доме — это постоянные траты. Лабрюйер предполагал, что питается теперь молодая семья не лучшим образом. И, опередив Линдера минут на десять, успел заказать яичницу, бутерброды с копчёной рыбой, булочки с кремом и неизменный кофе.
Лабрюйер уже успел обсудить с Линдером, как именно искать заезжих итальянцев, когда в ресторан вошла давешняя дама-ругательница и решительно двинулась к их столику.
— Доброе утро! — громогласно сказала она. — Господин инспектор, я по своему делу! Неужели в Риге так мало порядка, что за две недели нельзя найти несколько женщин и одного мужчину?
— Госпожа Крамер, вот тот человек, который вам нужен! — воскликнул Линдер. — Он занимается частным сыском, он что угодно из-под земли достанет! Рекомендую — господин Гроссмайстер! А я не могу — служба, служба!..
И Линдер сбежал.
— Присаживайтесь, госпожа Крамер, — обречённо сказал Лабрюйер. — Кого вы ищете? Если наша полиция до сих пор этих людей не нашла — так, может, они и не в Риге?
— Я сразу вижу, что вы человек солидный, не то что молодой петух. С вами я могу говорить прямо. Благоволите подняться ко мне в номер, — приказала госпожа Крамер.
Это оказался тот самый номер, откуда Лабрюйера спасал отважный Росомаха.
Дама сняла шляпу, долго оправляла перед зеркалом пышное бандо седых волос, потом села за стол и заговорила.
— Садитесь и вы. Ну вот, теперь слушайте. Я ищу двух своих тёток, которые, скорее всего, умерли, также кузена моего покойного первого супруга, который, видимо, давно на том свете, и ещё одну дальнюю родственницу — ей тоже уже пора бы переселиться в небесные чертоги.
Лабрюйер от такого начала онемел.
— Но сами они мне не нужны. Я имею средства, да! Значительные средства! А они — попрошайки.
— Так чего же вы хотите, сударыня?
— Найти их, разумеется.
— Ну, хорошо. Запишите мне их имена.
Фрау Крамер замялась.
— Всё это немного сложнее, чем кажется, господин Гроссмайстер. Найти этих людей — только половина дела. На самом деле мне нужны другие люди, чёрт их побери, да ещё раз побери!
Лабрюйер понял, что по этой даме тоскует палата на Александровских высотах.
Рижский приют умалишённых имел давнюю и любопытную историю. Основоположником его рижане считали государя Александра Первого. Побывав в 1815 году в Риге, он, разумеется, посетил Цитадель — крепость, которую шведы прилепили к северной оконечности Риги — какой она была в семнадцатом веке. Цитадель строилась для нужд шведского гарнизона, потом в ней разместили русский гарнизон, а также работный дом и лазарет. Там царь увидел, в каких условиях содержатся несчастные рижские безумцы, и ужаснулся. Положим, по всей Европе опасных сумасшедших держали взаперти и в цепях, но именно эти потрясли царя настолько, что четыре года спустя он подарил для устройства приличной лечебницы участок на Александровских высотах. Но к названию местности царь отношения не имел — случилось забавное совпадение. Во время Северной войны, в 1710 году, там распорядился поставить укрепления Александр Меншиков. А поскольку скромностью он не страдал, то и велел впредь звать их Александровскими высотами.
Сейчас это богоугодное заведение состояло из нескольких каменных зданий. Кроме безумцев, там находили приют и обычные немощные старики, не имевшие близких, а также приезжали туда студенты-медики — потому что лечебница имела свой склеп и помещение для вскрытия трупов.
— И какие же люди нужны уважаемой госпоже? — осторожно спросил Лабрюйер, уже ожидая услышать имена Александра Македонского и Наполеона Бонапарта.
— Мне нужны... О мой бог, как всё это мерзко! Вы человек солидный, не молодой бездельник, как этот полицейский инспектор.
— Но вы сперва объясните, кто вам нужен. Видите ли, у меня мало времени.
— Да, да, я понимаю. Такой господин, как вы, не может сидеть без дела, он необходим всем. Такой положительный добропорядочный господин, наверняка примерный отец семейства... Должно быть, у вас прелестные малютки?
— Изумительные, — подумав почему-то про Хоря, ответил Лабрюйер и усмехнулся в усы: знал бы Хорь, что его считают малюткой... — Простите, у меня назначена деловая встреча.
Лабрюйер встал.
— Одну минуту, всего одну минуту! Я объясню вам суть! Есть вещи, говорить о которых трудно — всё равно что признаться: да, я плохая мать, я утратила бдительность, я потеряла единственную дочь...
— При чём тут дочь? — искренне удивился Лабрюйер.
— Да ведь она сбежала в Ригу вместе с этим мошенником-итальянцем!
Лабрюйер сел.
— Что за мошенник? — строго спросил он. — Откуда взялся?
— Приехал к нам в Дрезден, рисовал портреты, давал уроки рисования. И высматривал девиц с хорошим приданым!
— Это случается. Но почему же вы прямо не сказали в полицейском управлении, кто вам нужен?
— Ах, мне было стыдно...
— Но как вы догадались, что ваша дочь и итальянец сбежали в Ригу?
— Очень просто — у мужа тут родня. То есть у моего покойного первого мужа. Мы иногда переписывались, поздравляли друг друга с праздниками. Догадаться было легко — Софи украла письма из шкатулки, а в письмах были адреса рижской родни. Вот почему я думаю, что они сбежали в Ригу. Они знали, что в Риге их примут и приютят.
— Хм... Говорите, итальянский живописец?
— Мазила! Настоящий низкопробный мазила! Меня учили рисованию, я в живописи разбираюсь! Ему хватило месяца, чтобы увлечь мою маленькую дурочку!
— Как это случилось?
Дама, то охая, то ругаясь, рассказала: живописец по прозванию Мазарини появился в Дрездене, где и своих мазил хватало, осенью, возможно, в октябре. В ноябре он уже давал уроки Софи и её подругам. В середине декабря он похитил Софи и скрылся.
Была в этой истории одна подозрительная нелепость — фамилия афериста. Госпожа Крамер явно не знала французской истории, а Лабрюйер читал романы Дюма и знал про кардинала Мазарини. Взять себе такое прозвание мог только большой наглец, уверенный, что в благопристойном немецком городе историей семнадцатого века интересуются только учителя в гимназии. Наглец был уверен, что никто не спросит его о фамилии — или же твёрдо знал, что в Дрездене он ненадолго...
— Я попытаюсь найти этого Мазарини, — сказал Лабрюйер. — Что вы успели сделать?
— В полиции мне сказали, что родственников мужа в Риге не обнаружено. Я побывала на кладбищах, в конторах. Таких людей не хоронили.
— Что вы ещё сделали?
— Я каждый вечер хожу в театры, даже в Латышском обществе была, слушала какую-то русскую оперу, совершенно непонятную. Видите ли, Софи обожает театр. Если она в Риге — то обязательно ходит на спектакли. А одна она в театр не пойдёт, значит, они придут вдвоём. Господин Гроссмайстер, что, если нам сегодня вечером отправиться в Немецкий театр? Все расходы я беру на себя!
— Нет, этого мы не сделаем. А сделаем вот что — вы мне дадите фотографическую карточку дочери...
— Но почему?..
— Потому что нас не должны видеть вместе, госпожа Крамер. Вы ведь хотите не скандал в театре устроить, а отвадить Мазарини от вашей дочери. Для этого нужно хотя бы собрать сведения о нём.
— Да, скандал в театре я бы непременно устроила, — призналась дама. — Я бы его убила!
— Доставайте фотографическую карточку дочери.
— Да, да, сейчас...
Ридикюль госпожи Крамер габаритами соответствовал хозяйке, и Лабрюйер не удивился бы, если бы оттуда явился парадный портрет в позолоченной раме.
— О мой бог, где же она, где же она? — бормотала дама, выкладывая на стол столько всякого загадочного снаряжения, что хватило бы Робинзону Крузо для освоения необитаемого острова. — О мой бог, я её показывала одной особе и потеряла! Я верну карточку и отдам вам! А сегодня я сама пойду в театр. В Немецком театре дают оперу Верди... или не Верди?.. Какую-то итальянскую оперу дают, и я однажды слышала в антракте итальянскую речь. Оказывается, в Риге есть и другие итальянцы, кроме прощелыги Мазарини! И они ходят в театр, представляете? Я хотела спросить их о Мазарини, но в последнюю минуту поняла — соврут, чёрт побери, и ещё раз побери!
— Значит, завтра утром я буду иметь честь навестить вас, — быстро сказал Лабрюйер. — Всего доброго, госпожа Крамер, приятно было познакомиться! Примерно в это же время, в вашем номере!
И он выскочил в коридор.
Дама вывалила на него столько разных сведений, что в них не мешало бы разобраться без суеты.
Поиск итальянцев в театре показался Лабрюйеру странным и подозрительным занятием. Ведь Минни и Вилли исправно бегают на все оперные спектакли, они бы заметили столь необходимых им итальянцев, однако этого не произошло. Возможно, госпоже Крамер просто повезло... или же госпожа попросту врёт, но с какой целью?..
Нужно было посоветоваться — с кем?.. С Енисеевым? Лучше бы с Росомахой. Но формально наблюдательный отряд возглавлял Хорь. Впервые Лабрюйер подумал, что это просто замечательно. Нужно изложить все подробности странной встречи Хорю — а он пускай совещается с Горностаем.
Хорь, выслушав донесение, поступил именно так, как должен был бы поступить мужчина, влюблённый в хорошенькую девушку: он первым делом телефонировал Минни и Вилли, вызвав их на свидание. Одна без другой не пришла бы, и Хорь сказал:
— Слушай, Леопард, будь другом. Поведи куда-нибудь эту Минни, в лабораторию, что ли, всю нашу кухню ей покажи...
— А ты, не снимая юбки и парика, начнёшь обхаживать Вилли? — прямо спросил Лабрюйер. — А потом ты, в своём природном виде, объяснишь Вилли, что был фотографессой-эмансипэ, на которую рижане ходили смотреть, как на дрессированного бегемота?
Хорь повесил голову. Ситуация и впрямь была самая дурацкая. Лабрюйеру стало жаль парня.
— Да отвлеку я эту Минни, отвлеку. Только что скажет Вилли, когда ты полезешь к ней целоваться?
— Девицы, между прочим, в щёчку целуются!
— Ты ещё успеешь как следует побриться.
— Чёрт!!!
Хорь исчез — со скоростью свиста умчался в лабораторию, куда была проведена вода, греть кастрюльку на спиртовке, взбивать пену помазком, готовить горячий компресс из мокрого полотенца, приводить свои щёки в поцелуйное состояние. Лабрюйер рассмеялся. Водевильное положение, в которое угодил Хорь, было воистину трагикомическим.
Вилли и Минни ворвались в фотографическое заведение вместе с начавшейся метелицей, обе — румяные, со снежинками во взбитых волосах; они с хохотом поочерёдно повернулись к Лабрюйеру спиной, чтобы помог раздеться, и он остолбенел — в воздухе запорхали их шали, взлетели и опустились куда попало шапочки, аромат нежных цветочных духов заполнил пространство салона.
Хорь выбежал к ним — уже без нелепого банта на груди, улыбаясь так, как будто ему принадлежало всё счастье вселенной.
С немалым трудом Лабрюйер усадил молодёжь возле столика с альбомами.
— Вы, барышни, ведь часто ходите слушать оперы? — спросил он.
— Да, конечно!
— Как же вы не обратили внимание на компанию итальянцев, которые бывают в Немецком театре?
— Как? У нас? Итальянцы?
— И в антрактах говорят по-итальянски.
— Не может быть!
Тут Лабрюйер узнал много нового о театральной публике.
Звонкоголосые барышни немного утомили его — ему казалось, что уже звенит в голове, в самой серединке.
— Не сходить ли нам сегодня на Верди? — спросил он.
— Сегодня, Верди? Но сегодня же нет спектакля!
В который уже раз за день Лабрюйер помянул тихий приют на Александровских высотах. Он решил, что утром всё же сходит на встречу, но встреча, скорее всего, будет последней. Нельзя тратить время на безумных бабушек, когда столько дел.
Хорь меж тем сидел чуть ли не в обнимку с девушками и развлекал их историями из московской театральной жизни. Он несколько раз слушал в Большом театре Собинова — самого Собинова! — которого даже в «Ла Скала» петь приглашали. Минни и Вилли восторженно выпытывали подробности, они-то были знакомы с красавцем-тенором только по граммофонным записям.
Потом девушки, уговорившись о походе на «Демона», убежали.
Уж на что Лабрюйер не разбирался в дамских нарядах, а и он понял: придётся срочно добывать приличное платье для Хоря, потому что одно дело — маскарад в фотографическом заведении, а другое — настоящий выход в свет, и он сам прекрасно понимает, что не должен своей внешностью и манерами опозорить спутниц. Они забрались в лабораторию и стали изобретать способ купить дамское платье на глазок, без примерки. Оттуда Хоря вызвал Пича, помогавший брату в салоне. Хоря срочно требовал к телефонной трубке Барсук.
— Да, так, — сказал Хорь. — Ну да. Я так считаю. Другого способа нет. Да, сегодня. Я там был, я знаю местность. Действуй. И Горностаю скажи — я так решил, так и будет.
Завершив короткий разговор, Хорь повернулся к Лабрюйеру.
— Я в ночь выхожу. Когда приду — сам не знаю. Может, утром, может, днём. Сейчас прилягу. Может, удастся поспать...
Хорь посмотрел в окошко, на улице уже почти стемнело, и Лабрюйер понял этот взгляд: темнота способствует сну, это прекрасно.
— Для меня будут распоряжения? — спросил Лабрюйер.
— Да, конечно. Если я в течение суток, считая от сего часа, не дам о себе знать, пошлёшь Пичу... где карандаш?.. Я напишу адрес, это — комната, которую снимает Барсук в Задвинье, мы можем быть там. На самый крайний случай... ну... в общем, пойдёшь в Александроневский храм и закажешь сорокоуст за упокой души воина Дмитрия с дружиною.
— Дмитрий — это ты?
— Я. Телефонируешь в столицу, уйдёшь отсюда, всё оставишь на Круминей, снимешь жильё где-нибудь на окраине и будешь ждать другого наблюдательного отряда.
— Что вы собрались делать?
— Есть подозрение, что наши приятели из Эвиденцбюро ночью заберутся в дирекцию «Мотора», чтобы покопаться в чертежах и документах. Есть подозреваемый, который их впустит. Дыра в заборе даже подготовлена!
— Хорь, эта дыра была там всегда.
— Почём ты знаешь?
— Закон природы, Хорь. Ты завод, фабрику или мастерскую хоть двухсаженной каменной стеной обнеси и роту сторожей приставь — круглосуточно вокруг ходить, а дыра будет. По-моему, она самозарождается разом с забором. И все рабочие будут о ней знать, даже мастера, и никто не проболтается.
— Почему?
— Потому что — кормилица! Они через эту дыру всякое добро из цехов таскают и к знакомым скупщикам несут.
— Значит, в этом деле могут участвовать и рабочие?
— Конечно, могут, — смутно представляя себе, как наблюдательный отряд вышел на след злоумышленников, ответил Лабрюйер. — Рабочего, Хорь, обольстить легко. Они после пятого года ещё не угомонились толком. Всё им свобода, равенство и братство мерещатся.
— Но ведь будут когда-нибудь свобода, равенство и братство? — неуверенно спросил Хорь.
— Разве что на том свете. Вот какое у меня равенство с Минни и Вилли? Какое братство у директора завода со слесарем? И какая, к черту, свобода, когда ты зависишь даже от булочника? Не испечёт он хлеба — и сиди со своей свободой голодный.
— Но вот Робинзон Крузо сумел же всё на острове устроить. И не голодал!
— Он только и мечтал, чтобы обменять свою свободу вместе с устройством на самую жалкую комнатёнку в Лондоне...
Хорь не ответил, а молча пошёл в закуток, где было оборудовано ложе.
Лабрюйер сел с Яном проверять книгу заказов. Для съёмки нужен дневной свет, никто не придёт в фотографическое заведение в потёмках. Разобравшись с книгой, Лабрюйер отправил Яна домой и сел вычерчивать схему своего розыска, отмечая живых пустыми кружочками. А мёртвых — заштрихованными. Мыслительной работе помешала госпожа Круминь, решившая, что сейчас самое время вымыть в салоне полы.
— А у семейства Краузе совесть нечиста! — вдруг объявила она.
— Какого такого Краузе?
— Того самого, что ёлку опрокинул. Сам Краузе, когда были беспорядки, ни в чём не повинных людей погубил, донёс на них.
— Откуда вдруг такие сведения? — удивился Лабрюйер. И оказалось — госпожа Круминь, сильно невзлюбив семейство Краузе из-за опрокинутой ёлки, которую она наряжала с таким старанием, в свободное время совершила обход приятельниц, живших на Романовской и много чего знавших про события пятого и шестого года. Она имела цель — узнать побольше пакостей про Краузе, и цели своей достигла.
И пятый, и шестой год были для рижан тяжким испытанием. Уличные бои, вспыхивавшие возле фабрик и заводов, стрельба из чердачных окон по драгунам и солдатам, аресты, порой совершенно необъяснимые, объявленное наконец генерал-губернатором Соллогубом военное положение, обыски прямо на улицах, нелепые действия военных патрулей, отнимавших револьверы даже у полицейских, — вспоминать всё это Лабрюйеру вовсе не хотелось. Возможно, потому, что как раз тогда он и двух дней подряд не бывал трезвым. А вот госпожа Круминь увлеклась своим докладом.
— Эти Краузе живут на Романовской, в двадцать втором доме, а как раз напротив, в двадцать пятом, эти сумасшедшие студенты и актёры устроили свой комитет — федеральный, что ли, комитет. Туда всех тащили, кто под руку подвернётся, сами судили, сами в них стреляли — господин ведь помнит, что у Гризиньской горки чуть ли не каждый день покойников находили. Лежит — а у него десять дырок в груди! Малому ребёнку понятно — расстреляли, а за что — только Боженька знает. Вот к ним Краузе и пошёл с доносом.
— Откуда вы это знаете, госпожа Круминь? — поражённый уверенностью супруги дворника, спросил Лабрюйер.
— Так всё же знают! У Краузе племянник там просто поселился, в этом проклятом комитете. Это его сестры сын, фамилия другая. Но соседи же всё знают. Студент-медик, куда потом девался — непонятно. Может, его самого расстреляли. Туда ему и дорога! Это через него Краузе донос отправил!
— И на кого же он донёс?
Лабрюйер не хотел копаться в тех давних и кровавых событиях — он просто решил дать госпоже Круминь выговориться.
— На Гутера — Гутеру он был должен. Анна Блауман тогда у них служила, она знает — Гутер за долгом приходил, ругался. Две тысячи рублей!
— Немало!
— Моему муженьку за такие деньги пришлось бы пять лет работать — не есть, не пить, новой рубахи не сшить, тогда бы столько заработал. А у богатых две тысячи — фью! Как дым в трубу! За один вечер потратить могут!
— Но ведь в доносе он этого написать не мог.
— Нет, конечно, в доносе было — что Гутер, и Крюгер, у Крюгера была отличная столярная мастерская, и Хуго Энгельгардт — все в «чёрной сотне» состояли и бунтовщиков полиции выдавали. А как проверишь? Крюгеру Краузе тоже был должен, а с Энгельгардтом иначе вышло — госпожа Краузе его единственная наследница. Они втроём пошли в ресторан «Тиволи» — нашли время ходить по ресторанам! Там их и взяли. Той же ночью судили — и на Гризиньскую горку! А потом эти студенты поняли, что дело плохо, и разбежались кто куда. Кого-то родители с перепуга чуть ли не в Америку отправили, кто их там найдёт! Кто-то, говорят, в Голландии спрятался. Теперь их так просто не найти.
— Гутер, Гутер... — пробормотал Лабрюйер. — Не тот ли, у кого была хорошая лавка возле Верманского парка?
— Тот, тот!
Фамилия Энгельгардт тоже была знакома. Немного помолчав, Лабрюйер вспомнил — ещё будучи агентом, разбирался с делом о воровстве, ходил по квартирам нового дома, в списке свидетелей значился Хуго Энгельгардт, но оказалось, что в нём нет нужды — всё необходимое рассказали соседки с нижнего этажа.
— А Краузе теперь живёт в роскоши. Жена получила хорошие деньги от Энгельгардта, от долгов он избавился — чего же не жить?
— И его племянник — тоже в Америке?
— Нечистый его знает, куда сбежал. Вот такие они, эти Краузе. Все о них знают, а доказать никто не может. С судом связываться — ты же и окажешься во всём виноват. А пусть господин Лабрюйер тоже знает!
— Может, это всего лишь слухи? — предположил Лабрюйер.
— Вы на этого Краузе и на его жёнушку посмотрите! Они дурные люди, и это не слухи. Я-то теперь знаю, кто там сидел, в этом комитете.
— А раньше не знали?
— Так я же с детьми в Майоренхоф уехала! Там потише было. Дачи стояли пустые, кто в такое время туда купаться поедет? Я за гроши комнатушку сняла. Муженёк здесь остался, слава богу, уцелел. А потом — я же не полицейский сыщик, чтобы за убийцами гоняться. Если бы этот Краузе меня не рассердил — я бы никогда не узнала, что он за свинья.
Домыв пол и попросив у Лабрюйера в счёт будущих услуг полтинник, госпожа Круминь ушла.
А Лабрюйер впал в тоску.
Он не думал, что станет так беспокоиться о наблюдательном отряде. И даже лёгкую обиду вдруг обнаружил в душе: все на дело пошли, его с собой не взяли. Но кто-то же должен в случае провала принять новый наблюдательный отряд и передать ему все немногие ниточки, ведущие к загадочной персоне предателя.
Он не пошёл домой ночевать, он устроился в закутке, положил у подушки заряженный револьвер, подтащил к ложу стул, на стуле установил свечу, попытался хотя бы думать об ответном письме, но умные мысли в голову не приходили. Он взялся перечитывать письмо Наташи, поразился тому, как складно у неё всё получается, и понял, что ему такой лёгкости в сочинительстве посланий не дано. И дальше он просто лежал, глядя в потолок и ожидая — не стукнет ли дверь чёрного хода.
Хорь и Росомаха пришли в шесть часов утра. Именно пришли — зимней ночью в Задвинье изловить ормана трудновато. Шесть вёрст по морозцу для Хоря — пустяк, Росомаха тоже был бодр и румян, оба — в том состоянии, когда возбуждение сильнее усталости и не даст так просто заснуть.
Лабрюйер кинулся к двери, чтобы спросить: ну, что, как?
Росомаха вошёл первый и приложил палец к губам. Лабрюйер немного удивился — что бы сие значило. Но, увидев хмурую физиономию Хоря, понял — лучше вопросов не задавать. Хорь молча прошёл в закуток, стянул сапоги, разделся, потом в одном исподнем прошёл в лабораторию.
— Не трогай его, — шепнул Росомаха. — Ему сейчас выпить бы ну хоть шнапса.
— Так он и пошёл за шнапсом.
Лабрюйер знал, что у Хоря там припасён штофчик зелёного стекла — на всякий пожарный случай.
— Не повезло нам, — сказал Росомаха. — Только спугнули эту сволочь. Теперь всё заново придумывать.
— Не всё коту масленица, бывает и великий пост, — ответил Лабрюйер.
— А знаешь что? Давай выпьем чаю, — предложил Росомаха. — Я не замёрз, но что-то такое требуется, а что — и сам не знаю.
Из лаборатории вышел Хорь.
— Я сопляк, вообразивший себя Наполеоном, — сказал он. — Меня в богадельню отправить надо, горшки за стариками выносить.
И опять ушёл в лабораторию.
— Лучше бы отрядом командовал Горностай, — заметил Лабрюйер.
— Лучше, да. По крайней мере, этой ночью. Но даже если бы Горностай — всё равно... Упустили всех, понимаешь? Да ещё нас какой-то дурак заметил, кричать стал. И придётся начинать, как говорится, с нуля. Ты его сейчас не расспрашивай, — Росомаха мотнул головой, указывая на дверь лаборатории. — Он не в себе. Пока шли — чего я только не наслушался. А парень — золото! План операции ведь он составил. И сам же... Да что говорить... И на старуху бывает проруха... Его, Хоря, ведь для больших дел готовят, понимаешь? И он это знает. И вдруг — такая незадача...
Лабрюйер поглядывал на спиртовку. Над ней на треножнике была установлена кастрюлька, в которой воды — на две чайные чашки.
— Режь сало, — сказал он Росомахе, — я хлеб нарежу.
— Как он там? — прислушавшись к тишине, спросил Росомаха. — Плохо ведь ему...
— Да, сам вижу. Ты ешь, ешь...
— А ты, вообще, какого лешего тут сидел?
— Вас ждал. Теперь уже и ложиться нет смысла. Мне с утра в «Северную гостиницу».
— А меня, знаешь, в сон потянуло.
— Ступай в закуток, хоть часа два подремли. А я — домой, переоденусь, побреюсь, усы подправлю.
— С дамой, что ли, рандеву?
— Видел бы ты эту даму!
В «Северную гостиницу» Лабрюйер пришёл раньше времени — в девять часов. Он хотел спокойно позавтракать в ресторане, а заодно расспросить персонал о госпоже Крамер.
— Опоздали, сударь, — сказал знакомый коридорный. — Убралась она!
— Как — убралась?
— Спозаранку её увезли.
— Как — увезли?!
— Господин за ней приехал, сразу — в номер, и сам её чемоданы вынес. В автомобиль — и увёз!
— А она?
— Она за ним тащилась, охала, бормотала. Как будто силком увозил!
— Чёрт побери, и ещё раз побери... Ну-ка, братец, опиши мне того господина.
Коридорный задумался.
— Ну, что, он выше меня, ниже меня?
Лабрюйер знал, что человеку, не имеющему, как полицейский агент, навыка оценивать внешность и выделять в ней особые приметы, требуется помощь.
Терпение в конце концов вознаграждается. И получаса не прошло, как Лабрюйер добился подробного описания загадочного господина. Спросив у метрдотеля карандаш и бумагу, он записал: «На вид лет тридцати пяти. Ростом шести с половиной вершков, узкоплеч и худ, усы чёрные, небольшие, нос прямой, тонкий, брови также чёрные, рот невелик, кожа смуглая, говорит по-немецки не с рижским выговором, можно принять за француза или итальянца, тужурка вроде шофёрской, клетчатая, клетки едва различимы, серые брюки из хорошей материи, сапоги нечищеные, шапка меховая коричневая». Рост он записал, держа в уме, как это обычно делалось, два аршина.
Потом Лабрюйер попросил, чтобы его пустили в номер, который занимала госпожа Крамер.
Монументальная дама, собираясь впопыхах, разбросала и забыла кучу мелочей. Лабрюйер посмотрел на кавардак и велел принести старую газету. Из газеты он свернул не то что фунтик, а целый фунтище, куда покидал свои находки. И с этим приобретением он, перебежав дорогу, вошёл Полицейское управление. Там его отлично помнили и препроводили к Линдеру.
— Доброе утро, — сказал ему Лабрюйер. — Конечно, превеликое тебе мерси за то, что познакомил с очаровательным созданием...
— Ты меня спас, — ответил Линдер. — Садись. После бессонной ночи — ещё и старая ведьма. Я бы не выдержал.
— Мне нужны имена тех родственников, которых она искала.
— Этих людей нет в природе. В Риге — так точно нет.
— А ты всё-таки дай мне её заявление в полицию.
— Зачем тебе?
— Она рано утром уехала со всеми вещами. Увёз её мужчина, который, если верить персоналу гостиницы, имеет над ней какую-то власть. И как бы тебе не пришлось освидетельствовать её тело.
— Почему ты так считаешь?
— Потому что дама завралась. Мне она сказала, будто ищет сбежавшую дочь, а дочь якобы сманил заезжий итальянец. Она даже связно объяснила, почему ищет эту парочку в Риге. И вот её увозит из «Северной гостиницы» человек то ли с французской, то ли с итальянской внешностью. Вот...
Лабрюйер положил перед Линдером листок, тот изучил описание.
— Какая-то нелепая история, — сказал Линдер. — Пока это смахивает на побег бабушки, у которой не всё в порядке с мозгами, от опекунов. Похоже, за ней просто приехал родственник и увёз её домой.
— И такое может быть. Она слишком много врала.
Десять минут спустя Лабрюйер вышел из полицейского управления, унося фунтик с дамскими мелочами и листок с именами и фамилиями несуществующих людей — трёх женщин, одного мужчины.
Енисеев был прав — Лабрюйер умел брать след и идти по следу. Утреннее похищение госпожи Крамер показалось ему подозрительным — отчего похититель не подождал, пока дама спокойно встанет, умоется, оденется? Что за спешка? Так уж он боялся, что сумасшедшая старуха ни свет ни заря натворит опасных глупостей? Пары часов обождать не мог?
Ноги сами несли Лабрюйера по Театральному бульвару и далее — кратчайшим путём в фотографическое заведение. А голова трудилась независимо от ног, голова уже впала в хорошо ей знакомое состояние погони.
Отчего коридорный ни слова не сказал о том, откуда в гостинице взялся щуплый господин в тужурке и меховой шапке? Если бы ворвался с улицы — стал бы гостиничный персонал скрывать этот факт. Не сидел ли этот господин с вечера в «Северной гостинице»? И очень даже просто — дал горничной полтинник, и она закрыла его в пустом номере.
Дальше действия Лабрюйера стали бы подарком для докторов с Александровских высот.
Он свернул в маленький парк возле театра, сгрёб снег со скамейки, уселся и стал выкладывать из газетного пакета свою добычу. Вскоре на скамейке лежали три дырявых чулка, пустая картонная бонбоньерка с розочками на крышке, пустая коробка из-под пастилы, баночка, в которой на дне лежали белые шарики, числом три, — что-то медицинское, несколько скомканных бумажек, ленточка от дамского белья. То есть Лабрюйеру достался сущий мусор, который госпожа Крамер, естественно, не стала брать с собой. Он развернул бумажку и задумался.
Это была страница из блокнота для записи расходов и доходов. Что-то дама намудрила с арифметикой, потому выдернула и выбросила листок. Но можно было понять, что она приобрела ноты и потратила на это пять с половиной рублей.
Подумав, Лабрюйер сгрёб добычу в фунтище и направился к Новой улице, к книжному магазину Дейбнера, где в уголке зала можно было приобрести ноты. Он сам там брал их, особенно старые, но только очень давно. Это был последний из магазинов Дейбнера, оставшийся в Риге, — мудрый хозяин после беспорядков 1905 и 1906 годов перенёс все свои дела в Германию.
В магазине Лабрюйер сказал, что ищет пожилую родственницу-меломанку, у которой большая беда с памятью — выйдя из дому, не знает, как вернуться обратно. Он предположил, что она попытается купить ноты, и вот обходит все места, где это возможно.
Так он выяснил, что госпожа Крамер действительно была в магазине Дейбнера и даже приобрела оперные партитуры — Россини, Беллини, Доницетти.
— Такая почтенная, серьёзная дама... — продавец, юноша в круглых очках, развёл руками. — Кто бы подумал! Такая благовоспитанная...
— Да, она очень увлекается итальянской оперой, — сказал Лабрюйер. — И прекрасно ведёт себя в обществе. Только памяти у неё уже не осталось. Что же, будем искать дальше.
С одной стороны, если госпожа Крамер не врала и её дочь увлекается музыкой, то, может статься, она унаследовала эту страсть от матушки. С другой — была ли эта дочь вообще в природе?
Лабрюйер вернулся в «Северную гостиницу» и убедился в своих подозрениях: похоже, похититель там тайно переночевал, а значит, именно эту цель себе поставил — увезти госпожу Крамер спозаранку. Он решил задать ещё один вопрос метрдотелю — о кельнерах, трудившихся вчера в зале. Это была смутная догадка, совсем смутная, как легчайшая и тающая тень дыхания на зеркале. Но кельнер Карл сказал — человек, сходный по описанию с похитителем, завтракал в ресторане одновременно с Лабрюйером и госпожой Крамер. Только что был не в тужурке, а в обычном сером пиджаке. И имел немалую лысину.
Лабрюйер отдал знакомому коридорному пакет с дырявыми чулками, приказав выбросить, но листок из блокнота фрау Крамер сунул в карман. Затем он поспешил к трамвайной остановке у Немецкого театра — хотел поскорее попасть в своё фотографическое заведение.
Повернувший на Театральный бульвар с Большой Песочной трамвай полз неторопливо, снизу вылетал на рельсы веер песка, и Лабрюйер поневоле рассердился: черепаха, да и только!
Городские улицы жили обычной жизнью — дворники убирали снег и конский навоз; переругивались, случайно задев друг друга, орманы; пролетали автомобили, которых по зимнему времени стало заметно меньше; перебегали дорогу в неположенных местах прохожие. И падал сверху снег — Лабрюйер, стоявший на открытой задней площадке трамвая, даже поймал губами большою пушистую снежинку. Хоть это порадовало душу...
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
В салоне Лабрюйер обнаружил Яна, Пичу и госпожу Круминь. Ян деловито усаживал перед зимним фоном пожилую пару, госпожа Круминь при помощи самодельного клейстера и папиросной бумаги чинила альбом с карточками — кто-то из клиентов надорвал страницы. Пича же возил взад-вперёд фотографический аппарат из орехового дерева, делая вид, будто сейчас найдёт нужный ракурс и примется снимать. Он тоже хотел стать фотографом — кроме тех дней, когда, получив нагоняй за невыученные уроки, собирался на дикий Кавказ, в шайку абрека Зелимхана, любимца всех мальчишек. Пича собирал газетные вырезки, где говорилось о Зелимхане, обменивался ими с однокашниками и явно строил планы побега.
— Меня никто не искал? — спросил Лабрюйер.
— Нет, господин Лабрюйер, — кратко ответил Ян.
— Фрейлен Каролина ушла домой. Сказала, у неё голова болит, — добавила госпожа Круминь. — Никто из господ не заходил.
Она имела в виду наблюдательный отряд.
Хорь появился вечером, когда Ян, Пича и Лабрюйер справились с заказами. Он был в образе фрейлен Каролины, но плоховато с этим образом справлялся.
— Почему вы делаете мою работу? — сварливо спросил Хорь. — Я что, уже не в состоянии?
— Когда у дамы внезапная головная боль, лучше её на время освободить от обязанностей, — недовольный его тоном, отрубил Лабрюйер. Он понимал, что в наблюдательном отряде старшие заботятся о Хоре и по-своему балуют его, но нужно же и меру знать.
Лабрюйер совершенно не желал ссориться с Хорём, а тот, видимо, как раз искал предлога, чтобы выкричать своё дурное настроение.
— Я пойду ужинать во «Франкфурт-на-Майне», — сказал Лабрюйер.
— Приятного аппетита, — буркнул Хорь.
Лабрюйер оделся, перешёл Александровскую, кивнул швейцару и ощутил ладонь на своём плече. Он резко повернулся и увидел Енисеева.
— Я вовремя пришёл. Не придётся за тобой посылать. Устал, как собака, и голоден, как волк, — пожаловался Енисеев.
Они вошли в вестибюль, разделись, их отвели к хорошему столику в зале.
— Мы потерпели фиаско, брат Аякс, — сказал Енисеев. — А ты?
Если бы не это осточертевшее «брат Аякс» — Лабрюйер, возможно, рассказал бы Енисееву про своё приключение с госпожой Крамер. А так — вообще пропало желание что бы то ни было рассказывать.
— Я жду сообщения из Москвы от господина Кошко. И я просил сделать запрос в полицейское управление Выборга. Мне нужно знать всё о девочке, которая там пропала, нужно знать обстоятельства, нужно знать также, далеко ли она жила от воды.
— Какой воды?
— Там вроде должен быть Финский залив, если школьная география не врёт. Есть предположение, что у преступника своя лодка или даже яхта. Все три тела в Риге обнаружены или в реке, или в двух шагах от реки. Если удастся доказать, что выборгскую девочку вывезли на яхте, это — доказательство, что маньяк богат, имеет положение в обществе и ему есть что терять, отсюда и шантаж.
— Так... В Риге есть яхт-клубы?
— Да, разумеется. На Кипенхольме, где поднято одно из тел, даже два — Лифляндский и Императорский Рижский.
— Я не сомневаюсь, что ты из-под земли выкопаешь своего маньяка... — буркнул Енисеев. — Другие версии нужны! А у тебя на нём свет клином сошёлся. Можно подумать, в Риге только одно это и случилось. А в пятом году мало было, что ли, гадостей?
Лабрюйер вспомнил самовольное расследование госпожи Круминь.
— В пятом году были лживые доносы, но настоящие преступники не стали ждать, пока их отправят в Сибирь, сбежали. Вон два года назад в газетах писали — одна парочка в Лондоне вынырнула. Я даже фамилии запомнил — Сваре и Думниекс. Сперва вообразили себя анархистами, потом вздумали ограбить ювелирный магазин, стали пробиваться туда сквозь стенку из соседней квартиры, хозяин услышал, побежал в полицию. За ними пришли полицейские — они стали отстреливаться, пятерых, кажется, уложили. Потом в другой дом успели перебежать и там целое побоище устроили, против них две сотни полицейских послали — не смогли их взять. Оружия у них было — на целую дивизию. В конце концов к дому притащили батарею полевой артиллерии и всерьёз собирались стрелять. Но по особой Божьей милости дом как-то сам загорелся сверху, перекрытия рухнули, тут нашим голубчикам и настал конец.
— Ничего себе... Думаешь, все бунтовщики разбежались? — в голосе Енисеева было великое сомнение. — Я так полагаю, прирождённые анархисты разбрелись по свету, а студенты из хороших семей понемногу стали возвращаться. Давай-ка, брат Аякс, искать злодеев и помимо твоего драгоценного маньяка. Конечно, покарать его, сукина сына, следует, и жестоко, но лучше бы ты сдал всё, что наскрёб по сусекам, своему другу Линдеру и попробовал идти другими путями.
Лабрюйер понял, что вот теперь он от маньяка уже не отступится.
— Я поищу другие пути, — сказал он. — Более того, один путь на примете у меня имеется.
Он имел в виду жалкого воришку Ротмана. Ротман, конечно же, врал — кто из этой публики не врёт? Но Енисеев хочет непременно получить преступника родом из 1905 года — вот пусть и убедится, что искать такого человека — большая морока, нужно всю Ригу и окрестности перетрясти в поисках несправедливо обиженных.
— Это славно, брат Аякс. Ты пока доложить о нём не хочешь? Нет? Ну, это я понимаю — доложишь, когда будет что-то, так сказать, материальное.
— Хорошо.
Лабрюйер был готов даже предъявить Ротмана — пусть Енисеев сам его враньё про племянника слушает.
— Как там Хорь? — спросил Енисеев.
— Злится на всех.
— Это понятно! А на себя?
— Собрался идти на службу в богадельню.
Енисеев рассмеялся.
— Хоть он и испортил дело, а сердиться на него нелепо — каждый из нас мог точно так же испортить, ночью, да на бегу, да в суете... Ничего, начнём сначала. Судьба у нас такая...
Поужинав, Енисеев ушёл, а Лабрюйер вернулся в фотографическое заведение. Там было пусто, куда подевался Хорь — непонятно. Забравшись в лабораторию, Лабрюйер опять достал Наташино письмо и опять задумался: ну, что на такое отвечать?
Единственная умная мысль была — посоветоваться с Ольгой Ливановой. Ольга — молодая дама, счастливая жена и мать, Наташу знает уже очень давно, и как принято говорить с образованными молодыми дамами — тоже знает. Но как это устроить?
Время было позднее, Лабрюйер пошёл домой и на лестнице возле своей двери обнаружил Хоря — в штанах и рубахе, на плечи накинуто дамское широкое пальто. Хорь сидел на ступеньках и курил изумительно вонючую папиросу.
— Ты тоже считаешь, что я разгильдяй и слепая курица? — спросил Хорь.
— Ничего я не считаю. И никто так не считает.
— Горностай! Я же вижу! Он так смотрит! Сразу понятно, что он о тебе думает!
— Он иначе смотреть не умеет.
Лабрюйер отпер дверь, вошёл в прихожую, обернулся.
— Тебе письменное приглашение? Золотыми чернилами и с виньетками? — полюбопытствовал он.
Хорь молча поднялся, погасил папиросу и вошёл в Лабрюйерово жилище.
— Я должен как-то оправдаться. Он должен понять, понимаешь?.. И все должны понять! Если меня сейчас отправят в столицу, я застрелюсь.
— Почему вдруг?
— Потому что когда суд чести — виноватый обязан застрелиться.
— Какой ещё суд чести?
— Офицерский.
Тут Лабрюйер впервые подумал, что весь наблюдательный отряд — офицеры. Жандармское прошлое Енисеева не было для него тайной, а вот что Хорь тоже имеет какое-то звание — раньше и на ум не брело.
— Тебя что, осудили?
— Я сам себя осудил. Я знаю, почему это всё случилось. Вот, полюбуйся!
Хорь неожиданно достал револьвер.
— Ты что, с ума сошёл?! — заорал Лабрюйер. — Покойника мне тут ещё не хватало!
Хорь вытянул руку, словно целясь в Лабрюйера.
— Видишь? — спросил он. — Видишь?! А если бы из-за меня Барсук погиб?!
Рука дрожала.
— Дурака я вижу!
Лабрюйер шарахнулся в сторону, кинулся на Хоря, с хваткой опытного полицейского агента скрутил его и отнял револьвер.
— Институтка! Истеричка! — крикнул он. — Барынька с нервами! Подёргайся мне ещё!
Для надёжности он уложил Хоря на пол лицом вниз и ещё прижал коленом между лопаток. Продержав его так с минуту, Лабрюйер поднялся и ушёл в комнату, оставив открытыми все двери — в том числе и на лестницу.
Хорь встал, постоял и тоже вошёл в комнату.
— Истерик больше не будет, — сказал он. — Я знаю, что я должен делать.
— Вот и замечательно.
— Где мой револьвер?
— Завтра отдам. Он тебе ночью не нужен. Иди спать.
Хорь постоял, помолчал и ушёл.
Лабрюйер запер за ним дверь и крепко задумался. Было уже не до любовной переписки. Он видел — Хорь не выдержал напряжения. Да и куда ему — кажись, двадцать два года мальчишке, выглядит ещё моложе. Целыми днями изволь изображать фрейлен Каролину, как там про клоуна в цирке говорят — весь вечер на манеже... А когда приходится играть роль — с ней малость срастаешься. Придумало же начальство школу для Хоря!..
А тут ещё и Вилли. Хорь не назвал этого имени, но Лабрюйеру такая откровенность и не требовалась.
Понять бы ещё, что именно там произошло...
Горестно вздохнув, Лабрюйер стал раздеваться. Потом лёг, укрылся поплотнее, уставился в потолок, почувствовал неодолимую власть дрёмы, обрадовался — и потихоньку уплыл в сон.
Сколько времени этот сон длился — неизвестно. Когда Лабрюйер усилием воли разбудил себя, за окном был обычный зимний мрак. Но нужно было сесть и вспомнить те слова, что он произносил во сне. Там ему удалось написать письмо Наташе Иртенской! И это было замечательное письмо. Вот только хитро устроенная человеческая память этого письма не удержала.
Но во сне Наташа получила письмо и даже, кажется, какие-то строки прочитала вслух. Он вспомнил прекрасный профиль Орлеанской девственницы, изящный наклон шеи, тёмные кудри на белой коже. Всё это присутствовало во сне. И снова, после всех сомнений, он понял, что никуда ему от этой женщины не деться. И придётся понимать то, что она говорит и пишет, хотя для обычного нормального мужчины это загадка...
Утром Лабрюйер отправился в фотографическое заведение. Хорь уже был там — по видимости спокойный, деловитый, хотя мордочка осунулась — или плохо спал, или вообще не сумел заснуть. А две бессонные ночи подряд никого не красят.
— Из Москвы телефонировали, — сказал Хорь. — Я записал. Нашли мать убитой Марии Урманцевой. Она от горя забилась в какую-то глушь, названия я не разобрал, там единственный подходящий телефон — за десять вёрст от усадьбы, в полицейском участке. Сегодня в четыре часа пополудни она там будет, и ты сможешь с ней поговорить. Зовут её Анна Григорьевна.
— Хорошо, благодарю.
— И ещё — к тебе человек приходил.
— Что за человек?
— Нищий какой-то, прихрамывал. Очень огорчился, что не застал.
— Ничего не велел передать?
— Сказал, он какого-то свидетеля нашёл. Какого, зачем — не объяснил.
— Ротман, что ли? Вот такой, вроде карлика, — Лабрюйер показал ладонью рост Ротмана. — Мордочка — как у мопса.
— Он самый. Что-то ценное? — заинтересовался Хорь.
— Чёрт его знает, может, и ценное. Больше ничего не сказал?
— Гривенник попросил. Я дал.
— Это правильно...
— Ушёл в сторону Матвеевского рынка.
— У него там где-то логово, — вспомнив воровство в кондитерской, сказал Лабрюйер. — Ну-ка, прогуляюсь я, что ли...
Хорь внимательно посмотрел на него.
Когда Хорь не валял дурака, изображая эмансипированную фотографессу, взгляд у него был живой и умный. Взгляд, выдающий чутьё, которое или вырабатывается годами службы, или даётся от рождения.
— Револьвер возьми, Леопард, — сказал Хорь.
— Отчего же не взять...
Хорь явно ощутил что-то тревожное. А Лабрюйер уже, оказывается, стал срастаться с «наблюдательным отрядом» — и последовал совету почти без рассуждений, как и полагается в непростой ситуации.
Поскольку визитной карточки Ротман не оставил, следовало начать с кондитерской, а заодно съесть там что-то, что бы порадовало душу и желудок. Была тайная мысль — вдруг Ольга Ливанова опять приведёт туда своих ребятишек?
Эта женщина ему очень нравилась. Не так, как Наташа, конечно — а платонически. Она, по его мнению, была той идеальной женой и матерью, которую хотел бы видеть хозяйкой в своём доме любой мужчина: красавица, умница, способная на истинную верность и преданность. Но вот только в кондитерской её не оказалось...
Лабрюйер съел кусок вишнёвого штруделя, оценив тонкость раскатанного теста и аромат, выпил чашку кофе со сливками и подождал, пока выйдет пожилая женщина в длинном клеёнчатом фартуке, чтобы убрать посуду и поменять скатерти — скатёрка в приличной кондитерской должна быть безупречной белизны.
Он спросил, не помнит ли фрау малорослого воришку, что стянул у него кусок яблочного пирога с миндалём.
— Как не помнить, — ответила фрау, очень польщённая таким обращением, и перешла на совсем светский тон: — Тот пьянчужка, что обокрал его, тут часто околачивается, и если он был настолько добр, что не сдал пьянчужку в полицию, то это напрасно — таких бездельников следует выгонять из Риги.
Говорить о собеседнике «он» или «она» было изысканной немецкой вежливостью.
— Не знает ли фрау, где бездельник живёт? — поинтересовался Лабрюйер. — Она сделала бы хорошее дело, если бы подсказала, где искать того человека. Она не знает, что он когда-то был уважаемым человеком...
— Может быть, работал на «Фениксе»? — предположила женщина. — Я живу недалеко от «Феникса» и раза два его там встречала.
— Да, у него такая внешность и походка, что их легко запомнить. Я был бы ей признателен, если бы она расспросила соседок, — сказав это, Лабрюйер положил на стол полтинник, деньги для фрау, убирающей грязную посуду, неплохие — день её работы в кондитерской.
— Он очень любезен, — сказала женщина и, взяв деньги, сделала книксен.
Не то чтобы Лабрюйер жалел всех воришек подряд... Некоторых просто на дух не переносил, и немалое их количество могло бы предъявить дырки во рту на месте выбитых его кулаком зубов.
Ротмана он пожалел случайно. Рождественское настроение, воспоминание о давней погоне по льду, жалкий вид обречённого на голодную смерть старичка — всё разом как-то смягчило душу. А вот теперь расхлёбывай — ищи этого Ротмана по трущобам!
Но уже хоть было о чём рассказать Енисееву.
В фотографическое заведение Лабрюйер вернулся вовремя — понабежали клиенты, Хорь рассаживал семейство на помосте, Пича тащил туда чучело козы, Ян вовсю трудился в лаборатории, а своей очереди ждали две молодые пары, и Лабрюйер пошёл развлекать их светской беседой, показывать альбомы с образцами, предлагать различные фоны.
Потом пришёл Енисеев. Лабрюйер даже не сразу узнал его — контрразведчик добавил к своим великолепным усам ещё и подходящую по цвету бороду.
— Это ты, брат Аякс, ещё Росомаху не видел! Он тоже при бороде, — обрадовал Енисеев. — Изображает лицо духовного звания, так молодые дамочки подбегают, благословения просят. Ну-ка, пусть меня сейчас сфотографируют. Хоть на старости лет буду картинки показывать и хвастать, какой был добропорядочный.
— Никаких карточек, — строго сказал Хорь.
— Печально, фрейлен. Это чем запахло?
— Это Пича с чёрного хода обед нам в судках принёс.
— Батюшки-светы, я же забыл пообедать...
Когда Енисеев отворил двери, ведущую в служебные помещения, всё стало ясно — запах действительно был ядрёный. Пича принёс сосиски с тушёной капустой.
— За столом — никаких деловых разговоров, — распорядился Хорь.
— Боишься испортить аппетит? Ну, ладно, ладно! Как начальство велит — так и будет, — не в силах отказаться от вечного своего ехидства, ответил Енисеев.
— Хорь прав. Если начнём толковать о покойниках, точно кусок в горло не полезет, — проворчал Лабрюйер.
В четыре, стоило пробить настенным часам, раздался телефонный звонок. Потребовали господина Гроссмайстера.
— Я слушаю, — ответил Лабрюйер.
— С вами по вашей просьбе будет говорить госпожа Урманцева. Но просьба не затягивать разговор, — строго сказал мужчина, очевидно — кто-то из персонала полицейского участка.
— Разумеется.
Несколько секунд Лабрюйер слушал отдалённый скрежет и перестук. Наконец прозвучало нерешительное:
— Добрый день.
Говорила женщина, причём, видимо, немолодая.
— Добрый день, Анна Григорьевна. Я — Александр Иванович Гроссмайстер.
— Мне сказали, что вы хотите... что вам нужно... простите...
Дыхание незримой женщины стало прерывистым. Лабрюйер понял — заплакала.
— Сударыня, сударыня, может быть, нам лучше поговорить в другое время?
— Нет, нет, сейчас, простите меня... простите, ради бога... моя девочка... Минутку, всего минутку...
Там, за тысячу вёрст от Риги, кто-то принёс женщине стакан с водой, невнятно бубнил — успокаивал как умел. Прошло минуты три по меньшей мере, Лабрюйер терпеливо ждал, не отнимая трубки от уха.
— Простите, Александр Иванович, — наконец сказала женщина. — Я уже могу говорить. Мне сказали — вы полагаете, будто мою Машеньку убил не тот, кого судили?
— Да, я так полагаю. Виноват другой человек. Не тот студент, которого врачи признали невменяемым и пожизненно заперли в больнице на Александровских высотах...
— Где?
— Это — место, где в Риге содержат умалишённых. Там и вменяемый может ума лишиться. Сударыня, я могу задавать вам вопросы?
— Да, конечно, задавайте.
— С девочкой была гувернантка.
— Я же не могла отправить её одну.
— Гувернантка исчезла вместе с девочкой. Мне нашли бумаги по этому делу. Они обе исчезли двадцатого мая, а двадцать пятого девочку нашли. Гувернантка же больше не появлялась.
— Да, я это знаю.
— Действительно — не появлялась? Не пыталась с вами встретиться? Не писала вам?
Женщина ответила не сразу.
— Нет, встретиться не пыталась...
Лабрюйер отметил эту паузу, сделал зарубочку в памяти и продолжал:
— Есть предположение, будто бы преступник действовал в сговоре с гувернанткой, и она вывела девочку из дома...
— Нет, нет! Что вы такое говорите! Этого быть не могло!
— Почему же не могло? Гувернантка — особа небогатая, ей могли хорошо заплатить.
— Нет, она бы не сделала этого! Совершенно невозможно!
— Почему, сударыня?
— Потому что она... она сестра моей Машеньки...
— Как такое возможно? — Лабрюйер был в полнейшем изумлении.
— Возможно. Я вышла замуж совсем молодой, мой покойный супруг был старше меня на пятнадцать лет. Вы знаете, многие мужчины до свадьбы ведут совершенно ужасный образ жизни. Не все так порядочны, как покойный Викентий Иванович. Он через год после свадьбы рассказал мне про свою внебрачную дочь. Он был в связи с гувернанткой своей младшей сестры, немочкой из Ревеля. Жениться на ней он не мог, но содействовал её браку с очень приличным человеком, также немцем, жившим в Саратове. То есть эта женщина поселилась там, где о ней никто ничего не знал. Муж помогал деньгами, оплатил образование своей дочери. А потом там, в Саратове, случилось поветрие, вся семья погибла, кроме Амелии, она осталась совсем одна. Он узнал об этом, сказал мне, я видела — он переживает. Я тогда сказала: нашей Машеньке нужна гувернантка, давай возьмём девушку в дом, потом найдётся жених, это будет по-христиански. Она образованная, знает немецкий и французский, хорошо воспитана, её учили музыке, тут она будет под присмотром... и, в общем... вот так мы решили...
— Эта Амелия знала, что Маша — её сестра?
— Да, знала. Потому и говорю — она не могла предать, не могла продать!.. — выкрикнула госпожа Урманцева. — Она так привязалась к Машеньке! Не смейте думать о ней плохо!
— Что, если и она погибла? — осторожно спросил Лабрюйер.
— Это вполне может быть, — подумав, ответила госпожа Урманцева.
— То есть, если бы она осталась жива, она бы непременно приехала к вам?
— Да, да, приехала бы. Куда же ей ещё ехать?
— Действительно... Госпожа Урманцева, вы сообщили очень важные сведения. Поверьте, я сделаю всё возможное...
— Да, да, я вам верю! Может быть, нужны деньги? Я имею средства! Я хотела бы употребить их на поиск убийцы!
— Анна Григорьевна, если потребуется — вам телефонируют. Не беспокойтесь, я понимаю ваше желание и при необходимости прямо обращусь к вам.
— Да хранит вас Господь! Я буду молиться за вас!
— С Божьей помощью мы в этом деле разберёмся, — серьёзно ответил Лабрюйер.
Тем разговор, в сущности, и кончился.
— Ну, что, Леопард? — спросил Енисеев, слушавший через отводную трубку.
— Врёт. Гувернантка ей писала. И хотел бы я знать, что именно. Послушай, мне нужны сведения об этой Анне Григорьевне. Я понимаю, что после смерти дочери можно запереться в усадьбе бог весть на сколько лет. Но вдруг она куда-то выезжала, вдруг нанимала частного агента. Её прошлое, словом, всё, что удастся собрать.
— Ну, какое может быть прошлое у провинциальной дворяночки? Хорошо, я дам задание... — Енисеев пристально посмотрел на Лабрюйера. — Ты что-то учуял?
— Когда мне врут, я думаю: от меня хотят скрыть именно то, что мне было бы необходимо. Если госпожа Урманцева в переписке с гувернанткой, то, может быть, гувернантка и могла бы указать на убийцу. То, что дама сей факт скрывает, очень подозрительно. И заставляет усомниться в высоких моральных качествах сей дамы.
— А не собираешься ли ты зря потрать казённые деньги? — спросил Енисеев. — Кучу времени изведёшь, а это окажется всего лишь старый развратник, не имеющий никакого отношения к военным заказам.
— Я это допускаю, — подумав, признался Лабрюйер. — Но я уже стал искать злодеев девятьсот пятого года. Есть у меня один человечек, который мог бы дать любопытные сведения.
— Это хорошо. Двигайся в этом направлении. А я, так и быть, затребую досье на госпожу Урманцеву, раз тебе этого хочется.
— Больше всего на свете мне хочется уехать куда-нибудь в Марсель, — признался Лабрюйер, — и сидеть там на набережной, греться на солнышке и вообще ни о чём не думать.
— Мне тоже.
Но вместо марсельской набережной Лабрюйер отправился на Конюшенную улицу, и не тёплое французское солнышко, а холодная прибалтийская метель ожидала его в этом путешествии.
Панкратов впустил его не сразу — сперва сквозь дверь задал вопросы о их совместном боевом прошлом. Потом, отворив, извинился — голос-то подделать несложно.
— Ты правильно поступил, — сказал ему Лабрюйер. — Ну, какие новости?
— Вроде никаких.
— Может, поживёшь пока у родни?
Покидать свой дом Панкратов отказался наотрез, и Лабрюйер ушёл.
Наутро Лабрюйер отправился завтракать в кондитерскую. Он заранее приготовил полтину для своей осведомительницы. И она действительно заслужила эту полтину.
Ротман проживал вместе с двумя такими же обездоленными на Соколиной улице, в подвале. От завода «Феникс» дом отделяла железная дорога, и фрау из кондитерской дала точные приметы. Поселиться там им удалось по простой причине: раньше дом стоял довольно далеко от кладбища, но оно росло, росло и чуть ли не вплотную к забору приблизилось. А кому охота любоваться в окошко на ряды крестов? Поэтому жильё в доме было дешёвое, а в подвал хозяин пустил вообще бесплатно — чтобы там жили, по крайней мере, люди, ему известные и безобидные, а не обнаружилось в один прекрасный день пристанище головорезов.
Выходя из дома, Лабрюйер подумал, а надо ли брать с собой револьвер. Ходить с оружием в кондитерскую — как будто странно. Однако он помнил, как Хорь, когда речь зашла о Ротмане, сказал ему:
— Револьвер возьми, Леопард.
Лабрюйер и сам сталкивался с необъяснимыми случаями интуиции. Так что оружие он зарядил и взял. До нужного ему дома было около двух вёрст, и он решил взять ормана. Шансов встретить Ротмана в подвале было маловато, но Лабрюйер заготовил записку: «Ротман, загляни к тому человеку, который тебя на Рождество колбасой угощал».
Дом был двухэтажный, деревянный, входов два — с улицы и с торца, а вход в подвал — со двора, хотя трудно назвать ничем не огороженное пространство двором. Забор, видимо, когда-то был, но его снесли, и не осталось преграды между домом и кладбищем. Щелястая, наклонно устроенная дверь подвала имела петли для замка, но самого замка не имела.
В подвале было пусто — одни кучи тряпья да старые перины, несколько ящиков, заменявших мебель, и, возможно, крысы. Ради такого имущества не стоило запирать дверь. Однако там было куда теплее, чем на улице.
Лабрюйер несколько раз позвал Ротмана — тот не отозвался. Тогда Лабрюйер выбрался по крутой лестнице с почти прогнившими ступеньками и решил посмотреть, что делается в окрестностях. Его заинтересовало кладбище.
В такое время года, в метелицу, да ещё с утра, мало кто ходит навестить дорогих покойников, все могилы — в снегу, разве что явятся землекопы — расчистят площадку и выроют яму гробового размера. Но для чего бы гробокопателям шастать к заснеженным могилам, от которых до двери в подвал — два не два, а шагов всего лишь с три десятка? Ямы глубиной чуть ли не в аршин, запорошенные снегом, могли быть только человечьими следами. И никак не оставленными жителем подвала — они до двери не доходили.
Кто-то со стороны кладбища приблизился к подвалу и ушёл обратно.
Хорь не мог знать, что Лабрюйер увидит эти следы, но опасность учуял.
Кто-то день или два назад подходил к дому, но зачем?
Лабрюйер внимательно рассмотрел ту стенку дома, что смотрела на кладбище. Окна были расположены в ряд, но одно выбивалось из общего строя. Оно и размером было меньше прочих. Лабрюйер понял, что это лестничное окно между этажами. Недолго думая, он обежал дом и рванул на себя входную дверь.
Лестница оказалась крутой и грязной. Лабрюйер поднялся к окну. Перед ним был кладбищенский пейзаж, бело-серый, с чёрными силуэтами деревьев и крестами. Пейзаж наводил на возвышенные мысли: а хорошо бы застрелиться и упокоиться в этой белизне, в этом несокрушимом молчании. Но Лабрюйеру было не до того — он вышел на охоту.
Следы, насколько он видел, шли со стороны улицы Мирной. Складывалось впечатление, что неизвестный противник что-то на кладбище искал. Он не просто обходил белые холмики, из которых торчали кресты, деревянные и каменные, он двигался по дуге. Лабрюйер подумал, что неплохо бы забраться на крышу, чтобы сверху лучше разглядеть следы и понять тактику противника. Он хотел убедиться, что в центре окружности, которую протоптал противник, именно дом, где поселился Ротман, а возможно, и дверь подвала.
Нужно было предупредить Ротмана и спрятать старика от греха подальше хотя бы в какой-нибудь богадельне. Но пойдёт ли он в богадельню, где наверняка строгие правила и куча всяких запретов?
Где днём искать Ротмана, Лабрюйер не знал. Он присел на подоконнике и задумался, глядя на пейзаж. Тишина и белизна завораживали его — как недавно на берегу залива. А кресты — ну, что кресты? Дело житейское...
Время текло, душа сливалась с пейзажем. Душе была необходима пустота — выкинув всё лишнее, можно поместить в себя необходимое. А это необходимое — чувство к Наташе Иртенской? Или их странные отношения — обоюдоострая ошибка? Любить нужно женщину, которую понимаешь, а Лабрюйер Наташу не понимал. Даже если бы она ему написала, как ходила к «Мюру и Мерилизу» выбирать себе шляпку — это было бы правильнее, женщина и должна думать о шляпках. Но исповедь?.. Этак, чего доброго, ляжешь с ней в постель, а она там вдруг заговорит о том, как в покойного мужа из револьвера стреляла...
Рассудок ёрничал, рассудок шуточками отбивался от души, а душа была в испуге — как же теперь быть с женщиной, которую хотелось бы назвать своей единственной, но боязно, которую хотелось обнимать и целовать — но нужно ли ей это?..
Любовь мужчины куда проще, чем любовь женщины, — это Лабрюйеру и бывшая невеста Юлиана говорила, не желавшая близости прежде венчания. Она же толковала, что женщине все эти постельные шалости на самом деле не очень нужны, во всяком случае — приличной образованной женщине. А Наташа ведь любила мужа, сына ему родила, значит, то, чего не хотела тогда Юлиана, ей хоть немного нравилось? Или терпела во имя любви, как собиралась терпеть Юлиана? Вот и разбирайся!
Лабрюйер опять попытался сочинить хотя бы начало ответного письма. Вдруг он понял, что оно должно быть таким: «Милая Наташенька!..» Женщину, которая рассказывает невесть что, нужно прежде всего успокоить. «Милая Наташенька», а что дальше?
И тут на кладбище появился человек.
Сперва Лабрюйер решил, что это какой-то кладбищенский служитель. Кто другой бы бродил тут с лопатами? Потом он вгляделся и понял свою ошибку. Одна из лопат были широкая фанерная, обитая жестью, — для снега. Но другая — вовсе даже не лопата, а, кажется, грабли. Зачем зимой на кладбище грабли — догадаться несложно. Затевается какая-то гадость, и человек хочет уничтожить следы. Значит, именно этот человек Лабрюйеру и нужен.
Человек подошёл, ступая в собственные следы, совсем близко к дому и разгрёб снег у крайнего надгробия. Уложив лопату и грабли, он закидал их снегом и двинулся назад. И эти его действия тоже не нуждались в пространных объяснениях.
Значит, нужно было понять, кто этот злоумышленник с граблями. Пойти за ним, выяснить, где живёт, запомнить физиономию. Физиономия, кстати, приметная — такие впалые щёки, такое узкое лицо, как будто обтянули череп бледной кожей. Лабрюйер мог спорить на золотой червонец, что под шапкой (такие меховые шапки с ушами носят даже не здешние латыши, а, кажется, финны) у незнакомца — очень редкие и тёмные, почти чёрные волосы. Рост... рост, сдаётся, немалый — девять вершков, насколько это вообще можно определить у человека, который передвигается по колено в снегу.
Он направлялся в сторону улицы Мирной, хотя — кто его разберёт, там было и несколько мелких улочек. Лабрюйер задумался — как устроить засаду. Скорее всего, этот «череп» явится поздно вечером, когда подвальные жители угомонятся. Чем он их собрался порешить — одному Богу ведомо. Вернее, нужен-то ему явно лишь один труп — ротмановский, но будет очень удивительно, если он оставит свидетелей.
Лабрюйер сбежал с лестницы, выскочил из дома, выглянул из-за угла. За сугробами была видна разве что шапка «черепа». И тут он остановился — противник-то был в высоких сапогах, которым снег не страшен, а Лабрюйер — в ботинках. Правда, в тёплых хороших ботинках, но это уличная обувь почтенного бюргера, предназначенная для хождения по тротуарам, а не по сугробам.
Но им уже владел азарт.
Лабрюйер перебежал к дровяному сараю, от сарая — к остаткам забора; обнаружил тропку, что вела к соседнему домишке, протоптанную, видимо, женщинами, бегавшими друг к дружке то за солью, то за угольком — печку растопить. Вдруг обнаружилось, что у кладбища есть забор. То ли часть его, что перед обиталищем Ротмана, разобрали, то ли, наоборот, его начали строить начиная от Мирной. Хочешь не хочешь — а приходилось вторгаться на кладбище.
По колено в снегу Лабрюйер шагал недолго — скоро набрёл на усыпанную хвоей дорожку. Совсем недавно тут кого-то хоронили, и провожающие покойника в последний путь примяли снег. Сколько можно было, он шёл по дорожке, уже почти параллельно с «черепом».
И тут «череп» обернулся.
Человек, чьи намерения чисты, не кинулся бы от случайного прохожего, забредшего на кладбище, наутёк. А этот — побежал. Но побежал причудливо, зигзагами, озираясь, подпрыгивая и словно бы дразня.
Таиться уже не имело смысла — побежал и Лабрюйер, крича:
— Стой! Стой! Полиция!
Его спасло чудо — он на мгновение упустил из вида «черепа», чуть замедлил бег и успел увидеть разверзшуюся прямо под ногами яму. Песчаные холмики по обе её стороны и лежащие на них длинные доски присыпало снегом, на бегу трудно было сообразить, что там — свежевыкопанная могила, ждущая своего покойника.
Лабрюйер бросился боком в сугроб и тем спасся.
Лежа, он выдернул из-за пазухи револьвер.
Человека, который пытался заманить его в могилу, откуда сам не выберешься, а потом, возможно, обрушить на него несколько пудов песка, следовало задержать, причём любыми способами.
Лабрюйер приподнялся на левом локте и выделил беглеца. Тот, видно, сообразил, что ловушка не сработала, и утекал во весь дух. Лабрюйер понимал, что нужно бить по ногам, понимал также, что особой надежды попасть нет, и всё же выстрелил.
Как раз в этот миг беглец поскользнулся, упал на одно колено, и пуля сбила с него шапку.
Оказалось, он тоже был вооружён. Но опыта стрельбы явно не имел — или же стрелял из чужого полусломанного револьвера: пуля ушла аршина на полтора правее цели. Второй выстрел был немного удачнее.
Лабрюйер перекатился но снегу, выстрелил ещё раз, и тут раздались крики. Наконец появилась похоронная процессия!
«Череп» кинулся в одну сторону, Лабрюйер — в другую.
Теперь нужно было позаботиться о спасении Ротмана.
Лабрюйер вернулся к дому, но подходить не стал — заметил за грязными стёклами окон второго этажа людей. Кажется, это были женщины, и они таращились из темноты довольно долго — ещё бы, не каждый день на кладбище стрельба! Так что пришлось чуть не полчаса торчать за углом сарая, а ноги уже основательно замёрзли.
Когда жители дома, не дождавшись продолжения, занялись своими делами, Лабрюйер откопал руками лопату и грабли, перепрятал их — зарыл у стены сарая, потом произвёл раскопки в карманах пальто и нашёл огрызок карандаша. В записке, адресованной Ротману, он приписал: «Здесь больше не ночуй, за тобой охотятся, приходи немедленно». Теперь оставалось придумать, куда бы сунуть эту записку, чтобы она уж наверняка попала в руки старому воришке. Подумав, Лабрюйер прикрепил бумажку к двери погреба, там, где ржавые петли. Человек, пожелавший отворить эту дверь, просто обязан заметить записку. Потом Лабрюйер как бы пошёл прочь, к Александровской, но сделал круг и вернулся с другой стороны. Он ещё постоял за сарайным углом, но «череп» не появился. Похоже, он не на шутку испугался. И тогда только Лабрюйер собрался уходить.
Он почистил пальто, отряхнул от снега шапку и вдруг вспомнил — финская шапка «черепа» должна валяться на кладбище, а это — улика! Надо поискать её, а если треклятый «череп» тоже за ней придёт — тем лучше!
Похороны ещё не завершились, и Лабрюйер мог спокойно подойти к людям, с пасмурным видом окружавшим могилу. Он прикинул, куда могла улететь шапка, постоял немного с самой траурной физиономией, убедился, что «черепа» поблизости нет, и, когда все стали разбредаться, подобрал улику. Пристроившись к участникам похорон, вместе с ними он покинул кладбище. Теперь следовало во весь дух нестись домой — чтобы не прицепилась простуда.
Очень бы удивилась родня покойника, увидев, что солидный господин, пришедший отдать ему последний долг, идёт по Александровской и смеётся. А это Лабрюйера насмешила вполне разумная мысль: ну, сейчас будет что доложить Енисееву, взят ещё один след, и пусть чёртов Горностай наконец угомонится!
Самому Лабрюйеру больше хотелось изловить маньяка.
Маньяк — это человек не в своём уме, так привык думать Лабрюйер. Сумасшедшие часто бывают изумительно хитры, и вот маньяк, на совести которого немало погубленных душ, ходит на службу, пользуется уважением товарищей и начальства, может статься, женат и обожает супругу. Он вполне может оказаться видной персоной на «Фениксе», «Моторе», «Руссо-Балте», «Унионе».
В пользу версии о маньяке говорят два убийства. Хорошо, что хоть одно тело удалось найти, а бедный Леман явится на свет ближе к весне. Это вечное горе — как весна, так из сугробов вылезают покойники, и хорошо ещё, если их удаётся опознать.
А что говорит в пользу версии о свидетеле, которого где-то отыскал Ротман?
Этим свидетелем может оказаться такой же убогий, каков он сам. Да и вопрос: свидетеля чего он обнаружил? Может, и вовсе — случайно отыскал человека, способного подтвердить алиби его несчастного племянника? Но что тогда означает попытка убрать Ротмана? Он рисковал напасть на след? Он уже напал на след? И если «череп» — злодей, отправивший Фрица Ротмана на каторгу, а сам ставший почтенным и богатым горожанином, то почему он лично гоняется за бедным воришкой, а не заплатит деньги человеку, способному избавить от Ротмана без особых затруднений? Не может же быть, что «череп» и есть тот, кого наняли! Как-то больно нелепо он себя ведёт для наёмного убийцы.
Вся эта куча вопросов одолевала Лабрюйера по дороге домой.
Вскипятив на спиртовке воду, он приготовил себе кофе, к кофе — малую стопочку коньяка, для сугреву, и вдруг понял, что неплохо бы заодно и поесть. В мешочке за окном была копчёная треска, в другом мешочке — хлеб, в маслёнке на подоконнике — масло, что ещё нужно одинокому мужчине средних лет для полного счастья?
Усмехнувшись этой мысли, он тут же всё испортил — слово «счастье» потянуло за собой имя «Наташа». Надо же ответить на письмо!
Злясь на себя и на весь белый свет, Лабрюйер достал бумагу и чернильницу, посмотрел, какое пёрышко вставлено в ручку, понял, что таким погнутым даме писать нельзя — оно даже самый лучший почерк, с правильными нажимами и волосяными линиями, погубит. Он нашёл коробочку с новыми перьями, уселся за столом, придумал отличную первую фразу: «Наташенька, я был счастлив получить твоё письмо». Без всяких унылых обращений — ещё только не хватало начать со слов «Милостивая государыня!».
И тут оказалось, что чернила в чернильнице высохли.
Лабрюйер сделал бутерброды, поел, насладился горячим кофе и хорошим коньяком. Потом он оделся и вышел из дома.
На Гертрудинской была мастерская скорняка Шнеерзона. Старый Абрам Шнеерзон знал о меховых шапках решительно все — Лабрюйер подозревал, что на вопрос, в какой шапке Моисей водил евреев по пустыне, скорняк тут же ответит, изобразив на бумаге каракулевый «пирожок».
— У нас таких не делают, — сказал Шнеерзон, изучив улику. — Хорошая, дорогая вещь. Хотите такую же?
— Нет, я хочу понять, откуда она взялась.
— Неужели на улице нашли?
— На кладбище, — честно ответил Лабрюйер.
— Оставьте мне её, я посмотрю. Очень, очень хорошая шапка для холодной погоды! Господин Гроссмайстер, вы вернулись в полицию?
— Считайте, что вернулся, — ответил Лабрюйер, не объяснять же старику про наблюдательный отряд.
— Это хорошо, это очень хорошо. Работа в полиции вам подходит.
Лабрюйер усмехнулся — Шнеерзон помнил его молодым и бойким агентом, который как-то чуть не двое суток просидел в мастерской у витрины, наблюдая на дверьми пятиэтажного дома напротив. Тогда скорняк, заинтересовавшись, подкармливал его, приносил домашние пирожки и чай.
Внук Шнеерзона сбегал за орманом, и Лабрюйер поехал на Конюшенную к Панкратову.
Тот, как оказалось, переселился из своей квартирки в комнату, оставленную изобретателем. Там окно было расположено удачнее — чтобы обозревать всю улицу.
— И самовар мой тут, могу хорошим чаем напоить, — похвастался Панкратов.
— Что, нет охотников эту комнатушку снять?
— Она мне пока что самому нужна.
— Ставь самовар, Кузьмич, а я пока свои похождения расскажу. Помнишь Ротмана?
— Как не помнить! Неужто помер?
— Хуже того — жив, но такой жизни врагу не пожелаешь.
Узнав, в каком состоянии Лабрюйер обнаружил старика, Панкратов даже затосковал.
— Надо ж! Есть Бог на небесах — по делам вору и мука, а всё ж жалко дурака. Погодите, Александр Иваныч, я на стол, как полагается, накрою, у меня тут столько всякой дребедени...
— «Рижский вестник» читаешь?
— Да почитываю, слежу за делом Раутенфельда, любопытно — точно ли спятил или прикидывается... — Панкратов сгрёб со стола стопку газет и с удивлением уставился на то, что обнаружилось под ними.
— Надо ж, а я и вовсе забыл. Чудак-то мой за чертежом не вернулся, — сказал Кузьмич. — Трудился над ним, трудился — и даже не вспомнил. А ведь картина, художество!
Чертёж странного аппарата, то ли аэроплана, то ли лодки, был выполнен отменно.
— Странно, что не пришёл.
— Вот и я о том же.
— Дай-ка ты мне этот шедевр, — вдруг попросил Лабрюйер. — Покажу его кое-кому.
Потом он и сам не мог понять, какого беса вздумал, будто Енисееву, успешно притворявшемуся чертёжником, будет интересен невозможный летательный аппарат.
— Да забирайте, мне эта механика ни к чему. Дайте-ка я в газетку заверну.
За чаем они потолковали о двух убийствах в Агенсберге.
— О том, что я ищу Груньку-проныру, точно знала Нюшка-селёдка, — сказал Лабрюйер. — Но вот что любопытно — если Нюшка-селёдка знала, кому рассказать о моём розыске, то отчего же она служит судомойкой? Отчего не выпросит у того человека хоть немного денег, чтобы жить получше?
— Так, может, потому и жива, что денег не просит.
— А предупредила ради христианской любви к ближнему?
— За такое грех не попросить.
— Надо бы эту Нюшку-селёдку допросить, да построже.
— Она всякие виды видывала, не проболтается.
— А сколько ей, как ты думаешь, лет?
— За сорок, поди.
— В такие годы бабы ещё любовников заводят...
— Вот про это нужно Андрея спрашивать. Он запросто узнает. Да кому она нужна, беззубая?
— Коту, может?
«Котами» звали молодых парней, бывших на содержании у пожилых проституток. Нюшка-селёдка вполне могла тратить заработанные деньги на небрезгливого парнишку из Московского форштадта.
— Боязно тебя туда посылать, Кузьмич. Я поговорю в управлении. Может, порекомендуют подходящего агента.
— А я сам порекомендую. Сенька Мякишев, он за два дома от меня поселился. Парнишка из провинции, страх как хочет служить в полиции. Он бы за небольшие деньги походил, поузнавал.
— Хм... Договаривайся!
ГЛАВА ПЯТАЯ
Енисеев пришёл очень поздно. На сей раз он был без бороды, а одет — как скромный служащий большой конторы.
— Я ненадолго, — сказал он. — Где Хорь?
— Хорь сопливый. Я его домой прогнал — пусть лечится. Ему госпожа Круминь травок надавала, объяснила, как заваривать. Так что мы вместе с Яном делали карточки. Заказов много, вот только что управились, и я его отпустил, — ответил Лабрюйер. — И сам собираюсь домой.
— А с чего это Хорь простудился?
— Не знаю. Я днём ходил по делам. Пришёл — а он тут носом хлюпает. В таком виде, сам понимаешь, его к клиентам выпускать нельзя. Ну вот, докладываю. Есть вторая версия, но пока что выглядит очень странно. Я надеялся, что сегодня придёт один человечек, но вот его всё нет и нет. А он отыскал свидетеля давнего злодеяния и очень хотел о нём рассказать.
— Злодеяния, оставшегося безнаказанным?
— Ну да, в пятом и шестом году много такого понатворили, что до сих пор всякие гадости вылезают. Ты ведь знаешь, что наша госпожа Круминь обнаружила?
Узнав про тайный розыск супруги дворника, Енисеев помрачнел.
— И ведь таких доносчиков сотни, если не тысячи, — сказал он. — И все про них знают, знают — и молчат. Тебе и мне — не расскажут, мы тут чужие, а вот пойдёт по дворам госпожа Круминь в клетчатом платочке — и такого наслушается!
— Вот уж не сомневаюсь! Не послать ли её на поиски итальянца?
Лабрюйер хотел было рассказать Енисееву о своих беседах с госпожой Крамер, но воздержался. Стало неловко — столько времени потратил на бабушку, у которой не все дома.
— Заплати деньги полицейским агентам, пусть пробегутся по гостиницам, — сказал Енисеев. — Ты прав — вряд ли сюда пришлют настоящего итальянского лаццарони. Но... но проверить нужно всё! Может, кто-то в гостинице слышал итальянскую речь.
— Это можно. Только я уверен — получится трата казённых денег, и ничего более.
— Да, брат Аякс, девяносто девять шансов из ста — что ничего более. Но если там будет хотя бы тень следа, хотя бы намёк на след — ты это почуешь.
— Почую... — буркнул Лабрюйер. — Если не свалюсь сопливый, так что нос откажется служить.
— С чего бы это?
— Сегодня промочил ноги вот по сих, — Лабрюйер показал на пах. Это было почти правдой — кальсоны оказались мокры выше колена.
— В канал провалился?!
— Нет, по кладбищу бегал. Твоё, между прочим, задание выполнял — проверял вторую версию.
Услышав о кладбищенском похождении, Енисеев даже обрадовался.
— Надо же, стрельба на могилках! Сколько служу, а такого со мной не бывало, тут ты, брат Аякс, меня обскакал. Но знаешь что? Давай-ка сейчас туда съездим. Убедимся, что твой Ротман жив, и заберём его ну хоть сюда.
Они беседовали, сидя в тёмном салоне. Лабрюйер подумал — и согласился.
— Я только револьвер подзаряжу, — сказал он. — И возьму с собой ещё патронов. Чёрт его знает, кто ещё вертится вокруг того подвала.
— Нож и верёвку, — напомнил Енисеев. — Мало ли кого придётся брать живым. Сдаётся мне, что твой «череп» в этом деле — всего лишь неудачно выбранный исполнитель. Пойду-ка я, телефонирую Мюллеру...
— Он выздоровел?
— Не настолько, чтобы вести себя разумно. Но для нас — вполне здоров.
Летом Вильгельм Мюллер немало выручал Лабрюйера и Енисеева со своим «Руссо-Балтом». Это был один из тех чудаков, без которых жизнь скучна и чересчур правильна. Мюллер лет до тридцати служил бухгалтером на велосипедном заводе Лейтнера, потом перешёл на «Руссо-Балт» — и от близости такого количества прекрасных автомобилей малость повредился рассудком. Он вместо исполнения прямых обязанностей целыми днями пропадал в цехах. Начальство дулось, но до поры терпело. Потом он продал всё, что мог, и приобрёл свой собственный автомобиль. К тому времени Мюллер уже был неплохим шофёром, а вскоре стал истинным мастером. Как-то его попросили помочь инспекторам сыскной полиции, он принял участие в бешеной погоне, и после того его жизнь изменилась, как он полагал — в лучшую сторону. Он оставил бухгалтерское ремесло, формально уволился с завода, стал зарабатывать на жизнь частным извозом, исполнял поручения сыскной полиции, а заводское начальство призывало его и ещё несколько автомобильных фанатиков, когда нужно было обкатывать новые модели и искать в них недостатки и недоработки.
Он всегда охотно откликался и придумывал для обкатки неимоверные маршруты. Именно поэтому он в октябре сверзился вместе с автомобилем с крутого холма и сломал ногу.
— Как он поведёт автомобиль с больной ногой?
— Уж как-нибудь справится. Барсук к нему заходил, говорит — он уже очень бодро ковыляет.
Направившись к телефонному аппарату, висевшему на стене возле двери лаборатории, Енисеев вдруг остановился.
— Там кто-то есть... — прошептал он и мгновенно достал из-за пазухи револьвер.
Лабрюйер знал, что слух у «брата Аякса» идеальный. В том, что он услышал дыхание, ничего удивительного не было.
Рукой удержав Лабрюйера, Енисеев бесшумно двинулся вперёд, держа револьвер наготове. У двери лаборатории он замер. И даже дыхание затаил. А потом ударил по двери ногой, сам же отскочил в сторону.
Но стрельба не началась — тот, кто сидел в лаборатории, завозился, словно бы барахтался, и несколько секунд спустя жалобно завопил:
— Я ничего не трогал!
— Пича, ты, что ли? — спросил ошарашенный Енисеев. — Что ты там делаешь? Леонард, включи лампочку.
Оказалось, Пича устроил в лаборатории целое логово из толстых портьер, которые использовались для драпировок при создании аристократического фона.
— Ты зачем сюда залез? — напустился на него Лабрюйер.
— Она меня высечь хочет, — ответил Пича.
— Матушка?
— Да! Она говорит — я для каких-то пакостей утюг утащил! А я утюга не трогал, честное слово! Зачем мне её утюг? Что я им гладить буду?!
— Штаны бы не мешало, — заметил Енисеев. — А теперь расскажи-ка про эту беду с самого начала.
— У неё утюг пропал. Всюду смотрела — нет утюга, а ей бельё гладить... А утюг хороший, новый! А она говорит — я утащил, а мне-то он зачем?
— Новый утюг продать можно, — ответил Лабрюйер.
— Да не брал я его! Если бы я что-то и стянул, так не утюг, а серебряные ложки! Они у неё в комоде под бельём спрятаны... ой!..
— Спасибо, что навёл. Мы сейчас всё бросим и пойдём воровать у госпожи Круминь серебряные ложки, — очень серьёзно сказал Енисеев. — Ладно, бог с тобой, спи. Придётся мне опять сыграть роль рождественского ангела для вашего семейства.
— Ты что, хочешь купить утюг? — удивился Лабрюйер.
— Почему бы нет? Всё в жизни нужно испытать — а утюгов я ещё ни разу не покупал и даже не знаю, как это делается. А подбросить утюг попросим Яна.
Сказать, что Мюллер обрадовался, — значит назвать величественную Ниагару водопадом на курляндской речке Вента. Он обещал через полчаса ждать на углу Гертрудинской и Дерптской. Приехал бы и раньше, но автомобиль стоял в гараже за два квартала от дома, пока добредёшь, и нужно было ещё заполнить бак бензином.
В фотографическое заведение можно было попасть несколькими способами. Во-первых, через парадный вход, с Александровской. Во-вторых, задворками, с Гертрудинской. В-третьих, Пича обнаружил ещё одну возможность: зимой штурмовать забор во внутреннем дворе со скопившегося возле него плотного сугроба. Это означало, что на Гертрудинскую есть целых два выхода. Был и четвёртый — в том же внутреннем дворе имелся вход в подвал, вечно запертый, но если наконец подобрать ключ, то можно было, по расчётам Барсука, выйти в большой двор и попасть на Колодезную. Теоретически имелся и пятый — просто обязан был найтись! Через него, когда найдётся, удалось бы выбраться на Романовскую.
Забеспокоившись, что Енисеев по своему природному авантюризму непременно захочет лезть через забор, Лабрюйер додумался до спасительной уловки.
— Я взял у Кузьмича прелюбопытный чертёж, — сказал он. — Вот, полюбуйся.
— Это что ещё за перпетуум мобиле?
— Сам не знаю, но до чего красиво исполнено! Покажи умным людям, может, в этом художестве есть какой-то смысл.
— Смысл в помеси аэроплана и корабля? Как это к Панкратову попало?
Лабрюйер рассказал про гениального Собаньского.
— Странно, что он за своим творением не вернулся, — завершил Лабрюйер.
— Пожалуй, да. Я покажу это кое-кому. Ты не поверишь, но мы, чертёжники, составляем тайное братство и когда-нибудь будем править миром! Попав в это братство, я уже могу искать работу на «Моторе», и там найдётся кому замолвить за меня словечко. А «Мотор» — такое место, вокруг которого вертится всякая шантрапа... Помнишь Калепа?
— Ещё бы!
С директором «Мотора» Теодором Калепом, который в последнее время всё чаще предлагал называть себя Фёдором Фёдоровичем, Енисеев и Лабрюйер познакомились этим летом на Солитюдском ипподроме, часто которого была превращена в аэродром. Вокруг «фармана», который первая российская авиатрисса Лидия Зверева вместе со своим женихом Владимиром Слюсаренко пыталась превратить в самолёт-разведчик, немало суетились любители наворовать чужих плодотворных идей. Дошло до того даже, что Звереву, Слюсаренко и Калепа, чей мотор, ещё не до конца продуманный, стоял на «фармане», пытались подкупить и выкрасть. Лабрюйер очень хорошо помнил, как вместе с Енисеевым верхом, ночью, преследовал улетающий аэроплан. Это он-то, такой наездник, что мальчишки в кадетском корпусе засмеяли бы.
Калеп, построивший первый российский авиамотор, был человеком не просто гениальным, а гениально уловившим дух времени. Что бы ему стоило изобретать сенокосилки и паровые мельницы? А он ещё в 1909 году догадался, что у Российской империи должны быть не только покупные аэропланы, не только причудливые творения самоучек, изготовленные в единственном экземпляре, но своя авиационная промышленность — от собственных моторов до последнего винтика. Он придумал и запатентовал первый в России авиационный ангар, с круглой крышей особенной конструкции и дешёвый, потом построил один из первых российских аэропланов, потом и до мотора дошло. В январе 1912 года пилот Макс Траутман совершил на заводском аэродроме первый в России зимний полет — и на аэроплане конструкции Калепа. Сейчас к нему на «Мотор» приехал авиатор Виктор Дыбовский — личность не менее уникальная и знаменитая. Он служил во флоте, побывал на японской войне, участвовал в Цусимском сражении, угодил в плен, потом вернулся, служил на Балтике, на Черном море, и, видимо, там проснулся у него интерес к авиации. Но авиации особенной...
Вторая Тихоокеанская эскадра, состоявшая из лучших кораблей Балтийского флота, погибла буквально на глазах у Дыбовского. Если бы сразу после Цусимского сражения кому-то из предполагаемых противников пришло в голову послать свои суда на Санкт-Петербург, это кончилось бы очень печально. Оставшиеся в Финском заливе броненосцы не могли бы оказать сопротивления новейшим линкорам и линейным крейсерам, а более современные взять пока было негде — да и не было на них пока денег. Поэтому предполагалось при реальной угрозе вторжения перегородить Финский залив минным полем, северный и южный фланги которого прикрывались бы огнём береговых батарей. Замысел отличный, вот только установить три тысячи мин менее чем за восемь часов было совершенно невозможно. Требовались быстроходные крейсера-разведчики, способные обнаружить неприятеля вёрст за триста-четыреста от рубежа, где следовало ставить мины. Их у Морского министерства тоже не было. Волей-неволей почтенные адмиралы, помнившие ещё, как в 1861 году первую канонерку со стальной броней, именем «Ольга», на воду спускали, задумались о морской авиации. Это была единственная возможность, причём сравнительно недорогая, — следить за манёврами противника из-под облаков.
Окончив Севастопольскую офицерскую авиационную школу, Дыбовский стал летать над морем — сперва сопровождал выход кораблей Черноморской эскадры, потом соединил авиацию с фотографией и первый умудрился заснять сверху и идущий малым ходом транспорт, и силуэт подводной лодки, и даже бурун от её перископа. А в минувшем году лейтенант Дыбовский совершил на «Ньюпоре» знаменитый перелёт по маршруту Севастополь—Харьков—Москва—Санкт-Петербург, а это, слава те Господи, за две тысячи вёрст — 2235, как потом посчитали.
Им, Дыбовскому и Калепу, уже доводилось сотрудничать. Весной 1912 года Дыбовский на Солитюдской аэродроме испытывал авиамотор «калён» и остался очень доволен. Теперь же он приехал, чтобы разместить на «Моторе» особый заказ — на аэроплан «Дельфин», сконструированный для нужд морской авиации.
Что такое аэроплан, умеющий садиться на палубу корабля и взлетать с неё, Елисеев не стал растолковывать Лабрюйеру — это и так было понятно. А Лабрюйер всучил ему упакованный в газетку чертёж, надеясь, что с таким ценным грузом Горностай не станет, как мальчишка, лазить по заборам.
Мюллер немного опоздал, но сидел за рулём очень довольный.
— Значит, к кладбищу, но с какой стороны? — спросил он. — Может, лучше подъехать по Каролининской и Мирной?
— Нет, едем по Дерптской до Ревельской, а дальше по Александровской, — решил Лабрюйер. — Иначе заблудимся, там столько улочек и закоулков...
Соколиная улица и днём-то была пуста, селились на ней простые работяги, главным образом с «Феникса» — им, чтобы попасть в свои цеха, достаточно было перебежать через железную дорогу. Так что местных жителей там можно было увидеть разве что рано утром — когда рабочие шли на завод, малость попозже — когда хозяйки шли за покупками, и вечером — когда мужчины возвращались домой. Ночью же на Соколиной разве что какой-нибудь пьяница слонялся, не в силах опознать собственное жильё.
Четверть часа спустя «Руссо-Балт» Мюллера остановился в полусотне шагов от искомого дома.
— Пошли, — сказал Енисеев. — Показывай дорогу, брат Аякс.
Они обогнули угол дома и остановились недалеко от дверей подвала. Енисеев посветил электрическим фонариком.
— Экая причудливая архитектура, — сказал он. — Ну-ка, держи фонарь.
Скатав снежок, он запустил в подвальное окно, едва видное над землёй.
— Стекло разобьёшь, — заметил Лабрюйер. — Совсем убогие замёрзнут.
— Тряпками заткнут. Дай-ка ещё попытаюсь.
Но и второй снежок не выманил сердитых подвальных жителей наружу.
— Мне это не нравится. Пойду погляжу. Доставай револьвер, Леопард, и свети.
Енисеев и сам вынул револьвер. Подойдя вдоль стены к подвальной двери, он нагнулся и взялся за скобу.
— Где ты, говоришь, оставил записку?
— Вот тут, где ты рукой ухватился.
— Её нет. Стало быть, Ротман её нашёл. Это радует. Но не радует, что убогие молчат...
Енисеев не сразу сообразил, как лучше отворять эту дверь, сбитую из толстых и широких досок. Наконец ему удалось откинуть одну половину.
— Свети! — приказал он и полез в подвал. Спустившись, он позвал Лабрюйера:
— Встань-ка на лестнице, Леопард, и посвети вой в тот угол. Та-а-ак...
В пятне света Лабрюйер видел, как Енисеев, склонившись над кучей тряпья, шарит в ней.
— Уходим, — вдруг сказал Енисеев. — Дело плохо.
— Там что — тела? — спросил догадливый Лабрюйер.
— Да. Два трупа.
— Ротман?..
— Не знаю. Спустись сам, только быстро. И вылезай скорее — там вонища, как в лагере у солдатского сортира.
Лабрюйер за свою жизнь столько покойников навидался — его уже трудно было смутить видом мёртвого лица. Что такое люди, утратившие человеческий облик, он тоже знал. Но даже самый жалкий нищий не станет гадить там, где спит, да и запах рвоты тоже наводил на нехорошие мысли.
Ротмана в подвале не было.
На перевёрнутом ящике стоял полуштоф зелёного стекла, самая подходящая посудина для водки и шнапса. Рядом с ним — какие-то огрызки и оглодки.
Лабрюйер быстро вылез оттуда.
— Бежим, — велел Енисеев. — Могу держать пари, что отрава — в бутылке.
Они побежали к «Руссо-Балту».
— Выходит, Ротман уцелел, — сказал Енисеев, усаживаясь поудобнее.
— Я это допускаю, — ответил Лабрюйер. — Но если так — он уцелел чудом. Тот, кто подсунул этим несчастным бутылку, предполагал, что они её разопьют вместе с Ротманом. То есть он сперва снял с двери погреба мою записку... это значит, что мой «череп» не настолько испугался выстрелов, чтобы убежать далеко... Мне следовало остаться там и покараулить!..
— Возможно. Но ты же был уверен, что Ротман придёт только вечером, если не ночью. Завтра с утра свяжись с полицейским управлением. Сейчас зима, покойники могут ещё месяц пролежать в подвале, пока их там обнаружат. А нам нужно поскорее узнать, что в бутылке.
— Что прикажешь объяснять Линдеру? Откуда я знаю про трупы?
— Скажи — встретил перепуганного Ротмана, который их там нашёл, а в полицию обращаться боится. Вот тебе пожаловался — и решил, что этого довольно, а сам пошёл искать другое жильё.
— Хотел бы я знать, куда подевался Ротман...
— Что первое бредёт на ум?
— Пожалуй, то самое, что ты сказал, — вернулся, унюхал ароматы, понял, что стряслось, и сбежал.
— Второе?
— Мог ли он знать, что за ним охотятся, и вообще не прийти ночевать? А бутылку подбросить в подвал несложно.
— Мог. Третье?
— Он сам принёс эту бутылку. Но это значит, что он как-то договорился с «черепом», и «череп» велел ему избавиться от свидетелей. Допустим, «череп» от него откупился, и так откупился, что Ротман может уехать ну хоть в Люцин, чтобы жить там без роскоши, но в тепле и сытости. Если, конечно, доедет.
— Любопытная версия... Что же такого натворил этот «череп», если сперва охотился на Ротмана, потом с ним вдруг помирился и напал на людей, видевших его с Ротманом?
— А я вот другое хочу понять. Ротман где-то его увидел и понял, что он свидетель давних безобразий. Это ещё можно допустить. Но как «череп» додумался, что нищий попрошайка представляет для него угрозу?
— Тоже загадка... Мюллер, сворачивай направо! Довезёшь меня до дома. Я поселился чуть ли в самой проходной «Феникса». Идти на службу — пять минут, а в моём доме живёт ещё несколько семей, чьи кормильцы трудятся на «Фениксе», кто счетоводом, кто слесарем. Очень удобно. Погоди, к самому дому не подруливай. У меня там ещё и молодёжь, которая устраивает полуночные гулянки. Ей незачем видеть, как старый чертёжник приезжает на автомобиле.
Простившись с Енисеевым, Лабрюйер в самом мрачном настроении поехал домой. Мюллер что-то рассказывал про мотор своего автомобиля, но понять было решительно невозможно. Рассчитавшись с шофёром, Лабрюйер отпустил его и поднялся к себе. Ничего не хотелось. Писать письмо Наташе Иртенской тоже не хотелось. Человек, который нанюхался в подвале всякой мерзости, не в состоянии после этого размышлять о возвышенных чувствах.
Звонить утром Линдеру Лабрюйер не стал. Енисееву легко отдавать приказания — сообщи, Леопард, в полицию, узнай, Леопард, чем их отравили! А о том, что возле подвальной двери на свеженьком снегу остались следы двух мужчин, лазивших в подвал, он не подумал. И поди знай, не видел ли какой-нибудь старый хрен, страдающий бессонницей, «Руссо-Балт» Мюллера...
Решив, что пока беспокоить полицию не стоит, Лабрюйер пошёл в лабораторию — осведомляться о здоровье Хоря. Хорь был сильно недоволен — в таком жалком виде он не мог идти с девушками на оперу «Демон». Лабрюйер знал, что лучшее средство от насморка — дюжина носовых платков. Он сам пошёл за ними в галантерейную лавку, и тут ему повезло — он встретил Ольгу Ливанову, на сей раз — без детей.
Каждый раз, увидев Ольгу, он поражался её красоте. Статная, немного полноватая фигура, осанка королевы, пышные русые волосы и правильное округлое лицо казались ему тем идеалом, о котором только мечтать можно — да ещё завидовать мужчинам, которых выбирают такие красавицы. Пройти рядом с ней по улице — уже праздник.
— Могу ли я угостить вас чашечкой кофе? — смущаясь, спросил Лабрюйер.
— Да, конечно, только у меня совсем мало времени.
— Тогда зайдём во «Франкфурт-на-Майне», там меня знают и сразу подадут кофе с кусочком вишнёвого торта или, если угодно, с баварским кремом.
— Ну, рассказывайте, что на душе, — прямо сказала Ольга. — Вы ведь не ради моих прекрасных глаз меня сюда позвали.
— А на душе у меня... Вот, который день ношу с собой письмо госпожи Иртенской, а что ответить — понятия не имею.
— То есть как — не имеете?..
— Это такое письмо... Я даже не понимаю, зачем их пишут, такие письма... Вы — дама, вы должны знать, вот, прочитайте, вы же её подруга...
— Конечно, мне не следует читать письмо, которое не мне адресовано. Но я знаю Наташу, у неё пылкая натура, она могла с лучшими намерениями сильно вас озадачить. Давайте сюда...
Читая, Ольга то усмехалась, то еле сдерживала хохот.
— Но всё же очень просто! Наташа любит вас и хочет оправдаться перед вами. Это чтобы вы никогда не думали о ней плохо. Письмо о том, как она вас любит, и о том, как хочет, чтобы вы её любили.
— Но что я должен ей написать?!
— Вы её любите?
Лабрюйер подумал и молча кивнул.
— Напишите примерно так: «Наташенька, я понимаю, что тобой руководило, когда ты взялась за перо, я вижу все твои сомнения, ты правильно сделала, что поделилась со мной, и я рад твоей откровенности...»
— Госпожа Ливанова, да я же всего этого не запомню! — взмолился Лабрюйер.
— Так что же, мне написать для вас шпаргалку, как пишут гимназистки перед экзаменом?
— Я был бы вам признателен...
Тут Ольга наконец так расхохоталась, что все посетители ресторана повернулись к ней.
— Хорошо, вы меня убедили, — сказала она, успокоившись. — Но ни слова Наташе. Если она узнает, что переписывалась не с вами, а со мной, — она мне этого никогда не простит. И, Христа ради, не переписывайте слово в слово. Это должно быть мужское письмо, понимаете?
— Понимаю.
— Я пришлю его с горничной.
— Буду весьма признателен, то есть я и так признателен...
— А знаете, какой вернейший признак любви? Человек необъяснимо меняется — дурак умнеет, трус становится смелым, а в вашем случае — как раз наоборот...
— Теперь буду знать, — буркнул Лабрюйер, понимая, что насмешница может описать эту беседу Наташе.
Проводив Ольгу, Лабрюйер вернулся в фотографическое заведение. Хоть одно дело было сделано. Теперь следовало поискать Ротмана. Если он околачивался поблизости от Матвеевского рынка или у Новой Гертрудинской церкви неподалёку, где тоже велась торговля, то такие же горестные неудачники могли бы что-то о нём знать.
Лабрюйер поразмыслил — и позвал с собой госпожу Круминь. Её там наверняка все торговки знают, она сообразит, кого расспрашивать.
— Вашего Ротмана тут знают, и кем он был — тоже знают, — вскоре доложила она. — Сегодня не приходил. А приходит всегда с человеком, вместе с которым живёт, тоже старик, весь седой, по имени Вольдемар. Однорукий, правой руки нет, его тут жалеют.
Лабрюйер вздохнул — однорукого и впрямь можно было пожалеть.
— И мужчины ему наливают, как не налить... Это один его приятель, ещё есть русский, имени не знают, по прозвищу Барбос. Они в хорошую погоду, летом, часто сидят вон там, в уголке, часами разговаривают. Видно, есть что вспомнить. У Барбоса даже место — он зимой дрова на складе сторожит, ему за это позволяют в тепле спать, это где-то на Суворовской. Хорошее ремесло, ночью погуляешь вокруг склада, потом до обеда спишь.
Отправив госпожу Круминь, Лабрюйер пешком пошёл к Суворовской, благо было недалеко, всего два квартала. Там он у первого же дворника с метлой и совком спросил, где ближайший дровяной склад.
Рижские кварталы были своеобразны — по периметру стояли недавно построенные прекрасные дома, в которых была вся роскошь прогресса: ванные комнаты, удобные клозеты, электричество, телефонная связь, а в самом квартале — чуть ли не хуторские пейзажи, деревянные домишки и даже огороды. Лабрюйер бы не удивился, обнаружив в таком хозяйстве и корову с телёнком. Именно в глубине кварталов можно было встретить тайный притон разврата, беглого каторжника, скупщицу краденого и прочую сомнительную публику — оттуда, зная местную географию, легко было выбежать на любую из четырёх улиц.
Но сейчас умные люди, вкладывающие деньги в строительство доходных домов, сообразили, что земля под халупами и сараями не хуже всякой иной в центре города, и здание, доступ к которому лишь чуть-чуть затруднён, тоже привлечёт немало рижан.
Однако строительство — сложное дело, сперва нужно снести старые дома, потом — завезти материалы, и не всегда удавалось это сделать стремительно. Лабрюйер, переходя от дворника к дворнику, набрёл в конце концов на участок в квартале, заключённом между Суворовской, Мариинской, Романовской и Невской улицами. Там снесли деревянные постройки и на том пока остановились; но, поскольку время — деньги, хозяин участка велел там выстроить сарай и устроил торговлю дровами; и земля таким образом понемногу окупалась, и местные жители были довольны.
Там-то и обосновался загадочный Барбос, а отсыпался после ночной вахты как раз на кухне у соседского дворника, на полу возле печки, что обходилось работодателю совсем недорого — полтора рубля в месяц. Всех это устраивало — дворничиха ещё и подкармливала старика.
Где Барбос болтался с полудня до ночи, никто не знал, и Лабрюйер решил заглянуть сюда часа через четыре после наступления темноты. А пока следовало срочно что-нибудь съесть. Сидя с Ольгой Ливановой, Лабрюйер полакомился пирожным, и только. А желудок требовал хотя бы котлеты с картошкой, если не порядочной свиной отбивной или горячего айнтопфа.
Поев в кухмистерской, Лабрюйер пошёл в фотографическое заведение — немножко отдохнуть. Он уселся в салоне с газетой и смотрел, как Ян обслуживает клиентов. Парень был безупречно вежлив, да и фотографические карточки у него получались всё лучше и лучше. Лабрюйер даже подумал, что можно доложить начальству: незачем присылать другого фотографа, этот вполне заменит фрейлен Каролину, а Хорь пусть наконец избавится от юбки с блузкой и отрастит усы.
Это следовало бы сделать хотя бы в пику Горностаю! Горностая развлекал маскарад Хоря — ну так пусть поищет себе других развлечений, в кабаре сходит, в цирк, наконец!
Поиски маньяка, убившего по меньшей мере трёх девочек, по решению Енисеева были пока что прекращены. А следовало строго допросить Нюшку-селёдку. Она что-то знала, вот только что?
Разговор с судомойкой, бывшей дорогой проституткой, сейчас казался ему трудным и даже опасным. Видимо, желание избежать беседы с женщиной и подсказало мысль: а что, если есть некий незнакомец или незнакомка, кому случайно, или не совсем случайно, стало известно о том, что Лабрюйер идёт по следу маньяка, пусть и с опозданием на много лет. Кто бы это мог быть?
Неужели тёща ормана Мартина Скуй?! Сам Скуя слышал разговоры седоков и мог сделать выводы. Выходит, визит к тёще он не просто так откладывал, сперва хотел расправиться с Леманом и Грунькой-пронырой?
— Брр... — сказал Лабрюйер. И чем больше он думал об этом деле, перебирая подробности, тем яснее становилось: Скуя может оказаться связующим звеном между обоими убийствами и маньяком. Но... но трогать его пока не надо...
А вот кого надо потрогать — так это объявленного невменяемым бывшего студента Андрея Кляву. Если только он ещё жив. И если он в своём уме.
Хотя — нет, нельзя, пока не выяснится, кто погубил Лемана и Груньку-проныру. Не то и вовсе без свидетелей останешься...
Ещё о розыске знало семейство Круминь. Все четверо. Дворник заходил в салон, приносил дрова для печки, что-то ещё чинил, а уж госпожа Круминь — так ли горячо она любит Лабрюйера с Хорём, чтобы по-матерински опекать их? Ян — уже вроде мебели, на его присутствие почти не обращают внимания. Пича — шустрый мальчишка, который, попав в умелые руки, много чего выболтает за детское пружинное ружьецо.
Нужно было посоветоваться с Росомахой. Не с Енисеевым, а с Росомахой — больше надежды на взаимопонимание.
Лабрюйер бы и до других злодеев додумался, но прибежала госпожа Круминь. Пича ей сказал, что Лабрюйер сидит в салоне и скучает, так она принесла кофейник и горячие картофельные оладьи.
Перекусив, Лабрюйер собрался, оделся и пошёл искать загадочного Барбоса.
В нескольких деревянных домах посреди квартала ещё жили люди: звали домой с крыльца заигравшихся в снегу детей, возвращались домой после трудового дня, перебегали к соседям — как водится, за спичками или солью. При них дровяные воры вряд ли полезли бы на склад. Лабрюйер прогулялся вокруг квартала, вернулся — двор притих, только дырки в ставнях светились. Пожалуй, пора было сторожу заступать на вахту.
Барбос оказался крепким дедом, с выправкой бывшего солдата, а на подкреплённый гривенником вопрос, что его свело с Ротманом, ответил прямо: немало вместе пошалили.
— Я его по важному делу ищу, — сказал Лабрюйер. — Он обещал одно моё поручение исполнить, да пропал.
— Деньги вперёд дали?
— Н-ну... да, вперёд.
— Вот ведь жулик!
— Ты когда его в последний раз видел?
— Когда — не скажу, у меня теперь все дни одинаковы — полдня дрыхну, потом без дела слоняюсь, потом склад сторожу. А вот где — скажу. На Романовской. Ротман меня навестил, пошли погулять. Тут поблизости ве… вере... вереге... как бишь её? Столовая открылась, где мясного не бывает, они с чёрного хода иногда котёл с кашей выносят, только нужно свою миску приносить. И там же котельная, кочегар пускает посидеть, если ему две копейки дать. Чем плохо — сиди в тепле, сытый, есть чего вспомнить...
— Так ты его в котельной, что ли, в последний раз видел?
— Да нет, прямо на улице. А ещё гривенничка не пожалуете?
— Пропьёшь?
— За ваше же здоровьице и пропью.
— Держи да говори скорее. Я, за тобой гоняясь, уже нос отморозил.
Барбос расхохотался и вдруг смолк.
— А и то... нехорошо, что Ротман пропал, он неспроста пропал... Вот я сейчас подумал — так и вижу, что неспроста.
— А как это было?
— Как? Идём по Романовской за кашей, толкуем. Идём аккурат от Суворовской к Дерптской. И посреди квартала мой Ротман вдруг встал в пень, словно ноженьки отнялись. Я ему: ты чего? А он мне: Ерёмка... Ерёма — это, значит, я, Ермолай. Ерёмка, говорит, гля — человек с того света вернулся! Я — креститься! Ведь и впрямь — выходец с того света!
— Много ты их встречал? — удивился Лабрюйер.
— Бог миловал! А только рожа — будто он месяц в гробу пролежал и черви её, рожу, уже обглодали.
— Значит, с того света... И что дальше? Мимо прошли?
— Какое там мимо! Ротман говорит: Ерёмка, мне ведь этот покойник-то и нужен! На что, спрашиваю, тебе такое страшило? А он мне: нужен, да и только! Это, говорит, Бог мои молитвы услышал и нарочно его с того света воротил. Ты, говорит, Ерёма, ступай, я тебя догоню.
— А потом?
— Я, дурак, пошёл. А он ведь меня так и не догнал.
— И больше не появлялся?
— То-то и оно... Прямо сгинул... Вы, господин хороший, коли увидите его, передайте — пусть приходит. Или хоть придите скажите, что отмучился раб Божий. Свечку за него, правда, ставить нельзя, ну, я так, по-простецки, помолюсь. Ночью, когда тут вышагиваешь, не знаешь, чем себя занять, так можно и помолиться...
Лабрюйер возвращался домой не то чтобы озадаченный — что-то в этом роде он и предполагал, — а скорее задумчивый. Если Ротман жив — то где он? А похоже, что выходец с тобой света с ним уже расправился.
Что это значит? То, что «череп» хочет числиться в мёртвых. До такой степени, хочет, что готов убивать, лишь бы никто не заподозрил, будто он жив. Ротман сдуру спугнул его — и вот результат. Те двое убогих, возможно, видели, как Ротман беседует с «черепом»... что же он, проклятый, затеял?..
Если он может доказать невиновность Ротманова племянника — значит, он в пятом и шестом годах был в Риге. Когда же совершилось фальшивое переселение на тот свет? И почему? Знакомство с Ротманом уже говорит не в пользу «черепа». Может, мошенник высшей пробы?
Уйдя из сыскной полиции, Лабрюйер не знал, что за новые герои преступного мира осчастливили Ригу своим вниманием.
Стало быть, придётся искать Лореляй.
Отношения с этой воровкой были довольно странными — порой Лабрюйер просто ею восхищался. Маленькая, худенькая, белокурая, она отлично исполняла роль двенадцатилетнего мальчишки, но лазила в окна лучше всякой обезьяны. Видимо, и он ей понравился. Несколько раз Лабрюйер ловил Лореляй, но тогда оба были молоды и азартны, враждовали всерьёз. Со временем их отношения стали чем-то вроде игры «кто кого», а потом уж до того дошло, что они могли, встретившись, совершенно по-приятельски поболтать.
Решив, что утром нужно будет съездить в Гостиный двор и поузнавать о Лореляй, которая считала это место своими охотничьими угодьями, Лабрюйер отправился домой.
Стоило войти и раздеться, как в дверь постучал Хорь. Он, видно, из своего окна поглядывал, не засветятся ли окошки Лабрюйера.
— Они не приходили? — спросил Хорь.
— При мне — нет.
— Завтра я им телефонирую.
— А если они скажут — фрейлен Каролина, собирайтесь, вечером идём на «Демона»? Тогда что?
Хорь хлюпнул носом, и получилось это очень жалостно.
— Чёрт, ну что за гадость! Я понимаю, была бы какая-нибудь чума или хоть инфлуэнца! Не так было бы обидно! А то сопли, как у младенца!
— Совершенно оскорбительная хворь, — согласился Лабрюйер. — Пошли чай пить. Я так промёрз, что завтра, чего доброго, буду вроде тебя — на ходу на сопли наступать.
— Сочувствую. Завтра с утра я поеду в Гостиный двор добывать сведения. — А что такое?
За чаем Лабрюйер рассказал Хорю про выходца с того света и Ротмана.
— Нам бы сейчас очень пригодилась карточка Ротмана — было бы что людям показывать. А по описанию его вовеки не найдёшь — половина рижских бездомных под это описание подойдёт.
— Карточка твоего «черепа» тоже бы очень пригодилась... Хотя бы твоим полицейским друзьям её показать — может, он много лет назад сгинул без вести, а дело в архиве осталось...
— Хорь, ты прав. В деле может оказаться и его карточка. А узнать имя — это уже немало. Но сперва — в Гостиный двор.
Гостиный двор был таким местом, где вокруг богатых лавок русских купцов ошивалось немало всякой сомнительной публики. Поэтому там бродили агенты сыскной полиции — смотрели, не вынырнет ли какой старый знакомец с ужасающей репутацией.
Лабрюйер подошёл к знакомому приказчику, пожилому и опытному, подождал, пока тот отмерит покупательнице десять аршин чёрного бархата, и спросил — но не про Лореляй, а про её напарницу Трудхен. Эта почтенная особа именно тут была прихвачена на горячем — залезла в карман к растяпе, и потому приказчики её хорошо запомнили.
— Нет, этой б...дищи давно не было видно, — по-простому ответил приказчик. — А вот её кота я сегодня встретил.
— Почём ты знаешь, что кот?
— Она его приводила — шевиот на «тройку» выбирать, уж так перед ним лебезила.
— Совсем на старости лет рехнулась.
— Это уж точно.
— Ну так где он и каков собой?
— Росточком с меня будет, лет около двадцати, рожица — амурчик с почтовой открытки, только что с усами. А звать Генрихом. Я чай, если в лавке Погожина спросить про Генриха, чего-нибудь да ответят.
— Думаешь, он там бывает?
— Приятель у него там, сдаётся. Как бы это приятельство Погожину боком не вышло...
Лабрюйер покивал — амурчик и впрямь мог высматривать всё, что требуется воровской шайке для ночного налёта.
В погожинской лавке он отозвал в сторону молодого приказчика, велел передать через Генриха фрау Трудхен — пусть Лореляй заглянет в «Рижскую фотографию» сделать красивые карточки. И потом, придя в своё заведение, Лабрюйер первым делом, не раздеваясь, взялся за телефонную трубку. Найти номер Погожина было несложно — для того Лабрюйер прихватил в его лавке афишку с рекламой товара. Предупредив купца, что один из его приказчиков совершенно ненадёжен, Лабрюйер поспешил на Гертрудинскую к Шнеерзону.
В крошечной мастерской скорняка сейчас не было клиентов, а сам он сидел у окошка, чтобы, пользуясь хорошим утренним светом, красиво сшить кусочки меха. Свои творения Шнеерзон мастерил только вручную, машинку признавал лишь для подкладки. Напротив сидела его супруга в тёмном платке, прикрывающем волосы, и тоже шила. Увидев Лабрюйера, скорняк ласково попросил её уйти — и она ушла, но дверь во вторую комнату мастерской оставила приоткрытой. Там сперва были слышны два молодых и бойких голоса, затеявших весёлую перебранку на идиш, но сразу смолкли.
— Знаете, господин Гроссмайстер, что я вам скажу? — начал Шнеерзон. — Я послал моего Гришу с вашей шапкой по всем лавкам, искать, где такое продаётся. И, кажется, Гришка нашёл то, что вам, господин Гроссмайстер, на самом деле нужно.
Чёрные глаза скорняка весело глядели из-под совершенно седых и лохматых бровей.
— Так что же мне, по-вашему, нужно, господин Шнеерзон? — невольно улыбнувшись, спросил Лабрюйер.
— Вам нужен человек, который носил эту шапку. Мы, люди простые, тоже читаем приключения Пинкертона. Гришка добежал даже до Выгонной дамбы. Вы знаете, там понастроили огромных домов для богатых людей, значит, появились и новые дорогие лавки. И вот в одной — там, где Мельничная упирается в Выгонную дамбу, — ему сказали: приходил господин, словами описал, что ему нужно, а описал как раз вашу шапку. Он привык к такой шапке, так он сказал, в его годы отвыкать неприятно. Гришка не дурак, ему шестнадцатый год! Он тоже любит приключения Пинкертона, господин Лабрюйер! Он стал спрашивать, что за господин и как его отыскать. То есть он повернул дело так, будто шапку нашёл и хочет вернуть за вознаграждение, как оно обычно делается. Ему сказали, что господин — немец, то есть говорит по-немецки, как порядочный рижский бюргер. Лет — за пятьдесят, худой, как палка, и высокий, в длинном драповом пальто, коричневом, с меховым воротником, воротник — выдра под котик. И господин, уходя из лавки, сказал, что начинается метель, но ему идти недалеко. Гришка умный, он побежал в другую лавку, мясную, он сказал: подобрал только что на улице очень хорошую шапку, хочет вернуть, бежал следом за хозяином шапки, а тот вошёл в эти самые двери. Его спросили, что за человек и отчего на улице шапками разбрасывается. Гришка описал человека, а про шапку сказал — выпала из кармана. То есть одна у него была на голове, а другую почему-то запихал в карман. Тогда ему ответили, что такого, длинного и тощего, тут не знают, и в лавку он ни разу не заходил. Так Гришка решил, что он живёт в гостинице по соседству или снял комнату. Вот, всё сказал, ф-фу!
Лабрюйер внимательно выслушал скорняка.
— Больше Гриша ничего не предпринимал? — с беспокойством спросил он.
— Нет, домой побежал. Сам искать не стал.
— Он у вас действительно умный парень, господин Шнеерзон.
— Настоящая еврейская голова!
— Пусть приходит в «Рижскую фотографию господина Лабрюйера», что на Александровской напротив «Франкфурта-на-Майне». Скажет там свою фамилию, ему сделают красивые карточки.
— А Дорочку он может с собой взять? Это моя старшая внучка, Дорочка. Девица на выданье.
— Конечно, может!
— Вы очень, очень порядочный человек, господин Гроссмайстер. Приходите, я вам сошью шапку — такой шапки не будет у самого государя императора. У меня для «кундов» есть серебристый каракуль из самой Бухары.
— Когда соберусь жениться, приду к вам и закажу шапку, — пообещал Лабрюйер. — А сейчас, простите меня, спешу.
Он вернулся в фотографическое заведение и, опять не раздеваясь, позвонил в сыскную полицию, просил найти и позвать инспектора Линдера. Но вместо Линдера с ним заговорил агент Фирст.
Этот молодой и сообразительный агент был студентом-недоучкой. То есть с головой, полной разнообразных и часто бесполезных знаний, с умными глазами и с той хваткой, которая бывает у молодых людей, желающих делать карьеру.
— Что вы там делаете, Фирст? И не хотите ли встретиться? — спросил Лабрюйер.
— Делаю вот что — переписываю показания одной сумасшедшей старухи. Она опять притащилась искать своих родственников, то хнычет, то ругается...
— Госпожа Крамер?
— Она и вас преследует, господин Гроссмайстер?
— Фирст, с этой старухой что-то не так. Она далеко?
— Она ждёт в коридоре. Непременно хочет видеть самого господина Линдера.
— Фирст, плачу рубль в час — выследите, куда пойдёт старая перечница!
— Я думаю, на репетицию в Немецкий театр. Она ещё итальянца какого-то ищет. Линдер недавно нашёл ей итальянца — совершенно случайно, в гостинице «Петербург». Она понеслась туда, оказалось — не тот. Господин Гроссмайстер, она точно сумасшедшая.
— Фирст, рубль в час! Есть шанс... нет, четвертушка шанса за то, что все её чудачества — игра. Как только что-то станет ясно — телефонируйте, встретимся. Я потом ещё поищу Линдера.
— Не раньше, чем через час.
— И ещё — Фирст, мне нужна сводка о всех происшествиях по городу за трое суток. Можете скопировать?
— Ох, она же длиной с версту. Что именно?
— Убийства. И непонятные события.
— Я постараюсь.
Повесив телефонную трубку, Лабрюйер застыл в странной задумчивости: нужно было что-то делать, куда-то бежать, но — что и куда?.. Искать на Выгонной дамбе «черепа»? Вернуться к маньяку, ехать на трамвае к будочнику Андрею, допрашивать Нюшку-селёдку?
Или... или пообедать?..
Нет, не просто пообедать, а покормить несчастного Хоря. Взять в кухмистерской провианта на двоих... нет, на троих! Хорь по молодости лет порядком прожорлив. В роли фотографессы за кофейным или чайным столом он валяет дурака и крошит в пальцах булочку, питаясь крошками. А дома на сон грядущий может за увлекательной книжкой умять чуть ли не ковригу серого хлеба с хорошим сливочным маслом.
Хорь с горя съел двойную порцию и даже в рассеянности покушался на котлету Лабрюйера.
Потом Лабрюйер спустился к себе и телефонировал в полицию. На сей раз Линдер оказался на месте.
— Фирст сказал, что ты ему дал поручение, и я его на часок отпустил.
— Я просил его о сводке происшествий.
— Он что-то списывал со сводки. Как вы договорились?
— Он мне телефонирует в салон.
— Тогда жди. А у меня дела.
Лабрюйер ушёл в «фотографию». Клиентов не было. Ян скучал в салоне. Лабрюйер отправился в лабораторию, где у Хоря была стопочка книг, он хотел найти что-нибудь необременительное. Сверху лежал томик Бальмонта, Лабрюйер вспомнил, что там есть одно очень нужное ему сейчас стихотворение, и легко это стихотворение отыскал — оно было заложено конфетной бумажкой.
Тогда он, уверенный, что книжка принадлежит эмансипированной фотографессе, даже посмеялся, читая бальмонтовские строки. «Надо же, — подумал он, — кем себя воображает наша эмансипэ и какие фантазии роятся в её голове...» «Она отдалась без упрёка, она целовала без слов...»
А теперь он понял вдруг поэта, который мечтал о женщине без причуд, чья любовь проста и пряма, наподобие мужской: «Она не твердила: “Не надо”, обетов она не ждала...»
Не то чтобы Лабрюйер был таким уж великим любителем поэзии... Рифмованные строки сопровождали его всю жизнь, потому что он пел, и для него ритм, определяющий порядок слов, был совершенно естественным. Но часто слова романсов казались ему пошлыми и даже глупыми, их и музыка не спасала. Или же — их трагизм и страдальческие интонации казались ему попросту комичны.
Стихи Бальмонта прозвучали в душе всерьёз:
...Она не страшилась возмездья, Она не боялась утрат. — Как сказочно светят созвездья, Как звёзды бессмертно горят!Странным образом они стали стихами о Наташе Иртенской. О женщине, которая не боится говорить и писать о своей любви, хотя понять её что-то больно сложно. А уж что отвечать — это, пожалуй, только Ольга Ливанова и знала...
И тут подал голос телефонный аппарат.
Это был Фирст.
— Вы были правы, со старухой что-то не так. У нас в управлении она ругается и галдит, как целая орава пьяных студентов, а выйдет — и словно подменили.
— Что было?
— Было то, что я пошёл за ней и довёл её до Эспланады. Там она прогулялась вдоль аллеи с таким видом, будто кого-то ждала. Я, естественно, остановил ормана и встал с ним в переулке Реймера. Подъехала пролётка, подобрала нашу скандалистку и увезла. Я — за ней. Они — к реке, я — тоже. Они — в Задвинье, я — тоже. Они — через Петровский парк к Агенсбергу. Я — за ними. Они — остановились у Магдалининского приюта, я...
— Где?!
— У богадельни для старушек. Там они постояли, потом отправились к Калнцемской, попросили ормана остановить другого ормана, и одна из них пересела, но которая — я сразу не понял, у обеих пролёток верх был поднят, и стояли они вплотную. Та, которую наняли на Калнцемской, покатила к реке. А другая — к железнодорожному переезду. Разорваться я не мог, выбрал ту, что к переезду, и сопроводил до ворот завода «Мотор». И вот там из пролётки вышла дама. Не наша — другая. По осанке и походке — молодая, про телосложение ничего не скажу, они же теперь такие балахоны носят — не разобрать! И вот эта, молодая, подождала, из ворот выехал автомобиль чёрт знает какой марки, как её. Автомобиль закрытый, как карета. Ей открыли дверь, она села, и её увезли в сторону ипподрома.
— Ты сопровождал?
— Уже нет, мне нужно было возвращаться в управление. Письменный отчёт нужен? И я на ормана потратился.
— Очень короткий отчёт, главное — как выглядела молодая, во что одета. Приноси в моё заведение. Встретимся — рассчитаемся.
— Тогда — откланиваюсь.
Связь прервалась, а Лабрюйер так и остался стоять с трубкой в руке. Похоже, из нескольких дел, занимавших его, два явственно сливались в одно.
Фирст явился вечером.
— Вот, — сказал он, выкладывая на стол три листа, исписанных крупным разборчивым почерком. — Надеюсь, что за последние два часа никто никого не зарезал.
На одном листе были выдержки из сводки происшествий. Лабрюйер взял его с трепетом — нашла полиция два тела в подвале или ещё не нашла. И вздохнул с облегчением: нет!
Сейчас время работало на него с Енисеевым — погода такая, что трупы не слишком испортятся, а следы за пару дней окажутся основательно затоптаны. Хотелось бы, конечно, поскорее узнать, чем отравили бедняг, но эти сведения никуда не денутся...
Тело Ротмана тоже, кажется, не фигурировало — был найден безымянный замерзший человек, но возраст и телосложение не совпадали.
На двух листах Фирст описал свою погоню за госпожой Крамер. Начало Лабрюйер пропустил, а вот описание женщины, с которой встречалась монументальная дама, его заинтересовало.
— Блондинка, среднего роста, среднего телосложения — а дальше? Чем она отличается от прочих блондинок этого славного города? Их же тут — сто тысяч, не меньше, — сказал Лабрюйер. — Я понимаю, что ты не мог разглядеть прыщик на лбу, но если судить по ощущениям — что ты о ней подумал?
— Подумал, что ей не меньше тридцати лет. Лицо такое — без этих девичьих щёчек и кругленького подбородочка. Но бывают ведь и тощие девицы.
— Бывают...
— Ещё — но это уже, глядя на нашу скандалистку. Она очень уж шустро подбежала к пролётке. Как будто ей приказали: сюда! И лицо немного испуганное...
— Очень хорошо. Жаль, Фирст, что ты не дама. Тогда бы ты дал полное описание её туалета.
— Какой смысл? Ведь они всё время переодеваются. Но вот, что ещё — она держится очень прямо. Вы же знаете — женщина с муфтой ходит, чуть наклонившись вперёд. Это у них называется «летящая походка». А эта — как телеграфный столб...
— Столб? Так, может, она ростом выше среднего?
— Действительно. А одета, как все зимой, в тёмное. Муфта — кажется, каракулевая.
— Теперь — про автомобиль. Фирст, ты можешь выяснить, чья это колымага? За последние лет десять их столько развелось — каждый канцелярист скоро на своём «Руссо-Балте» кататься будет. Но я не думаю, что каждому позволено держать автомобиль на территории предприятия. Это, наверно, кто-то из инженеров или из администрации.
— Срочно?
— Чтобы не мешало твоей службе.
— И вот что ещё! Она подъехала к определённому часу. Ждать ей пришлось минуты две. Наверно, поэтому она и скандалистка велели орману остановиться на углу Эрнестининской и Маргаритинской, они выжидали...
— И такое может быть, — согласился Лабрюйер, хотя близость приюта ему сильно не нравилась. — Итак, — вот два рубля, вот полтина — транспортные расходы.
— Благодарю.
— Как только будет свободное время — телефонируй. И договорись с кем-нибудь из молодых агентов, кто разбирается в автомобилях. Плачу, сам видишь, не скупясь.
— Вижу!
Фирст убежал, а Лабрюйер остался и долго таращился на донесение. Какая-то связь между убийствами в Агенсберге и двумя дамами, седовласой толстухой и тощей блондинкой, несомненно, была. Следовало возвращаться к прерванному розыску.
Он вспомнил разговор с Анной Григорьевной Урманцевой. Женщина была сильно взволнована, и потому много узнать не удалось. А следовало бы! Как минимум — кто те родственники, к которым она отправила дочку. Очевидно, прав был Горностай: Леопард — отличный охотничий пёс, умеет взять след и бежать хоть сто вёрст, не теряя этого следа, но почему добыча бежала так, а не сяк, он совершенно не задумывается... А надо бы!
Следовало опять просить о помощи Аркадия Францевича Кошко. Следовало заказывать разговор с Москвой, и неизвестно, окажется ли господин Кошко в назначенное время дома.
Мало было хлопот — забежала ливановская горничная Глашенька, принесла конверт, в конверте — шпаргалка. Так Лабрюйер её даже читать сразу не стал — ему было страшно при мысли, что могла насочинять Ольга.
Он стоял у тёмного окна, глядел на Александровскую — вдаль, туда, где ровным рядом стояли новенькие дома, построенные в новом стиле и богато украшенные лепниной; дома с обязательными угловыми башенками и непременными эркерами, смысл которых был ему непонятен; он смотрел на эту красоту и не знал, как быть со внезапно нахлынувшей тоской. Стоял, стоял и вдруг произнёс:
— Наташа...
И, услышав свой голос, он вдруг понял, как она несколько месяцев назад стояла у другого окна, попавшая в беду, беспомощная, и всё, что могла — это позвать его, безмолвно звать — вдруг мужчина, который непонятным образом затронул её душу, услышит и отзовётся?
И странная мысль пришла в голову: Наташа сейчас его слышит. Не может не слышать. Рассудку вопреки, наперекор стихиям — услышала.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Енисеев, которого Лабрюйер ждал, не пришёл и даже не телефонировал.
Пришлось идти домой в сомнениях.
На сон грядущий он решил хотя бы прочитать шпаргалку — и не смог. Ну, в самом деле, что Ольга понимала в мужской душе? Рано вышла замуж за хорошего человека, до сих пор любила его, в жизни испытала только счастье: замечательный муж, прекрасные дети, дом — полная чаша. Могла ли она понять двух человек, которые счастья не знали?
Переписать шпаргалку — несложно. Только ведь Наташа полюбила, имея смутное понятие, каков Лабрюйер на самом деле, полюбила героя-контрразведчика, бойца на страже Империи. Зачем же усугублять этот образ героя чуть ли не из романов Дюма? А в том, что Ольга написала свою шпаргалку, войдя в роль благородного героя, Лабрюйер не сомневался.
Нужно было найти свои слова, свои мужские слова. Как это делается — он не знал.
Утром тоже не хватило мужества открыть конверт со шпаргалкой. Так Лабрюйер и поплёлся в фотографическое заведение, моля Бога, чтобы днём не прибежала Глаша за ответом.
Он хотел, чтобы появился Росомаха. С Росомахой они вроде были ровесниками и могли говорить на равных. В том, что Енисеев способен понять страдания из-за письма, Лабрюйер сильно сомневался. А слушать его рассуждения, по-актёрски красиво преподнесённые, и вовсе не желал.
Вдруг задребезжал телефонный звонок — ни с того ни с сего дали связь с Москвой. Правда, самого Кошко на месте не было, был кто-то из подчинённых, и Лабрюйер продиктовал записку — просьбу о повторной беседе с госпожой Урманцевой.
Пришли двое молодых людей, попросили поставить аристократический фон — благородные драпировки. Пришла молодая пара — договариваться о съёмках в собственном жилище. Им непременно хотелось иметь портрет младенца в обществе двух котов и попугая. Прибежал метрдотель из «Франкфурта-на-Майне» — просить сделать новые фотографии для рекламной афишки. Лабрюйер послал в ресторан Яна с «кодаком», моля Бога, чтобы парень не опозорился. Сам он остался выдавать заказы и развлекать клиентов светской беседой. Словом, до обеда работы хватало. И это даже радовало — служило оправданием боязни вскрыть конверт со шпаргалкой.
Клиенты порядком натоптали, и Лабрюйер пошёл За госпожой Круминь — чтобы явилась наконец и протёрла пол. Когда она взялась за работу, пришёл Ян, заменил Лабрюйера и обслужил клиента, которому был нужен парадный снимок с орлиным взором, сверкающей от бриолина причёской и лихо закрученными усами — иначе, дамам на память дарить. Ян проводил клиента до двери, но закрыть не успел.
В салон стремительно вошла невысокая дама в модной шляпе с пушистым эгретом, закрывавшей чуть не половину лица, в изящной шубке и в юбке, достаточно короткой, чтобы оценить крошечные ножки и узкие щиколотки, затянутые в элегантные ботиночки на французском каблучке.
Муфта у дамы была самая модная — огромная, белая, с хвостами. Лабрюйер никак не мог понять, зачем женщинам эти тяжёлые меховые мешки. Конечно, в них можно таскать кошелёк, платочек, пудреницу — да хоть фляжку с коньяком. Но ведь и весит это сокровище немало, и обе руки занимает...
— Добрый день, могу ли я видеть господина Лабрюйера? — манерно спросила дама.
Госпожа Круминь уставилась на неё с подозрением. Нюх у супруги дворника был отменный, но насчёт причины тревоги вышла промашка: ей показалось, что дама имеет виды на хозяина заведения.
— Сейчас я позову его, — без лишней любезности ответила она, подхватила швабру с намотанной тряпкой и пошла к лаборатории, где Лабрюйер взялся сушить готовые карточки.
— Там к вам особа пожаловала, — сказала госпожа Круминь, всем видом показывая, до чего ей особа не понравилась.
Лабрюйер надел пиджак, вышел и обрадовался.
— Ну наконец-то! Госпожа Круминь, вы бы не могли кофе приготовить? Позволь за тобой поухаживать...
Лореляй повернулась спиной, Лабрюйер снял с неё шубку и повесил на плечики.
На воровке было тёмно-зелёное платье с завышенной талией, которое ей очень шло, на тонкой руке — браслетка с изумрудами, крупноватыми для настоящих, но от этой женщины всего можно было ожидать. Платье имело очень скромный вырез, но такой, что всякий мужской взгляд туда бы устремился: кулон на довольно толстой цепочке был в виде обнажённой крылатой сильфиды с очень аппетитными формами. Если бы Лабрюйер заинтересовался им как произведением искусства, то скоро узнал бы, что эти эмалевые кулоны привозят из Америки. Но его больше привлекла пикантная фигурка в вершок высотой.
— А шляпу снимать даме не обязательно, — сказала Лореляй, поправила кулон и села к столику с альбомами. Лабрюйер уселся напротив.
— Ты прекрасно выглядишь. Немного поправилась, похорошела...
— Ты ведь меня по делу позвал, старая ищейка. Или, может быть, ты собрался предложить мне руку и сердце?
— Предложил бы, так ведь ты за меня не пойдёшь, — усмехнулся Лабрюйер. — Тебе нужен молодой, стройный, а у меня, сама видишь, уже брюшко... Но давай я сразу к делу перейду. В Риге появился один человек. Есть подозрение, что из ваших. Но птица высокого полёта — по вашим меркам. Его какое-то время считали покойником, а он взял да и воскрес. Его опознал Ротман...
— Это какой же Ротман?
— Точно, их двое было. Тот, что до беспорядков хороводился с митавскими парнями и с Зальцманом...
— Он что, ещё жив? Я слыхала, что помер! — Лореляй вдруг разволновалась. — Надо же, мы его похоронили, а он жив!
— Ещё один выходец с того света... Но жив ли он сейчас — большой вопрос. Он опознал того человека и, как я понял, решил с ним поговорить. И пропал. Погоди, погоди, это ещё не всё. Тот человек выследил его — а жил Ротман недалеко от Александровских ворот, напротив кладбища, в подвале. Тот человек что-то задумал нехорошее, но я ему помешал. Сказал бы мне кто тогда, что спасу ворюгу Ротмана от убийцы, — не поверил бы. Но, Лореляй, ты рано радуешься. Очень может быть, что я в тот день, когда гонялся за убийцей по кладбищу, ещё не знал, что Ротмана больше нет. Видишь ли, он исчез, а те двое несчастных, с которыми он жил в подвале, отравлены. Может, они что-то видели или знали, но уже не скажут.
— Как — отравлены?
— Им бутылку с ядовитой водкой подсунули. В общем, запутанное дело. Так вот — не появлялся ли в наших палестинах человек, похожий на трёхнедельного покойника?
Лабрюйер как можно подробнее описал внешность «черепа».
— Нет, такого вроде не было, — подумав, сказала Лореляй. Тут госпожа Круминь принесла кофе — две чашки с блюдцами на подносе, но даже простенького печеньица там не было, что означало: выполняю распоряжение хозяина, и не более того.
— Подумай хорошенько. Может быть, десять лет назад он ещё не был таким страшным.
— Да, старый пёс, ты так его изобразил — не дай бог, ночью приснится... Это всё, что ты о нём знаешь?
— Знаю приблизительно, где он живёт. То есть где временно поселился. Представляешь место, где в Выгонную дамбу упирается Мельничная улица? Там он и живёт, если ещё не сбежал. Думаю, что снимает меблированную комнату.
— Ротман может спрятаться у кого-то из старых подружек. Почуять опасность и спрятаться.
— Когда-то его подружкой была Толстая Эльза. Но она, кажется, померла.
— Да, Эльза померла. Ещё когда ты в полиции служил. Но он одно время, когда деньги водились, еврейку содержал, очень красивую. Давно, правда. Потом она от него к кому-то ушла, но говорили, что они тайком встречаются.
— Еврейка часом не с Канавной улицы?
— Если и оттуда — то нашёлся добрый человек, выкупил её. Только, ты же знаешь, если девочка привыкла передком на жизнь зарабатывать, то ничего больше делать уже не станет. Сколько раз бывало — и выкупят, и в магазин продавщицей пристроят, а года полтора прошло — и опять она на Канавной. Я узнаю, есть одна старушка, я её спрошу...
— Спроси, Лореляй. А сейчас Ян сделает тебе карточки на память...
— Ты с ума сошёл, полицейская ищейка. На что мне карточки?!
Допив кофе, Лореляй ушла, пообещав телефонировать, если что-то узнает о Ротмане. Лабрюйер проводил её до дверей, даже двери закрыл, но потом выскочил и проводил взглядом маленькую лёгкую фигурку, словно пролетавшую в щели между увесисто и достойно топающими бюргерами и их супругами.
Они были абсолютно разные — белокурая Лореляй, не имевшая никаких иллюзий, и темноволосая пылкая Наташа, идеалистка, способная влюбиться, едва обменявшись с мужчиной взглядом. Честно говоря, воровка была понятнее и ближе. Но отчего-то она, при всей своей симпатии к Лабрюйеру, соблюдала известное расстояние между ними, как будто раз и навсегда запретила себе те чувства, которые окажутся чересчур серьёзными и пойдут во вред ремеслу. Она была смела, даже отчаянно смела, когда по верёвочной лестнице карабкалась на балкон пятого этажа, но настоящей женской привязанности к мужчине боялась — видно, в молодости крепко обожглась.
А вот понять Наташу он ещё не мог.
В дверь салона вошёл посыльный с картонной коробкой.
— Господину Лабрюйеру велено отдать в собственные руки.
— От кого? — удивился Лабрюйер. Посыльный пожал плечами и вышел.
Коробка стояла на стуле, Лабрюйер смотрел на неё и хмурился.
Господа из Эвиденцбюро прекрасно знали, что «Рижская фотография господина Лабрюйера» — довольно опасное для них заведение. Очевидно, наблюдательный отряд чересчур приблизился к агентам Эвиденцбюро, если прислан такой подарок.
Это может быть предупреждением — разнесённый вдребезги салон послужит весомой просьбой не совать нос в дела агентов. Но, если так, адскую машину следовало бы хоть под что-то замаскировать, непонятно откуда принесённая коробка кого угодно насторожит.
Лабрюйер прислушался — вроде бы часовой механизм в коробке не тикал. Но чёрт их разберёт, этих бомбистов, в пятом году они много чего наизобретали.
Взяв коробку и неся на вытянутых руках, он пошёл во двор. Ян, которому было приказано отворять перед ним двери, кажется, что-то понял — судя по испугу на лице. В пятом году он был уже довольно большим мальчишкой, чтобы знать о взрывах и убийствах.
Во дворе был большой сугроб. Лабрюйер послал Яна за отцом, который убирал снег на улице. Дворник Круминь явился с лопатой и по указаниям Лабрюйера подкопал сугроб. Получилась пещерка, куда Лабрюйер, отогнав Круминей подальше, засунул коробку и сам завалил её комьями снега. Ничего лучше он придумать не мог.
Ян и Лабрюйер вернулись в салон. Оба были взбудоражены. Госпожа Круминь, которая из окна видела всю эту снежную фортификацию, прибежала с расспросами, но Лабрюйер отмалчивался.
Вот сейчас он нуждался в помощи Горностая! Но треклятый Енисеев как сквозь землю провалился. Где искать Росомаху с Барсуком — тем более непонятно. Что касается Хоря — Лабрюйер даже не знал, что хуже, послать за ним Пичу или вообще его не трогать. Хорь, недавно сорвавший операцию, наверняка захочет показать свою сообразительность и отвагу. Может статься, он и умеет обращаться с адскими машинками, начиненными динамитом. А может статься, только слышал краем уха, как их вскрывают, но решит доказать всему свету свой героизм.
Беспокойство и нервотрёпка привели к мудрому решению — закрыть фотографическое заведение до завтрашнего дня, если он только будет для Лабрюйера, этот завтрашний день. Отправив домой Яна и приказав госпоже Круминь послать Пичу с поручением куда-нибудь подальше, Лабрюйер оделся и, заперев дверь, вышел через чёрный ход на Гертрудинскую. Там он прошёл до Колодезной, повернул, дошёл до Александровской, опять повернул — и раз десять совершил этот маршрут.
Видимо, дворник Круминь заметил, где он вышагивает, потому что полчаса спустя прислал Яна.
— Господин Гроссмайстер, там телефон звенит, прямо разрывается, даже у нас слышно, — сказал Ян.
Лабрюйер ждал сообщения из Москвы.
Решив, что адская машинка в сугробе, если до сих пор не взорвалась, то ещё пять минут потерпит, Лабрюйер побежал к телефонному аппарату. Он хотел связаться с телефонной станцией, узнать, откуда были звонки, и попробовать уговорить барышню соединить его с Москвой.
— Брат Аякс, что там у вас стряслось? — спросил Енисеев. — Почему никто не подходит к аппарату?
— Стряслось...
— Что?
— Нам, кажется, адскую машинку подсунули.
— Как это?
— Принесли коробку, посыльный сразу сбежал. Коробка тут осталась, не на Александровскую же её выносить.
— И... что ты с ней сделал?..
— Во дворе в сугроб закопал. У забора. Думал, если рванёт, забора не жалко.
— А какая она на вид, эта коробка?
— Из плотного коричневого картона, верёвочкой обвязана. Вершков девяти в длину, вершков пяти в ширину. Да в высоту — тоже, пожалуй, пяти.
— Леопард, твоя бдительность делает тебе честь. Ступай, откопай эту адскую машинку и спрячь в лаборатории. Да не бойся, спокойно открывай коробку! Всё, больше говорить не могу...
Лабрюйер понимал, что Енисеев его смерти не желает. Но добывал коробку из сугроба с некоторым трепетом. Принеся её в лабораторию и вскрыв, он невольно выругался.
В коробке был новенький чугунный утюг.
Енисеев сдержал слово и возместил госпоже Круминь загадочную утрату.
Теперь оставалось договориться с Пичей, чтобы подсунул матери утюг. Это было проще всего. Парень страшно обрадовался и обещал, что вечером, когда госпожа Круминь пойдёт к соседке — поздравлять с именинами, он поставит утюг именно туда, где обычно стоял старый. Мать, конечно, будет утверждать, что это — его шалости и проказы, но не слишком сердито.
Вечером Лабрюйер опять не дождался ни Енисеева, ни Росомахи. Он сидел в фотографическом заведении допоздна и глядел на телефонный аппарат. На столе перед ним лежали конверт со шпаргалкой и карманные часы. Нужно было собраться с духом и написать наконец ответ, а то получалось уж вовсе неприлично.
Лабрюйер достал хорошую плотную бумагу, вставил в ручку новое пёрышко и убедился, что в чернильнице есть чернила. Отступать дальше было некуда, и он вскрыл конверт.
Шпаргалка оказалась подозрительно большой, он развернул её, прочитал первые строчки и охнул. Это было второе письмо от Наташи Иртенской.
«Я пишу тебе в перерыве между занятиями. Письмо моё может затеряться в дороге и попасть в чужие руки, поэтому — без подробностей, — сообщала Наташа. — Саша, я очень много занимаюсь. Я хочу быть достойна твоей любви. Кто я была? Взбалмошная барынька, нервическое создание, чуть было не наделала больших бед. Мне стыдно за себя прежнюю, больше ты меня такой не увидишь. Я стараюсь перемениться...»
— Так... — сказал Лабрюйер. Это «так» вмещало в себя целый монолог: я не понимаю, зачем должен всё это знать, я не понимаю, почему ты хочешь выглядеть передо мной нервической барынькой, чуть что — падающей в обморок, я вообще ничего не понимаю, но теперь придётся отвечать уже на оба письма разом, и это просто жуть.
«Саша, я должна рассказать тебе об одном человеке. Это очень важно для меня — чтобы ты знал. Он единственный протянул мне руку помощи, когда я попала в беду и у меня отняли сына, — писала Наташа. — Я месяцами жила у него в усадьбе, о нас ходили бог весть какие слухи. Саша, я признаюсь тебе, как на духу: я хотела стать его женой, хотя он намного старше меня. Я хотела быть с ним рядом до конца, чтобы отплатить ему за его доброту ко мне. Почему я пишу об этом именно теперь? Я сегодня ездила верхом по-мужски, как он меня учил, и вспоминала его. Я бы очень хотела познакомить вас... Помнишь ли ты мою серебряную брошечку?»
Прочитав это, Лабрюйер несколько ошалел. Он не ожидал от женщины, которую считал неглупой, такого дурацкого вопроса. Спрашивать мужчину, помнит ли он какую-то брошечку! Но в следующей строчке всё объяснилось.
«Я носила её с собой в кошельке и оставила в твоей “фотографии”, я думала, что потеряла единственную память о нём, которую всегда носила с собой, но ты мне вернул её. Это было — как будто он издали благословил меня, как будто он сказал: вот этот послан мной, вот этого ты сейчас полюбишь. Серебряная подкова, так он сказал тогда, на удачу, а буквы РСТ — ты уже знаешь, что они значат. Я верю в тайные знаки судьбы — и ты действительно вернул мне удачу, вернул мне счастье. Я не знаю, как благодарить тебя...»
— Да уж... — пробормотал Лабрюйер. Впервые женщина писала ему такое — и он понимал, что это правда, он ведь в самом деле и спас Наташу от смерти и помог ей вернуть сына. Но было страх как неловко.
Отложив письмо, он встал и прошёлся по пустому и тёмному салону. Свет фонарей с Александровской падал на фон — последние клиенты, почтенный член городской управы Эрнест Рейтерн, его супруга и их дочь, захотели фотографироваться непременно на берегу Средиземного моря, а может, и на крымском берегу, Лабрюйер не знал, с какой почтовой карточки мазила скопировал бирюзовую воду и крутой берег, уступами спускавшийся к пляжу, а уж замок, норовящий сползти вниз, точно стянул из какой-то книжки по средневековой истории.
Вспомнив, как фотографировали солидную пару, Лабрюйер усмехнулся — у заглянувшей на минутку госпожи Круминь глаза на лоб полезли. Наверняка потом понеслась рассказывать соседкам, что в заведение приходил сам Рейтерн! И какой он любезный, и как трогательно ухаживает за супругой, целует ей руку — от муженька Круминя таких нежностей не дождёшься, а если дождёшься, то перепугаешься, не спятил ли на старости лет.
Особое внимание кумушки уделят дочке Рейтернов, Ангелике. Девица унаследовала от батюшки широкую кость, и тут никакой корсет не поможет; крупное лицо тоже красивым не назовёшь; супруга дворника наверняка подметила все особенности фигуры и с точностью до двух недель определила возраст Ангелики. Сам Лабрюйер дал бы девушке лет двадцать пять, не меньше.
Многих членов городской управы рижане знали в лицо, а рижанки — такие, как супруга дворника с соседками, — очень любопытствовали насчёт их частной жизни: на ком женат, сколько детей, почему дочь в девках засиделась, на ком собирался жениться сын и что за спор вышел из-за приданого, изменяет ли жене, а если не изменяет — кто та дама, с которой его видели возле ресторана Отто Шварца?
Лабрюйер решил снять фон, чтобы не возиться с ним завтра с утра, скрутил в рулон, рулон отнёс в комнатушку, где хранился реквизит. Теперь нужно было сесть и дочитать письмо — Лабрюйер вдруг понял, что такие послания следует читать понемногу, осознавая каждую строчку и вступая с ней в беззвучный диалог. Когда возникнет разговор с Наташей — глядишь, и удастся понять её логику, если только у такой женщины вообще может быть логика.
Но часы пробили десять. Торчать в такое время в пустом фотографическом заведении было просто нелепо. И Лабрюйер пошёл домой.
Выйдя на Гертрудинскую, он неторопливо побрёл к Дерптской. Было о чём поразмыслить, было... Не только о Наташе, но и о Лореляй. Сегодня она была не просто хороша собой, а странно хороша — словно из другого мира, где люди изящны и грациозны, залетела. Видимо, ей следовало стать актрисой — летом она прекрасно изображала мальчишку в матросском костюмчике, сейчас — аристократку, вынужденную терпеть вокруг себя этих скучных бюргеров, провонявших тушёной капустой. Любопытно, куда она собралась в таком виде. Наверняка затеяла новое дельце — а расхлёбывать сыскной полиции...
Вдруг Лабрюйер остановился и едва не хлопнул себя по лбу. Он оставил на столе, на видном месте, письмо Наташи.
Не то чтобы он ночью не мог обойтись без этого письма. Но в любое время суток мог появиться Енисеев, или Росомаха, или Барсук, или все вместе. Видеть такое послание им ни к чему, особенно Енисееву. Даже знать, что Наташа шлёт письма через подругу, — и то ни к чему.
Лабрюйер резко повернулся — и увидел мужчину, который так же резко остановился и замер, словно в детской игре «море волнуется». Он стоял, окаменев не более половины секунды, но Лабрюйер понял, что значит эта поза. Он спокойно пошёл навстречу мужчине, внутренне готовый к тому, что возможна драка, и даже драка с применением ножа.
Нужно было не просто разглядеть, а запечатлеть в памяти лицо человека, вздумавшего преследовать Лабрюйера. Вряд ли это был кто-то из прошлого — слишком давно Лабрюйер не гонялся за мошенниками, да и знал в лицо своих «крестников». А вот ждать поклонов и приветов от Эвиденцбюро он мог, и странно даже, что эти господа не объявились раньше.
Народу на Гертрудинской почитай что не было. Кто желал совершить вечерний моцион под лёгким снегопадом — тот уже, нагулявшись, сидел дома в тёплом халате и лениво беседовал с семейством, вводя себя в сонное состояние. А противник перед Лабрюйером был весьма весомый — крупный плечистый мужчина с бритым лицом, гладким и бледным, чем-то похожий на актёра.
Револьвер Лабрюйер носил под мышкой, на петле, раздеваться посреди улицы было бы смешно и нелепо. Но в кармане имелся нож. Финский нож, небольшая финочка с наборной рукояткой, в нетугих ножнах. Попал он к Лабрюйеру, как и револьвер, не совсем законным путём — был отнят много лет назад у опытного налётчика.
Лабрюйер сунул руку в карман, нащупал рукоятку и, готовый в любой миг выхватить финочку, шёл на противника. Ему нужно было оказаться как можно ближе, чтобы разглядеть лицо.
А тот, очень быстро опомнившись, шёл навстречу.
Они поравнялись, разминулись, Лабрюйер пошёл к Александровской, противник — к Дерптской. Не исключено, что собрался ждать Лабрюйера у дверей его жилища.
Но чего же он хотел?
На Александровской Лабрюйер взял ормана, подъехал к своему дому, велел возить себя по Столбовой в надежде, что возле дома обнаружится вдруг что-то подозрительное. Но похожий на актёра мужчина, видно, был не дурак — понял, что его раскусили, и смылся в неизвестном направлении. Тогда Лабрюйер вернулся в фотографическое заведение за письмом и поехал домой, несколько взбудораженный, но даже довольный — хоть что-то о неприятеле стало известно.
Дома он первым делом стал записывать приметы и сразу понял, что навело на мысль о театре: тонкие, чётко очерченные губы, совершенно не свойственный обычному мужчине «купидонов лук». И сам цвет лица, как будто напудренного; впрочем, это могли быть проказы уличных фонарей.
Переодевшись в домашний халат, Лабрюйер вдруг решил, что нужно навестить Хоря. Прямо в халате он отправился с визитом. И пришёл вовремя — Хорь как раз заварил себе крепкий чай.
— Садись, — сказал он. — У меня ещё крендельки остались. А завтра — на службу.
— Не забудь побриться, — напомнил Лабрюйер.
Хорь провёл пальцем под носом, где уже обозначилась щетина.
— Жаль... Ну когда же наконец пришлют мне сменщика или сменщицу? Рапорт напишу, ей-богу! Скоро Великий пост, что я батюшке на исповеди скажу?! Он же меня из церкви в тычки погонит!
— Ты что, говеешь Великим постом?
— Так в корпусе приучили. Два раза в год — говеть и исповедоваться. Понимаешь, Леопард, это не глупость. Это — дисциплина.
Странно было слышать такое от Хоря, но Лабрюйер уже ничему не удивлялся, когда речь шла о наблюдательном отряде.
— Так у тебя и грехов, наверно, нет.
— Есть... Сам понимаешь, одно на уме...
— Так это не грех. Это как денщик поручику сказал: жениться вам, барин, надо.
Хорь усмехнулся.
— Не та у нас служба, брат Леопард, чтобы жениться. Разве что найдётся девица из наших, телефонисточка или милосердная сестричка, чтобы понимала.
— А Вилли?
— Что — Вилли?
— Если бы за тебя пошла?
Хорь вздохнул.
— Пей чай, а то остынет, — сказал он.
Лабрюйер тоже вздохнул — слов, чтобы утешить Хоря, у него не было.
— А не найдётся ли у тебя книжки, где было бы про любовь — и красиво? — спросил он, допив чай.
Лабрюйер всё ещё надеялся, что удастся использовать для ответа Наташе чьи-то чужие слова и мысли.
— Стихи, что ли?
— Может, и стихи. Только не Бальмонт.
— Ну, вот тебе Ростан. Это француз, от его «Принцессы Грёзы» вся Россия в восторге.
Хорь вынул из стопки книг на подоконнике потрёпанный томик, протянул, Лабрюйер открыл на середине.
— Это что, пьеса?
— Да, и какая пьеса... Ты прочитай. Мы в корпусе зачитывались, монологи наизусть учили. А барышни так и вовсе всю её знали.
— Из древних времён?
— Средние века.
Пожелав Хорю здоровья, Лабрюйер побрёл к себе.
Он улёгся и честно прочитал немалый кусок пьесы. Над ней и заснул.
Утром Лабрюйер встал довольно рано. Делать было нечего, и он, взяв с собой «Принцессу Грёзу», пошёл в фотографическое заведение.
В салоне уже хозяйничали Ян и Круминь-старший.
— Господин Лабрюйер, — сказал Ян. — Мы тут утюг нашли...
— Опять утюг?! — изумился Лабрюйер. — И где же?
— Под помостом.
Оказалось, одна из досок помоста, на котором выстраивали для клиентов композиции с чучелом козы, старинным креслом и прочим реквизитом, была ненадёжной, треснула посерёдке, и Ян, никому не докладывая, решил её с утра пораньше заменить. В хозяйстве у дворника Круминя было несколько подходящих досок, он выбрал одну потолще и принёс её с вечера в салон. Утром же, вместе с отцом вынув треснувшую, Ян обнаружил под помостом целый склад. Пича наловчился засовывать туда сбоку свои сокровища, насчёт которых справедливо опасался, что госпожа Круминь отправит их в печку. Это были дешёвые фотокарточки с дамами в одном белье и даже в одних чулках. Кроме того, Ян извлёк жутчайшего вида журнал с цветными картинками, без обложки, на английском языке. Судя по грязным и лохматым страницам, его передавали из рук в руки лет двадцать, не менее. Затем были добыты сломанный револьвер и нож без рукоятки.
Револьверы после событий 1905 и 1906 годов в Риге можно было найти чуть ли не на каждом чердаке, а вот английский журнал, да ещё такой древний, был диковинкой.
Там же стоял утюг госпожи Круминь.
— Всё-таки он что-то затеял с этим утюгом, — задумчиво сказал Лабрюйер. — Даже страшно подумать, сколько пользы может извлечь из утюга обычный мальчишка. Оставь всё как есть, Ян, и присматривай за братцем хорошенько. И вы тоже, Круминь. Ян! Ну-ка, глянь, нет ли в этом проклятом утюге чего любопытного!
Но ёмкость для углей была пуста.
Несколько озадаченный странной логикой Пичи, Лабрюйер пошёл телефонировать в сыскную полицию. Его интересовали исключительно покойники — не было ли в сводке двух трупов из подвала и третьего — принадлежавшего Ротману?
Линдер, держа трубку возле уха, просмотрел сводку и ничего подходящего в ней не обнаружил.
— И ещё. По Риге расхаживает убийца. Я его видел, я его узнал. Вроде бы в воровской среде он неизвестен, но точно ведь знать нельзя. Лицо у него очень приметное.
— Приходи в архив, я договорюсь, тебя пустят покопаться, — сказал Линдер. — Может, он по какому-то делу проходил и его снимали на плёнку.
— Вот и мне так кажется. Иначе — какого беса ему бояться, что его опознают?
— После обеда телефонируй мне. Сейчас больше говорить не могу — меня один сукин сын дожидается. За две медные кастрюли и старый самовар старуху убил. Сидит в коридоре, рыдает, божится, что нечаянно. А кастрюли с самоваром спрятал на чердаке тоже нечаянно. Вот, буду разбираться. Похоже, у него подельник был.
— Успеха тебе.
Повесив трубку, Лабрюйер задумался — как бы раздвоиться на две персоны? Чтобы Лабрюйер-первый поехал на Выгонную дамбу искать «черепа», а Лабрюйер-второй поехал в другую сторону, к Московскому форштадту, искать Нюшку-селёдку, пока и её не укокошили. Но, поскольку чудес не бывает, Лабрюйер выбрал Нюшку.
Однако сперва он отправился к Панкратову.
Во-первых, следовало убедиться, что у старика всё в порядке. Во-вторых, Кузьмич обещал свести с начинающим агентом Сенькой Мякишевым. Насколько Лабрюйер понял, Мякишев ещё только добывает репутацию толкового агента — значит, именно такой человек и требуется, поскольку всех штатных и большинство нештатных сотрудников сыскной полиции Московский форштадт знает.
Панкратов повёл Лабрюйера к складу на Конюшенной, где обретался Сенька. Он не имел пока в Риге работы и помогал приятелю-грузчику, одновременно домогаясь поручений у полицейских инспекторов. Его уже знали, уже заметили, и он имел неплохие шансы выбиться в люди.
Увидев Сеньку, Лабрюйер сразу понял: где-то по соседству с Мякишевыми жил цыган. Не еврей, а именно цыган — этот тип мужской красоты был отлично знаком Лабрюйеру.
Семнадцатилетний парень, широкий в плечах, тонкий в перехвате, глазастый и губастый, имел внешность не самую подходящую для выбранного ремесла. Но как знать — может, научится придавать себе малозаметный вид, глазищи-то умные...
— Задание тебе будет такое. Я найду в трактире одну бабу, потолкую с ней и уйду. А ты погляди-ка, куда она после того побежит.
— Это я запросто! — воскликнул Сенька.
— Погоди, не вопи. Тебе нужно сказочку сочинить. Баба ведь сразу никуда не побежит, — сказал Панкратов. — Она, поди, тоже на службе. Может, через час вырвется, может, через полтора. А ты что думал? Вот и изобретай, как бы тебе эти час-полтора, или сколько выйдет, у трактира проваландаться.
Лабрюйер и Кузьмич переглянулись — обоим было любопытно, что придумает Мякишев.
Парень почесал в затылке.
— Скажу — приехал старшего брата искать. Уговорились встретиться в этом трактире. Где он угол снимет — не знаю... Буду ждать хоть сутки напролёт. Да, а сам я из Людина удрал впопыхах, родители не отпускали...
— Ты люцинский, что ли? — спросил Лабрюйер. — Я должен был догадаться...
Те края были сущим Вавилоном — русское, польское, латышское, еврейское и цыганское население перемешалось, даже, кажется, свой язык изобрело.
— Оттуда...
— А не попадался ли тебе в Люцине пан Собаньский?
Сенька расхохотался.
Оказалось, пан Собаньский пробовал сам смастерить аэроплан, только зря извёл кучу реек и чуть ли не версту холста.
— Таких чудаков на просторах Российской империи хватает, — сказал Панкратов. — Я про одного слыхал — он крылья смастерил и с колокольни прыгнул. Только давно это было. Ну, Сенька, начал ты хорошо, теперь придумывай брата — какое у него ремесло, почему встречу в трактире назначили, именно в этом, значит, брат раньше в Риге бывал? И почём сидел-сидел, и вдруг сорвался, убежал? Ей же потом донесут.
— Да, баба тёртая и враньё сразу почует, — согласился Лабрюйер. — Ну, думай, думай, люцинский герой.
Сенька улыбнулся во весь рот. Улыбка у него была — оперный тенор, любимец дам и девиц, позавидовал бы.
— И придумаю!
Четверть часа спустя Лабрюйеру уже стало казаться, что он сам этого брата Митю знает и вместе с ним не одну кружку баусского пива выпил.
Начертив план с трактиром посерёдке, Лабрюйер выслал вперёд Сеньку со скаткой через плечо на солдатский лад, которую и выбросить не жалко. Сеньке было выдано пятнадцать копеек, чтобы сидел и питался, не то могут и выпереть из трактира.
Сам Лабрюйер, проводив Панкратова, вышел на речной берег, туда, где заканчивался Двинский рынок, занимавший почти всю набережную, от Рижского замка до Конюшенной. Наняв там ормана, он поехал к трактиру, особого имени не имевшему, а только прозвание хозяина в призыве: «А ну, робя, пошли к Ефимке!»
Трактир Московского форштадта был таким местом, где каждую субботу непременно должна быть драка, и потому хозяева этих заведений не слишком беспокоились о чистоте, порядке и хорошей мебели — всё равно разломают.
Лабрюйер велел орману подождать за углом, на Католической, а сам пошёл на Банную. Ефимкин трактир, где служила Нюшка-селёдка, он помнил с давних времён. Там можно было заказать блюда простые и сытные, очень жирные, что ценилось местной публикой. Лабрюйер знал, что крестьянин в страду скорее обойдётся без мяса, чем без сала, то же касалось плотогонов и струговщиков, при их ремесле мясо, включая солонину, было даже опасно — ну как жарким летним днём протухнет?
Когда в тёмную длинную комнату, где стояли столы, вышла Нюшка-селёдка, Лабрюйер сразу понял — баба пьющая.
— Анна Петровна? — спросил он, стараясь как можно любезнее глядеть на неопрятную тётку в брезентовом фартуке, на вид — лет пятидесяти с порядочным хвостиком, что соответствовало примерно сорока пяти по бумагам.
— Анна Васильевна, — сердито ответила Нюшка. — Чего надо, кавалер?
— Хочу тебе двугривенный дать.
— Это ещё за что?
— Когда ты на Канавной служила, там в одном доме была очень красивая еврейка, она ещё с Ротманом, с вором, хороводилась. Потом её выкупил богатый человек и куда-то увёз.
— Матильда, что ли?
— Может, и Матильда. Вы же там все придумываете себе красивые имена.
— Так если сказать гостю, что ты Хава-Матля, он же креститься и плеваться станет. А Матильда — это по-господски. Я вот Евгенией была, тоже отличное имя.
— Так не знаешь ли, куда она уехала?
— А на что вам?
— Её родня ищет. Какая-то тётка померла, посмотрели завещание — а там она. Родня за голову схватилась, а делать нечего — надо искать.
— Матильда, значит, кому же ещё быть. Её из дому один молодчик сманил, потом по рукам пошла. А выкупил её старикашка, лет тому назад...
Нюшка стала загибать красные пальцы и бормотать, припоминая неведомые Лабрюйеру события.
— Двадцать! — вдруг выкрикнула она.
— Не может быть.
— А вот и может. Это ещё при покойном царе было! Когда он, царь, помер, наша Сашка дочку родила. А замуж она пошла, когда он ещё был жив. А дочке, Верке, сейчас девятнадцать. А Матильда от нас ушла, когда Сашка замуж собиралась, это я точно помню.
— Хорошая же у тебя память, — удивился Лабрюйер. — Так что за старикашка-то?
— Купец один. По делам приехал, а вечером куда деваться? Ну, он — к нам. Ему Матильду вывели — и всё, пропал! Так-то оно было.
— Русский купец?
— Русский, а как звать — не знаю, сам — то ли из Пскова, то ли из Новгорода.
— Это уже кое-что. Вот тебе ещё двугривенный, давай вспоминай дальше.
Но, кроме Пскова и Новгорода, Нюшкина память ничего не удержала.
— Может, Грунька что-то помнит? — предположил Лабрюйер.
— Какая ещё Грунька?
— Грунька-проныра.
Нюшка расхохоталась.
— Да кто бы её в хороший дом взял! Она же уродина, всегда была уродина. Она тут, за спикерами, промышляла. Раз мужчину обокрала, другой обокрала, дознались, без зубов её оставили.
— А ты всё же скажи, как её искать. Она ведь тоже может что-то знать. Я бы с ней потолковал. Ей найдётся что вспомнить.
— Зря время потратишь, кавалер. Искать её в Магдалининском приюте, в Агенсберге.
— А ты с ней хоть иногда видишься?
— А чего с ней видеться, кто она мне? Она у меня из зависти платок попортила, какой-то дрянью облила.
— Понятно. Ну, за Матильду — благодарствую.
— Ступай себе с Богом, кавалер, у меня дел невпроворот.
На том и расстались.
Шагая к пролётке, Лабрюйер сопоставлял в уме то, что наговорила Нюшка, со сведениями от Лореляй. Одна из них врала, но которая — неизвестно. Если верить Нюшке, Матильду из публичного дома увезли то ли во Псков, то ли в Новгород. Если верить Лореляй, её выкупил какой-то человек, потом её содержал Ротман, потом она от Ротмана ещё к кому-то переметнулась. Но Лореляй в те времена была ещё девочкой. Впрочем, решил Лабрюйер, это особого значения не имеет, главное — узнать, побежит ли куда-то после разговора Нюшка-селёдка.
Он поехал в фотографическое заведение. Там хозяйничал Ян. Хорь куда-то выбежал, сказал — на часок-другой.
В лаборатории на столе Лабрюйер обнаружил записку от Хоря:
«Это телефонограмма. Г-жа Урманцева выехала из усадьбы в неизвестном направлении. Попытки узнать о её прошлом пока безуспешны. В церковной книге есть запись о её венчании с г-ном Урманцевым 8 сентября 1889 года. Она тогда носила фамилию Свентицкая. Где она была до того времени — тайна, покрытая неизвестным мраком. На момент венчания ей было 23 года, если не соврала. В фотографических альбомах, имеющихся в усадьбе, фотографий её юности и детства нет, но есть следы выдранных страниц. Обещали при появлении новых сведений телефонировать».
— Чёрт знает что, — сказал Лабрюйер. — Олухи царя небесного!
Он имел в виду неспособность провинциальных полицейских агентов узнать, получала ли Урманцева перед своим исчезновением какие-то письма, а если да — то откуда.
Гувернантка знала нечто важное, сообщила это «нечто» Урманцевой, а когда в дело вмешался он, Лабрюйер, Урманцева пропала. Куда, зачем?
— Господин Гроссмайстер, — сказал Ян. — Можно мне взять на пару часов «Атом»?
— Бери, конечно, только не поломай, — ответил Лабрюйер.
Ян широко улыбнулся. Он был очень аккуратен с фотографической техникой, а если судить по улыбке — Лабрюйер сейчас подарил парню какое-то невероятное счастье.
«Ну да, — подумал Лабрюйер, — ему же всего восемнадцать, и наверняка есть барышня, которую он хочет поразить наповал, сделав её карточку на фоне памятника Петру Великому».
Оказалось, не в Петре Великом дело.
— Я буду в комнате снимать, — признался Ян. — Там из окна Гертрудинскую церковь видно.
— Но это же будет контражур, — ответил Лабрюйер. — Ты сам понимаешь, если снимать человека на фоне окна, через которое в комнату идёт свет, то получится один чёрный силуэт.
— Я пробовал снимать из окна салона. Она... то есть человек, стоял на улице, а я снимал большим аппаратом вот отсюда.
— А в салоне свет горел? — заинтересовавшись, спросил Лабрюйер.
— Горел.
— И как получилось?
— Плохо получилось. Но должен же быть способ снимать под углом. Возить аппарат по всему салону я не хотел, вот попробую с «Атомом», может, что-то выйдет.
— Давай сперва попробуем в салоне, пока нет посетителей. Неси сюда «Атом», — велел Лабрюйер.
Ян принёс аппарат, и они с азартом стали искать заветный угол для съёмки. Отщёлкали не менее дюжины кадров, причём Лабрюйер даже нарисовал карандашом план салона и свои перемещения возле витрины.
— Беги, проявляй скорее, — велел он. — Очень любопытно, на что мы столько плёнки извели.
— А кто будет принимать клиентов?
— Я их задержу, иди скорее.
Чем задержать — в салоне имелось, одни альбомы чего стоили.
Примерно час спустя были готовы карточки, сделанные для пробы. Их оказалось одиннадцать — два кадра Ян всё же загубил.
— А что, могло быть хуже, — сказал Хорь, изучая Яново творчество. — Время потрачено не зря.
— Мы, наверно, минут двадцать нужные углы искали, — ответил Ян.
— И все двадцать минут перед витриной стояла пролётка?
— Какая пролётка?
Качество карточек было далеко не блестящим, но можно было понять — в пролётке женщина, худощавая блондинка. Она велела орману остановиться не прямо перед дверьми фотографического заведения, а сбоку, и явно пыталась разглядеть, что делается за витринным стеклом. Гуляющего возле витрин Лабрюйера она видела, а Яна в глубине салона — нет, и вряд ли поняла, что идёт фотосъёмка.
— Фирст! — воскликнул Лабрюйер. — Срочно нужен Фирст!
Быстро одевшись, он взял карточки и на трамвае поехал в полицейское управление.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Фирст был на задании, а Линдер не имел времени на разговор, он должен был выезжать в Московский форштадт, где обнаружили сильно покалеченного, ограбленного, но способного давать показания русского купца. Он взял фотокарточки и обещал передать их Фирсту.
— Другим агентам тоже покажи, — попросил Лабрюйер. — Может, дамочка кому-то уже знакома.
— Хорошо, а теперь — извини, бегу.
Из сыскной полиции Лабрюйер пошёл к Немецкому театру — искать ормана, который возил блондинку. К счастью, там в очереди обретался Мартин Скуя. Он вместе с Лабрюйером обошёл собратьев по ремеслу, и хозяина пролётки определили точно — Бертулис Апсе, искать его лучше у Новой Гертрудинской церкви.
— К тёще не заезжал? — спросил Скую Лабрюйер.
— Заезжали с женой.
— Не нашёлся Леман?
— Тёща говорит — там вообще странные дела творятся. Внуки Лемана куда-то подевались. В доме — только дочка с мужем, да ещё к мужу приехали два каких-то парня, тёща слыхала — будто бы племянники. Она говорит — не хотела бы с этими племянниками встретиться ночью на пустой улице.
— Этого ещё не хватало... А что за человек Бертулис Апсе?
— Обычный человек, ездит правильно, я не слыхал, чтобы он в происшествие угодил. Ну, ездит давно, лет десять, наверно... Лошади у него староваты, но спокойные... что ещё?..
— И на этом спасибо.
В фотографическое заведение Лабрюйер возвращался пешком и неторопливо. Там его ждала суета, а ему было над чем поломать голову.
Пройдя мимо заведения, он направился к Новой Гертрудинской церкви. Место было для орманов привлекательно тем, что там стоял известный всей Риге Большой Насос, а рядом шла торговля съестным, и умные соседки приносили корзинки с горячими, прямо из печки, пирожками.
Бертулиса Апсе Лабрюйер не нашёл, но просил орманов передать: пусть заглянет в «Рижскую фотографию господина Лабрюйера».
Темнело, и рабочий день в фотографическом заведении близился к концу. Пора было запирать двери. Лабрюйер вместе с Хорём и Яном забрался в лабораторию, и там Хорь принялся колдовать над Яновой плёнкой, вытягивая изображение блондинки, добиваясь максимальной резкости. Ян внимательно следил за манипуляциями — учился. Госпожа Круминь в это время прибиралась в салоне.
Потом Хорь признался, что ещё не совсем здоров, и госпожа Круминь принесла ему целебных травок. Хорь ушёл домой — лечиться, а Лабрюйер, отпустив Яна, сходил поужинать во «Франкфурт-на-Майне» и вернулся в фотографическое заведение. Нужно было дождаться Сеньку и узнать, куда бегала и с кем говорила Нюшка-селёдка. С Сенькой было условлено, что он дворами проберётся к квартире Круминей, живших, как и полагается дворницкому семейству, на первом этаже, постучит в окошко, и тогда кто-нибудь введёт его в заведение с чёрного хода.
Сеньки всё не было и не было. Лабрюйер с горя сел читать «Принцессу Грёзу». Красивый и отважный герой Бертран (помирающего Рюделя Лабрюйер не счёл героем) с боями пробивался к принцессе Мелиссинде, чтобы прочитать ей стихи. Случилось то же самое, что с Бальмонтом, — стихи, вокруг которых персонажи пьесы развели столько суеты, показались Лабрюйеру вычурными. Но настала минула, когда он поймал себя на острой ненависти к принцессе. Это его удивило, читать было всё интереснее, узнать, выдержит ли Бертран атаки соблазнительницы, — всё важнее.
В самую решительную минуту Лабрюйер услышал, как через чёрный ход кто-то пробирается в заведение. Он отложил книгу, достал револьвер. Но это были Енисеев и Росомаха.
— Ну-ка, Леопард, расскажи подробно, где ты взял этот чертёж, — потребовал Енисеев.
— Какой чертёж?.. A-а, летающий пароход! — вспомнив приспособленные к бортам аэроплана колёса, воскликнул Лабрюйер. — У Панкратова снимал комнату изобретатель, я же рассказывал, этакий гений из провинции. За комнату, понятное дело, не платил, и Панкратов его выставил. А чертёж он при сборах попросту забыл.
— Понятно. Я показал это произведение искусства нашим чертёжникам. Сделано-то безупречно. И тут входит инженер, Розенцвайг. Ему любопытно стало, мы и показали. И знаешь, что он сказал? Что отвезёт эту штуковину на «Мотор», к Калепу, потому что она, кажется, может очень пригодиться. Так что неплохо бы отыскать изобретателя. Если в его затее есть хоть какой-то смысл, ему заплатят.
— И мы внесём свой вклад в развитие русской авиации, — добавил Росомаха. — Думаете, нас хоть кто-то поблагодарит?
Наблюдательный отряд дружно расхохотался.
— Как госпожа Круминь приняла мой подарок? — полюбопытствовал Енисеев.
— Спроси лучше, как я его принял. Чуть не поседел, — огрызнулся Лабрюйер. — И за нами следят, я сам видел топтуна.
— Вот и прекрасно. Сделай, пожалуйста, описание. И тогда им займётся Акимыч. Да что это я раскомандовался? Где Хорь?
— Сказал, что выйдет ненадолго. И в самом деле, куда-то запропал. А насчёт утюга ты поторопился. Ян с Круминем старый нашли.
Лабрюйер описал найденные под помостом сокровища, Росомаха рассмеялся:
— Это, может, даже не Пича, а сам старый Круминь припас!
— Сумасшедшее у нас всё-таки ремесло, — горестно признался Енисеев. — Казалось бы, дрянь какая-то — чугунный утюг! А ведь сколько смыслов в него может быть вложено, кроме его прямого назначения. И вот дёргаешься, беспокоишься, разгадываешь — в ущерб более серьёзным делам. А оказывается — трата времени, и винить некого. А не потратили бы время — оказалось бы, что как раз в утюге кроется государственная тайна.
— Мы идём неверным путём. Нужно было подтолкнуть к настоящему розыску госпожу Круминь. Она бы нам столько государственных тайн откопала — успевай только слать донесения, — заметил Росомаха. — Что, Леопард, она больше не ходила допрашивать соседок?
— Кто её разберёт. Она обо всех своих манёврах не докладывает.
— Но сама мысль, что преступление могло быть совершено во время беспорядков, мне нравится. Тогда ведь было столько безобразий... — Енисеев покачал головой. — Ты бы потолковал с ней об этом, Леопард. Вот этот твой Ротман — тоже ведь ищет свидетеля, который подтвердил бы невиновность племянника, и кого-то уже нашёл. Через Ротмана можно выйти на подлинного виновника расстрелов...
— Который сейчас благоденствует в Риге и в ус не дует? Горностай, ты в школе плохо географию учил. Из Риги перебраться в тот же Стокгольм несложно. Требуются тёмная ночь и опытный рыбак с паровым катером. Маршрут — из Риги в ту же Виндаву можно и пешком дойти, там немногим более полутораста вёрст, местность лесистая, если двигаться целым отрядом и знать, где устраивать днёвки, так это — увеселительная прогулка. Оттуда — на Готланд, и — всё, ты свободен. Те, кто безобразничал в пятом или шестом году, или в Сибири, или за границей, я это в который раз повторяю! — Лабрюйер уже начал сердиться.
— А если не всё? Тот, за кем гоняется Ротман?.. Он ведь не простой свидетель, если пытался убить Ротмана и убил его сожителей, — возразил Енисеев.
— Я полагаю — это человек того же круга, что и Ротман, только более везучий. Он остепенился, он, может, жениться собирается! И тут Ротман призывает его свидетельствовать! А при свидетельстве всё его жизнеописание на свет божий вылезет. По описаниям, «череп» одет более чем прилично, ведёт себя достойно, когда не бегает по кладбищам, и совершенно не хочет, чтобы в его прошлом копались. Не смотри на меня так, Горностай, я уже почти выяснил, где он живёт, теперь главное — добраться до него прежде, чем полиция найдёт в подвале покойников и приступит к неторопливому розыску. Но я могу спорить, что «череп» — не тот, кто нам нужен.
— А твой маньяк, значит, тот, кто нужен? Да он за это время мог в Австралию убраться!
— Ты забыл, что убиты Петер Леман и Грунька-проныра. Он — в Риге или поблизости от Риги. И я его найду, — твёрдо ответил Лабрюйер.
Про загадочную блондинку он решил пока не докладывать. Раз Енисеев не верит в причастность маньяка к утечке сведений о военных заказах — то и бог с ним; ещё прицепится, чего доброго, к тому, что Лабрюйер пускает на ветер казённые деньги.
— Господа, господа! Нам нужны они оба! — воскликнул Росомаха. — И перестаньте ссориться, это нелепица — в ваши-то годы. Смешно смотреть, ей-богу.
Енисеев и Лабрюйер разом друг от дружки отвернулись.
— А что, Леопард, не напоишь ли чаем? — спросил Росомаха.
— Хорь, — сказал Енисеев, первым услышав, что возле двери чёрного хода копошатся. Но это был дворник Круминь, в тулупе поверх исподнего, который привёл Сеньку Мякишева. По лицу дворника было видно: будь его воля, он бы эту цыганскую рожу близко к заведению не подпустил, но если господину Гроссмайстеру угодно якшаться с цыганами — глас рассудка умолкает.
— Докладывай, — выйдя из лаборатории, велел Лабрюйер.
— А нечего докладывать. Баба никуда не побежала, а на кухне хозяйничала. Потом, как народ разошёлся, хозяин на неё орал. Опять, говорит, набралась! А она — что? Отбрёхивалась, потом домой побрела, она угол на Банной снимает, там и спать завалилась. Никто к ней не приходил, никто её не спрашивал, никого она никуда не посылала. Про неё говорят — живёт бедно, пьёт, никто с ней дела иметь не хочет, селёдкой потому прозвали — любит селёдкой закусывать. Дружится только с тамошними, приличные люди никогда её не навещают. Спьяну хвастается, как на Канавной в лучшем доме служила и соболя носила. Вот всё.
— Молодец, — похвалил Лабрюйер. — Вот, господа, рекомендую — Семён Мякишев, хочет быть агентом сыскной полиции, учится прямо на ходу — всё вызнал про Нюшку-селёдку. Получается, что она к убийству Груньки-проныры отношения не имеет. С одной стороны, плохо — потому что нужно искать других путей к убийце. С другой, хорошо, что не нужно тратить время на Нюшку.
— Значит, ты продолжаешь ловить маньяка? — спросил Енисеев. — А поискать третьего злодея не хочешь? У тебя пока маньяк и «череп», но может быть ещё один, как говорят аглицкие милорды, скелет в шкафу. Ищи другие сомнительные случаи.
— Разумеется, я их буду искать. Вот и Мякишев мне поможет. Мякишев, эти господа — из столичной полиции, ловят шайку, — по-простому объяснил Сеньке Лабрюйер. — Поскольку ты сейчас хорошо себя показал, то я бы хотел, чтобы ты и впредь выполнял мои приказания.
— Разумно, — согласился Росомаха. — Парнишка на агента непохож, в таком качестве его в Риге ещё не знают... или уже знают?..
— Я господину Фирсту два раза помогал, — похвастался Сенька. — Господин Панкратов нас свёл.
— А как ты с Панкратовым познакомился? — спросил Енисеев.
— Меня к нему послали. Сам-то я из Люцина. Решил в Ригу перебраться, что мне там высиживать? А у матери кум в полиции служит, околоточным. Он дал записку для господина Панкратова. Я три дня его искал, насилу отыскал. Он прочитал, посмеялся, свёл меня с Корчагиным, это грузчик, велел при амбаре жить, чтобы знать, где меня искать.
— Карьеру, значит, решил сделать? Полицейскую?
Усмешка Енисеева, как всегда, не понравилась Лабрюйеру.
— Ничего плохого в полицейской карьере я не вижу, — ответил он вместе Сеньки.
— И я не вижу. Более того — я предлагаю господину Мякишеву сотрудничество. Уступи его мне, брат Аякс, он мне пригодится, — сказал Енисеев.
— Тебе бы больше пригодился агент, знающий Ригу и рижан, — возразил Лабрюйер. — А Мякишев знает здесь только Панкратова, меня и несколько человек в каменном амбаре, где подрабатывает.
— Это одна сторона медали. А другая — его тут тоже никто не знает. Если он устроится на тот же «Мотор» махать метлой, никто его ни в чём не заподозрит, — ответил Енисеев. — И ему не придётся притворяться провинциальным парнишкой. Уступи парня, брат Аякс! Ты другого Найдёшь!
— Да чем тебе Мякишев так полюбился?!
— У него глаза умные!
Сенька, слушая эту перепалку, даже оробел.
— Отдай ему парня, Лабрюйер, — вмешался Росомаха. — Нам он действительно нужен. После той неудачи с «Мотором»... ну, ты понимаешь... нужен человек, которому там можно что-то поручить, такой, к которому не прицепишься... Мякишев, тебе сколько лет?
— Семнадцать.
— Ну вот! Вне подозрений! А агент из него выработается отличный.
Лабрюйер нехорошо посмотрел на Енисеева.
— И мне нужен человек вне подозрений, — сказал он. — Я думал послать его завтра на Выгонную дамбу, «черепа» искать. Также, было бы тебе ведомо, за моим заведением наблюдает хорошенькая блондинка, а за мной самим — какой-то актёр погорелого театра. Так что и тут мне человек потребуется.
— Господин Мякишев, я вам больше предложить могу, чем Гроссмайстер! — Енисеев откровенно развлекался. — Сколько он вам в день платит? Не глядя — даю вдвое больше!
Сенька озадаченно посмотрел на Лабрюйера.
— Вот то-то и оно, что ты в людях не разбираешься. «Вдвое больше, вдвое больше»! — Лабрюйер очень похоже передразнил Енисеева. — Мы о деньгах вообще не говорили. Я знал, что Мякишев сделает всё возможное, а он знал, что я не поскуплюсь. Вот такая арифметика.
— Да?.. — спросил ошарашенный Енисеев. — Ну, тут ты меня уел. Тогда предлагаю поделить господина Мякишева пополам. Пока пускай трудится на тебя. А когда для него будет место на «Моторе» — заберём. Разумно, господа?
— Разумно, — согласился Росомаха. — Соглашайся, Сеня. Мы люди нежадные. Будет всё — и похождения, и деньги, и французский коньяк. Ты пил когда-либо французский коньяк? Вижу — и слова такого не слыхивал. А у меня во фляжке есть — на случай сибирских морозов. Пошли в лабораторию, там найдётся из чего выпить, опять же — чай!
— Да, чай! — Лабрюйер поспешил снять кастрюльку со спиртовки.
Лаборатория была не так велика, чтобы четыре человека разместились там с удобствами. Но теснота лишь привела всех в весёлое расположение духа. Дали Сеньке попробовать коньяк и долго объясняли ему, что этот клопомор и горлодёр все знатные господа уважают.
— А Хорь мастерит себе адскую смесь из горячего чая, малинового варенья и рома, — сказал Лабрюйер. — Если ещё заварит те травки, что дала госпожа Круминь, так завтра будет свеж, как огурчик...
— Чш-ш-ш... — Енисеев поднял палец, призывая всех к безупречной тишине, а Росомаха, тоже услыхавший шум у чёрного хода, немедленно погасил свет в лаборатории.
Наблюдательный отряд затаился.
Лабрюйер не столько слышал, сколько угадал движения Росомахи и Енисеева: они достали оружие.
Неведомый гость, почти беззвучно проникнув в фотографическое заведение, прошёл мимо лаборатории, открыл дверь и оказался в тёмном салоне. Там заскрипело, заскрежетало, и Лабрюйер понял — гость двигает помост.
Вряд ли он пришёл за бесстыжими картинками, которые спрятал от родителей Пича. Так что же — за утюгом?..
Лабрюйер ощутил не плече руку. Это Енисеев отодвинул его и бесшумно, как кот, просочился в коридор. За ним пошёл Росомаха — куда более крупный и плечистый, но тоже по-звериному ловкий. Лабрюйеру стало стыдно — и он тоже покинул лабораторию, внутренне готовый к хорошей драке.
Енисеев и Росомаха стояли у приоткрытой двери, через которую был виден салон. Помещение освещалось через витрины уличными фонарями. Лабрюйер увидел силуэт, и этот силуэт довольно странно двигался. Он резко съёжился, замер, так же стремительно выпрямился и снова замер, стоя на довольно широко расставленных ногах и вытянув перед собой руку параллельно полу. Закаменев в этакой позе, он продержался минуты две, потом рука дёрнулась.
Гость помянул чёрта, опустил руку, ссутулился, опять выпрямился, чуть наклонив корпус вперёд, опять выбросил руку вперёд. И замер.
— А что? Я тоже именно это проделывал, — довольно громко сказал Енисеев. — И, вы не поверите, господа, тоже с утюгом. Включи малый свет, Росомаха.
Зажглись две лампочки большой люстры, и Лабрюйер увидел Хоря, в мужской одежде и с утюгом. Тут до него дошло — парень тренировался. Он не мог открыто ходить в тир и совершенствоваться в стрельбе, но приучить руку к тяжести, которая заведомо больше, чем тяжесть револьвера, он мог.
Заряженный револьвер системы «наган», а именно такой был у Хоря, весил два фунта — и Хорь из него промахнулся. А чугунный утюг госпожи Круминь — это добрых шесть фунтов, да ещё поди удержи его неподвижно за ручку...
Видимо, Хорь собирался попробовать, как пойдёт дело с утюгом, и если окажется, что именно этот снаряд ему нужен, — вернуть госпоже Круминь её имущество, а себе купить свой собственный утюжище. Но он некстати заболел.
— Господин Мякишев! — позвал Енисеев. — Идите-ка сюда! Тут вас поучат правильному обращению с револьвером. У нас имеется мастер своего дела...
Хорь поставил утюг на помост, оттолкнул Росомаху и быстро вышел.
— Напрасно ты, Горностай, — сказал Росомаха. — Ты бы в такой истории не то что утюг, а мельничный жёрнов сбондил и с ним по ночам маялся. Иди сюда, Сеня. Я тебя поучу. Вставай, держи ручку...
— Что он за командир, когда такой обидчивый? Ей-богу, как старая дева, — буркнул Енисеев. — Самообладание — такая штука, что в аптеке не купишь.
— Самообладание и в пятьдесят не у всех имеется, а ему — двадцать два, кажись, — добавил Лабрюйер. — Хуже нет, когда не можешь дать сдачи тому, кто вдвое тебя старше.
— Может, черти бы его побрали! Может! Он же — командир отряда! — взорвался Енисеев. — Да я бы счастлив был, если бы он сейчас послал меня по матушке! Он должен быть свободен, понимаете? Свободен принимать решения! И не думать, кому сколько лет и где у кого любимая мозоль!
— После того как он провалил операцию, с ним надо поаккуратнее, — сказал Росомаха.
— Нет! А если с ним нужно обращаться, как с фарфоровой вазой Севрской мануфактуры, значит, он не то ремесло выбрал!..
И тут в салон ворвался Хорь. Оказалось — стоял у чёрного хода и весь спор подслушал.
— Господин Горностай, а не пойти ли вам?..
Посыл был энергичный и просто великолепный. Сенька, таких художеств ещё не слыхавший, даже утюг выронил.
— Есть! В десятку! — воскликнул Енисеев. — Росомаха, уходим. Леопард, пусть Мякишев... Нет! Хорь, ты командуй.
— Мякишев? — не сразу понял Хорь.
— Наш новый агент, — Росомаха указал на Сеньку. — Хорошо бы ему пока пожить тут, а ты покажи ему все ходы и выходы.
Хорь с интересом оглядел Сеньку.
— «Очи чёрные, очи страстные...» — негромко пропел он.
— Тебе Леопард обо всём доложит. Значит, Леопард, постарайся найти люцинского гения.
Лабрюйер видел, что примирения между Хорём и Енисеевым пока что нет. И сообразил, что эта беда — ему на пользу.
— Я также буду докладывать Хорю о поисках маньяка, — сказал он.
— Да, конечно, — ответил Хорь. — Непременно.
— Спелись... — проворчал Енисеев. — Но, Леопард, ищи всё-таки и третьего злодея. Я не думаю, чтобы человек, у которого в голове зонтиком помешали, мог служить на заводе и безупречно скрывать своё безумие. И Ротмана ищи.
— Если он только жив. Да и нужен нам не столько Ротман, сколько «череп». Это ведь он — свидетель преступления, если только мы все правильно поняли Ротмана, — заметил Лабрюйер. — Может ведь и такое быть, что «череп» и свидетель, которого отыскал Ротман, — два разных человека.
— Может, — согласился Хорь. — Тогда выходит, что «череп» — преступник...
— Он и есть преступник, если людей убивает. Ладно, пойдём мы. Всё вроде обсудили, все страшные тайны раскрыли, — подытожил Енисеев.
— Спокойной ночи, товарищи, — сказал Росомаха.
Когда они ушли, Хорь занялся Сенькой Мякишевым и расспросил: кто таков, чему учился, что умеет. Лабрюйер меж тем баловался с утюгом — и впрямь, держать его на вытянутой руке за ручку было затруднительно.
Потом Сеньку уложили спать в закутке, чтобы утром сразу направить его на Выгонную дамбу, а Лабрюйер и Хорь пошли домой.
— Мне не нравится, что за «фотографией» так открыто следят, — сказал Лабрюйер. — Ты сейчас выйдешь на Колодезную, перейдёшь Гертрудинскую и пойдёшь мне навстречу по той стороне улицы. А я пойду, как обычно. Если за мной кто-то увязался — ничего не затевай, просто понаблюдай.
Но на сей раз мужчины с актёрской физиономией не было.
Утром Сеньку покормили и отправили на поиски «черепа». Лабрюйер велел ему узнать всё про меблированные комнаты и гостиницы в окрестностях Выгонной дамбы. Узнать — и не более того! Сам он пошёл искать Бертулиса Апсе.
Орман стоял возле Большого Насоса и сперва даже не понял, чего Лабрюйер от него добивается. Потом вспомнил, где села в пролётку блондинка и куда велела себя везти, понаблюдав за «Рижской фотографией господина Лабрюйера».
— Она по-немецки говорила? — спросил Лабрюйер.
— По-немецки. Но малость не на здешний лад.
— А какого она, на твой взгляд, возраста, какого сословия?
— Средних лет, в такие годы уже замужем обычно бывают и двоих-троих растят.
— Значит, около тридцати. Особых примет не заметил?
— Да какие там приметы? Бледненькая такая немочка.
— Итак, взял ты её возле Бастионной горки, а потом повёз в Задвинье?
— Да, на Нейбургскую улицу.
— А дом ты часом не запомнил?
— Там все дома одинаковы, деревянные. А место приметное — три улицы вместе сходятся. Так она как раз на Нейбургской сошла.
— Понятно. Держи гривенник.
Нейбургская была примерно там, куда укатила, по сообщению Фирста, женщина, ожидавшая автомобиля у ворот «Мотора».
Теперь нужно было убедиться, что блондинка, которую преследовал Фирст, и блондинка, которую сфотографировал Ян, одна и та же женщина.
Лабрюйер нанял Бертулиса Апсе на весь день и покатил к Полицейскому управлению. Там он увидел Фирста, бежавшего по коридору с какой-то корзиной.
— Карточки видел? — спросил Лабрюйер.
— Она самая! — ответил Фирст и исчез.
Лабрюйер пока не мог составить в голове полную картину из клочков и кусочков. Странная фрау Крамер, её загадочный спутник, блондинка и слежка за «фотографией» как-то были между собой связаны, но как? Похожий на актёра топтун — из этой ли компании, или ему дал задание кто-то вовсе неизвестный? Он вышел на Театральный бульвар, сер в пролётку и велел Апсе везти себя в Задвинье, на Нейбургскую.
Дом, у которого орман высадил блондинку, и впрямь был самый обыкновенный. Разве что недавно окрашен в приятный кремовый цвет и имел на всех окнах второго этажа красивые кружевные занавески. Это навело на мысль — не сдаёт ли хозяин комнаты служащей на «Моторе» молодёжи? Туда ведь приехали работать инженеры из России, им хоромы в центре Риги ни к чему, а от Нейбургской до новых корпусов «Мотора» немногим более версты, в хорошую погоду пройтись — одно удовольствие.
— Ну-ка, вези меня кратчайшим путём к «Мотору», — сказал Лабрюйер.
Ему ещё не доводилось бывать на заводе, и было страшно любопытно, что там да как.
Улицы в Задвинье чистили плохо, по обе стороны проезжей части тянулись высокие и длинные сугробы. Снег в них слежался до каменной плотности. Они были достаточно широки, чтобы два ормана разъехались без скандала, но более сложных манёвров уже не позволяли.
Верх пролётки был поднят, так что Лабрюйер видел лишь дорогу перед собой. Навстречу неторопливо катила телега. Но сзади, судя по шороху шин, катил автомобиль, причём довольно быстро.
— Эй, Апсе, прими вправо! — крикнул Лабрюйер.
Пролётка покатила чуть ли не впритирку к довольно высокому сугробу.
А вот что было дальше — Лабрюйер так и не понял. Скорее всего, неопытный шофёр открытого «Бенца», пойдя на обгон пролётки, не сразу догадался, что не успеет проскочить между пролёткой и телегой. Непостижимым уму манёвром с поворотами он взлетел на сугроб и на нём остановился, сев брюхом машины на острый гребень. Три колеса вертелись в воздухе, четвёртое касалось сугроба.
Шофёр, вцепившись в руль, молчал. Пассажир тоже онемел, только таращился перед собой, выпучив глаза и приоткрыв рот. Оба ещё не поняли, как им удалось вознестись на такую высоту.
— Эй, эй! — закричал кучер, осаживая крупную лошадь. Тогда Лабрюйер, велев орману остановиться, высунулся из пролётки и увидел дивное зрелище.
— Апсе, это же картинка из учебника Закона Божия! — воскликнул он. — Гляди, гляди! Ноев ковчег на горе Арарат!
Бертулис Апсе соскочил наземь и с любопытством подошёл к Ноеву ковчегу. Вдруг орман громко расхохотался.
— Ты что? — спросил, выглядывая из пролётки, Лабрюйер.
— Ему тут до весны торчать! Пока снег не растает! — отвечал сильно развеселившийся орман.
— Ты проезжай вперёд, а то и мы оба тут до весны застрянем, — сказал кучер. — Ты проедешь шагов на тридцать, дашь мне дорогу, а потом стой тут и веселись хоть до Янова дня.
— Он прав, — согласился Лабрюйер.
И тут пассажир заговорил.
— Помогите, ради бога! — сказал пассажир. — Я опаздываю! Я должен быть в дирекции завода ровно в десять!
Его немецкая речь была с акцентом — то есть рижанин, а Лабрюйер был потомственным рижанином в неведомом колене, сразу бы сказал: этот господин нездешний.
— В дирекции «Мотора»? Ну так прыгайте вниз, довезём, — ответил Лабрюйер. Пассажир, сорокалетний мужчина, был довольно худощав с виду и должен был соскочить без затруднений.
— Я не могу, я должен взять модель. Она за мной, на задних сиденьях.
И точно — там было что-то сложное, обёрнутое в холстину, длиной поболее аршина. Достать эту модель, извернувшись на переднем сиденье, шофёр и пассажир могли бы, им это Лабрюйер и посоветовал, но пассажир боялся повредить своё сокровище.
— Модель хрупкая, ажурная! Её нести надо, как младенца! — твердил он. — Трясти — боже упаси!
— Я подгоню пролётку вплотную, а вы её примете на руки, эту штуку, — сказал орман Лабрюйеру.
— Но сперва давай пропустим телегу.
С превеликими хлопотами Лабрюйер, стоя одной ногой на подножке пролётки, а другой на сугробе, взял модель. Она оказалась лёгкой, почти невесомой.
— Теперь слезайте, сударь, — сказал он пассажиру. — Вам орман руку подаст.
— Нельзя, — возразил шофёр. — Никак нельзя!
— Отчего же?
— Вес распределится иначе, автомобиль завалится!
— Ну и пусть заваливается, всё равно ты его водить не умеешь! — воскликнул взволнованный хозяин модели. — Помогите, я не вижу, что там внизу...
Лабрюйер, которого очень забавляло это приключение, помог пассажиру поставить ногу на уступ сугроба, а дальше тот и сам довольно ловко спрыгнул наземь.
— Разрешите представиться — Гаккель, инженер, — сказал он.
— Гроссмайстер, владелец фотографического заведения, — ответил Лабрюйер.
— Господин Гроссмайстер, довершите благодеяние — довезите, ради бога, до «Мотора». Я опаздываю, а этот господин... — Гаккель имел в виду шофёра. — Ему бы в цирке выступать!
— Да садитесь, бога ради. Но как вы свою модель повезёте?
— На руках! Но придётся ехать медленно.
— Вы же хотели быстро.
— Медленно. Ну так скорее!
— Я вас от самого «Руссо-Балта» вёз, я нарочно через Московский форштадт и по реке ехал, чтобы по пустым улицам, чтобы модель не растрясти! — вдруг запричитал шофёр. — Я спешил, я ваше приказание выполнял — скорее, скорее! Кто меня теперь отсюда снимет?!
— Я даже не представляю, как это сделать, — признался Лабрюйер. — Неизвестно, что там у вашего «Бенца» под брюхом. Вы-то сами знаете?
— Грузчиков надо прислать, — додумался Бертулис Апсе. — И дворников с лопатами. Подкопать сугроб, потом на руках перенести.
— Да едем же! — взмолился Гаккель. — На заводе найдём крепких парней, я им заплачу, так и быть!
Пролётка двигалась к «Мотору» презабавно — то быстрее, то медленнее, а углы огибала и вовсе с похоронной скоростью. Наконец показался каменный забор «Мотора». Лабрюйер поднял голову и увидел столбы дыма из высоких труб.
Он полагал, что тут и расстанется с Гаккелем, но Гаккель окликнул парня с тачкой, попросил зайти на проходную, назвал своё имя, и минут пять спустя ворота распахнулись.
Всякий завод — это город в городе. Лабрюйер, принюхиваясь к совершенно незнакомым запахам, с любопытством разглядывал широкие приземистые корпуса, толстые трубы котельных, улицы между корпусами, по которым возили в вагонетках и на тачках разнообразные предметы, ему непонятные, и чуть не бегом носился заводской народ. Его удивили было шинели и фуражки военных, но он вспомнил: заказы!
— Теперь направо, теперь прямо, — командовал Гаккель. — Стоп! Господин Гроссмайстер, помогите мне выбраться!
Лабрюйер выполнил просьбу, за ней последовала другая — отворить перед Гаккелем высокую дверь. Одновременно с хозяином модели к этой двери подкатил мотоцикл и подошли двое мужчин. Один был Лабрюйеру неплохо знаком. Не далее как летом он спас этого человека от смерти. Не один спас, в компании с Енисеевым, но всё же...
— Доброе утро, господин Калеп, — сказал Лабрюйер.
— Доброе утро, господин Калеп! — чуть не хором закричали водитель мотоцикла и его пассажир, оба — в тёплых кожаных тужурках, наподобие тех, что носят авиаторы, и в огромных шофёрских очках.
— Господин Гроссмайстер, вы? С господином Гаккелем? Здравствуйте, Гаккель, рад вас видеть. Здравствуйте, Рейтерн.
— Я Розенцвайга привёз, — сказал водитель. — Ему тоже любопытно посмотреть на модели. Ведь можно?
— У вас, я знаю, будет славный спор, — сказал пассажир, — и я тоже поучаствую.
— Хорошо, Феликс. Теодор, ставьте мотоцикл за углом и поднимайтесь.
Феликс Розенцвайг слез с заднего сиденья, стащил с лица очки и сразу же надел другие, маленькие и круглые. Это был высокий молодой человек, малость нескладный, из-под шапки выбивались на лоб мелкие светлые кудряшки.
— Что же он там возится? — спросил Розенцвайг. — Тео, Тео!
— Проходите скорее, нас уже ждут, — сказал Гаккелю Калеп и придержал дверь, чтобы тот без опаски внёс свою драгоценную модель.
Калепа, волей-неволей узнавшего, с какой организацией сотрудничает Лабрюйер, его появление вовсе не удивило. Лабрюйер же, решив, что при поиске предателя никакие сведения не будут лишними, преспокойно поднялся на второй этаж с таким видом, будто уже десять лет трудится в этом здании и оно ему осточертело.
Для модели Гаккеля был приготовлен особый стол. Рядом стоял другой, а на нём — ещё одна модель, примерно такой же величины. Гаккель освободил своё сокровище от холстины, и Лабрюйер мог их сравнить.
Бывая на Солитюдском ипподроме, часть которого теперь занимал аэродром, он нахватался авиационных словечек и потому знал, что такое «моноплан». Обе модели были монопланами, но произведение Гаккеля не имело фюзеляжа и кабины, а пилоту и пассажиру предназначались два миниатюрных сидения на ферме, соединяющей нечто вроде детских салазок. К этим салазкам были приделаны колёса. Сверху к ферме крепилось крыло, а снизу к крылу был приспособлен маленький макет авиационного мотора с винтом. В целом изящная конструкция сильно напоминала венецианскую гондолу — какой Лабрюйер видел её на журнальных картинках. Снять крыло — и пускайся в плаванье.
Вторая модель, более основательного вида, имела обтянутый тканью фюзеляж, форма крыла была иной, мотор, как сообразил Лабрюйер, был упрятан где-то под фюзеляжем, колёса были гораздо больше. У стола стоял офицер лет тридцати, судя по погонам — лейтенант, в строгом френче нового образца. Его пышные усы напомнили Лабрюйеру Енисеева, только тот не заботился, чтобы острые напомаженные кончики браво торчали в стороны. Взгляд тёмных глаз тоже был другой — не с ехидным енисеевским прищуром, а открытый и ясный.
— Здравствуйте, Яков Модестович, — сказал он Гаккелю.
— Здравствуйте, Виктор Владимирович, — ответил Гаккель, расстёгивая пальто.
Оба приветствия прозвучали так холодно, что Лабрюйер догадался: перед ним соперники.
В просторной светлой комнате было ещё немало народу — исключительно мужчины, главным образом — сравнительно молодые, в штатском и в мундирах.
— Все в сборе, Фёдор Фёдорович, — сказал Калепу Виктор Владимирович. — Можно начинать.
Тут ворвались Феликс Розенцвайг и Теодор Рейтерн.
Рейтерн оказался похож на своего папеньку — такого же крепкого сложения, с широким лицом — но не круглым, а уже по-мужски оформившимся. Его русые волосы были коротко подстрижены — видимо, такими же были и отцовские, пока не поседели.
— Я собрал вас тут, господа, чтобы окончательно решить, какой из аэропланов мы выберем для постройки. Хотелось бы к началу лета иметь экземпляр для пробных полётов, — сказал Калеп. — Вот модель «Гаккель-пять», творение всем нам известного Якова Модестовича Гаккеля. Вот модель «Дельфин». Если кто не знает конструктора, господина Дыбовского, — вот он, вчера только приехал из Санкт-Петербурга. Задача всем ясна — нужна машина, которая может садиться и на суше, включая в понятие суши палубу корабля, и на воде. То есть требуется гидроаэроплан. Для чего — думаю, всем понятно. Господин Гаккель, слово вам.
— Мой аэроплан-амфибия построен два года назад на «Руссо-Балте», господа, и желающие могут его там видеть на заднем дворе, — сказал Гаккель. — Первый российский морской аэроплан стоит на заднем дворе, вместе с ненужными железками и сломанными станками, господа. Прежде, чем попасть туда, он получил серебряную медаль на воздухоплавательной выставке в Санкт-Петербурге, это было в апреле одиннадцатого года. Я надеялся, что мой гидроаэроплан станет надёжным средством морской разведки, но неизвестные мне знатоки сочли конструкцию слишком ненадёжной. Я внёс кое-какие исправления и вновь предлагаю вам свою модель. Готов ответить на все вопросы.
— Вы, Виктор Владимирович, — сказал Калеп Дыбовскому.
— Мы с братом Вячеславом, приступая к работе, знали о претензиях к аэроплану очень нами уважаемого господина Гаккеля, — сказал лейтенант. — К тому же я — сперва моряк, потом военный лётчик, это моё ремесло, и я знаю о море и об аэропланах то, чего в книжках не прочитаешь, — таких книжек ещё не написано. Нехорошо хвастаться, но я, кажется, первый доказал, что авиаторы могут обнаруживать в море подводные лодки. Испытывал в воздухе радиопередатчик Тушкова, летал на «ньюпоре» и на «блерио», занимался аэрофотосъёмкой... Я более практик, чем если бы окончил знаменитый рижский политехникум. Поэтому, работая над «Дельфином», я учитывал, что мой гидроаэроплан будет оснащён российским мотором, а не «Эрликоном», как у господина Гаккеля. Я уже имел дело с мотором конструкции Фёдора Фёдоровича — весной минувшего года, как раз в Риге, мы его испытывали, и результат — выше всяких похвал. Я отдаю должное Якову Модестовичу — он действительно сконструировал первый гидроаэроплан. Это прекрасная работа — а мы с братом сконструировали боевую машину, не столь элегантную, зато надёжную и быструю.
— Отчего вы решили, будто ваш «Дельфин» быстрее моего моноплана? — спросил Гаккель.
— Мы с братом делали опыты. Если обтянуть фюзеляж брезентом, скорость заметно возрастает. До сих пор никто не использовал брезент.
— А о том, что под вашим брезентом мотор будет перегреваться, вы подумали?
И завязался спор, в котором Лабрюйер через полминуты перестал хоть что-либо понимать. Звучали совершенно для него невразумительные «монокок двоякой кривизны», «пилон крепления шасси», «обратная стреловидность крыла», «обводы фюзеляжа».
Дыбовский потребовал дать слово исполнителю, инженеру, чьей фамилии Лабрюйер в общем гомоне не разобрал.
— Мы получили чертежи «Дельфина» ещё в декабре, — сказал этот инженер. — Мы всё просчитали, до последнего болта. Единственное, что нас смутило, — если использовать рекомендованные господином Дыбовским материалы, вес получается слишком большой. Тут придётся обсуждать каждую деталь в отдельности.
— Вот, вот! — воскликнул Гаккель. — Это в моей модели тоже учитывается!
Калеп с усмешкой следил за спором.
— В столице уже почти решено, что мы будем строить «Дельфин», — сказал он Лабрюйеру. — Но сейчас сказано много умного, и Дыбовскому придётся над этим крепко подумать.
К ним подошёл Розенцвайг.
— Господин Калеп, мне в руки попал любопытный чертёж, — сказал он. — Я не конструирую аэропланов, хотя очень хотел бы. Моё последнее задание — крыша для пассажирского вагона второго класса. Вот, поглядите.
Он достал из папки чертёж гения Собаньского.
— Как, он и до «Феникса» добрался? — удивился Калеп. — Видел я это изобретение, хотя и не так безупречно начерченное. Это смешно — но меня преследуют изобретатели вечного двигателя, пушек для запуска ядра на Луну и тому подобных недоразумений. Теперь вот объявился человек, утверждающий, что аэроплан может висеть в воздухе, как стрекоза. И что такому подвисанию способствуют эти боковые колёса. Доводы рассудка бессильны — он убеждён, что я могу написать государю императору и получить приказ немедленно приступить к постройке этого летающего парохода. Он как-то научился проникать на территорию завода и норовит всюду меня подстеречь со своей затеей.
— Я должен был догадаться, — горестно вздохнул Розенцвайг. — Сумасшедшие обожают старательно вычерчивать свои прожекты.
— Да, он не в своём уме, — согласился Калеп. — Впрочем, это безобидный сумасшедший, он не кричит и в драку не лезет. Его даже подкармливают наши сердобольные рабочие. Он с кем-то в слесарном цеху подружился...
Лабрюйер задумался. Он вспомнил Собаньского. Ведьлюцинский гений не один вечер потратил на свой великолепный чертёж. Он должен был хотя бы попытаться его вернуть. И начать поиски ему следовало с Конюшенной улицы. А он там после того, как Панкратов его выставил, ни разу не появился.
Дискуссия о гидроаэропланах меж тем подошла к концу. Калеп своей директорской властью окончательно прекратил её и отправил подчинённых на рабочие места. Вместе с инженерами ушёл и Дыбовский. В комнате остались только Калеп, Лабрюйер и Гаккель.
— Если бы объединить ваш талант и опыт Дыбовского, мир бы имел гениального конструктора, — сказал Гаккелю Калеп. — Но вы не лётчик, а он не имеет ваших знаний. Подружиться с ним вы, боюсь, не сумеете...
— И не собираюсь! — отрубил изобретатель.
— Если вы хотите добиться правительственного заказа на свой аэроплан, вам только им и нужно несколько лет заниматься. А вы — чего только не пробовали.
— И всюду достиг успеха!
Калеп покачал головой. А Лабрюйер вдруг вспомнил, с каким ошарашенным лицом сидел Гаккель в автомобиле, взлетевшем на сугроб.
— Господин Гаккель, вы собирались помочь своему шофёру, — напомнил он. — Бедняга, наверно, до сих пор не вылез из Ноева ковчега.
— Какого ковчега? Ах, да! Фёдор Фёдорович, мне нужно человека четыре самых здоровых грузчика!
Узнав подробности, Калеп рассмеялся и вдруг сильно закашлялся.
— Что-то я в последнее время совсем расклеился, — пожаловался он Лабрюйеру. — Яков Модестович, догоните Рейтерна, он вам даст грузчиков. А модель пусть пока останется тут.
— Нет. Не хочу, чтобы Дыбовский её изучал.
С тем Гаккель и побежал искать Теодора Рейтерна.
— Удивительный человек, — сказал о нём Калеп. — Прекрасное образование, строил в Сибири первую линию высоковольтных передач, в Санкт-Петербурге трамвайное сообщение проектировал, потом аэропланами увлёкся. На его «Гаккеле-седьмом» Алехнович той весной всероссийский рекорд высоты в Москве поставил — шестьсот тридцать четыре сажени. И вот надо же, потянуло его к морской авиации...
— Я, если позволите, сейчас поеду прочь, — ответил Лабрюйер. — Был рад встрече. Кстати, где теперь госпожа Зверева и Слюсаренко?
— Сию минуту, насколько я знаю, в столице. А весной собираются открывать в Зассенгофе, тут поблизости, настоящую лётную школу и строить авиационные мастерские.
— Конкуренты? — усмехнулся Лабрюйер.
— Не совсем. У них другая задача. Изобретать аэропланы они не будут, а будут, если смогут получить заказ от Военного министерства, делать «фарманы» по французскому образцу, но на свой лад, с укороченными крыльями и иными нововведениями. Зверева своего добилась — она спроектировала отличный самолёт-разведчик. Говорят, будет развивать скорость более ста двадцати вёрст в час.
Калеп покосился на большие настенные часы. Это не было намёком. Лабрюйер и без намёков понимал, насколько занят директор завода.
— Она дама решительная и отступать не умеет, — согласился Лабрюйер. — Рад, что у неё всё хорошо. Если появятся вопросы — я вам телефонирую.
— Вы ведь на ормане прибыли?
— Да, так смешно получилось — он ждёт меня где-то на заводской территории. Я его на весь день нанял, — объяснил Лабрюйер. — Честь имею кланяться.
Бертулис Апсе действительно ждал неподалёку — поставил свою пролётку в тупичок и курил трубку в компании двух мужчин; один был в длинном промасленном фартуке, другой — в грязном халате, сильно смахивавшем на подрясник. Судя по весёлым физиономиям, в компании шёл обмен непотребными историйками.
— Едем, — сказал орману Лабрюйер.
Сейчас ему срочно требовалось одиночество.
Молодые офицеры и инженеры так галдели, что Лабрюйер малость ошалел от их жизнерадостного шума. Он даже позавидовал этим мужчинам, способным с таким азартом обсуждать лошадиные силы в моторе. Обсуждение моделей оказалось, как это ни странно, утомительным.
И вдруг тот маленький Лабрюйер, который жил в голове у большого Лабрюйера (большой, откинувшись на спинку сиденья, даже закрыл глаза и попытался задремать, пока пролётка несла его по Калнцемской улице к реке), внятно произнёс:
— Наташа, если бы ты знала, как я устал...
Написать ей такое было невозможно.
— Наташа, это ничего, это пройдёт. Соберусь с силами и распутаю запутанные клубочки, — пообещал Лабрюйер и понял, что вот теперь он, кажется, на верном пути. Примерно так и нужно начать письмо: «Наташа, мы здесь заняты каверзным, сложным и пока совершенно непонятным делом, но я думаю о тебе, я помню о тебе и я говорю с тобой...»
— Так сразу на Александровскую? — спросил, обернувшись, Бертулис Апсе.
— На Александровские высоты. Там мне теперь самое место...
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Лабрюйеру нужно было понять, как расположено богоугодное заведение и есть ли там какие-то дырки в заборе. По опыту Лабрюйер знал, что дырки есть всюду и всегда, а особливо там, где всякие строгости. Если бедным безумцам запрещают пить спиртное и курить табак, наверняка найдётся старичок в приюте при лечебнице, который за малое вознаграждение сбегает в лавку, и не через главные же ворота он побежит.
Лавка отыскалась на Мостовой улице, бывшей, с учётом небольшого моста, как бы продолжением Выгонной дамбы, по которой Лабрюйер и был доставлен к Александровским высотам. Она как раз шла вдоль стены, окружавшей лечебницу, и дальше — к железной дороге и Кайзервальду.
Время было почти вечернее, в лавке скучала хозяйка, Лабрюйер явился нежданным развлечением, купил жестяную коробочку с монпансье — порадовать Пичу, а потом завязал разговор — не страшно ли молодой и красивой женщине жить по соседству с сумасшедшими.
— Не такие уж они сумасшедшие, — сказала хозяйка. — Иные даже совсем приличные господа, а лечат расстроенные нервы.
— Да, такое бывает. Хорошо, если у человека есть умные родственники, вовремя уговорят полечиться и ещё карманных денег дадут. А ведь есть и несчастные, о которых позаботиться некому...
Лабрюйер вздохнул и возвёл взор к низкому потолку лавки.
— Ох, да, есть, есть... — согласилась хозяйка.
— У моих знакомых сын в лечебницу попал. Студент, умница, медик, первым на курсе был, и надо же — заучился. Перестал понимать, где обычные люди, а где — больные, всех лечить пытался. Так со всеми книжками его в лечебницу и свезли.
Это была ловушка — хозяйке следовало вспомнить про другого студента. Но она заговорила о постоянном жителе Александровских высот — маленьком и щупленьком старичке, отчего-то вообразившем себя драгунским капитаном.
— Так-то он обо всём хорошо рассуждает, знает, который день, которого числа, его гулять отпускают, знают, что всегда вернётся. А как вспомнит, что он драгунский капитан, так и начинает чушь нести, бедненький. И дамы все от него без ума, и государь император его крестом наградил.
— И что же, неисцелим?
— Неисцелим...
— И сюда, к вам, захаживает? Как же он через забор перелезает?
— На Аптекарской ворота и калитка есть, иногда через неё можно проскочить, а подальше две доски в заборе расшатаны, снизу гвозди вынуты, они раздвигаются и можно пролезть. Да вы не бойтесь, ничего страшного! Они тихие, буйных держат взаперти. И они далеко не уходят. Здешние их знают и молчат. А если уйдут подальше — их сразу заметят, на них же больничные халаты и колпаки.
Слово за слово — Лабрюйер узнал всё, что только мог, про нравы Александровских высот. И у него в голове стал складываться план.
Возвращаясь, он чувствовал себя Змеем Горынычем: одна голова готовила штурм Александровских высот, другая маялась от острой зависти к молодым офицерам и инженерам, обсуждавшим модели гидропланов. Он тоже хотел быть таким — не очень опытным, но целеустремлённым, убеждённым в своей правоте, немного идеалистом и романтиком на службе Отечеству. Но, видимо, при его ремесле идеализм выветривался ещё до тридцати, а оставалось что-то малопонятное — то, чем иногда бравировал Енисеев, рассуждая о высоких материях. Третья голова ошалело повторяла: Наташа, я пишу тебе эти строки, Наташа, я пишу тебе эти строки...
Подъезжая по Выгонной дамбе к Ганзейской улице, Лабрюйер велел орману ехать помедленнее. Хотя уже давно стемнело и Сенька Мякишев наверняка ждал в фотографическом заведении, Лабрюйер всё же глядел по сторонам — вдруг в свете фонаря мелькнёт полуцыганская физиономия. Тогда можно было бы прихватить парня с собой.
Но не Сеньку он увидел, а Лореляй.
Хотя приличной даме не положено стоять на тротуаре, пусть даже с другой приличной дамой, потому что это удел проституток, Лореляй явно плевала на правила хорошего тона.
— Ну-ка, шагом, — велел орману Лабрюйер и внимательно разглядел дом, возле которого Лореляй затевала свои проказы. Он подумал: «Вот тут, скорее всего, не гостиница, потому что нет вывески, но и не квартиры добропорядочных бюргеров, потому что у тротуара стоят два автомобиля и три конных экипажа». Скорее всего, богатые меблированные комнаты, решил Лабрюйер, и нанимают их дамы известного поведения...
Надо полагать, эти дамы берут с поклонников побольше, чем проститутки с Канавной улицы, и берут красиво — драгоценностями, так подумал Лабрюйер и пожелал Лореляй удачи. Пусть её ловкие пальчики сумеют молниеносно вынуть из ушей зазевавшейся хмельной барышни алмазные серёжки! Барышню не жалко — не тяжким трудом серёжки добыты.
— На Александровскую, — приказал он Бертулису Апсе. И тот чуть ли не за десять минут его туда доставил.
В лаборатории Лабрюйер обнаружил Хоря, одетого по-мужски, и очень довольного Сеньку. Хорь учил его проявлять и закреплять отпечатки на карточках, и Лабрюйер впервые пожалел товарища по наблюдательному отряду, от души пожалел: ему, видно, сильно недоставало компании сверстников.
— Ну, Мякишев, докладывай, — сказал он.
Сенька выложил перед собой листок с планом, вычерченным рукой, которая не часто бралась за карандаш.
Дом, возле которого караулила жертву Лореляй, действительно предлагал во втором и в третьем этажах меблированные комнаты. По соседству, на Охотничьей, располагалась гостиница, чуть подальше можно было снять скромную комнату и даже угол в подвале. Других мест, где бы мог поселиться приезжий, Сенька не обнаружил.
— Хорь, нужны ещё карточки с блондинкой, — сказал Лабрюйер. — Завтра ты, Мякишев, пойдёшь искать женщину. Может статься, ты её не найдёшь, но нужно убедиться, что её в тех краях нет. Спрашивать будешь так: её возил орман Бертулис Апсе. А фотографическую карточку дал тебе один господин. И, если начнут расспрашивать, дай понять, что всё дело в господине, дама от него сбежала, а он её ищет. Может, жена, может, сожительница, кто их разберёт. Понял?
— Да понял...
— Если скажут, что живёт там-то и там-то, постарайся увидеть и убедиться, что она.
— Ты действительно полагаешь, что между блондинкой, Ротманом и «черепом» есть какая-то связь? — спросил Хорь.
— Явной вроде бы нет. Но «череп» выследил Ротмана и не постеснялся караулить его с револьвером возле самого жилища. Если «череп» или сам ходил за Ротманом, или кого-то посылал, то он знает, что Ротман побывал в нашем заведении. А он — не тот человек, чтобы заказывать карточки для подарков родне. То есть «черепу» могло стать любопытно, зачем он сюда приходил и не будет ли от нас какого вреда. Блондинка, возможно, и раньше тут мельтешила, просто мы её не заметили. А вот что бы могло объединять сумасшедшую фрау Крамер, «черепа» и блондинку — этого я даже предположить не могу.
— Вот как ты комбинации составляешь...
— Да они сами составляются.
— Ловко...
— Обычное дело. Очень удобно шахматные фигурки использовать. Вот у нас на доске блондинка, «череп», Ротман и фрау Крамер. А вот ещё одна фигурка — некая Матильда, у которой Ротман, возможно, прячется. Хм, Матильда... Тут я попробую расспросить одного человека. Но сейчас — пора ужинать и спать. Завтра с утра много дел.
— Где будет жить Мякишев?
— Я придумал, где будет жить Мякишев. Сегодня ещё здесь переночует, а завтра устроим ему новоселье.
Утром Лабрюйер отправился к Шнеерзону.
— Здравствуйте, господин Шнеерзон, — сказал он, войдя в маленькую мастерскую. — Во-первых, я на вас обижен, очень обижен. Отчего вы до сих пор не прислали Гришу с Дорочкой?
Скорняк заулыбался.
— Я всем всегда говорю, что во всей рижской полиции не найти второго такого порядочного человека, как господин Гроссмайстер, — ответил он. — Вы пришли наконец заказывать шапку?
— Нет, господин Шнеерзон, я пришёл поговорить об одной девушке. Вернее, она уже давно не девушка, и лет ей, я думаю, куда больше сорока, но вы могли её знать в молодости.
— Так вы садитесь, садитесь, господин Гроссмайстер! Моя Лея сегодня с утра испекла пирожки с лёгким. Хотите пирожки с лёгким? Она кладёт в них лук, рубленое яичко, и они получаются нежными, как весенние цветочки. А запивать их надо куриным бульоном.
Отведав пирожок и выпив кружку отличного горячего бульона, Лабрюйер попросил супругу скорняка остаться.
— Я начну, как сказки начинаются. Много лет назад жила красивая еврейская девушка, очень красивая. Я думаю, она была из бедной семьи и хотела лучшей жизни. Поэтому она не вышла замуж за простого портного или сапожника, а убежала с молодым человеком. Что там у неё с ним вышло — не знаю, но в конце концов она оказалась в весёлом доме на Канавной улице.
— Ой-вэй! — разом воскликнули старички.
— Да, да, и это ещё не худшее, что могло её ожидать. Там она познакомилась с богатым человеком, он выкупил её у хозяйки дома и где-то поселил. Больше никто о ней ничего не знает. Может быть, она даже вышла замуж. Или вернулась к родственникам...
— Если она убежала из дома, то для родственников она всё равно что мёртвая, — серьёзно сказал Шнеерзон. — У нас с этим не шутят. По ней, наверно, даже прочитали заупокойную молитву «кадеш». И семь дней сидели на полу, как сидят, когда в доме покойник.
— Бедная мать, бедная мать... — пробормотала супруга скорняка, не на шутку расстроившись. — Какой позор, какой позор на всю семью...
— Не случилось ли такой беды с кем-то из ваших знакомых? — спросил Лабрюйер. — Девушку звали Хава-Матля, в весёлом доме ей дали имя Матильда.
— Нет, у наших знакомых такой девушки не было, — сразу ответила Лея. — Я бы знала.
— Может быть, девушка не из Риги? — предположил скорняк. — И я даже думаю — совсем не из Риги, а из маленького городка, из местечка, знаете, что такое штетл? Это городок, где много бедных евреев, и чем они кормятся, даже понять невозможно. Рижская девушка знает, что может познакомиться с хорошим женихом, она не станет делать глупостей. Она может понравиться даже доктору или адвокату — я имею в виду еврейского доктора или адвоката. А девушке из местечка где взять хорошего жениха? Да, да, бывали случаи, что их сманивали дурные люди, бывали...
— И красивая девушка очень хорошо знает, что она красивая, — добавила Лея. — Она задирает нос, а мать ей наверняка говорила: Хава-Матля, здесь нет человека, который бы оценил твою красоту!
— Значит, мы поняли, как это могло произойти. А что с ней могло случиться, когда её выкупил богатый человек?
— Вряд ли он на ней женился. Пожил с ней пару лет, дал ей денег, и они расстались. Но, если он порядочный человек, он мог ей подыскать жениха... — тут Лея задумалась. — И дать приданое... Это значит, что её увезли туда, где о ней никто ничего не знает.
— Значит, найти её не удастся? Ну что же, такой результат — тоже результат. Спасибо, господин Шнеерзон, спасибо, госпожа Шнеерзон.
Лабрюйер встал.
— Господин Гроссмайстер, есть один человек, которого нужно спрашивать о красивых девушках! — вдруг сообразил скорняк. — Это сват! У русских свахи — женщины, а в местечке сват — обязательно мужчина. Ещё двадцать лет назад такие сваты разъезжали по местечкам и знали наперечёт, у кого сколько дочек на выданье и какое у каждой приданое, они и всех женихов знали. Конечно же, старый Хаим-Арон должен помнить всех красивых девушек!
— Да, Хаим-Арон! — обрадовалась Лея. — Он совсем уже старенький, стал такой праведник, такой праведник! В пятницу вечером мы его увидим в синагоге!
— Да, он теперь, как мальчик, ходит туда и заново учит Тору! — Шнеерзон рассмеялся. — Старость, скажу я вам, господин Лабрюйер, очень опасная вещь. Нас с Леей спасают только внуки — приходится казаться умнее, чем мы на самом деле, правда, Лея?
— Госпожа Шнеерзон, я тоже внука завёл, — сказал Лабрюйер. — Да, да, позавидовал вам, у вас такой толковый Гриша. А у меня теперь Сеня. Не знаете, никто поблизости не сдаёт в комнате угол? Хотелось бы его поселить не слишком далеко от «фотографии». Но чтобы комната была тёплая, с умывальником, как полагается, чтобы постельное бельё меняли чаще, чем раз в три года.
— А я спрошу у соседок, господин Гроссмайстер, — пообещала супруга скорняка. — Абрам, ты уже предлагал господину Гроссмайстеру серый каракуль?
— Господин Гроссмайстер, пока вы будете думать, зима кончится! Давайте я всё-таки сошью вам шапку. Вы молодой человек, вам жениться надо... — напомнил скорняк.
— Надо, — согласился Лабрюйер. И ушёл, исполненный решимости сесть и написать письмо Наташе.
Но в фотографическом заведении он занялся совсем другим делом.
Телефонная барышня соединила его с кабинетом главного врача лечебницы на Александровских высотах.
— Я обращаюсь по деликатному вопросу, — сказал Лабрюйер. — Мой родственник, студент, стал заговариваться. Он много занимается, к тому же нервический тип сложения. Нельзя ли его поместить к вам на несколько недель — под присмотр опытных врачей? Мы бы держали его дома, но он вдруг начинает кричать, сами понимаете, это так неудобно...
Разговор затянулся минут на десять — Лабрюйер вызнавал, сколько человек в палате, хорошо ли охраняется корпус, не грозит ли родственнику встреча с настоящими буйными безумцами. Решётки на окнах его тоже интересовали. Завершил беседу он так:
— Если в течение трёх дней его состояние не улучшится, я вам телефонирую, и мы оговорим условия.
Хорь слушал этот разговор и усмехался.
— Уж не меня ли ты собрался сдать в эту лечебницу? — спросил он.
— Я просто хотел знать порядки в лечебнице. Пойду туда сам, только нужно раздобыть халат, колпак и ту войлочную мерзость, в которую обувают больных.
Хорь уставился на Лабрюйера с восторгом, но восторг был какой-то тревожный.
— Ты хочешь изобразить сумасшедшего?
— После того как я изображал Аякса Локридского, мне уже ничего не страшно. Ты не забывай, я пять лет служил полицейским агентом под началом господина Кошко, а он обожал всякие маскарады. Я как-то даже был старухой на паперти. Если хочешь, спроси Панкратова — он тебе расскажет, как два часа пролежал под кроватью, на которой преступник занимался любовью с супругой.
Хорь расхохотался.
— Нужно туда отправить Мякишева. Я по глазам вижу, что он вернётся и с халатом, и с колпаком, и даже с каким-нибудь серебряным портсигаром.
— Это мысль. Эй, Мякишев!
Сенька сидел в закутке. Хорь принёс ему туда толстый бутерброд с салом, и Сенька с ним управлялся. Лабрюйер объяснил задачу — выяснить, во что одеты безумцы, как себя ведут на прогулке, как удирают и возвращаются через дыру в заборе. Выдав деньги на расходы, шестьдесят копеек на ормана и ещё двадцать на пропитание, Лабрюйер вывел Сеньку чёрным ходом, показав ему дорогу через забор.
— А теперь нужно поискать нашего доброго Мюллера, — сказал он, вернувшись. — Похоже, для вылазки на Александровские высоты нам понадобится автомобиль.
— Нам?
— Да, оставим в салоне Яна и поедем вместе. Мало ли какие сюрпризы меня ждут в лечебнице. Может, даже придётся спасаться бегством. Будет правильно, если ты меня встретишь на выходе и отсечёшь погоню.
— Леопард...
— Что?
— Как быть с Горностаем? Ему ведь вся эта история с маньяком не по душе.
— Думаешь, я нежно люблю маньяков? Но то, как этот сукин сын вывернулся из-под удара, означает, что у него есть деньги и власть над людьми. Правда, пока нет связи между ним и заводами. Но я её найду... Для начала нужно раздобыть списки членов Императорского Рижского яхт-клуба и Лифляндского яхт-клуба.
— Зачем тебе?
— Я же говорил — тела девочек найдены или в воде, или близко от воды. Мне кажется, у нашего маньяка есть своё судно. Это или катер, или яхта.
— То есть нужно побывать в яхт-клубах? Да они же сейчас заперты.
— Я думаю, такие списки можно найти в библиотеке. Ведь богатые организации стараются жить красиво — издают целые книжки о себе. Устав яхт-клуба я сам однажды видел — брошюра с виньетками. Хотя... Хорь, ты не хочешь пройтись по редакциям газет? Ведь обычно журналистам дарят всё это печатное добро на всякий случай, а потом оно лежит по углам и в конце концов пускается на растопку. Из библиотеки нам книги не дадут, а в том же «Рижском вестнике» спасибо скажут, если избавим от мусора. Записывай — «Рижский вестник», «Рижская мысль», «Прибалтийский край», «Рижская жизнь»...
— Сегодня уже не смогу. Сам видишь — я в мундире и при исполнении...
Мундиром на сей раз были прямая юбка и едва приталенный жакет, классический костюм-тальер, взятый наугад, без примерки, в магазине готового платья на Дерптской. Но у Хоря был хороший глазомер, и тальер сидел на нём не слишком страшно.
Туда, где его не знают, Хорь хотел пойти в мужском виде, и Лабрюйер его прекрасно понимал.
— Значит, завтра. Нужно будет Яну жалованье повысить — он много работает. Значит, завтра с утра оставим на него заведение...
Тут пришли клиенты, которым посреди зимы захотелось увидеть себя на фоне летнего пейзажа, и Лабрюйер, скинув пиджак, пошёл менять фон.
Потом он связался с Линдером и попросил, чтобы тот в ближайшие полчаса никуда не посылал Фирста.
Прибыв в полицейское управление, Лабрюйер потолковал с Фирстом и чётко сформулировал задание. Агенту следовало изучить дом на Нейбургской и всё его население.
— Я понимаю, что сразу ты не разглядишь, что связывает жителей этого дома с «Мотором», — сказал Лабрюйер, — но надо постараться.
— Рубль в час? — спросил Фирст.
Цена была великовата, но один раз Лабрюйер сгоряча заплатил ему столько — и деваться было некуда...
Вернувшись в «фотографию», Лабрюйер поспешил на помощь Яну. Потом с чёрного хода явился Хорь, принёс устав яхт-клуба и с енисеевским ехидством сообщил, что поиски владельца яхты не затянутся — в Императорском яхт-клубе числится триста тридцать человек.
— Но не может быть, чтобы там стояло триста тридцать яхт, — ответил на это Лабрюйер. — А ведь рядом ещё и Лифляндский яхт-клуб. Надо бы понять, сколько этих посудин на самом деле.
— Это работа для десяти человек, — возразил Хорь.
— Ничего, вдвоём справимся. Давай сюда всю добычу.
Но потрудиться не пришлось — в лабораторию заглянул Ян.
— Господин Гроссмайстер, к вам пришли.
Лабрюйер вышел и увидел фрау Трудхен в совершенно невероятной шляпе, похожей на меховую суповую миску с птичьими крыльями, судя по размеру — индюшачьими.
— Добрый день, фрау, — сказал он. — Угодно сделать фотографическую карточку?
А сам глазами и едва заметным жестом указал на дверь.
— Я хотела узнать цены, — ответила Трудхен.
— Вы можете также ознакомиться с образцами. Если нужны рекомендации — их даст персонал «Франкфурта-на-Майне», с которым у нас постоянное сотрудничество. Достаточно перейти Александровскую — и вот ресторан.
Трудхен опустил взгляд — это заменило кивок.
— Да, рекомендации необходимы, — согласилась она.
— Присядьте, посмотрите альбомы. А я, извините, сейчас занят.
То, что Трудхен пришла, означало одно — её прислала Лореляй. Если Лореляй сама не пожаловала — значит, что-то стряслось. И лучше при Яне всего этого не обсуждать.
Быстро одевшись, Лабрюйер вышел через чёрный ход дворами на Колодезную и побежал во «Франкфурт-на-Майне». Там он попросил столик в самом дальнем углу, а гардеробщику дал указание — когда придёт полная дама в крылатой шляпе, направить её в тот угол.
Ждать пришлось недолго.
— Что с ней? — первым делом спросил Лабрюйер.
— Мокрое дело, — ответила Трудхен. — Она зашла в комнату и увидела там покойника. На всякий случай поскорее ушла — чтобы не объяснять ищейкам, как она в эту комнату попала.
— Этого ещё не хватало. Где?
— На Выгонной дамбе. В меблированных комнатах.
— А сама Лореляй сейчас где?
— В форштадте. Она сказала — покойник такой, что вам известен.
— Ясно. Сейчас попьём чаю, и ты меня к ней отвезёшь.
Лореляй, разумеется, имела несколько убежищ. То, куда привела Лабрюйера Трудхен, было за Ивановским кладбищем, на Костромской улице. Орман довёз до Ярославской, дальше шли через квартал пешком.
— Выходит, ты его всё-таки знала, — сказал Лабрюйер, войдя в маленькую, довольно прилично убранную комнатку.
— Ты его так расписал, что трудно было не узнать, — ответила Лореляй. — Раздевайся, садись. Нет, не знала.
Она была в домашней одежде — простой юбке, клетчатой блузке без затей, и занималась самым мирным делом — штопала натянутый на деревянный грибок чулок.
— Но ты ведь его искала? Я видел тебя вечером возле тех меблированных комнат. Проезжал мимо...
— Да, я хотела понять, что это за сволочь. Убивать его я не собиралась, только взять бумажник и документы.
— На что тебе? — удивился Лабрюйер.
— Не мне. Я для тебя старалась, старый пёс, ты бы с бумажками разобрался. Нет, это не любовь. Всё дело в Ротмане. Когда-то он ко мне хорошо относился... Нет, любовником не был. Просто пригрел глупую девчонку. Это иногда бывает.
Лореляй была мрачна, в глаза не глядела, такой её Лабрюйер ещё не видал.
— Ты говори, говори...
— У Ротмана ведь не было врагов. То есть среди наших. Он просто исчез, знаешь, как исчезают старики. Все решили, что помер... кто-то кому-то сказал, что он помер, все поверили. Во время беспорядков много трупов находили, никто не разбирался, паспортов у них не проверял. А он, оказывается, был жив.
— Жив — и совсем опустился.
— Когда ты рассказал, что какая-то сволочь хочет его убить, я подумала — надо бы самой этим заняться. Ты ведь не знал, что это за молодчик. А сам бы ты у него бумажник и документы не стянул. Я решила — сделаю то, что могу, дальше — ты.
— Рассказывай.
— Я в дом прошла вместе с компанией. Двое мужчин, три женщины, где три — там четвёртая. Дом шестиэтажный, я поднялась повыше. Там меня видели и запомнили.
— Ты уверена?
— Меня всегда запоминают. Я спросила у прислуги, не живёт ли тут господин — и описала, слово в слово, того мерзавца. Она сказала — да, живёт, но его нет дома, ещё не приходил. Он снял угловую комнату, на третьем этаже, недорого. Я написала записку, просила ему передать, она обещала.
— Записку?
— Должна же я была показать ей, что ухожу. В записке было: «Сердечко моё, я тебя не застала, жестокий муж увозит меня, но я вся твоя». Прислуга всегда читает такие записочки. Потом я спустилась, опять поднялась, уже на четвёртый этаж, постучалась в дверь, не открыли. А у меня с собой как раз случайно оказалась подходящая отмычка. Я вошла. Там была квартира, в которой никто не живёт. Я запёрлась в ней и стала ждать. Прождала четыре часа. Значит, было одиннадцать, когда я оттуда вышла. Думала, он уже пришёл, постучусь, войду, скажу, что ошиблась дверью. Ещё не было случая, чтобы мужчина не попытался меня удержать. А потом как-нибудь справлюсь. Может, попрошу, чтобы угостил в ресторане, может, ещё что-нибудь придумаю. Постучалась, вошла. А там — он, на кровати, задушенный.
— Ого!
— Задушенный шёлковым шарфом. С одной стороны, это могла сделать и женщина. С другой стороны — тот, кто хотел, чтобы подумали на женщину. Я огляделась. Шарф с шеи стянула...
— Ты сняла с покойника удавку?
— А что тут такого? Я что, впервые покойника вижу? Нельзя было, чтобы полиция подумала на женщину. Я просто заметала следы. Вот он, этот шарф.
Удавка висела на спинке дешёвого венского стула. Это был бледно-голубой шарф с набивным рисунком в виде расплывчатых роз и с бахромой, длиной в три аршина.
— Шёлк, говоришь?
— Точнее, крепдешин. И ещё я бумажник с документами прихватила. Что ты так на меня уставился? Я же за ними и приходила.
Лабрюйер подумал: «Да, она именно такая, эта Лореляй, её хладнокровие — непременное и необходимое для выживания качество. Когда лазишь в окна третьего или четвёртого этажа, протискиваешься в форточки, перепрыгиваешь с балкона на балкон, иначе нельзя».
— Я твой должник, Лореляй, — сказал он. — Как ты полагаешь, кто удавил этого господина? Мог ли это быть Ротман?
— Я не думаю, что Ротман мог бы незаметно пробраться в тот дом.
— Ты же пробралась.
— Я — другое дело. А грязного заросшего старика туда не пустят. Там же консьержка внизу. Почему, ты думаешь, я в компанию замешалась?
— И вышла в компании?
— Вышла с каким-то мужчиной. Но он был пьян. Я взяла его под руку и вывела. Держи бумажник. И вот его паспорт. Нашла в потайном кармане пальто.
— Шведский подданный, — изучив паспорт, сказал Лабрюйер. — Олаф Акке. Пятьдесят семь лет. Чего же этот Олаф Акке с Ротманом не поделил? И что он тут натворил, если так боялся разоблачения?
— Этого я не знаю. Но в бумажнике — достаточно денег, чтобы год жить без забот. Забирай. Мне это не нужно.
Лабрюйер с интересом посмотрел на Лореляй. Она вздёрнула подбородок, всем видом показывая: и у меня есть своя гордость, деньги, добытые таким путём, брать не желаю.
— Тут ещё какие-то бумаги.
— Всё забирай. И шарф уноси.
— Странное убийство. Похоже на женскую месть, — заметил Лабрюйер и внимательно посмотрел на Лореляй. — Допустим, некая женщина отомстила за любовника или же не хотела, чтобы господин Акке причинил вред любовнику...
— Это не я, полицейский пёс, и не смотри на меня так. Я ещё никого в жизни не убила. Сам знаешь.
— Но ты прекрасно умеешь врать.
— Ты очень удивишься, ищейка, но как раз тебе я очень мало врала.
— Допустим... А теперь скажи — не заметила ли ты в той комнате чего-нибудь странного?
— Обычная меблированная комната... — Лореляй задумалась. — Примерно тридцать квадратных аршин. Если нанимать помесячно — выйдет шесть рублей, но там такой дом — я думаю, можно снять и на три дня, и это будет уже не двадцать копеек за аршин... Обстановка самая простая — кровать, стол, два стула, шкаф, умывальник в углу. В шкаф я заглянула, чтобы осмотреть пальто.
— А как он лежал на кровати?
— Раскинувшись... Ты задал хороший вопрос, старый пёс. Выходит, его удавили лежащего? Он лёг — и его удавили? Да нет же, к нему подошли сзади и накинули шарф. Я не понимаю...
— Я тоже не понимаю. Вот что мы сделаем. Ты пока нигде не показывайся, а я попробую узнать в полицейском управлении, что выяснили инспекторы. Может, убийцу уже поймали. Ты можешь прислать ко мне кого-нибудь другого, не Трудхен?
— Могу.
— Тогда я ухожу.
Лореляй положила на стол грибок с чулком и встала.
— Я не убивала этого Акке, — сказала она. — Но если он убил Ротмана — туда ему и дорога.
— Отчего ты так привязалась к этому ворюге?
— Оттого... не пустил пойти по дурной дорожке. А могла — знаешь, когда у девушки никого нет, её очень легко пускают по рукам. Могла. А он не дал. Ну, ступай, ищейка. Ступай...
И Лабрюйер ушёл.
Мальчишка, хозяйский сынок, сбегал на Московскую, остановил для него ормана, и Лабрюйер поехал на Александровскую, но ехал причудливо — не по Романовской, что было бы правильно, а зигзагами через район спикеров. Он хотел убедиться, что никто не повис на хвосте. Убедившись, поехал в фотографическое заведение.
Там он рассказал Хорю про странную новость. Назвал также имя Лореляй, сказав, что у всех полицейских инспекторов и агентов есть такие знакомства в преступном мире, порой чуть ли не приятельские, и это вполне может быть женщина. О том, что приятельство было подозрительно тёплым, он не доложил.
— Чем больше я об этом думаю, тем яснее, что Ротман с его загадочным свидетелем к нашему делу отношения не имеют, — сказал Лабрюйер. — И Лореляй пошла в меблированные комнаты потому, что «череп» по моему описанию показался ей знакомым. Но трудно понять, что в её словах правда. Она не убивала, это я сразу понял. Но чего она добивалась и всю ли добычу отдала мне — я не знаю.
— Может статься, паспорт и вовсе фальшивый, — ответил Хорь. — А вот тебе моя добыча. В десятом году в Императорском яхт-клубе числилось сорок четыре яхты, из них тридцать две парусные, двенадцать моторных и паровых.
— Нам нужны именно эти двенадцать, — вспомнив о похищенной в Выборге девочке, заявил Лабрюйер. — Простое парусное судёнышко — это баловство, чтобы катать барышень по заливу.
— Дай это довольно скучно — не то что в столице. Там хоть можно гулять под парусом между островами... Ну вот, я перерыл полпуда старых газет и докопался до нескольких яхтовладельцев.
Хорь разложил перед Лабрюйером газеты, согнутые так, чтобы фотографии яхт оказались сверху.
— Руки бы поотрывать этим фотографам, — сказал Лабрюйер. — Ни черта не разобрать. И типографщикам руки поотрывать... хотя они, подлецы, и так безрукие... Стоп! Хорь, гляди!
Под каждым снимком было несколько строчек. Журналисты сообщали, кто владелец яхты и по какому случаю она оказалась на страницах издания. Строчки, заинтересовавшие Лабрюйера, были такими: «Участник ежегодных гонок г-н Феликс Розенцвайг и его яхта “Лизетта” у причала Императорского Рижского яхт-клуба». Картинка была ужасная — лица вообще не разобрать, а яхта — один тёмный силуэт.
— Розенцвайг? — спросил Хорь.
— Это инженер, что трудится на «Фениксе». Тот самый, кому Горностай отдал чертёж воздушного парохода! Ты понимаешь?.. Он увязался за Рейтерном, чтобы побывать на обсуждении моделей гидроаэропланов на «Моторе»!
— Розенцвайг!
— Я его видел там — чистый ангел с рождественской картинки!
— Розенцвайг!
— Одна из двенадцати яхт приличного водоизмещения! Это след, Хорь. Не тот след, что понравится Горностаю, но другого у нас пока нет.
Хорь рассмеялся.
— Я как командир отряда приказываю тебе разрабатывать эту линию, — сказал он. — Что ты знаешь про этого Розенцвайга?
— Пока лишь то, что он знающий инженер, который разбирается не только в чертежах, но и во всяких тонкостях производства. Ему лет тридцать... возможно, больше, по этой физиономии трудно определить точный возраст... у него бурный темперамент, а когда он увлечётся спором — громкий голос, и руками он принимается махать, как провинциальный трагик... Он знает, что делается на «Моторе», поскольку бывает там, навещает друга — инженера Теодора Рейтерна, это сын члена рижской городской думы. И Калеп к нему хорошо относится.
— Не Рейтерн ли по его просьбе послал кого-то ночью, чтобы передать документы агенту Эвиденцбюро? — вдруг спросил Хорь.
— Да, Рейтерну было бы удобно уговориться с кем-то из мастеров. Но отчего бы Рейтерну самому тогда тайно не вынести бумаги, а потом так же тайно не вернуть их на место? Хорь, а вы уверены, что должны быть вынесены именно чертежи? А не «гном»?
— Какой «гном»?
— Калеп работает над новым авиационным мотором. Тот, который теперь используют, так и называется «калеп», а новый будет «гном». Бумаги можно пронести на себе, а мотор за пазухой не спрячешь, потому его и вытащили ночью. Как ты думаешь?
— Нужно узнать, чем именно заведует на «Моторе» Рейтерн, — решил Хорь. — Нужно разобраться, что связывает этих друзей, Розенцвайга и Рейтерна. Нужно узнать, какой из Розенцвайга яхтсмен, выходит ли он из залива в открытое море, ходил ли в Финский залив. Будет чем заняться Барсуку и Росомахе! И Горностаю. Ему как раз удобно будет собрать сведения о Розенцвайге — они ведь на одном заводе трудятся.
— И если моя догадка верна — то немножко проясняется участие в этом деле Андрея Клявы.
— Безумца?
— До того как попасть на Александровские высоты, он, возможно, учился вместе с этой парочкой. Они — немцы, а он — латыш, но мало ли что их могло сдружить. И тогда уже можно предположить, что он оказался причастен к убийству Маши Урманцевой не случайно — а его туда заманили. Вроде бы что-то складывается...
— Вот Горностай обрадуется! Нужно будет собраться и поделить обязанности, — решил Хорь. — Но главное сейчас — не пытаться взять живьём агентов Эвиденцбюро. Один раз пробовали... Я настоял, и я же всё провалил...
Лабрюйер похлопал Хоря по плечу.
— Есть у меня на примете домик, в котором, может статься, проживает твой агент. Вот только нужно узнать, какую роль в этой истории играют блондинка, что следила за «фотографией», и госпожа Крамер, сбежавшая в неизвестном направлении. Как бы и её тело не выудили из городского канала... что-то у нас многовато накопилось покойников... Грунька-проныра, Петер Леман, «череп» — хотя насчёт «черепа» я уж не знаю, что и думать... Три с половиной тела.
— А половина?
— Ротман. То ли жив, то ли нет. И понять невозможно, куда запропал. Да, «череп»... Нужно будет опять просить у Линдера сводку.
— Нужно будет как-то вознаградить Линдера. Да. Я выдам тебе из неподотчётных денег тридцать рублей.
— Он может не взять.
— А ты так с ним поговори, чтобы взял, — строго сказал Хорь. — Это приказ, Леопард.
— Учишься приказывать?
— Учусь. Горностай прав — именно этого я не умею. Но я научусь с ним справляться, вот увидишь!
— Научишься. Если ты с Горностаем справишься — то тебе сам чёрт не страшен. И он ведь отличный актёр, он не просто играет роль, он чуточку переигрывает, чтобы заставить тебя воевать, — объяснил Лабрюйер. — Он тебя готовит к серьёзной работе и поэтому может устроить целый спектакль. Так что злиться на него не надо.
Сказав это, Лабрюйер понял, что объясняет политику Енисеева не только Хорю, но и самому себе.
— Я не злюсь. В конце концов, я сам это выбрал... — Хорь понурился. — Ну что, давай планировать операцию по захвату дома умалишённых.
— Я думаю подъехать туда на автомобиле Мюллера, взяв с собой тебя или Акимыча, ещё Мякишева для прикрытия, и проникнуть на территорию под видом больного, — доложил Лабрюйер Хорю так, как следует докладывать старшему по званию. — Возможно, для первой вылазки этого достаточно. Я ещё из того исхожу, что у нас пока нет точного плана местности. Что-то сегодня расскажет Мякишев, но он ещё не умеет рисовать кроки. А лезть напролом — большой риск. То, что меня сдадут в полицию и что полиция будет неделю надо мной потешаться, — полбеды. Хуже, если с перепугу заделают дыру в заборе и запрут всех больных по палатам. А пробираться к Кляве официально — значит поставить его под удар.
— Да. Всё это похоже на стрельбу в полном мраке по тарелочкам. Мы ведь даже не знаем, в каком состоянии этот Клява. Может, он вообще волком воет и на людей бросается.
— Я видывал сумасшедших. Таких буйных, чтобы на людей бросались, мало, — обнадёжил Лабрюйер. — Разве что в белой горячке. Чаще человек просто сидит в углу или принимает странные позы, бормочет бессвязно или, наоборот, произносит длинные речи, так что можно принять его за профессора философии. Но идти туда надо.
— И я считаю — надо. Куда Мякишев запропал?
— Хорь, это заведение довольно далеко, туда пока доберёшься — час пройдёт, и то — тут ведь сразу ормана поймаешь. А в тех краях они не так уж часто разъезжают. Ближе к вечеру я позвоню Линдеру и узнаю, что про «черепа» написано в сводках. Скорее бы Мякишев приехал!
— Горностай хотел определить его на завод «Мотор», — сказал Хорь. — Там нужны ученики слесарей и кто-то ещё, кажется, крепкие парни, чтобы гонять по территории тачки и вагонетки. Хотелось бы поскорее его туда отправить. Это возможно?
— Почему ты просишь там, где мог бы приказать?
— Потому что говорю — с тобой. Это ведь тоже наука, чёрт бы её побрал, знать — кого просить, кому приказывать! В корпусе не проходили!
Лабрюйер невольно улыбнулся.
— С Божьей помощью осилишь, — пообещал он.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Александровские высоты оказались твёрдым орешком.
Кабы только ими пришлось заниматься! Лабрюйеру же следовало держать в голове не только историю бедного Клявы, которого сделали в деле об убийстве Маши Урманцевой козлом отпущения. Ему следовало помнить также и про смерть «черепа» вкупе с исчезновением Ротмана, и про загадочную блондинку с госпожой Крамер, а также про того, кто увёз госпожу Крамер из «Северной гостиницы». Хорошо хоть, Енисеев обещал заняться Розенцвайгом.
— Этот голубчик пока производит впечатление малость придурковатого идеалиста, — сказал Енисеев. — Но как инженер он пользуется уважением. Я не удивлюсь, если он в юности, будучи наивным ягнёнком, натворил дел, а родня постаралась всё замять.
— Да, сходство с ягнёнком имеется, — согласился Лабрюйер. — Оттого он, возможно, выглядит моложе своих лет. Узнай, когда он родился.
— Ты хочешь понять, мог ли он совершить то, первое, убийство девочки? — догадался Енисеев. — Боюсь, что в пятнадцать или шестнадцать лет юный балбес, получив от дурочки решительный отказ, на такое способен. Не каждый балбес, конечно. Лично я, не справившись с первым поцелуем и получив от дамы первую оплеуху, облил чернилами её белый праздничный передник. И знаешь что самое обидное? Потом мы четыре года не видались, я навоображал, как проеду мимо её окна на белом коне в генеральском мундире, а она будет помирать от чахотки, и последним её словом будет моё имя. И что бы ты думал? Она вышла замуж за моего родного дядю! И никакой чахотки! Но когда я понял, что теперь могу звать её тётушкой, это был праздник! Уж и генеральских эполет не требовалось. Так вот, насколько я знаю род человеческий, Розенцвайг скорее наглотался бы спичечных головок, чем изнасиловал и зарезал девицу. Но это, так сказать, среднеарифметический Розенцвайг, который полон добродетельных немецких восторгов. Именно наш может оказаться исключением. Однако я сомневаюсь.
— Очевидно, нужно, чтобы Хорь приказал тебе узнать дату рождения Розенцвайга, — ответил на этот монолог Лабрюйер.
— Я узнаю. Это несложно.
Енисеев явно обиделся, что его прелестный экспромт, исполненный артистически, встретил такой приём.
— И потребуется запрос в выборгскую полицию. Там наверняка есть яхт-клуб. Пусть узнают, не приходила ли в последние десять лет рижская яхта «Лизетта». Я добуду хороший снимок.
— Ты — бульдог. Ты можешь вцепиться в рукав тулупа и часами не отпускать его, хотя рукав совершенно несъедобен.
— Возможно. Я взял след — и даже не пытайся сбить меня с этого следа, всё равно не получится, брат Аякс.
После того как Лабрюйер и Хорь заключили союз (без единого слова, но слова им и не требовались), Лабрюйеру стало гораздо легче давать отпор Енисееву. Енисеев правильно определил ситуацию: «спелись». Но спасать свой несколько пошатнувшийся авторитет он не стал — возможно, и эта интрига его на самом деле не столько беспокоила, сколько забавляла.
Замысел Лабрюйера проникнуть в лечебницу умалишённых Енисееву не слишком понравился («Если ты сам там спятишь, как мы тебя оттуда добывать будем?»), но спорить он не мог — командир наблюдательного отряда эту авантюру одобрил.
Инспектор Горнфельд, с которым у Лабрюйера никогда особой дружбы не было, по просьбе Линдера связался с дирекцией лечебницы и узнал, что Клява жив. Но подробностей ему не сообщили — якобы это какая-то священная Гиппократова тайна.
Вместе с Сенькой Мякишевым Лабрюйер составил план лечебницы и изучил все подступы к корпусу, где сидели буйные и теоретически должен был обретаться Андрей Клява.
— Летом было бы легче, — сказал Сенька. Он имел в виду, что летом больные прогуливаются во дворе и ходят вокруг четырёхугольного пруда, так что лишний человек в сером байковом халате не привлечёт к себе внимания. А зимой таких гуляк куда меньше.
— Тебе придётся проникнуть туда ещё раз, — подумав, решил Лабрюйер. — Мой шанс, кажется, связан с кухней. Им же дают трижды в день какой-нибудь габерсуп. Как я понимаю, еду привозят или приносят из кухни. По такому случаю двери корпуса отворяются.
Хорь, в это время красиво обрезавший карточки особой машинкой-гильотинкой, вытянул шею и посмотрел на план лечебницы.
— Знаете что, господа? Вам вдвоём не справиться. Я дам вам в помощь Акимыча. Он человек опытный — и у него припасён для таких случаев эфир. Не возражай, Леопард. Провалите эту операцию — второго шанса не будет. И как бы вы не подставили своего Кляву под удар.
— Но Барсук нужен Горностаю на «Фениксе».
— Как я сказал, так и будет.
Сенька, попав в наблюдательный отряд, сперва удивлялся — отчего эти господа называют себя по-звериному. Лабрюйер объяснил: они старые приятели и привыкли так сокращать фамилии, Хорь — он Хорьков, Барсук — Барсуков, а Росомаха — это просто фамилия такая. Парень был убеждён, что прибывшие из столицы сыщики ловят шайку фальшивомонетчиков, и этого ему хватило — тем более что обещали содействовать его поступлению в рижскую сыскную полицию в скромной должности агента.
Правда, Сеньке казалось странным, что взрослыми мужчинами командует парень ненамного его старше. Но это Лабрюйер даже не пытался объяснить — просто сказал, что так распорядилось начальство. Хорошо хоть, Сенька приходил поздно вечером с чёрного хода и ни разу не видел Хоря в салоне, играющего роль фрейлен Каролины. Вот уж этот водевиль объяснить было бы затруднительно.
Акимыч-Барсук был Сеньке известен лишь по разговорам старших. И когда его познакомили с пожилым седоусым господином, больше всего похожим на мастера с солидной фабрики, представителя «рабочей аристократии», получающего хорошее жалованье и гордого своим ремеслом, Сенька сперва немного испугался — Лабрюйер не был строг, Енисеев казался ему странным, но не страшным, а ну как этот немногословный дяденька окажется суров? Но опытный Акимыч так весело расхохотался, узнав, что ему предстоит брать штурмом лечебницу для умалишённых, что сразу расположил к себе Сеньку.
Забравшись во двор лечебницы, Сенька выследил целую процессию — кухонного служителя, который вёз в отдалённый корпус санки, а на санках — две большие кастрюли, и его свиту. Она состояла из двух стариков, из которых один нёс мешок, возможно, с хлебом, и ещё — двух чудаков в халатах, один шёл вприпрыжку, а другой очень странно вертел головой. Видимо, это были те безобидные пациенты, о которых Лабрюйеру рассказывала хозяйка лавочки.
— Вдвоём не справимся, — услышав доклад, сказал Лабрюйер.
— Эфир справится, — ответил Хорь.
На операцию отправились вчетвером.
Вилли Мюллер с автомобилем был оставлен на Мостовой улице, почти на углу с Аптекарской. Его новый «Руссо-Балт» стоял так, чтобы при необходимости можно было с предельной скоростью вылететь на мост и умчаться по Выгонной дамбе.
Сенькиной задачей было караулить дыру в заборе и в случае, если Барсуку с Лабрюйером пришлось бы спасаться бегством, удержать погоню. На сей предмет ему выдали две дымовые шашки, изготовленные Хорём из аммиачной селитры и старых газет.
— В случае чего — тебя ждать не станем, удирай как знаешь, — сказал ему Хорь.
— Если от дыры в заборе взять влево, там куча всяких мелких переулков, легко затеряешься, — добавил Лабрюйер. — Потом выйдешь к железной дороге — и направо, вперёд по шпалам. Ормана не бери — орман такого пассажира легко запомнит. Дойдёшь до станции — она называется платформой военного госпиталя. Там спросишь, где Соколиная улица. По Соколиной выйдешь на Александровскую — и вперёд! Потом погуляй по Дерптской, покружи вокруг кварталов, убедись, что за тобой никто не увязался, и — в свой уголок.
Сенька уже третью ночь проводил в комнате, которую нашла для него Лея Шнеерзон. Комната была в полуподвальном этаже, довольно тёмная, но сухая и чистая, окошко глядело на улицу, так что при нужде его можно было использовать для наблюдений.
Около полудня Лабрюйер и Акимыч оказались во дворе лечебницы, оба — в страшных байковых халатах, на которых Хорь не просто потоптался, а сплясал чечётку. На лбы они надвинули больничные колпаки.
По зимнему времени народу во дворе было мало. Перебегали из корпуса в корпус какие-то люди. Пронесли человека на носилках, вокруг замерзшего пруда бродило несколько больных — почему-то двигались они против часовой стрелки. Некий бородатый человек в драном полушубке поверх халата, озираясь, проскочил мимо Лабрюйера с Барсуком и полез в заборную дыру. То есть совсем уж пустынным двор не был.
Два старичка из приюта, которым, как видно, было дадено послушание помогать на кухне, уже ждали у кухонных дверей с санками.
— Жалко их, — шепнул Лабрюйер. — Как бы их эфир не сгубил.
— Не сгубит.
Акимыч действовал быстро и решительно. Старичков уложили за углом, у поленницы. Следующая порция эфира досталась кухонному служителю, что вынес кастрюли и мешок с хлебом.
— Ну, с Богом! — Барсук, перекрестясь, взял верёвку от санок, а Лабрюйер — мешок.
Они прошли чуть ли не через весь двор, глядя себе под ноги и уклоняясь от взоров встречного народа. Нужный им корпус стоял совсем на отшибе. Дверь, разумеется, была заперта.
— Неужто тому болвану доверили ключ? — удивился Барсук.
— Одну минутку...
Лабрюйер достал связку отмычек, выбрал подходящую, и дверь отворилась.
Барсук затащил санки вместе с кастрюлями в узкий и мрачный коридор.
— Наш Клява — на втором этаже, жди здесь, — велел Лабрюйер. — Если что — кричи петухом.
Сигнал был придуман заранее — петушиному воплю в таком заведении вряд ли кто удивится.
— Держи, — Барсук отдал ему ком ваты, пропитанной эфиром, и Лабрюйер сунул это оружие в карман халата.
В коридор второго этажа выходило несколько дверей, сильно похожих на тюремные — с окошечками. Каждое было забрано деревянной ставней. К счастью, они не были застеклены.
В торце коридора сидел на табурете здоровый дядька в белом халате и белой шапочке — видимо, санитар.
— Тебе чего надо? — спросил дядька.
— А вот сейчас покажу, — ответил Лабрюйер. Санитар был выше его ростом, и этого противника следовало обезвредить, пока он сидит.
Лабрюйер при необходимости двигался очень быстро. С годами, да ещё от пьяного образа жизни, он отяжелел, но сумел приказать себе — и в три прыжка достиг противника. Ошарашенный санитар почти встал, но его равновесие ещё было шатким, и Лабрюйер повалил его на пол.
Сразу стало ясно, что санитар куда сильнее Лабрюйера, за это качество его и взяли на службу. Но он умел справляться с безумцами, а Лабрюйер пока ещё был в своём уме и помнил те ухватки, которым обучили опытные полицейские агенты. Главное было — зажать противнику рот и нос комком ваты, и до того, как он позовёт на помощь. Второе — самому не надышаться этой дрянью.
Лабрюйер сам не понял, как в узком закутке, упёршись ногами в стену, вывернулся из-под тяжеленного тела. Он мгновенно заломил санитару руку за спину, уложил его на брюхо, поставил колено ему между лопаток, а потом чуть ли не в зубы засунул вату с эфиром.
Когда противник обмяк, Лабрюйер поднялся и несколько секунд приходил в себя. Ком ваты он оставил во рту у санитара, решив, что такому детине смерть от пары капель эфира не угрожает. И пошёл по коридору, поочерёдно открывая ставни дверных окошек и взывая:
— Клява! Андрис Клява! Студент Клява! Господин Клява!
В одной конуре с зарешеченным окошком сидел седобородый старец, он молча показал Лабрюйеру язык. В другой тихонько пел латышскую песенку хрупкий белокурый юноша. Он повернулся к окошку и, оскалясь, зарычал. В третьей стоял мужчина, голый по пояс, топтался на месте и раскачивался. В четвёртой сидел на полу мужчина одетый и читал книжку.
— Клява, это вы? — спросил Лабрюйер.
— Нет, не я, — по-латышски ответил безумец. — Клява убил ребёнка. Значит, это не я. Я никого не убивал.
— Слава те господи! — сказал Лабрюйер. Нужный ему человек не рычал и был способен отвечать на вопросы.
— Да, вы не убивали, я это знаю. Клява плохой, а вы хороший, — по-латышски же сказал он безумцу. — Вы умный, вы книги читаете.
— Да, это мои учебники. Мне позволили взять сюда учебники. Здесь хорошо. Здесь можно учиться, и я знаю, что сюда не пустят Кляву.
— Не пустят, — согласился Лабрюйер. — А где вы были перед тем, как попасть сюда?
— Я был в суде. Там судили Кляву. Он — убийца. А я ни в чём не виноват, и меня привели сюда. Тут он меня не найдёт.
— Нет, не найдёт.
Лабрюйер попытался через окошечко разглядеть камеру, где сидел Андрей Клява. Он увидел сущую конуру с узкой койкой. Другой мебели не имелось, а койка, видимо, была намертво прикреплена к стене. Сквозь зарешеченное окно проникало достаточно света для чтения. Книги стояли у стены двумя стопками.
Бывшему студенту было, видимо, чуть за тридцать. Вряд ли здешняя кормёжка способствовала приятной округлости тела. Худое неподвижное лицо с правильными чертами, костлявые плечи под серой застиранной рубахой, взгляд не в окошечко, на собеседника, а куда-то в левый верхний угол, — всё это было болезненно жалким и удручающим.
— Я его боюсь, — признался безумец. — Он девочку убил. На суде так и сказали: убил Клява. А меня оправдали и привезли сюда.
— Это они хорошо сделали. А где вы были до суда?
— В тюрьме. Полицейские думали, что убил я, а оказалось — Клява.
— Бывает, что и полиция ошибается. А где вы были до того, как приехали в тюрьму? Вы ведь приехали? На автомобиле? Вы были у себя дома?
— Нет... Я прятался. Мне потом сказали, что я напрасно прятался. Ведь я не виноват.
— Вы прятались у родственников?
— Нет, в карцере, — сказал Клява. — Там хорошо, тихо, я с собой учебники взял... Не забирайте у меня учебники, я должен окончить курс.
Лабрюйер сообразил, о чём речь.
— Вы прятались в политехникуме?
— Да. Мне сторож свечки дал. Я понимал, что меня поймают, но прятался. Зря я боялся. Ведь в суде узнали правду. Я думал, будто знаю правду, понимаете? Я хотел написать, что произошло на самом деле, но я боялся — найдут, отнимут, и никто уже ничего не узнает... Я хотел написать в учебниках, там есть пустые страницы... Но они хотели отнять у меня учебники! Я не отдал. А если бы написал в учебнике — они бы догадались и отняли, они хитрые. Но я тоже хитрый, я написал...
— И где вы спрятали написанное?
— Я не помню. Я ничего не помню. Но я написал. Я написал!
— Я вам верю. И все ваши друзья вам верят. И Феликс Розенцвайг...
— Кто такой Феликс Розенцвайг?
Тут снизу раздалось кукареканье.
Лабрюйер задвинул окошко ставней и понёсся вниз.
А внизу уже шла драка. Два санитара пытались утащить Барсука, а куда — одному Богу ведомо.
Лабрюйер сзади напал на того, кто ниже, захватил за шею, придушил, опрокинул. Со вторым Барсук справился уже сам. Оказалось, кулак у Акимыча бронебойный — санитар на полторы сажени отлетел и спиной в стену вмазался. Смотреть, как он сползает наземь, было незачем, Лабрюйер и Барсук понеслись к забору. Им наперерез бежали больничные служители, но они успели первыми.
— Шашки! — подбегая к дыре, крикнул Лабрюйер.
Он пропустил в дыру Барсука и полез сам, но его схватили за руку, сильно дёрнули, и он упал на снег.
Барсук понял, что случилось, выхватил у Сеньки зажжённую и уже пустившую ядовитый дым шашку, кинул её в дыру. От такого сюрприза погоня растерялась, а Лабрюйер, кашляя, на четвереньках пополз к забору. Барсук выдернул его за шиворот, и оба, скользя, побежали к «Руссо-Балту». Сенька, подождав, пока из дыры ещё кто-нибудь появится, кинул противнику под ноги вторую шашку и пустился наутёк.
Сугроб густого серого дыма быстро вырос выше забора. Из дыма доносилась злобная ругань. Несколько прохожих остановились довольно далеко от дымовой завесы, не решаясь приблизиться. Вдруг какая-то баба-латышка принялась заполошным голосом звать полицию.
— Всё идёт по плану... — еле выговорил Лабрюйер, когда Барсук втянул его в автомобиль. — Гони, Вилли...
— Раздевайся, — приказал Барсук, скинул халат и сунул под сиденье.
Автомобиль буквально перелетел через мост и понёсся по Выгонной дамбе.
Лабрюйер никак не мог прокашляться.
— Там перед скотобойней поворот налево, Вилли... И — по Белленгофской...
Мюллер мастерски проделал поворот и обернулся, улыбаясь, — требовал похвалы.
Наконец Лабрюйер избавился от першения в горле.
— Ну, что? — спросил Барсук.
— Как есть безумец... Иначе и быть не могло.
— Так мы зря его добывали?
— Боюсь, что зря. Но нужно хорошенько подумать. Он много странного сказал.
Покружив по городу, Лабрюйер и Барсук отпустили Мюллера недалеко от Александровских ворот. Барсук, забрав мешок с халатами и колпаками, пошёл домой — он кроме комнатки в Задвинье снимал другую, недалеко от «Феникса». Лабрюйер, в потёртой тужурке и брюках, заправленных в сапоги, похожий на рабочего из ближайшего цеха, отправился в фотографическое заведение пешком, благо две с половиной версты — не расстояние, а он сам себе не понравился — чувствовал, что отяжелел. «Тело, — думал он, — та ещё скотина, которую гонять и гонять, чтобы в нужный миг не подвела. Быстрый шаг пойдёт только на пользу — а заодно, может, и в голове посветлеет».
Узнав подробности налёта, Хорь хмыкнул.
— Но ты ведь был к этому готов? — спросил он. — Твой Клява не скакал козлом и не вообразил себя вождём папуасского племени. В его безумии есть логика — ещё Шекспир заметил, что в безумии есть логика.
— Да, его так запугали, что он предпочёл сам от себя отказаться. Но он делал какие-то записи. И они, скорее всего, погибли. Тот, кто сдал его в полицию, об этом позаботился.
— У тебя было очень мало шансов, — сказал Хорь. — Я не утешаю! Утешать взрослого человека не то что смешно, а гадко — он себя будет дураком чувствовать.
— То-то Горностай обрадуется...
— Да уж, обрадуется. Скажет — я предупреждал, я предупреждал! Не тот след взяли, пробуйте другие версии! А был ли иной способ понять, тот след или не тот? Не было!
— След тот, — упрямо буркнул Лабрюйер. — Просто я не получил тех сведений, на которые рассчитывал. Вот что...
— Ну?
— Чтобы Горностай не изощрялся, немедленно отдадим ему Мякишева. Он уже давно на парня зуб точит.
— Дело говоришь. Мякишев действительно сейчас больше на «Моторе» нужен. Нельзя оставлять Рейтерна и Розенцвайга без присмотра.
Когда усталый и голодный Сенька вернулся, ему сперва выдали два рубля в порядке вознаграждения, а потом Хорь объяснил новую задачу.
— Там постоянно люди нужны. Приди в заводскую контору, скажи чистую правду — приехал из Люцина, ничего не умеешь, работать хочешь, так чтобы дали чего попроще. Ту же вагонетку от цеха к цеху толкать. И когда немножко там оглядишься, получишь важное задание.
— Ладно, — сказал озадаченный Сенька. — Это что же, все полицейские агенты так? Куда-то нанимаются, трудятся, ждут приказаний?
— Господин Мякишев, таких приключений, как сегодня, у вас ещё много будет, — пообещал Лабрюйер, — но скучную работу тоже нужно исполнять. Так что, Сеня, беги ужинать в кухмистерскую, но смотри — если почуешь тухлятину, не ешь, поднимай шум. Ты нам нужен здоровый, а не брюхом скорбный.
Сенька рассмеялся и убежал.
Наутро Лабрюйер пришёл к нему в комнату — дать последнее наставление.
— Послушай, Мякишев. Ты там будешь скитаться по всему заводу. Послушай, что говорят об изобретателе Собаньском, — попросил он. — Помнишь? Он тоже люцинский.
— Как не помнить! — Сенька даже рассмеялся. — А что, он как-то на «Мотор» пролез?
— Выходит, пролез. Видишь ли, он, может, только вёл себя как дурачок, а по технической части у него соображение имеется, — объяснил Лабрюйер. — Так что ты впредь выполняй распоряжения господина Горностая, а насчёт Собаньского — это уже моя просьба, просто просьба. Что-то мне его поведение сильно не нравится...
— Исполню, — пообещал Сенька.
И Лабрюйер пошёл в фотографическое заведение.
Там его уже ждал посетитель — хрупкий, как дитя, старичок в длинном чёрном пальто. Он сидел у столика с альбомами, положив на колени большую меховую шапку, и лёгкие седые волосы, когда-то чёрные и буйно-курчавые, распушились вокруг высокого лба и морщинистого лица, окаймлённого довольно длинной и давно не подстригавшейся бородой, тоже седой.
— Господин Гроссмайстер? Добрый день, — сказал, привстав, старичок. — Рекомендуюсь — Хаим-Арон Могилевкер, имел своё выгодное дело и теперь ещё могу найти молодому человеку хорошую невесту.
Он говорил на идиш, но Лабрюйер, одинаково хорошо владея русским и немецким, отлично идиш понимал, вот только отвечал по-немецки, и это всех устраивало.
— Добрый день, господин Могилевкер. Вас ведь господин Шнеерзон прислал? — на всякий случай спросил Лабрюйер и сел напротив.
— Да, Абрам сказал: ты можешь услужить хорошему человеку, а это — благодеяние. Я, знаете ли, должен творить благодеяния, это такое правило.
— Это замечательно, господин Могилевкер. Вам сказали, кого я ищу?
— Да, вы ищете Хаву-Матлю Кац. Я её помню.
— Господи, ну хоть фамилия у нас есть! — обрадовался Лабрюйер. — Погодите, я возьму бумагу и карандаш. Итак — Хава-Матля Кац?
— Очень красивая невеста из Режицы. Но что такое красота, когда татэ — переписчик старых книг, утративший зрение, а мамце — просто глупая курица? Они могли дать в приданое только свои болячки и свои долги.
— Об этом я уже догадался.
— Не будем говорить о печальном, господин Гроссмайстер, это плохо. Я встретил Хаву-Матлю, когда она уже жила одна, в квартире, которую ей подарил один господин перед тем, как от неё уйти. Я был в Риге по делам, мне одна женщина сказала, что видела Хаву-Матлю, очень хорошо одетую, и научила, как её найти. Я очень хороший сват, господин Гроссмайстер! Я могу женить рижского бургомистра на французской королеве, если очень постараюсь. Я пошёл и сказал: «Хава-Матля, тебе тридцать лет, у тебя есть деньги, но всё это ненадолго. Однажды тебе стукнет тридцать пять, а денег уже не будет, тогда даже я не смогу тебе помочь. Давай обменяем твои деньги на мужа». Она отвечает: «Реб Могилевкер, кому я такая нужна?» Она так отвечает, но я вижу, что она хочет замуж. И я ей говорю: «Хава-Матля, кому ты нужна — это уже моя забота». А у меня как раз был на примете один чудак. Он из хорошей семьи, но слишком много читал, он подружился с русскими студентами, у него в голове были такие мысли, что страшно вообразить! Его бедные родители сказали мне: «Хаим-Арон, найдите ему еврейскую невесту, пока он не привёл в дом русскую или латышку!» Я пошёл к нему и говорю: «Берл, ты должен спасти бедную девушку, она сбилась с пути, она погубила свою репутацию, если ты на ней не женишься — то никто не женится, и она совсем пропадёт!» Вы меня понимаете?
— Да, понимаю!
Лабрюйер не мог сдержать улыбку — разговорчивый старичок очень ему нравился, а уж история замужества Хавы-Матли — тем более.
— И наш Береле с восторгом кричит: «Во всём виноваты проклятые буржуи, я женюсь на этой девушке, потому что без меня она пропадёт!» Господин Гроссмайстер, я за свою жизнь видел столько сумасшедших, что Берл Ценципер — ещё не самый главный.
— Ценципер? — переспросил Лабрюйер.
— Да. Они потом уехали жить в Туккум. Я думаю, до сих пор там живут.
— Даже не знаю, как вас благодарить, что вы согласились сюда прийти... — Лабрюйер полез во внутренний карман за портмоне.
— Господин Гроссмайстер, я же сказал — я теперь должен творить благодеяния, — строго сказал старичок. — Я своё уже заработал. У меня, слава богу, два сына и дочь. А если каждый день не совершать благодеяние — Всевышний спросит: «Зачем же я тебя, Хаим-Арон, создал?» А я что отвечу?
— Вы присылайте ко мне внуков, я сделаю фотокарточки, — предложил тогда Лабрюйер, и старый сват задумался.
— Будет ли это благодеянием, если плату получат мои внуки? — спросил он.
— Будет. Знаете что, господин Могилевкер? Я тоже должен совершать благодеяния. Сейчас мы сделаем ваши фотографические карточки, но не для вас, а для ваших внуков и правнуков. Они будут очень благодарны. Не для вас! Для них! Фрейлен Каролина!
Хорь вышел на зов, выслушал задание и постарался на славу — вдвоём они втащили на помост кресло с резной спинкой, круглый столик, на столик положили стопку толстых книг, красиво повесили драпировки. Старичок с огромной радостью позировал перед фотоаппаратом, а потом отозвал Лабрюйера в сторонку.
— Господин Гроссмайстер, я понимаю, как трудно выдать замуж такую девицу. Но ведь сказано: нехорошо человеку быть одному. Хотите, я присмотрю для неё жениха? Конечно, это будет господин в годах. Но ведь лучше пожилой муж, чем вообще никакого.
Когда сват ушёл, Лабрюйер сказал Хорю:
— Будешь плохо себя вести — приглашу Могилевкера. И спляшу на твоей свадьбе. А сейчас я бегу на вокзал. Может быть, успею на утренний поезд в Туккум.
Зная, что добираться до Туккума больше часа, Лабрюйер взял с собой газеты и книгу — роман Дюма «Граф Монте-Кристо». Он читал этот роман в молодости, но вот что-то захотелось перечесть.
Туккум был небольшим городком, по сути — еврейским местечком. Стоял он на холмах, иные улицы по сути были лестницами, и пробираться по ним зимой было сложным делом.
Торговля там велась скромная, было восемь небольших фабрик, крупным предприятием считался солодовый завод. Лабрюйер прямо на вокзале спросил у кондуктора, не знает ли он семейство Ценциперов, и оказалось — вот их лавка, стоит только перейти через дорогу.
Как Лабрюйер и предполагал, в лавке сидела бывшая Матильда, ныне Хава-Матля Ценципер. Ему было любопытно посмотреть на красавицу, вокруг которой двадцать лет назад развели столько суеты. Увы, красавицей Хава-Матля больше не была, отрастила третий подбородок и грудь, величина которой Лабрюйера прямо-таки сразила наповал. Но, приглядевшись к лицу, он выявил черты былой привлекательности — тонкий нос с едва заметной горбинкой, чёрные брови безупречной формы, маленький рот с пухлыми красивыми губами, а главное — живые чёрные глаза.
— Добрый день. Ваш супруг дома? — спросил Лабрюйер.
— Добрый день. А когда он вообще бывает дома? Что господину угодно? У нас всё есть.
Действительно, в лавке было всё — бумага, чернила, дешёвые книжки на всех языках, чай и кофе в больших стеклянных банках, пряности в маленьких банках и пакетиках, соль и сахар, конфеты и печенье, ленты и нитки, деревенская шерсть и фабричные чулки.
— Это хорошо, что его сейчас нет, — сказал Лабрюйер. — Я ищу Ротмана.
— Какого Ротмана?
— Вашего давнего приятеля.
— Я его десять лет уже не видела, — быстро ответила Хава-Матля.
— Не видели?
— Не видела!
— Тогда дайте мне, пожалуйста, листок бумаги и карандаш.
Написал Лабрюйер следующее: «Ротман, не валяй дурака. Я жду тебя на вокзале. Гроссмайстер».
Затем он, не прощаясь, вышел, предоставив Хаве-Матле самой принимать решение. Он знал, что женщина первым делом прочитает записку, и даже не стал её сворачивать квадратиком.
На вокзале Лабрюйер прочитал расписание и вздохнул — дневной поезд был через два часа. Оставалось найти место, где можно было спокойно посидеть и почитать «Графа Монте-Кристо». Читать он предполагал не более сорока минут. Где бы ни прятался Ротман, за это время можно его найти и передать записку. Конечно, если он в Туккуме.
Вокзал был старый, краснокирпичный, имел зал ожидания, довольно тёплый, и Лабрюйер уселся так, чтобы Ротман его сразу увидел.
Ротман явился на той самой странице, где граф приводит Альбера в будуар Гайде.
Он был в тёплом полушубке, явно с чужого плеча, в довольно приличных брюках и валенках с галошами. Видимо, Хава-Матля отдала ему старый мужнин гардероб.
— Садись, — сказал Лабрюйер. — И рассказывай, почему ты так далеко удрал.
— Была причина.
— Испугался, что тебя обвинят в убийстве?
Ротман отшатнулся от Лабрюйера.
— Да что ты шарахаешься, как лошадь от зонтика? Садись, говорю тебе. Я знаю, что ты того человека не убивал. Тебя бы даже в тот дом не впустили, где его нашли.
Ротман сел на край скамьи и сгорбился.
— Мне бы всё равно никто не поверил... — пробормотал он.
— Естественно, не поверили бы. После того как он пытался убить тебя, логично было бы, чтобы ты сам от него избавился. А теперь говори, что это за человек и что между вами вышло.
— А его точно убили? — вдруг спросил Ротман.
— Точно. Удавили крепдешиновым шарфом. Ты и слов-то таких не знаешь. Как ты узнал, что его убили? Околачивался на Выгонной дамбе?
— Да...
— Караулил утром, когда он выйдет?
— Да...
— Ты же знал, что он хочет тебя убить. На себя посмотри! Ты же не смог бы сопротивляться! Что ты задумал?
— Я хотел с ним договориться.
— Договориться с человеком, который сперва собирался тебя застрелить, а потом отравить?
— Застрелить?
— Ты что, не слышал про стрельбу на кладбище? Я этого твоего злодея спугнул. О чём ты с ним собрался договариваться?
Ротман основательно замолчал и минут пять изучал свои бурые валенки. Лабрюйер ждал.
— Я приходил к вам, просил передать, что нашёл свидетеля. То есть свидетеля, что моего Фрица осудили безвинно. Так это он и был.
— Хорошо. Ты нашёл свидетеля тех давних безобразий. Ты хотел вместе с ним пойти в полицию, чтобы у него взяли показания, и обратиться в суд, чтобы там пересмотрели дело?
— Да.
— Ты попросил его об этом?
— Да.
— И что он тебе ответил?
— Что я ошибся, он никакого Фрица не знает и вообще из Швеции приехал. А я не ошибся! Я за ним весь день ходил, приглядывался! Это он!
— Да кто — он, черти бы тебя побрали?!
— Энгельгардт!
— Мне эта фамилия ни о чём не говорит.
— Ни о чём?
— Решительно ни о чём.
— Да его же в шестом году расстреляли!
— Ротман, в шестом году я уже не служил в полиции, да и не нанимался я всех покойников назубок помнить. А тогда, сам знаешь, у Гризиньской горки каждое утро трупы поднимали.
— Энгельгардта расстреляли, это я точно знаю. Схватили вечером, ночью судили, приговорили к расстрелу. Тогда же у студентов и анархистов был целый комитет, который этим занимался. Я видел, как его арестовали в «Тиволи». Там был один парень, я знал, что он в комитете. Он меня там видел, он мне кивнул, я ему кивнул. Наутро я его опять встретил, идёт довольный. Подозвал, говорит: «Ты, старый черт, по таким заведениям не слоняйся, могут и тебя ненароком вместе с черносотенцами прихватить, потом не оправдаешься. Дома, — говорит, — по вечерам сиди. Я, — говорит, — тебя знаю, а может случиться, налетишь на такого, что не знает, и будешь лежать у Гризиньской горки, как сегодня Энгельгардт». Расстреляли, значит... А на днях иду по Романовской, навстречу мне — живой Энгельгардт! Я думал, мерещится.
— Так, может, ты ошибся?
— Нет, и голос — его, и лицо. И руки. Я таких длинных пальцев больше ни у кого не видел. Я к нему подошёл. Ведь когда Фрица судили, как раз говорили, что он с другими студентами и анархистами этого Энгельгардта к смерти приговорил! А он — жив! Он, значит, видел, кто его приговорил!
— Тише, тише... Как же он спасся?
— Я не знаю. Не знаю, господин Гроссмайстер. Но это точно он. Я с ним говорил, я видел — он меня узнал. А сделал вид, будто не узнает.
— Где же вы с ним познакомились?
— Да на Канавной улице... Там ведь кого только не бывает...
— Странная история. В ней есть какое-то враньё.
— Да какое враньё, если я с перепугу в Туккум к Матильде забежал?..
— Ну, раз так — сиди пока в Туккуме, я тебя не выдам. Но именно тут и сиди, — велел Лабрюйер. — Раз уж Матильда согласна тебя кормить, поить и одевать.
— Ещё бы не согласна, муж у неё — простофиля, у него всякая чушь в голове, но больше никто во всём Туккуме не знает про Матильдины шалости, все думают — добропорядочную вдову этот чудак за себя взял. Так ей ни к чему, чтобы я распустил язык.
— Как всё, оказывается, просто...
Вернувшись в Ригу, Лабрюйер прямо с вокзала пошёл искать агента Фирста. Ему повезло — встретил на улице у дверей полицейского управления, украшенных невысокими колоннами ионического ордера.
— Я сейчас безумно занят, — сказал Фирст. — Бегу на Выгонную дамбу опрашивать свидетелей.
— Ты про убийство в меблированных комнатах? — спросил Лабрюйер.
— Да. Странная история. Мужчина без всяких документов, даже без бумажника. Видно, сцепился с ворами, они с ним и расправились, хотя воры — народ осторожный. Консьержка видела подозрительных мужчину и женщину.
— Воры редко убивают, уж ты-то это знаешь. Его, я слыхал, удавили, а чем?
— Орудие не найдено. Но, господин Гроссмайстер, там кое-что совсем неожиданное. Тело отвезли в прозекторскую, раздели — а на груди одиннадцать отметин! Одиннадцать пуль в эту грудь вошло, представляете?
— Нет, не представляю.
— И я тоже. Студентов водили смотреть, вот как оно бывает — одиннадцать пуль, а человек выжил.
Лабрюйеру стало ясно — Ротман не соврал.
Но если человек по фамилии Энгельгардт объявился в Риге с документами на имя шведского подданного — то что бы это значило?
— Потом появись у меня. Нужно разобраться с тем автомобилем.
— На обратной дороге могу заскочить.
Лабрюйер пошёл пешком в фотографическое заведение. Узелки не распутывались, а, наоборот, запутывались.
Прежде чем раздеться, Лабрюйер положил на подоконник томик «Монте-Кристо». Повесив пальто, он снова взял книжку и задумался.
— Слушай, Хорь, а не мститель ли в Ригу пожаловал?
— Мститель?
— Боюсь, что даже я, получив ни за что ни про что одиннадцать пуль в грудь, был бы далёк от христианского смирения. Этот человек, Энгельгардт, как-то выжил и сумел перебраться в Швецию. Там он, судя по всему, ухитрился разжиться деньгами. И приехал, чтобы покарать доносчика...
— Какого доносчика?
Лабрюйер задумался. Что-то вертелось в голове, высовывалось и пропадало.
— Ну, скорее всего, его арестовали и расстреляли по ложному доносу, — неуверенно сказал он. — И вон он решил наконец расправиться с тем мерзавцем. Или мерзавцами. Кто-то же его осудил на основании ложного доноса. Но пострадал за это племянник нашего Ротмана, а настоящие судьи как-то избежали кары. Думаю, были подкуплены свидетели. А судьи, имея на руках кучу дел такого рода после беспорядков, могли поспешить с выводами.
— Как звали племянника этого Ротмана?
— Фамилия — та же, имя — скорее всего, Фридрих, хотя не исключено, что Франц.
— Ну так по нему нужно сделать запрос, хотя...
Лабрюйер понял — Хорь не уверен, что поиски доносчика и студентов, заседавших в Федеративном комитете на Романовской, имеют отношение к агентуре Эвиденцбюро. Он и сам не был в этом уверен.
— Темнеет, — сказал он. — На сегодня с нас хватит. Иди переодеваться. Представляю, как тебе осточертел весь этот маскарад.
— Когда выловим врагов — сожгу проклятый парик в печке, а блузки подарю госпоже Круминь, — пообещал Хорь. — Для неё это царская роскошь.
Он вспомнил супругу дворника — и опять в голове у Лабрюйера что-то попыталось оформиться в слова. Ещё миг — и смогло бы, но Хорь продолжал:
— Вот бы ещё придумать, куда юбки девать. Она такое уродство носить не станет.
С тем он и ушёл в служебные помещения.
Лабрюйер подошёл к окну и уставился на второй этаж «Франкфурта-на-Майне». Там жила Наташа Иртенская. Может, если долго смотреть, в окошке, сквозь летящий наискосок снег, возникнет её силуэт? И станет понятно, как писать письмо?
— Наташа, я был сегодня в забавном городке... — так можно было бы начать письмо. — А по дороге читал «Графа Монте-Кристо». Наверно, Мерседес была похожа на тебя...
«Да, нам будет о чём поговорить, ведь мы так мало знаем друг друга», — думал Лабрюйер, но написать о себе, как пишет Наташа, он не мог, что-то мешало. Да и не было в жизни событий, которые следовало бы объяснять, кроме, пожалуй, пьянства, но его ведь объяснить невозможно! Просто покатился по наклонной, как говорят образованные люди. Если Бог будет милостив, это не повторится. Но ведь она захочет знать подробности, захочет понять! Может, так и написать: «Наташа, я пил, как сапожник, но это в прошлом, и давай не будем об этом вспоминать никогда»?
Лабрюйер ужаснулся — хорошенькое начало для письма!
Тут возле двери обозначились два силуэта, дверь распахнулась, влетели Вилли и Минни. И заговорили разом, и стали отряхивать воротники и шапочки, помогая друг дружке, смеясь и чуть ли не пританцовывая.
— Я фрейлен Каролину позову! — воскликнул Лабрюйер и помчался за Хорём.
Тот уже стоял в мужском образе, готовый штурмовать сугробы и карабкаться через заборы, чтобы вылезть на Романовской.
— Вилли! — сказал Лабрюйер.
Если есть где-либо что-то более смешное, чем мужчина, помогающий другому мужчине стремительно преобразиться в женщину, то Хорь и Лабрюйер об этом не знали. Разве что, может, кто-то из гениев кинематографа до такого додумался.
— Чёрт знает что... — пробормотал Лабрюйер. — Быстро раздевать женщину приходилось. Одеваю — впервые!
— Грудь ровно торчит? — спросил Хорь. — Проклятый парик! Где шпильки?! Она не дождётся и уйдёт!
— Я задержу её!
Лабрюйер выскочил в салон.
— Простите, барышни. Фрейлен Каролина сейчас выйдет. Не угодно ли присесть? Я могу приготовить кофе!
— Мы пришли сказать, что сами нашли итальянку! — ответила Минни. — Если бы на вас понадеялись — то ждали бы до второго пришествия!
— Мы совершенно случайно нашли преподавательницу, которая отлично говорит и поёт по-итальянски! — добавила Вилли. — Настоящая итальянка, а как поёт! Была замужем за немцем, в Ригу приехала по делам, ей здесь понравилось.
— Это дама! Когда-нибудь и я буду такой дамой, — сказала Минни. — Какие манеры! Я не думала, что у итальянок такие светские манеры.
— Мы в театре познакомились. Она была так рада, что может здесь давать уроки!
— Она замечательная! Она сказала — какое счастье, будет с кем поговорить по-итальянски!
— Мы ей рассказали, как искали итальянцев, она обещала, что теперь будем искать вместе!
— Можно будет даже составить целый кружок любителей итальянского языка!
Девичий щебет Лабрюйера озадачил.
— А не собирается ли эта синьора разбирать с вами оперные партитуры? — осторожно спросил он.
— Конечно, собирается! Она привезла с собой партитуры! Это будет так интересно!
Тут вышел Хорь, и Минни с Вилли кинулись к нему — целовать в щёчки и рассказывать про свою итальянку. А Лабрюйер задумался — уж не госпожа ли Крамер решила податься в учительницы?
Эта госпожа исчезла, как сквозь землю провалилась, оставив несколько важных вопросов. Её поиски живущих в Риге загадочных итальянцев удивительно совпали с предположением о суете итальянских агентов вокруг рижских заводов с их военными заказами.
Тот, кто увёз её из «Северной гостиницы», похоже, не желал, чтобы она встречалась с Лабрюйером. Почему — это так и осталось загадкой. Видимо, боялся, что бывший полицейский инспектор, чего доброго, найдёт в Риге потомка кардинала Мазарини...
Нужно ли было в таких обстоятельствах самому искать госпожу Крамер?
Пока Лабрюйер думал, Хорь, в полном восторге от встречи с Вилли, готов был пообещать хоть луну с неба. Лабрюйер прислушался — барышни уже обсуждали совместный поход в театр. Нужно было как-то прекратить эти замыслы.
Но Хорь был неукротим. Он выскочил из салона, через несколько секунд вернулся в дамской шубке и шляпе поверх парика, он затевал прогулку с барышнями — в самом деле, отчего бы трём милым девицам не погулять в Верманском парке или на Эспланаде в морозный зимний вечер? Лабрюйер махнул рукой и отложил разговор с Хорём на утро.
Сам он пошёл поесть во «Франкфурт-на-Майне». Там можно было в одиночестве спокойно беседовать с незримой Наташей.
— Наташенька, я сегодня в недоумении — что делать с Хорём? — спросил Лабрюйер. — Я всё понимаю, молодая горячая кровь и так далее... Посылать его для успокоения на Канавную улицу за счёт Центрального регистрационного бюро, к которому приписан рижский наблюдательный отряд, что ли?
— Он не пойдёт, — совершенно не смутившись от такого предложения, ответила Наташа.
— Зато я скоро пойду... — буркнул Лабрюйер. Воображаемой Наташе можно прямо сказать: «Милая, я слишком долго был один».
— Разве нет женщины, с которой бы ты мог встретиться просто так, без обязательств? — спросила она. — Милый, я совершенно не ревнива.
— В таком случае ты — совершенство, — сказал Лабрюйер. — Есть такая женщина, давняя подруга. Но я к ней не пойду. Что-то в таком походе будет неправильное, совершенно неправильное. И в наших с тобой отношениях — тоже что-то неправильное. Они, на мой взгляд, чересчур возвышенны, и я в этой возвышенности мало что понимаю... Я самый обыкновенный мужчина. Вот Хорь читает стихи, понимает их, наверно, у него натура поэтическая. А я — самый что ни на есть прозаический.
— А музыка? — спросила она.
— И музыка у меня прозаическая, — признался Лабрюйер. — Не хожу слушать симфонии... А ты? Ты ходишь в концерты?
— Тс-с... — прошептала Наташа. — Я тоже не люблю симфоний...
Тут принесли тарелки с закуской, и Лабрюйер взялся за вилку.
Потом он, убедившись, что на хвосте никто не повис, отправился к Сеньке.
Если по уму, то Сеньке следовало искать жильё поближе к «Мотору», а не тратить каждый день время и деньги — билет во втором классе стоил на Агенсбергской линии целых пять копеек, да тащился трамвай целую вечность. Но наблюдательный отряд должен был иметь возможность ночных встреч с Сенькой без лишних приключений.
— Здравствуй, Мякишев, — сказал, входя в комнатушку, Лабрюйер. — Вот тебе в хозяйство.
Он решил отдать парню одну из двух своих спиртовок.
— Спасибо, Александр Иванович. А можно ещё денег попросить?
— Можно. На что тебе?
— Я теперь на прачку разорюсь. Меня взяли помощником кочегара. А кочегарка — это, это...
— Филиал ада на Земле. Хорошо, насчёт прачки не беспокойся. А что это за работа? Ты должен всё время торчать у топки? Если так — то плохо.
— Нет, я по заводу бегаю. Всякую дрянь собираю и в кочегарку отвожу. Там же — то в ящиках что-то привезут, то в картонных коробках, стружкой переложенное. Ну, я этот хлам и доставляю в кочегарку.
— Это замечательно. Рейтерна видел?
— Я только инженера Мостовского видел. Ну, ещё директора Калепа.
— Ты поглядывай — не появится ли Собаньский. Он там где-то должен крутиться.
Потом Лабрюйер пошёл к себе. Разговор с воображаемой Наташей следовало отложить до лучших времён, а вот нарисовать, как учили в полиции, схему событий и взаимоотношений, полагалось бы сейчас.
Точнее, схем было несколько. Одна — связанная с маньяком. Клява не убивал, это понятно, но он как-то оказался поблизости от места преступления. Мог ли он быть связан с яхт-клубами? Может, во время каникул развлекался поездками на яхте? Может, был в экипаже «Лизетты»? Имя Розенцвайга оставило его равнодушным — но он не в своём уме; возможно, больной рассудок выкинул всё, что имело отношение к убийству?
Вторая схема была посвящена Ротману и «черепу», обретшему даже не одно, а два имени. Она пока была совсем простой, и несколько кружочков, в которые полагалось бы вписать имена, оставались пустыми. Если «череп» приехал, чтобы отомстить и убраться обратно в Швецию безнаказанным, то понятно — он избавлялся от тех, кто его узнал. Но Энгельгардт был узнан человеком, которого собирался уничтожить. Кому бы ещё потребовалось спровадить его на тот свет?
Странно было, что рядом с этой благородной фамилией в памяти хранилась госпожа Круминь.
Размышления прервал Хорь, явившийся после прогулки с девицами.
— Я болван, — сказал Хорь. — Я первостатейный болван. И тот, кто поставил меня командиром наблюдательного отряда, тоже болван. Я два раза чуть себя не выдал!
— А вот тот, кто тогда одобрил твой маскарад, человек умный, — ответил Лабрюйер. — Горностай прав, это необходимо, чтобы воспитать в тебе дисциплину духа. Если бы ты сейчас был для Вилли кавалером, то она бы замуж за тебя собралась...
— Правда?! Нет, правда?!
— Правда. Ты сейчас успокойся. Я знаю, у тебя где-то ром припрятан, — сказал Лабрюйер. — Не бойся, утешать тебя я не собираюсь. Просто, просто... ну, в общем, ничего страшного не случилось... Пойдём к тебе и употребим по стопочке рома. И ты мне всё расскажешь с подробностями.
Лабрюйер имел в виду: пусть лучше мальчишка выговорится перед человеком, который его не обидит, чем что-то брякнет язвительному Енисееву.
Он знал, что спиртного может выпить не больше маленькой стопочки, а потом должен жёстко сказать себе: хватит. Крепкий ром согрел внутренности, придал голове бодрости, и наутро, чувствуя себя превосходно, Лабрюйер пошёл искать госпожу Круминь.
Она занималась стиркой. На плите стояли два котла — в одном вываривалось постельное бельё, в другом закипала вода для следующей порции исподнего и сорочек.
— Госпожа Круминь, вы как-то при мне упоминали некого Энгельгардта... — начал Лабрюйер.
— Мир его праху, — сказала супруга дворника. — Во время этих проклятых беспорядков много невинных людей погибло. А донёс на него Краузе...
— Краузе! — воскликнул Лабрюйер. Память ожила, подробности давних разговоров выплыли и словно бы встали в строй.
Энгельгардта Ротман встретил на Романовской, между Суворовской и Дерптской. Выходец с того света шёл мимо дома, где его судили и приговорили к расстрелу непонятно за что. Время было такое, что любого назови в доносе черносотенцем и врагом революционного пролетариата — и обезумевшие от власти студенты с анархистами приговорят без всяких доказательств. И там же поблизости жил с многочисленным семейством Краузе.
— А в каком доме он живёт? — спросил Энгельгардт.
— В двадцать втором! — выпалила супруга дворника.
— И откуда же известно, что это он донёс?
— От Аннушки. От Анны Блауман. Она тогда у них служила, у Краузе. Она всё знала, только молчала.
— И где теперь эта Анна Блауман?
Госпожа Круминь задумалась.
— А не вышла ли она замуж за сапожника Балтвилка? — спросила она саму себя. — Она за него собиралась.
— Хотел бы я с ней потолковать.
— Так это просто! — супруга дворника даже обрадовалась. — Анна — сестра крёстной Марии Упит, Мария недавно вышла замуж за столяра Апсита и уехала с ним на Кипенхольм. У этого Апсита сестра замужем за счетоводом Баяром из магазина Мушата, что на Суворовской...
— Хотите покататься на ормане? — спросил Лабрюйер. — До Кипенхольма и обратно? По дороге можно остановиться на Двинском рынке и набрать продовольствия. Там, я слыхал, дешевле, чем на Матвеевском.
По лицу госпожи Берзинь было видно — поездка на Двинский рынок, да ещё на ормане, который поможет загрузить в пролётку покупки, для неё праздник.
— Пичу с собой возьмите, — напомнил Лабрюйер, зная, что для мальчишки такое путешествие — целое событие. — Кстати, когда из школы придёт — пришлите его ко мне.
— А у Краузе дома мебель стоит, которая от Хуго Энгельгардта осталась, — вдруг заявила госпожа Круминь.
— Ничего удивительного, — согласился Лабрюйер, подумав, что супруга дворника — живая иллюстрация к трактату о классовых противоречиях. Даже если Краузе не писал доноса, факта перевозки дорогой мебели в квартиру достаточно, чтобы невзлюбить богача.
Подал голос телефонный аппарат. Лабрюйер взял трубку.
— «Рижская фотография господина Лабрюйера»? — спросил девичий голос. — С вами будет говорить Москва.
Москва заговорила мужским голосом.
— Записывайте, — приказала она без лишних вопросов. — Найден старший сын госпожи Урманцевой. Аркадий Викентьевич Урманцев, служит в Нижнем Новгороде. Он сообщил, что мать ему не так давно телефонировала и сказала, что хочет пожить в монастыре с тем, чтобы со временем принять постриг. Она обвиняет себя в смерти дочери Марии и, возможно, гувернантки Амелии Гольдштейн. Сына она просила приехать в имение и впредь быть там полновластным хозяином. Господин Урманцев нашёл в своих бумагах фотографические карточки, на которых госпожа Урманцева, Мария Урманцева и Амелия Гольдштейн. Копии карточек будут вам доставлены. Все.
— Благодарю, — ответил Москве Лабрюйер. Это уже было кое-что!
Потом в фотографическое заведение телефонировал Росомаха.
— Вечером, попозже, заглянем, — пообещал он.
Ян работал в салоне, Хорь — в лаборатории, исполнял заказ — двести карточек с композицией из видов старых рижских зданий, как если бы картинки были разбросаны по фону с цветами и надписью: «С приветом из Риги!»
— Я не пойду с ними в театр, — горестно сказал он Лабрюйеру. — Тут я ещё могу ходить в юбке с блузкой, но для театра нужно вечернее платье. Ты представляешь меня в вечернем платье?!
— Нет, — честно ответил Лабрюйер. — Моё воображение бессильно. Только в театр тебе пойти придётся. Там будет их преподавательница итальянской грамоты. Нужно на неё посмотреть. Я не пойду! Госпожа Крамер исчезла не просто так — а потому, что её увезли. Кто-то очень не хотел, чтобы она со мной встречалась. Неизвестно, что получится, если она увидит меня в театре.
— К вечернему платью нужны открытые туфли на французском каблуке. Вот на эту ножку! — Хорь вздёрнул подол.
Ножка была самая мужская.
— Но ты же эмансипэ! — вспомнил Лабрюйер. — Все эти рюшечки и воланчики — ниже твоего достоинства! Ты же борешься за женское равноправие! Какое равноправие, если женщина обречена носить французские каблуки? У тебя есть английский тальер? Вот его и нацепи.
— Про равноправие-то я и забыл.
— А напрасно.
— Я устал, — признался Хорь. — Вроде ничего особого не делаю, а устал.
— Ты руководишь отрядом. Это утомляет.
— Сегодня Горностай доложит, что раскопали по Розенцвайгу. Там ещё объекты наметились — его бывшие однокурсники. И Барсук пойдёт наниматься на «Мотор». Мякишев толковый, но ведь совершенно неопытный. А нужно отследить связи между Розенцвайгом и Рейтерном, нужно найти человека, которого мы тогда спугнули... я спугнул!..
— Перестань, — сказал Лабрюйер. — Я из-за твоих душевных страданий чуть заикой не сделался. Когда утюг за бомбу принял.
— Вы в полиции много стреляли?
— Доводилось. В тир обязательно ходили. Учились стрелять навскидку. Но мы больше друг от дружки ухватки перенимали. А ты запрос о Фридрихе Ротмане сделал?
— Забыл, — признался Хорь. — Извини. Виноват...
— Ну так иди к аппарату и диктуй телефонограмму кому следует. Пусть найдут Ротмана там, где он отбывает срок, и в допросе узнают про некого Краузе с Романовской улицы и про его племянника. Пусть вспомнит все имена! Особо — узнать, что ему известно о Хуго Энгельгардте.
— Краузе с Романовской улицы, — повторил Хорь. — Это — та вторая версия, которой от тебя требовал Горностай?
— Да. Очень может быть, что человек в Федеральном комитете, который за взятку принял ложный донос и дал ему ход, — тот, кто нам нужен. Но, сам понимаешь, разгребать помойку семилетней давности, когда половина фигурантов на том свете, а три четверти остальных чуть ли не в Австралии, дело малоприятное.
— Было бы очень хорошо, если бы ты напал на английский след. Кто-то же снабжал боевиков оружием — и здесь, и в Санкт-Петербурге. А ещё возможен японский след — тоже по части оружия.
— Его только нам не хватало. Тогда мы окончательно рехнёмся. И в полном составе отправимся на Александровские высоты...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
После совещания Лабрюйер понял одно: ему придётся изучить, кто из студентов политехникума в пятом или шестом году оставался в Риге и кто в чём был замечен. Помощников в этом деле не будет, а срок — хорошо бы предоставить сведения к завтрашнему дню.
— Не горюй, брат Аякс, — сказал Енисеев. — Всё не так уж скверно. Студенты-немцы большей частью сидели по домам тихо, как мышь под веником, колобродили русские и латышские студенты. Вот они теперь, став видными людьми, и дрожат за свои репутации.
— Но Розенцвайг — немец. Рейтерн — немец. И среди тех молодых инженеров, что я видел на «Моторе», человека четыре — точно немцы и выпускники политехникума. Значит, они что-то натворили во время беспорядков и теперь смертельно боятся шантажистов?
— Очень даже может быть. Как ты понимаешь, у нас был человек на «Моторе», которым занимался Росомаха. Он и проболтался, что кто-то из мастеров сборочного цеха что-то такое по чьей-то просьбе собирался вынести некому покупателю. Ни имён, ничего — только это. Но после ночной стрельбы Росомаха к нему и близко не подходит. Тот из инженеров, кто собрался передать неведомо что неведомо кому, сейчас явно затаился. Поэтому проверить придётся всех. И русских, и латышей.
— А ты не допускаешь, что шантажируют двоих или троих? — спросил Лабрюйер. — Участие в этих безумных ночных судилищах на Романовской — как раз то, что сейчас приходится скрывать. Родня как-то сумела обелить своих непутёвых детишек, и я боюсь, что их — целая компания, и что они поддерживают друг дружку.
— Это очень похоже на правду, — согласился Енисеев. — Пока у нас есть одна сомнительная ниточка — Розенцвайг. Я узнаю всё о его друзьях и прочих связях.
— А я узнаю, кому из членов Федеративного комитета можно было всучить ложный донос, зная, что никакой проверки не будет.
О том, чтобы бросать след, ведущий к маньяку, речи не было — Лабрюйер и не напомнил Енисееву о маньяке.
На следующий день он, вызвав Мартина Скую, отправил госпожу Круминь с Ничей на Кипенхольм. Но перед этим дал мальчику инструкции.
— Ты же знаешь, что на Кипенхольме есть два больших яхт-клуба. Яхты на зиму вытаскивают на берег. Пока твоя матушка будет сидеть в гостях, ты пробегись и посмотри, где они зимуют. Меня интересует яхта под названием «Лизетта». Если ты её найдёшь, осмотри все окрестности и узнай, охраняют ли её. Ведь это богатая яхта, воры могут туда залезть и пооткручивать всё, что трёхдюймовыми гвоздями не приколочено. Может быть, она стоит на стапеле в чьём-то дворе, за забором. Понял?
— Понял! — обрадовался Пича.
— Держи гривенник. И вот тебе ещё десять копеек мелочью. Может, будешь расспрашивать тамошних парнишек. Так чтоб они охотней с тобой разговаривали...
Скуя получил другую инструкцию: пока супруга дворника будет пить в гостях кофе с цикорием, смотаться в Агенсберг к тёще. Тёща будет тронута вниманием зятя и наверняка что-то расскажет о семействе Лемана.
Когда Пича и госпожа Круминь уехали, Лабрюйер засел в салоне — принимать клиентов и проверять книгу записей заказов. Там его и нашла горничная Глаша.
— Господину Гроссмайстеру, — сказала она, — от его красоточки!
И со смехом убежала.
Это было третье письмо от Наташи Иртенской.
В ужасе от собственной эпистолярной бестолковости Лабрюйер развернул его.
«Саша, мне Ольга всё объяснила, — прочитал он. — Есть люди, которые просто не могут писать. Как иные петь не могут или, скажем, плести кружево, так многие мужчины не в состоянии написать письмо женщине. У Ольги было множество поклонников до свадьбы, они ей присылали такие художества, что мы просто помирали со смеху. Ты, наверно, и в молодости не писал писем, в которых говорил бы о своих чувствах. Или, как предположила Ольга, брал слова из письмовника. А теперь нужно говорить о таких вещах, что ни в одном письмовнике не сыщешь. Не огорчайся, я это понимаю...»
Лабрюйер забеспокоился — радоваться ему или огорчаться? Наташа просто приняла его таким, каков он есть, или завуалировано назвала дураком, двух слов связать не умеющим?
«Может быть, мне стоило бы телефонировать тебе, — писала дальше Наташа. — Я очень хочу услышать твой голос. Хочу — и боюсь, что мы скажем друг другу какие-то банальные и необязательные слова...»
Вот тут она была права!
Лабрюйер улыбнулся — получалось, что переписка для них стала единственным способом узнать и понять друг друга. Осталось только научиться выбирать правильные слова. Вот ведь Бальмонт умеет. И госпожа Щепкина-Куперник, переведшая на русский «Принцессу Грёзу», умеет.
Тут Лабрюйера осенило. Он взял ручку — ту, которой вписывались в книгу заказы, — и, вырвав страницу, написал: «Наташа, я не поэт и не умею говорить о возвышенном. Достань, пожалуйста, и прочитай пьесу “Принцесса Грёза”. Там всё сказано правильно, а я так не умею...»
Перечитав эти строчки, он понял, что так писать тоже нельзя. Как будто учитель словесности даёт совет гимназистке! Он смял страницу и сунул в карман.
Недовольство собой было так велико, что Лабрюйер обозвал себя болваном и, посадив вместо себя Яна, пошёл в служебные помещения — работать со своими схемами и искать, где они хоть в какой-то мере пересекаются.
Три часа спустя вернулась госпожа Круминь. Она узнала адрес Анны Блауман. Анна, к её огромному негодованию, вышла замуж не за сапожника Балтвилка (госпожа Круминь считала, что лучше знает, кому и на ком следует жениться), а за рабочего с фабрики Лейтнера.
— У Балтвилка своя мастерская была, своё дело! — возмущалась она. — Анна стала бы хозяйкой, почти барыней! А рабочий — ну, что такое рабочий? Все им командуют!
На фабрике Лейтнера в последнее время делали и велосипеды, и мотоциклы, и моторные лодки, и даже автомобили — хотя в малом количестве. С точки зрения Лабрюйера, быть мастером, собирающим мотоцикл, было куда почётнее, чем прибивать подмётки к старым сапогам, но встревать в спор он не стал. Новые красивые корпуса фабрики и здания, где размещалась контора, были в полутора верстах от фотографического заведения. Узнать их мог и впервые оказавшийся в Риге хуторянин — по флюгеру с завитушками, на котором кузнец поместил выкованный велосипедик. Корпуса стояли между Александровской и тихой Венденской улицей. Надо полагать, на Венденской и селились рабочие.
— А как его фамилия? — спросил Лабрюйер.
— Гайлис!
Поблагодарив госпожу Круминь, Лабрюйер собрался и пошёл на фабрику Лейтнера, которая называлась с претензией — «Россия». По дороге думал: «Надо же, как складывается, во время полицейской службы не так уж часто приходилось бывать в цехах, потому что и цехов-то в Риге было немного, тот же Лейтнер начинал своё производство в деревянном домишке на Гертрудинской и в прилегающих сараях, трудилось на него три человека, а теперь? Новые кирпичные здания, украшение города! И, продвигаясь по Александровской от центра к окраине, видишь великолепные заводские корпуса и людей, занятых делом, слышишь разговоры, от которых сердце радуется, потому что мирный и сонный немецкий город, весь смысл которого был в реке, бесплатном транзитном средстве, превращается в индустриальную столицу прибалтийских земель России, и молодые хуторяне, которые ещё вчера шарахались от трамваев, уже стоят возле станков, уже гордятся ремеслом и свысока поглядывают на сельских родственников».
Александр Александрович Лейтнер создал целый городок — в глубине стояли мастерские, склады, гальванический цех, кузница, окнами на улицу — магазин и выставочный зал. Лабрюйер зашёл в магазин, осведомился, как найти рабочего Гайлиса, его попросили обождать — оказалось, Гайлис повредил руку, был временно переведён на склад и как раз должен был привести несколько недорогих дорожных велосипедов; дамские и гоночные зимой не пользовались спросом, а эти понемногу брали. В ожидании Лабрюйер изучал продукцию фабрики и тихо радовался, даже помышлял о покупке мотоциклетки.
Пришёл Гайлис, крепкий мужчина в штанах и тужурке из «чёртовой кожи», на вид — ровесник Лабрюйера. Адреса, где проживает с женой, сперва давать не хотел: не понимал, на кой господину его жена. К счастью, Лабрюйер догадался назвать фамилию «Краузе».
— Так это Краузе вас прислал? — сердито спросил Гайлис. — Ну, тогда лучше сразу убирайтесь, пока я вас за шиворот не вывел.
— Наоборот, я хочу узнать правду про Краузе и про то, как он писал ложные доносы.
— Ничего не получится. Он богатый, у него всё куплено.
— Я богаче, — усмехнулся Лабрюйер. — У него только деньги, а за мной — рижское полицейское управление, а за рижским — Министерство внутренних дел Российской империи, а за министерством сам государь император. Его купить сложновато будет. Вылезли такие старые грехи вашего Краузе, что ему теперь и миллионы не помогут. Да и нет у него миллионов, я его видел.
Гайлис недоверчиво посмотрел на Лабрюйера.
— Это что же, все судебные процессы заново проведут? Крутит господин что-то...
— Нет, все — не станут, а именно Краузе велено разоблачить. Он напакостил одному человеку, а тот человек теперь в столице довольно высоко забрался. Вот и вспомнил, по чьей милости он три года тюремную баланду хлебал. Но это между нами...
Не впервые приходилось Лабрюйеру изобретать понятное простым людям враньё. Справедливость, которая восстанавливается таким способом, обывателю близка и выглядит достоверно.
— Это хорошо, — согласился Гайлис. — Давно пора. Тут-то у него всё куплено...
— Так могу я побеседовать с вашей уважаемой супругой?
— Только чтобы никаких бумажек. Господин из столицы приехал и в столицу вернётся, а нам тут жить.
— Да здешний я. Просто выполняю важное задание. Очень важное.
— Ну, тогда... Ладно. На углу Венденской и Покровской сгоревший дом стоит, всё никак не разберут. За ним — другой, деревянный, два крыльца на улицу. Потом — забор, потом наш дом. Скажите Анне — муж позволил. Она у меня тихая, без меня ничего не решает.
Анна Гайлис действительно оказалась тихой маленькой женщиной, возрастом — за тридцать, этакой хозяюшкой, вся жизнь которой соответствует немецкой формуле: дети, кухня, церковь. За её длинную юбку держались двое малышей, третий должен был появиться на свет месяца через два.
— Да, я служила у Краузе, — сказала Анна. — При мне о многом говорили. Я его очень боялась, поэтому не пошла в полицию. Я только соседкам рассказала...
— Правильно сделали, что рассказали, — одобрил Анну Лабрюйер. — Итак, Краузе написал ложный донос на троих человек. Это были...
— Гутер, лавочник, и Крюгер, у него была столярная мастерская. Краузе был им деньги должен. И господин Энгельгардт. Очень хороший господин, очень вежливый, образованный, я его так жалела... Я думала — потом, когда беспорядки кончились и бунтовщиков судили, моего хозяина тоже как-то накажут. Не наказали... наоборот...
— Что — наоборот, госпожа Гайлис?
— Похвалили. За то, что был свидетелем на процессе. А что он там наговорил — я не знаю, я знаю только, что донос он передал через племянника, у него племянник был — студент, дружил с этими убийцами, всё время там, у них на Романовской, сидел...
— Как звали племянника?
— Эрнест Ламберт. Там, в комитете, и актёры были. А потом, когда беспорядки кончились, одни за границу убежали, другие где-то спрятались. Краузе выступил свидетелем, сказал: «Я напротив жил, я их всех видел, я помню, как кого звали». И несколько человек осудили, отправили в Сибирь, на каторгу. А он соврал судьям, я это точно знаю. Он хозяйке говорил: «Зачем портить жизнь молодым людям из хороших семей, я их сейчас не выдам — они меня отблагодарят». Хозяйка сказала: «Но ведь кого-то ты должен назвать». А он ей: «Я уж знаю, кого назвать! Есть пара молодчиков, которые туда заглядывали, вот им мы и выпишем билет в Сибирь. Всё равно остальные свидетели уже на том свете».
— Имени Фридрих Ротман он не называл?
— Нет, я такого имени не помню. Так мне было плохо, не могла там больше оставаться, и уходить страшно... и некуда было уходить... Ну, кто я? Прислуга! В лавку продавщицей не возьмут, туда хорошеньких берут... В прачки — сама не хотела... К модистке можно было устроиться, так пока я думала, она другую помощницу взяла. Меня сапожник Балтвилк замуж звал, а мне так не хотелось... А потом я в свободный вечер пошла к крёстной, она меня с Густавом познакомила, сказала: «Вот за этого выходи, этот тебя в обиду не даст». И он меня через месяц оттуда, от Краузе, и забрал, так с хозяином ругался — я думала, убьют друг друга. До свадьбы я у крёстной пожила, потом мы тут поселились. Вот, детки родились...
— Детки у вас замечательные. Значит, ложное свидетельство... А кого он выгораживал?
— Я не помню. У меня на фамилии память плохая, — призналась Анна Гайлис.
— А на что хорошая память?
Анна улыбнулась.
— Я вещи помню. Спросите, какая кофточка была на крёстной, когда нас с Густом венчали, — расскажу...
— Тогда расскажите про Хуго Энгельгардта. Как он одевался, какую трость имел, какую шляпу носил, — попросил Лабрюйер.
— Очень, очень хороший был господин, одевался прекрасно. Хозяйкин дядюшка. У него своих детей не было, он на хозяйку завещание написал, а потом она забеспокоилась — не собрался бы жениться.
— Да, он ведь был ещё нестарый.
— Сорок восемь ему, кажется, было. Мужчина в сорок восемь ещё нестарый. Хозяйка его на улице с дамой встретила. Дама была такая... по возрасту подходящая...
— Теперь ясно, почему и на него донесли. Чем он занимался?
— У него доход был, от денег в банке, — попросту объяснила Анна. — Он старые книги собирал, очень хорошо в них разбирался.
— Скажите, госпожа Гайлис, а если бы он тогда остался жив? Если бы после расстрела уцелел? Как вы думаете, куда бы он пошёл?
— Пошёл?!
— Были ведь у него какие-то друзья, приятели?..
— Были, наверно. Такие же образованные господа. Он у одного старичка книги покупал. Как-то пришёл к хозяйке, похвастался: вот, говорит, молитвеннику лет двести, а как хорошо сохранился.
Больше Анна Гайлис ничего важного припомнить не смогла.
По дороге в «фотографию» Лабрюйер думал, у кого бы узнать о старичках, торгующих древними молитвенниками. Может, дедушки и на свете давно нет...
В фотографическом заведении он обнаружил Яна и Пичу. Пича горел желанием донести о своей миссии.
— Я нашёл лодку, которая называется «Лизетта», — сказал он. — Она стоит на дворе у Екаба Витиня, она там всегда зимует. Там спуск к Зунду и сделана лебёдка, чтобы её втаскивать и опускать.
— Молодец, Пича! — похвалил Лабрюйер. — Ты сам её видел, или тебе рассказали?
— Мне Матис Витинь рассказал за три копейки. Он всё про эту лодку знает, он вместе с господами даже в залив выходил. Они его учили ходить под парусом.
— Он, наверно, уже большой парень, — предположил Лабрюйер.
— Ему четырнадцать исполнилось. Он хочет получить работу в яхт-клубе. Если он станет хорошим матросом, его будут нанимать в экипаж. Господа всегда нанимают матросов, когда выходят из залива в море.
— И на «Лизетте» тоже выходили в море?
— Да, и на Готланд ходили, и в Ревель, и в Гельсингфорс, и даже в Петербург, но это давно, Матис ещё был маленький. Его Не взяли. Теперь-то, конечно, взяли бы, он уже много умеет.
Видно было невооружённым глазом — городской ребёнок Пича отчаянно завидует островитянину Матису, который летом не просто плавает в реке и катается на лодках, а выходит на яхте в залив.
— Знаешь что я тебе скажу? Этот Матис просто задирает нос. Может, он один только раз и плавал с господами, а тебе наговорил — будто вообще с яхты не слезает. Видит, что ты человек сухопутный, ну и распустил хвост, как павлин. Ты же видел павлина в зоологическом саду? Ну, примерно так.
Пича рассмеялся.
— Нет, он действительно ходил на яхте, и он многих знает в яхт-клубах. Но он в самом деле сильно задирает нос.
— Вот видишь. А ты сказал ему, что служишь в фотографическом заведении и уже сам можешь делать карточки?
Пича ахнул — это хвастовство ему и в голову не пришло.
— Помнишь, ты снимал однажды «Атомом», — спросил Лабрюйер.
— Да!
— Надо бы тебе ещё поучиться. И потом я дам тебе задание.
Лабрюйер имел в виду, что снимок, сделанный неопытным Пичей, будет гораздо лучше той невнятной мазни, что публикуется в газетах. И это произведение искусства уже можно будет посылать в Выборг. Может, выборгские мореходы не обратили внимания на название яхты (Лабрюйер предполагал, что оно выведено на борту старым шрифтом, готическим, разобрать который не всякому русскому человеку дано), а вот обводы и всякие парусные подробности они должны узнать.
Ян с большим неудовольствием принёс маленький «Атом».
— Сломает, я его знаю, — убеждённо сказал Ян. — Потом мы всю жизнь с вами не рассчитаемся.
— Не сломаю!
— Ты его поучи, нужно, чтобы он освоил такое понятие, как резкость, а я пока делом займусь, — велел Лабрюйер и пошёл к телефонному аппарату.
Был у него один знакомец, человек удивительный — Леонид Николаевич Витвицкий, журналист и издатель. Он выпускал две газеты — «Рижская мысль» и «Рижские ведомости», знал город и его особенности, как никто другой, поскольку журналистикой занимался чуть ли не сорок лет. Этому-то почтенному мэтру Лабрюйер и телефонировал, чтобы узнать о старых книжниках, и тот, подумав, назвал пару имён.
Через час Лабрюйер узнал кое-что неожиданное, возможно — ценное. Один старичок благополучно помер, другой поменял местожительство и отбыл в Стокгольм, где его и следовало искать. Фамилия старичка была Акке...
Лабрюйер запёрся с Хорём в лаборатории и рассказал о своих находках.
— Видимо, Горностай всё же был прав, — хмуро заметил Хорь. — Шантаж замешан на беспорядках пятого и шестого года. Что касается воскресшего покойника, то дело было, видимо, так: он от места расстрела как-то дополз до ближайшего дома, где его приютили и перевязали. Потом его переправили к Акке, и вдвоём они при первой возможности сбежали из Риги. Поскольку покойнику документов не полагается, старый Акке, наверно, выдал его за своего родственника, потерявшего паспорт. Время было смутное, в Европе знали, какие безобразия у нас творятся, старику в Швеции поверили, Энгельгардту выписали новые документы. И, знаешь, я думаю, что он, как граф Монте-Кристо, уже однажды тайно побывал в Риге, собрал сведения о Краузе. И теперь прибыл с прямой целью — уничтожить его. И полиция оказалась бы бессильна — никто бы не подумал на выходца с того света. Ротман мог выдать Энгельгардта полиции. Казалось бы, лучше всего — отступить и снова затаиться. Но он так страстно желал отомстить...
— Его узнал кто-то, кроме Ротмана. Ведь не Ротман же его удавил.
— А ты не думаешь, что это был сам Краузе?
— Ты видел, чем удавили Энгельгардта?
— Чем?
— Я разве тебе не показывал?
Крепдешиновый шарф, который отдала ему Лореляй, Лабрюйер не захотел нести домой и спрятал в фотографическом заведении, в чулане с реквизитом. Увидев этот бледно-голубой шарф с бахромой и размытым рисунком, Хорь согласился — мужчина такое на себя не намотает.
— Может быть, Краузе взял этот шарф для отвода глаз? Чтобы подумали, что Энгельгардта удавила женщина? — спросил Хорь. — Такое бывает?
— Теоретически. Если Краузе пришёл к Энгельгардту в комнату, допустим — чтобы отвлечь его разговором, то должно же было хватить у покойника ума не поворачиваться к этому господину спиной. А если повернулся на миг... Ну-ка, разыграем сценку. Я буду Краузе, ты — Энгельгардт. Шарф, допустим, спрятан за пазухой...
Они пробовали и так, и сяк. Хорь вспомнил про индийских тутов, мастеров удушения. Лабрюйер ответил, что в той путанице, с которой наблюдательному отряду приходится иметь дело, только тутов недостаёт. Наконец они пришли к выводу: Энгельгардта убивали двое, один отвлекал и потом придержал ему руки, второй душил.
— А из того, что использован такой неподходящий предмет, видно, что в убийстве участвовала женщина, — сказал Хорь. — Если убийца — Краузе, то, может, женщина — госпожа Краузе?
— Из опроса свидетелей известно, что на лестнице дома были замечены мужчина и женщина, которые там не живут. Домик такой, что много народа его навещает. Но мы забываем, что Энгельгардту было за пятьдесят, и он мог иметь не одного врага.
— Главный — Краузе.
— Как знать... — Лабрюйер покрутил в руках свёрнутый жгутом шарф. — Нужны хотя бы косвенные доказательства...
Скрипнула дверь — это госпожа Круминь пришла мыть пол. Увидев шарф, она посмотрела на него с большим интересом.
— Зачем господину портить такую красивую вещь? — спросила она. — Дайте мне, я выглажу своим новым утюгом.
— Вам этот шарф нравится? Забирайте его совсем...
— Но это же шарф фрейлен Каролины!
— Госпожа Круминь, мы этот шарф нашли. Кто-то забыл его в садике возле Александро-Невской церкви. Может, женщина гуляла там с детьми, положила свои вещи на лавочку, потом не всё собрала. Вы спросите у соседок — вдруг они на ком-то видели этот шарф. У вас же тут много подружек, которых вы приглашаете на кофе с цикорием. Если хозяйка не найдётся, шарф останется у вас, — пообещал Лабрюйер.
— Я так и сделаю.
— А если хозяйка найдётся — может так случиться, что она не захочет, чтобы ей эту потерю вернули. И всё равно шарф останется у вас.
— Как можно отказаться от такой красивой вещицы? — удивилась супруга дворника, расправила шарф, аккуратно сложила его и погладила шелковистую бахрому.
Ян и Пича извели два рулончика плёнки и пришли их проявить, чтобы Пича увидел плоды трудов своих. Поняв, что Пичу тоже учат ремеслу, супруга дворника совсем воспарила духом. Возможно, она увидела внутренним взором собственное фотографическое заведение, перед которым клиенты с раннего утра занимают очередь, а два красавца-фотографа, её сыновья, потеряли счёт и деньгам, и любовным победам. Только этим можно объяснить её страстное желание учинить в салоне немедленную генеральную уборку со стиркой всех драпировок и выбиванием пыли из чучела козы.
Лабрюйер спасся бегством.
Он прогулялся дважды вокруг квартала, проделывая все те финты, что положено проделывать человеку, желающему обнаружить слежку за собой. Вроде бы топтуна не было. И это казалось даже подозрительно — не могли агенты Эвиденцбюро совсем отказаться от слежки; значит, они оборудовали поблизости наблюдательный пункт, и это могла бы быть гостиница «Франкфурт-на-Майне», выходящий окнами на улицу номер, если бы противник не знал, что именно гостиница, где жил провалившийся агент Атлет, он же Красницкий, будет изучена в первую очередь.
Лабрюйер шёл по Александровской, по той её стороне, где гостиница, когда увидел выходящего из дверей заведения Хоря в дамском обмундировании. В салоне горел свет, там хозяйничала госпожа Круминь.
Хорь направился не домой, а в сторону Христорождественского собора. Более того — он вошёл в собор. Вечерняя служба уже близилась к концу. Скорее всего, Хорь хотел поставить несколько свечек к образам — ритуал, хорошо знакомый и Лабрюйеру: когда с ним случалось религиозное настроение, он чаще всего ограничивался затепливанием свечек и безмолвной беседой с образами.
Лабрюйер подумал — и тоже поднялся в храм. Ему было о чём попросить всех святых: вразумите, Божьи угодники, как распутать клубочки!
Хорь, не дожидаясь конца службы, вышел. Лабрюйер вышел следом — ему было любопытно, что затеял товарищ. А товарищ пошёл в сторону городского канала. Там разбили очень милый парк на горке, сооружённой из остатков старинных бастионов, устроили аллеи и клумбы вдоль берегов, и летом прогулка над водой была подлинным наслаждением, да и зимой тоже могла доставить удовольствие.
На Бастионной горке вдоль ведущего вверх серпантина горело несколько электрических фонарей, и их света хватало, чтобы хорошо видеть все пятна на льду канала, все колеи, оставленные детскими салазками на склонах горки, и даже противоположный берег, где был освещён разве что старый деревянный мостик, ведущий через канал к газовой фабрике — странному зданию, сильно похожему на рыцарский замок из детских книжек.
Хорь шёл быстрым, совершенно не дамским шагом, не обращая внимания на прекрасный пейзаж. И до Лабрюйера дошло — ведь ему, молодому и сильному, просто недостаёт движения! Он знает это — и вот пытается хотя бы вечерней прогулкой утешиться. Дойти вдоль канала мимо бывшей газовой фабрики до самой Николаевской да пробежаться обратно — вот лучший способ нагулять аппетит для ужина и хороший сон.
Поняв, в чём дело, Лабрюйер повернулся, чтобы идти назад, и чуть ли не нос к носу столкнулся с человеком, который однажды преследовал его на Гертрудинской. Бритое лицо, резко очерченные тёмные губы — эти приметы актёрской физиономии Лабрюйер запомнил основательно.
Аллея была пуста, только спина Хоря — впереди, в полусотне шагов. А человек, выслеживавший Лабрюйера, на мгновение растерялся. Этого мгновения хватило, чтобы Лабрюйер, кинувшись вперёд, почти без замаха, с резким поворотом туловища провёл хук правой.
Аллея была неширока, а зимой так и вовсе сужалась примерно до аршина, два человека могли бы на ней разойтись с большим трудом. Топтун рухнул в сугроб, но, похоже, тёплое зимнее пальто на вате не позволило Лабрюйеру нанести настоящий удар — челюсть противника осталась цела, а здоровья хватило на то, чтобы, падая, свернуться клубком и изготовиться к драке ногами.
Поняв этот замысел, Лабрюйер отскочил и оказался на откосе, по колено в снегу. Почувствовав, что теряет равновесие, он вовремя упал набок, иначе мог скатиться на лёд канала, и неизвестно, был ли лёд в этом месте прочным. В канал вполне могли спускать отработанную воду те мастерские, которые теперь занимали помещения газовой фабрики. Поди угадай, где именно проложена труба, ледок над которой — одна видимость.
— Фрейлен Каролина! — завопил Лабрюйер.
Хорь обернулся и огромными прыжками понёсся к нолю боя.
Человек с актёрской физиономией поднялся на четвереньки. Встав на ноги, он бы мог запросто убежать. Всего пара минут — и он бы оказался на Александровском бульваре, в безопасности — при прохожих Лабрюйер и Хорь его бы не тронули.
Лабрюйер тоже поднялся на четвереньки. До натоптанной дорожки было аршина полтора, да ещё столько же — до топтуна. Казалось бы, расстояние плевка! Но доли секунды решали дело.
На ноги противники встали разом, но Лабрюйер был в невыгодном положении — спиной к откосу и каналу. Одним лёгким толчком топтун бы его туда отправил. Поэтому Лабрюйер без лишних сложностей рухнул в ноги топтуну. Вот теперь началась настоящая драка — не хуже, чем у парнишек из реального училища, мутузящих друг дружку на грязном дворе.
Подбежавший Хорь ловким захватом придушил топтуна.
— Ты что тут делаешь? — спросил он Лабрюйера.
— Пытался понять смысл твоего маршрута.
— То есть как?
— А так — когда лицо, которое... ну, ты меня понимаешь... когда оно на ночь глядя, заходит на четверть часа в храм Божий, а потом бежит в уединённую местность, что прикажешь думать? Не затеяло ли оно чего на свой страх и риск!
— Могу я побыть в парке один, чёрт бы вас всех побрал?! — вспылил Хорь. — То один со мной обращается, как с мальчишкой, то вот, извольте радоваться, другой!
— Раскудрить тебя!..
Хорь опомнился. Топтун, хоть и придушенный, слышал их разговор, мало ли что по-русски — русским языком теперь в Риге многие владеют.
Но он молчал и ничем себя не выдавал.
— Это тот, кто за мной на Гертрудинской гонялся, — объяснил Лабрюйер. — А теперь за тобой землю топтал. Но он, я думаю, топтун неопытный. Он меня со спины не признал. Думал, что за мной пристроился и из-за плеча тебя высматривать может. Ему и на ум не брело, что я могу зачем-то тебя выслеживать...
— Мне тоже! Ты лучше знаешь местность, куда его можно оттащить? — спросил Хорь.
— Куда... На фабрику разве?..
— Это где?
— Да вот же, ты её проскочил.
— Что за фабрика?
— Газовая. Здесь раньше газ для освещения делали. До последнего времени улицы газом освещались. Теперь там половина помещений пустует, а к газгольдерам, говорят, даже близко подходить опасно — они за много лет так газом пропитались, что нанюхаешься — и отравишься.
— Газгольдеры?
— Башни, в которых газ хранили. Такие — как в учебнике средневековой истории...
— Ага... Слушай, ты, рыцарь плаща и кинжала, — по-немецки обратился Хорь к пленнику, встряхнув его. — Если не расскажешь, кто ты есть и кто тебя нанял, свяжем и запихнём в газгольдер. Там и помирай.
Лабрюйер не стал объяснять, что человеку забраться в газохранилище очень сложно, если только вообще возможно.
— Или затащим на угольный склад и углём завалим, — пообещал он.
— Отпустите меня, — попросил пленник. — Я всё вам расскажу, только отпустите.
— Что будет, если не отпустим?
— Тогда лучше убейте...
— Ого... — пробормотал Лабрюйер. — Если не врёт, то речь может идти о заложнике. Или заложниках.
— Ваш труп нам не нужен, — холодно сказал Хорь. — Мы доставим вас в такое место, где вы просидите суток трое в тепле и с запасом еды... Вас это не устраивает?..
— Трое суток?.. Вы что?.. Я всё расскажу, — повторил мужчина. — Только отпустите!
— Просто так взять и отпустить? Господин, наверно, плохо понимает, что он шпионил за честными законопослушными подданными Российской империи, — ответил Лабрюйер. — Может быть, господин предпочтёт визит в сыскную полицию?
— Я всё расскажу!
— Погоди, — по-русски сказал Лабрюйер Хорю. — Допрос сидя в снегу — это даже для нашей бешеной компании чересчур... как это?.. Экстравагантно. Всё-таки придётся пробраться на фабрику. Кажется, там ворота остались только со стороны угольного склада, а возле газгольдеров их убрали.
Как и следовало ожидать, пленник, будучи поставлен на ноги, попытался сбежать. Ему поставили подножку, повалили и решили беседовать, вдвоём сидя на нём рядышком, как две курицы холодной ночью на насесте.
— Ты заметь, он шума не поднимает. И по-русски не понимает. Странная птичка к нам залетела, — усмехнулся Лабрюйер.
— А что, если это итальянец?
— Я видывал итальянцев. В Риге на кого только не насмотришься. Он брюнет, и вид у него, пожалуй, южный, — согласился Лабрюйер. — Ну, как господин прикажет к нему обращаться? Ну?..
Вопрос он подкрепил несильным ударом каблука.
— Я — Феррони.
— А может, Мазарини?!
Но это было бы слишком большой, фантастической удачей.
— Называйте меня Феррони, — сказал пленник.
— Хорошо, Феррони, — согласился Хорь. — Кто вам велел выслеживать нас?
— Я их не знаю.
— Погоди, погоди! — Лабрюйер удержал Хоря от иронического замечания. — Такое бывает! Это не значит, что к нему подошли на улице и сказали: «Сударь, вы нам понравились, теперь вы будете выполнять наши задания». Он — не из наших топтунов, наружное наблюдение — не его ремесло. Значит, его выбрали не за умение...
— А за что?
— За то, что он не посмеет отказать. Значит, взяли молодца не скажу за что.
И Лабрюйер опять перешёл на немецкий.
— Тот, кто вас нанял, — мужчина или женщина?
— Мужчина.
— Опишите его внешность, Феррони. Если хотите, я буду спрашивать, вы отвечайте. Рост?
— Как вы, почти. Но очень худой. Лицо узкое.
— Лет ему сколько?
— Как вам. Или, наверно, немного меньше.
— Усы носит?
— Да, чёрные. Не крашеные. Он брюнет.
— То есть брови и волосы тоже чёрные?
— Да.
— Брюнет какого рода? Среди финнов они тоже попадаются.
— Он смуглый брюнет. И сложение, как у мальчика.
— Узкие плечи? — спросил Лабрюйер, уже догадываясь, кто прислал ему в подарок синьора Феррони.
— Да.
— И говорит по-немецки не так, как рижане?
— Я сам говорю не так, как рижане. Я тут недавно.
— Очень хорошо. Где вы поселились, Феррони. Ну? Говорите прямо, иначе и в самом деле попадёте в газгольдер.
— На Большой Кузнечной, на углу с Малярной, в новом доме.
— Вы там один живёте?
— Нет...
— Феррони, вы увезли замужнюю даму и с ней скрываетесь? — догадался Хорь.
— Нет!..
— Так отчего же вы так испугались тощего господина с чёрными усиками?
— Он... нет, я не могу объяснить...
— Он знает вашу позорную тайну? — прямо спросил Лабрюйер.
Ему со всякими чудаками приходилось иметь дело. Тот, кто просил называть себя Феррони, сильно смахивал на особый вид чудаков, и если он не был актёром, то для чего бы ему подкрашивать губы, создавая очень чёткую линию? Чуть-чуть, не так, как молодые дамы, примерно так, как артисты, которые приходят делать парадные фотографические карточки. Но ходить в таком виде по улицам не каждый артист станет.
— Он может погубить мою семью, понимаете? У меня матушка с больным сердцем, у меня младшие братья, у меня сестра — невеста. Если они узнают, если в городе узнают...
— Так я и думал. Вы уехали в Ригу, потому что дома уже земля под ногами горела?
— Да, мы уехали в Ригу...
— А этот господин был с вами знаком раньше? В том городе, откуда вы сбежали?
— Нет, я его впервые в Риге увидел. Но он мне всё про мою семью рассказал. Он всё про нас знает...
— Откуда вы? Говорите уж прямо.
— Из Базеля. У нас семья католическая, вся родня — католики. Понимаете?
— Понимаю...
Хорь видел, что Лабрюйер и Феррони нашли общий язык. Как это получилось — он не мог взять в толк и потому молчал.
Лабрюйер встал.
— Поднимайся, — сказал он Хорю. — Теперь господин Феррони не убежит.
Встал и тот, кто просил называть себя Феррони.
— Ступайте, — позволил ему Лабрюйер. — И продолжайте выполнять приказания того господина.
— Продолжать следить за вами? — удивился пленник.
— Да, разумеется. Вы ведь сейчас хотели знать, с кем поздно вечером хочет встретиться эта особа? — Лабрюйер указал на Хоря.
— Да, мне велели узнать, с кем вы встречаетесь в городе.
— Вот и хорошо. Скажите, что эта особа прогулялась возле Бастионной горки с мужчиной средних лет, плотного сложения, хорошо одетым, который потом взял возле Немецкого театра ормана и укатил. А лицо вы не разглядели по случаю темноты. Теперь ступайте.
— Я действительно могу идти?
— Можете. И имейте в виду, что наняли вас мошенники. Они обещали, что вашу тайну никто не узнает, но верить им нельзя. Ни господину с усиками, ни полной седой даме, ни даме-блондинке. Да идите же. Или вы собрались ночевать под воротами газовой фабрики?
Феррони ушёл, то и дело оборачиваясь.
— Ты понял, что всё сие означает? — спросил Лабрюйер Хоря.
— Кажется, понял. Этой позорной тайны вся столица полна...
— Слыхал про такое дело. В Риге тоже попадается. Но в католических семействах, да ещё со старыми итальянскими корнями, насчёт позорных тайн строго. Неудивительно, что парочка сбежала. А теперь нужно как можно скорее найти Горностая. Ты знаешь, где он поселился?
— Примерно знаю.
— Поезжай к нему сейчас же и объясни положение дел. Скажи — если сейчас этот несчастный Феррони не справится с поручениями, то наш тощий противник выпишет из Вены настоящего опытного топтуна. Он не стал искать такого в Риге потому, что боялся — рижский, близкий к сыскной полиции, может меня по старой памяти предупредить. Так что придётся Барсуку присмотреть за домом на углу Большой Кузнечной и Малярной. Появилась неплохая ниточка...
— Кто тут командир отряда? — спросил Хорь.
— Ты командир отряда. Просто нет времени на церемонии. Почисть меня. В таком виде выходить на Александровскую как-то неприлично.
— В таком виде можно стоять во дворе и вести наблюдение без всякого риска — все примут за снежную бабу.
Лабрюйеру не понравилось, как Хорь это сказал.
— Как ты думаешь, Хорь, что мы ещё могли сделать с этим несчастным Феррони? Сколько возможностей мы имели? Возможность удавить и спустить под лёд рассматривать не будем — она дурацкая.
— Мы могли перекупить его!
— Он бы согласился перейти на нашу сторону и даже получил бы от тебя десять рублей задатка. Но ты разве не видишь, что это за человек? Он не дурак, но и ума у него не густо. Он бы выполнял наши поручения так же успешно, как выполнял поручения наших врагов. Он бы снабжал нас сомнительными сведениями. А кончилось бы тем, что не мы, а они спустили бы его под лёд — за то, что слишком много знал. Подумав, ты сам поймёшь, что его можно было только отпустить. А остальное — дело Барсука.
Хорь не ответил, а принялся молча сбивать снег с пальто Лабрюйера. Его можно было понять — те, кто его учил, знали простые приёмы работы с агентами. А Лабрюйер за годы службы в полиции насмотрелся на всякие ситуации и знал, как расправляются в шайках грабителей с теми, кого заподозрили в предательстве. И он не видел, чем шайка, поджигающая дома, лучше венского Эвиденцбюро.
Когда-то и Лабрюйеру казалось, будто он понял всю механику полицейского дела...
Инспектор Горнфельд, с которым у него была не то чтобы вражда, а взаимное непонимание, как-то рассказал о печальной судьбе двойного агента, им завербованного. Ничего хорошего в этой судьбе не было, и Лабрюйер крепко запомнил ту историю.
Но рассказывать её Хорю он не стал. Хорь был горд — а нет хуже, чем загонять гордого человека в угол. Тем более, что в споре с Енисеевым Хорь встал на его сторону.
Они вышли на Александровский бульвар и повернули к собору.
— А теперь разойдёмся в разные стороны, — вдруг предложил Хорь. — Я всё думал: они не понимают, что наняли скверного топтуна, или он — для прикрытия, а настоящий топтун шагает где-то поблизости?
— Хочешь, чтобы мы проверили это? Тогда — обходим квартал с разных сторон, ты — по Елизаветинской и Церковной, я — по Александровской и Мельничной, и идём друг другу навстречу по разным тротуарам. Встретимся уже дома, — сказал Лабрюйер.
— Если я увижу настоящего топтуна? Что мне с ним делать?
— Запомнить. Просто запомнить. И по дороге домой составить словесный портрет.
— Хорошо, это я умею. Учили.
Хорь явно хотел сказать: «Меня кое-чему научили, и не нужно совсем уж принимать меня за сосунка, но я уважаю опыт пожилого человека и попытаюсь им командовать без ссор и скандалов».
— Тогда моё почтение Горностаю... — Лабрюйер остановился, повернулся к Хорю, поклонился так, как положено при прощании кланяться даме, и охнул.
— Хорь, ты юбку порвал, — прошептал он. — По шву.
— Чёрт бы её побрал...
— Придерживай рукой — знаешь, как дамы?
— Ещё зашивать...
— Я бы на твоём месте давно спятил.
— Да я уж боюсь иногда, что спятил.
Они улыбнулись друг другу и разошлись в разные стороны.
Лабрюйер шёл по городу, который привык считать своим, внимательно поглядывал на прохожих и думал, что дома сядет и попытается что-то написать Наташе.
«Наташа, сегодня был смешной вечер, мы валялись в снегу, как мальчишки, — начал он. — Хорошо ещё, снежками не кидались. Видимо, я жил чересчур спокойно, и моему ангелу-хранителю за это влетело. Нельзя человека оставлять в покое, надо его тормошить и придумывать ему всякие занятия. Вот теперь — мне подсунули парня, двадцатидвухлетнего, одарённого, норовистого, которому пророчат не то чтобы блестящее будущее... Какой уж блеск в моём нынешнем ремесле?.. Из него хотят вырастить отличного агента и на него возлагают надежды... возлагают-то на него, а расхлёбывать-то мне...»
И много чего ещё сказал он Наташе на ходу, но, оказавшись дома и налив в чернильницу чернил из нарочно купленного пузырька, он уставился на белый бумажный лист и понял, что у него сейчас получится письменный отчёт, какие полицейские агенты сдают начальству.
«Наташа, я петлял по городу, как заяц, я даже забрёл в строящийся дом на углу Николаевской и Гертрудинской, там сидел в засаде и оттуда созерцал окрестности. Выходит, топтун был один — по крайней мере, этим вечером он был один. А вот сейчас заваривается крепкий чай, и я поужинаю по-холостяцки бутербродами... — сообщил он, как будто это имело значение. — Наташа, я сейчас представил, как ты приносишь с кухни блюдо поджаристых сладких оладушков... как это было бы хорошо... Но ты, наверно, не очень любишь домашнее хозяйство, ты натура возвышенная...»
Тут он вспомнил, что у Наташи есть сын, и улыбнулся. Конечно же, она теперь, вернув себе ребёнка, балует его и оладушками, и пирожками, и пончиками, а если привезёт его в Ригу, нужно будет сводить их в лучшую кондитерскую, угостить яблочным или вишнёвым штруделем...
Мысли улетели совсем далеко.
Туда, где обычные люди живут обычной жизнью, любят жён и детей, по вечерам возвращаются в дома, где ждёт горячий и вкусный ужин, на ночь, перекрестив, целуют своих малышей и, заперев дверь спальни, обнимают жён. Очень хотелось туда, очень...
Но подал голос телефонный аппарат.
— Не спишь, брат Аякс? — спросил Енисеев. — Хорь у меня переночует. Не нравится мне эта история с топтуном.
— Думаешь, мне нравится?
— Хорь сказал — его и нужно было отпустить, потому что других возможностей не имелось. Держать его нам негде, истреблять — наймут другого, потолковее, перекупать — результат непредсказуем. Растёт наше нещечко, а? Когда он начал рассказывать, меня чуть кондрашка не хватил. Ну, думаю, отправил его Хорь к праотцам. А он, смотри ты, уже немножко хладнокровия нажил. Маскарад ему на пользу пошёл — а то уж больно был нетерпелив. Я от соседа говорю, долго — не могу. Барсук завтра не сможет, а послезавтра займётся вашим базельским топтуном. И худо ему придётся, если соврал.
Лабрюйер удивился — для чего телефонировать, и так всё ясно. И вдруг понял — Енисеев, как и он, радуется успехам Хоря. Тоже, видно, пытается его воспитать, хотя и на свой лад, и вот — горд, как маменька сделавшим первые шажки чадушком. Лабрюйер уж не стал выпячивать свою роль в этой истории. Хорь приписал себе его разумные рассуждения — и пусть, причина понятна — Хорь ведёт свой личный поединок с Аяксом Саламинским, Хорю необходима победа! Можно даже считать это общей победой над ехидным и язвительным Горностаем.
Хотя на будущее нужно запомнить и больше Хорю таких штук не позволять.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Барсук во всём разобрался и доложил: в новом доме, что на углу Большой Кузнечной и Малярной, снимают маленькую квартирку два молодых человека, говорят, что братья. Ведут тихий и уединённый образ жизни. Каким ремеслом зарабатывают на жизнь — пока понять не удалось.
— Старший — точно Феррони, а младший — Громштайн. Телефонного аппарата в квартире нет, но есть у соседки, молодой вдовы с тремя дочками. Феррони даёт знакомым её телефонный номер. Старшей дочке десять лет, она обычно бегает звать Феррони, если его ищут. Номер я узнал, теперь надо условиться с телефонистками, чтобы знать, откуда этому красавцу телефонируют, — сказал Барсук Хорю. — Этим бы лучше заняться Леопарду, у полицейских своя дружба с телефонными станциями.
— Это верно, — согласился Хорь. — Договорись с ним, Акимыч.
Но Лабрюйера они сразу не нашли — он был на улице, усаживал в пролётку Пичу, давая орману строгий наказ: отвезти молодого господина на Кипенхольм, куда он скажет, подождать его и привезти обратно, не давая ему слишком долго слоняться по острову. Пича с фотографическим аппаратом «Атом», спрятанным на груди, был горд и счастлив. В воскресный день прокатиться через весь город, да побывать на острове, да использовать всю только что вставленную плёнку! Потом же ему обещана кондитерская — редкое удовольствие в мальчишеской жизни. Конечно, госпожа Круминь пекла пироги, в том числе сладкие, но настоящее вытяжное тесто для штруделя она бы не осилила — тут великий навык нужен.
Лабрюйер показал ему фотоснимок «Лизетты» в газете и объяснил, как должна выглядеть яхта на карточке. Теперь оставалось ждать возвращения фотографа.
Воскресенье — как раз тот день, когда клиенты валом валят. Сходить в фотоателье — это же развлечение, и Ян замучатся менять фоны — одному подавай рождественский зимний лес, хотя Рождество давно прошло, другому летний сад, третьему — морской пейзаж, а есть ещё любители вставить сзади головы в прорезанные овальные дырки, чтобы на карточке выглядело, будто они летят по небу в аэроплане. Хорь совсем обалдел, гоняя взад и вперёд студийный фотоаппарат на четырёхколёсном основании, Лабрюйер еле выбрал минутку, чтобы посовещаться с Барсуком.
Он дал Акимычу бумажку с описанием тощего черноусого господина, а также рассказал всё, что мог, о даме-блондинке и госпоже Крамер.
— Понятно, — ответил Барсук. — Это, значит, наши клиенты...
— Скорее всего. Кому бы ещё понадобилось за мной и за Хорём следить? Будь осторожен, Акимыч.
Акимыч ушёл неторопливой походкой деловитого, знающего себе цену человека. Лабрюйер знал, что Барсук удивительно умеет располагать к себе женщин, и не найдётся прислуги старше тридцати лет, которая не положила бы на него глаз.
Потом прибыл Пича и отдал «Атом» вместе с плёнкой. Он пытался рассказать о своём подвиге во всех подробностях, но ему велели привести мать, да чтобы принарядилась! Лабрюйер хотел отправить их в кондитерскую вместе — сам он на это времени не имел.
Госпожа Круминь пропала. Дворник Круминь понятия не имел, куда её понесло. Он даже был вынужден сам разогревать себе суп и кашу. Ян тоже ничего не знал.
Лабрюйер забеспокоился. Он дал женщине, если вдуматься, опасное поручение. Вызвав к себе Круминя, Лабрюйер стал расспрашивать о соседках, с которыми дружила супруга.
— Да их сотня, — ответил дворник. — То одна, то другая к нам забегает. Как ни зайдёшь на кухню — обязательно какая-нибудь баба сидит и сплетни пересказывает.
Потом он всё же назвал три имени. Лабрюйер отправил Пичу к этим соседкам, чтобы они помогли отыскать мать.
Пича ушёл и пропал.
Тогда Лабрюйер закрыл салон, благо уже темнело, взял с собой Яна и сам пошёл на поиски.
— Если через два часа не вернусь или не пришлю Яна, поднимай тревогу, — сказал он Хорю. — Вот тебе телефонный номер Линдера. Хотя сегодня воскресенье, но полиция открыта. Пусть высылает агентов, пусть они обшаривают все окрестные дворы.
Шастать во мраке по дворам, даже вместе с Яном, который в этих дворах вырос, — занятие утомительное и тревожное. Соседки, которых удалось найти, говорили примерно одно: Круминь была вчера или позавчера, показывала дорогой шёлковый шарф, искала хозяйку. Мысли в голову уже лезли самые заупокойные.
Но, когда Лабрюйер с Яном вернулись в фотографическое заведение, супруга дворника преспокойно сидела там, да не одна, а с женщиной, которая чем-то смахивала на Анну Блауман.
— Я уж думала, Эльза не дождётся господина! — сердито сказала супруга дворника. — Ей нужно бежать, пока не пришли хозяева.
— Где вы были, госпожа Круминь? — не менее сердито спросил Лабрюйер. — Мы тут переполошились?
— Где была? Я узнала, кто этот шарф потерял. Госпожа Краузе, вот кто!
— Госпожа Круминь, я знаю, что вы её не любите. И вы догадались, что с этим шарфом связано что-то нехорошее, — прямо сказал Лабрюйер. — Может быть, вы просто хотите, чтобы полиция попортила господину и госпоже Краузе немало крови?
— Эльза, говори ты, раз уж мне не верят! — обиделась супруга дворника. — Эльза служит у Краузе. Это уже третья горничная у них после Анны Блауман!
Эльза, стесняясь перед чужим человеком и поминутно извиняясь, доложила, как было дело.
Шарф, который показала ей госпожа Круминь, она опознала сразу. Но мало ли таких в Риге? Нужно было убедиться, что шарф госпожи Краузе в шкафу отсутствует. Семейство собиралось вечером пойти в гости — почти в полном составе, кроме двух младшеньких, которые оставались с няней. Госпожа Круминь пришла и спряталась в «девичьей комнатке», примыкавшей к кухне. Они с Эльзой думали, что за полчаса перероют шкаф с комодами и убедятся, что шарфа там нет.
Но малыши закапризничали, когда родители уже были на пороге; возникло подозрение, что они отравились за обедом кашей на несвежем молоке; госпожа Краузе завизжала, досталось всем, правым и виноватым. Супруга дворника тихо сидела в «девичьей комнатке» и запоминала все подробности: будет о чём рассказать соседкам!
Нянька, молодая девушка, из современных, не умеющих промолчать, изругала хозяйку и пошла собирать свой чемоданчик. Тогда хозяйка опомнилась, и они ещё битый час выясняли отношения и мирились. За это время оба малыша, устав от суеты, забрались на диван и там заснули. Родители вместе со старшими чуть ли не на цыпочках сбежали, а нянька пошла к хозяйскому телефонному аппарату — её жених служил шофёром у богатого господина, имел доступ к телефонной связи, и она пользовалась всяким случаем, чтобы с ним поворковать.
Госпожа Круминь и Эльза очень аккуратно изучили всё дамское имущество хозяйки, шарфа не нашли, и супруга дворника повела приятельницу в «фотографию».
Выслушав их, Лабрюйер задумался. Очень сомнительно, что в Риге нашлась другая пара врагов Энгельгардта, вооружённая точно таким шарфом, — так рассудил он, — и нужно ковать железо, пока горячо. Сыскная полиция может сама, опросив свидетелей, напасть на след, а если она привяжется к супругам Краузе, будет куда сложнее задать им нужные вопросы. Хотя бы потому, что они могут оказаться в Центральной губернской тюрьме на Малой Матвеевской.
— Как я могу отблагодарить вас за сведения? — прямо спросил он горничную Эльзу. Она застеснялась, и госпожа Круминь пришла на помощь:
— Рубля хватит!
— Вот рубль. И молчите о том, что были здесь.
— Она будет молчать!
Полчаса спустя Хорь и Лабрюйер устроили в лаборатории военный совет.
— Ну, ты всё знаешь, давай командуй! — сказал Лабрюйер.
— Мне нужно спланировать операцию? — уточнил Хорь.
— Да. Итак, цель — узнать, что на самом деле произошло в Федеративном комитете, когда он приговорил Энгельгардта и ещё двоих на основании ложного доноса к расстрелу. Кто там заседал и куда делись эти люди. Старый Ротман утверждает, что его племянника там не было. Осудили племянника и ещё каких-то неудачников. Но кто-то же принимал решения. Кто-то же остался безнаказанным.
— Думаешь, Розенцвайг?
— Что-то пока больно много сходится на Розенцвайге.
— Ты про яхту? Но ты же ещё не знаешь, ходила ли она тогда в Выборг.
— Мы не знаем, — поправил товарища Лабрюйер. — У тех, кто шантажирует инженера Икс, должны быть прямые доказательства его вины, которые в любую минуту можно предъявить. Я допускаю, что Розенцвайга могут опознать какие-то выборгские свидетели, и их держат про запас.
— Есть ещё один свидетель, который мог бы что-то рассказать о маньяке. Если только этот свидетель жив, — напомнил Хорь. — Гувернантка, Леопард. Её тело не было найдено.
— Тело выборгской девочки тоже не найдено. А свидетель Клява порет чушь...
— Сам видишь, версия о маньяке не имеет доказательств.
— Я их найду. Убийство Груньки-проныры и Лемана — косвенное доказательство. Кому помешала старая проститутка? И кому помешал бывший полицейский агент? Между ними — ничего общего, кроме тех трупов. И погибают они чуть ли не одновременно — после того как я приступил к розыску. Но должны быть ещё свидетели! Хотя бы один — но тот, которого стоит бояться!
— Это что, чутьё?
— Наполовину чутьё, Хорь. Посмотри и другой стороны. Должно быть в прошлом что-то очень страшное, если наши противники держат человека в стальных клещах. Участие в Федеративном комитете — такая вещь, что ещё как-то можно изворачиваться: был молод, глуп, пьян, дурные товарищи увлекли! Заодно сдать дурных товарищей, и выйдет послабление. Маньяку труднее...
— Но члену Федеративного комитета, если это докажут, придётся уезжать из Риги, тут он станет неприкасаемым.
— Кем?
— У индийцев есть каста неприкасаемых. К ним даже близко подходить нельзя, а не то чтобы говорить или, боже упаси, за руку поздороваться. Неприкасаемый останется жив, но приятного мало.
— Занятно. Только индийцам далеко до рижских бюргеров.
— Я это и имел в виду.
— Ну так что же?
— Что?
— План операции.
Хорь задумался.
— Тебе непременно нужен план? — спросил он, и Лабрюйер угадал в голосе неуверенность.
— Непременно нужен.
И месяца не прошло, как составленный Хорём план блистательно провалился. Оба знали это — и оба молчали о той неудаче.
— А какой тут может быть план? Ты пойдёшь к этой парочке, взяв с собой шарф...
— Один?
— Нет, боже упаси. Они уже начали убивать. Я слыхал про этот феномен. Человек, начав убивать, не останавливается, — с некоторой гордостью за свои познания сообщил Хорь. — С тобой пойдёт Росомаха. Я с Барсуком буду патрулировать подступы к дому. Мало ли что. Вдруг их угораздит сбежать по чёрному ходу.
— А Горностай?
— Больно много чести для них — чтобы ими занимался весь наблюдательный отряд!
Эта логика Лабрюйеру была понятна. В язвительном свидетеле Хорь не нуждался — пусть даже этот свидетель был помощником.
— Хорошо. Значит, осталось вызвать Росомаху и назначить точное время. Лучше — такое, когда старшие дети в школе.
— Для этого следует узнать распорядок дня благородного семейства.
— Расспросим Эльзу. Или нашу мадам Круминь. Мне кажется, она знает, кто в котором часу ночи употребляет ночную вазу.
Так и порешили. При этом Лабрюйер ни словом не намекнул Хорю, что их рассуждения — план операции. Раз уж Хорь возненавидел это слово — придётся считаться с такой временной придурью.
Потом Хорь проявил Пичину плёнку.
— А знаешь, получилось... Даже удивительно.
Пича учёл свет и вообще всё проделал так, как его учили. Силуэт «Лизетты» был чётким, все детали — понятными, название на борту — хорошо различимым. Стапель, на котором зимовала «Лизетта», был не слишком высоким, но Пиче удалось сделать кадры на фоне светлого зимнего неба.
— Вундеркинд, — усмехнулся Лабрюйер. — Пора его всерьёз учить. А теперь я подумаю, где взять портрет Розенцвайга. Такой, чтобы он был похож на себя, а не на свою бабушку. И всю эту картинную галерею отправим в Выборг.
— Ну, если ты считаешь нужным...
— Горностаю эта идея не нравится, я знаю. Но он — из жандармов, а я — из полицейских. Поэтому он сперва гонится за той целью из нескольких, которой проще достичь. А я держу в голове все цели разом, — объяснил Лабрюйер. — И, знаешь, Хорь, даже если маньяк не имеет отношения к Эвиденцбюро, всё равно... всё равно... девочек жалко, понимаешь?.. А маньяки — хитрые, и этот мог просто выучиться так прятать трупы, что и концов не найдёшь...
— Понятно... — пробормотал Хорь.
Уловка Лабрюйера сработала — он вроде и упомянул Енисеева, а вроде и сам этому значения не придал. Впрочем, вбивать клин между Хорём и Горностаем Лабрюйер не собирался. Ему просто нужно было подольше удержать командира наблюдательного отряда в союзниках.
Предоставив Хорю вызывать Росомаху и Барсука, Лабрюйер отправился домой.
Наутро дворник Круминь отдал ему принесённый почтальоном конверт. Там были две переснятые карточки, на одной девица и девочка лет одиннадцати, на другой — дама чуть за сорок с этими девицей и девочкой. К карточкам прилагалась записка: «Госпожа Урманцева, Мария Урманцева и Амелия Гольдштейн, снято в Москве, в 1902 году».
— Отлично... — пробормотал Лабрюйер.
Госпожа Урманцева была русоволосой и темноглазой стройной дамой, для своих лет — весьма привлекательной, бедная Машенька волосы имела более светлые, распущенные — Лабрюйера часто просили делать карточки девиц с распущенными волосами, он привык к этой забавной моде, — и пряди лежали волнами, что означало — Машенька только что расплела длинные косы. Амелия Гольдштейн была пухленькой темноволосой немочкой, сходство с Машей выражалось в линии носа и подбородка, а также бровей — Маша тоже была темноброва. Лабрюйер вздохнул — какой бы красавицей стала теперь эта девочка...
Он пошёл в лабораторию, где хозяйничал Ян, и попросил сделать полдюжины хороших копий.
Вернувшись в салон, Лабрюйер обнаружил там целый праздник — к Хорю прибежали Минни и Вилли.
— Мы идём вечером в Латышское общество на «Демона», — сообщили барышни. — С нами идёт фрау Лемберг. Господин Лабрюйер, фрейлен Каролина! Пойдём все вместе!
— У меня вечер занят, — сказал Лабрюйер. — А фрейлен Каролина охотно пойдёт с вами.
Он не хотел далеко убегать от телефонного аппарата — в любую минуту могли объявиться Росомаха и Барсук.
Когда девицы, уговорившись о встрече (в кондитерской на Суворовской, чтобы соединить приятное с благопристойным — и съесть вкусное пирожное кремшнитте, и не торчать в ожидании на тротуаре, как особы известного ремесла), ушли, Лабрюйер обратился к Хорю:
— Обрати особое внимание на госпожу Лемберг. Что-то не нравится мне эта преподавательница итальянской грамматики.
— Отчего?
— Оттого, что госпожа Крамер много мне наболтала о том, как трудно в Риге найти живых итальянцев или хоть услышать итальянскую речь. Если бы она познакомилась с госпожой Лемберг, то, наверно, как-то бы упомянула эту даму. Не так много в Риге особ, которые свободно говорят и поют по-итальянски. Так что мерещится мне, будто она и есть госпожа Лемберг.
— Это было бы логично, — согласился Хорь. — Если Барсук придёт, когда меня не будет, пусть изучит квартал, где живут Краузе. Очень бы не помешал подробный план.
— Я тебе и без плана скажу, что там больше двориков и всяких тайных переходов, чем в нашем квартале. Чтобы всё это понять, нужно подняться на воздушном шаре.
— Или привлечь Пичу. Он там наверняка лазил.
— Если так и дальше пойдёт, Пича совсем забросит учёбу, нахватает «колов», и госпожа Круминь его-таки высечет.
Из театра Хорь пришёл раньше, чем Лабрюйер ждал его, и сильно недовольный.
— Видел я эту госпожу Лемберг, — сказал он. — Старая ведьма! Она так меня от Вилли оттирала, словно ей за это бешеные деньги платили! И всё про итальянскую оперу талдычит! Россини ей устарел, Доницетти ей скучен, у Пуччини — жалкие либретто! Слова сказать не даёт! А эти четыре дуры ей просто в рот смотрят!
— А тебе и возразить было нечего, — догадался Лабрюйер. — Погоди! А почему четыре?
— В корпусе этому не учили! А потом — сам знаешь, мы больше в балет бегали, — признался Хорь. — Где ещё на ножки полюбуешься? Вот теперь укороченные юбки носят, лодыжки видны, чего доброго, скоро коленки откроют. Конечно, посмотреть приятно. А так, как раньше, когда в театр бежишь с морским биноклем, так уже не будет. Ты, Леопард, не видел балетоманское войско в партере! Сидит дивизия отставных генералов, одни плешивые, другие ещё нет, у всех — седые усы с подусниками, и у всех — эти морские бинокли!
— Занятное, должно быть, зрелище. Так что за две лишние девицы?
— Прекомичное! Налей воды в кастрюльку, хоть чаю с горя попьём...
— Ты сказал — четыре дуры.
— Так они там подружек встретили. Одна — Гели, другая — Стасси, и обе страшны, как смертный грех. Гели с братом была, Стасси — с женихом, так брат и жених сбежали в буфет, а я с этим гаремом остался. А госпожа Лемберг прямо соловьём разливается! Тут тебе и Верди, и Беллини, и какой-то, прости господи, Чимароза... Хвост распускает перед новыми знакомыми! И в этом она разбирается, и в том, и по-итальянски вдруг как защебечет! Показывает, какая она образованная и утончённая натура! Тьфу, смотреть тошно.
— Так что госпожа Лемберг? — спросил Лабрюйер. — Собой-то какова?
— Не дама, а целая дамища. Седое бандо нечеловеческой величины, как сто лет назад носили!
Тут Хорь был неправ — огромные бандо из фальшивых волос вышли из моды сравнительно недавно, однако что юным кадетам до дамских причёсок, их взоры нацелены на девичьи ножки...
— Формы — такие, такие... — Хорь показал руками, как он обнимал бы сорокавёдерную бочку. — И трещит, и трещит! То по-немецки, то по-итальянски. И жаждет найти земляков.
— Она, — хмуро сказал Лабрюйер. — Вот какого чёрта ты сбежал?! Нужно было за ней проследить.
— Не получилось бы. Она попрощалась с девицами и уехала вместе с Гели, Стасси и теми двумя господами, они обещали её подвезти.
— Тебе не представили этих господ?
— Представили. Один вроде Шмидт, а фамилию другого я не разобрал, так там было шумно. Автомобиль у них — чёрный «Панар-Левассор», и как они впятером туда забрались — одному Богу ведомо!
— Так Гели и Стасси уехали, а ты пошёл прогуляться с Минни и Вилли?
— Чёрта с два! Мы отошли от дверей Латышского общества, потому что там была толпа... Я был так счастлив, что эта ведьма убралась!.. Я думал — сейчас поговорим о чём-нибудь кроме фиоритур и бельканте. А они исчезли!
— Как — исчезли?
— Сбежали! Мы пошли в сторону Александровской через толпу — и в толпе я их потерял. Искал, искал — их нет! А телефонировать им в такое время уже неприлично.
— Странно... У вас же такая дружба...
— Я убью эту ведьму. Это она им что-то наговорила.
Тут у дверей чёрного хода началась какая-то суета. Из салона Лабрюйер услышал, как Ян пытается кого-то выставить и обещает позвать полицию.
— Я сам разберусь, — сказал Лабрюйер. — Сейчас вернусь.
Поспешив на помощь Яну, он увидел, что в фотографическое заведение ломится какой-то злодей с чёрной рожей и требует хозяина.
— Я хозяин, — строго сказал Лабрюйер. — А это что ещё за арап?
— Это я, Мякишев... я даже умыться не успел...
— Мякишев?.. — удивился Ян. — Господин Гроссмайстер!..
— Я тоже его не узнал. Ян, ступай домой, на сегодня с тебя довольно. Плёнки завтра с утра проявишь. Ступай, ступай! — приказал Лабрюйер.
Сенька проскочил мимо ошарашенного Яна и стоял, тяжело дыша, как старый дед, взошедший на третий этаж.
— Садись, вон табурет. Да расстегнись хотя бы. Прямо так по городу бежал? Как же тебя в трамвай-то впустили? — спросил Лабрюйер, выпроводив Яна.
— Я сзади прицепился, потом кондуктор согнал, так я — бегом... Александр Иванович, я к вам насчёт Собаньского! — выпалил Сенька. — Полдороги бежал, дайте дух перевести...
— Ты сперва отдышись. Ну, что Собаньский?
— Это не тот Собаньский!
— То есть как — не тот?
— Нашего, люцинского, я знаю. Его все знают! Ну вот — бегу я по заводскому двору, меж сборочными цехами, тачку гоню, в тачке тряпки промасленные, ни на что не годные, да деревяшки какие-то, да разломанный стул, да бумажки туда мастер бросил, чертежи какие-то ненужные. Гоню, значит, в кочегарку. И вижу — идёт господин инженер Савицкий, с ним — ещё господа, и при них — такой плотный господин, толстощёкий — рожа в сковородку не влезет, какими-то бумажками машет. Что-то им втолковывает. Что — не понять. Я остановился — их пропустить. И Савицкий говорит: «Господа, а ведь в этих рассуждениях что-то есть. Пойдём, — говорит, пан Собаньский с нами, вы не на ходу, а спокойно всё это ещё раз нам повторите». Я стою с тачкой, дурак дураком, думаю — послышалось или не послышалось? Они же не вопили, тихо говорили. Вспомнил — вы, Александр Иванович, про Собаньского узнавать велели. Я тачку оставил, за ними побежал. Бумажки с тачки с собой прихватил, догоняю, спрашиваю: «Господин Собаньский, это не вы часом обронили?» Он мне говорит: «Нет, не я. Савицкий посмотрел, сказал выбросить. Там, — говорит, — ошибка, чертёжник ошибся. Я еле до ночи дотерпел — и сюда!»
— Плотный толстощёкий господин? — переспросил Лабрюйер. — Ну, чуяло же сердце, что с этим Собаньским дело неладно! Не мог он у Кузьмича такой ценный чертёж оставить, плюнул бы на свою панскую гордость и вернулся! Сенька, ты молодец. Ты такие ценные сведения принёс, что на вес золота. Пойдём, доложишь господину Хорю.
Но докладывали они хором, на два голоса, на манер оперного дуэта, и Хорь даже не сразу понял значение новости.
— Значит, подменили изобретателя! — он даже обрадовался. — Вот она, вторая ниточка, за которую наконец можно будет потянуть!
Первой был Феррони.
— Но это не та ниточка, которую мы искали. Мнимый Собаньский появился на «Моторе» после того, как оттуда стали просачиваться ценные сведения. Я думаю, вот что произошло. Вокруг заводов крутился человек не из Эвиденцбюро, а откуда-то ещё. Он познакомился с люцинским гением и сообразил, что проще всего выдать себя за провинциального изобретателя, этакого Кулибина. А у Собаньского куча чертежей и описаний, отчего ж не воспользоваться.
— Это, выходит, итальянец?
— Вряд ли что природный итальянец. Скорее, человек, которого итальянцы наняли. А Собаньского, боюсь, найдут уже по весне, когда снег сойдёт.
— Нужно устроить военный совет, — решил Хорь. — Если фальшивый Собаньский действительно завербован итальянцами, то он же как-то поддерживает с ними связь. Ты, Мякишев, даже не представляешь, какую услугу нам оказал!
— Он главарь шайки? — с надеждой спросил Сенька.
— Н-ну... вроде того... Считай, что первый помощник главаря, — вывернулся Лабрюйер. — Сейчас ты умоешься, попьёшь с нами чаю и пойдёшь к себе ночевать. Твоя задача — следить за фальшивым Собаньским. Может быть, тебе удастся понять, где он поселился. А моя задача — с утра телефонировать Линдеру и спросить про неопознанные трупы.
Напоив Сеньку чаем и отправив его домой, Лабрюйер и Хорь устроили совещание.
— Может быть, блондинка, которая крутится возле «Мотора», уже знает, что люцинский изобретатель фальшивый? — спросил Хорь.
— Трудно сказать, что она знает. Но выследить этого Собаньского необходимо. Жаль, Фирст запропал. А он обещался погулять возле дома на Нейбургской и разобраться, что там происходит.
— В следующее воскресенье пошлю туда Горностая. У Акимыча и так заданий хватает. И Росомаха не бездельничает.
По голосу Лабрюйер понял: Хорь считает роль чертёжника, исполняемую Енисеевым, чем-то вроде давосского санатория для чахоточных девиц. Понимает, что хитрый Горностай изучает всех, кто на «Фениксе» причастен к исполнению военных заказов, но ничего не может с собой поделать...
Наутро Лабрюйер вышел очень рано. По всем улицам стоял скрежет — дворники чистили тротуары, сгребали снег в длинные кучи, потом по мере возможности вывозили их во дворы.
Поговорив с дворниками и потратив на эти беседы два двугривенных, Лабрюйер узнал: если ему угодно снять квартиру именно в этом доме, то кроме парадного входа на Романовской есть и чёрный ход, из которого можно двором выйти на ту же Романовскую, а можно очень мудрёным маршрутом, со множеством поворотов, на Невскую. Но, чтобы выбраться со двора за домом, нужно войти в довольно узкий проход, сейчас ещё загромождённый снегом. Лабрюйер примерно понял, как, в самом скверном случае, будут убегать супруги Краузе, и обрадовался — действительно, вполне хватит Акимыча во дворе и Хоря на улице.
Оставалось узнать распорядок дня Краузе, и об этом попросили госпожу Круминь. Насчёт шарфа ей объяснили, что он нужен для одного дела и будет ей вручён дня через два или три, да ещё с каким-нибудь подарочком.
Росомаха появился на следующий вечер.
— Акимыч занят, ведёт вашего красавца с Большой Кузнечной. Он уже установил, откуда красавцу телефонируют, — сказал Росомаха. — Что, Леопард, наконец переходим к военным действиям?
— Так откуда?
— Из Задвинья.
— С Нейбургской?! — обрадовался Лабрюйер.
— Нет, с Виндавской. Он говорит — это неподалёку, дом на Виндавской стоит на задворках второй больницы. Так что ты затеял, Леопард?
— Если Бог будет к нам милостив — мы узнаем имена студентов, осуждавших невинных людей на смерть и избежавших наказания.
— Я очень удивлюсь, если эти люди ещё в Риге.
— А чего бы им не жить в Риге, если судебный процесс уже состоялся, вместо них осуждены другие, а они могут преспокойно строить свою карьеру? Тут — вся родня, тут все связи... По крайней мере, один человек из них — в Риге. Тот, которого теперь шантажирует Эвиденцбюро.
— Хотелось бы, чтобы всё было так просто.
— Хочешь сказать, что добраться до этого семейства Краузе было просто? Для этого покойник потребовался. Надеюсь, только один.
— Краузе?
— Ах да, ты же не знаешь...
Лабрюйер рассказал про Энгельгардта.
— Их надо брать ночью, когда они в тёплых халатах, она — в ночном чепчике, а он — в колпаке, — сказал Росомаха. — Такие люди должны ощутить себя беззащитными. Что может быть беззащитнее мужчины без штанов?
— Дети поднимут шум. Горничная и няня... погоди, там же ещё должна быть кухарка...
— Не поднимут, всё пройдёт очень тихо. Родители сразу догадаются, что шум им ни к чему.
Лабрюйер удивился — Росомаха говорил очень жёстко.
— Ты сразу невзлюбил их? — спросил Лабрюйер.
— У меня брат в пятом году погиб. В жандармах он служил... Близнец, понимаешь?! Близнец! Мы не разлей вода были!
— Вот что...
— Да. У меня к этим шкубентам свои счёты.
— Прости... Я не знал...
— Да чего уж там...
Лабрюйер похлопал Росомаху по плечу — как ещё показать своё сочувствие, он не знал.
— Хорошо, ночью, — сказал он. — Тогда придётся работать отмычками. А если дверь будет заперта на цепочку или на засов?
— Мы войдём с чёрного хода. Там чаще всего — обычный крючок. Так что сперва сходим, разведаем обстановку, посмотрим заодно, куда выходят окна. А потом уже совершим налёт. Твоя мадам Круминь там бывала, может она хотя бы на словах изобразить план квартиры?
— Я не удивлюсь, если она его и нарисует.
Росомаха был прав — дверь чёрного хода запиралась на ключ и на крючок, который легко откидывался лезвием ножа. Но перед штурмом им вместе с Акимычем пришлось заблаговременно проникнуть во двор, потому что дворник, человек ответственный, запирал на ночь и парадное, и кованые ворота подворотни. Они открыли дровяной сарай, разобрали часть поленницы и устроили что-то вроде дивана на три персоны. План операции был составлен совместно с Хорём. Хорь должен был вскоре появиться на улице и прохаживаться между парадным и подворотней.
— Всё будет хорошо, — сказал Акимыч. — Я эту публику знаю. Для спасения своей шкуры на всё пойдёт, а уж про ближнего гадостей наговорить — это за милую душу.
— Не заврались бы, — задумчиво ответил Лабрюйер. — Племянник этого Краузе, Эрнест Ламберт, дружил со сволочами из комитета. Как бы Краузе о нём не умолчал.
— Если умолчит — невелика беда, раз ты про него знаешь, — заметил Акимыч.
— Нет, Ламберт — это карта, которую можно неплохо разыграть, — возразил Росомаха. — Если заставить его выдать племянника — дальше пойдёт, как по маслу. Ну-ка, выгляну — как там окошки?
В одном из нужных окон горел свет. Это была либо малая детская, либо спальня супругов Краузе. Окна этих двух комнат и кухни глядели во двор, окна большой детской, гостиной и столовой — на улицу.
— Ишь, полуночничают, — неодобрительно сказал Акимыч. — А нам тут торчать. У меня уже ноги мёрзнут от сидячего образа жизни.
— Я тебе валенки подарю, — пообещал Росомаха. — Уйдёшь со службы, выпишут тебе пенсион, будешь сидеть в валенках на лавочке и вырезать внукам свистульки.
— Внуки меня и не признают. Дочки тоже не признают, поди, — я их пять лет не видел.
— Служба...
— Она самая... служба...
Лабрюйер молчал. У Акимыча были дочки и внуки. У Росомахи, насколько он знал, где-то рос незаконный сын. А у него, Александра Гроссмайстера, даже захудалой тётки не было, чтобы ждала его с тарелкой пряников и кучей нотаций. Как-то оно так вышло, что, лишившись родителей, умерших очень рано, он совершенно отдалился от родни. Ему было тогда девятнадцать — самый подходящий возраст, чтобы начинать самостоятельную жизнь.
— Легли спать, — сказал Акимыч. — Ну, минут двадцать выждем — и с Богом.
Двадцать минут были очень долгими. Лабрюйер переживал их — как в молодости, когда с другими агентами сидел в засаде. Наконец Росомаха спросил:
— Ну, пора, что ли?
— Пора, — решил Лабрюйер. И все трое разом перекрестились.
Лестница чёрного хода была удивительно узкой, даже трудно вообразить, как по ней втаскивали корзинки с продовольствием, мешки и вязанки дров.
Росомаха и Лабрюйер расстегнули тужурки и повязали на лица платки — на американский лад. Но американские ковбои так, говорят, спасались от пылевых бурь, а Лабрюйер с Росомахой прикрывали носы и нижнюю часть лиц — мало ли как дело обернётся, чтобы сложнее было опознать. Бархатных карнавальных полумасок у них в хозяйстве не водилось, а вот носовые платки солидной величины были.
Они, открыв замок отмычкой, а крючок откинув ножом, медленно вошли в тёмную кухню. Росомаха быстро определил, где тут хозяйская спальня.
Чета Краузе спала — супруг на спине, супруга — свернувшись калачиком.
Пробуждение было не из приятных — кому бы понравился здоровый ком одеяла во рту и железные браслеты на руках?
— Тихо, тихо, — сказал Лабрюйер. — Будете шуметь — детки сиротками останутся.
— Вы поняли? — спросил Росомаха. — Будете молчать и отвечать на вопросы.
Первым освободили от самодельного кляпа господина Краузе.
— Вы нас с кем-то перепутали! — сразу воскликнул он.
— Тихо, деток и прислугу разбудите. Тогда вам плохо придётся. Отвечайте на вопросы, — велел Лабрюйер.
Он держал господина Краузе за руки, всей своей тяжестью прижимая к постели. Так же держал госпожу Краузе Росомаха. У мужчины хватило ума не сопротивляться, женщина пыталась вырваться и тихо мычала.
— Что за вопросы?
— Сперва я вам одно событие напомню. В седьмом, чтоб не соврать, году судили студентов, участвовавших в Федеративном комитете, который заседал тут, на Романовской. Они вообразили себя бог весть кем, принимали доносы на честных обывателей, устраивали ночные судилища. Им казалось, будто они восстанавливают справедливость. Довольно было назвать человека черносотенцем и противником новой власти...
— Да, да, это было ужасное время, — согласился Краузе.
— Время, когда очень легко было свести счёты с врагами. Или с людьми, которым задолжал немало денег. Или даже с человеком, от которого ждёшь наследства. Так вот, вы, господин Краузе, были чуть ли не единственным свидетелем на процессе. Остальные — или в могиле, или удрали из России. А вы знали от племянника, что делалось в этом проклятом комитете.
— Племянника втянули в это бунтовщики. Он был молод, он плохо понимал, что происходит!
— Однако он понимал, что людей, которых притаскивают в Федеративный комитет, потом отправляют на Гризиньскую горку? Теперь переходим к делу. На основании ваших показаний осудили несколько студентов, в том числе Фридриха Ротмана. Но Ротман был невиновен. Вы назвали его, чтобы выгородить другого человека, или даже других людей.
— Я сам видел там Ротмана!
— То есть вы на процессе сказали чистую правду?
— Да, да, разве я посмел бы врать? Вот и Аннемария подтвердит — я не имею привычки врать...
— Это похвально, — заметил Росомаха. — Значит, вы с супругой и сейчас правду скажете. Кто убил Хуго Энгельгардта?
— Но его расстреляли в шестом году!
— По ложному доносу.
— Этого я не знаю!
— Тише. Трёх человек тогда по вашему доносу расстреляли, Краузе. Но один уцелел. Получил он одиннадцать пуль в грудь, но как-то выжил. Это был Хуго Энгельгардт. Ваша супруга — его единственная наследница.
— Я не писал никаких доносов, я не имею отношения к смерти Энгельгардта, — возразил Краузе.
— Клянётесь, что не писали?
— Клянусь чем угодно!
— Значит, супруга писала, — сказал Лабрюйер. — Старый трюк. Краузе, не надо врать, у нас свидетели имеются. Вы с вашей женой обсуждали эти доносы.
— Анна? Не верьте ей, она дура!..
Лабрюйер при необходимости действовал очень быстро. Всего лишь на долю секунды он отпустил руку Краузе — и мгновенно влепил ему поразительной силы оплеуху.
— Это только начало. И это меньше, чем одиннадцать пуль. Помоги-ка...
Росомаха, поняв, взял обе руки своей пленницы в одну и затолкал одеяло в рот Краузе.
— Энгельгардт, очевидно, сумел доползти до какого-то дома, где его спрятали. Сейчас эти люди могут, уже никого не боясь, дать показания. Затем он нашёл старого приятеля и вместе с ним покинул Ригу. Этот приятель помог ему с новыми документами и поделился своей фамилией.
Краузе замотал головой.
— Увы, именно так всё и было, — даже с некоторым сочувствием сказал Лабрюйер. — В Стокгольме он разжился деньгами и решил наконец отомстить доносчику. С фальшивыми документами он вернулся в Ригу. И тут он совершил ошибку. Ему нужно было, зарядив браунинг, просто-напросто сразу прийти к вам так, как мы сейчас пришли, и засадить вам в грудь семь пуль. Говорят, есть браунинги на десять патронов, я пока не видел. Ну, всё-таки — не одиннадцать... Или ухитриться подсыпать вам яд. Яд он с собой привёз, огнестрельное оружие у него тоже имелось. А он вздумал прогуливаться по Романовской. Там его увидели и опознали два человека. Первый — мой свидетель, который сейчас надёжно спрятан. Второй — или вы, или ваша жена. Кто выследил Энгельгардта — неважно. Важно, что вы с супругой пришли к нему в комнату на Выгонной дамбе и убили его. И тут у меня есть свидетели. Хотите оправдаться?
Краузе закивал. Лабрюйер избавил его от одеяла во рту.
— Это всё — ложь, ложь, свидетелей вы подкупили! — заявил Краузе. — Не было в Риге никакого Энгельгардта. Приехал какой-то похожий на него человек, где-то поселился, при чём тут мы?
— Вот шведский паспорт Энгельгардта, — Лабрюйер достал из кармана документ. — Полицейские обнаружили тело без документов. Понимаете? Один добрый человек телефонировал в сыскную полицию и объяснил, чей труп лежит в комнате. И теперь к этому трупу приводят всех, кто семь лет назад был знаком с Энгельгардтом. Я уверен, что несколько человек его уже опознали.
— Мы тут ни при чём!
— А сейчас помолчите минутку. Пусть скажет ваша супруга.
Росомаха освободил рот жены Краузе.
— Мы ни в чём не виноваты! — сразу заявила она.
— Совсем ни в чём? — Росомаха, удерживая её одной рукой, другой вытащил из кармана шарф-удавку и картинно им взмахнул.
Женщина закричала было, но крик получился коротким — крепкая ладонь запечатала ей рот, а нарядный крепдешин опустился на лицо. Прикосновение шарфа-удавки ввергло её в безумие — она завертелась и забила в воздухе ногами.
— Надо же, как дама испугалась модного шарфика, — язвительно заметил Росомаха. — Отчего бы вдруг? Краузе, перестаньте наконец врать. Люди, что живут в меблированных комнатах на Выгонной дамбе, видели мужчину и женщину. Если вас предъявят этим людям — сами понимаете, что получится. А теперь — кто на самом деле заседал в Федеративном комитете?
Краузе молчал.
— Кто на самом деле заседал в этом проклятом Федеративном комитете? Имена! Ну? — Лабрюйер был спокоен, но, хорошо себя зная, он иногда побаивался собственного спокойствия — мог, долго себя сдерживая, вдруг сорваться, а опомниться, уже когда кулаки ободраны о вражеские рожи.
— Фридрих Ротман...
— Враньё. Вы показали на Ротмана, остальные свидетели были мертвы или сбежали, проверять это дело тогда не стали.
— Рихард Берзинь, актёр.
— Рихард Берзинь, актёр, — повторил Лабрюйер.
— Где он сейчас?
— Я не знаю.
— Плохо. Ещё! Ваш племянник Ламберт тоже там заседал?
— Нет.
— Значит, заседал. Ещё?
— Эрик Шмидт. Он учился в политехникуме.
— Эрик Шмидт. Ещё?
— Я не уверен...
— Уверены, уверены, — ободрил его Лабрюйер.
— Я там как-то видел Феликса Розенцвайга...
— Как он выглядел? — на всякий случай спросил Росомаха.
— У него очень светлые кудрявые волосы, — подумав, ответил Краузе. — Он высокий, выше меня. Он там был чуть ли не главный.
— Феликс Розенцвайг... Ещё! — потребовал Лабрюйер.
— Ещё какой-то латыш был, из анархистов, очень кричал о победе пролетариата и что нужно уничтожить государство.
— Какой-то латыш... А Теодор Рейтерн там тоже был?
— Какой Рейтерн? Да, Рейтерн, я вспомнил! Он был там, он там заседал! Я его там видел!
— Этот как выглядел?
— Плотный, среднего роста... на своего батюшку похож...
— Шмидт, Берзинь, Рейтерн, Розенцвайг. Это все? Не считая вашего племянника?
— Племянник не состоял в комитете! Ещё тот анархист.
— А племянника вашего где искать?
— Как будто вы не знаете...
— Ясно. Ну, Краузе, шарф мы забираем. Если успеете собраться и удрать — ваше счастье. Вы тот ещё сукин сын, но... но поторопитесь. И если бы вы с женой не убили Хуго Энгельгардта — он бы вас убил, дети бы сиротами остались. Мы уходим. Попытаетесь поднять шум — вам же хуже будет. Телефонировать в полицию — дело пяти минут.
— Уходим, — согласился Росомаха и очень галантно добавил: — Спокойной ночи, госпожа Краузе.
Они быстро вышли на кухню и сбежали по узкой лестнице во двор.
— Ну, что? — спросил Барсук.
— Эрик Шмидт, Рихард Берзинь, Теодор Рейтерн, Феликс Розенцвайг. И безымянный анархист, который сейчас уже где-нибудь в Австралии, — ответил Росомаха. — Ну, веди нас, брат Сусанин. Нужно поскорее выбраться и успокоить Хоря. Он на улице, наверно, уже переволновался.
— Шестеро детишек — кто им мамку заменит... — Лабрюйер вздохнул и спустил с лица платок. — Мамка и тятенька — те ещё сволочи... Ну, есть ещё и Божий суд. Посмотрим, как Господь с этим семейством управится. Покойный Энгельгардт тоже был не рождественский ангелочек. Идём...
Они дворами вышли на Невскую и поспешили к Романовской — снимать Хоря с поста.
— Ну, что? — спросил Хорь.
— Четыре имени, — доложил Лабрюйер. — По крайней мере трое годятся в подозреваемые. Эрик Шмидт, Теодор Рейтерн и Феликс Розенцвайг. Да ещё непонятно, куда подевался племянник Краузе — Ламберт.
— Рейтерн... — повторил Хорь. — Ну, точно — он! Рейтерн — брат Гели! Теодор Рейтерн! Это с ним меня в Латышском обществе знакомили!
— Тогда его нужно вычеркнуть из списка подозреваемых.
— Почему? — разом удивились Хорь и Росомаха.
— Потому что госпожа Лемберг, которая на самом деле госпожа Крамер, ещё только начинает вокруг него петли вить.
— Леопард, ты ошибаешься. Если эта госпожа Крамер — агент Эвиденцбюро, то да — Рейтерн вне подозрений. А если она и есть тот итальянец, который теоретически должен появиться в Риге? — спросил Росомаха. — И она подбирается к братцу через подружек сестрицы?
— Господа, если вам угодно до утра на перекрёстке торчать, то я лучше пойду греться, — объявил Акимыч. — И вам, кстати, рекомендую. Служить Отечеству с соплями по колено — это моветон.
— У Горностая ты таких афоризмов нахватался, что ли?
Они через чёрный ход забрались в лабораторию и там приготовили себе горячий и крепкий чай. Хорь завёл небольшое хозяйство — крендельки в жестяной коробке, баночку мёда.
— Нужно присмотреть за этими Краузе. Мало ли что — так чтобы знать, куда их понесёт нелёгкая, — рассуждал Росомаха. — Леопард, ты ведь разговаривал с их бывшей горничной? Может, ещё раз к ней сходишь, узнаешь, где у этих Краузе родня?
— Если у них в головах мозги, а не сенная труха, они побегут туда, где их искать не станут, — возразил Лабрюйер. — Я бы в таком деле, как анархисты в шестом году, утекал в Швецию.
— У них детишки, — напомнил Акимыч. — Самых младших они могут оставить родне. Росомаха прав — надо бы сходить к горничной.
— Я завтра весь день буду заниматься заводом «Мотор», — сказал Лабрюйер. — Доберусь до Фирста, узнаю, какие сокровища он откопал, и сам поеду на Нейбургскую улицу. Думаю, Хорь не станет возражать. И не забывайте, что по «Мотору» расхаживает фальшивый Собаньский и всюду сует нос.
— Я сам завтра поеду к Горностаю, пущу его по следу Эрика Шмидта и Эрнеста Ламберта. Он там, на «Фениксе», уже со всеми подружился, все его в гости зовут, того гляди — женят. Заодно отвезу ему «Атом» и прикажу снять Розенцвайга.
— Благодарю.
— И буду искать Минни и Вилли. Пусть расскажут про новые подвиги своей итальянской учительницы! — Хорь вызывающе взглянул на Лабрюйера, но ни малейшей критики этой затеи не услышал.
— Да, учительница очень подозрительная, — согласился Акимыч. — А я продолжаю разрабатывать Феррони с его дружком. Они всё больше дома сидят, бедняжки. Но если Эвиденцбюро в них вцепилось, то ещё к чему-нибудь приспособит — не только за Леопардом и Хорём землю топтать. Познакомлюсь с соседями и посмотрю, нельзя ли сделать от их телефона отводную трубку. Соблазню вдовушку... Да что вы ржёте, жеребцы стоялые? Я её финансово соблазню. Скажу — если сделать секретную отводную трубку, то она сможет пользоваться телефонным аппаратом бесплатно.
— Так это ж тебе придётся постоянно у вдовушки сидеть. Ох, Акимыч!.. — Росомаха погрозил товарищу пальцем.
— Отчего же? Ты, Росомаха, баб не знаешь. Если появится отводная трубка — думаешь, она не станет подслушивать? Тут бы ни одна женщина не удержалась! Ей же любопытно — два братца, девиц к себе не водят, живут тихо, а ну как старший — её судьба? А добрый дядюшка Акимыч мораль читать не станет, ещё и похвалит... — Барсук тихо засмеялся. — И просить не придётся, вдовушка всё сама доложит.
— Ну, ты знаток, — с некоторой завистью молвил Росомаха.
— Хорь, давай-ка мы этих двух кавалеров выпроводим и потолкуем, — предложил Акимыч. — Что-то мне не нравится, как ты глядишь...
— В самом деле, пойдём, Росомаха, — позвал Лабрюйер. — У меня переночуешь.
— А пойдём, — и уже на улице Росомаха спросил: — А что такое Акимыч учуял? Он ведь старый хитрый черт...
— То учуял, что наш командир по краешку ходит. Он в одну барышню, кажись, влюбился, а барышня невесть где откопала госпожу то ли Лемберг, то ли Крамер, и берёт у неё уроки итальянского. А я вот думаю — не госпожа ли Крамер эту красавицу нашла и в доверие втёрлась, чтобы подобраться к Хорю? Мне кажется, его маскарад они давно уж раскусили.
— Только не говори Горностаю. Сами разберёмся, — сказал Росомаха. — А что за барышня? Откуда взялась?
— Пришла с подружкой делать карточки... Слушай, и ведь в самом деле — эти Минни и Вилли как-то очень бойко в нас с Хорём вцепились. Знаешь, как у девиц — шерочка с машерочкой, ах, фрейлен Каролина, какая вы душка!..
— Это Хорь — душка?! Чёрт побери! Леопард, и ты молчал?
— Ты не представляешь, сколько дам и девиц приходит в «фотографию»! И все с какой-то придурью...
Лабрюйер вспомнил, как впервые увидел Наташу. Тогда тоже в салон ворвалось с полдюжины звонкоголосых и очаровательных молодых женщин.
— Что тебе известно про этих Минни и Вилли?
— Две барышни на выданье, обожают оперу, желают непременно петь по-итальянски и выступать в миланской «Ла Скала». Они искали в Риге итальянца, чтобы поучил их правильному произношению... а госпожа Крамер искала итальянца, который украл её дорогую доченьку... Слушай, я ведь уже вообще ничего не понимаю! — признался Лабрюйер.
— Зато я понимаю. В Риге, насколько нам известно, орудует Эвиденцбюро, и оно вряд ли обходится без агентов-женщин.
Скорее всего, и госпожа Крамер-Лемберг, и обе барышни — агенты. Они одновременно ведут разведку в нашей «фотографии» и ищут агентов-итальянцев, хотя способ, надо сказать, странный. Что ты ещё знаешь про этих барышень?
— Они живут вместе. Родственники позволили Вилли немного пожить у Минни, которая ей не только подруга, но и что-то вроде кузины. И там есть телефонный аппарат! Погоди, ведь Хорь знает, где они живут. Я-то его не спрашивал, и без того забот хватает...
— Узнай. Всё узнай. Я сам проверю, что это за музыкальные барышни, — сказал Росомаха. — А не хочешь ли завтра спозаранку поехать к «Мотору»?
— Для чего?
— Ты ведь собирался разобраться с домом на Нейбургской? Вот и поглядим, кто оттуда выйдет и пойдёт к «Мотору». Заодно Мякишева подвезём.
— Жаль, я сейчас Фирста не найду. Он должен был узнать, кто в том доме обитает, и доложить.
— Сами справимся.
— Кстати! Я знаю, ты тоже считаешь, что незачем гоняться за маньяком. Но всё же у нас есть карточки, на которых госпожа Урманцева и пропавшая гувернантка Амелия Гольдштейн. Не забудь взять их у Яна и поделись с Акимычем. Мало ли что? Вдруг опознаете?
Из квартиры Лабрюйера они телефонировали Вилли Мюллеру. Он ещё не спал, и не спал по уважительной причине — вечером перебирал мотор «Руссо-Балта», пытаясь поймать чёртика, который засел непонятно где и издевательски постукивает. Чёртика он не поймал и сидел в расстроенных чувствах, глядя на чертежи и пытаясь настичь его умозрительно.
— Приезжай в семь утра, — сказал ему Лабрюйер. — Общими усилиями разберёмся. Погоняешь своего чёртика на разных скоростях — глядишь, и выскочит.
— Тоже плохо, — возразил Мюллер. — Мне для того машину дали, чтобы я убедился в её пригодности, а если в ней неполадки — так чтобы доложил, какие именно. Их же устранить надо. А если чёртик пропадёт — как я потом узнаю, где он сидел?
Но договориться удалось, и Лабрюйер, оставив Росомаху хозяйничать, побежал предупредить Сеньку — чтобы не бежал утром к трамваю и не тратил пять копеек зря. Пять копеек в Сенькином кошельке — нелишние, это два с половиной фунта чёрного хлеба, это два фунта хлеба белого, если Сеньке захочется роскоши, это три яйца, то есть в пять копеек ему может обойтись завтрак с горячей яичницей. В почтенном немецком городе экономия похвальна, и Сенька не должен её стыдиться. Вряд ли помощнику кочегара положен оклад более восьми рублей, а каждый рабочий день вынь да положь десять копеек на трамвай; надо будет ему, в самом деле, рублишка полтора подбросить...
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Сенька пришёл в восторг — он ещё никогда не ездил на автомобиле.
Пока добирались до «Мотора», он замучил Вилли Мюллера вопросами. Лабрюйер и Росомаха только посмеивались — вот что, оказывается, нужно шофёру-фанатику для счастья.
Возле нужного дома они оказались слишком рано. Ещё успели подвезти Сеньку к заводской проходной, сделали круг и нашли то, что искали, — чёрный автомобиль. Он стоял у стены сарая под небольшим навесом, чуть ли не впритирку к поленнице.
— Это «Панар-Левассор», — сказал Мюллер. — Их в Риге, можно сказать, нет, я такой впервые вижу. Раньше только на картинках видел, даже не знал, что кто-то привёз.
— Наше счастье, что в Задвинье ещё не научились строить гаражи, — заметил Росомаха. — В лучшем случае навесы. Однако прохладно. Как они его заводить собираются?
— Они же оба — инженеры, — имея в виду Эрика Шмидта и Теодора Рейтерна, сказал Лабрюйер. — Сообразят. Ну, подождём, поглядим, кто к нему придёт.
— Замёрзнем к чёртовой бабушке, — ответил Росомаха. — Ведь заводской гудок ещё не скоро. И нам даже не первый гудок, а второй нужен.
— Чтобы гудок загудел, нужно сперва котельную раскочегарить, — разумно заметил Вилли Мюллер. — Заводскому гудку место на крыше котельной.
— Ну вот сейчас Мякишев этим и займётся.
Утренних гудков было два — первый заменял рабочим, не имеющим будильника, петуха, а второй, примерно полчаса спустя, означал начало рабочей смены, и к этому времени живущие по соседству рабочие уже не проходили, а пробегали через заводские ворота.
— Поторопились мы, — проворчал Росомаха. — И схлопочем горячку...
— Есть мысль. Отсюда до Зассенхофа и версты не будет, — сообразил Лабрюйер. — А там кирпичный вокзал, который отапливается. Вовсе незачем мёрзнуть вдвоём. Я сейчас останусь, поброжу тут, а через полчаса ты меня сменишь.
— А если ты пойдёшь топтать землю за кем-нибудь? Как я тебя отыщу?
— На маршруте от Нейбургской до «Мотора». Ну, поезжайте.
«Руссо-Балт» укатил, Лабрюйер остался.
Вспомнив молодость, когда ему, начинающему полицейскому агенту, и на дереве по два часа сидеть приходилось, он стал искать наблюдательный пункт и первым делом подумал о «Панар-Левассоре». Автомобиль был роскошный — имел четырёхместный кузов и не брезентовый верх, как у орманской пролётки, а настоящую крышу и застеклённые окна. При свете фонарика, ловкости рук и особом навыке можно было отворить дверцу и забраться вовнутрь. Дверца открылась удивительно легко.
Мягкие кожаные сиденья промёрзли насквозь. К ним и прикоснуться было страшно. Лабрюйер, опершись рукой о переднее сиденье, посмотрел, нет ли на заднем какого-нибудь пледа или ковровой полсти, как бывает у орманов.
На заднем сиденье лежал здоровенный тулуп. А в тулупе, если прислушаться и уловить дыхание, — спящий человек. Высокий воротник прикрывал всю голову, имелась лишь щёлочка для носа.
— Ничего себе... — пробормотал Лабрюйер.
Он вылез из автомобиля, прошёлся взад-вперёд, обошёл дом, увидел в двух окнах свет — там кто-то, возможно, уже готовился к трудовому дню. Но стоять зимней ночью, как телеграфный столб, удовольствие сомнительное — даже в тёплых сапогах ноги у Лабрюйера немного зябли. Он решил опять пройтись и подошёл к автомобилю.
Там его ждал сюрприз. В кузове пронзительно задребезжало и тут же смолкло. Лабрюйер шарахнулся и не сразу понял, что этот страшный звук издаёт обычный будильник, у него у самого был такой же.
Он отскочил и чуть ли не по воздуху перенёсся за угол дома.
Дверца автомобиля отворилась, оттуда с трудом выбрался человек в тулупе. И тут же Лабрюйер послал ему в лицо луч электрического фонарика.
— Фирст! — воскликнул он, сразу выключив фонарик.
— Вы, Гроссмайстер?
— Кто же ещё...
— Сюда, скорее...
Они сперва спрятались за автомобилем, потом перебрались за сарай.
— Я тут со вчерашнего вечера торчу, — докладывал Фирст. — Знал, что придётся ночевать, разжился тулупом. Слушайте — там, на втором этаже, живёт блондинка, которая вам нужна. Она приезжает то одна, то вместе с кавалером. Он остаётся ночевать. Автомобиль — его. Я не уверен, что кавалер служит на «Моторе», хотя тогда, помните, он тогда выехал со двора «Мотора». Хочу в этом убедиться.
— А как? Если он утром поедет на службу, ты же за ним не побежишь.
— Зачем бегать? Всё гораздо проще. Я посоветовался с нашими шофёрами, они объяснили, какой проводок выдёргивать... Глядите...
Фирст, скинув свой неуклюжий тулуп, в котором впору было на Северном полюсе ночевать, подбежал к автомобилю, приподнял капот, запустил туда руку, пошарил и действительно что-то дёрнул. Потом, очень довольный, вернулся к Лабрюйеру.
— Получилось!
— И что дальше?
— Я же говорю — два дня тут околачивался, кое-что разведал, просто сразу не докладывал. Кстати, я уже начал писать отчёт о расходовании денежных средств.
— Сможешь сегодня сдать?
— Думаю, что смогу. Так вот — «Мотор» построили на отшибе, рабочие в основном селятся поблизости, а кто с правого берега Двины добирается, так те или трамваем едут, но от трамвая далековато идти, или на своих автомобилях, или помесячно нанимают ормана. Орману выгодно — утром запрягаешь, и сразу тебе седок, кунд. Другое дело — что от завода до хотя бы Агенсберга идти порожняком. Сейчас наш кавалер попрощается с дамочкой, выйдет — а мотор-то не работает. До завода недалеко, он побежит пешком, я — за ним. Если он служит на заводе, то войдёт в ворота, и тут уж я придумаю, как у рабочих узнать его имя. А если нет — то, значит, он возьмёт ормана из тех, что привезли кундов, и поедет куда ему надо. А я возьму другого ормана, покачу следом и разберусь, где этот любовник служит.
— Очень хорошо, — согласился Лабрюйер. — А я тогда тут останусь, попробуем разобраться, что за дамочка и какой в ней тайный смысл...
Тут раздался первый гудок, более похожий на мощный свисток. Он долетел издалека, и в соседних домишках минуту спустя стали зажигаться окна. Кое-где встали спозаранку, и гудок лишь намекал, что пора поторопиться.
Они прождали минут двадцать, Фирст — в тулупе, Лабрюйер — в тёплой тужурке. Наконец кавалер вышел. Был он довольно высокого роста, крепкого сложения, в длинном пальто, словом — монументален. Он как следует раскрутил торчавшую спереди ручку стартера, чтобы завести двигатель, результата не добился. Подняв капот, он что-то потрогал внутри, но, не имея фонарика, понять, в чём беда, не сумел. Выругавшись, он поспешил к «Мотору» пешком.
— Ну, с Богом, — сказал Фирсту Лабрюйер. Тот сбросил ему на руки тулуп и, выждав немного, поспешил следом за кавалером, а Лабрюйер с истинным восторгом влез в тулуп. И надо же — минуты три спустя примчался «Руссо-Балт» с Мюллером и Росомахой.
— Тебе тут оставаться не стоит, — узнав новости, сказал Росомаха. — Тебя она видела, а меня, надеюсь, нет. Так что останусь я, а ты поезжай к «Мотору». Вилли, ты что?
Мюллер не мог спокойно смотреть на «Панар-Левассор», ему непременно нужно было познакомиться с автомобилем поближе. Электрический фонарик у него имелся, и он мог с наслаждением изучить мотор.
— Перестань, — попросил Лабрюйер. — И фонарик потуши. Из окошка же видно, как чужой человек в моторе копается.
— Вот! — воскликнул Вилли. — Вот он!
— Сумасшедший... — пробормотал Росомаха и вдруг кинулся к «Панар-Левассору»: — Ну-ка, покажи!
— Держи фонарик!
Дальше они возились с мотором уже в четыре руки.
Наконец они угомонились. Росомаха был оставлен с тулупом — ждать, пока из дома начнут выходить женщины и явится дворник. Судя по опрятному виду дома и красивым занавескам, там жили приличные люди, державшие кухарок, а то и горничных. Если же комнаты сдавались — тем более требовалась прислуга, чтобы содержать их в порядке.
Лабрюйер поехал к «Мотору».
У него имелось описание внешности фальшивого Собаньского, сделанное Мякишевым. Да и рабочие явно обратили внимание на чудака, который своими завиральными идеями развлекает молодых инженеров, а меж тем всюду сует нос.
Мюллер гнал автомобиль с предельной скоростью, и Лабрюйер невольно вспомнил своё знакомство с Гаккелем. Но Мюллер был опытный шофёр и доставил Лабрюйера к заводским воротам за несколько минут до второго гудка.
Рабочие уже спешили, но Лабрюйеру удалось спросить нескольких о чудаке Собаньском. Ему объяснили — чудак в такую рань не приходит, а спрашивать о нём нужно господина Морозова из канцелярии, они как-то подружились. И когда со вторым гудком последние опаздывающие вбежали в ворота, Лабрюйер обратился к сторожу — нужно было узнать, когда приходят канцелярские служащие. Они являлись к половине девятого — времени было ещё много. И за это время Лабрюйер решил съездить в фотографическое заведение, посовещаться с Хорём. Парень всё-таки был назначен командиром наблюдательного отряда, и принимать в одиночку серьёзное решение Лабрюйер не хотел.
Хорь, в образе осточертевшей ему фрейлен Каролины, был сердит и неразговорчив. Лабрюйер подумал было, что опять сцепился с Енисеевым, но до правды не докопался. А правда была такая: Хорь мучился вопросом, телефонировать ли милым барышням, Минни и Вилли. Учительницу итальянского языка они нашли сами, фотографических карточек он им изготовил целый альбом, так что формального повода не было. Уговариваться насчёт совместного похода в театр после того, как барышни после «Демона» откровенно сбежали, тоже как-то странно. И в таком смутном состоянии души он должен был выслушивать доклад Лабрюйера...
— Если мы предупредим Калена, что фальшивый Собаньский при помощи некого Морозова добывает сведения — предположительно, для итальянской разведки, Калеп своей директорской властью может запретить Собаньскому вход на завод и уволить Морозова. С одной стороны, давно пора. А с другой — мы рискуем навеки упустить Собаньского. Он вынырнет, скажем, на «Фениксе», с какими-то новыми затеями, а мы об этом не узнаем. С третьей стороны — хм, с третьей стороны... Мы не знаем, каковы отношения между Эвиденцбюро и итальянской разведкой, как они там ссорятся, мирятся и торгуются... Есть и четвёртая сторона. Что, если Ригу осчастливила визитом, скажем, английская разведка?.. Мало ли, что союзники... Хорь!
— Да, я слушаю.
— Выследить фальшивого Собаньского теперь нетрудно. Но выявить все его тайные связи — для этого ещё один наблюдательный отряд потребуется. Нас слишком мало... Хорь!
— Да, да...
Лабрюйер замолчал. Хорь меланхолически кромсал гильотинкой неудачную карточку на множество тонких полосок. Потом, всю её уничтожив, он посмотрел на Лабрюйера.
— Я не знаю, что делать, — сказал он. — Наверно, придётся посоветоваться с Горностаем. Этот-то всё знает!
— Просто у него опыта побольше, чем у всех нас. Он может покопаться в своей голове и найти похожий случай. Так что, мне на «Мотор» не возвращаться?
— Оставайся пока тут, — подумав, решил Хорь. — Тебя будет искать твой Фирст, наверняка объявится Росомаха. А я... я пойду, погуляю... просто погуляю... Имею я право на два часа отдыха?!
— Ступай, конечно, — усмехнулся Лабрюйер. — Хочешь просто послоняться по городу? Или имеешь цель?
— Ни малейшей цели.
— Тогда знаешь что? Зайди в книжную лавку Дейбнера, что на Новой улице. Посмотри — может, там будет новый хороший план Риги со всеми фабриками и заводами.
— Да, это пригодится.
Хорь надел поверх парика отделанную мехом шляпку, накинул модное широкое дамское пальто с большими пуговицами и ушёл.
Лабрюйер попросил Яна позвать госпожу Круминь и заказал крепчайший чёрный кофе, если можно — со сливками и пирожками. Пирожки со шпигом и луком супруге дворника всегда хорошо удавались.
Лабрюйер пил кофе в салоне и глядел в окно на прохожих, когда Ян позвал к телефонному аппарату.
— Любовник — Эрик Шмидт, служит на «Унионе», — доложил Фирст. — А «Унион» — это у нас что? Это изготовление и монтаж электрического оборудования для военного флота. Вот такие пироги...
— Умеет эта дамочка выбирать себе любовников, — заметил Лабрюйер.
— Продолжать?
— Нет, передадим Шмидта другому человеку.
Лабрюйер имел в виду Енисеева.
Енисеев трудился на «Фениксе», а «Унион» аккурат напротив «Феникса», достаточно перейти Петербуржское шоссе. Надо полагать, он и среди унионовских чертёжников и канцелярских служащих уже завёл знакомства, так ему сподручнее будет разобраться. Когда Фирст пообещал завезти отчёт со всеми своими расходами и повесил трубку, Лабрюйер подумал: «Лучше было бы, чтобы это решение принял Хорь...»
Он видел, что в отряде разворачивается странный поединок. Хорь — против Горностая, и Хорь переживает этот поединок всерьёз, а Енисеев ведёт себя так, будто ничего не замечает. Лабрюйер был на стороне Хоря. Он понимал, как молодому трудно противостоять старому, опытному и ехидному. И понимал также, что Хорь должен научиться справляться в таких случаях сам.
Явился Хорь, как и обещал, через два часа. Прогулка не помогла — он был мрачен и недоволен. Лабрюйер пересказал ему донесение Фирста.
— Но если источник сведений — Шмидт, то вся твоя бурная деятельность по поиску маньяка — коту под хвост. Значит, не шантаж, а обычный древний способ добычи сведений в постели, — сказал Хорь. — Мы это проходили.
— Маньяка я установлю и позабочусь, чтобы он получил по заслугам, — хмуро сказал Лабрюйер. — И даже если врачи докажут, что он не в своём уме, уютной палатой на Александровских высотах он не отделается... как бедный Клява...
— Да, Кляву жалко. Он, наверно, совсем зелёный был, когда попал в эту историю.
— И зелёный, и слабый. Видишь, не выдержал. Теперь его уже никогда не вылечат. Ты карту принёс?
— Принёс... Послушай, Леопард, ты ведь за барышнями ухаживал?
— Было дело, ухаживал.
— Какие предлоги ты придумывал, чтобы телефонировать?
— Хм... Давай-ка лучше говори прямо. Ты придумал предлог, чтобы телефонировать Вилли, но он тебе самому не нравится?
— Я Минни встретил. В книжной лавке. Она меня не заметила. Я смотрел карты, а она хотела купить ноты. Я прислушался — ноты ей велела купить эта проклятая итальянка, Лемберг, и сама записала на бумажке, какие именно. Приказчик в лавке какую-то арию отыскал. Потом Минни ушла, но она список потеряла. Я подобрал. Вот, думаю — если телефонировать и сказать, что хочу отдать ей список, это не будет слишком глупо?
Лабрюйер невольно улыбнулся.
— Я думаю, не очень. Сразу узнаешь, как к тебе барышни относятся. Если попросят, чтобы принёс список, значит, всё в порядке. Или сами пообещают за ним зайти. А что за арии?
Хорь достал из муфты бумажку. Лабрюйер посмотрел на список, увидел знакомое — арию Царицы ночи из «Волшебной флейты», и хмыкнул.
— Хорь, я домой сбегаю на полчасика. Надо.
Дома Лабрюйер отыскал листок, один из тех, что были найдены в номере госпожи Крамер. Уже и на первый взгляд было видно, что почерк — не тот. Он помчался обратно в фотографическое заведение, и там они с Хорём внимательно изучили обе бумажки.
— Это две разные женщины, — сказал Хорь. — Ничего себе новость!
— В Риге одновременно появляются две пожилые седые дамы, одна ищет итальянцев, другая преподаёт итальянский оперный язык. Они бывают в одних и тех же местах, но при этом не познакомились! — воскликнул Лабрюйер. — Скажи, госпожа Лемберг не производит впечатления буйнопомешанной? Не ругается?
— Нет, благопристойная дама.
— Чёрт знает что... Вот что, Хорь. Мне кажется, стоит отдать Минни эту потерянную бумажку, но как-то так, чтобы повидать эту госпожу Лемберг. Что говорили девицы о своих уроках? Учительница к ним приходит? Или они идут к ней?
— В приличных домах девицы не бегают на уроки, учителей нанимают приходящих... — Хорь задумался. — Мало нам было хлопот? Теперь ты хочешь устроить наблюдение за домом Минни?
— Я сам не знаю, чего хочу. У меня нет в голове ответов на все вопросы разом, — признался Лабрюйер, и это был намёк на Енисеева, который, казалось, знал всё на свете. — Можно послать Росомаху или Акимыча. Если в доме есть консьержка, она скажет, когда приходит учительница.
— Можно.
И тут раздался телефонный звонок.
— Лёгок на помине, — сказал Хорь в трубку. — Леопард, это Росомаха. Возьми отводную трубку.
Росомаха доложил — белобрысая дама проживает под именем госпожи Луговской, хозяева дома на неё не нарадуются, любезная, щедрая, а что к ней приходят кавалеры — так она за то и платит, чтобы в её дела не лезли. Кроме того, Росомаха выследил эту госпожу Луговскую — хотя и долгонько пришлось ждать, пока она соберётся. Зато он разглядел даму и даже того, кого она навестила.
— Не красавица, но что-то в ней есть, — сказал Росомаха. — Фигурка складненькая, ножки маленькие, ходит быстро... Я за ней шёл по Виндавской — так нарочно замедлять шаг даже не приходилось. Недалеко от больницы она подошла к дому... А почему она вообще туда пошла, как вы полагаете, господа? А она увидела, что «Панар-Левассор» у сарая стоит. То есть любовник на автомобиле не уехал. И её это, видать, обеспокоило. Она постояла, подумала, да как рванёт к Виндавской! И у самого дома встретила выходящего оттуда господина. Они сразу же вошли туда вместе, но я успел разглядеть. По описанию Леопарда, это тот господин, что похитил госпожу Крамер: щупленький, узкоплечий, как гимназистик, только с чёрными усами. Что, пасьянс складывается?
— Пасьянс формально складывается, — подтвердил Лабрюйер. — Но представь, что в твою колоду замешались картинки того же размера, что и карты, но самые неожиданные. Скажем, рождественские ангелочки. Или виды Крыма. И как их понимать — неизвестно.
— Представил. Ужас что такое.
— Дальше что было?
— Я заподозрил, что они куда-то поедут вместе. А там вторая больница рядом, если повезёт, можно взять ормана. Орманы ещё часто стоят у Агенсбергского рынка, но туда было далеко бежать. Я, перекрестясь, — к больнице. Повезло — послал Господь ормана. Но мы с ним вместе прождали в закоулке чуть ли не час. Потом к дому подкатил автомобиль. Дамочка и тощий молодчик вышли и уехали. Догнать их мы не сумели. Но покатила эта пара к реке. Я запомнил приметы автомобиля, можно будет его отыскать. Это вроде бы модель «С-24», та, что была заказана для царского гаража, цвет — тёмно-синий, густой, очень для такого автомобиля подходящий.
— Хорошо, — сказал Хорь. — А теперь запоминай адрес...
Он объяснил Росомахе, где именно спрашивать об учительнице итальянского языка. На том разговор и окончился.
— Пасьянс... — пробормотал Лабрюйер. — Будь он неладен...
— Сложим, — ответил Хорь. — Непременно сложим. Я научусь.
— Хорь, ты не хотел бы перекусить?
— Хотел бы.
— Пошли напротив!
— Кавалер угощает? — кокетливо спросил Хорь и вдруг преобразился: — Я современная передовая женщина, я не позволю, чтобы за меня платили, это унижает женщину! Я всегда и всюду плачу за себя сама!
— Театр по тебе плачет, — ответил Лабрюйер. — Пойду пальто надену. В тужурке как-то неприлично...
Они вышли на Александровскую и дошли до перекрёстка, чтобы не перебегать с риском попасть под трамвай или автомобиль. Хорь решительно отказался брать Лабрюйера под руку и, отлично копируя манеры эмансипэ, задрал нос и прошёл вперёд. Лабрюйер, невольно улыбаясь, позволил ему этот манёвр — и тут ощутил подёргивание за рукав.
Он обернулся и увидел Глашу.
— Тс-с-с! — сказала горничная и стремительно сунула ему в карман сложенные листки. Не успел он и рта разинуть, как Глаша убежала, и оставалось лишь, глядя девушке вслед, любоваться, как плещется подол коротковатой, открывающей лодыжки юбки и мелькают быстрые ножки в изящных, явно подаренных Ольгой, ботиночках.
В кармане было очередное письмо Наташи, а в голове — смятение: надо же хоть что-то написать в ответ!
Чтение письма Лабрюйер откладывал и откладывал, пока не настало время идти домой.
Дома было хорошо — прислуга квартирной хозяйки, фрау Вальдорф, как раз топила печку, а на столе стояла накрытая салфеткой тарелка — фрау прислала образцовому жильцу две домашние булочки с вареньем.
Нужно было достать из кармана письмо. Лабрюйер знал, что там не будет упрёков. И всё же беспокоился — что ещё могло прийти на ум Наташе? Какие новые загадки придётся разгадывать?
Наконец он собрался с духом и развернул письмо.
«Саша, я долго не решалась написать об этом. Если бы ты не знал, в какую беду я попала, если бы сам меня не спас, — я бы промолчала. Есть вещи, о которых нельзя говорить мужчине, чтобы не потерять его, а я безумно боюсь тебя потерять, — писала Наташа. — Но ты знаешь, что после смерти мужа я вступила в отношения с другим человеком. Обычно ради приличия говорят “близкие отношения”, но мы не были близки. Мы просто хотели воспользоваться этим...»
— Ничего не понимаю... — сказал Лабрюйер. Дальше читать не хотелось. Наташа была права — не всякая откровенность полезна. Лабрюйер прошёлся по комнате, швырнул письмо на стол, оно слетело на пол, листки легли веером, он рассердился непонятно на что, отвернулся от письма, потом всё же поднял и начал читать с другого листка.
«...я думала, что привязанность ко мне для него что-то значит. Он обещал помочь мне вернуть сына, и остальное просто не имело значения. Я пыталась быть ему хорошей подругой, а что не любила — так я же знаю много женщин, хороших жён и прекрасных матерей, которые равнодушны к мужьям, и даже считается, что отсутствие бурных страстей — залог хорошего брака, — рассуждала Наташа. — Но Айзенштадт уже тогда знал, как можно меня использовать. И он пошёл на эти отношения, желая меня к себе привязать. У нас был медовый месяц, который не принёс нам обоим радости, потом Айзенштадт решил, что я никуда не денусь хотя бы из гордости, потому что заводить нового любовника для меня, в моём положении, было бы унизительно...»
Лабрюйер сложил письмо, потом опять развернул.
«...оказалось, что Айзенштадт — фальшивая фамилия, потом он сделался Красницким и выправил мне документы на имя Натальи Красницкой, разумеется, фальшивые. Но мне уже некуда было деваться — я продолжала с ним жить, и мы иногда сходились без любви, он — чтобы я помнила, что принадлежу ему, а я — ради сына...»
Лабрюйер выругался, кинулся к печке, отворил дверцу и сунул эту исповедь в огонь.
Он знал, как Эвиденцбюро завербовало Наташу. Знал в общих чертах — в подробностях он не нуждался. А Наташе вдруг показалось, что он должен знать эти унизительные подробности! Если бы она хоть написала, что её принудили угрозами, что Красницкий вызывал у неё отвращение!.. Нет, положительно он не мог понять эту женщину!
Отвернувшись от печки, Лабрюйер вдруг заметил на полу ещё один листок. Когда письмо упало со стола, он отлетел к стене, прижался и стал невидим. Лабрюйер поднял этот уцелевший листок и прочитал:
«Один раз я должна была сказать тебе эту правду. Один раз — чтобы избавиться от неё, понимаешь? Иначе мне всю жизнь пришлось бы чувствовать, что я тебе лгу. Тебе! Прости меня, если можешь. А если не можешь... Я хочу только одного — чтобы ты был счастлив. Когда любишь — только этого и хочешь. А я люблю тебя. Твоя Наташа».
Лабрюйер вздохнул — как это женщинам удаётся всё запутать до полного непонимания?
И как всё получилось неправильно...
— Ну вот что мне теперь с этим письмом делать? — спросил Лабрюйер Наташу. — Забыть его я не смогу. Помнить его — невыносимо... Нет, я не ревнив! По крайней мере, мне раньше казалось, что не ревнив. Ты была замужем, ты любила мужа, это я ещё могу понять... смешно ревновать к покойнику... но Красницкий, или Айзенштадт, или чёрт его знает, кто он там на самом деле!.. Этот вроде бы жив. Был отправлен в столицу на допросы, а куда его потом девали — неведомо. Вряд ли выпустили на свободу. Да, я был уверен, что вы жили вместе. Потом я решил, что тебя просто использовали как подсадную утку, для этого спать в одной постели с охотником не обязательно. Отчего ты не оставила меня в этой уверенности?.. Так было бы лучше и для тебя, и для меня...
— Чтобы начать жизнь сначала, нужно избавиться от прошлых грехов, — ответила Наташа.
— Да что я тебе — поп, которому велено исповеди принимать?!.
Печка прогорела, и Лабрюйер закрыл дверцу. Потом он приготовил себе чай, устроил скромный ужин из чая с булочками, разделся и лёг.
Засыпая, он вдруг почувствовал, что Наташа лежит рядом. Резко повернулся — её, конечно же, не было. Он сам себя обозвал сумасшедшим и вспомнил бедного Кляву. Этак, чего доброго, скоро раздвоишься, и некто Лабрюйер будет лежать в постели с любимой женщиной, а некто Гроссмайстер будет вопить: «Я не Лабрюйер, это он в той постели, а не я!» Пожалуй, настало время написать самому себе докладную записку: я, Александр Гроссмайстер, родился в тысяча восемьсот семьдесят втором году, а Лабрюйер — это выдумка антрепренёра Кокшарова... написать записку и спрятать там, где её никто не найдёт, но самому — знать, что она есть...
Додумавшись до этого, Лабрюйер наконец уснул.
Утром, когда Лабрюйер умывался, ему телефонировал Енисеев.
— Приказ его превосходительства покорнейше исполнен — «Атом» с плёнкой внутри привезу сегодня попозже вечером! — Енисеев, как всегда, валял дурака. — Устроим военный совет — сдаётся мне, его превосходительство в лёгкой растерянности.
— Это замечательно, — ответил Лабрюйер. — Значит, завтра вечерним поездом отправим картинки в Питер и далее — в Выборг.
На шуточки Енисеева он раз и навсегда решил не отвечать.
— До встречи, брат Аякс.
— До встречи.
Потом был обычный день с суетой, сменой фонов, тасканием реквизита, изготовлением заказов, ответом на письма, переговорами по телефону о заказе пяти пачек паспарту с эмблемой «Рижской фотографии господина Лабрюйера», а также деловым разговором о фотоэмалях. К Лабрюйеру пришёл ювелир Буркхард Корт — предлагать сотрудничество. Он захотел выпускать броши, запонки и брелоки с фотографическими портретами на эмали, выполненными в цвете. Идея Лабрюйеру понравилась, было о чём потолковать.
Ювелир ушёл, пришёл Круминь, попросил денег на трубочиста — что-то в печную трубу провалилось, нужно было прочищать. Ушёл Круминь, пришёл сосед Петринский, попросил три рубля в долг. Ушёл Петринский, пришёл молодой архитектор Эйжен Лаубе — ему понадобились фотографические карточки с изображением недавно построенного дома. Дом стоял тут же, поблизости, на углу Романовской и Александровской, и был весьма причудлив — окна разных размеров, странно расположенные эркеры, фантастическая крыша, фронтон украшен латышским узором. Но всё это вместе взятое как-то между собой уживалось. Поскольку уже стемнело, Лабрюйер обещал завтра послать к дому Яна.
Потом он позвал Хоря ужинать.
— Перед военным советом нужно набраться сил, — сказал Лабрюйер.
И они пошли набираться сил во «Франкфурт-на-Майне».
Потом они долго ждали Енисеева. Хорь, чтобы убить время, тренировался с утюгом, а Лабрюйер засекал время.
— Не уверен, что тебе нужны такие экзерсисы, — сказал он. — В нашем ремесле важнее умение стрелять навскидку, чем долго выцеливать мишень.
— Навскидку-то я могу, а там как раз пришлось выцеливать. А что, если попробовать левой рукой?
Наконец явился Росомаха.
— Я опоздал малость, — сказал он. — Эта госпожа Лемберг была у наших девиц с утра и ушла. Она уже два раза у них была, этот — третий. Является утром, около одиннадцати. Как я понял, не каждый день. Завтра, значит, вряд ли придёт. А послезавтра — воскресенье. Думаю, нужно её подкарауливать не раньше понедельника. Что же касается нашей блондинки — я ищу автомобиль, который приезжал за ней и тем господином. Пока — безуспешно, однако я уговорился с механиками в нескольких гаражах, если что — дадут знать.
— Не всё коту Масленица, бывает и Великий пост, — успокоил его Хорь. — В понедельник на рандеву к Лемберг пойду я. Всё-таки я её в лицо знаю. Чаю хочешь?
— Хочу.
Не успели заварить чай — прибыл Енисеев.
— Извольте, — сказал он, возвращая «Атом». — Вот вам Розенцвайг — анфас и в профиль. Только боюсь, что я зря плёнку на него извёл. Он не похож на человека, который кого-то мог бы осудить на смерть. На маньяка, впрочем, тоже.
— Много ли тебе довелось видеть маньяков? — спросил Лабрюйер. — Я имею в виду настоящих, что помешались на убийствах. Я одного брал... Оказался скромнейшим счетоводом, отчего-то невзлюбившим женский пол. И все сослуживцы клялись, что кроток, как овечка. Кстати, о плёнке...
Он достал несколько карточек, на которых были госпожа Урманцева с дочерью и гувернанткой.
— Дамы? — заинтересовался Енисеев.
— Возьми на всякий случай. Я знаю, что охота на маньяка тебе кажется нелепой. Но вдруг ты где-то увидишь эту даму или эту девицу?
— Что это? — спросил Хорь.
— Прислали из столицы. Нашёлся сын госпожи Урманцевой, дал наконец карточки — там она, гувернантка и...
Хорь выхватил у Лабрюйера карточки.
— Господа, но ведь эта гувернантка сильно похожа на одну особу!..
— Да, точно, сходство с Вилли несомненное, — согласился Лабрюйер. — Теперь и я его вижу. Но гувернантке сейчас, если она жива, лет около тридцати, а Вилли — не более двадцати.
— Погодите!
Хорь кинулся к архиву, где со времени открытия фотографического заведения хранились почти все сделанные карточки, и отыскал несколько портретов Вилли: в шапочке, без шапочки, в обществе Минни, на фоне зимнего леса и на фоне драпировок.
— Сходство есть, — согласился Енисеев. — Леопард, ты ведь беседовал с госпожой Урманцевой. Ты единственный что-то знаешь о гувернантке.
— Мне показалось, что Урманцева чего-то недоговаривает. Не врёт откровенно, но как-то увиливает, — признался Лабрюйер. — И её бегство в монастырь тоже теперь кажется сомнительным. И то, что куда-то пропали все карточки из домашних альбомов. Про эти, что у её сына, она, как видно, забыла...
Он задумался.
— Ты уже ловишь маньяка, — сказал ему Енисеев. — А мы ведь по другому поводу собрались.
— Сейчас я расскажу, в каком положении мы оказались. И все вместе подумаем, что тут можно сделать, господа. Итак... — и Хорь каким-то не своим, казённым голосом изложил все обстоятельства, связанные с фальшивым Собаньским и теоретическими итальянцами.
Росомаха добавил кое-что о своей погоне за блондинкой. Лабрюйер дополнил — пересказал донесение Фирста.
— Так что любовник госпожи Луговской — Эрик Шмидт, служит на «Унионе», и мне кажется, Горностай, что это уже по твоей части, — завершил он, но покосился на Хоря и добавил: — Но это уж как решит командир отряда.
— Разумеется, разумеется! — чересчур поспешно согласился Енисеев. — Шмидтом я займусь.
— А Росомаха будет искать автомобиль, на котором перемещаются наши друзья из Эвиденцбюро, — сказал Хорь. И посмотрел на Лабрюйера — словно просил взглядом помощи.
— Что ты обо всём этом думаешь, брат Аякс? — спросил Лабрюйер, может быть, чересчур громко и агрессивно. Однако Енисеева это, скорей всего, лишь позабавило.
— Значит, в нашем пасьянсе есть забавная карта «фальшивый Собаньский», — сказал Енисеев. — Кто он такой — мы, в сущности, не знаем. Но если он и впрямь итальянец, то представляет интерес и для Эвиденцбюро. Италия сейчас для Австро-Венгрии — тёмная лошадка, союзник, готовый в любую минуту предать и продать. Наши нежные друзья из Эвиденцбюро были бы очень благодарны, если бы им кто-то намекнул на пана Собаньского.
— Ты предлагаешь дать в «Рижском вестнике» объявление? — строптиво спросил Хорь. — «Российский рижский наблюдательный отряд шлёт поклон Эвиденцбюро и хочет сделать незаслуженный подарок»?
— Можно и так, — согласился Енисеев. — Я бы вырезал это объявление и хранил его вместе с семейными реликвиями. А можно иначе. Леопард, ты когда в последний раз видел Феррони?
— Или его научили правильно топтать землю, или он от нас с Хорём прячется. Мы его тогда хорошо напугали, — ответил Лабрюйер.
— У нас есть его телефонный номер. Поговори с ним и предложи ещё немного побродить по Александровской и Гертрудинской, — посоветовал Енисеев. — Нужно сделать так, чтобы он услышал ваш с Хорём разговор об итальянце Собаньском. Или не разговор — а получил бы филькину грамоту, где имеется эта фамилия. Остальное Эвиденцбюро сделает само.
— Но мы рискуем никогда не узнать, кто на самом деле этот Собаньский, — возразил Хорь.
— Думаю, что он опытный и хладнокровный убийца. Если Леопард расскажет своему другу Линдеру о том, как пропал чудак из Люцина и как неведомо кто нацепил его маску, думаю, один неопознанный труп удастся и-ден-ти-фи-ци-ро-вать... Тьфу, ненавижу такие заковыристые слова. Пока выговоришь — поймёшь окончательно, какой ты косноязычный дурак...
Енисеев встал и потянулся. Картинно потянулся, раскинув длинные руки. Словно бы не на самом деле утомился, а талантливо сыграл утомление и чуть ли не ждал аплодисментов.
Хорь отвернулся. То, что предложил Горностай, было разумно — да только если бы Горностай сообщил, что дважды два, оказывается, четыре, Хорь пошёл бы проверять по таблице умножения. Ему не хотелось, чтобы правота Енисеева сопровождалась таким презрительным актёрством, и Лабрюйер его прекрасно понимал — сам с немалым трудом научил себя относиться спокойно к енисеевским штучкам.
Лабрюйер, кажется, мог бы вслух произнести то, что думал Хорь.
— Мы с тобой, Леопард, изловили этого топтуна, ты — ты, а не Горностай! — показал мне, что можно сделать с такой странной добычей. А этот — пришёл на готовенькое и буквально на лету составил план, да ещё ухмыляется в усищи!
— Вот так у него голова устроена, — следовало бы ответить. — Он очень быстро и легко думает. У меня так не получается, я иначе устроен. А у тебя будет получаться, когда наживёшь побольше опыта. Это ведь — как дом строить. У него все кирпичики уже приготовлены, домик строится моментально. А тебе за каждым нужно куда-то бежать...
Хорь и Лабрюйер переглянулись.
— Принимается, — сказал Хорь. — Леопард, как ты предлагаешь это сделать?
— У меня только полицейский опыт по этой части. Мы использовали в таких операциях осведомителей. Спектаклей с подслушиванием и подбрасывания филькиных грамот не было — по крайней мере, при мне.
— Росомаха?
— Я тоже не режиссёр Станиславский. Знаю только, что идти по Гертрудинской, громко обсуждая итальянского агента на «Моторе», — довольно странно.
— Горностай?
Енисеев пожал плечами. Видимо, придумать ход, близкий ему, великому любителю театра, было проще всего, а вот всё прочее оказалось сложнее.
Лабрюйер внимательно наблюдал за ним и видел: Енисеев смотрит на Хоря с особым своим прищуром. Что означало: «Мальчик, изворачивайся как умеешь, а я погляжу и посмеюсь...»
— Ресторан Отто Шварца, — сказал Лабрюйер. — Может эта парочка, Феррони и Громштайн, сходить поужинать к Шварцу? Там есть кабинки. Если в соседней с ними кабинке окажемся мы с Хорём и будем обсуждать фальшивого Собаньского, Феррони поймёт, что от него требуется.
— Почему у Шварца, когда у вас есть более удобное место для таких бесед? — спросил Енисеев.
— Потому что мы назначили встречу... ну, допустим, Теодору Рейтерну... или Эрику Шмидту... или хоть Эрнесту Ламберту! В светской обстановке, придумав хороший предлог! И вот сидим, ждём, попутно о своих делах толкуем!..
Тут Лабрюйер замолчал. Енисеев качал головой, да ещё с самым удручённым видом. Вся его худая физиономия говорила: «Чудак ты, Леопард, куда ты лезешь, в твоей хватке никто не сомневался, придумывать должен был мальчишка!»
— Хорь, идея хорошая, но требуется основательная доработка, — сказал Росомаха. — И точный план.
— Да, план, — согласился Лабрюйер. — План операции по дезориентации противника. Давай, Хорь, думай.
— А что мне ещё остаётся? — спросил Хорь. И потом, когда Енисеев и Росомаха ушли, а Лабрюйер засобирался домой, взял «Атом» и пошёл проявлять плёнку, хмуро сказав, что за несложным делом и в одиночестве ему лучше думается.
Наутро Лабрюйер получил фотокарточки с жизнерадостной физиономией Розенцвайга. Вечером он поехал на вокзал и отдал пакет проводнику. Погоня за маньяком продолжалась.
На вокзале Лабрюйер встретил Теодора Рейтерна. Тот провожал двух молодых морских офицеров. Узнав человека, который присутствовал при споре о гидропланах, Рейтерн поклонился. Лабрюйер также ему поклонился. Они ушли с перрона, но встретились на площади, где, как на грех, не случилось ни одного ормана, хотя уже собралось немало желающих выбраться из этого неудобного места в Петербуржский форштадт.
Чтобы попасть на Первый рижский вокзал, откуда уходили поезда дальнего следования, с той же Александровской, нужно было брать ормана, и он делал препорядочный крюк, ещё и потому, что городские власти собрались наконец объединить два вокзала, Первый и Туккумский; всё было разрыто и перегорожено; на зиму работы приостановили, но совсем не прекратили. Орманы знали, когда приходят и уходят поезда, теоретически тех, кто привёз опаздывающих пассажиров, должно было собраться у входа, на Гоголевской, немало, а практически — куда-то все подевались.
Наконец появились два, взяли седоков, примчался и третий. Как-то вышло, что к нему разом устремились Лабрюйер и Рейтерн. Обнаружив, что впору ссориться из-за ормана, они посмотрели друг на друга сердито — и вдруг разом рассмеялись.
— Там же два места, — сказал Рейтерн. — Мне одному столько не нужно.
— Да и мне, — ответил Лабрюйер. — Садитесь, я за вами. Ну, до чего договорились господа Калеп и Дыбовский?
— Дыбовский достал финансирование, но считает свою модель идеальной для тех задач, которые ей предстоит выполнять, — ответил Рейтерн. — Я плохо разбираюсь в обводах фюзеляжа и верю на слово, что брезент позволит увеличить скорость, моё дело — мотор. А Гаккель ещё дважды приезжал, спорил с Дыбовским. Но Военному министерству виднее.
— Мне понравилась модель Гаккеля. Она такая, как бы сказать... элегантная!
— Да, красивая. Честно говоря, его гидроплан на самом деле первый. И «Гаккели» хорошо себя показали — «Гаккель-седьмой» даже военное ведомство купило за восемь тысяч рублей.
— Ого!
— А вы думали, авиация — дешёвое дело? Тут не то что о больших — об огромных деньгах речь. Я не очень понимаю дирекцию «Руссо-Балта». Раз уж Гаккеля взяли туда трудиться в авиационном отделении, раз уж построили гидроплан — надо было его и дальше продвигать. А он у них стоит на заднем дворе, и хорошо ещё, если под навесом. Как-то это нерасчётливо и непрактично.
— Да, они могли получить заказ от Военного министерства.
— Может быть, они уже попробовали этот гидроплан в деле и обнаружили в конструкции неполадки?
— Тогда бы Гаккель вёл себя иначе. Он ведь принёс модель именно того гидроплана, что построен на «Руссо-Балте»?
— Я в этом уже не уверен.
Они толковали о моделях, причём Рейтерн терпеливо объяснял Лабрюйеру все непонятные слова, пока орман не привёз их на Александровскую.
— Я еду дальше, хочу ещё визит нанести, — сказал Рейтерн. — Спрячьте кошелёк. Могу же я подвезти вас просто по дружбе, как человека, которому тоже интересна авиация?
— Приходите ко мне в «фотографию», сестрицу приводите! — пригласил Лабрюйер. — И невесту, если у вас уже есть невеста.
На том и расстались.
Беседа несколько озадачила Лабрюйера. Теодор Рейтерн ему понравился — спокойный, приятный в общении, увлечённый своим делом человек, вдобавок — с располагающей внешностью. Он был похож на отца — такое же крупное лицо, правильные черты, густые волосы, только у старого Рейтерна лицо уже обвисло и волосы поседели. А вот на человека, способного выносить смертные приговоры, он похож не был...
Видимо, в списке студентов, бывавших в проклятом комитете, против фамилии Рейтерна следовало поставить вопросительный знак.
Прибыв в «фотографию», Лабрюйер заглянул к Хорю в лабораторию. Тот был сильно не в духе.
— Должна быть ещё одна возможность разыграть эту карту! — заявил Хорь. — Я её пока не вижу, но я её найду!
Лабрюйер сразу понял, о чём речь.
— То есть ты не желаешь ломать комедию с Феррони и его дружком?
— Совершенно не желаю!
— Только потому, что это предложил Горностай?
— Ну... в общем... и это тоже... Если бы предложил ты... Впрочем, нет! Такие вещи я должен придумывать сам! — заявил Хорь. — Ты же видишь — он меня дразнит!
— Тебе его так просто не переиграть.
— Сам знаю!
Лабрюйер задумался.
— Хорошо, оставим в покое Феррони. Сама идея заставить разбираться с самозванцем Эвиденцбюро — хорошая?
— Это называется «каштаны из огня».
— Какие каштаны?
— Это французская поговорка. Мы басню Лафонтена в корпусе учили, называется «Обезьяна и кот». Обезьяна приспособила кота, чтобы таскал для неё печёные каштаны из золы.
Оттуда и поговорка. Но, знаешь, это хорошо, чтобы вывести фальшивого Собаньского из игры. Но с кем этот самозванец связан, кому передаёт сведения — мы не узнаем уже никогда.
— Или узнаем — когда доберёмся до голубчиков из Эвиденцбюро. Они и расскажут. Или ты не веришь, что мы их изловим?
Хорь рассмеялся.
— Должны изловить!
— Ну так думай. Я за тебя изобретать план не собираюсь. Сам справишься.
Хорь вытащил из кюветы с проявителем карточку и внимательно изучил её.
— Пожалуй, можно в закрепитель. Справлюсь... Справлюсь!
— Давай-ка, заканчивай работу и пойдём домой.
— Да... Погоди... Напомни мне, кто у нас подозреваемые.
— Эрик Шмидт, Теодор Рейтерн, Феликс Розенцвайг. Племянник Краузе — Эрнест Ламберт. Есть ещё актёр Берзинь — он тоже состоял в Федеративном комитете.
— Надо поискать Берзиня. Актёр вполне может оказаться любовником чьей-то жены и получать сведения через неё. Сомнительно, да! Но проверить надо. И Ламберт, о котором мы знаем очень мало.
— Только то, что племянник.
— Шмидт — на «Унионе», Розенцвайг — на «Фениксе», Рейтерн — на «Моторе»...
— А сведения идут отовсюду? Это точно?
— Будем исходить, что отовсюду.
— Шмидта, думаю, можно вычеркнуть — он любовник Луговской. Она вряд ли завела бы любовника, от которого нет практической пользы. Наверно, это её единственная возможность узнавать о заказах, размещённых на «Унионе», — сказал Лабрюйер. — Остаются трое. И мне что-то всё больше кажется подозрительным Розенцвайг.
— Отчего не Рейтерн?
— Не знаю. Они оба не похожи на людей, на чьей совести — десятки убитых. Но Розенцвайг...
— Ты продолжаешь ловить маньяка?
— Да. Полицейский во мне неистребим...
— Займись Ламбертом. Это... это приказ.
— Займусь.
— И нужно откопать Берзиня. Это тоже приказ.
— Будет сделано. Только не ранее понедельника.
— Хорошо.
— А я придумаю, как быть с фальшивым Собаньским. И расскажу тебе.
Это означало: «На тебе, Леопард, я проверю свой план, прежде чем ошарашивать им Горностая».
— Хорошо.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
В воскресенье они отдыхали. Закрыв заведение пораньше, отправились в «Гранд-кино». Это заведение было открыто незадолго до Рождества на Романовской, в двух шагах от перекрёстка с Мариинской. Там можно было посмотреть серьёзный фильм «Оборона Севастополя». От мелодрам со страдающими красавицами и роковыми красавцами Лабрюйер и Хорь наотрез отказались.
Поздно вечером к Лабрюйеру нагрянул Росомаха.
— Нашёл я эту синюю колымагу, — сказал он. — Но тут такое дело — её не нанимают, шофёр неместный. Буду разбираться дальше. Единственное, что удалось узнать точно, — её видали в Кайзервальде. Думаю, что смогу определить, где она там бывает.
— Пошли к Хорю. Тебе понадобится помощь Акимыча.
— Пошли, только... В каком он настроении?
— Он думает. Я и не догадывался, что думать — так мучительно. Погоди...
Лабрюйер наконец выполнил обещание и натянул проволоку между своим окошком и окошком Хоря. С обеих сторон были приспособлены маленькие бубенчики. Теперь можно было предупреждать о визите.
Хорь принял гостей в каком-то загадочном состоянии духа — то и дело посмеивался. Наконец выяснилось — он придумал план.
— Вся нагрузка ляжет на тебя, Леопард, — сказал он. — Ты знаком с Калепом, тебе несложно попасть на «Мотор» и отыскать там нашего самозванца. А потом... Скажи, приходилось ли тебе когда устраивать скандалы?
— Вроде бы нет.
— Но придётся. Нужно устроить так, чтобы твоя встреча с Собаньским состоялась в присутствии инженеров, лучше всего — Рейтерна. Ты отведёшь его в сторонку и скажешь, что лично знаком с настоящим Собаньским, а этого господина встречал раньше, во время своей полицейской карьеры. При необходимости ты поднимешь шум — для чего этот человек изображает провинциального гения, и не замышляет ли он какую-то эпохальную кражу? Надо, чтобы Рейтерн понял — самозванец собирает сведения.
— Но если Рейтерн тут ни при чём?
— Он дружит с Розенцвайгом. Ты скажешь ему прямо: нужно убедиться, что фальшивый Собаньский не изображает изобретателя и на «Фениксе». То есть мы натравим на него уже двоих.
— Но если Калеп вызовет полицию?
— Ну так полиция заберёт самозванца для выяснения его личности. А поскольку на его совести наверняка убийство настоящего Собаньского, то по крайней мере от одного подлеца мы избавимся.
— И упустим каналы его связи с итальянским начальством, — вставил Росомаха. — Нет, арестовывать его нельзя, а спугнуть и затем прицепить к нему хвост можно. Погоди, Леопард, выполнять этот приказ. Сперва нужно подготовить агентов. Но нужно подумать — как пустить по следу этого Собаньского господ из Эвиденцбюро. Мы пока знаем, что на них работают Луговская и Петерсон.
— Кто?
— Тот хилый господин живёт на Виндавской под именем Петерсона. Но их же не двое! Наверняка есть кто-то, кого мы ещё не заметили. Шофёр синего «Руссо-Балта», например.
— И сгинувшая непонятно куда госпожа Крамер, — добавил Хорь. — Очень странная история с этой госпожой Крамер. И наверняка есть кто-то ещё. Но, господа, нападение на самозванца вы одобряете?
— Да, — сказал Лабрюйер. — И я завтра же подготовлю это нападение...
— Погоди ты. Я завтра ещё не буду готов, Акимыч тоже, твоего Фирста нужно предупредить, — ответил Росомаха. — Хорь, тут всё нужно хорошенько продумать, это твоя забота.
— Не наняться ли мне в пономари? В Александроневской церкви пономарь требуется... — Хорь вздохнул. — Ладно, утро вечера мудренее.
Но утро преподнесло новые сюрпризы.
Хорь ушёл выслеживать учительницу итальянского вокала и пропал. Казалось бы, задача для одного агента — засесть напротив дома, где живут Минни и Вилли, подождать прихода пожилой дамы, затем дождаться её ухода и топтать за ней землю, пока хоть что-то не станет понятно. Музыкальный урок длится час, при особом энтузиазме — полтора. Прогулка вслед за пожилой дамой — вряд ли более двух часов. То есть в три часа пополудни Хорю уже следовало бы дать о себе знать. Но он и в пять не появился.
Лабрюйер забеспокоился.
Он связался с Линдером и попросил свежую сводку событий по городу. В качестве ориентира дал Елизаветинскую.
— Драка была на Елизаветинской, — сразу сказал Линдер. — Сцепились двое, да так, что толпа собралась — на них смотреть. Один сбежал, другого городовой с околоточным надзирателем, который там случайно оказался, в участок доставили.
— Так он в участке сидит?
— Вот этого я не знаю.
— Сделай милость, узнай!
Через полчаса выяснилось — беспаспортный драчун сидит, молчит, время от времени требует, чтобы пустили к телефонному аппарату, но его не пускают.
— Чёрт возьми... — пробормотал Лабрюйер.
У Хоря были только фальшивые документы, которые ему в столице выправили на имя Каролины Менгель. Идти с ними вызволять драчуна, право же, не стоило.
Времени было уже немало — около полуночи, когда с чёрного хода в «фотографию» явился Хорь. Вид у него был вполне соответствующий драке, — рукав полушубка держится на честном слове, левый глаз пытается глядеть из чёрного пятна.
— Сбежал из участка? — догадался Лабрюйер.
— Сбежал...
— Правильно сделал. Тебя особо искать не станут — мало ли драк случается, на всех буянов тюремных камер не напасёшься.
— Всё так запуталось — ни черта не понять!
— Что именно?
— Помнишь фотокарточки, на которых Маша Урманцева и гувернантка? Похоже, в этом благородном семействе была ещё какая-то девица, о которой все умалчивают!
Хорь, одетый очень просто, да ещё прилепивший себе бородёнку, околачивался на Елизаветинской в ожидании оперной учительницы. Ровно в одиннадцать её ещё не было. В четверть двенадцатого она появилась и вошла в дом. Хорь обрадовался и решил было, что у него по меньшей мере час времени, пока отзвучат итальянские арии. Но в ближайший трактир он не пошёл, а устроил себе прогулку но окрестностям, время от времени возвращаясь к нужным дверям. Так он и обнаружил, что на Лазаретную улицу въехал и остановился автомобиль тёмно-синего цвета.
Водить автомобиль Хорь умел, а вот всех марок не знал, да и как их знать — автомобилей в последнее время появилось великое множество. Он подошёл поближе и разглядел фигурку на капоте — двуглавого орла. Похоже, это был тот самый « Руссо-Балт», за которым гонялся Росомаха.
У Хоря возникло бешеное желание раздвоиться, чтобы одновременно следить и за дверью дома, в котором Минни и Вилли обучаются вокалу, и за колымагой. Но оказалось, что незачем: «Руссо-Балт» модели «С-24» с кузовом «лимузин» медленно проехал мимо Хоря к заветным дверям. За рулём сидела дама в шофёрских очках, рядом с ней — верзила без очков. Хорь пригляделся и опознал блондинку Луговскую.
Автомобиль остановился, верзила вышел, оставив дверцу открытой. Теперь Хорь убедился — действительно, Луговская. Верзила же вошёл в дом.
Чтобы не привлекать к себе внимания блондинки, Хорь перешёл на другую сторону улицы. Сперва он не слишком удивился тому, что из дома вышла госпожа Лемберг и с трудом забралась на заднее сиденье автомобиля. Затем появился верзила с саквояжем и чемоданом, что тоже не показалось странным: такие детины и созданы для переноски тяжестей. Он устроил саквояж и чемодан в автомобиле на полу. Потом он, подождав немного, вернулся в дом и вскоре вышел с Вилли. Он вёл девушку под руку, а она, не глядя себе под ноги, шла, повернувшись и задрав голову, делая знаки тому, кто наблюдал за ней из окна третьего этажа.
Личико Вилли было взволнованным, даже испуганным.
Хорь уже вообще ничего не понимал. На долю секунды девушка скрылась из виду, Хорь подбежал поближе и увидел, что верзила её подсаживает на переднее сиденье, а Луговская протягивает ей руку, как знакомой.
Если верить Хорю, он не пытался выдернуть девушку из автомобиля, он всего лишь нечаянно поехал по ледяной лепёшке, которую нерадивый дворник не присыпал ни песком, ни золой, и оказался чересчур близко к автомобилю. Опять же, если ему верить, он ни слова не сказал Вилли, но верзила отчего-то встревожился и замахнулся на него. Как началась драка, Лабрюйер не понял. Зато понял, чем она кончилась. Раздался оглушительный свисток городового, непонятно откуда возник околоточный надзиратель. Видимо, из чувства самосохранения они не тронули верзилу, а вцепились в Хоря. Верзила исчез, а автомобиль отбыл ещё раньше, в самом начале драки.
— Говорил я тебе, что с этой Вилли дело неладно, — проворчал Лабрюйер. — Думаю, с Минни тоже. Жаль, Росомаха не знал, о чём на самом деле нужно расспрашивать соседскую прислугу! Вот что мы знаем о милых барышнях, кроме того, что они обожают оперу? И какой смысл в этой любви к опере? Если барышни — подчинённые Луговской, то ещё можно понять их поиски итальянца или итальянки, но совершенно непонятно, почему они прекратили поиски и стали брать уроки у Лемберг, которая тоже явно в подчинении у Луговской?
— Я не знаю, — ответил Хорь. — Где бы взять свинцовую примочку? В таком виде меня нельзя выпускать к клиентам.
— Чёрт с ними, с клиентами! Ян сам справится!
На следующий день Хорь отсиживался дома, а Лабрюйер трудился в фотографическом заведении и ждал — не появится ли Енисеев с новостями. В свободную минуту он усадил перед собой Яна и спросил, что тот знает об актёрах-латышах. Оказалось, парень лично ни с кем не знаком и о лицедеях, подвизавшихся на сцене ещё до беспорядков, не знает решительно ничего. Но его школьный преподаватель словесности, образованный на русский лад латыш по фамилии Плауде, был великий театрал, и Лабрюйер отправил Яна узнавать про актёра Рихарда Берзиня. Яну повезло — он в тот же день встретил старика, и тот сообщил, что на Берзиня надежды мало. Сам Плауде 26 августа 1906 года был в театре на вечере в честь этого самого Берзиня, и там его чуть ли не на сцене арестовали. В январе 1907 года его освободили из тюрьмы под немалый денежный залог, а вот кто внёс залог — неизвестно. Деньги эти так и пропали, потому что Рихард Берзинь без зазрения совести тут же удрал за границу и более в Риге не появлялся.
— Залог мог внести тот, кому невыгодно, чтобы Берзинь раскрыл рот, — сказал Лабрюйер Хорю, навестив его вечером. — И мог он это сделать через третье лицо.
— Шмидт, Рейтерн, Розенцвайг, Ламберт... — пробормотал Хорь.
— Думаю, что Рейтерн. Он из богатой семьи.
— И Розенцвайг не нищий, если имеет яхту.
— Ламберт мог неплохо поживиться после расстрела Энгельгардта. Всё-таки он помог доброму дядюшке Краузе наложить лапу на деньги Энгельгардта. А Шмидт?
— Про него нужно спрашивать Горностая! Ох, не дай бог, притащится, а я в таком виде!
— Я тебя прикрою, — пообещал Лабрюйер. — А ты сиди и думай, как быть с фальшивым Собаньским.
— Собаньский должен стать наживкой на крючке, чтобы к нему протянуло лапку Эвиденцбюро. Но как?..
— Я могу устроить на «Моторе» скандал и разоблачить Собаньского. Но это будет скандал для одного зрителя — Рейтерна. Шмидт и Розенцвайг узнают об этом, когда Собаньский будет уже в каталажке. А три скандала в один день и с одной примадонной — извини, Хорь, это человеку не под силу...
— Мне нужен Росомаха.
— Это уж само собой!
Лабрюйер понимал — Хорь страстно жаждет понять, что за игру ведёт Вилли. А зацепок пока три — дом на Нейбургской, где живёт Луговская, дом на Виндавской, где живёт Петерсон, и синий «Руссо-Балт» модели «С-24».
И Лабрюйеру было даже любопытно — не треснет ли голова неопытного командира от такого количества разнообразных следов и странных событий.
— Знаешь что? — осторожно сказал он. — А не доложить ли тебе начальству о Собаньском? Не сказать ли правду — так, мол, и так, не знаю, можно ли вообще эту карту разыграть с пользой для дела?
— Доложить-то можно. А что обо мне подумают?
— Подумают, что ты — человек на своём месте. Умеешь командовать и умеешь подчиняться. Знаешь пределы своих возможностей. Беспредельному человеку, вообще-то, место на Александровских высотах...
И Лабрюйер опять вспомнил Андрея Кляву.
Клява оказался слаб, его душа не выдержала натиска многих людей, внушавших ему, будто он — убийца. Но Клява изначально умён, иначе не поступил бы в политехникум. И он до последнего надеялся, что ситуация как-то разъяснится и он сможет вернуться к занятиям — вон, даже учебники взял с собой в карцер и в камеру...
Хорь сидел, опустив голову, и вертел в руках ножницы.
— Хорь, это не поражение, — сказал Лабрюйер. — Понимаешь? Это даже отчасти победа — итальянца-то мы раскусили.
Он ждал, что на это ответит Хорь и не сделает ли попытку приписать всему руководимому им отряду личное достижение Леопарда. Склонность к таким затеям у него имелась.
— Я доложу, что ты раскрыл итальянского агента, — подумав, ответил Хорь.
Лабрюйер усмехнулся — дитятко уже начинает понимать, что не бывает победы любой ценой. Но её неизвестно, что оно, нещечко с фонарём под глазом, на самом деле напишет в донесении.
— Пойду я, пожалуй. Спокойной ночи, Хорь.
— Какая там спокойная... Мне ещё сочинительством заниматься.
На следующий день Хорь рано утром, ещё в потёмках, прибежал в фотографическое заведение, чтобы продиктовать по телефону своё донесение стенографисту. Показываться в таком виде семейству Круминей он не желал. Лабрюйер встретил его, когда он возвращался обратно, и вразумил: можно же наложить на глаз повязку и сочинить какое-нибудь хитрое глазное заболевание.
— Я болван, — ответил на это Хорь. — Матерь Божья, какой же я болван!
— А что такое?
— У меня нет бинтов! Нет, ты можешь это себе представить? У меня нет бинтов! Нет, ты это можешь...
— Значит, ты сейчас прикажешь подчинённому сбегать в аптеку и принести бинты! — сурово оборвал его Лабрюйер.
И, не дожидаясь приказа, повернулся и пошёл к ближайшей аптеке на углу Александровской и Столбовой.
Ему было смешно — в самом деле, отряд должен иметь всё медицинское хозяйство. Выходит, отряд состоит из пятерых разгильдяев. Нет, из четырёх — Енисеев, самый опытный из всех, знал, что бинты, йод, вата, свинцовая примочка, морфий рано или поздно понадобятся. Стало быть, хотел, чтобы Хорь набил очередную шишку, но это уж чересчур — речь идёт о здоровье людей, а может, и о жизни...
Накладывать повязки Лабрюйеру доводилось. Тут была самая несложная, а его как-то обучили даже делать «шапочку Гиппократа». Хорь долго вертелся перед зеркалом, натягивая парик так, чтобы прядь как можно ниже спускалась на забинтованный глаз. В «фотографии» он засел в лаборатории, а в салоне не появлялся.
На следующий день Лабрюйер заспался и пришёл в «фотографию» позже всех.
— Я принял телефонограмму для тебя, — сказал Хорь Лабрюйеру. — Вот. Читай. Она длинная, а смысл такой: «Лизетту» в Выборге опознали, она швартовалась там примерно в то же время, когда пропала девочка. А вот рожу Розенцвайга не опознали. Согласись, физиономия у него приметная, такие кудряши не каждый день попадаются.
Лабрюйер молча прочёл телефонограмму.
— Сидел в каюте и не высовывался, что ли? — спросил он. — Или даже вовсе не добрался до Выборга, а ждал где-нибудь в Котке. Тогда, значит, сидел там в гостинице и ждал добычи. Хорь, не удивляйся — ему могли поймать девочку в соответствии с его вкусами. Значит, нужно связаться с Коткой. Это — раз. Два — узнать, кто нанимался на «Лизетту» матросом.
— Хочешь сказать, что он нанял какого-то подлеца?
— Похоже на то. Или даже двух. Нам опять нужен Пича.
— Хочешь послать его на Кипенхольм?
— Он там с кем-то подружился. А пользоваться «Атомом» мы его обучили. Ян! Эй, Ян! Сбегай, позови братца!
Пича сидел дома и делал уроки. Он примчался, безмерно благодарный, что спасли от тетрадок и присмотра строгой матушки.
— Хочешь опять съездить на Кипенхольм? — спросил Лабрюйер. — Возьми с собой Кристапа, вдвоём ехать веселее. И «Атом» я тебе дам. А дело будет такое — отыскать того парня, у которого на дворе зимует «Лизетта»...
— Это Матис Витинь!
— И узнать, кого из островитян нанимали матросом на эту «Лизетту». Чтобы ему приятнее было помогать, потрать на него пару кадров. Пусть позирует на фоне «Лизетгы». Обо всём его расспросите. Но сами с тем матросом не встречайтесь. Просто запомните имя, а потом запишите. Это надо сделать быстро, так что в школу завтра не пойдёшь.
— Господин Гроссмайстер, Матис уже служит в Балластном порту, помогает на дровяном складе. Днём он, наверно, занят.
— Ну, значит, найдите его на складе, там изведите пару кадров. С орманом я рассчитаюсь сам, а это — вам с Кристапом, — Лабрюйер вручил Пиче два гривенника.
Потом он поехал на трамвае искать Мартина Скую. Возле Немецкого театра ормана не было, но его товарищи обещали передать, чтобы немедленно мчался в «Рижскую фотографию господина Лабрюйера». Скуя прибыл вечером и получил задание: утром увезти мальчишек, днём привезти, а пока они носятся по Кипенхольму, съездить к тёще, разведать — что там творится в доме, где живёт дочка покойного Лемана.
— Леопард, твоя погоня за маньяком из тебя самого скоро сделает маньяка, — сказал Хорь.
— Может быть, — согласился Лабрюйер. — Но я уже не могу перестать. И, в конце концов, велики шансы, что Эвиденцбюро получает сведения от Розенцвайга. Он же и на «Моторе» бывает, и на «Унионе» у него наверняка служат бывшие однокашники.
— Ты думаешь, что этот херувимчик и в расстрелах замешан, и девочек убивал?
— Почему бы нет? Убийца — это... Хорь, я их повидал больше, чем ты... Это не совсем человек. Я видел женщин-убийц — одна была редкая красавица, тонкая, изящная, прямо статуэтка. Я видел мальчика, лет четырнадцати, который убил двух младших братьев. В гимназии был первым учеником в классе... Убийца — не обязательно небритый детина, который скалится, как шимпанзе, и показывает клыки. Феликс Розенцвайг может оказаться большим любителем предсмертных судорог...
Четверть часа спустя объявился Росомаха — телефонным образом.
— Я отыскал синий «Руссо-Балт», — сказал он. — В Кайзервальде. Я нашёл место, где он стоит, пока им не пользуются. Это недалеко от складов джутовой мануфактуры.
— Ты молодец! — воскликнул Хорь. — Но почему там?
— Вот на этот вопрос я и пытаюсь ответить. Акимыч ведёт наблюдение за Шмидтом. Этот Шмидт живёт в самом конце Суворовской улицы, чуть ли не напротив монастыря. Розенцвайг, кстати, живёт на Деритской улице — примерно там, где она упирается в Ревельскую. Нашли и жилище Рейтерна — на углу Мариинской и Малой Невской.
— Луговская и Петерсон — в Задвинье, Розенцвайг и Шмидт — неподалёку от мест службы, Рейтерн — на Мариинской. Кто же в Кайзервальде поселился, будь он неладен?!
— Хорь, погоди, не вопи, — одёрнул командира Лабрюйер, державший возле уха отводную трубку. — Прикажи Горностаю — пусть узнает о родителях наших красавцев. Они в таком возрасте, что родители ещё живы. У Рейтерна — так уж точно. Где-то же они живут.
Он говорил так, чтобы его слышал и Росомаха.
— Росомаха, загляни вечером к Горностаю, объясни ему задачу, — сказал Хорь. — И напомни, что нам нужен Эрнест Ламберт. И попробуй понять, что там, у мануфактуры, делает этот синий «Руссо-Балт».
— Хорошо. До связи.
Утром мальчишек снарядили в экспедицию и предупредили — если из-за «Атома» возникнет драка, обоим достанется на орехи, а фотографический аппарат они будут видеть только издали.
Днём Лабрюйер принял телефонограмму из Осведомительного агентства. Она была предельно лаконична: «Мнимого Собаньского взять и сдать в полицию по подозрению в убийстве».
— Это значит, что он нужен в столице, — сказал Хорь. — Вот и всё. У них свои планы, а вся наша суета — коту под хвост.
— Обидно?
— Да... И — нет. Веришь ли — мне уже во сне всё это снилось! Как мы сидим и изобретаем возможности использования Собаньского. Значит, не понравилась наверху моя идея сделать из него наживку...
Лабрюйер прекрасно помнил, чья это идея, но спорить не стал. Есть вещь, которые в юном существе способно истребить только время.
— Столько времени потрачено, — вот и всё, что он сказал. — Ну, значит, привлекаем к делу Калепа. Ведь этот подлец не каждый день на заводе околачивается. Я свяжусь с Калепом, объясню ему положение дел, пусть заманит к себе этого изобретателя, а сам телефонирует нам.
— Нужно будет держать наготове Вилли Мюллера, чтобы сразу туда помчаться.
— А по дороге захватить Линдера, Горнфельда или того из инспекторов, кто будет свободен. Я сам свяжусь с ними.
— И пусть возьмут с собой наручники. Неизвестно, чего от этого подлеца ожидать.
Разговор с Линдером вышел забавный: в самом деле, трудно расследовать убийство, когда нет трупа; может, подлинный Собаньский всё-таки жив и где-то прячется; мог же он, допустим, просто продать богатому господину свои чертежи? Или же чертежи похищены, что, конечно, плохо, но с убийством несопоставимо.
— Главное — обвинить этого человека в убийстве, а потом действовать по приказу из столицы, — сказал Лабрюйер. — Если нужно, будет телеграмма из столицы.
Пока договаривались о телеграмме, прибыли Пича и Кристап. Скуя не только высадил их на Гертрудинской, но и сам привёл — чтобы все видели, как он понимает ответственность.
На два голоса мальчишки сообщили — два гривенника потрачены на конфеты, Матис Витинь запечатлён, но насчёт матросов с «Лизетты» — дело тёмное. Раньше, очень давно, нанимали Кришьяниса Лиепу, но теперь этот Кришьянис — старый дед, в море не выходит. Матис знает двух матросов, которые занимаются «Лизеттой» и ходят на ней, но они — неместные. Одного зовут Герц, другого — Франк, а имена это, фамилии или вообще клички — Матису неизвестно. Оба по возрасту ему в отцы годятся, оба — явно из тех опытных моряков, что полсвета обошли, угомонились и бросили якорь в тихом месте. Дружбы с Витинем-старшим у них не получилось, он их терпит, потому что ему платят. И ни с кем из островитян они не подружились, разве что, может, в яхтклубе нашли себе приятелей.
— Среди этих старых моряков такие типы иногда попадаются — каторга по ним плачет, — сказал Лабрюйер Хорю. — Съезжу-ка я к Андрею. Он много сомнительной моряцкой публики в лицо знает. Мартин, теперь твоя очередь. Что там с дочкой Лемана?
— Совсем непонятно. Сперва все дети куда-то съехали, потом и она с мужем. Жили у них в доме два крепких парня — уже и этих нет, а за домом смотрит дворник Озолс, он там сына с молодой женой пока что поселил. Ну, жильцы на месте, никто их не трогает...
— Они чего-то сильно боятся, — сказал Хорь. — Видимо, старый Леман слишком много знал.
— Мартин, сейчас повезёшь меня к Андрею. Жаль, что будочников ещё не снабдили телефонными аппаратами... — и Лабрюйер пошёл одеваться.
Андрей был рад визиту и сразу сказал: да, Герц и Франк ему лет двадцать как знакомы, но в Московском форштадте появляются теперь редко, нанялись в яхт-клуб, что на Штинтзее, там причалы, принадлежащие Императорскому яхт-клубу, и какие-то дома — тоже его собственность. И чего им там, в Кайзервальде, не жить — в тишине, в покое, зимой — яхты на стапелях караулить, подлёдным ловом баловаться, ходить на охоту, летом — катать дам и господ по красивому озеру, из которого через Мюльграбен можно выйти на Двину и дальше — в залив? Ещё он сказал, что в молодости оба были буянами, но как подошло к пятидесяти — не то чтобы смирились, но научились не ввязываться в первую попавшуюся драку.
Лабрюйер записал приметы обоих моряков: Герц повыше, Франк пониже, оба — с особенными «шкиперскими» бородками, окаймляющими лицо, и бородки уже с порядочной проседью, у Герца левое ухо рваное, у Франка нос кривой — видно, не в одной драке с кулаком рандеву было, а на левой ноздре сидит большая бородавка.
Теперь оставалось совсем немного — узнать, где в Кайзервальде дача Розенцвайга.
Это Хорь поручил Енисееву и очень скоро получил ответ: нет там у него никакой дачи, да и не предвидится, потому что на дачу в таком аристократическом месте у него просто нет денег. Да и не нужна она ему — вот яхта нужна, мотоцикл нужен. Разве что женится и заведёт детишек — тогда задумается о даче.
— Как-то все ниточки тянутся к Кайзервальду, — сказал Хорь. — Похоже, пора нам самим туда наведаться. Ты умеешь бегать на лыжах?
— Не доводилось.
— Тогда я сам с Росомахой отправлюсь, я-то умею, он — тоже. Скажу ему купить лыжи...
— Лыжи-то на что?
— Там лес, Леопард, ты же сам меня за картой посылал, я посмотрел. Все эти виллы и новомодные коттеджи стоят, можно сказать, в лесу, а по берегам озера — небольшие усадьбы, как раз у джутовой мануфактуры — Нейхоф. Там удобнее всего пробежаться на лыжах, и по лесу, и по берегу, и всё посмотреть, а если придётся кого-то догонять — так хоть не по колено в снегу.
Лабрюйер задумался. Был в его жизни случай, когда пришлось преследовать компанию налётчиков почти что по колено в снегу, и тогда лыжи действительно пригодились бы.
— Ты прав, — сказал он. — Нужно будет и мне поучиться.
— Невелика наука. Ты ведь не дохляк какой-нибудь, просто встанешь на лыжи и побежишь.
Лабрюйер вздохнул — дохляком-то он не был, но фунтов двадцать лишнего веса на себе таскал.
Вечером пришёл Акимыч.
— Горностай случайно на след Ламберта напал, я проверил — он самый. Был в пятом году студентом...
— А теперь на каком заводе?
— На заводе?! — Барсук расхохотался. — Хорь, там такое дело... даже и выговорить неловко... Он такой доктор, что туда руками лазает...
— Куда — туда?
— Ну — туда, к бабам... такой вот доктор... На это выучился!
— Это называется акушер, — сказал Лабрюйер.
— Кабы акушер! Акушеры — святые люди. А этот бабам выкидыши делал, что ли, и за это его даже судили. Тьфу! Сволочь, и ничего больше!
Лабрюйер вспомнил, как сердито Краузе отзывался о племяннике.
— Ладно, Акимыч, из песни слова не выкинешь, — сказал он. — И чем же теперь этот голубчик промышляет?
— Да всё тем же. Для видимости держит кабинет, где лечит какой-то водицей и белыми шариками. Шарлатанство, да и только. А дамочки туда так и бегают — известно за чем.
— Значит, шарлатана из списка вычёркиваем... — начал было Хорь.
— Нет. Сперва с ним потолкуем. Понимаете, господа — вот и Росомаха не даст соврать! — этот мерзавец Краузе, когда выдавал студентов, заседавших в Федеративном комитете, как-то странновато о них говорил. Давайте-ка проверим эти сведения. Фрейлен Каролина...
— Опять?! — возмутился Хорь.
— Нужно попасть в ту его берлогу, где он оперирует дам.
Акимыч расхохотался.
— Вот не думал, что на старости лет будет так весело служить!
— Акимыч, где этот изверг рода человеческого промышляет? — спросил Лабрюйер.
— Кабинет у него на отшибе, на улице Попова, тихая такая улочка. Я думаю, что и берлога, где он свои мерзости творит, где-то поблизости.
Налёт на тайную медицинскую берлогу отложили — нужно было сперва сбыть с рук фальшивого Собаньского. На это ушло два дня.
Лабрюйер самолично провёл всю операцию и надел на брыкавшегося врага наручники. Калеп, собравший по такому случаю инженеров и конторских служащих, а также мастеров всех цехов, произнёс небольшую речь о посторонних, которым на заводе не место. Сенька Мякишев очень хотел, чтобы ему всенародно объявили благодарность, — не какой-то инженеришка, а помощник кочегара взял да и разоблачил Собаньского. Но Лабрюйер велел ему до поры помалкивать, а премировал из неподотчётных сумм приличными сапогами. Эти сапоги он купил у госпожи Круминь — Ян, парень и без того видный, вдруг внезапно прибавил в росте на вершок, и нога тоже выросла соответственно.
Хорь рвался в лыжный поход. Росомаха уже приобрёл всё необходимое. Но Лабрюйер убедил Хоря, что нужно сперва допросить Ламберта: вдруг вскроется ещё какое-то имя, ещё какая-то важная подробность.
Медицинскую экспедицию наметили на послеобеденное время и вызвали Мартина Скую, но никак не могли выйти из фотографического заведения: то Хорь принимался хохотать, но Лабрюйер, то Акимыч. Это был уже нехороший смех — неудержимый, до слёз из глаз. Лабрюйер, чтобы успокоиться, выпил полграфина кипячёной воды.
— Это нервное, господа, — сказал он, но намёк на нервы ещё больше развеселил Хоря.
Лабрюйер всё понимал — командир устал от постоянного напряжения и противостояния с Енисеевым; хотя Енисеев не слишком надоедал, но Хорь вёл с ним нескончаемую безмолвную внутреннюю войну, а это сильно выматывает.
Акимыч успел обшарить все окрестные дворы и потолковать с дворниками. Он верно предположил, что помещение для противозаконных медицинских манипуляций может иметь запасной выход. И на случай, если Ламберт вздумает сбежать, решил там засесть.
Улочка была короткая и на первый взгляд тихая, но она упиралась в железную дорогу. Днём грохот поездов ещё можно было терпеть, а вот ночью — только воспитав в себе привычку спать без просыпу.
Эрнест Ламберт оказался похож на дядюшку — тоже имел брюшко и нездоровую пухлость физиономии. Лабрюйер невольно вспомнил старого Рейтерна — у того широкое лицо было с мощными складками, хоть из мрамора ваяй, а у Ламберта — как дамский чулок с полной ноги, неплотно набитый манной кашей.
— Господин Ламберт, мы пришли по очень деликатному вопросу, — сказал Лабрюйер. — Дама попала в большую беду. Подруга ей сообщила, что у вас есть средства помочь.
Хорь, чья физиономия была спрятана под густой вуалью, покивал — да, в очень большую беду...
— Я скромный гомеопат, — сказал Ламберт. — Если болезнь дамы входит в список тех, что лечат гомеопатическими средствами, то я готов. Садитесь, сударыня, расскажите о симптомах.
— Даме неловко говорить об этом. Понимаете, беда стряслась, когда супруга не было в Риге, и вот он должен вернуться...
Хорь всхлипнул и сгорбился. Это получилось кстати.
— Есть лекарственные средства, которые действуют на ранних сроках, — прямо сказал Ламберт, — но они не слишком надёжны, может быть потрачено драгоценное время...
— Господин доктор, вам лучше сперва обследовать даму. И тогда уже предлагать метод лечения. Не беспокойтесь, всё будет оплачено, — и Лабрюйер достал бумажник такой толщины, что еле влез во внутренний карман пиджака.
— Тогда обождите здесь, — сказал Ламберт. — А вас, сударыня, прошу следовать за мной.
Дверь, ведущая в тайную медицинскую берлогу, была так артистически оклеена обоями, что Лабрюйер ввек бы не догадался о её существовании.
Хорь и Ламберт вошли, а примерно минуту спустя оттуда донёсся крик Хоря:
— Сюда!
Лабрюйер отворил дверь, пробрался довольно узким коридором и попал в комнатку, едва ли более пятнадцати квадратных аршин. Там были шкаф, стол, какая-то удивительно причудливая, накрытая клеёнкой кровать на высоких ножках, из которой торчали загадочные рукоятки и, кажется, подлокотники. Лабрюйер, не увидев ни Хоря, ни Ламберта, сперва даже испугался, но всего лишь на миг.
Доктор лежал на полу лицом вниз, Хорь буквально сидел на нём, вывернув ему назад руку.
— Будете кричать — сделаю больно, — предупредил Хорь. — Ну, спрашивай.
— Потрудитесь вспомнить, как вы в пятом и шестом годах бывали в Федеративном комитете на Романовской, — холодно сказал Лабрюйер.
— Я, на Романовской?
— Не надо врать. Вы передали донос, написанный вашим дядюшкой Краузе, кому-то из членов комитета, после чего три человека были расстреляны.
— Я ничего не передавал!
— Враньё. Краузе сам рассказал об этом перед тем, как сбежать из Риги. Итак — кому?
Хорь чуть посильнее вывернул Ламберту руку.
— Рихарду Берзиню, и оставьте меня в покое!
— Сейчас всё можно валить на Берзиня, потому что он сбежал. Вы это прекрасно знаете.
— Клянусь, я там только Берзиня и знал!
— И никого больше?
— Никого больше!
— По-моему, опять враньё, — сказал Хорь. — Человек, который, запросто забегает в такое заведение, как этот проклятый комитет, знает там больше одного человека.
— Верно. Итак? Кого из студентов политехникума вы там встречали?
— Там были студенты политехникума, да... Я там видел Розенцвайга, Феликса Розенцвайга...
— Ещё.
— Видел там Эрика Шмидта, он вместе с Розенцвайгом учился, на одном курсе.
— И Теодора Рейтерна?
— Нет, Рейтерна там не было.
— Как это — не было? Краузе утверждал, что он там был.
— Откуда я знаю, что дядюшке померещилось? Я несколько раз бывал в комитете, пока не понял, что это плохо кончится. Тогда я вообще уехал из Риги. Я знал, кто там заседает и подписывает приговоры.
— Шмидт и Розенцвайг?
— Я их там видел. Думаю, они что-то подписывали, — осторожно ответил Ламберт.
— А Теодор Рейтерн?
— По-моему, он сам от них прятался.
Лабрюйер и Хорь переглянулись.
— Итак, заседали и подписывали смертные приговоры Шмидт, Розенцвайг, Рихард Берзинь, ещё какой-то Степанов, ещё — один анархист из Москвы, они его очень уважали... и Фридрих Ротман!
— Не было там Ротмана. Краузе на суде заявил, что видел его там, но он соврал. Кого он выгораживал?
— Был там Ротман! Я сам его там видел!
— И что, он тоже подписывал приговоры?
— Я не знаю...
— Краузе выгораживал вас? Вы тоже заседали в комитете по ночам?
— Нет!
— Краузе выгораживал Рейтерна? Всё-таки сын члена городской управы...
— Говорю же вам — Рейтерн там был, может, раза два.
— Но и это могло пойти ему во вред. Кто дал деньги, чтобы внести залог за Берзиня?
— Шмидт — он землю продал, он в наследство землю получил...
— Значит, его совесть крепко нечиста?
— Откуда я знаю! И там ещё один человек был, тоже из анархистов. Они всё это начали, расстрелы — это их любимое занятие! А потом сбежали!
— Рейтерн деньги для залога не давал?
— Да говорю же вам — Рейтерн не такой дурак, чтобы в эти игры играть! Он всегда о своём будущем беспокоился. Ему же прямая дорога в городскую управу. Это у них наследственное.
— Но имя Рейтерна потом, во время процесса, прозвучало.
— Да там такие процессы были — всех студентов политехникума перебрали, искали, кто привёз шрифты для типографии. На Гертрудинской полиция нашла тайную типографию, там листовки печатали, брошюры. Я думаю, старый Рейтерн его и дочку подальше отправил, где-то они отсиживались.
Как ни ставил Лабрюйер вопросы, Ламберт твердил одно: Розенцвайг и Шмидт были замешаны в тёмных делах комитета, Теодор Рейтерн — нет.
С тем Лабрюйер с Хорём и ушли, пригрозив Ламберту: будет много болтать — неприятности гарантированы.
— Чёрт бы побрал этого Краузе, — сказал Лабрюйер, когда Скуя уже гнал пролётку по Романовской. — Вот чуяло моё сердце...
— Что оно чуяло? — спросил Хорь.
— Знаешь, на допросах иногда бывает — жулик пробует придумать такой ответ, какого ты от него ждёшь. Проклятый Краузе как-то уловил, что мы хотим услышать фамилию Рейтерна.
— Нужно поговорить с Росомахой.
— Нужно. Росомаха теперь где-то в Кайзервальде. По-моему, ему надо там снять на пару недель комнату, чтобы не мотаться взад-вперёд.
— Но что такое может быть в Кайзервальде?
— Мы выследили Луговскую и Петерсона, можно их хоть завтра брать. Но у нас имеются третий и четвёртый агент Эвиденцбюро. Возможно, и пятый. Вилли... Вильгельмину увезли явно в Кайзервальд.
— То есть третий — госпожа Лемберг?
— Четвёртый — госпожа Крамер. Хотел бы я знать, чем она сейчас занимается. Пятый, возможно, главный. Пока мы этого не поймём, мы ничего предпринять не сможем. Он, как подсказывает логика, где-то сидит, не высовываясь, и руководит остальными. Они всюду суют нос, приносят сведения, он как-то эти сведения переправляет в Вену. Вот что — нам нужна женщина. Женщина-агент, которая могла бы ходить по спектаклям и ловить госпожу Лемберг.
— Не только госпожу Лемберг. Не забывай про Минни, Хорь. Что мы про неё знаем? Она — дочка зажиточных господ, настоящая девица на выданье из хорошей семьи, и она с детских лет подруга Вилли, если, конечно, не врёт. Женщина-агент нужна, чтобы познакомиться с Минни. Скажи, у вас, то есть у нас, готовят девиц для таких поручений?
— Используют осведомительниц сыскной полиции. Там попадаются очень милые особы, многие служат не столько ради денег, сколько из интереса — если есть склонность к авантюрам. Я знаю одну подходящую! — вспомнил Хорь. — Представь, актриса провинциального театра...
— Представил, — буркнул Лабрюйер.
— Лет ей тридцать, не замужем — вот как-то ухитрилась не выйти замуж. На главные роли в водевилях не претендует — для ролей хорошеньких девиц уже стара, а для комических старух молода. Она проходила свидетельницей по какому-то делу и обратила на себя внимание самого господина Кошко, когда он служил в столице. Сперва ей давали небольшие поручения, потом... ну, ты сам понимаешь... Она вместе со мной училась фотографии. Вот надо бы её сюда заполучить!
— Ты сильно ею увлёкся?
— Да не так чтобы сильно. Ну, кое-что между нами было, если тебе так уж любопытно. Начальство знало! — Хорь начинал злиться. — Да, когда я о ней подумал, у меня и это было на уме! Да, я хочу, чтобы она приехала! Хотя бы ненадолго!
— Ну так делай запрос, — сказал несколько удивлённый Лабрюйер.
Хорь влюбился в Вилли — это всем в отряде было понятно. Нельзя в двадцать два года ходить невлюблённым — такое не к добру. А вот сейчас ему вдруг загорелось вызвать в Ригу давнюю подругу — решил таким образом вытеснить из сердца Вилли, что ли? Спорить с Хорём Лабрюйер не стал — может, и впрямь другого способа нет. А женщина в отряде нужна — раз уж у противника столько дам. Две пожилые, одна — средних лет, да ещё одна молоденькая, и непонятно, какую роль играет Минни...
Хорь действительно написал, а потом продиктовал стенографисту свой запрос: для оперативной работы с разрабатываемыми объектами необходим агент женского пола. Он перечислил качества: возраст не более тридцати двух, чтобы могла найти общий язык с молодыми девушками, приятная внешность, интеллигентность, хотя бы поверхностное знание музыки.
— Завтра идём изучать Кайзервальд, — сказал Хорь. — Возможно, ты изваляешься в снегу. Так что надевай штаны попрочнее, чтобы не сразу отсырели.
— А обувь?
— Сапоги. Ремённые крепления я тебе сам подгоню. Лыжи уже у Росомахи.
Скуя отвезёт нас к Зоологическому саду, а заберёт два часа спустя у джутовой мануфактуры. Как раз успеем прогуляться мимо всех вилл и этих маленьких усадебок.
— И мимо причалов Императорского яхт-клуба.
— Думаешь, там, на причалах, сидит твой маньяк?
— Я хочу посмотреть на тех, кто их охраняет, и сфотографировать.
— Да, «Атом» мы с собой возьмём, и я даже вот что решил — мы купим второй «Атом». Бинокль тоже может пригодиться. И револьверы!
— А не хочешь ли приобрести для отряда браунинги?
— Нам нужно оружие, которое не даёт осечек.
Зимний Кайзервальд был удивительно хорош, и невысокие ёлочки в белоснежном уборе сразу навели Лабрюйера на мысль о фонах.
— Вот этот пейзаж надо бы снять и отдать нашему мазиле, пусть увеличит, — сказал он.
— Так удобно? Привстань на носки, — ответил Хорь; стоя на корточках, он затягивал ремённое крепление на правом сапоге Лабрюйера.
— По-моему, удобно.
— Вот, гляди, хорошая лыжня. Иди спокойно, спешить нам некуда... гляди!..
Лабрюйер увидел девушку-лыжницу, съезжающую с невысокой горки. Девушка была в очень толстом свитере с высоким воротником и тёплой юбке, а под юбкой — заправленные в ботинки шаровары.
— Красавица, — согласился он.
— Ага. Здесь, я смотрю, многие катаются. Вон, видишь, там ещё лыжня. Ну, с Богом!
Хорь заскользил вперёд — шёл не слишком размашисто, чтобы дать Лабрюйеру возможность освоиться с неуклюжей деревянной обувкой. А Лабрюйер, поняв, что на прямой лыжне грохнуться затруднительно, наслаждался морозным воздухом, имевшим тут, в Кайзервальде, какой-то особенно хмельной вкус. Скорость также радовала — не утомительно, однако быстро Лабрюйер катил по лыжне и, освоившись, стал таращиться по сторонам.
Скоро они вышли к неровным кварталам вилл и коттеджей. Хорь остановился и достал из-за пазухи карту.
— Вот тут пойдём прямиком через лес и выйдем к яхт-клубу, — сказал он, обернувшись. — Полюбуемся на твоих матросиков.
Яхт-клуб выглядел так, словно туда по меньшей мере две недели не ступала нога человека. Не то что запорошенная снегом лыжня или ямы, оставшиеся от сапог или валенок, — вообще никакие следы не вели к длинному молу и двум причалам, к деревянным зданиям, одноэтажному и двухэтажному.
— Ничего себе сторожа... — проворчал Лабрюйер. — Хорь, мне эти домишки не нравятся. Там можно спрятать покойника до весны, а потом спустить его в озеро.
— А что, у нас есть пропавшие покойники?
— Леман и Собаньский — по крайней мере эти.
— Идиотом нужно быть, чтобы тащить труп Лемана через весь город. Да и тело Собаньского нужно искать где-то у Александровских ворот. Или на пустырях за «Унионом».
— Да, идиотом. Но если человека убили совсем рядом... или даже двоих...
— Кому и зачем понадобилось бы убивать Франка и Герца? — сразу сообразил Хорь.
— Тому, кто сообразил, что я уже подобрался совсем близко к маньяку.
— Розенцвайг?
— Слушай, Хорь, ты лучше меня знаешь, что такое зимний лес. У Розенцвайга есть мотоцикл. Легко ли на мотоцикле ездить по снегу?
— Он мог приехать по озеру, прямо по льду... — Хорь задумался. — Там открытое пространство, подует ветер — и унесёт снег, останется только лёд... А вот в лесу, сам видишь, порядочные сугробы...
— Вижу. Кто мог предупредить Розенцвайга?
— Слушай, Леопард, а так ли прост Феррони? Он после той стычки околачивался иногда на Александровской и Гертрудинской, это я точно знаю...
— Ламберт!
— Но Ламберт понятия не имел, что ты гоняешься за маньяком.
— Нужно сесть и вспомнить всех, кто мог бы, следя за мной, об этом догадаться.
— Леопард, ты что-то разволновался. Вот что — и это я как командир говорю! — нужно поискать Франк и Герца. Может, всё не так уж скверно, а они — просто два старых бездельника? По случаю снегопада заперлись поблизости в чьём-то доме, пьют шнапс и закусывают кровяной колбасой?
— Это не просто два старых бездельника. Судя по всему, они выкрали для Розенцвайга ту девочку из Выборга. Но ты прав — нужно убедиться.
— Возвращаемся и ищем хоть какого-то прохожего.
Но они нашли не прохожего, а синий «Руссо-Балт».
Автомобиль стоял у забора дачи, у самых ворот.
— Кто-то приехал ненадолго и скоро уедет, — предположил Лабрюйер. — Ты уверен, что это та самая модель — как там её?
— «С-24». Думаю, да. На этом автомобиле увезли Вильгельмину, — сухо ответил Хорь. — Ну что, садимся в засаду?
— Роем медвежью берлогу? Хорь, тебе не приходилось зимой в засаде сидеть, а мне приходилось. Мы себе всё отморозим до звона. Мы не так одеты, чтобы сидеть в снегу.
— Но что же делать? Нельзя этот автомобиль упускать.
— Кататься кругами и наблюдать издали. На что у нас бинокль?
— Издали! Тут же лес, местность плоская, ни одного холма!
— А как сюда подъехал этот автомобиль? По лесным буеракам? Где-то должна быть прямая дорога, с которой видно эти ворота.
Они выехали на открытое место и увидели эту дорогу — белую и наезженную. Хорь опять достал карту.
— Мы находимся посерёдке между джутовой мануфактурой и яхт-клубом, ближе к мануфактуре, — сказал он. — Вот, посмотри...
— Отходим сюда.
— Отходим...
Они покатили по дороге, то и дело оборачиваясь. Потом Хорь остановился и выпростал из-под полушубка бинокль.
— Отлично видно, — сказал он. — На, погляди.
— Там, за воротами, что-то делается. Люди ходят.
— Дай бинокль! Леопард, там этот чёртов шофёр! Выходит в калитку! Не мешай... он заводит автомобиль, крутит стартер... ага, завёлся! Он садится в автомобиль... Леопард, вышла женщина... Это Лемберг! Они куда-то вместе собрались! Догоняй!..
Бегал на лыжах Хорь отменно. Лабрюйер не столько понёсся, сколько пошлёпал за ним следом. Ему эта история нравилась всё меньше, он остановился, достал из плечевой ремённой петли револьвер и сунул в карман полушубка.
У Хоря хватило ума сойти с дороги и бежать параллельно ей лесом. Лабрюйер видел издали, что автомобиль свернул налево; надо полагать, и Хорь видел сквозь древесные стволы этот манёвр. Можно было только догадываться, насколько он отстал от синего «Руссо-Балта».
Оказалось, дорога неожиданно спускается, и не очень крутой откос был примерно таким, как на Романовской между Александровской и Дерптской; Лабрюйер слыхал от стариков, что холм образовался на месте старого чумного кладбища. Лыжи сами заскользили вниз с неожиданной скоростью, и Лабрюйер, не ожидавший от дороги такого подвоха, сел на зад. Пришлось высвобождать сапоги из креплений, вставать, опять налаживать крепления.
Из-за ёлок раздался свист. Лабрюйер, воевавший с ремнём и пряжкой, посмотрел в ту сторону, не разгибаясь, и увидел физиономию Хоря.
— Сюда... — Хорь сделал знак рукой, и Лабрюйер, стараясь не потерять левую лыжу, вкатился в лес и затормозил о пень.
— Да осторожнее ты! Слушай, я их нагнал! Она вышла из автомобиля возле виллы — ничего не скажешь, знатная вилла! И минуту спустя к калитке подъехала лыжница — не та, что мы видели, другая. Леопард, или я совсем уж умом повредился, или это была Ангелика Рейтерн! Помнишь, я с ней в Латышском обществе познакомился?
— Сестра Теодора Рейтерна?
— Ну да, она! Оказывается, эта любительница оперного пения зимой живёт на вилле в Кайзервальде! Хотел бы я знать, чья это вилла...
— Скорее всего, старого Рейтерна.
— Значит, и он там зимой живёт? И каждый день ездит в городскую управу? Вот тоже удовольствие... Ну, отцепляйся от пня — и покатили!
— Куда ещё покатили?
— К вилле! Нужно понять, что там происходит.
Хорь ловко, не запутавшись в лыжах, развернулся, ударил палками в снег — и понёсся к загадочной вилле, а Лабрюйер неторопливо двинулся следом. Когда он догнал Хоря, тот уже держал у лица «Атом».
— Прямо тебе царские хоромы, — сказал Хорь. — Неплохо живут члены рижской управы...
Серебристо-розовая каменная вилла, стоявшая на пригорке, была трёхэтажная, с высокой крутой крышей, на каждом этаже угловые террасы, отделанные настоящими деревянными кружевами, это если смотреть с фасада. А если подкрасться сзади — то имелась башенка в рыцарском стиле, и при ней маленький каменный бастион, аршина в четыре высотой, на котором летом, должно быть, устраивали званые вечера с танцами. Под бастионом, скорее всего, были какие-то хозяйственные помещения.
— Да, такой дом — дорогое удовольствие, — согласился Лабрюйер. — Но ограда какая-то хлипкая. А автомобиль куда подевался?
— Не знаю... Пока я за тобой бегал, он исчез.
— Может, развернулся и к джутовой мануфактуре колёса направил? Или хотя бы к тем воротам, где он подобрал Лемберг?
— Мы туда вернёмся... — задумчиво сказал Хорь. — Только исследуем окрестности. Мне не нравится, что эта Лемберг подружилась с Гели Рейтерн.
— Может, всё дело в оперных ариях?
— Сомневаюсь. И ты тоже сомневаешься. Ну, пошли, посмотрим, что там на задворках.
На задворках, довольно далеко от виллы, были службы — низкое здание с длинными окнами чуть ли не под самой крышей, в котором Лабрюйер и Хорь опознали конюшню, два сарая. На площадке между сараями двое мужчин пилили уложенное на козлы брёвнышко.
Лабрюйер взял бинокли и пригляделся.
— Порванного уха не вижу под шапкой, бородавки на ноздре тоже не вижу, но бороды — те самые, «шкиперские», — доложил он.
— То есть бороды — единственная примета?
— Боюсь, что так. И если это Франк с Герцем — то всё более или менее сходится. От этой виллы до яхт-клуба рукой подать. Сфотографируй-ка их, Хорь. Покажу Андрею.
— Странно, что они вообще у причалов не показываются.
— Мне тоже странно. Хотя там вроде воровать нечего, но мне рассказывали историю про рижский частокол. Полвека назад у Риги были и бастионы, и равелины, а ещё до того, век назад, наверно, в версте от бастионов с равелинами была частокольная полоса укреплений. Так наши добрые рижане её по ночам растащили на дрова. Как бы здешние рыбаки на причалы не покусились...
— Им же хвороста и всякого бурелома в лесу хватает.
— То бурелом, а то — оструганные доски, в хозяйстве пригодятся. Сделай побольше кадров.
— Далековато эти молодцы...
— Ты же умеешь!
— Ну, постараюсь.
— А потом к джутовой мануфактуре.
— Сперва к тем воротам, откуда вышла Лемберг.
Но ворота оказались заперты, следов синего «Руссо-Балта» Лабрюйер с Хорём не обнаружили, во дворе никого не было, труба над деревянным домом не дымила. Хорь сфотографировал дом дважды.
— Держись, Леопард, — сказал он. — Совсем немного осталось.
Но, когда они прикатили к мануфактуре, Скуй там ещё не было.
— Седока, наверно, подхватил, — решил Лабрюйер. — Ну, подождём.
— Давай пока вокруг мануфактуры покатаемся, — предложил неугомонный Хорь. — Тут же люди работают, расспросим о «Руссо-Балте».
— Не удивлюсь, если и тут разместили военные заказы, — сказал Лабрюйер. — Льняные и джутовые мешки в армейском хозяйстве необходимы — тот же овёс для лошадей возить.
Но работниц мануфактуры они не нашли — женщины трудились в прядильных и ткацких цехах. Только дети под присмотром трёх старух бегали и возились в снегу у самых ворот.
Решив, что старухи в технике не разбираются, Лабрюйер расспросил мальчишек о синем автомобиле. Дети, разумеется, его заметили — и даже сообщили, что он проехал во-он в ту сторону. Если верить карте — к усадьбе Эйхенберг.
Выяснилось также, что за рулём сидел здоровенный дядька — тот, с кем подрался Хорь, — а рядом с ним дедушка. Подробнее мальчишки его описать не смогли: дедушка, и всё тут.
— Нет, в Эйхенберг мы уже не успеваем, — заметил Лабрюйер, который и устал, и малость отравился чистым лесным воздухом; после городской копоти избыток кислорода вызвал лёгкую головную боль.
В конце концов приехал Скуя и забрал лыжников.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Прибыв в «фотографию», а точнее — ворвавшись в служебные помещения с чёрного хода, Хорь сразу взялся проявлять плёнку, а Лабрюйер сел в кресло и понял, что сейчас заснёт, да так заснёт, что свалится на пол — и не почувствует.
Он вытянул ноги, поудобнее пристроил голову — и поплыл...
— Господин Гроссмайстер! — позвал Хорь из лаборатории. — Иди-ка сюда!..
Он показал Лабрюйеру сильно увеличенный фрагмент виллы на отдельном снимке и ткнул пальцем в окошко.
— Мне не мерещится? — спросил он.
— Может, и мерещится. Там такие шторы, что не разобрать.
— Но ведь похоже на решётку?
— Похоже... А чему тут удивляться? Вилла на отшибе, сразу видно — богатая, мало ли кому придёт в голову туда забраться? Сделай ещё один отпечаток, пожалуйста. Это или складки штор, или человек за решёткой.
— Похоже, складки... — неуверенно сказал Хорь. — Я сделаю. Я вытяну этот кадр...
На следующем отпечатке оба разглядели даже очертания женской фигуры.
— Обман зрения? — спросил Лабрюйер. — Или, как денщик поручику сказал...
— Жениться вам, барин, надо! — подхватил Хорь. — Слушай, Леопард, а ты был когда-либо женат?
— Собирался. Не получилось. У меня начались неприятности по службе, и дама сердца решила, что обойдётся без меня.
— Хорошо Росомахе... Вот у него есть дама сердца, я знаю, в Твери живёт, он к ней, когда может, приезжает. Там и сын у него растёт. Наверно, поэтому он такой спокойный — знает, что ждут...
Лабрюйер подумал: «Как странно, собирался жениться на Юлиане, сильно расстроился, когда она отказалась от свадьбы, но с какой непостижимой скоростью эта девушка вылетела из головы?!»
— Наташа, — сказал он, — а ведь я в самом деле чуть не женился, представляешь? Я хотел, чтобы у меня был дом, чтобы жена вечером встречала... чтобы пёсик приносил в зубах домашние туфли... Представляешь — я этого хотел... А сейчас, после всего, что было, я даже не знаю, нужно ли мне это. Вышколенная прислуга тоже может ждать с ужином, а к собакам я совершенно равнодушен...
— Ужинать можно и в ресторане, — ответила издалека Наташа. — И в парке на лавочке, и даже на речном берегу... главное — с кем... с тобой... остальное не имеет значения... и собаки тоже...
— Леопард, ты спишь? — спросил Хорь. — Иди-ка ты в наш закуток, только разуйся.
Это было разумное распоряжение — Лабрюйер рисковал не дойти до своей квартиры, а заснуть посреди улицы стоя и свалиться под колёса или копыта.
Хорь разбудил его в полночь — пришли Енисеев, Росомаха и Барсук.
— Что-то в Кайзервальде затевается, — сказал, услышав про вылазку, Енисеев. — У наших приятелей из Эвиденцбюро там логово. А кто в логове — мы не знаем.
— Оно тут, — Хорь показал пальцем на карте место, откуда госпожа Лемберг поехала к вилле, где жила Гели Рейтерн.
— Акимыч, поброди-ка ты там... Хорь, ничего, что я отдаю распоряжения Акимычу? Мы столько вместе служили, это уже привычка, а бороться с привычкой — всё равно что с плохой погодой...
— То есть зонтиком, — сказал Лабрюйер, чтобы сразу прервать поток красноречия. Хорь рассмеялся.
— А что? — ответил Енисеев. — Чем только меня не били за тридцать лет службы, и от лыжной палки уворачивался, и от граблей. А вот чтобы дама зонтиком — нет, не случалось!
— Акимыч, вот, изучи карту, — Хорь передал ему развёрнутый лист. — Я думаю, что это тут.
— Дача в глубине двора, — добавил Лабрюйер. — Сейчас принесу карточки.
— А вилла — тут, — показал Хорь. — Будь осторожен, Акимыч. Там два матросика, если те, на кого думаем, — драчливые. Вот они — как смог, так и снял, лучше не получилось.
— Насчёт матросиков я завтра разберусь, — пообещал Лабрюйер.
— Ну, Хорь, что у нас получается? — спросил Енисеев.
— Получается, что Лемберг выполняет какие-то поручения Луговской, связанные с семейством Рейтернов. Лемберг при мне познакомилась с Ангеликой Рейтерн, а потом, видимо, им помогла сойтись поближе Вильгельмина...
Он запнулся. И Лабрюйер его понял — наблюдательный отряд до сих пор не знал фамилии Вилли.
— Я бы наконец выяснил, кто родители девицы Минни, — сказал Енисеев. — Если только барышни не врали про своё родство и если только родители — настоящие. Эта квартира на Елизаветинской может оказался подлинным логовом. Я бы узнал, когда её сдали семейству...
— Росомаха, можешь завтра этим заняться? — спросил Хорь.
— Могу. И я бы охотно покатался на лыжах в Кайзервальде. Покажи, Хорь, как там разъезжал этот синий «Руссо-Балт».
Лабрюйер без слов понял, что у Росомахи в голове. Общая вылазка с захватом пленных, настоящий казацкий налёт на загадочную дачу.
— План действий будет таков, — сказал Хорь. — У нас осталось двое подозреваемых в выдаче военных секретов. Это Феликс Розенцвайг и Эрик Шмидт. Оба замешаны в расстрелах мирного населения в 1906 году. Оба как-то выкрутились. Может быть, Краузе лжесвидетельствовал, чтобы выгородить их и племянника, за хорошие деньги. Оба, очевидно, уже не боятся возмездия за те давние грехи, а напрасно... При этом Шмидт — любовник Луговской. Я думаю, его участие в заседаниях Федеративного комитета не так серьёзно, как у Розенцвайга. Иначе Луговской не понадобилось бы делать его своим любовником, а достаточно было припугнуть. Остаётся Розенцвайг. Тем более, что он запросто бывает на «Моторе» и мог там подкупить кого-то из мастеров. Поскольку бюрократизмом господа анархисты не страдали и расстрельные списки в городской архив не сдавали, мы не знаем, сколько жертв на совести Розенцвайга, а вот Эвиденцбюро — знает. То есть требуется помощь полиции. Чтобы одновременно полиция взяла Шмидта, Розенцвайга и Петерсона, а наш отряд — тех, кого удастся захватить в Кайзервальде. Остаются технические вопросы...
— Аллюр три креста, — произнёс Енисеев.
— Да, — согласился Хорь. — Теперь — аллюр три креста. Я завтра свяжусь с начальством, отправлю диспозицию и надеюсь в течение двух-трёх дней получить одобрение. За это время нужно изучить всю географию Кайзервальда и приготовить там опорный пункт, также решить вопросы транспорта и охраны. Росомаха, опорный пункт — на твоей совести. Это должен быть дом, в который можно вселяться и жить, и чтобы всё было в порядке с отоплением. Там будет жить агентесса, которую я попросил у начальства. Без женщины нам к этим дамам — Луговской, Лемберг, Крамер и девицам, — не подобраться. Двор нужен — где оставить транспорт. Ну, ты всё понял.
Росомаха и Барсук склонились над картой и стали водить по ней пальцами.
Лабрюйер смотрел на Хоря с интересом. Он не предполагал, что Хорь умеет говорить так спокойно и строго. Видимо, столичное начальство знало в молодом командире наблюдательного отряда такие качества, которых Лабрюйер ещё не разглядел.
Он невольно взглянул на Енисеева.
Тот во время всей речи Хоря тихонько кивал. И Лабрюйеру показалось, что лицо Горностая как-то погрустнело, даже роскошные усы обвисли больше, чем обычно.
По дороге домой Хорь и Лабрюйер говорили о делах малозначительных — о закупке новой партии бумаги для карточек, об условиях договора с ювелиром Кортом. Дома Лабрюйер разделся, умылся на ночь, лёг, но заснул не сразу. Он перебирал в голове все свои действия начиная с Рождества и соображал — где что осталось недоделанным. А утром он насилу выбрался из постели. Получившие непривычную нагрузку ноги просто отказывались ходить. Еле добравшись до окна, он бубенчиком вызвал к себе Хоря. Тот, узнав про беду, рассмеялся.
— Полежи немного, разотри ноги, потихоньку ходи по комнате, — сказал он. — У твоей хвори есть название — крепатура. Это мышечная боль от внезапной большой нагрузки. Было бы очень хорошо, если бы ты сумел дойти до бани.
— Легко сказать — дойти! Я и с лестницы не спущусь.
— У тебя ведь есть ванна?
— Есть. Но я обычно душ принимаю.
— Так полежи в горячей ванне.
— Я в неё не залезу...
Когда Хорь ушёл, Лабрюйер поплёлся готовить себе ванну.
— Вот, Наташенька, совсем я старый стал, — сказал он, когда со скрипом туда забрался. — На кой тебе такая развалина?
— Я тебя люблю, — ответила Наташа.
— Нужно будет съездить покататься в Шмерльский лес. До операции — чтобы не опозориться. А то я ведь с махонькой горки на заднице съехал... извини...
— Я тебя люблю.
— Да... как-то даже странно... Я научусь. А ты умеешь?
— Умею, милый. Это несложно.
— Насколько я старше тебя?
— На двенадцать лет.
— С одной стороны, мужчина должен быть старше, с другой — многовато.
— Разве это имеет значение, когда любишь?
Лабрюйер вспомнил Юлиану. Она была моложе на шесть лет. Наверно, уже давно замужем, растит детишек — троих, а то и четверых. Муж у неё ходит по струночке, а сама она высохла, подурнела и стала уж до того благовоспитанной и добродетельной, что хоть вешайся...
Воспоминание о бывшей невесте потянуло за собой пейзаж маленького парка у Немецкого театра, где они встречались; затем — вид Тиммова мостика, ведущего к политехникуму; громадное мрачное здание политехникума, занимающее весь квартал; затем — студенческое поверье, что будто бы нельзя подыматься к высоченным дверям по прямо ведущей к ним лесенке, а только по боковым, не то экзаменов не сдашь; откуда только берутся такие глупости; и ведь наверняка Шмидт и Розенцвайг поднимались только по боковым...
От Розенцвайга мысль перескочила к яхте «Лизетта», к Франку с Герцем, к старому городовому Андрею. Нужно было показать ему фотографические карточки, и если опознает матросов — высылать в Выборг. Время поджимало — пока операция Наблюдательного отряда не завершилась, Лабрюйер мог ловить маньяка на казённый счёт, а потом уж — дудки!
В ванне ему действительно полегчало, он выбрался, попил чаю с булками и, никому не докладываясь, пошёл ловить ормана.
Возле дома он повстречал Феррони. Тот еле заметно кивнул. Лабрюйер усмехнулся — бедолага делает вид, будто следит за ним. Сделав жест, означавший «следуйте за мной», Лабрюйер вошёл в бакалейную лавку, Феррони — за ним.
— Скоро ваша служба кончится, — шепнул он. — Донесите кому следует, что меня вызывают в столицу.
— А как я узнал об этом?
— Подслушали мой разговор с мужчиной, который провожал меня из «фотографии» домой. Мужчина высокий, худощавый, с вислыми усами, на нём пальто в чуть заметную клетку, при разговоре помогает себе руками.
— Я его однажды видел.
— Тем лучше. Что-то же вы должны рассказывать этим людям.
— Будьте осторожны, — вдруг сказал Феррони. — Не я один за вами наблюдаю.
— Кто ещё?
— Дама, блондинка.
— Благодарю.
— Она дня два назад тут ходила.
Судя по всему, Феррони раньше не видел Луговскую.
— Послушайтесь доброго совета, Феррони, уезжайте в столицу. Там нравы не бюргерские, там вам будет легче. Потихоньку соберитесь и уезжайте. Вас тут ведь ничто не держит. Это действительно добрый совет. И поскорее. Попробуйте исчезнуть дня через три-четыре.
— Нам что-то угрожает?
— Да. К вам может прицепиться полиция. В конце концов отцепится, но придётся назвать ваши настоящие имена, будут наведены справки о вас в Базеле... продолжать?..
— Я буду молиться за вас. Прощайте.
С тем Феррони и выскочил из лавки. Лабрюйер усмехнулся — любопытно, слышат ли на небесах молитвы таких людей?
Старик Андрей долго вглядывался в фотографические карточки, относя их чуть ли не на два аршина от глаз. С возрастом он приобрёл дальнозоркость, которая его вполне устраивала — читать он не любил, а о том, что он за полверсты видит личико каждого смутьяна в драке, знал весь Московский форштадт.
— Вроде бы они. Но с ними нужно поаккуратнее, могут и ножик достать.
— А бывало ли, что они к кому-то нанимались помогать по хозяйству?
— Кто их знает, я им не нянька. Одно скажу — после того как ваша милость изволили о них спрашивать, я из любопытства кое с кем потолковал, кто их помнит. И один бывалый человечек мне сказал: если они в какое-то дело ввязались, можно сразу квартального надзирателя или даже самого частного пристава звать, потому — их для хорошего дела не наймут.
— Вот тут, видишь, дрова пилят.
— Так, может, для себя и пилят? А на «Лизетте» они уже давно ходили. Она, «Лизетта», уже старенькое судно, на ней теперь часто в залив не выходят. Может, за лето три-четыре раза на ней катаются. Там теперь больше починки, чем удовольствия.
Затем Лабрюйер решил устроить себе прогулку, чтобы разленившиеся ноги опять стали прежними, не знающими страшного слова «крепатура». Давно следовало навестить Панкратова — убедиться, что со старым агентом всё в порядке, и рассказать о Собаньском. Если бы настоящий Собаньский пришёл за чертежом — Кузьмич бы дал знать. Но вдруг ещё появится?
Панкратов сидел дома, пил чай с травами — лечил простуду.
— И что, учёные люди смотрели на эти картинки и верили, что аэроплан может висеть в воздухе, как стрекоза? — недоверчиво спросил он. — Значит, этот люцинский пан — не такой уж сумасшедший?
— Выходит, лишь наполовину. А скажи, Кузьмич, больше к тебе никто ночью в жильё не ломился?
— Ломился, да я его кочергой благословил.
Большая чугунная кочерга стояла тут же, у печки, опираясь крюком на жестяную заплатку, нарочно для того прибитую к полу.
— И кто оказался?
— Пьяница Митька из форштадта. Я ему руку перебил, он утёк, больше не появлялся. С этим народишком иначе нельзя. А что, Александр Иванович, поймали того мерзавца?
— Ловить-то ловил, но там, похоже, и концы в воду. Был свидетель, которого обвинили, так он умом тронулся. Я не шучу, я с ним говорил. Настоящий умалишённый. И на Александровских высотах казённую квартиру получил...
От Панкратова Лабрюйер по Ткацкой вышел к Немецкому театру и решил, перейдя канал по Тиммову мостику, быстрым шагом нестись в фотографическое заведение.
Политехнический институт, занимавший целый квартал, имел несомненное удобство для профессоров и студентов, приезжавших на собственном транспорте. Он был заключён между двумя большими улицами, Елизаветинской и бульваром Паулуччи, и двумя переулками, один назвали Инженерным, другой Архитекторским; там можно было оставить автомобиль.
Лабрюйер как раз стоял напротив политехникума, ожидая с другими прохожими возможности перейти Елизаветинскую, когда лихой мотоциклист чуть ли не на полной скорости свернул в Архитекторскую и сразу затормозил. Буквально через полминуты он появился на углу — и Лабрюйер узнал Розенцвайга.
Инженер бежал ко входу в политехникум, а в руке его была совершенно не соответствующая кожаной тужурке, шапке наподобие лётного шлема и водительским очкам жёлтенькая плетёная корзиночка.
Что осенило Лабрюйера — он и сам не знал. Может, дух лошади в него вселился: у лошадей принято, если одна вдруг пойдёт рысью или галопом, и прочим нестись тем же аллюром. Но он кинулся на проезжую часть улицы, перебежал на ту сторону буквально перед носом у орманской кобылы, увернулся от автомобиля и взлетел по зловещей лесенке, оказавшись у двери одновременно с Розенцвайгом.
Потом он даже до того додумался, что сработал охотничий инстинкт. Не зря же Лореляй называла его полицейской ищейкой, а Енисеев похвалил бульдожью хватку. Лабрюйер увидел преступника — и просто не мог не кинуться в погоню.
Но что делать дальше с этим преступником — он ещё не знал.
— Добрый день, господин Розенцвайг, — сказал он, придерживая дверь на тугой пружине, чтобы Розенцвайг мог войти со своей корзинкой.
— Добрый день, сейчас, сейчас... — рассеянно ответил инженер и побежал через вестибюль к двери в дальнем углу.
Лабрюйер с любопытством разглядывал публику. Ему доводилось бывать в политехникуме, и он немного завидовал этой молодёжи, которая за родительские денежки живёт, как в раю, иногда учится, но чаще безобразничает и при этом покидает стены alma mater с такими необходимыми теперь знаниями.
Розенцвайг вернулся озабоченный.
— Сторож куда-то пропал, — сказал он, — что же мне теперь делать?
— А что такое?
— По важному делу нужен. Придётся ждать, а я на полчаса со службы вырвался.
— А не могу ли я вам помочь? — наугад спросил Лабрюйер. — Передать что-нибудь сторожу на словах?
— Можете! Вот эту корзинку! И вот пятьдесят копеек.
— Хорошо, передам.
— Я ваш должник!
— Вы легко можете мне вернуть долг. Я слыхал, вы яхтсмен. Мои московские друзья хотят купить недорого яхту в Риге, можно старую. Им на один-два сезона. Не посоветуете ли?
— Я бы свою охотно продал, пока она совсем не развалилась, — признался Розенцвайг.
— Но они бы хотели яхту с приданым — то есть с матросами, которые знают судно и могут за ним присматривать, делать необходимый ремонт.
— Нет, матросов у меня нет. Были, но я давно уже не выходил даже на Двину. Этой «Лизеттой» пользуются все мои друзья, только не я. Они её и чинят по необходимости. Я думал, что один мой товарищ её купит, два года назад очень на это рассчитывал, но он отказался.
Сообщение было довольно странным — для чего бы Розенцвайгу врать? Или он настолько хитёр, что понял подкладку вопроса?
— Мы могли бы встретиться и обсудить это дело, — предложил Лабрюйер.
— Охотно... так вы отдадите корзинку сторожу?..
— Отдам, а что сказать при этом?
— Что тут продовольствие для Отто Розенцвайга, тетрадь, карандаш, книжки. Меня можно найти на «Фениксе» через канцелярию! Благодарю, благодарю!
Розенцвайг умчался, а Лабрюйер остался с корзинкой, недоумевая, для чего студенту — видимо, младшему брату, — продовольствие.
Он дождался сторожа и передал поручение Розенцвайга.
— Тише, тише... — прошептал сторож. — На нас смотрят, идите за мной... давайте корзинку... что там?..
— Продовольствие, книжки тетрадь, карандаш.
— Тетрадь — это хорошо. А то они, пакостники, от скуки такое сочиняют... Тсс... начальство... уходите, уходите, ради бога...
Сторож с корзинкой исчез в своей конурке, а Лабрюйер пошёл к выходу, ломая голову над словами Розенцвайга. Они как-то неожиданно совпали с сообщением из Выборга — инженера ни на яхте, ни на молу тамошние яхтсмены не видели. Но ведь Розенцвайг мог почуять опасность и соврать. Люди с такими выпученными глазами с виду на врунов не похожи, но именно им удаётся самая бесстыжая ложь.
Лабрюйер шёл по Александровской, и так, и сяк поворачивая слова Розенцвайга, но каждое могло оказаться враньём. Возможно, он решительно всем на всякий случай говорит, что давно никуда не ходил на «Лизетте». Причём сразу, не дожидаясь вопросов... а странно, что у него есть младший братец, которому неинтересна яхта... Или не братец, кузен, дальний родственник... если он студент, то вряд ли ему более двадцати пяти... самый прекрасный возраст для атлетической гимнастики и любимого студентами фехтования, для конных и морских подвигов...
Розенберг привязан к этому Отто, раз таскает ему в политехникум продовольствие...
И тут Лабрюйер, остановившись на углу Александровской и Мельничной, громко сказал:
— Дурак!
Это относилось не к кому-то из прохожих, а к нему самому.
Из кусочков, из осколочков, из непонятных словечек картинка сложилась.
Отто Розенцвайг за какие-то подвиги угодил в карцер. Узников кормили, но кормили плохо — чтобы осознали свою вину и раскаялись. Вот почему Феликс Розенцвайг тайно передал ему через сторожа корзинку с едой. Пятьдесят копеек, видимо, были обычной таксой. В корзинке лежала тетрадь, а что по этому поводу сказал сторож? Он сказал про пакостников, которые от скуки такое сочиняют!..
И точно — Лабрюйер знал же, знал, что стены карцера до самого потолка разрисованы и исписаны студентами! Институтское начальство относилось к этому обычаю снисходительно, не приказывало белить стены и, очевидно, от души развлекалось, заглядывая в карцер и даже приводя туда гостей.
Где-то там, в углу, Андрей Клява, чувствуя, что рассудок мутится, и, боясь, что записи на задних страницах учебников уничтожат враги, написал правду об убийстве Маши Урманцевой! И она все эти годы пребывала там нетронутой, как и фривольные женские фигурки, как и эпиграммы на русском, латышском, немецком, французском, польском и даже на латыни.
Осталось попасть в карцер.
Лабрюйер поспешил в «фотографию». Хорь сидел в лаборатории и не мог его впустить — шла проявка плёнок. Так что Лабрюйер, не докладывая ему, принялся за поиски инспектора Линдера.
— Ещё одного самозванца изловил? — спросил Линдер. — Мы ещё этого в Санкт-Петербург не отправили, сидит на Малой Матвеевской.
— Покаялся в грехах?
— Конечно же нет! И тело настоящего Собаньского не найдено.
— Знаешь что? Он ведь, может, и жив. Он же считал себя гением! А когда у него пропали чертежи аэроплана, он мог сперва с горя напиться, а потом сказать себе: «Собаньский, ты гений и обязан доказать всему свету свою гениальность! Ты не можешь помереть в безвестности!» Так что свяжись с люцинской полицией — может, он там новые чертежи рисует.
— Хотелось бы, чтобы ты оказался прав, — с сомнением сказал Линдер. — Но тебе же не Собаньский нужен?
— Нет, я должен попасть в карцер.
— Куда?! — и инспектор расхохотался.
— В карцер политехникума, и как можно скорее. А там сейчас сидит очередной молодой шалопай.
— Что тебе там понадобилось?
— Помнишь, я пытался раскопать историю убийства девочки, Маши Урманцевой? У меня есть подозрение, что правда об этом убийстве записана на стене, между всякой студенческой ахинеей.
— И кто же её там записал?
— Андрей Клява. Он, перед тем как его арестовали, несколько дней прятался в карцере.
— А ты откуда это узнал? Погоди... Не ты ли совершил налёт на Александровские высоты с дымовыми шашками? Горнфельд чуть сам умом не тронулся — всё искал смысл в этом преступлении.
— По долгу службы, Линдер, по долгу службы...
— Послушай, Гроссмайстер, с того времени прошло немало лет. Я не уверен, что послание на стене карцера, оставленное человеком, который вот-вот спятит, надёжное доказательство.
К этому посланию студенты могли от скуки много всякой дряни приписать.
— Могли. Но давай посмотрим вместе. Сейчас в карцере сидит Отто Розенцвайг...
Линдер рассмеялся.
— И хорошо, что сидит! Пусть на досуге подумает о белых мышках.
— При чём тут мышки?
— Он где-то раздобыл две дюжины белых мышей, запер их в картонной коробке, а коробку перед лекцией спрятал в кафедру — знаешь, в кафедрах есть, непонятно зачем, такая ниша под наклонной доской, обычно она пустая. Мыши очень скоро прогрызли коробку и полезли оттуда во все стороны. Профессора Янсона чуть оттуда на кладбище не свезли.
— Он же не дама, чтобы мышек бояться.
— Ты не знаешь! Профессор не дурак выпить, и студенты это раскусили. Вот Розенцвайг и решил устроить ему белую горячку наяву. Так Янсон к нам пришёл с заявлением, кричал тут, обещал до самого царя дойти. Может, и дошёл бы, но вмешались корпорации. Ты же знаешь — все эти «Fraternitas Baltica», «Concordia Rigensis», «Rubonia», все эти бурши, и даже латышская «Талавия» — все за Розенцвайга вступились и поставили под ружьё папенек и дядюшек, которые тоже когда-то были буршами. Так что Розенцвайг получил две недели карцера, но уж эти две недели он отсидит полностью.
— Но мне нужно туда попасть.
— Тебе нужно туда попасть... Извини, ко мне пришли! Найди меня ближе к вечеру!
Лабрюйер повесил трубку и постучал в лабораторию.
— Фрейлен Каролина! Нужны хорошие карточки тех бородатых мужчин, что пилили дрова. Я бы их сегодня отправил по нашим каналам в Выборг.
— Охота на маньяка, том двадцать пятый, глава семнадцатая! — донеслось из-за двери.
Вынося из лаборатории готовые карточки, Хорь придал физиономии вид умудрённого опытом старца и произнёс с совершенно енисеевским ехидством:
— Чем бы дитя ни тешилось...
Но он связался с начальством и доложил, что опять необходима помощь выборгской полиции.
Лабрюйер помчался на вокзал и отправил карточки, с вокзала пошёл в сыскную полицию, но Линдера там не нашёл — на Канавной улице нашли зарезанную проститутку Верку, и было подозрение, что девицу прикончил её «кот» — хитрый и ловкий, как обезьяна, вор по прозвищу Ванечка, которого никак не удавалось взять с поличным.
— Другого времени не нашёл... — проворчал Лабрюйер. Он понимал, что взять показания у обитательниц всех четырёх борделей, знавших о романе Верки и Ванечки, а также у прислуги и жителей соседних домов, — дело долгое и муторное. Оставалось только возвращаться в фотографическое заведение.
Там Хорь работал над диспозицией задуманной операции, вычерчивая на кроках маршруты и колдуя с часами.
— Пойдёшь в паре со мной, — сказал он Лабрюйеру. — Я так решил.
Спорить не имело смысла — да и о чём тут спорить? Если не с Хорём, так с Росомахой, хотя Росомахе Лабрюйер как-то больше доверял.
Мешать Хорю он не стал и засобирался домой.
— Леопард, завтра мы съездим в Шмерльский лес хотя бы на час. Ты должен освоиться с лыжами.
— Чёрт бы их побрал!
— Надо, Леопард. Надо — и точка.
— Когда приедет заказанная агентесса из столицы?
— Куница уже работает. Очень толковая девица. Кстати, отличная лыжница. Росомаха поселил её в доме возле Мейерхофа, так она сразу, в тот же день, побежала на лыжную прогулку. Вот он, тут, этот дом. Очень удачный выбор.
— Да, и та роскошная вилла рядом, и дача, где проказничают Луговская с Лемберг. Похоже, там ещё кого-то спрятали.
— Вот заодно это и выяснится, — сухо ответил Хорь. — Росомаха отличный агент. Надёжный товарищ, и актёрские способности немалые. Он побывал на Елизаветинской и выяснил — девица Вильгельмина Гофман с родителями живёт там уже три года. О семье известно, что раньше жили на Мариинской, угол Матвеевской, проверить несложно. Другая Вильгельмина была замечена неоднократно, приезжала в гости, потом вообще там поселилась, её фамилию соседи не знают, а подбираться слишком близко к Гофманам Росомаха не рискнул. Ты это желал услышать?
Лабрюйер вздохнул и ничего не ответил.
— Ты полагаешь, её завербовали недавно? И она приходила сюда, к нам, потому что она и была настоящим агентом, следившим за нами, а дурака Феррони нам просто подсунули?!
— Хорь, это логичная версия. Но девушка слишком молода, чтобы её сразу отправили с таким поручением.
— Ну и что? Я тоже... я ещё молод! Но мне же поверили, меня же поставили командиром! Ты тоже считаешь меня мальчишкой? Да?
— Нет. Ты действительно командир.
— Прости. Я просто сильно беспокоюсь.
— Да будет тебе...
Утром они поехали в Шмерльский лес и там больше часа катались, дыша свежайшим воздухом. На сей раз Лабрюйер не отравился кислородом.
— Теперь я хоть уверен, что ты во время операции не заснёшь стоя, — поддразнивал Хорь.
Вернувшись, они переоделись — Хорь в ненавистный наряд фрейлен Каролины, а Лабрюйер в обычный костюм.
— Потерпи ещё немного, — сказал товарищу Лабрюйер. — Скоро этот маскарад кончится.
— А если начальство решит, что мне так по гроб дней моих и придётся ходить в юбке?!
— Горностай сказал, что тебя готовят для серьёзного задания. Может, и там маскарад потребуется.
— Остаётся только поставить свечку Богородице, чтобы этого не случилось, — усмехнулся Хорь.
Лабрюйер прямо при нём связался с полицией. Линдера не было — инспектор с агентами где-то гонялся за Ванечкой.
— Чёрт возьми... — проворчал Лабрюйер. — Прямо хоть иди в политехникум с отмычкой...
Зазвонил телефонный аппарат. Хорь был к нему ближе — он и снял трубку.
— Да, я, — сказал он. — Да, понятно. Хорошо. Благодарю. Ещё что-то? Так... Благодарю. Ближе к ночи свяжемся. Бог в помощь.
— Что-то важное? — спросил Лабрюйер.
— Сообщение от Куницы. Нам следует поторопиться с операцией. На даче, где теперь живёт Луговская, похоже, пакуют чемоданы. Кажется, арест пана Собаньского показал Эвиденцбюро, что следующие кандидаты на тюремную камеру — их агенты.
— Нет худа без добра. Кто спешит — тот ошибается.
— Хотелось бы... Ну что же... Послезавтра.
Линдер объявился поздно вечером — сам заехал в гости к старому товарищу.
— Я вот что придумал, — сказал он. — Я свяжусь с институтским начальством и скажу, что Розенцвайг у нас проходит свидетелем по одному делу, нужно взять показания. Поскольку его в сыскную полицию не выпустят, мы, так и быть, сами к нему придём. Но, Гроссмайстер, если ты сразу не найдёшь мемуаров Клявы, во второй раз тебя пустят в карцер через неделю, не раньше, и то — по тайному сговору со сторожем.
— Хорошо.
— Времени у тебя будет немного — не больше часа.
— Рискнём. Я возьму хорошие электрические фонарики.
— Тогда я завтра телефонирую в деканат и договариваюсь.
Институтское начальство даже обрадовалось — было бы очень хорошо, если бы безобразник оказался замешан в какой-то уголовщине, это бы его научило уму-разуму. Оно позволило брать показания хоть два часа, но — вечером, а вечер наступал рано, в пять уже темно.
— Я сегодня не смогу, — сказал Линдер, — давай уж завтра. Может, ночью удастся взять этого подлеца.
— Завтра у нас... — Лабрюйер чуть не сказал «операция», но Линдер понял.
— Во сколько вы начинаете?
— В одиннадцать вечера, когда в нужной местности все угомонятся и лягут спать.
— Ну, до этого часа мы управимся! По крайней мере, поймём, существуют мемуары в природе, или это бред безумца.
Лабрюйер повесил трубку, и тут же телефонный аппарат снова затрезвонил.
— Вас вызывает Выборг, будете говорить? — спросила телефонистка.
— Буду, буду, барышня!
— Связь очень плохая, в любую минуту может прерваться.
— Благодарю!
Пискнуло, зашуршало, далёкий суровый бас сообщил:
— По запросу осведомительного агентства. Два человека опознаны. Возможно, экипаж яхты «Лизетта», вызванные свидетели...
В трубке захрюкало, несколько важных слов пропало напрочь. И дальнейшая речь прерывалась этим гадким издевательским хрюканьем.
— ...были замечены в тот день, когда пропала... подтвердил... в полном соответствии... подтвердили... Опознание проводилось...
Тут связь наладилась, и Лабрюйер услышал громкое, бодрое и отчётливое:
— Доложил частный пристав Овчинников!
— Донесение принято! Благодарю, господин Овчинников! — заорал Лабрюйер и, не повесив трубку, устремился в лабораторию.
— За тобой гонится маньяк? — осведомился Хорь.
— В Выборге опознали Герца и Франка! Их видели в тот день, когда пропала девочка. Конечно, нужны ещё подробности, но мы уже наступаем этой сволочи на пятки! Когда возьмём эту парочку, узнаем, кто был тогда на яхте.
— Разве не Розенцвайг?
— Я уже не знаю. Розенцвайг сказал, что на яхте часто выходят в залив его друзья. Если так — это может оказаться кто угодно. Даже Ламберт! Но знал бы ты, Хорь, сколько вранья я наслушался от преступников!
— Догадываюсь. Я вот думаю — не привлечь ли твоего протеже Мякишева. Мюллер не совсем ещё здоров. Я думаю — если посадить Мякишева в автомобиль к Мюллеру, он может при нужде быть и курьером. Он шустрый, должен быстро бегать.
— По ночному лесу и по колено в снегу?
— Я ещё подумаю. Курьер может пригодиться. Найди его вечером и спроси, умеет ли он бегать на лыжах.
— Хорошо.
Лабрюйер заглянул к Сеньке и задал этот вопрос. Ответ был примерно такой, какого он и ожидал. Если бы Лабрюйер спросил, умеет ли Сенька прыгать с ранцевым парашютом, который недавно изобрёл Глеб Котельников, прозвучало бы то же радостное:
— А чего тут не уметь? Это мы запросто!
— А не врёшь?
Сенька немного смутился. Выяснилось — видел, как другие парнишки бегают на лыжах, а ему — кто ж купит? Подумав, Лабрюйер велел Сеньке завтра прийти к себе, как только освободится, но не позже половины десятого, и подниматься двумя этажами выше, там будет ждать господин Хорь. И сказать Хорю чистую правду!
На следующий день Лабрюйер, приготовив дома всю необходимую для беготни на лыжах одежду, сел перед телефонным аппаратом и смотрел на него, как цирковой гипнотизёр Осип Фельдман на красавицу-ассистентку. Его отвлекали, он выбегал в салон, возвращался к аппарату и к пяти часам дождался звонка. Затем, радостный и возбуждённый, дождался, пока Хорь в образе фрейлен Каролины завершит съёмку и выпроводит клиентов.
— Хорь, мы с Линдером сейчас пойдём искать мемуары Клявы, — сказал Лабрюйер.
— Сегодня?
— Да.
— Леопард, ты не забыл, что у нас сегодня?
— Нет, конечно. До девяти я запросто вернусь и успею переодеться.
— В десять выезжаем из дома. Росомаха предупредил Скую, он будет ждать на углу Столбовой и Дерптской.
— По дороге сам зайди в полицейское управление и договорись — если мы ночью кого-либо привезём, так чтобы приютили до утра, а утром по распоряжению из столицы отвезли на Малую Матвеевскую. Там держат две свободные камеры.
— Будет исполнено.
— Хорошо, иди.
Лабрюйер немного удивился спокойствию Хоря и слишком медленной речи. Видимо, командир понемногу вводил себя в какое-то особое необходимое ему состояние. Это самоуглубление было Лабрюйеру понятно не путём наблюдений и логических выводов, а как-то иначе — чутьём, что ли.
Предстояла операция, которая покажет, на что способен этот двадцатидвухлетний командир. И не только начальству покажет — как Лабрюйер понимал, в первую очередь должен быть поставлен на место Горностай. И эта задача могла помочь выполнить главную — а могла и помешать...
Войдя с Линдером в карцер, Лабрюйер ужаснулся. Ему однажды доводилось сюда заглядывать, но его тогда мало беспокоила величина помещения и высота потолков.
Расположенный под самой крышей и довольно холодный карцер был большой комнатой — девяти аршин в длину, четырёх аршин в ширину, но это бы ещё полбеды — потолок оказался на высоте чуть ли не двухсаженной, при этом стены были исписаны и разрисованы сверху донизу, что внушало уважение к студентам: будущие инженеры ухитрялись забраться так высоко, используя лишь железную койку и почтенный чурбан, заменявший столик, но, возможно, ещё и большое ведро с крышкой для естественных надобностей. Окна были расположены близко к полу, так что дневное освещение всё равно было бы слишком слабым для съёмки.
Щекастый белокурый балбес Отто Розенцвайг сидел на койке, завернувшись в одеяло. Ногой он запихивал под койку корзинку с припасами.
— К вам сыскная полиция, господин Розенцвайг, — сказал сторож и вышел.
Лабрюйер прислушался — в замке проскрежетал ключ; видимо, зная шебутной характер Розенцвайга, сторож на всякий случай запер в карцере всех троих.
— Сыскная полиция? Но я ничего не крал! Мышей я купил! Купил в цирке — там их держат, чтобы кормить змею! Вы можете спросить в цирке!..
— Помолчите, Розенцвайг, и встаньте, когда с вами старшие говорят, — велел Линдер. — Хорошо. Теперь стойте и ешьте.
Он дал студенту заранее приготовленные бутерброды с ветчиной и фляжку с горячим чаем. Розенцвайг лишился дара речи.
Лабрюйер смотрел на стены и понимал, что изучить всю эту живопись будет мудрено. На стенах он опознал немецкие, русские, польские, французские, латинские слова. Над дверью отметился какой-то особо образованный студент — написал по-итальянски «Lasciate ogni speranza» — первую часть знаменитой строки Данте «Lasciate ogni speranza voi ch’entrate», что означало «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Видимо, цитата пришла узнику на ум зимой, когда, замерзая, он вспомнил мучения грешников в ледяном озере Коцит из «Божественной комедии».
— Ну, что? — спросил Линдер.
— Начнём с угла, — и Лабрюйер показал на койку.
— Ты — отсюда, а я пойду навстречу от двери.
Линдер подкатил к косяку чурбан, залез на него, а Лабрюйер забрался на койку. Подсвечивая фонариками, они разбирали перлы студенческого остроумия и хмыкали, когда попадалась фривольная картинка или карикатура. Некоторые монограммы и гербы корпораций были исполнены с изяществом и даже талантом.
Розенцвайг жевал и с любопытством смотрел на эти изыскания.
— Что господа ищут? — спросил он.
— Запись вроде той, что в дневнике, — ответил Лабрюйер. — В ней обязательно должны быть имена и фамилии.
— Погляди-ка, — сказал Линдер. — Вот тут, на русском...
Лабрюйер устремился к чурбану, Линдер соскочил, уступая место. Но неизвестный студент сердито жаловался на каких-то загадочных родственников, не приславших ему даже куска чёрствого хлеба.
Час спустя Лабрюйер и Линдер смотрели друг на друга и молча разводили руками. Сообщения от Клявы они не нашли.
— Ну, значит, бред безумца... — Лабрюйер покачал головой. — Наверно, ему просто хотелось написать об этом, так хотелось, что вообразил, будто на самом деле написано...
— Похоже на то, — согласился Линдер. — Ну, я сделал всё, что мог.
— Да, благодарю.
— Если господа из полиции ищут запись, значит, в ней что-то секретное? — полюбопытствовал Розенцвайг.
— Секретное, господин Розенцвайг, это вы правильно заметили, — подтвердил Линдер.
— Так, может, в таком месте записано, что не сразу догадаешься?
— Чурбан! — воскликнул Лабрюйер. Он повалил чурбан набок, но никаких мемуаров не обнаружил.
— Если бы мне нужно было оставить тайное послание, я бы под койку залез, — вдруг сказал Розенцвайг. — Нам, бедным страдальцам, дают свечи, и я бы, взяв туда свечу...
— Точно! Там ведь тоже есть место на стене! — Лабрюйер стал дёргать койку, но она оказалась привинчена к полу. Шалопай Розенцвайг рассмеялся.
— Кто из нас самый тощий, господа? — спросил он.
Лезть под койку досталось Линдеру. Лабрюйер и Розенцвайг, очень довольный развлечением, светили ему фонариками.
— Кажется, оно... по-латышски... — сказал Линдер. — Дайте фонарик.
— Читай!
— Читаю... «Я, Андрей Клява...» Тут — неразборчиво, но по смыслу — вроде бы «в здравом уме и твёрдой памяти»... Дальше — «Я не виноват, я никого не убивал. Я пытаюсь сказать правду, но мне не верят. Я одолжил свои конспекты Теодору Рейтерну, чтобы он переписал две лекции, но он заболел, и я поехал к нему за конспектами. Его дом стоит в лесу, я заблудился...»
— Рейтерн?.. Читай, Линдер, ради бога, читай!..
— «Я вышел к берегу реки или озера, не знаю, было уже темно. Я спотыкался, падал и потерял очки. Там были мостки, у мостков стояло судно, на судне горел фонарь. Я пошёл туда и увидел на мостках голую девушку. Она лежала...» Опять неразборчиво...
— Читай, ради всего святого!
— Это же прямо роман! — воскликнул восхищенный студент.
— Читаю. «Этот человек закричал: “Ты убил её!” Я ответил, что не убивал. Он сказал, что сейчас отвезёт меня в полицию, что он полицейский агент. Я сказал: “Очень хорошо, тогда все поймут, что я не убивал. Зачем мне её убивать?” Я был страшно испуган, но отвечал спокойно. Тогда я услышал голос Теодора Рейтерна: “Андрей, зачем ты её убил?” Я ответил: “Рейтерн, я не убивал”. Он сказал: “Господин агент, этот человек с большими странностями, он иногда кажется нам сумасшедшим”. Он сказал: “Вот ваш убийца, забирайте его". Это сказал Теодор Рейтерн. Агент спросил: “Вы знаете, где он всё это время держал девочку?” Рейтерн ответил: “Это не имеет значения”. Я не убивал, я не убивал. Я побежал обратно в лес. Они поймали меня. Я потерял сознание. Потом я очнулся, я был весь мокрый. Я лежал на берегу, потом встал, я куда-то шёл, встретил людей, спросил, где я. Мне сказали, что на Кипенхольме. Я не мог переплыть реку, мне нечего делать на Кипенхольме. Я пошёл вверх по течению, к понтонному мосту. Я понимал, что мне нужно где-то спрятаться, пока полиция не найдёт убийцу. Сторож Осис — мой родственник, он спрятал меня. Я не убивал, убил кто-то другой, я только нашёл на мостках тело. Я не знаю, как оно туда попало. Я не убивал...» Гроссмайстер, тут дальше только одно — я не убивал.
— Значит, Рейтерн!
— Погоди, не буянь. Рейтерн, возможно, лишь знает, кто убивал.
— Это он. Линдер, вот тот крючок, на котором его держали!
— Погоди, говорят тебе! — Линдер выполз из-под койки. — Допустим, Рейтерн — убийца. Но как это стало известно? Нужно восстановить все события той ночи, нужно заново допросить Кляву...
— Клява спятил окончательно и бесповоротно. О другой убитой девочке что-то знала Грунька-проныра, но и её больше нет. Леман — убит. Нужно брать этих двух милых матросиков...
Лабрюйер кинулся к двери карцера, подёргал — дверь не отворялась.
— Этого ещё не хватало! — воскликнул он.
— Сторож Зутис — старый дурак, — сообщил юный Розенцвайг. — Он мог и забыть. Если господа скажут, который час...
— Без четверти восемь, — ответил Линдер.
— В девять он понесёт мне хлеб насущный и тот самый стакан воды, которого, говорят, просят умирающие. Этого он не пропустит.
— Чёрт бы его побрал!
— Вот уж точно, — согласился Линдер. — Знаете, господа, если так — я часок вздремну, я вторую ночь почти не спал. Не бойтесь, Розенцвайг, я у вас одеяло не заберу, я укроюсь пальто.
Он лёг на койку и заснул моментально.
Лабрюйер в величайшем беспокойстве ходил от стенки к стенке и даже взмок. Он представлял, что думает о нём сейчас Хорь: в погоне за мифическим маньяком разгильдяй Леопард может сорвать операцию!
Попытка снять на «Атом» мемуары Клявы оказалась бесполезной — фонарик давал недостаточно света. Тогда Лабрюйер загнал под койку Розенцвайга и велел диктовать послание.
Когда сторож Зутис в четверть десятого соизволил открыть дверь карцера, Лабрюйер едва не сшиб его с ног и, даже не попрощавшись с зевавшим во весь рот Линдером, понёсся вниз по крутой лестнице, потом — по коридору, потом по другой лестнице, широкой, потом но другому коридору, потом по третьей лестнице. Он оказался в вестибюле и обнаружил, что дверь заперта. Пришлось ждать, пока спустится старый дурак, старый болван, старый кретин.
Без десяти десять Лабрюйер ворвался в своё жилище и переоделся с невообразимой скоростью. В две минуты одиннадцатого, с лыжами на плече, он выбежал на перекрёсток, где стояла пролётка Скуи, и забрался туда.
— Клади лыжи под ноги, — сказал Хорь. — Скуя, гони.
Когда человек опаздывает, у него в голове помещается только одна мысль: успеть! Лабрюйер был всего лишь человек, с точно таким же устройством головы, как у всех, и, впопыхах наматывая байковые портянки, без которых в зимнем лесу плохо, впопыхах натягивая сапоги и сдёргивая с вешалки старый полушубок, он совершенно не помнил о Кляве.
Настенные мемуары ожили в памяти уже на Ревельской.
— Слушай, Хорь, мне срочно нужен телефонный аппарат.
— Ещё таких не придумали, чтобы в пролётках вешать.
— Давай сделаем небольшой крюк и доедем до Петербужской части.
— А что случилось?
— Случилось то, что в мемуарах Клявы говорится о Теодоре Рейтерне. Погоди... — Лабрюйер завозился, не сразу сумел засунуть руку в карман и, вспомнив, что бумажка, на которой всё записано, осталась в кармане пальто, невольно выругался.
— То есть Рейтерн замешан в истории с маньяком?
— Ну да! Эвиденцбюро как-то об этом пронюхало...
— А как?
— Если бы я знал! Нужно телефонировать в полицейское управление, чтобы заодно с Розенцвайгом и Шмидтом взяли Рейтерна! — взволнованно говорил Лабрюйер. — Ведь убежит — и лови его потом в Швеции!
— В Швеции он нам не опасен. Сейчас другая задача — синий «Руссо-Балт», — спокойно ответил Хорь. — Если наши австрийские друзья будут на нём уходить, мы должны задержать его и взять экипаж живьём. Или с мелкими повреждениями.
— Так волчью яму заранее нужно было рыть.
— Зачем? У нас есть три гранаты. Если взорвутся под капотом, останется только вытащить людей из автомобиля.
— Сам автомобиль не взорвётся?
— Вот и я этого боюсь. Но есть ещё одна возможность — если верно рассчитаю. И нужно там быть заблаговременно.
— А если они будут уходить не этой дорогой?
— Там не так много переездов, а «Руссо-Балт» — не заяц, чтобы через рельсы скакать. Конечно, они могут свернуть в лес — и там застрять. Росомаха все возможные маршруты на лыжах с картой в зубах пробежал. Могут по замерзшим болотам долететь сгоряча до речки Егель и с берега на лёд кувырнуться. Но скорее свернут налево, чтобы по ровной дороге через переезд выкатить на Петербуржское шоссе и там развить приличную скорость. Этого допустить нельзя.
— А Мюллер на что?
— А ты представь, что у них мотор мощнее, чем у Мюллера. Не будем рисковать, а пойдём, как задумано, навстречу нашим.
— А я тебе говорю — нужно связаться с группой, которая после полуночи идёт брать Розенцвайга и Шмидта! Пусть бы заодно и Рейтерна прихватили! Хорь, я клянусь тебе чем хочешь, — сведения утекали через Шмидта и Рейтерна, а Розенцвайг... ну, Розенцвайг по простоте что-то Рейтерну выбалтывал, ведь они друзья!..
— Поздно. Понимаешь, поздно.
И в самом деле — пролётка уже миновала фабрику Лейтнера, уже близко были «Феникс» и «Унион».
— Рейтерн нам нужен. Если он работал на Эвиденцбюро — то только он знает, кто из мастеров был подкуплен, чтобы вынести чертежи «гнома». Нельзя же такого человека оставлять на «Моторе»!
Лабрюйер бил по больному месту. Хорь просто обязан был вспомнить сейчас свою неудачную операцию и что-то предпринять.
— Поздно. Леопард. Тут мы телефонных аппаратов сейчас не найдём. Нужно быть у переезда заблаговременно. У нас не будет связи с товарищами, и если они поднимут зверя слишком рано, мы не должны его упустить.
Лабрюйер видел — он вспомнил, но он выучился держать себя в руках, так выучился, что можно позавидовать. И этот пустой взгляд, и этот тусклый голос — впору старому опытному агенту вроде Енисеева, а не мальчишке, который совсем недавно срывался и кричал. Хоря словно подменили. Может быть, он репетировал этот взгляд и голос перед зеркалом — с тем же упорством, с каким стоял по ночам, держа утюг в вытянутой руке.
И они молчали, пока Скуя не остановил пролётку возле фабрики Гловера. Оттуда вела дорога к переезду и далее — через небольшой лесок к берегу Штинтзее.
— Ну, выходим, — сказал Хорь. — Мартин, ты говорил, тут где-то корчма с конюшней есть? Вот туда поезжай. И каждый час наведывайся к переезду. Если до трёх ночи ничего не случится, поезжай домой. Леопард, пристёгивай крепления.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Обе дороги были пусты — и Петербуржское шоссе, и та, что вела к озеру. Лабрюйер и Хорь неторопливо шли на лыжах к переезду, потом — к леску. Времени было с избытком. Там, где начинался лес, они остановились.
— Как тихо, — сказал Лабрюйер. — В городе такой тишины не бывает.
— Да, — согласился Хорь. — Люблю лес в такие вот лунные ночи. Ну, вот здесь, пожалуй, мы можем их перехватить, очень удобное место. И Господь луну нам в помощь послал, обойдёмся без фонарей.
Он был экипирован — как на войну: полушубок перехвачен широким кожаным ремнём (Лабрюйер подивился тонкой, как у балерины, талии), на ремне — три ручные гранаты, револьвер в кобуре и охотничий нож — с таким, пожалуй, и на медведя идти можно.
Лабрюйер, как и Хорь, прикрепил кобуру к ремню и насыпал чуть ли не полные карманы патронов. Ножи он тоже взял — «финочку» и трофейный австрийский штык-нож, унтер-офицерский, с загнутым «усиком» и скобкой для темляка. По приказанию Хоря он взял с собой и наручники — на две персоны.
— Если придётся бросать гранату — увидишь, что я замахиваюсь, кидайся в лес, залегай за деревом, — велел Хорь. — Я-то прыжком уйти успею. Там так осколки полетят — лучше не подворачиваться.
— Спаси и сохрани.
— Вот именно.
Они постояли, прислушиваясь, и вдруг разом повернулись друг к другу.
— Орёт кто-то, — сказал Хорь.
— Точно, орёт, — согласился Лабрюйер.
— Заблудился в лесу, что ли?
— В том лесу невозможно заблудиться. Он величиной, пожалуй, с Верманский парк вместе с Эспланадой. И озеро посерёдке, Эйхензее. Озерцо, точнее. В ширину и сотни сажен не будет. Если по берегу идти в любую сторону — в худшем случае обойдёшь его и через четверть часа выйдешь к железной дороге.
— А в лучшем?
— Через пять минут. От его южной оконечности до насыпи шагов, наверно, с полсотни.
— Смолк...
— Пьяный, видно, забрёл.
— Откуда он мог туда забрести?
— Тут же две фабрики поблизости, «Гловер» и Саламандер». И рабочие при них селятся. Может, кто-то жалованье пропивает...
— У озера кто-то живёт?
— Сомневаюсь. Разве что пара дач стоит, летних дач, без печек. Там, кстати, наши пролетарии и могли устроить пьянку. И старая купальня. И пляжик небольшой.
Снова издалека донёсся хриплый крик, очень короткий, словно у крикуна перехватило горло.
— Не нравится мне это, — сказал Хорь. — Очень не нравится. Орёт-то этот чудак оттуда, где наши.
— Наши — далеко.
— Ты уверен?
— Они бы дали знак.
Знаков было два — сдвоенный выстрел означал, что идёт погоня за синим «Руссо-Балтом», два одиночных выстрела — призыв.
— Давай-ка дойдём до берега, это совсем близко, — предложил Лабрюйер. — Орёт-то он со стороны озерца.
— Ты что-то учуял?
— Сам не знаю. Но от дам из Эвиденцбюро можно ожидать любой пакости. Ты ведь помнишь фрау Берту.
— Ещё бы не помнить! Артистка, чтоб ей...
— Даже не артистка, — возразил Лабрюйер. — Просто хитрая и ловкая тварь. Но автомобиль она водила отлично. Думаю, Луговская — такое же сокровище.
— А если ловушка?
— Предупреждён — значит, вооружён, — ответил поговоркой Лабрюйер. — Сделаем круг и выйдем к Эйхензее с неожиданной стороны — со стороны железной дороги. Понимаешь, это может быть ловушка, а может быть и что-то такое, что мы можем использовать.
— Хорошо, посмотрим, — подумав, сказал Хорь. — Росомаха прав — ты только притворяешься солидным господином.
— Я рижский бюргер, Хорь. Солидность и притворство у меня в крови.
— Пошли...
Командир, как положено, заскользил по снежной целине первым, Лабрюйер — за ним. Вдруг Хорь остановился и поднял правую руку с лыжной палкой. Лабрюйер подъехал к нему слева.
— Стой, Леопард... — прошептал Хорь. — Не вздумай светить фонарём...
— А что?
— Там, за деревьями, огонёк мелькнул и погас. У кого-то электрический фонарик...
— Они?
— Но какого чёрта?..
— Вот сейчас и узнаем.
Они уже были в двух шагах от Эйхензее, в привычном Лабрюйеру редком сосновом лесу с островками подлеска. На ветках лежал снег — значит, они могли быть укрытием.
Лабрюйер и Хорь затаились у сосен, что росли слева.
Перед ними было замерзшее озеро, правый берег — песчаный, под снегом, левый — порос камышами. На правом вроде что-то мелькнуло.
И снова раздался хриплый вскрик.
— Да что он, пьяный дурак, в камыши провалился? — удивился Хорь.
— Я тебе как человек пьющий могу сказать, что камыши — ещё не самое страшное, — утешил Лабрюйер. — Проснуться на крыше, куда для чего-то вылез через чердачное окно, куда страшнее. Дай-ка глянем, что это за горемыка. Ночь лунная, тёмное на льду хорошо выделяется...
— Если его ночью сюда занесло — он, наверно, и лыка не вяжет.
— Холодная ванна кого хочешь отрезвит. Но долго там сидеть ни к чему.
— Эй! Ты где? — позвал Хорь.
Человек в камышах захрипел.
— Протяни-ка ему лыжную палку, — сказал Лабрюйер.
Хорь подкатился поближе к камышам и стал тыкать палкой, разводя мёртвые длинные листья.
— Ничего себе, одна голова торчит... Так там глубоко, что ли?..
— Только не лезь на лёд. Может, и глубоко. Эй, ты, горемыка!
Голова повернулась, рот открылся — но ничего, кроме хрипа, они не услышали.
— Хватайся за палку, дурень, — приказал Лабрюйер.
Голова мотнулась вправо-влево.
— Да ты безрукий, что ли?
— Но-ги... — еле выговорил чёрный рот по-немецки.
— Ну, что там у тебя с ногами? В иле застряли? Хватайся за палку, выдернем, — по-немецки же ответил Лабрюйер.
— Ко мне... за-пла-чу...
— Так ты у нас богатый господин? Ты как туда попал?
— А вот как он туда попал, — сказал Хорь и на несколько секунд включил фонарик. — Смотри, Леопард...
Сразу они не заметили лежащей поблизости секции забора-штакетника. Примерно половина была на берегу, вторая лежала на льду.
— Да, по этим досточкам он мог идти, пока они не кончились, а потом сделал шаг и провалился... Стой, Хорь! Мне эти досточки что-то не нравятся...
— А что?
— Смотри. Они как будто ползали по льду, чтобы улечься поудобнее. Кто и зачем их сюда приладил? Стой, говорю, а то и тебя вытаскивать придётся. Вот ведь треклятый пьянчужка, валандайся тут с ним...
Мысли о том, что можно бросить погибающего в ледяной воде человека, ни Лабрюйеру, ни Хорю в головы не приходило.
— По-мо-ги-те... мне... — совсем внятно произнесла голова.
Достав фонарик, Лабрюйер осветил голову, чтобы оценить обстановку.
Оказалось, попавший в воду человек стар и сед, с широким лицом крупной лепки, на вид — не моложе шестидесяти. Чем-то это лицо было знакомо.
И уже на не озёрном льду, как на бескрайнем белом блюде, на манер головы Иоанна Крестителя, увидел Лабрюйер это лицо. А на фоне уступчатого берега, на фоне террас, спускавшихся к лазоревой воде, и даже парусник прилепила к воображаемой картине надёжная память.
— Рейтерн! — воскликнул Лабрюйер.
— Но-ги... — ответил Рейтерн и со стоном уронил голову на грудь.
— Как его туда занесло? — удивился Хорь.
— Они... меня... — сказал Рейтерн и вдруг взвыл — так, как, должно быть, воет перед смертью попавший в ловушку зверь.
— Господин Рейтерн! — позвал Хорь. Ответа не было.
— Если он в ледяной воде более десяти минут, то — всё... можно заказывать панихиду... Мне рассказывали — это страшная боль... — Лабрюйера даже передёрнуло.
— А он там уже больше десяти минут, кажется. Леопард, что ты так на него смотришь?
— Совпало... — вдруг сказал Лабрюйер. — Хорь, совпало...
— Что?
— Всё... всё совпало, всё сложилось... это он и есть...
— Кто?
— Рейтерн. Тот Рейтерн, тот, понимаешь? Тот, что девчонок убивал! Теперь я, погоди... Теперь я всё понял!.. Вот чем Теодора Рейтерна шантажировали! Отцовскими делами! Он знал — и не мог помешать, болван, скотина! Он сам, сволочь, девчонок добывал — обязательно беленьких, с длинными косами! Герца с Франком за ними посылал! И когда Клява случайно оказался свидетелем — сделал всё, чтобы отца выгородить. Сложилось, Хорь!
— А если Эвиденцбюро знало, кто убийца, то откуда знало? Это у тебя тоже сложилось?
— Да, Хорь, да! Вы все смеялись!.. А я же узнал, кто мог рассказать людям из Эвиденцбюро про старого Рейтерна! Или Леман, или та пропавшая гувернантка, Амелия Гольдштейн. Вот что скрывала госпожа Урманцева — то, что Амелия собралась наказать убийцу! Вот почему она, уезжая, уничтожила фотографические карточки! Она догадалась, что мы можем напасть на след Амелии. Пока всё складно?
— Складно, Леопард! Но с этим что делать?
Хорь показал на голову Рейтерна.
— А с ним уже всё сделано. Не думай о нём. Он своё получил.
— Леопард... меня всего трясёт...
— Ничего, ничего... Ты что, впервые покойника видишь?
— Такого — впервые...
— Значит, привыкай! — крикнул Лабрюйер. — Привыкай, чёрт бы тебя побрал! Ну? Или ищи другое ремесло!
Хорь отвернулся от мёртвой головы.
— Они сговорились с сыном Урманцевой, с Аркадием, что ли. Его предупредили, и он подсунул снимки каких-то непонятных женщин. Там, на снимках, Амелия Гольдштейн — брюнетка. На самом деле, значит, — блондинка! Ну? Теперь понимаешь?
Лабрюйер был возбуждён беспредельно, однако чутьё охотничьего пса и слух, тонкий и острый слух отличного певца, оставались при нём. Он не знал, чутьё или слух подсказали, что смертельная опасность рядом. Он просто дёрнул Хоря за рукав и заставил присесть. Сотую долю секунды спустя раздался выстрел. Пуля вошла в ствол сосны там, где только что была голова Хоря.
— Поздравляю, — прошептал Лабрюйер. — Сами под пули подставились...
— Они следили за нами... свидетели им ни к чему... — ответил Хорь. — Уходим... Чёрт! Операция срывается!.. Какой я болван!..
— Тихо... Ты не мог знать...
Второй выстрел грянул — пуля ушла в снег совсем близко.
Стрелок стоял за деревьями на другом берегу озерца.
— Я должен был!
— Что — должен? Ты знал, что Лисовская с Петерсоном собрались уходить. Но ты не знал, что Лисовская — Амелия Гольдштейн, и что она, уходя, в последнюю минуту станет сводить счёты. Как ты мог это знать?
— Мы её спугнули...
— Не причитай, ты не старая бабка, — Лабрюйер достал револьвер и, не придумав ничего лучше, заорал «кукареку» — как Барсук на Александровских высотах.
Он спровоцировал третий выстрел и сам дважды выстрелил на звук.
— Кажется, он там один, — сказал Лабрюйер. — Хорь, пали по нему из-за дерева.
— А ты?
— А я постараюсь подобраться сбоку. Там должна быть купальня — так из-за неё...
— Хорошо, иди.
— Когда его сниму, посигналю фонариком. Две вспышки...
— Две — снял, три — иди сюда, — добавил Хорь. — Ну, с Богом.
Лабрюйер выпрямился, сунул револьвер в кобуру и оттолкнулся палками. Четвёртый выстрел незримого противника распорол плечо полушубку, но Лабрюйер уже катился вниз, в крошечный овражек, и там присел на корточках.
Ему нужно было проскочить к той части берега, где росли высокие камыши, и дальше, обогнув северный край Эйхензее, под прикрытием купальни подобраться к стрелку. Он мысленно поблагодарил Хоря, заставившего освоить науку лыжного хождения и скольжения.
Оказавшись у купальни, Лабрюйер услышал сдвоенный выстрел.
Это означало, что Лисовская, она же — Амелия Гольдштейн, вместе со свитой уходит на синем «Руссо-Балте» в сторону озерца. Видимо, тут она должна была подобрать своего стрелка.
Нужно было не убивать наповал этого треклятого стрелка, а вывести его из игры. Он мог знать слишком много полезного для наблюдательного отряда.
— Проклятый Рейтерн... — пробормотал Лабрюйер. И задал себе вопрос — откуда Амелия Гольдштейн знала обо всех преступлениях почтенного члена городской управы? Она могла доподлинно знать только об одном — о смерти Маши Урманцевой. Что в таком случае означало убийство Груньки-проныры?
Хорь затеял нелепую перестрелку — оба противника залегли, обезопасив себя, и палили в белый свет, как в медную копейку. Лабрюйер по широченной дуге подбирался к старой купальне.
Вопрос, если отбросить всякие мелочи, получался очень простой: где связующее звено между бывшей гувернанткой, поступившей на службу в Эвиденцбюро, и бывшей проституткой, выносившей горшки за парализованными старухами?
И ответ был тоже очень простой: Петер Леман.
Амелия Гольдштейн, скорее всего, знала, что Леман шёл по следу убийцы и чуть ли не за руку его схватил, но был запуган. Наверно, поэтому она исчезла из Риги, знала, что у неё тут нет ни одного союзника, а борьба за справедливость могла закончиться для неё очень печально. А Леман, который с самого начала пытался связать всех убитых девочек, знал про Грунькино лжесвидетельство. Если бы Леман был жив, а Амелия Гольдштейн отыскала его...
Но кто видел труп Лемана?
Старик просто исчез, после чего пропало всё его семейство. Лабрюйер, будь у него семья, поступил бы так же: готовясь к военным действиям, убрал бы всех близких куда-нибудь подальше, нанял им охрану и грамотно распустил бы слух о своей смерти. Тёща Скуи говорила, что в доме поселились два крепких молодца. Кто, как не бывший полицейский агент, мог найти для охраны подходящих парней?
Леман сообразил, что господин Гроссмайстер идёт по следу. Как услышал, что нужны сведения по сомнительному делу восьмилетней давности, так и сообразил. Грунька, если её как следует тряхнуть, могла хотя бы намёком выдать если не старого Рейтерна, то молодого. Но бюргерское семейство нашло бы способ прекратить расследование бывшего полицейского инспектора, да и бывшему агенту бы не поздоровилось. Под угрозой были дочь Лемана, его внуки. Если Амелия Гольдштейн нашла Лемана и договорилась с ним, значит, речь шла не о шуме вокруг семейства Рейтернов, а о голове маньяка.
И следовало убрать ту, что раньше времени наведёт господина Гроссмайстера на верный след.
Из этого вытекало: Груньку-проныру убил Петер Леман. Убил и исчез.
Совпало, чёрт возьми!
И тогда возникает вопрос: кто засел на том берегу Эйхензее, караулит мёртвую голову, торчащую в озере, и палит из темноты? В компании Лисовской и Петерсона вроде бы двое мужчин — верзила-шофёр и «дедушка», которого заметили ребятишки возле джутовой мануфактуры. Надо полагать, это Леман и был — Леман, который, сбежав из дома, приготовил убежище для всей своей семьи и перешёл в наступление. Один не рискнул бы. Но вместе с Лисовской и её людьми — вполне! Не мог он простить Рейтернам, старшему и младшему, что сделали из него труса...
— Леман! — заорал Лабрюйер. — Петер Леман! Не стреляй — это я, Гроссмайстер!
Догадка оказалось верной — незримый стрелок мог бы пару раз пальнуть на голос, но не пальнул же.
— Леман, я всё знаю! Уходи, пока не поздно! Попадёшься — я не смогу тебе помочь!
Старый агент молчал.
— Уходи, говорят тебе! Ты ведь уже понял, с кем связался! Уходи немедленно, я тебя не выдам! Младшего мы берём на себя! Чем хочешь клянусь — младший не уйдёт!
Тут раздалось два выстрела — оттуда, где Хорь должен был бы встретить синий «Руссо-Балт». Это означало — ко мне!
И тут Лабрюйер растерялся.
Следовало бежать что есть духу на подмогу. Имелось два пути — вокруг озера, там, где Леман не увидит лыжника, и прямиком — там, где на пространстве в двадцать сажен лыжник будет виден стрелку.
— Леман, уходи немедленно! Сейчас тут будут наши! — крикнул он. — Ты ещё можешь успеть!
Старый агент не ответил. Тогда Лабрюйер перекрестился и, сильно пригибаясь, заскользил по опасному отрезку пути с максимальной скоростью, на какую только был способен. Он одолел этот отрезок и скрылся в леске. Выстрела не было.
Лабрюйер усмехнулся — победа, маленькая, но такая необходимая сейчас победа! Он не бежал — его несло через лес на помощь Хорю. И снова Божья милость была с ним — он не вылетел на дорогу перед синей автомобильной мордой, когда брошенная Хорём граната уже была в воздухе.
Она взорвалась не под капотом автомобиля, а в полутора аршинах перед ним. Хорь рассчитал отлично — эта граната давала множество осколков, которыми посекло шины. Автомобиль прополз по инерции сажени четыре и встал.
— Руки вверх — и выходите! — крикнул Хорь.
Из автомобиля выстрелили. В свете автомобильных фар было видно, кто стрелок: тот здоровенный детина, с которым сцепился Хорь, выслеживая госпожу Лемберг. Этого Лабрюйер и ожидал. Следовало убрать детину, пока он не догадался выключить фары. Лабрюйер выстрелил и попал водителю «Руссо-Балта» в правую руку. Это был удачный выстрел — он не задел сидевшую рядом с детиной госпожу Лисовскую.
— Амелия Гольдштейн! Выходите! Руки вверх — и выходите! — приказал Лабрюйер. — Анна Григорьевна, руки вверх — и выходите!
Он не мог понять, подобрал ли синий «Руссо-Балт» Лемана, или у старика хватило ума бежать прочь куда глаза глядят.
Амелия Гольдштейн держала наготове оружие — маленький шестизарядный дамский браунинг. Она вскинула руку, целясь, и Лабрюйер наконец-то увидел вблизи её лицо.
Она оказалась красивее, чем на фотографических карточках. Но когда она прищурилась перед тем, как нажать на спуск, Лабрюйеру сделалось страшно — женщина, что пришла отомстить, сама была опытной и хладнокровной убийцей. Он понял это сразу — уж чего-чего, а убийц он навидался. Недаром она придумала для старого Рейтерна такую смерть.
Два выстрела громыхнули разом — и обе пули не достигли цели. Лабрюйер успел встать за дерево, Амелия Гольдштейн — кинуться на пол автомобиля.
Было не до размышлений — что сделало из милой девушки, получившей прекрасной воспитание и жившей в почтенном семействе, убийцу. Следовало взять её живой.
Раненый шофёр отворил левой рукой дверцу и соскочил туда, где его не могли достать пули Лабрюйера. Два выстрела были напрасны. Амелия Гольдштейн чуть ли не кувырком последовала за ним. Теперь вся надежда была на Хоря, засевшего в укрытии по другую сторону дороги.
Хорь выстрелил дважды — как Лабрюйер и полагал, в шофёра. Казалось бы, главный боец выведен из строя. Но тут на заднем сиденье началась возня, что-то возникло рядом с Урманцевой, взметнулось ввысь — и исчезло. Хорь выстрелил и промахнулся.
— Он сзади, за авто! — крикнул Хорь. — Достань его!
Лабрюйер понял — это тот, кого в Риге знали под фамилией Петерсон.
Он проскользнул за деревьями, чтобы выполнить приказ. И тут раздался треск мотоцикла. Какой-то бешеный мотоциклист нёсся от Штинтзее к переезду. Лабрюйер даже съёжился — вот сейчас он как врежется в «Руссо-Балт»!
Но мотоцикл остановился. На нём удивительным образом уместились трое крупных мужчин. Водитель сразу выключил фару. Но света от фар «Руссо-Балта» хватило, чтобы Лабрюйер узнал их — за рулём был Теодор Рейтерн, сзади матросики Франк и Герц.
Что означало их появление — понять было мудрено. Рейтерну-младшему следовало сейчас спать у себя дома, на углу Мариинской и Малой Невской.
Раздался выстрел. Это не мог стрелять Хорь — он ещё не видел Рейтерна с матросиками, значит — Амелия Гольдштейн. Теодор Рейтерн тоже выстрелил. Видимо, не попал.
Лабрюйер знал: агентессу Эвиденцбюро следует брать живой. А Теодор Рейтерн особой ценности для наблюдательного отряда не представляет — и для него же лучше всего было бы погибнуть в перестрелке, а не сесть с позором на скамью подсудимых. Лабрюйер выстрелил — и выдал себя.
Тот из матросов, что выше и крупнее (Лабрюйер вспомнил — по описаниям высоким был Герц), кинулся к нему, выхватывая нож. Лабрюйер нажал на спуск. Но выстрела не получилось — он расстрелял весь барабан.
У него был полный карман патронов — только времени заряжать не было. Лабрюйер успел лишь выхватить финку. А у Герца был не нож — целый тесак.
Они схватились бороться.
Возле автомобиля шёл настоящий бой, пальба из нескольких стволов. Кто против кого — понять было уже невозможно.
Лабрюйер сопротивлялся отчаянно. Драться ногами он не мог — скинуть с левой ноги лыжу удалось, но крепление на правой сидело, как приклеенное. Был миг, когда он оказался сверху, потом Герц опять подмял его, и остриё ножа нависло над плечом Лабрюйера. Матрос норовил всей немалой тяжестью навалиться на нож, когда совпадут остриё и шея противника. Оставалось с четверть вершка, когда раздался выстрел, и на лицо Лабрюйеру, прямо в глаза, брызнула кровь.
Он спихнул с себя тело и сел, протирая глаза.
Вдруг совсем рядом скрипнули полозья лыж. Лабрюйер, с закрытыми глазами, выдернул из ножен штык-нож.
И услышал знакомый голос:
— Ну вот... Видишь? Я научилась стрелять.
Он затряс головой — такого быть не могло. И, опять с силой потерев кулаком глаза, открыл их.
Наташа, в мужском полушубке и тёплых шароварах, заправленных в высокие ботинки, стояла перед ним, опустив револьвер. В левой руке у неё были две лыжные палки.
— Куница, сюда!
Это кричал Хорь.
Наташа оттолкнулась и понеслась на зов.
Лабрюйер встал, очень плохо соображая. Вдруг его в жар бросило при мысли, что Наташа могла промахнуться. И вдруг стало безумно стыдно — он ведь так и не ответил ни на одно письмо! Всё прочее вмиг потеряло значение — нужно было оправдаться.
— Леопард! Мотоцикл! — крикнул из-за автомобиля Енисеев.
Мотоцикл лежал на боку, Лабрюйер кинулся к нему, но существо, похожее на вёрткую чёрную обезьяну, успело первым. Как-то разом оно подняло мотоцикл и оказалось в седле. Лабрюйер схватил двумя руками эту обезьяну за плечо и рукав, чтобы крутануть вокруг себя и опрокинуть. Но обезьяна непостижимым образом вывернулась и нанесла Лабрюйеру удар раскрытой ладонью снизу в подбородок. Он поневоле сел в снег.
Мотоцикл затарахтел и унёсся.
— Чёрт бы тебя побрал... — пробормотал Лабрюйер, ощупывая подбородок.
— Куница, Барсук, Росомаха, лесом — наперехват! К Мюллеру гоните! — кричал незримый Хорь.
Трое лыжников мелькнули и скрылись в лесу. Пальба кончилась, судя по этому уже не было нужды прятаться, и Лабрюйер достал фонарик.
— Сюда, Леопард! — позвал Хорь.
Он стоял перед синим «Руссо-Балтом», расставив ноги, в каждой руке — по револьверу.
Перед ним, шагах в десяти от него, сидела на снегу, подняв руки, Амелия Гольдштейн — за телом своего убитого шофёра. Рядом лежал раненый Теодор Рейтерн.
— Надень им браслеты, — велел Хорь. — Чёртов Петерсон! Я сам неплохо владею саватом, но этот — просто черт! Нога у него выше головы задирается, верхние удары — мне такие и не снились.
— Как мы их отсюда будем забирать? — спросил Лабрюйер, застегнув обе пары наручников.
— Мюллер должен приехать. Посмотри-ка, что там с Рейтерном.
Рейтерн был ранен в плечо и в грудь.
— Вы за это ответите, — сказал он Лабрюйеру.
— Спросите лучше, где ваш папенька, — буркнул Лабрюйер.
— Меня вызвала сестра... она к соседям побежала, у них телефонный аппарат... сказала — грабители в доме... а это — вы...
— Агент осведомительного агентства, к вашим услугам, — ответил Лабрюйер. — Сестру бы в ваши пакости не впутывали.
— Хоть одну вашу на тот свет отправил...
На снегу вверх лицом лежала Анна Григорьевна Урманцева. Седой парик слетел с неё, тёмные волосы разметались, но ей было уже всё равно, что подумают люди. Поперёк её тела лежало другое — Лабрюйер видел профиль повёрнутой влево головы и седоватую «шкиперскую» бородку.
— Она, нанявшись учить Ангелику музыке, проникла в дом и потом открыла двери госпоже Гольдштейн? — спросил Лабрюйер. — А ваших громил, видно, где-то заперла?
— Дурацкие вопросы, — ответил Рейтерн.
— Оставь его, — сказал Хорь. — И не шевели. Мы должны довезти его живым.
Амелия Гольдштейн молчала.
— Встаньте, — велел ей Лабрюйер. — Замёрзнете на снегу. Где Вильгельмина?
Ответа не было.
— Вы узнали от Урманцевой, что она подружилась с одним из наших, и испугались, что она случайно вас выдаст? Но что вас с ней объединяло? Ну? Говорите!
— Она внучка старого Лемана, — неохотно ответила Амелия Гольдштейн.
Ждать Мюллера пришлось долго. Лабрюйер успел кое-как перебинтовать Рейтерна-младшего, который потерял много крови и был совсем уж плох. Наконец автомобиль прибыл. В автомобиле был только Сенька Мякишев.
— Ушёл лесом, — не дожидаясь вопроса, сказал Мюллер. — Они — за ним, а я куда — на четырёх колёсах? Застрял бы — и автомобиль погубил! Теперь куда?
— Сперва в больницу на Рыцарской, потом — в полицейское управление, — велел Хорь.
— Поймали жуликов? — радостно спросил Сенька.
— Как видишь. Помоги занести в автомобиль этого господина, видишь — ранен.
В полицейском управлении Хорь и Лабрюйер немедленно допросили Шмидта и Розенцвайга, которых полицейские буквально вынули из постели. Шмидт признался сразу, Розенцвайг не понимал, в чём дело: он всего лишь давал бывшим однокашникам покататься то на яхте, то на автомобиле. И Франка с Герцем он считал милейшими людьми, и Теодора Рейтерна — чистым ангелом. Не забыли и срочно командировать к Рейтерну в палату старого опытного агента — для этой надобности срочно послали за Панкратовым.
— Может статься, к вам сюда придёт Петер Леман, — сказал Лабрюйер Горнфельду. — Его нужно принять как можно любезнее, чтобы наконец рассказал всё, что знает о старом Рейтерне и его сыночке. Пусть объяснит, что именно он видел и как погиб его напарник Митин. Про Амалию Гольдштейн он тоже немало знает.
Бывшая гувернантка наотрез отказалась говорить. Ей дали возможность помолчать — настоящие допросы ещё только предстояли.
Перед уходом Лабрюйер решил сделать доброе дело. Он недолюбливал Горнфельда, но хотел избавить сыскную полицию от нераскрытого убийства.
— Слушайте, Горнфельд, внимательно. Я знаю, кто убил того мужчину в меблированных комнатах на Выгонной дамбе. Я знаю его имя и прочие подробности. Сегодня не до того, а дня через два приду и всё расскажу.
Ставить точку в этом деле он предоставил Господу Богу. Если Краузе с супругой успели сбежать — их счастье. Не успели — сами виноваты.
В девять утра наблюдательный отряд собрался в фотографическом заведении, но не весь — Куницы не было. Как понял Лабрюйер, её по-джентльменски отпустили к Ольге Ливановой — переодеться и вздремнуть.
Хорь завершал телефонный доклад столичному начальству. По лицу было видно — вот теперь он своей операцией гордится. Росомаха кипятил воду для чая, Акимыч резал толстую колбасу, Сеньку приставили к мытью посуды, которой накопилось порядком.
— Нужно съездить в тот дом на Виндавской, где жил Петерсон, — сказал Хорь, повесив трубку. — Там могли остаться важные бумаги и какие-то вещи. Может быть, он за ними вернётся.
— Будет сделано, — ответил Росомаха. — Только чаю напьюсь. Ух, набегался!
Сенька, совершенно обалдевший от ночной суеты, осторожно подошёл к Лабрюйеру.
— А мне какие-никакие наградные выйдут? — спросил он. — И с «Мотора» я могу уйти?
— Можешь, конечно. «Мотором» и без тебя теперь есть кому заняться. А я отведу тебя к господину Линдеру. Ты же хотел стать полицейским агентом? Вот, считай, должность уже твоя.
— Я не пойду в полицейские агенты, — сказал Сенька. — Я с господином Мюллером уже говорил, он меня возьмёт в подручные и выучит водить автомобиль.
— На что ему подручный? — удивился Лабрюйер.
— Для пробегов!
— Каких ещё пробегов?
— Господин Мюллер рассказывал — «Руссо-Балты» в больших пробегах участвуют. Четыре года назад был пробег Питер — Рига — Питер, потом в прошлом году летом — ралли «Монте-Карло». А в этом году будет пробег по Африке! По Африке, Александр Иванович! И меня туда возьмут подручным! Штурманом-то вряд ли...
— Далась тебе эта Африка... — проворчал Лабрюйер. — Пропадёшь ты там в песках или джунглях...
— А Нагель?
— Какой Нагель?
— Который сейчас путешествует на «Руссо-Балте»! Мне господин Мюллер рассказывал, а он за Нагелем по журналам и газетам следит, он выписывает «Автомобиль», «Аэро- и автомобильная жизнь», а это «Аэро» сам Нагель выпускает. Он где только не бывал на своём «Руссо-Балте»! Сейчас по Африке едет!
Восторг, владеющий Сенькой, вызвал у Лабрюйера зависть. «Хорошо быть парнишкой, мечтающим нестись на автомобиле по Африке, — подумал он, — а солидному мужчине о чём прикажете мечтать? Вот то-то и оно...»
— Всю жизнь копаться в железках — рук никогда не отмоешь... — ворчливо сказал он.
— Так это же здорово — всю жизнь копаться в железках!
— Ладно, бог с тобой. Раз уж это твоё призвание...
И Лабрюйер крепко задумался. Сенька сделал разумный выбор — хорошее ремесло, приличный заработок, путешествия и даже немного славы. А у агента какая слава?
Енисеев сидел в углу, устроившись в кресле вальяжно, нога на ногу, и читал газету «Рижский вестник», развернув её во всю величину. Лабрюйер ходил взад-вперёд, решая важный вопрос: идти или не идти к Ольге Ливановой. Придёшь — может оказаться, что не вовремя и некстати, поскольку туда не звали. Не придёшь — ещё хуже.
— Сядь, брат Аякс, — сказал Енисеев. — Всё кончилось, можно перевести дух. Впереди, как я полагаю, стрелы Гименея... или нет, это у Купидона стрелы...
— Иди к черту, — огрызнулся Лабрюйер. — Как она сюда попала?
— Чего хочет женщина, того хочет Бог, — Енисеев развёл руками. — Её невозможно было удержать. Жанна д’Арк! Только боевой секиры недостаёт.
— Ты бы мог сказать, что она здесь.
— Не мог, брат Аякс. Мы же не слепые, видели...
— Что видели?
— Что надо, то и видели. Если бы ты знал, что она в Риге, ты бы на всё плюнул и к ней помчался.
— Это глупо. По-твоему, я мальчишка?
— Ох, брат Аякс, у меня есть смутное подозрение, что все мы — мальчишки. А как становимся взрослыми — так нам и приходит карачун...
Не желая выслушивать очередной артистический монолог, Лабрюйер просто вышел в салон. Там он засел в одиночестве — и досиделся до того, что в салон вошёл Росомаха, а следом за ним — фрау Крамер.
— О господи! — воскликнул Лабрюйер. — Вы?!
— Да...
— Она там, на Виндавской, двое суток без еды просидела, — сказал Росомаха. — Нужно срочно покормить.
— Ей не вредно и поголодать, — по-русски отрубил Лабрюйер.
— Я схожу в кухмистерскую, хоть каких щей принесу в котелке, — с тем Росомаха вышел.
— Итак, что означали поиски кардинала Мазарини? — более сурово, чем требовалось, спросил Лабрюйер.
— Мне приказали...
— Что вам приказали?
— Искать в Риге итальянцев. Всюду слушать... где по-итальянски вдруг заговорят... или акцент... Мне велели найти частного детектива, чтобы он искал...
Вошли Енисеев, Барсук и Хорь. По физиономии Аякса Саламинского было видно — предвкушает очередную анекдотическую историю.
— Вы нашли меня. Что было дальше?
— Вас господин Петерсон увидел со мной и сказал: ты кого нашла, старая?.. Я не могу это слово повторить! Он сказал: это же наш главный враг! И он увёз меня и спрятал! А разве я виновата?
— Ясно. Вы жили у него, на Виндавской?
— Нет, я на другой улице жила. Потом приехали госпожа Луговская с господином Леманом, отвезли меня на Виндавскую и запретили выходить. Я их боюсь, они ведь могут убить!
— Могут, — согласился Хорь. — Вы чудом уцелели. А где вы жили до того, как вас на Виндавскую переправили?
— Я не знаю...
— Как это — не знаете?
— Не знаю, чёрт побери и ещё раз побери! — воскликнула госпожа Крамер. — Я только знаю, что из окна было видно кладбище!
— Приятный пейзаж, — заметил Лабрюйер.
— Многообещающий, — поправил Енисеев. — Господа, у нас ведь есть карта?
— Есть, я сам покупал, — отозвался Хорь.
Перед госпожой Крамер расстелили карту Риги и окрестностей, показывали поочерёдно все кладбища и уже махнули на это дело рукой, когда она вспомнила про железную дорогу. А потом госпожа Крамер пожаловалась, что её сильно беспокоили церковные колокола.
— Да это, поди, Ивановское кладбище! — воскликнул Барсук.
— Московский форштадт! Там роту эфиопов спрятать можно, и никто не догадается, — добавил Лабрюйер. — Акимыч, мчимся к Андрею! Он скажет, к кому в тех краях можно обратиться!
— Там православный храм, я без всякого Андрея управлюсь, — усмехнулся Барсук. — Где храм и кладбище, там милые старушки. Они обо всём исправно донесут!
— И вот что, Акимыч. Там поблизости, может, даже на самом кладбище наверняка стоит брошенный мотоцикл, — сказал Хорь. — Кстати, было бы хорошо, если бы ты его прибрал к рукам. Отряду пригодится.
— Хозяйственный... — то ли насмешливо, то ли одобрительно заметил Енисеев.
— Хозяйственный, — согласился Хорь. — Акимыч, поезжай с Росомахой. Если Петерсон там — чего доброго, будет отстреливаться.
— И я с ними пойду, — вызвался Лабрюйер. Выполнять боевое задание с риском для жизни было приятнее метаний в сомнениях. Опять же, оправдание — не мог нанести визит по уважительной причине.
Пули из окошка он боялся меньше, чем объяснения с любимой женщиной.
Тут Енисеев уставился на Лабрюйера. Физиономия у него была озадаченная.
— Разве тебе больше заняться нечем, брат Аякс?
Как и следовало ожидать, Хорь встал на сторону Лабрюйера.
— Леопард отлично знает Московский форштадт. Я сам хотел послать его с Акимычем и Росомахой, — строптиво заявил он. — Но сперва нужно что-то решить с госпожой Крамер.
— Снимем ей номер во «Франкфурте-на-Майне», — предложил Енисеев. — Потом отправим в столицу. Пускай там с ней разговаривают.
Зазвонил телефон, Лабрюйер снял трубку и тут же протянул её Хорю:
— Тебя начальство требует.
Разговор был короткий, Хорь только кивал. Потом, повесив трубку, он повернулся к Лабрюйеру с Енисеевым и сказал:
— Ну вот, господа... Меня вызывают в столицу... то есть уже сейчас, вечерним поездом...
— В добрый час, — ответил Енисеев.
Хорь стянул с головы нелепый вороной парик, шваркнул его об пол и ушёл в лабораторию.
— Так-то, брат Аякс... — пробормотал Енисеев. — Выросло дитятко... Он давно был у начальства на примете...
— Да, отличный товарищ, — согласился Лабрюйер. — Ему ведь простили ту проваленную операцию?
— Простили. Он написал донесение... ох, видел я это донесение!.. Очень он тогда расстроился, требовал, чтобы его забрали из Риги, и соглашался служить в осведомительном агентстве истопником, если иначе не способен принести пользу Отечеству. Да только я этой филькиной кляузе ходу не дал. Своё донесение послал, да ещё с кем надо по телефону поговорил. Замечательный мальчишка, просто замечательный... настоящий боец...
— Ты не знаешь, куда его теперь?..
— Как я могу это знать? Не удивлюсь, если в Вену.
Енисеев подобрал парик и дважды ударил его о колено — выбил пыль.
— Казённое имущество, — усмехнулся он.
Хорь меж тем быстро переодевался в мужской костюм. Весь свой маскарад он сгрёб в кучу, смотал тугой узел и задумался — куда бы эту дрянь выбросить? Сообразил — можно отнести к Христорождественскому собору, где днём всегда сидят нищие, они даже «хромой» юбке найдут применение.
Он натянул сапоги, заправляя в голенища штанины, надел тёплую вязаную фуфайку — вроде тех, что носят авиаторы, поверх неё — чёрную кожаную куртку на овчине, в которой и на высоте в пять вёрст не замёрзнешь. Нахлобучив меховую шапку, он вышел к Лабрюйеру и Енисееву.
— Пойду прогуляюсь! — буркнул он и, прихватив узел, вышел из салона на Александровскую.
Лабрюйер и Енисеев переглянулись.
— Нервничает, — сказал Енисеев. — Очень он этого вызова ждал...
— Понятное дело, — согласился Лабрюйер.
Хорь огромными, истинно мужскими шагами, походкой, блаженство которой может оценить лишь тот, кому приходилось семенить в юбке, приближался к Эспланаде. Днём парк был полон народа — сюда приводили побегать и покататься на санках детишек, здесь прогуливались после занятий гимназисты и гимназистки. Оставив узел с тряпками нищим, Хорь постоял у собора, хотел было зайти, но вместо того решил прогуляться по Эспланаде. Просто прогуляться, бездумно прогуляться, потому что в Риге все дела завершены, а в городе, куда его пошлют, ещё не начались. Он мог себе позволить четверть часа или даже целых двадцать минут настоящего отдыха — в своём собственном, немаскарадном виде.
Ноги сами понесли к Елизаветинской — он не собирался идти к дому, где жили Минни и Вилли, он хотел обойтись без прощания, а вот как-то так получилось, что вышел к углу Елизаветинской и Николаевской...
Слева был огромный Художественный музей — мечта рижского бюргера о торжественном римском великолепии; его построили и открыли совсем недавно, и формально считалось, что он — гордость города, а журналисты обозвали его неуклюжим эклектиозавром. Справа была Елизаветинская. И если посмотреть вперёд, то там, где она плавно поворачивает, можно увидеть тот самый дом.
Хорь постоял, посмотрел, вздохнул и пошёл назад. Прощание состоялось. Теперь нужно было собрать душу в кулак и отправить её впереди паровоза в столицу.
Сборы у него были недолгие — саквояж невелик, а нажитое добро — оставить Лабрюйеру, и он же расплатится с квартирной хозяйкой. Добро — это книжки. Тащить их с собой? Нелепо...
Рижский этап короткой биографии был завершён. Время непростое, не самое лучшее в жизни, и город — не тот, о котором будешь тосковать. Вот разве что... Но и о ней вспоминать не стоит!
Хорь шёл по аллее, параллельной Александровской, и дошёл до той площадки, где дожидался весны фундамент будущего памятника фельдмаршалу князю Барклаю де Толли. Там тоже носились ребятишки, а по дальней аллее шли прогулочным шагом две барышни.
Это были Минни и Вилли.
Хорь остановился — не мог заставить себя пробежать мимо. Он смотрел на девушек, уверенный, что узнать его в мужской одежде просто невозможно.
Вилли остановилась, обернулась, поднесла ко рту руку в узорной рукавичке — и вдруг побежала к Хорю, срезав угол прямо по газону, размахивая мохнатой муфточкой. В двух шагах от него девушка поскользнулась, и Хорь успел поймать её.
— Мне всё госпожа Лемберг объяснила! — воскликнула Вилли. — Она сказала — он отличный артист! То есть вы... Я знала — она объяснила... Она ведь и сама была артисткой — пока не вышла замуж! Какая же я была дурочка!..
— Вилли...
— Она всё, всё объяснила! Совсем всё!
Хорь продолжал поддерживать Вилли под локоть. Издали за ними с неодобрением следила Минни.
— Она умная и добрая, она замечательная! Она так хорошо всё объяснила, — продолжала девушка. — Когда я узнала, то целую ночь не спала. Но она сказала, я не должна вам мешать, мне лучше уехать. Потому что вы... ах, я не могу так сказать, как сказала она... Потому что вы тогда, на «Демоне», так на меня смотрели... вы могли себя выдать, а это было бы для вас очень плохо, правда?
— Правда, — согласился Хорь. Анна Григорьевна могла знать эту тайну от Амелии Гольдштейн — та, следившая за фотографическим заведением, разобралась в маскараде.
— Я была уверена, что мы больше не встретимся. Я сказала Клерхен: если меня позовут к телефонному аппарату, пусть отвечает, что меня нет, что я уехала... Клерхен — горничная... И вот сейчас, тут, вдруг — вы...
— Удивительно, что вы меня узнали, Вилли.
— Я сама удивилась. А вы... как вас называть?..
— Не надо меня никак называть. Я уезжаю сегодня вечером, — сказал Хорь. — И я... я буду помнить о вас... у меня есть ваша карточка...
Он сказал это и сразу понял, что карточку придётся оставить в Петербурге у сестры. Брать такое с собой туда, куда пошлют, нельзя.
— А у меня вашей карточки нет...
— У меня у самого нет...
— Но вы... вы вернётесь?..
— Я постараюсь вернуться.
И тут Вилли заплакала.
Она пыталась смахнуть слёзы с лица мохнатой муфточкой, всхлипывала, и Хорь, чтобы прохожие не смотрели, повернул Вилли к себе так, что она почти прижалась щекой к его куртке.
Минни наблюдала за ними и хмурилась. Приличная девушка не станет стоять ни на улице, ни на парковой аллее, она поздоровается со знакомыми и пойдёт дальше. Стоять, да ещё с мужчиной, да чуть ли не в обнимку, — недостойно девушки из хорошей семьи. Знакомые могут увидеть! И потому Минни быстро подошла к подруге.
— Вилли, идём, — строго сказала она и достала из муфты беленький платочек, обвязанный самодельным кружевцем. — Вилли, это нехорошо...
— Минни, как ты не понимаешь!..
— Идём, идём...
Она, взяв Вилли под руку, буквально потащила её по аллее. Хорь остался стоять.
Если бы рядом был Горностай, он, усмехаясь, объяснил бы, что молоденькие барышни, воспитанные в немецком духе, очень сентиментальны, они могут рыдать над мёртвой канарейкой, а уж влюбиться за ночь в артиста для них — дело естественное, и было бы даже странно, если бы Вилли, узнав тайну Хоря и причину маскарада, вдруг им не увлеклась. Ехидство и зубоскальство Горностая, которые раньше были Хорю то неприятны, то просто отвратительны, сейчас помогли бы, как горькая таблетка, и Хорь, сорвав дурное настроение на Горностае, угомонился бы и пошёл собирать саквояж.
Но некому было сказать правду — и он стоял на аллее, у заснеженного куста, провожал взглядом девушек, знал, что догонять и продолжать разговор нельзя, но так хотелось!..
Хорь знал языки — немецкий (два диалекта), французский, немного английский, Хорь знал устройство револьвера и браунинга, многих фотографических аппаратов, Хорь был обучен работе с шифрами, вождению мотоцикла и автомобиля, приёмам «савата», Хорь умел перевязать рану и взять сломанную руку в лубки... прощаться с женщинами он ещё не умел...
Тем временем Лабрюйер отправил Сеньку отсыпаться и остался в фотографическом заведении наедине с Енисеевым. Говорить вроде было не о чем. Енисеев предложил позавтракать во «Франкфурте-на-Майне» — заявил, что без горячего и крепкого кофе он Богу душу отдаст. Тут Лабрюйер был с ним солидарен. После ночной беготни на лыжах его стало клонить в сон, а предстоял трудный день. И они бы ушли в ресторан, но в дверь салона постучала Наташа Иртенская, одетая, как полагается молодой даме, и Енисеев её впустил.
Лабрюйер знал, что встреча с Наташей будет, но растерялся и впал в ту степень прострации, которая называется «встал, как пень». Ему стало страшно — сейчас Енисеев отмочит какую-нибудь актёрскую шуточку. Но Аякс Саламинский, как-то странно притихнув, сказал, что выйдет на полчасика, хочет посидеть в компании прекрасной артистки и чашки кофе. И с тем, подхватил под локоток госпожу Крамер, смиренно сидевшую в уголке, выволок даму из салона, даже не накинув пальто — через улицу можно и так перебежать.
— Ну, что же, — сказал Лабрюйер. — Раз ты здесь...
— Да, я здесь, — согласилась Наташа. Я иначе не могла. Я знала, что должна приехать. Георгий Михайлович... я написала ему, чтобы он за меня попросил... и вот меня прислали... Теперь ты понял, чем я там, в Подмосковье, занималась...
Не сразу Лабрюйер понял, что речь идёт о Енисееве.
— Ну, тогда... — еле выговорил он. — То есть тогда...
Она улыбнулась.
— Тогда давай наконец знакомиться.
— Да, — ответил Лабрюйер. И оба надолго замолчали.
— У тебя родители живы? — осторожно спросила Наташа.
— Нет, а у тебя?
— Отец жив. Но он меня и видеть не захочет. Он человек старых правил...
Лабрюйер подумал, что но крайней мере от одного тяжкого испытания, знакомства с родителями, они оба избавлены.
— Потом когда-нибудь, — сказал он.
— Да, ты прав, потом...
Оба они, и Лабрюйер, и Наташа, чувствовали себя неловко. Куда-то подевался азарт, смятение души — притихло, следовало начинать деловитый разговор о вещах практических где и как съезжаться, каким образом жить вместе — с учётом служебных обязанностей, как устроить жизнь Серёжи.
Но говорить об этом было как-то стыдно. Наташа ждала, что Лабрюйер начнёт первый, а он, старый холостяк, никак не мог собраться с духом.
— Прости, — вдруг сказала она. — Это я сбила тебя с толку... я не должна была... лучше бы мне было помолчать...
— Нет, просто я... ну, неразговорчив, что ли, — ответил он. — Я не умею говорить о таких вещах...
— Мне казалось, что мы нашли друг друга. Ты не писал мне, Ольга это объяснила... Но я всё это время слышала твой голос. Наверно, игра воображения...
— Нет, я действительно... я говорил с тобой...
— Не оправдывайся. Никогда и ни перед кем не оправдывайся. Всё получилось не так, я это чувствую. Прости...
Она резко повернулась и вышла из салона.
Лабрюйер даже не сразу понял, что произошло. Вот только что стояла, смотрела, говорила — и вдруг сорвалась, понеслась!
Очевидно, ему не было дано понимать женщин. А если не дано — что получится из совместной жизни? Да одно недоразумение! Наверно, она просто первая догадалась об этом. Но зачем такое поспешное бегство? Странно всё-таки устроены женщины. Впрочем, ей виднее...
— Вот и славненько... — сказал Лабрюйер сам себе, прекрасно понимая, что совсем не славненько. Женщина, которая незримо была рядом с ним все эти месяцы, ушла — и надежда на встречу оказалась нелепой выдумкой одинокого человека. Встреча! Пока гремят выстрелы и под ногами — пресловутая грань между жизнью и смертью, встреча сказочно прекрасна, не нужно слов, довольно взглядов. Теперь-то как быть?
Горностай, если спросить совета, рассказал бы что-нибудь причудливо двусмысленное. Да и способен ли он давать советы в таком деле? Он прожил жизнь, поменяв несчётное количество женщин, но зная любовь лишь теоретически. Росомаха? Тот прост, тот сказал бы: дурень, беги, догоняй! Догонишь — и опять будет это тягостное молчание, опять одолеют сомнения. Акимыч? Акимыч пошутил бы, что нельзя такую красавицу отпускать. Но он может толково поговорить с влюблённым Хорём. Что он путного скажет растерявшемуся Леопарду?
Наташа, скорее всего, побежала к Ольге. Подружки посовещаются, посмотрят на всё это дело практически — да, практически! — и пошлют Глашу на вокзал за билетом. Ну, печально всё это, а делать нечего...
Даже смешно: так ждать встречи — и в последнюю минуту утратить её смысл... Даже смешно!..
Лабрюйер вспомнил, как сунул в печку исповедь Наташи, как тогда злился на неё, как переживал. Было... было... и жаркие сны были...
Отчего Господь посылает людям такую странную любовь?
Лабрюйер постоял у витрины, глядя на прохожих, и понял, что нужно сделать. Нужно пойти в Александроневскую церковь и там стоять в ожидании умной мысли, а не таращиться на пешеходов и трамваи. Там, может, душа немного успокоится и станет понятно, как быть дальше.
Церковь, к счастью, была открыта. Лабрюйер вошёл, перекрестился и стал выбирать образ, перед которым можно было бы постоять в ожидании мудрого совета свыше.
Лабрюйер, войдя, оказался посреди маленьких сгорбленных старушек, среди которых возвышался, как монумент. Старушки были благовоспитанные — пришли до начала службы, чтобы затеплить свечки, но выстроить маршрут по храму, что бы переходить от подсвечника к подсвечнику, они не умели и метались взад-вперёд, от святого Пантелеймона к Богородице, от Богородицы — в дальний угол, к Николаю-угоднику, по слухам — чудотворному, от угодника — к тому из двух канун ников, где ещё можно было поставить свечку; отчего-то тот, что возле угодника, пользовался большей популярностью, чем другой, справа от входа.
Лабрюйеру требовалось одиночество, чтобы услышан, подсказку свыше, а бабушки хоть и шёпотом, но переговаривались, а то и ссорились. Лабрюйер пошёл вправо и стал между колоннами. Там было потише.
Эти колонны были необходимы храму — они держали большой купол. Но Лабрюйеру они иногда мешали — не так уж часто он приходил во время службы и обычно оказывался сзади и не видел священников. Сейчас же он был доволен — в узком пространстве мог оказаться наедине с той силой, от которой ждал поддержки.
Не то чтобы он был суеверен — но сейчас просил знака. Каким бы мог быть этот знак — Лабрюйер понятия не имел. Возможно, несколько слов, знакомая цитата из Евангелия; возможно, необычное поведение огонька свечи.
Он не молился — он просто знал, что его видят и слышат, хотя ни единого слова он даже мысленно не произнёс. И понемногу волнение уходило, покой заполнял душу. Видимо, этой душе посылалось то, что ей на самом деле было необходимо, и Лабрюйер понимал — хватит напрасных ожиданий, жизнь должна остаться такой, как прежде. Вдруг ему стало жаль того, что не сбылось. Душа летела, душа жила надеждой, душа верила в счастье — но у какой птицы полёт бывает вечным? Может, и хорошо, что птицу на взлёте подстрелили?
Женщины, что кормились при храме, очень вовремя собрались протирать пол. Лабрюйер, не дожидаясь, пока мокрой тряпкой мазнут по сапогам, шагнул вперёд — и одновременно такой же шаг сделала женщина, стоявшая за колонной. Лабрюйер невольно взглянул в её сторону.
Это была Наташа.
Они стояли невесть сколько, один — слева от колонны, другая — справа, и могли никогда не узнать об этом.
Наташа, кажется, даже немного испугалась. Она смотрела, приоткрыв рот, словно хотела и не могла выговорить слово. Но это слово, этот краткий вопрос, было в её взгляде. Отродясь Лабрюйер не видывал таких говорящих глаз.
Он не услышал, но как-то иначе ощутил вопрос:
— Да?..
Церковь заполнялась прихожанами, Лабрюйер уступил своё место женщине, усердно пробивавшейся вперёд, и подошёл к Наташе. Его сзади подтолкнули, он сделал ещё шаг. Соприкосновения не было — не то место храм Божий, чтобы друг к дружке прижиматься. Было больше — то ощущение близости, ради которого стоит жить.
Теперь оставалось совсем немного — найти слова...





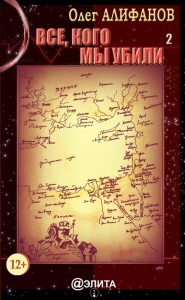


Комментарии к книге «Наблюдательный отряд», Дарья Плещеева
Всего 0 комментариев