Игорь Яковлевич Болгарин, Виктор Васильевич Смирнов Хмель свободы. Девять жизней Нестора Махно
© Болгарин И.Я., Смирнов В.В., 2019
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства
Часть первая
Глава первая
А землю уже запорошило снегом. Нестор ехал в санных розвальнях, бок о бок с верным Лашкевичем, который во время хозяйствования стал незаменимым помощником. А рядом с санями и чуть позади скакали с полдюжины черногвардейцев – конвой, или, как звучно называли его запорожские козаки, почёт.
– Трудно! – пожаловался Лашкевичу Махно. – Ученые люды все про анархическе вольне общество знают, а в жизни его ще нихто не построил. А от меня хотят, шоб я был и судьей, и начальником. А зачем тогда, спрашивается, людям свобода, если им начальник нужен? Я сам иду як слепой, руки вперед вытянувши. Пощупаю-пощупаю, – он изобразил пальцами, как ощупывает некий предмет, – вроде что-то прояснится, а дальше опять темно и непонятно…
– У вас як з тым семинаристом, – улыбнулся Лашкевич. – Женывся он и приступае, значит, до своей жинкы. Щупае, щупае. Она рассердилась: «Шо ты там мацаеш, чи в мене шось не так?» А вин: «Не мешай, женщина! Теоретически я уже всё выучив, тепер совмещаю теорию с практикой. Це есть главный философський подход. Так шо ты пока, женщина, помовчи, поскильку ты цього курса ще не проходила!» Спихнула его баба з кровати и говоре: «Собакы чи там гуси курса не проходылы, а знають, як до другого полу приступать. Возвертайся в Киев, ще трохы в той академии пидучись, а я себе подыщу неученого».
Хлопцы зареготали.
Их догнал всадник на взмыленном коне:
– Нестор Ивановыч! Вертайтесь в Гуляйполе!
– Шо там ще?
– Та приихалы якись… чи большовыкы, чи хто их… Трохи на бандитов схожи!
– Ну и шо им надо?
– Кажуть, цю… свою власть будуть устанавлювать…
Дело нешуточное! Кавалькада разом развернулась, всадники пришпорили коней…
Десятка два-три человек собрались на площади у волостного правления. Перед ними, взобравшись на телегу, выступал смуглый коренастый человек в солдатской шинели – Павел Глыба.
Махно остановил сани близ сборища; тут же кучкой, не слезая с коней, гуртовались его черногвардейцы.
– Вы меня, земляки, добре знаете, представляться не надо! – Глыба могучим басом перекрывал все звуки площади. – Туточки я возрос, отсюда воевать пишов, а теперь вот приехал до вас от имени партии большевиков, котора на всю Рассею призвела переворот, смела́ стару власть и дала трудящим людям равенство, свободу, а также заключила мир и приступила к переделу панской земли…
– От тоби на! Воны тилькы приступылы, а мы вже давно передилылы! – крикнул в ответ откуда-то из толпы Гнат Пасько.
Площадь ответила на это одобрительным и смешливым гулом. Но Глыба был не из тех, кто легко сдается.
– Это я знаю, товарищи! Но нет у вас верного руководства! Направляющей и созидающей силы! И потому я вам советую, во-первых, признать за руководство революционный комитет в составе трех товарищей… вон ще тех двох – Саламаху и Гузенка. Рабочи товарищи, настоящи пролетарии. – Глыба указал на двух человек в брезентовых куртках, покуривающих чуть поодаль. – А в ваш Совет кооптировать меня як большевика и коммуниста… для осуществления, так сказать, принципа диктатуры пролетарьята…
– «Копытировать» – це як? – полюбопытствовал еще кто-то из толпы. – Копытом пид зад чи шо?
Гуляйпольцы рассмеялись.
Глыба и сам посмеялся вместе со всеми, затем выдержал паузу, подождал, пока стихнет шум. Стреляный воробей.
– Пошутить я тоже люблю, товарищи. Но дело такое, шо не до шуток. Кругом враги. Нам надо всем вместе буть… под руководством пролетарьята. Хто вам ще оружие дасть, патроны, керосин, ситчик, все такое?
– А хто пролетариату хлеба даст? – Приблизившийся к выступающему Махно до сих пор тоже «держал паузу». – Молочка, масличка, яечок…
Все собравшиеся обернулись.
– Нестор!
– Махно вернувся! – прокатилось по площади.
Гуляйпольцы поняли: ожидается словесная схватка. Ну-ка, кто кого? Ждали победы Нестора. Но Глыба внушал опасение: голос что иерихонская труба, в себе уверен.
– Нестор, а може, давай их погоным к едрене фене в Харьков чи в Катеринослав! – наклонясь с коня, прошептал Щусь. – Хай там устроюють свою диктатуру!
– Погоди! Дело серьезне, – ответил Махно.
– Товарищ Махно! – узнав Нестора, обратился к нему Глыба. – Уважаю вас як борца с царизмом, но як бывший узник, многое переживший, вы, конечно же, ще не до конца успели понять, шо такое пролетарьят. А это, як бы сказать, старший брат и руководитель крестьянства… организованный и умный! Пролетарий всегда пролетарий, а крестьянство есть и беднейшее, и середневое, и богатое, эксплуататорское… И крестьянин, не будем правды скрывать, стремится к богачеству, порождая из себя буржуазию… А пролетарий – он гегемон…
– Погодь, погодь! – остановил оратора Махно. – Ты такие слова в народ, як бомбы, не кидай. Гегемон – это шо? Я так понимаю, это вроде як верховная власть. Так? Ты уж заодно всем нам и скажи, хто у пролетариата ходит в гегемонах? Ну, хто творит диктатуру? Хто командуе?
Головы поворачивались от Махно к Глыбе, от Глыбы – к Махно.
– Выдающиеся люди, пролетарски вожди…
– Ленин, Троцкий, Антонов-Овсеенко… – подсказал Нестор.
– Ну, не только! – простодушно ощерился Глыба. – И ще много другых.
– Возьми, к примеру, Ленина. Из дворянской семьи, из панов. Троцкий опять же наш, херсонский – сын богатого землевладельца и арендатора. Антонов, который Овсеенко, – полковничий сынок и сам офицер. Тоже с Украины… Як же они в пролетариях оказались?
Глыба начал сердиться:
– Происхождение тут ни при чем, товарищ Махно! Маркс и Энгельс тоже не из рабочих. Но они духом пролетарским пропитались! Ясное дело!
– Шо это за дух такой? – продолжал «диспут» Махно. – К примеру, если в коровнике поработаешь – навозным духом пропитаешься. Это понятно. А если в степу на ветерку постоять – ниякого особого духу… Есть ще святый дух. Так про него надо в церкви толковать!
– А ваши анархические вожди, они хто? – наступал Глыба. – Бакунина взять. Сын крупного помещика. Кропоткин – князь, богач…
– Так они ж себя в гегемоны не определяют! Диктатуру не строят! Они говорят: мы все равны! Власть не берут!.. А ваши большевики, они как говорят? Мы – власть! Слухайте нас!
– И правильно, – уже побагровел Глыба. – Потому як есть положение: пролетариат осуществляе руководство. А во главе – вожди. И это, безусловно, правильное положение!
– Безусловно правильное положение у тебя, товарищ, когда ты орлом в нужнике сидишь, – сказал Махно под хохот односельчан. – Крестьянское положение мы и сами хорошо понимаем, как есть сами от дедов-прадедов крестьяне. И потому, если хочешь быть с нами, то вникай в наши дела, поддерживай. И заместо диктатуры лучше давай нам мануфактуру…
– Издеваетесь, товарищ Махно! – закричал Глыба. – А там, в Петрограде, люди голодают! И вам это самовольство даром не пройдет!
– Только каторгой меня не пугай! – ответил Махно. – На пролетариат мы не в обиде… и в знак дружбы, хлопцы… – Нестор огляделся вокруг, – …в знак дружбы соберем голодающему питерскому пролетариату два вагона пшеницы – от анархистов Гуляйполя!
– А шо ж, и отправим! – раздались голоса. – Поедем по хуторам…
– Я мешок насобираю!
– И я… два пуда!
– Хай и большевыки тоже шо-небудь наскребуть… По силе возможности…
– Так как, товарищ Глыба, повезешь гуляйпольскую пшеницу голодающему Петрограду? – спросил Махно.
Большевику деваться было некуда. Проиграл по всем статьям.
– Дело хорошее… – пробасил он. – Нияких возражениев!
И через два дня они уже вместе таскали мешки с пшеницей в товарный вагон.
Махно, хоть по сравнению с большевиком и выглядел тщедушным, старался ни в чем от Глыбы не отставать. Двое мужиков вываливали с телеги на его спину тяжеленный зерновой лантух, и он, покряхтывая и слегка пошатываясь под его тяжестью, нес.
– Отдохнули б вы, Нестор Иванович! Есть же кому таскать… он яки бугаи здоровые, чего им!..
Но Махно не отвечал. Да и поговоришь ли под такой тяжестью?
Сноровисто и ловко он подтаскивал мешок к открытому зеву вагона, где руки гуляйпольцев подхватывали груз. И так, без остановки, ходка за ходкой. Лишь иногда он косил глазом на плавно двигающегося с мешком на спине Глыбу. Прикидывал: как соперник, не выдохся ли?
Наступил наконец перекур. Глыба свернул огромную самокрутку.
– Двужильный ты, не пойму? – посмотрел он на Нестора. – И каторга тебя, похоже, не сумела срасходовать.
– А я вроде сыромятной кожи, – усмехнулся Махно. – Если ее долго бить, мять да мочить – только крепче становится.
Они стояли, прислонившись к рештовке пустых саней.
– Упрямый вы народ – анархисты, – сказал Глыба. – Ты погляди, шо вокруг тебя деется. С западу немцы нависли, с юга колонисты сбиваются в отряды. В центре эта самая Центральная рада войска налаживае. А под самым твоим носом калединское офицерье на Дон пробивается. Каледин в Ростове, похоже, поход на Москву задумав, свое войско созывае…
– Где тот Каледин! Где тот Дон! – отмахнулся Нестор.
– С Дона на Москву аккурат пряма дорога через наши с тобой края. Вчера на Кичкасском мосту сотни полторы офицеров видел. Лед на Днепре ще не став. От они тут, у тебя под боком, и переправляются. По Кичкасскому мосту, больше негде… Смотри, будет тебе анархическа республика, когда они с Дона сюда попрут. Жратвы там для всех обмаль. Долго не усидять. Сюда двинут, в богату Таврию…
Махно нахмурился:
– Днепр мы перекроем. Офицеров у себя не потерпим. И вас, большевиков, тоже.
– Ну, на слова ты горазд, не переплюнешь!
– В работе ты меня тоже не переплюнул, Глыба!
На следующий день ранним утром собрал Нестор свое пока еще невеликое войско.
– Федос, бери с собой полсотни хлопцив – и в обход на правый берег, до Кичкасского моста.
– Та ты шо, Нестор! Днипро ще не став, шуга плыве.
– Паняй до деда Хандуся, рыбаки помогут переправиться до Никольского. А там – бережочком. И шоб в полночь був коло самого моста.
– Понял, – кивнул Щусь.
– А я с нашего берега зайду, од Мокрой..
– Задача напугать, чи…
– Кто испугается – останется живой. Остальных – в роспыл. То ж офицерье.
– Так патронив же жменька, Нестор.
– Если б патронов было вдосталь, я б кого другого послал.
И ушел отряд по широкому заснеженному шляху…
К вечеру на каком-то развилке Щусь со своими черногвардейцами свернул влево. Скрылись в камышах кони. Исчезли хлопцы, поднимая в прощальном приветствии шашки. Некоторое время еще доносился шелест травы, но вскоре и он стих…
И уже только отряд Махно двигался по левому берегу к Кичкасской переправе. Тачанки, брички, сани, а больше – всадники. Вооружились так, словно у каждого по десять рук.
К черногвардейцам и селянам-ополченцам присоединились и солдаты бывшего Московского полка – пулеметчики Корнеев и Грузнов, здесь же был и Халабудов. В их повозке у ног покачивался «Максим», тряслась заправленная матерчатая лента, один конец которой висел на шее Грузнова как шарф. У этих «москалей»-добровольцев патронов было не то чтобы вдоволь, но для небольшого боя хватит.
Рядом с Нестором в санях сидел брат Савва, во фронтовой папахе с черной лентой – знаком анархистов, в солдатской шинели, с винтовкой на коленях.
– Ты, Савочка, сьодни командуй. Все ж войну прошел, може, сумееш с офицерьем потолковать.
– Якый з мене командир, Нестор?
– Сумееш, Савочка! Сумееш. Та й я ж при тебе буду. В случай чого – подмогну. Постараться бы без крови обойтись. Если у них вооруженный отряд – не осилим.
Проезжали через Новокичкас. Время было рождественское, святочное. Закатившееся солнце еще подсвечивало небо, и купола церкви сияли малиновым цветом. У паперти собрались принарядившиеся сельчане. Праздничный перезвон наполнял воздух. Почти все махновцы, за исключением черногвардейцев, проезжая мимо церкви, крестились на купола. Украдкой крестился и едущий на низкорослой лошадке рядом с санями Нестора Иван Лепетченко.
Повсюду гомон, веселье, песни. Ходила гурьбой молодежь. Детвора пела колядки, щедривки, над головами держали бумажные звезды с горящими внутри сальными свечками. В руках – мешки для подарков.
«У нашого хозяина золоти горы, золоти горы та высоки дубы…» – доносился из переулка высокий девичий голос. И ему отвечал нестройный хор с другого конца села: «…Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье…»
Савва вытер молодецкий ус, поглядел по сторонам:
– Богате село… Надо б тут заночувать!
– На перины потянуло? – нахмурился Нестор.
– Празднык же якый! Рождество! А мы як ти нехрысти!
Нестор зыркнул на брата холодным колючим взглядом.
– Це я так, до примеру, – примирительно вздохнул Савва. – Вспомныв, як в Рождество батько наш Иван Матвеевыч з мамкою в церкву на Всенощну ходылы. Ты ще малый був, не помныш. Чи тебе ще й не було. Н-да! А мы, пацанва, колядувать ходылы. Вирыш – ни, конфетамы, ковбасой прямо объидалысь. Ще й додому приносылы.
Нестор молчал.
Проезжающих «запорожцев» обступили гуляющие. Кто-то узнал в санях Махно.
– Нестор Ивановыч! З святом вас! Здоровьичка доброго.
– До нас! До нас! Погуляймо трошкы!
Махно, хоть и был польщен вниманием, сделал строгое лицо.
– Лашкевич! – крикнул он, обернувшись к следующей за ним тачанке. – Кинь колядникам чого-небудь… Ковбаски, грошей…
Круги колбасы и медяки полетели в снег. Детвора со смехом стала подбирать дары, образовала кучу-малу. Весело отнимали друг у дружки колбасу, рвали на куски, вгрызались в нее зубами…
Постепенно вереница повозок, саней и всадников проехала село. От огоньков, от света рождественских звезд – в ночь.
– Эх! Кончается девятьсот семнадцатый, – мечтательно произнес Савва. – Добрый был год. Все сбулось, о чем думки булы. И вся семья вмести, и ты на свободи, и хлопци дружни… Жизня наступае – лучшее и буть не може. Ни панов, ни подати, ни рекрутства…
Ничего не ответил Нестор брату. Он уже слышал эти восторги. Как бы не сглазить!
На рассвете гуляйпольцы заняли позиции на холмах. На ближней к мосту высотке обосновался пулеметный расчет из нескольких человек.
Схваченный ледовыми рукавицами Днепр здесь, где кончались скалистые, гладко вылизанные ветром и водой пороги, бешено клокотал. Черные струи то выныривали из-под белых перемычек, то снова уплывали куда-то в пугающую глубь.
Грохот воды перекрывал все звуки. Пар стоял над рекой.
Нестор с Саввой неторопливо дошли до середины моста, склонились над бушующей водой. Страшно было глядеть вниз. Деревянные перила и настил дрожали от напора.
Нестор перешел на правый берег, увидел неподалеку бугорочек, заметил на нем какое-то легкое шевеление.
– Федос, ты на месте?
– С ночи сидим здесь, як ты велел! – отозвался Щусь.
– Посмотри, не видать там офицерья?
– Вроде йдуть! – донесся издали голос Щуся.
– Сколько?
– Чоловик двадцать, може, трошки больше… и дальше ще якие-то темнеють!
– Ну и затихни!
Нестор вернулся на левый берег, где его ждали Савва и еще несколько черногвардейцев. Перекрывая шум воды, крикнул:
– Идуть!
Вскоре из-за бугорочка показалась первая группа офицеров. Это была уже не бравая армия России. Одежонка поизносилась на фронте и за время переходов по охваченным большевизмом и крестьянскими восстаниями местам. Лица небриты. Здоровые помогали идти раненым, больным. Двое потерявших коней кавалеристов несли на спинах седла. За их спинами нелепо мотались кожаные путлища с поблескивающими железом стременами.
– Ты начинай з нымы переговоры, а я на всякий случай при пулемети побуду, – сказал Нестору Савва и поднялся на пригорок. Сверху, от «Максима», он стал наблюдать в бинокль.
Нестор неторопливо, прогулочным шагом, двинулся навстречу приближающимся офицерам. Остановился на середине моста. Сопровождавшие его хлопцы прошли дальше.
Офицеры заметили вооруженных людей, с тревогой в них всматривались. Но – куда денешься? – продолжали идти. Попадались на их долгом пути и враги, и доброжелатели. Не столкнешься – не определишь, кто они, чего ждать от них, добра или зла.
Гуляйпольцы молча посторонились, пропуская офицеров на мост. Сами пошли сзади.
Нестор с легкой усмешкой рассматривал бредущих по мосту офицеров, усталых, перевязанных грязными, со следами засохшей крови, бинтами.
– Куда, господа, путь держите? – наконец спросил он, преграждая им дорогу. Их тут же окружили черногвардейцы.
– На юг. В родные края, – ответил крепко сбитый, ладный поручик, туго охваченный амуницией.
– Кому «родные»? Вам? Чи генералу Каледину?
Черногвардейцы взяли оружие на изготовку. Поручик тоже сделал попытку снять с плеча карабин.
– Не норовитесь, ваше благородие, – усмехнулся Нестор, – мы тут тоже все с норовом. – И крикнул: – Федосий! Тут господа не верят, шо у тебя скверный характер. Скажи им пару слов, не больше!
– Поняв! – И с правобережья, совсем низко над мостом, пролетели две короткие пулеметные очереди. – Можно и ще! Только я ще пока не сильно осерчав! – донеслось издали.
Офицеры растерянно заозирались. Увидели направленный на них пулемет. И тот разглядели, что сзади, на бугорочке, в кустарнике притаился.
Поручик вновь набросил карабин на плечо:
– Вы не шибко на нас наступайте. Следом ще тыщ пять идуть. Восемь эшелонов в Никополе разгрузились. А Днепр не стал. Потому мы сюда. Вынужденно. Другого путя нету. В случай чего, будем с оружием прорываться.
– Ты нас, поручик, тоже не пужай, – сказал стоящий рядом с Нестором Сашко Лапетченко. – Мы пужани и стреляни. Так шо страх уже весь вышел. Одна лють осталась. Будете прорываться, тем хужее для вас.
Поручик еще раз глянул на пригорок, откуда на мост смотрел темный зрачок пулемета.
– А может, договоримся, козачки? – спросил он. – Вы – запорожские, мы – донские, чего нам делить?.. Отступного дадим!
– Отступного?.. Это можно, – согласился Нестор. – Скидывайте оружие, седла. Это нам сгодится. И сами раздевайтесь!
– Зачем?
– Як «зачем»? До Днепра зачем добирались? Не иначе шоб искупаться! От и скидывайте все с себя. Исподнее тоже. Оно вам больше не понадобится. На том свете другое дадуть, чистое, не вшивое…
Поручик сбросил рваную шинель, папаху. Остался в гимнастерке с двумя «Георгиями», с красными нашивками на правом рукаве, свидетельствующими о ранениях. Губы его кривила презрительная улыбка.
– Нестор Ивановыч! Тут ще йдуть! – крикнул с правого берега Щусь.
– Сколько?
– Та штук десять.
– Гоните и их до гурту!
Конные черногвардейцы взяли в оцепление еще группу офицеров. На мосту их догнал Федос. С пригорка спустился Савва. Махно отошел в сторонку, к перилам, равнодушно глядел на бушующие черные струи. Он как бы сдал командование Савве. Впрочем, зная о мягкотелости Саввы, обязанности начальника без всякого приказа принял на себя энергичный Щусь.
– Чого голый стоиш? – оглядел он поручика.
– Не хоче купаться, – со смехом объяснил кто-то из гуляйпольцев.
– Расстреливайте, – сказал поручик, дрожа от холода. – Сделайте себе удовольствию. А топить себя, как котенка, не позволю!
– Скажите! Он, видите ли, не позволит! – возмутился Федос. – Це мы тут позволяем, ваше благородие!.. А ну возьмите его, хлопцы!..
Несколько дюжих сельчан схватили поручика, подняли, в то время как остальные держали под прицелом других офицеров. Поручик отчаянно сопротивлялся.
Внизу клокотала, втягиваясь в ледовую пещеру, черная вода.
– Стойте! – вдруг приказал Махно, и, несмотря на шум воды, его услышали. Опустили поручика на на настил моста. Тот затравленно смотрел на приближающегося Нестора, мрачного, в крестьянской шапке и жупане, перехлестнутом двумя ремнями, на которых висели две кобуры.
– От шо, ваши благородия! – обратился Махно к офицерам. – Не додому вы шли, а до заклятого врага революции атамана Каледина. В связи с чем не можем мы допустить, шоб вы этим вот оружием с нами потом воевали. Потому предлагаю: сдавайте оружие, срывайте погоны, кидайте тут все свои цацки – и йдить на все четыре стороны. Седла, хто несет, тоже оставьте. А одежонку, обувку вам дарим. В связи с Рождеством.
– Нестор, та ты шо! – выкрикнул уже осатаневший от близости смертной забавы Щусь.
– Смолкни! – оборвал его Махно.
Поручик повернулся к сотоварищам. В их глазах читались растеренность и даже некоторая радость по поводу того, что маленький человек в жупане предложил им единственно возможный выход.
Поручик усмехнулся.
– Ордена, погоны и оружие – это моя честь, – хрипло сказал он. – А честь дороже жизни! Вам этого, верно, не понять? – Он коснулся ладонью серебристых крестов, висящих на старенькой гимнастерке. – Кресты мне даны за то, шо смерти не боявся. Так почему я их должен срывать?!
Он выдержал тяжелый взгляд Махно. Он решился. Чувствовалось, что теперь он мог выдержать любой взгляд.
– Красиво говорите, – не без уважения сказал Махно и вздохнул: – Шо ж… ни вам теперь от слова не отступить, ни мне!
Он махнул рукой, и по его знаку черногвардейцы тотчас сбросили поручика с моста в клокочущие буруны…
– Кому ще честь дороже жизни – не заставляйте моих хлопцев… – И Махно снова отошел в сторону, передоверив командование Савве и Щусю. Он явно не хотел быть участником жестокой расправы. Знал: в истории этой войны такое запомнят… Запишут.
Савва перевел взгляд на остальных офицеров. Многие стали снимать с себя шашки и другое оружие, бросали его в кучу, торопливо срывали погоны, знаки отличия, кресты. Но несколько человек столпились возле бравого унтера, который, сняв шинель, пребывал во всем блеске своего «иконостаса» из четырех Георгиевских крестов.
– Ну, вы йдить! – отпустил Савва тех, кто проявил покорность. – До вас претензиев нема. Мо, потом будуть, когда встренемся в бою.
Те, кого пощадили, стараясь не показать, что торопятся, трусцой побежали прочь. Сутулились, ожидая выстрела в спину.
– Ну а вы сами выбралы свою дорогу! – Стволом маузера Федос показал вниз, в темную воду.
Тесной кучкой обреченные ступили к перилам. Перед тем как прыгнуть, унтер перекрестился. И все последовали его примеру.
К вечеру наступил перерыв в их изнурительной «работе». Черногвардейцы отогревались у костра, жарили на прутьях лозы куски сала и колбасы. Пошла по кругу и бутылка, веселя и помогая забыться.
– А все ж таки, Нестор, понапрасну мы почти половину отпустили, – жуя, сказал Федос. – Оружие нове найдуть. И правильно говорил Савва: мы с имы ще встренемся в каком-то кровавом бою.
– А мени кажеться, по уму поступили, – возразил Лашкевич. – Те, кого отпустили, то так… пустота… нетолочь. А от те, шо потоплы, булы настоящие воякы… те и взаправду булы опасни…
– Эх ты, «булгахтер», – вступил в разговор Сашко Лепетченко. – Це только на твоих счетах костяшки белые та чорные. А в жизни попробуй разберись… И заяц бувае смелым…
– Если человек смелый, он в любе время смелый, завзятый.
– Завзятых и потопили. Он сколько их утопло за день.
– Всех надо було! – гнул свою линию Федос.
Нестор молчал. Молчал и сидящий чуть в стороне Иван Лепетченко. Не ел, как все, задумчиво смотрел на огонь.
– Хлопци! – крикнул кто-то из махновцев с левобережной высотки. – Ще двох ведуть! Тоже, похоже, охвицерив!..
Двое офицеров, с карабинами за плечами, вскоре встали перед костром, окруженные охранниками из свиты Махно. Один – высокий, красивый, с тонкими и властными чертами лица. Капитан. Второй – должно быть, его подчиненный – молоденький прапорщик, интеллигентный, из «вольноперов».
Махно всмотрелся в капитана.
– А-а, пан Данилевский, – наконец произнес он. – Пан Владислав… Молодой хозяин. Меня не признаёте?
– Нет.
– Махно… Помните пастушка, шо за вашим конем не углядел? Ще ваш папа приказал батогом меня выпороть, а вы заступились. И сестра ваша.
– А… да-да… – наморщил лоб Данилевский. – Как же… припоминаю…
Он покачал головой, как бы осознавая ту бездну времени, которая разделяла «сейчас» и «когда-то». Но страха в его глазах не было.
– Как вы меня узнали? – спросил капитан. – С тех пор много времени прошло. Я ведь изменился.
– Портретик ваш недавно видел. В имении.
И тут Данилевский забеспокоился:
– Вы там были? Что с отцом? С сестрой? Они живы?
– Живы, живы, – ответил Махно. – Отпустили их… с конюхом и с каретой… С вашим портретиком. А в имении зараз коммуна. Анархическа.
– Мне наплевать на имение, на коммуну, на анархию, – ответил капитан. – Живы – хорошо. Если, конечно, не врете.
Хлопцы возмутились. Щусь опустил руку на рукоять сабли. Даже юный прапорщик опасливо покосился на своего высокомерного командира.
Но Нестор был спокоен.
– Шо ж, уважаю за смелый разговор, – сказал он. – А врать не умею. С малку не научился… Ну, хоть мы и старые знакомые, а придется вам соблюдать наш закон. Скидывайте оружие, срывайте ваши цацкы, награды… погоны-шевроны… и идите, куда шли.
– Как же вы можете кадрового офицера просить об этом? – усмехнулся Данилевский. – Это невозможно.
– Та тебя ж не просют! – не выдержал Федос. – Тебе приказывают, пан… если жить хочешь! А нет – так он, в воду. Со всей своей офицерской спесью!
– Это не спесь. Это честь, – ответил Данилевский.
– Надоели вы с вашей «честью». Только й разговору!.. Топите их, хлопцы, поскорее, – скомандовал Щусь, – а то вечеря совсем остыне!
И в самом деле, от костра доносился запах горячей картошки, изнывающего на огне сала, чесночной домашней колбасы.
Офицеры тоже были голодны и, несмотря на свое отчаянное положение, сглатывали слюну.
Махновцы уже обступили их со всех строн, готовые учинить расправу.
– Стойте! – властно крикнул Данилевский, и они остановились. – Михаил Петрович! – обратился капитан к прапорщику. – На вас мое решение не распространяется. Вы только что из студентов, толком не служили… своим командирским распоряжением разрешаю вам… – Он несколькими ловкими движениями сорвал с прапорщика погоны, кобуру с револьвером, шашку, бросил все это добро на настил. – Ну, а наград у вас пока нету… Бегите, а то замерзнете.
– Живи, прапор! – сказал Махно, плетью указывая прапорщику, в какую сторону бежать.
Прапорщик нерешительно пошел по мосту. По обе стороны его пути грохотала и пузырилась вода. В сумерках и без того страшный Днепр казался еще страшнее и рев воды оглушительнее.
Вчерашний студент шел, беспомощно оглядываясь. Ему хотелось поскорее оказаться как можно дальше от этого ужасного места, но и бежать, выказать страх при командире он не мог.
Быстро темнело.
Черногвардейцы подступили к капитану.
– Я сам!
– Как хочешь, – согласился Щусь.
Под дулами винтовок и пистолетов Данилевский быстро стянул с себя карабин, бросил в воду. Следом полетела амуниция с кобурой и шашкой, а затем и шинель. И сапоги исчезли в темной воде, и галифе с белой окантовкой. Он остался в гимнастерке с крестами и нашивками и в шерстяном, теплом исподнем.
Перекрестившись, надеясь на Бога, на удачу и на свой опыт «соколиста» и спортсмена, капитан прыгнул с перил моста. Прыгнул ловко, косой линией, вниз головой. И исчез под водой. Не всплыл, не взмахнул рукой. Бешеные буруны сразу поглотили его, утащили в черную глубину.
– Нестор! – юродствуя, закричал Федос. – Горе! Як жыть? У нашого имения больше нема наследника!
Махно не ответил. Он мрачно смотрел, как ссутулившийся Иван Лепетченко часто крестился и шептал слова молитвы.
– Ты шо, Иван, заупокойную читаешь?
Младший Лепетченко продолжал креститься, наклонив голову и глядя себе под ноги.
Опустел мост. К костру подсели свободные от дежурства черногвардейцы: Щусь, Сашко Лепетченко, Калашник, Каретников, Савва…
– Хоть ночью воны, може, не пойдуть, – сказал Сашко. – Заморывся за день…
Иван подошел к брату, протянул ему свою винтовку:
– Возьми.
– А ты куда?
Иван молча пошел прочь от костра.
– Иван! – крикнул Сашко. – Куда ты?
Младший брат обернулся:
– Погано, Сашко… Батьку свого мы сами убили, попа убили, багато народу поубивали, потопили. Не буде нам счастья, хлопци. Грех велыкый!
– Ну и куды ж ты?
– До Бога.
И он продолжал медленно идти вверх по белому снежному косогору, оставляя четкие следы.
– Иван, мы клятву на крови давалы! – закричал ему вслед Сашко. – Помнишь, Иван? Там, в кузни! Не можеш ты нас оставыть!
Но Иван уходил все дальше и дальше.
Сашко схватил винтовку, передернул затвор. Поблескивающий медью патрон скользнул в казенник.
– Стой, Иван!.. Стой, кажу!.. – в отчаянии закричал Сашко. – Не изменяй нашему братству!
Он начал целиться в фигурку, темным пятном выделяющуюся на склоне.
Но Махно отвел рукой ствол «винтаря»:
– Не надо, Сашко. Единый твой брат. Другого не будет.
Уходил Иван…
Поздним вечером, укладываясь у костра на кожушок, Щусь прошептал Сашку Лепетченко:
– Нет, не тот стал Нестор! Раньше был как стальной штык. А теперь! Сколько офицерья отпустил! Жалостливый стал!.. Это она все, она! Погубит она Нестора… Бабы, они все такие: из стали тесто могуть замесить…
Сашко, уткнувшись в овечью шерсть, беззвучно плакал. Он чувствовал, что брат ушел от них навсегда.
Глава вторая
Владислав Данилевский вынырнул из ледяного коридора. Днепровская струя заталкивала его в новую западню, но, оказавшись на чистой воде, последними усилиями, отчаянно загребая мощными руками, капитан пристал к береговой закраине. Ломая лед и кровяня руки, выбрался на заснеженный берег. Перевел дыхание. От него шел пар.
Он заставил себя бежать. В сторону от реки, в сгущающуюся темноту. Голые ступни упрямо топтали снег. Капитан хотел жить и знал, что ему нельзя останавливаться.
Вдали светились огоньки большого села, доносились песни, музыка, огненные пороховые шутихи время от времени взлетали над хатами, на миг освещая соломенные крыши, тополя, далекие фигурки людей. Кто-то палил в небо из винтовки. Рождество!
Данилевский бежал к хате, стоявшей на отшибе, в стороне от села. Хата была неказистая, но в окошке теплился огонек.
Капитан упал на пороге, попытался постучать в дверь, но руки уже не слушались его, только слабо скребли по деревянному косяку.
И все-таки его услышали. Дверь открылась, и в щель осторожно выглянула баба в толстом платке, накинутом на голову и плечи…
Свет от сальной плошки в хате был слабый. Затащив капитана в дом, хозяйка скинула платок и оказалась совсем молодой еще женщиной: черноволосой, пышногрудой, в одной рубахе, охваченной пониже шеи тесемкой со сборками.
Нимало не стесняясь, она втащила капитана на полати, раздела догола и принялась, поливая себе из пузырьков на ладони темную жидкость, растирать крепкое, но обмякшее тело офицера. Поворачивала его из стороны в сторону. Руки Данилевского безвольно, со стуком падали на застланные рядном доски. Перекатывался на шее крестик на дорогой цепочке.
При этом хозяйка странной хаты без конца нашептывала что-то, из чего можно было разобрать лишь отдельные слова:
– …ты пройди, огонь, по билу тилу, по темным жылам, не будь огонь пожаром, а будь жаром… Спаси, Христос, помылуй, Мыкола-угоднык. Розгоны кровь, не дай застыть… Божья Маты-печальныця, як твий сын не замерз у овечих яслях, так и ты не дай душу на замерзання…
Сильная и крепкая, она втащила капитана на печь, накрыла старым кожухом. Влила в горло жидкость из другого пузырька. Сама стала на колени перед красным кутом, где горела лампадка. Зашептала, запела слова, не похожие на обычный рождественский тропарь. Здесь было много слов и фраз, принадлежащих только ей:
– …Христе Боже наш, возсияя мирови свет разума, в нем бо звездам… учахуся Тебе кланятися солнце правды… и народився Ты нагий и слабый, як дитя, але силой духа Своей сильней царей и владык… от же дай сьому человеку, нагому и слабому, як и Ты был, трошкы силы… бо й його матир родила, и його хтось любыть та й жде…
Темны и загадочны были лики на старых иконах, едва тлел огонек в лампадке…
…Утром Владислав увидел хозяйку убогой хаты все там же, в красном куту, коленопреклоненной перед иконами. То ли молилась всю ночь, то ли встала спозаранку. Красивая была, молодая.
– …Спасыби тоби, Владыко человеколюбче и Матери Твоий беспорочний, учуялы вы мий слабый голос…
Данилевский смотрел на женщину. Перекрестился при ее словах.
А она, встав с колен, бросила ему нехитрую крестьянскую одежку:
– Слазьте з печи, пан офицер. Будем снидать. Самовар готовый.
– А почему ты решила, что я офицер? – хрипло спросил Данилевский.
Хозяйка усмехнулась:
– Так у вас же хресты и всяке таке на рубахе.
– Углядела, – хмыкнул Владислав.
– Та й тело не селянське, панське тело! И исподне офицерське… Подсохне – одинете.
Только теперь Данилевский сообразил, что лежит под полушубком голый. Он всматривался в свою спасительницу.
– Кто ты? Как тебя зовут? – спросил он. – За кого молиться?
– Марией зовут. Обыкновенне имя.
– Имя-то, может… Сама ты необыкновенная… А почему на отшибе живешь? Все Рождество празднуют, а ты одна?
– А хто ж мене пустыть праздновать? Я – ведьма. Побьють мене.
– Ведьма?
– Обыкновенна ведьма. – Она заливисто расхохоталась. – У коров молоко сдаиваю, у чоловикив мужску сылу отбыраю, урожай порчу, на метле на Лысу гору летаю… з чортамы знаюсь… Не боишься? – Она вдруг перешла на «ты».
– Я? – спросил Данилевский. – Подойди сюда.
Она подошла. Он притянул ее и крепко поцеловал в губы.
Отстранившись, она перевела дыхание. Посмотрела пристально.
– Ой, пан… на свою биду я двери тебе открыла. Багато будешь по белу свету ездить, море крови людской прольеш, и твоей прольють вдосталь… А все ж я тебе присушу! И будет наша любовь несчастна. И для мене тоже… – И, помолчав, с сомнением добавила: – А может, не така й несчастна…
– Ну, подойди еще раз! – попросил Данилевский.
Она колебалась. Бормотала что-то, полуприкрыв глаза.
– А-а, все равно! Не буде никому счастья! – решительно сказала она. – Йде на людей лють велыка, самосничтожение. Довгии годы будут люди враждовать!..
Он, свесившись с печи, привлек ее к себе. И она обхватила его…
– Ой, видно, я сильно багато тебе свого отвару дала, – прошептала она, заползая под кожушок. – А може, меня хто саму обпоив!.. Чи це судьба?
Глава третья
Придерживая длинную, не по росту, шашку, Нестор взбежал на второй этаж бывшего имения Данилевских, ныне коммуны. Ворвался в комнату. Настя полудремала на постели, книжка, которую она пыталась читать («Вадим» Лермонтова), лежала рядом.
– Ну як? – спросил Махно.
– Скоро… – мгновенно проснувшись, с улыбкой ответила Настя. – То заболыть, а то отпусте.
– Бабка вже тут, – доложил вошедший вслед за Нестором Степан. – Внызу, в коморци отдыхае…
– Яка бабка? – обозлился Махно. – Давай сюда лекаря с Александровска. И мигом!
– Кони втомлени…
– Бери любых!..
– А в случае, ликарь не схоче?
– Шо значить «не схоче»?
Каретников, который стоял под дверью, всунул в комнату голову, внушительно посоветовал:
– Скажеш лекарю, шо Нестор Ивановыч дуже ласково просыть.
– Добре, – усмехнулся Степан и опрометью кинулся в конюшню запрягать лошадей.
В зале заседали черногвардейцы. Перед Нестором, Лашкевичем, Григорием Махно высилась куча бумаг. Время от времени в зал доносился Настин крик. Нестор вскакивал, начинал расхаживать по паркету под строгими взглядами отцов анархии из золоченых рам.
– Ну, нечего! Нечего к бабьим крикам прислухаться! – повторял он соратникам (а на самом деле себе). Снова садился.
– Така плутанына! – сказал Лашкевич, показывая Нестору то на одну, то на другую бумагу. – От почитай!
– Сам читай! – Нестор был не в силах сосредоточиться. – На то у тебя очки на носу!
– От Центральной рады третий Универсал, – заглядывая в бумагу, стал пересказывать Лашкевич. – З Киева. За ноябрь… Признають Украину в состави России… Од Центральной рады четвертый Универсал… за январь цього восемнадцатого года… Объявляють повну независимость од России… А це – из Харькова. Ультиматум од Первого Всеукраинського съезда Советов… объявляе Центральну раду вне закона… Ну, дети, ей-бо!
Раздался резкий крик Насти. Нестор вскочил, заметался вдоль портретов. В его глазах читалась полная растерянность.
– Та читай! Читай, шо там ще!
– Центральна рада начинае переговоры з нимецьким кайзером про помощь проты большевиков… Донецко-Криворожска Совецка Республика объявляе незалежнисть от всех. Тепер буде независима Республика ДэКаСээР.
Снова раздался крик. Нестор заткнул уши.
– Ты читай, читай! Там бабские дела, а тут наши!
– Одесска Совецка Республика тоже обьявляе независимость и требуе од нас дви тысячи новобранцев… и грошей…
– Дулю с маком, – ответил Нестор. – Кто там ще шо требуе?
– Повстанческе правительство Таганрогу просыть грошей…
– Сколько?
– Не пышуть. И печатка непонятна…
Немного подумав, Нестор объявил:
– В общем, хлопцы, надо нам свою армию строить, таку, какой ще не было. Анархическу. Непобедиму. А то соседи нас завоюють. Новобранцев наших им давай… Нашли дурней!
Хлопцы тоже возмущенно загалдели.
– Нестор, ну а в случае, если германци до нас и вправду пидуть? – спросил Григорий. – У ных сила!
– Проты бугая не сыльно пидеш, – согласился и Лашкевич.
– А волк як против бугая йдет?.. На рога не лезет. Подкрадается с-под низу и выпускает кишки… Найдем и на германца управу!.. – бросил Нестор, не переставая нервно расхаживать по залу.
Бабка в белом окровавленном переднике приоткрыла дверь:
– Нестор Ивановыч! Пан ликарь зове…
Махно побежал по коридору.
Настя со счастливым лицом лежала в кровати, а доктор держал на руках смуглого, липкого, в слизи и крови младенца, который вначале пищал, а потом принялся орать на все имение.
– Поздравляю, гражданин Махно! Хлопчик! Здоровый!..
Повитуха тут же вытолкнула Нестора за дверь:
– Через час, Нестор Ивановыч! Поглядилы – и хватыть.
А в зале – когда только успели! – среди бумаг уже стояла четверть самогона и лежали аккуратно нарезанные колбаса, сало, хлеб, лучок.
– Поздоровляем, Нестор!.. З сынком!.. Хай буде здоров!..
Выпили, закусили. Отметили как бы между делом.
– Шо, може, мобилизацию объявым, Нестор? – спросил Лашкевич.
– Яку ще мобилизацию! Этим узурпаторы занимались… царизм! Власть! А мы безвластники!..
– А як же тогда воевать?
– Армия, хлопцы, будет добровольна. Партизанськая. Такая, шо ее не видно и не слышно. Свистнул раз – собрались, свистнул два – разошлись. На конях. Укусили – отскочили. Другый раз укусили – кишки выпустили.
– Це дело, – кивнул Григорий.
На лице Насти светилась счастливая улыбка. Возле нее лежал вымытый, спеленатый, накормленный младенец.
Нестор взял ребенка на руки. Стал разглядывать:
– А шо он такой сморщенный? И личико красное!
– У них у всех личики красные. Только ж из материнского чрева! Легко ли ему? – впервые улыбнувшись, сказал доктор.
– Это точно. Сидел, як в одиночке, а тут на тебе – воля!
– Там ему было тепло, уютно, безопасно, – возразил доктор. – А сейчас он впервые увидел этот жестокий мир.
– Ничего! – покачивал младенца Нестор. – Мы для него этот мир переделаем. Он настоящее счастье увидит. Иначе для чего ж мы мучаемся?..
– О-хо-хо, – только и смог сказать доктор.
– Эй, Вадим! – обратился к сыну Махно. – Вадим!
Он наслаждался звучанием этого имени, которое хотел бы носить сам. Но младенец вряд ли осознавал величие предназначенного ему призвания. Он жалобно кривил ротик. Плакал…
– Давай сюды! – попросила Настя. Она открыла грудь, сунула в чмокающий ротик сосок. Вадим стал жадно сосать…
Настя – кто только и когда научил – положила младенца животиком на свою крепкую ладонь, слегка похлопала по спинке, чтобы отрыгнул воздух.
Нестор глядел на молодую жену с одобрением и даже восхищением. Хорошая жинка ему досталась. Все так ловко делает. Настоящая мать!
– Смотри, смотри, як сосет, – умилился он. – Сильный!.. Корми его лучше, шоб здоровый вырос! Меня вон мамка не докормила – голодуха в те годы была. Выкормишь – защитник тебе будет! В обиду не даст!
Настя продолжала улыбаться.
В селе Богодуховка Нестор, собрав земляков, втолковывал им:
– Браты мои дорогие! Землю мы вам дали… коров, коней тоже. А возвернутся паны… чи, може, германцы захотят землю отобрать? Как тогда?
– Не дамо!
– Хочь зубамы глотку…
– Зачем же зубами? – возразил Махно. – Винтовки многие с фронта принесли… а у кого нет… – Он дал знак хлопцам. Каретников, Левадный, Григорий скинули с саней грязную холстину. Под нею в розвальнях было сложено оружие, отобраное у офицеров на мосту. – …Берите! И пусть тот, хто умеет, учит того, хто ще никогда не стрелял! Вырастет у нас, хлопци, армия, як пшенычные колоски с земли! Вольная, як ветер!
– Мы за тобой, Нестор Ивановыч, як нитка за голкой! – отозвались селяне, разбирая оружие. – Не сумлевайся!
– И вы, дядьки, хто уже в годах! Вы тоже нам в помощь! Выпасайте коней добрых… держите одну-другую тачанку чи бричку. На подменку. Шоб не армия была, а птица. Шоб на ероплане не догнать.
Дядьки смеялись.
Нестор, доев тарелку борща, откинулся на спинку кресла, взглянул на Вадима:
– Спит?
– Ага.
Нестор подошел к зыбке, покачал ее.
– Нестор Ивановыч! – начала было Настя и примолкла. С губ её внезапно исчезла улыбка.
– Ну шо? Шо?
– Дайте завтра коней. В Федоровку поиду. В церкву. Вадима похрещу.
Махно едва не подпрыгнул:
– Т-ты… соображаешь? Хрестыть! Мы ж анархисты! Шо мне мои побратимы скажут? Какой слух по уезду пойдет?
– Так через то я – в Федоровку. Шоб далеко. Нихто й не взнае.
– Дура-баба! Меня тут за сто верст вокруг знают. И вообще… Сколько раз я тебе втолковывал? Религия – обман. Той дядька на портрете знаешь шо сказал? «Церковь зовет к смирению, мы – к борьбе. Пусть церковь призовет к борьбе, и я смирюсь перед ней». Поняла?
– Ни. Я цього не понимаю, Нестор Ивановыч. А тилькы Бог над всым. И над анархистамы. А церква така, як и мы сами, люды. Церква не вынувата, шо и попы грешни бувають.
– Дура! Такое было девчатко! А стала… И когда только ты в Бога начала вирить?
– А як вас ждала. Молылась, шоб вы булы жыви-здорови… Бог и почув!
– То не бог, а Революция почула… Если бог ваш такой защитник, почему он меня не защищав, когда я в люльке голодав? «Плодитесь и размножайтесь»! От мамка и наплодила. А чем кормить, бог не дал. Потому я недоростком в шесть год панских гусей пошел пасть. Чего ж бог не явился до пана и не сказал: отдай часть своей земли бедным и голодным? А теперь я, анархист Махно, ту землю забрал и раздал всем, хто нуждается… И пускай меня на том свете черти в смоле варят, зато на этом люди спасибо скажут! – гневно кричал Махно.
– Го-осподи, прости его! Го-осподи… – крестясь, шептала Настя.
– И шоб я никогда больше… ни-ког-да, чуешь?.. про это самое крещение не слыхал! Раз и навсегда!
А через несколько дней батюшка федоровской церкви Михаила-Архангела отец Онисифор окунул плачущего Вадима в купель.
– Аще кто не родится водою и духом, не может вниити в царство Божие!.. Крещается раб Божий Вадим во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь…
Крестные – пожилые, умудренные опытом, селяне. Где и как успела найти их Настя и уговорить, никто и никогда так и не узнал. Земляки? Родственники? Или просто добрые, сердечные люди?
Вот уже крестик и белая пелена на Вадиме, и батюшка начал таинство миропомазания, делая знак креста на теле младенца. Поглядывая в сторону селян и ощущая себя миссионером в этом внезапно изменившемся и заразившемся безбожием обществе, старенький батюшка тихим голосом пояснил:
– Чело – для освящения ума… глаза, уста, носик, ушки – для освящения чувств, грудь – для освящения сердца, руки и ноги – для освящения всех деланий и хождения по миру… А все вместе – че-ло-век!..
Настя с глазами, мокрыми от слез, молилась, глядя на скорбный лик Богоматери. Молилась беззвучно, едва шевеля губами. И казалось ей, будто и глаза Приснодевы наполнялись ответными слезами сострадания и любви.
Глава четвертая
Как и много лет назад, когда Нестор подростком искал заработка и приюта, он вновь оказался в еврейской колонии Ново-Ковно. Она не изменилась. Все те же землянки, хибары, шинки, лавчонки…
Перед Нестором, Григорием, Каретниковым, Лашкевичем близ тачанки собрались пейсатые старики в кипах.
– Шо вы, граждане евреи, як угнетенная царизмом нация можете дать анархической революции?.. – спросил Нестор и после недолгого молчания пояснил: – Можно деньгами.
– Как евреи, так сразу деньгами, – покачал головой рослый сутулый старик.
Присмотревшись, Махно узнал того самого колониста, что однажды посоветовал ему идти сапожничать в Новосербию.
– А я тебя помню, – сказал Махно.
– Ты у меня работы искал, – спокойно ответил старик. – Я тогда еще подумал: какой бойкий хлопчик. Он еще взыграет, как вино. Теперь вы, конечно, анархист?.. У нас тоже много анархистов. Все хотят свободы. И никто не хочет копать землю. Но скажите, откуда тогда возьмется свобода?
В голосе старика звучала ирония.
– Ладно, – оборвал его Махно. – Может, все-таки поможете деньгами? Собирайте кагал, решайте… враги подступают.
– Зачем кагал? – возразил старик. – Сейчас другие времена.
Он вставил два пальца в рот и громко свистнул. Совсем как голубятник.
И тотчас из землянок и саманных хаток стали выскакивать молодые люди, одетые кто во что горазд. Но почти у каждого в руке было охотничье ружье или берданка. У многих – гранаты.
Кое на ком – шинели, папахи, ремни с подсумками. Один из таких молодцов нес на плече не что-нибудь, а ручной пулемет «Льюис» с рубчатым диском и самоварным кожухом.
Войско как войско. С определенной сноровкой выстроились по ранжиру.
– Наш отряд самообороны, – объяснил «голубятник».
Нестор прошелся вдоль шеренги.
– А кто командир?
– Так мы и есть командиры, – объяснил за всех стариков все тот же давний махновский знакомец – Лейба Шимонский.
– Как? Все сразу?
– Все сразу, – вразнобой ответили ему. – Кагальное, если позволите, управление. И раввины, и меламеды, и цадики…
– А почему не он командир? – Махно указал на бравого парня с «Льюисом».
– Так то ж мой сын, – сказал Лейба. – Как же это можно, чтоб сын командовал отцом?.. И остальные – это ж всё наши дети.
– Служил? – спросил Махно у пулеметчика.
Льюисист вытянулся по струнке, но молчал. Ответил за него старый Лейба:
– Якоб служил в Новотроицко-Екатеринославском драгунском полку, два ранения, имеет медаль…
– Вот его бы командиром! – категорично заявил Махно.
– Выбрать можно. А только подчиняться все равно они будут нам, старикам.
Махно задумался.
– Шут с вами! – сказал он. – Будут бои, появятся и командиры… Зачисляю ваш отряд в добровольную анархическую армию Гуляйполя. Оборонять будете не только свою колонию. Потому шо если враги займут соседнее украинское село, то всем вам тоже придется худо… Согласны? Вот ты, Якоб?
Якоб молчал. Он знал порядок: нельзя говорить, пока не выскажется отец.
– Он уже давно согласен, – ответил за сына Лейба. – Мы не против. Мы за свободу. Какой еврей будет против свободы? Так было во времена Кромвеля, так было и в час Французской революции. Я – темный старик, но я кое-что читаю.
Умчалась тачанка из Ново-Ковно. Длинный шлейф пыли тянулся следом за ней. Лашкевич был углублен в свой «гроссбух».
– Ну, шо у тебя получается, «булгахтер»? – спросил Махно.
– Две тысячи штыков, триста сабель. Це по волости. Но патронов почти нет. Оружие с фронту понанесли, а патронов – по обойме.
– Не навоюеш, – качнул головой Махно. – Надо до большевиков идти. Тульские заводы у них. И царские арсеналы. А людей у нас в достатке!
– А на шо жидов взялы в нашу анархическу армию? – спросил Каретников. – Для этой… для булгахтерии?
– Ты про жидов – оставь! – рассердился Нестор. – Революция это слово отменила! Есть только евреи. Я среди них таких боевых встречал, шо только держись!
– Бувае, – согласился Каретников. – Я в газете тоже видал георгиевского кавалера из жидов…
– Ну от. Совсем другой разговор!
Вечером во флигеле, в небольшой каморке, собрался тайный совет: самые стойкие черногвардейцы. Примкнули к «заговору» и «булгахтер», и Каретников, и многие другие анархисты.
– Поганое дело, хлопци, – сказал Тимош, глядя на соратников сквозь окуляры. – Вслед за Центральной радой и большевыки заключили мир з германцамы. – Он положил перед собой газету. – Ось! Отдают кайзеру всю Прибалтию, половину Белоруси, каспийськи земли, ще и шесть миллиардов марок. Откупаються чи шо?
– А Украина? – спросил Каретников.
– А шо Украина? От Малороссии та половины Новороссии Москва отказалась. А не то Германия всю Россию приборкала б… Украинська Центральна рада, шоб оборониться от большевыкив, пригласыла нимцив до себе. Воны вже в Киеви, скоро тут будуть…
– Хлопцы! – взволнованно сказал Лепетченко. – Нестор нужен! А он сутками – то з Настею, то з дытынкою. Про дела забывает. А случись шо… Ну, придут немые на Украину – и шо тогда? Пропадем без Нестора. Разлетится без него вся наша анархия, як полова по витру.
Щусь скривил губы:
– Ну шо мы всё воду в ступе толчем? Ясная речь: пока Нестор при Насте, а не при нас.
– Надо б якось с ним поговорить, – предложил Тимош. – Втолковать ему, шо Настя – не нашого огорода овощ. Кажуть, она дытя охрестыла в Федоровци. Тайно од Нестора. Не соблюдае його авторитет. Надо разъясныть ему все про Настю. И посоветовать отправыть Настю з хлопчиком до матери. Пока.
– Ха! – выдохнул Лепетченко. – Тогда и Нестор у Настиной матери буде пропадать. Молода жинка! У Нестора ще горячка на баб не пройшла.
– И все-таки поговорить надо!
– Поговори! Схлопочешь сапожной колодкой по голове! – бросил Щусь, скалясь в бессильной злости.
Помолчали. На стене ходики: стук-стук. Лашкевич встал, подтянул гирьку в виде шишки, опустившуюся почти до земли.
– Вопрос надо решать… того… кординально! – продолжил Щусь.
– Це як? – спросил Каретник.
– А от так! – Щусь стукнул ладонью по столу: как топором по плахе.
– Голосуем! – подвел итог Лашкевич.
Руки, одна за другой, поднялись кверху. Не сразу. Но все.
– Когда? – спросил Калашников.
– Завтра утром Нестор отправится на станцию до большевиков. За патронами… Ты будешь со мною. – Федос ткнул пальцем в Сашка Лепетченка. – И ты, – это уже в Калашникова.
Лица назначенных помрачнели. Остальные вздохнули с облегчением.
– И – все! – твердо повторил Щусь. – И – могила!
Утром на станции Гуляйполе было оживленно. Сновали разномастно одетые красногвардейцы. У кого на фуражке звездочка, у кого – алая повязка.
Главный гость в Гуляйполе – бронепоезд. Железное чудище, какого Махно еще не видел. Блиндированные вагоны, обшитый стальными листами паровоз, клубы пара, вырывающиеся откуда-то из прикрывающих колеса щитов…
Нестор стоял рядом с Павлом Глыбой и Йосифом Геленкевичем, командиром бронепоезда «Ваня-большевик». На Геленкевиче все кожаное, и звездочка у него на фуражке не матерчатая, самодельная, а металлическая, крытая красным лаком. Государственная звездочка. Сразу видно: из дальних краев гость.
– Ну, как тебе наш зверь? – спросил Геленкевич у Махно.
Нестор пожал плечами, сощурил в усмешке глаза:
– Серьезная коняка… Чего ж тогда тикаете на Ростов?
– Маневр! – объяснил Геленкевич. – Военна тайна.
– Та какая там тайна? Боитесь, шоб германцы не перерезали вам путь! А без железного пути ваш бронепоезд – як тигра в цирке.
– Ну, ты без этих шуточек, товарищ Махно! – вмешался Глыба.
– Не злись, Павло! – добродушно сказал Нестор. – А если серьезно, то глянь кругом. От – путя, а кругом гола степь. – Он обвел рукой пространство вокруг станции. Дальние поля. Одинокие рощицы. – Решаться все будет в степи. А хозяин здесь – крестьянин. Станут воевать наши селяне – и германцу не удержаться.
Паровоз окутал их облаком пара.
– От только винтовок у нас больше, чем патронов. Может, поделитесь патронами? – попросил Махно. – Все равно ведь уходите.
– Как, товарищ Глыба, дадим анархистам патронов? – спросил Геленкевич.
– Конечно, они хоть и без пролетарского понимания, но… на данный момент союзники. Надо дать. Тем более они, я думаю, на пути к большевикам. А куда ж еще? Ясное дело!
– Антисемитизмом не болеют? Это сейчас первейший вопрос на Украине.
– Чего нет, того нет. Полный интернационал. Этого у них не отнимешь!
– Тогда ладно.
Черногвардейцы стали грузить ящики в подводы.
– А где Щусь? – спросил Махно.
– Вроде до нимецких колонистов подался. Сказал, контрибуцию с их изымет, – ответил Лашкевич.
– Контрибуцию?.. Это он любит.
Один из ящиков треснул при погрузке, и на днище телеги просыпался ручей из новеньких, сверкающих медной желтизной патронов.
Нестор взял пригоршню патронов, полюбовался ими. Понюхал.
– Смотри, Тимош, это и есть тульска пшеница. Кто съест, тот и подавится…
А в это самое время Щусь, Калашник и Лепетченко, вежливо постучавшись, вошли к Насте. Даже сапоги вытерли на пороге.
– Срочно собирайся, Настя. Возьми, шо для себя и для дитяти на первое время понадобится.
– Куды?
– Нестор Иванович вызывает. В Софиевку. Немцы с панамы на нас идут, – объяснил Щусь. – Дуже тяжелое будет тут положение.
– А чого ж вин мени сам не сказав? – Настя глядела на них недоверчиво.
– Ты ж знаеш, он на бронепоезде… решил проехать по уезду. За тобою прислал Сашка Калашника!..
Сашко согласно кивнул головой.
Настя какое-то время размышляла:
– Ладно, я быстренько!..
И, развернув плат, начала бросать в него вещи.
Ребенок, словно почуяв неладное, захныкал.
– Тыхо, тыхо, Вадимко. До татка поидем. Татко зове!..
Щусь помог завязать ей узлы.
В тачанке они ехали вчетвером. Вадима держала на руках Настя. У ее ног валялись клунки. Из одного торчал уголок кружевной «панской» сорочки.
Калашник был за кучера. Кони свежие, напоенные, накормленные. Повозка катила мягко. Вадим дремал.
На развилке свернули с шляха на проселок.
– Куды ж вы, хлопци, на степову дорогу? – обеспокоенно спросила Настя. – Софиевка – по шляху, прямо.
– На шляху, говорят, германска разведка, – ответил Щусь.
С проселка свернули и вовсе на малоторную дорогу. Она повела в выбалок, где разросся густой кустарник, верболоз, камыш… Даже поздним утром здесь плавал туман. Было сумрачно и глухо, как в вечерний час.
– Хлопци! Там же Мокрый байрак – топко!
– Зато нихто не побаче…
– Куды вы нас везете?
Калашник, понукая лошадей, въехал в самую гущу верболоза. Гибкие прутья сомкнулись за тачанкой, только колея была чуть видна.
– Хлопци, вы шо? – крикнула Настя. Но голос ее тут же оборвался: ей зажали рот.
Сухо щелкнули в глухом выбалке два выстрела. И стало тихо. Только еле слышно шептал камыш.
Черная большая птица с шумом вылетела из чащи, тоскливо кугикнула и исчезла…
Глава пятая
Через две ступеньки Нестор взлетел на второй этаж коммуны «Счастье трудящихся». Торопливо прошел через зал. Суровые бородачи-анархисты, отказавшиеся от всего личного во имя революции, со стен провожали его строгими взглядами. Поблескивали их глаза, тщательно нарисованные дедом Будченко.
Коммунар Кондрат Полищук и еще какая-то бабка с охапкой глаженого белья повстречались на его пути. Махно улыбнулся им:
– Драствуйте!
– Доброго здоровьячка, Нестор Ивановыч!
– Ну, як тут у нас?
– Жывем – не тужым, – беспечно ответил Кондрат. – От тилькы панська печка дымыть, зараза! Прийдеться перекладать.
– Ну-ну, хозяйнуйте!
Нестор резко распахнул дверь в свою спальню. Радостный и веселый встал на пороге.
– Настена!.. Настя!.. – окликнул он. Ответом была тишина. – Ты шо, не слышишь, Настя?..
Только сейчас Нестор заметил следы поспешных сборов. На полу валялись впопыхах брошенные чепчики и рубашечки Вадима. Пустая колыбелька висела как-то боком, выбросив, словно перо из потрепанного гусиного крыла, кусок пеленки. И кровать, обычно застланная Настей с крестьянским усердием, сейчас была словно выпотрошена. Вышитые подушки куда-то исчезли, осталась одна, простая….
Нестор вышел из спальни, растерянно побрел по коридору. Наткнулся на своего ездового:
– Степан, не знаешь, где Настя?
Конюх пожал плечами:
– Я ж з вамы був, Нестор Ивановыч.
Нестор уже не слышал его ответа. Спустился по лестнице вниз.
– Лашкевич! Ты не слыхал, куда Настя с дитем подевалась?
– Я только вернувся. Патроны на нашому склади розгружав.
Нестор махнул рукой: мол, помню.
– Щусь. Где Щусь?
Из-за спины Лашкевича возник молоденький коммунар из новых черногвардейцев – Юрка Черниговский. Он смотрел на Махно, как новобранец на фельдмаршала.
– Товарыш Щусь подалысь з хлопцямы десь трошкы пошуровать…
– Делом бы занимались! А то наладились грабить…
– Так багатеев же, Нестор, буржуев. Контрибуция, верный доход, – бросил в оправдание друзей Тимош.
– А ты, Юрко, – обратился Нестор к молоденькому черногвардейцу, – не знаешь, куда моя жинка подалась?
– Так кажуть, поихала кудысь. До родычив, чи шо! Може, в гости?
– Какие гости?! Какие еще гости?! – выходя из себя, сорвался на крик Махно. И позвал ездового: – Степан!
Конюх мгновенно возник перед ним.
– Запрягай!
– Так тилькы ж роспряг! Кони ще в мыли…
– Шоб вас черти взяли…
Нестор сам вывел из конюшни первую попавшуюся лошадь.
– Пидождить, хоть засидлаю, Нестор Ивановыч! – забеспокоился Степан.
Но Махно одним махом забросил легкое, маленькое и ловкое тело на спину лошади, и, лупанув сапогами коня под бока, исчез со двора, растаял во тьме.
– Скаженный, без седла! – пробормотал вслед Степан. – Ну, нема бабы, так шо?.. Объявыться! Он моя: то туды девалась, то сюды. И шо? И никуды не делась!
Лашкевич нахмурился и покачал головой. Он-то все знал…
…А Нестор мчался по степной дороге. Маузер в деревянной кобуре бил его по бедру, шапку он потерял, но даже не заметил. Тело враз заболело: отвык скакать без седла, как бывало в детстве.
В селе Федоровка, где Настя крестила Вадима, он придержал коня у приземистой хатки, скрытой за тыном и садочком. Спрыгнул. Рванул дверь так, что заколыхался и едва не погас огонек керосиновой лампы.
Его встретили крестные Вадима, что принимали младенца после купели. Они встревоженно глядели на хмурого Махно, на его маузер, словно и в самом деле были в чем-то виноваты.
– Здорово, кумы! – бросил Нестор. – И не думайте, шо я не знаю, как вы Вадима хрестылы… Моя Настя, случаем, не у вас?
– Ни, – замотали головами селяне. – Нема!
– Не брешете?
– Та хай Господь нас покарае, – разом перекрестились они.
Убедившись, что ему не врут, Махно снова вскочил на лошадь, по бокам которой стекала пена.
Селяне смотрели ему вслед. Прислушивались к торопливо удаляющемуся конскому топоту.
А Махно вскоре уже входил в хату Насти, где его встретила теща.
– Нестор? Заходь!..
Но выражение ее лица изменилось, едва она увидела состояние зятя.
– Шось з Настей? – обмерла она.
– Мамо Дуся, може, вы шо-то знаете… де ваша дочка?
И тут же понял, что теща ничего не знает. Повернулся, вышел во двор к тяжело дышащей лошади. Та косила испуганным глазом и пятилась от него, как от смерти.
Тетя Дуся выскочила следом, схватилась за сердце.
– Нестор, шо скоилось? Куды ты подивав Настю?.. Не мовчи, Нестор!
– Ничего не знаю.
– Знаеш, Нестор! Скажы!
Махно молча взобрался на лошадь. На этот раз уже тяжело, неуклюже: оба вымотались – и человек, и животное. Выехал на улицу. Весенняя темнота легкая: далеко просматривались ряды белых хаток.
За ним с криком и воем бежала простоволосая, растрепанная тетя Дуся:
– Нестор, шо ты з моею Настей зробыв? Куды ты мою доньку подивав, каторжнык чортив!..
Но Махно уже был на дальнем краю села…
Поздним вечером в зале коммуны, освещенном двумя керосиновыми лампами, он застал и Щуся, и Сашка Лепетченка, и Каретникова. Следом бежал Степан с горестным лицом. Хотел доложить, что лошадь тут же пала.
Махно подлетел к Федосу, схватил его за грудки:
– Федос, где Настя? Где Вадим?
– Та ты шо, Нестор? – развел руками, не сопротивляясь, Щусь. – Мы ж з хлопцами в колонию наведались… два воза добра привезли.
– Я не о том! Я спрашиваю, где Настя? Где сынок мой Вадим?
– Так она ж давно, бабы говорили, собиралась из коммуны выйти, – почти шепотом, проникновенно ответил Щусь. – Не нравилось Насте в коммуне… а тебе боялась сказать, от и скрылась куда-то…
– Брешешь! Не могла она от меня тайно сбежать Не могла!
– То ж баба, Нестор! У нее другая голова. Для нее наша анархия як козе барабан. Она наших идей не восприймает… Я правильно кажу, хлопцы?
Несколько черногвардейцев утвердительно закивали, отвечали вразнобой.
– Баба, шо з неи взять!
– Знайдеться со временем!
– Вернеться!..
Махно отпустил Щуся и еще раз пристально вгляделся в лица хлопцев. Неожиданно схватился за рукоять маузера, стал выдергивать его из тяжелой деревянной кобуры.
– Брешете! Знаете, где она! Сговорились! Куда дели?
Товарищи навалились на него, не позволили достать оружие. Маузер оказался в руках Каретникова.
– Нестор! Ты глянь во двор! – сказал Щусь. – Народ собрался. Немцы идут на нас, стражники петлюровские, паны… Люды от тебя слова ждут…
Они под руки вывели ничего не понимающего, шатающегося Нестора на балкон. Внизу – огни факелов, «летучие мыши», скопище людей, телег, коней. Увидев Махно, толпа начала кричать.
– Нестор Ивановыч! Скажы слово!
– Беда! Германы вже в Александровску!
– Шо робыть, Нестор?
Все новые и новые телеги въезжали во двор. Гул нарастал.
– Скажы им, Нестор! – прошептал Лашкевич. – Ждуть люды!
Махно ошалело смотрел на огни. Потом начал мелко дергаться, на губах выступила пена. Хлопцы затащили его обратно в зал, уложили на кушетку. Приступ дугой выгибал тело Нестора, четверо черногвардейцев едва удерживали его.
– Голову держи!.. Голову!..
Щусь вышел на балкон.
– Люды! – прокричал он. – Нестор Ивановыч за всех за нас мучается! Его лихоманка трясет от людского горя! Но он – с нами! Только хай трохи отдохне та сыл наберется! А пока… пока – ховайте оружие и ждите наказ Нестора! Он знает, як германа прогнать! Ждить его слова!..
Нестор же постепенно затихал в руках хлопцев. Испуганный Юрко Черниговский вытирал сдернутой со стола скатертью мокрое лицо командира.
– До матери його отвезем, – сказал Лашкевич. – Завтра ему полегчае.
Нестор проснулся в своей хате на полатях, с полотенцем на голове. Было раннее утро. Мать сидела рядом, жалостливо глядя на сына. Так некогда сидела она подле избитого конюхом подростка, утешая его и уча жизни. Только теперь мать – усталая седая старуха, а Нестор – в летах, многое повидавший мужик, изрядно этой самой жизнью помятый. Открыв глаза, он молча смотрел в потолок.
Евдокия Матвеевна сняла с его головы высохшее полотенце. Вздохнула.
– Не надо так убываться, сынка. Все возвернеться на свое место. И Настя найдеться, и дитя… Побережы себе. Он як похудав, як писля тюрьмы.
Махно не отвечал.
– Ты ж из запорожськых козакив. И в полон нас бралы, и былы, и мучилы. Все перенеслы, все перетерпилы… И про тебе люды кажуть: настоящий козак. Надеются на тебе…
Но Нестор продолжал молчать.
За окнами раздались звуки подъехавшей коляски, возбужденные голоса, конское ржание.
Мать встревоженно вскинулась, но Махно оставался ко всему безучастен.
Щусь, Сашко Лепетченко и братья Нестора – Омельян, Карпо и Григорий вошли в хату.
– Нестор, германцы близко! – закричал Щусь. – Уже в Новосельцах… Собирайся!
Махно безмолвно смотрел на вошедших.
– А вы? – спросила Евдокия Матвеевна у сыновей. – Вы тоже з Нестором?
– Та ни, мамо. Кажуть, германци старых не трогають, – ответил Карпо. – У нас до того ще й дитей куча, а Омельян – инвалид…
– А Гришка?
– Вин десь на хуторах скрыется.
– Скорише! – торопил Федос.
Хлопцы взяли Махно под руки, повели к двери.
– Стойте! – Омельян надел на Нестора плечевой ремень с тяжелым маузером. – А то шо люды скажуть! Нестор Махно – и без оружия. Нельзя!
Они вывели безвольного Махно во двор, к тачанке, усадили на заднее сиденье. Щусь сел рядом, поддерживал его. За кучера был Лепетченко.
– Трогай!
Тачанка и конные тронулись.
– Пидождить, – поднял руку Нестор, обернулся к матери, слабым голосом попросил: – Мамо, як Настя вернется, пригрейте коло себя. И Вадимку, сына мого. Побережить их!
– Та як же! Дочка ж! Внук! Не сумлевайся! – ответила Евдокия Матвеевна.
– Они вернутся! – убежденно сказал Нестор и сник, склонился на плечо Щуся.
Евдокия Матвеевна, а вместе с нею и сыновья (кроме Григория, который поехал вместе с Нестором) смотрели вслед тачанке. Старуха несколько раз перекрестила пыль, что столбом вилась за растворяющимися вдали всадниками.
Нестор открыл глаза, долго смотрел на дорогу. Снова задремал…
Скрылось вдали Гуляйполе, исчезли верхушки тополей… Промелькнул еще какой-то небольшой хуторок и исчез за завесой степной пыли.
Взгляд Нестора становится все осмысленнее. Он о чем-то напряженно думал…
Затем тронул Лепетченко за плечо:
– Попридержи, Сашко!
Кавалькада остановилась.
Махно спустился на землю, лениво размялся, одновременно – в который уже раз! – пристально всматриваясь в лица своих хлопцев.
Потом подошел к Лашкевичу, под которым резво ходил породистый скакун из коммунарской конюшни.
– Слазь, Тимош! Сядь на мое место.
– Нестор, ты ж слабый ще! – возразил Лашкевич. – Ще нельзя тебе верхи!
– Слазь! – приказал Нестор.
Лашкевич торопливо соскочил с коня, уронив при этом очки. Нагнувшись, нащупал их в пыли.
Все замерли. Ждали, что будет.
Махно впрыгнул в седло, показывая, что сил у него еще достаточно.
– За мной не ехать! – Он достал маузер. – Все поняли?
– Ну, Нестор, тоби ж нельзя… – хотел приблизиться к нему на своей гнедой кобыле Григорий.
Зрачок маузера поглядел на Лашкевича, потом на Левадного, на Григория, остановился на Щусе.
– Не верю я вам!.. Никому не верю! – твердо сказал Нестор и во весь опор пустил скакуна по степной дороге.
Черногвардейцы смотрели ему вслед. Никто за ним не тронулся.
На рассвете лавина пестрых войск уже заливала хутора вокруг Гуляйполя. Пылила по широким шляхам.
Развевались бунчуки. Полоскались над конными немецкие красно-черно-белые флаги с орлами, австрийские – с такими же орлами, украинские желто-блакитные с трезубцами, красно-бело-зеленые венгерские с геральдическими щитами…
Один из отрядов въехал в усадьбу Данилевских.
Коммунары – и те, кто прежде работал у пана и остался в имении, и те, кто недавно здесь поселился, но по какой-то причине не сумел уехать – теснились у стен флигелей. Бабы прижимали к себе детишек.
Пан Данилевский соскочил с коня. Оглядел имение, испуганных людей. Из рыдвана выбралась Винцента. Внезапно откуда-то вылетела большая лохматая собака, бросилась к девушке.
Бывший гуляйпольский пристав, а ныне офицер войск украинской стражи Федор Петрович Лотко, приехавший вслед за паном в бричке, схватился за винтовку.
Но собака уже облизывала лицо присевшей Винцуси.
– Жан, Жанчик, Жануся, – лепетала девушка, теребя пса за уши.
Данилевский улыбнулся. Любовь собаки вернее человеческой привязанности.
Василь тащил в дом поклажу.
– Разрешите гнать всех этих в шею! – подбежал к Данилевскому бывший пристав Федор Петрович.
– Кого?
– Коммунию!
– Разберемся, – разгладил вельможные усы Данилевский.
И направился в дом. В зале он увидел портреты Бакунина, Кропоткина, Прудона, Пугачева. Те тоже смотрели на него застывшими, старательно выписанными глазами.
– Папа, папочка! – Винцента поглядела на отца умоляюще. – Там много детей… куда же их? Не гони, вели разместить где-нибудь во флигелях.
– Не годится, барышня, – сказал Василь, осторожно ставя сундучок на пол. Осмотрелся. – Глядить, весь паркет сапожищами пошаркали… И гвозди в стенах. Гнать надо, плетюганами.
Данилевский всматривался в лицо Кропоткина. Серебристая пышная борода – да, это так, но художник-любитель изобразил какого-то мужичка, в крайнем случае опростившегося Льва Толстого, не ухватил тонкие черты князя в двадцатом колене, из удельных князей Смоленских, аристократа, увязшего в благородных теориях и заботах о «простом народе».
– Вот и князь тоже не советует обижать коммунариев, – согласился с дочерью пан Данилевский. – И в самом деле, разместите их во флигелях. К тесноте им не привыкать.
– Якый ще князь? – недоумевая, спросил Василь.
– Вот этот. Кропоткин Петр Алексеевич. Мечтал о народном бунте и последующей райской жизни. – Данилевский скривил губы в иронической усмешке. – Что ж, бунта он дождался, но не думаю, что очень этому рад. – И обратился к дочери: – Пойдем, Винцуся, посмотрим, как выглядит их райская жизнь…
Они шли по дому, узнавая и не узнавая его. Заглядывали в комнаты, заваленные нехитрым селянским скарбом…
Глава шестая
Отступающие красноармейцы, анархисты, селяне устало брели по окраинам Ростова. Революционная и просто трудовая Малороссия и Новороссия, названные теперь, с одобрения Временного правительства и Рады, Украиной, уходила от немцев. Вместе со всеми в этой толпе двигался на взмыленном коне Нестор Махно.
На широкой окраинной улочке конь остановился, заржал и опустился на передние колени. Нестор едва успел соскочить – коммунарский скакун завалился на бок. Морда его залилась кровавой пеной. Исхудавшие бока, серые от пыли, судорожно подрагивали…
Впрочем, Нестор выглядел не лучше. Он тоже был весь в пыли, только зубы белели. Присев на чье-то крыльцо, он упер голову в ладони и сидел так, безмолвно взирая на умирающего коня.
Мимо шли люди. Он видел только ноги: в опорках, сапогах, драных башмаках, босые. Проезжали, скрипя ступицами, телеги, арбы, брички…
– Шо ж ты, братишка, такого пегаса угробил? – пробасил кто-то над ухом Махно. В интонациях смешались одесский и донбасский выговор.
Махно не шевельнулся.
– Куды ж ты, хлопче, так спешив?
– Не знаю, – вздохнул Нестор. – От себя, может.
Он поднял глаза и увидел крупного, из кости и мускулов отлитого человека. У него было широкое добродушное лицо с мясистым носом, глаза-щелочки, но в их глубине читались уверенность в себе и своей силе, природная сметка и бесстрашие. Внешностью и тяжестью тела он напоминал циркового борца.
Вокруг незнакомца столпились его подчиненные, с головы до ног увешанные оружием и бомбами – фитильными самоделками и новыми, капсюльными. В разговор не вмешивались, соблюдали иерархию.
– Не мучай животину. Прыстрели! – посоветовал «борец».
– Не могу, – мотнул головой Нестор.
– Помогты?
Нестор не ответил. Увидев, как незнакомец вынул маузер, отвернулся.
Сухо щелкнул выстрел. Тишина. Только шарканье сотен ног.
Какой-то казачок подбежал к Махно:
– Чуешь, землячок? Продай седло! Оно тебе все равно уже без надобностев!
– Бери, – махнул рукой Нестор.
Тот быстро и деловито снял с убитой лошади седло, взвалил его себе на плечо, бросился догонять ушедших вперед товарищей.
– Ну, шо ж, братишка! Прощевай. А то, может, с нами? – спросил «борец». – Голодать не будешь, клянусь Одессой!
Махно все так же неподвижно сидел на крыльце, отрешенно глядя куда-то в пространство перед собой. Он не хотел сейчас ни чьего-то внимания, ни участия, ни сочувственных разговоров…
В одинокой хатке, которая как бы отделилась от большого приднепровского села, горел огонек. Как и тогда, в ту рождественскую ночь, когда был «чуден Днепр» для Владислава Данилевского.
Сейчас была поздняя весна восемнадцатого, но капитан, одетый как простой селянин, шел к этому огоньку крадучись, вглядываясь в сумерки зоркими глазами фронтовика.
Постучал в окошко.
Дверь открылась сразу же, и «ведьма» Мария обхватила рослого красавца-капитана руками, приникла к нему.
– Я знала, шо це ты, – шептала она. – Знала, шо ще вернешься…
И он целовал ее страстно и нежно. Оглянувшись, закрыл за собой дверь.
– На одну ничь? – спросила она.
– Да.
– А шо ж так?
– Надо успеть проскочить через немцев.
– А шо тоби германа бояться? Оны з офицерамы дружать.
Он оглядел хату. Ничего здесь не изменилось с тех зимних дней и ночей.
– Я не для того с ними три года воевал, чтоб теперь дружить.
– Шляхетська в тебе кровь, – усмехнулась Мария. Она быстро поставила на стол тарелку с дымящимся борщом, нарезала хлеба, прижимая каравай к высокой крепкой груди.
– Ты словно ждала кого-то…
– Тебя, – счастливо засмеялась она и объяснила: – Я ж ведьма. Чуяла!
Но лицо ее то и дело мрачнело. Он между тем жадно ел.
– И куда ж теперь? Опять на Дон?
– Не знаю. Наверно. Казаки уже нахлебались советской власти. Приютят.
Она стояла рядом, наблюдая, как Данилевский расправляется с борщом. Лампа освещала ее силуэт.
– Постой! – Капитан отставил тарелку, присмотрелся, положил руку на ее живот. – Что, правда? – спросил он, поводя ладонью и ощущая нечто новое в линиях ее тела.
– А чего ж неправда? – усмехнулась она. – Сильно я тогда на печи тебя отогрела. Од души.
Данилевский встал, прижал ее к себе, стал целовать волосы, уши.
– Ты радый?
– Радый, – ответил он. – Эх, если б не военная кутерьма…
– А шоб ты сделав? Взяв бы до себе в горнични?
– Да уж нашел бы, что сделать, поверь.
– Я б и в горнични согласна. Только шоб дитя признав.
– Призна́ю. Даст Бог, сгинут большевики…
Она гладила его лицо.
– Не сгинуть оны, серденько мое… И тоби ще воевать та воевать…
Они стояли, обнявшись.
В Гуляйполе отряд немцев, стражников и гайдамаков окружил хату Махно. Среди тех, кто опасливо, держа оружие наготове, вошел во двор, были и александровский исправник Демьян Захарович, и бывший пристав Лотко. Лотко постучал прикладом в дверь:
– Махно, выходь!
Из сеней выглянула старая Евдокия Матвеевна.
– Где твой сын? – строго спросил исправник.
– У мене их пятеро.
– Нестор.
– Нема. Сив на коня та й поихав.
– Куда?
– Та хто ж його знае. Свит за очи…
– А остальные?
– Та яка ж маты вам скаже, куды диты подалысь?
– Ничего! Найдем! – угрожающе пообещал исправник и обернулся к Лотко: – Пали бандитское гнездо!
По команде пристава несколько стражников подскочили к хате, сунули под стреху горящие факелы. Огонь лизнул сухой камыш, побежал по крыше.
…Задыхаясь, потеряв платок, седовласая Евдокия Матвеевна бежала по улице.
Позади поднимался столб дыма, и языки пламени плясали над садом. Огонь пожирал крышу.
– Ой, лышенько!.. Ой, беда-беда! – причитала она на ходу. Слезы заливали ее лицо.
Восемнадцатый год. Весенняя пора Гражданской войны. Пока только цветочки, еще не ягодки…
В имении пана Данилевского суета. Челядь носилась по коридорам, вынося вещи коммунаров во флигеля. Мели, мыли, чистили…
Стоя на стремянках, слуги развешивали новые, вернее, старые портреты взамен «анархических». Столяр в зале полировал большой стол, исцарапанный черногвардейцами на советах. Сокрушенно качал головой…
Ветеринар Забродский внес в зал стопку солидных, но довольно растрепанных книг.
– Вот, Иван Казимирович, – сказал он с виноватым видом, – брал в библиотеке… Немного растрепались…
Данилевский взглянул на него с удивлением.
– Извините, но был вынужден давать этим… ну, коммунарам, читать… главным образом по животноводству…
Бровь Данилевского еще выше поползла вверх.
– Ну, было что-то вроде курсов по животноводству, ветеринарии, – совсем смутился Забродский. – Что оставалось делать? Заставили…
– Так и продолжайте, – посоветовал пан. – Хорошее дело! А я вот не додумался… Да-да, продолжайте! Занимайтесь с работниками. Образование необходимо.
– Слушаюсь! – обрадовался Забродский. – Только многие ушли.
– Кто без греха – вернется, – сказал Данилевский. – Зато когда вся эта вакханалия кончится, у нас будут грамотные животноводы!
В залу вбежала Винцуся. По местным понятиям она уже была вполне взрослой девушкой, но сохранила детскую непосредственность и легкость движений.
– Папа, папа, я нашла комнату, в которой жил этот… Махно. Именно он. Там детские вещи. У него, оказывается, маленький ребеночек. Представляешь, у Махно – ребеночек!
– Археологическая находка! – улыбнулся Данилевский.
– Идем, я тебе все покажу! – Винцуся потянула отца за руку. И тот последовал за дочерью.
В комнате, где жили Нестор и Настя, Данилевский с любопытством стал просматривать книги, а Винцуся – аккуратно складывать на столе детскую матерчатую обувку, рубашечки. Одну из рубашечек, искусно расшитую, рассматривала у окна.
– Как вышито! – восхитилась она. – Просто талантливо!.. Папа, а почему люди не могут жить все вместе, в мире? Ну, жил бы здесь этот Махно с ребеночком, с женой, работал бы, как все, а вечерами песни пел… вот как у Гоголя… Так хорошо, так славно!
Данилевский не отрывался от книги. Это был томик прозы Лермонтова, похожий на тот, который Нестор многократно перечитывал в Бутырской тюрьме.
– К сожалению, доча, – ответил он, на секунду прервав чтение, – к сожалению, ему больше нравился не Гоголь, а бунтарь Михаил Лермонтов. Тут вот пометки самого Махно. «…Воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созиданию или разрушению…» Очень любопытная пометочка!
– Неужели он… он читал такие книги? Он же необразованный!
– Представь себе, читал. Наша российская тюрьма была великой школой. Школой революции, конечно.
В комнату ворвался вспотевший и улыбающийся исправник.
– Извините, шо без докладу, Иван Казимирович! Спешу отрапортовать! С Махно покончено! Хату спалили!..
– Как «покончено»? – спокойно спросил Данилевский, продолжая глядеть в книгу.
– Сам он сбежал, – несколько обескураженно продолжал Демьян Захарович. – И братья его тоже. Но в скором времени мы их всех переловим и… Словом, все! Кончился Махно!
Данилевский захлопнул томик Лермонтова, отложил в сторону.
– Боюсь… – задумчиво сказал он, – боюсь, что Махно только начинается.
Глава седьмая
Смеркалось. Косой солнечный свет пронизывал зеленые улицы города.
Нестор неторопливо шел по Таганрогскому проспекту Ростова.
На одном из лучших городских зданий, еще недавно принадлежавших табачному фабриканту Асмолову, между колоннами он увидел броскую растяжку: «Федерация анархистов Ростова».
Поразмыслив, толкнул тяжелую дверь, изрешеченную пулями. В коридоре его встретила мрачная личность в матросской форменке, у ног которой, как собака, расположился пулемет «Максим». На голове у стража – сбитая набок роскошная «генеральская» фуражка. Совсем недавно она принадлежала здешнему швейцару.
– Анархист? – грозно спросила личность.
– Шел бы ты, браток, к такой-то матери, – лениво ответил Махно.
– Проходи! – посторонился матрос. – Сразу видать – свой. Вали наверх, там щас обедають.
Придерживая рукой тяжелый маузер, Махно поднялся по лестнице. Здесь, в пролете, висели все те же знакомые, но порядком искаженные местным художником портреты вождей русского анархизма. Среди них почему-то были еще Штирнер и Разин.
В зале Нестор застал весьма смешанное общество: мужчин в военной и полувоенной форме, штатских при оружии, которое в сочетании с пиджаками выглядело нелепо, особенно шашки. В компании было и несколько женщин явно легкого поведения; одна из них пришпилила к волосам шляпку-шантеклерку. Под ногами бродили породистые собаки, оставшиеся в доме со времен Асмолова, подбирали анархические объедки…
Стол был богатый, напоминающий о воспетых поэтами грозных временах чумы. И о новейших временах повального грабежа.
Некоторое время Махно, перекатывая желваки, смотрел на пирующих.
Человек в мундире без погон, с цветком, торчащим из нагрудного кармана, встал и тоже стал изучать вошедшего:
– Кто такой? Какой организации?
– Нестор Махно.
– Из Гуляйполя?
– Из Гуляйполя. А шо?
Лицо «мундира» расплылось в улыбке.
– Друзья! – обратился он к сотоварищам. – Так это вот и есть тот самый Махно! Ну, который создал анархическую республику в вольных степях левобережной Таврии!
Собравшиеся дружно зааплодировали.
– Товарищ Махно, а это представители анархизма Одещины, Донетчины, Ростова! Ваши, так сказать, соратники и едино… едино…
Он осекся под жестким взглядом Махно. Рука Нестора потянулась к рукояти маузера.
– Соратники, говоришь?.. Брешешь! Здесь жрущие и пьющие трепачи в компании бл***й! Загадили залу. Собаки, объедки… Стыдно! «Анархисты»!
– Замечание… э-э… справедливое. Но, товарищ Махно… не сегодня завтра немцы будут в Ростове, – залепетал растерявшийся «мундир». – Последний ужин в братской, так сказать, компании… Просим присоединиться!
– Где можно помыться и поспать? – спросил Махно.
– Там, на третьем этаже, – показал наверх оратор.
Махно повернулся, чтобы уйти, но «мундир» задержал его:
– Минутку, Нестор Иванович!
– Ну, шо еще? – недружелюбно отозвался Махно.
– Вас тут искали. Вроде бы тоже из Гуляйполя.
– Кто?
– Не представились…
– Почему вы решили, шо из Гуляйполя?
– Так они спросили, нет ли кого из Гуляйполя? На минуту зашли, спросили. И исчезли.
– Как хоть выглядел? Молодой, старый?
– Уже вечер был, темновато: не разглядели.
– Спасибо и на том. – И Нестор покинул зал.
Побродив по коридорам, он нашел какую-то каморку, заваленную одеялами, пальто, шубами, шляпами, коробками с обувью и почему-то пулеметными лентами. Расстелив на полу шубу, Нестор накрылся с головой и затих. Его сразу сморил сон…
А этажом ниже развернулась нешуточная работа. «Дамы» под руководством человека в мундире, подоткнув подолы, мели и мыли тряпками пол. Анархисты вольных республик Украины гремели посудой: тарелками, бокалами, столовыми приборами. Все это добро летело через окно на улицу, нарушая тишину ночного Ростова лязгом и звоном.
– И шоб все было чисто! – покрикивал «мундир». – Шоб нас не стыдили заслуженные деятели движения!
– Уймись, Теодор! – упрекнула его вспотевшая распатланная дамочка. – Хватит речей!
– Между прочим, это узурпаторские методы, которые мы отвергаем! – ворчал один из уборщиков.
– Ты это Нестору Махно скажи! – ответил «мундир». – У меня в кармане семечек меньше, чем он пострелял народу…
Ранним утром в Доме федерации анархистов кто-то, громко топая по коридорам, стучал в каждую дверь и орал басом, от которого, кажется, дрожали стекла:
– Эй, Махно! Где ты, козачий сын? Отзовись!
Нестор поворочался под шубой, но не высунулся, а только перевернулся на другой бок.
В каморку заглянул огромный, увешанный гранатами человек. Тот самый «цирковой борец», что недавно предлагал Нестору пойти вместе с ним.
– А ну просыпайся!
Махно нехотя выглянул из-под меха. Узнал.
– Опять ты? – И снова нырнул под шубу.
Однако незнакомец стащил с него драгоценное манто:
– Вставай! Немцы уже под Ростовом! Клянусь Одессой!
Нестор протер глаза.
– Когда будут в Ростове, разбудишь! – недовольно буркнул он и попытался снова чем-нибудь накрыть голову.
Бомбист сгреб Нестора в охапку и рывком поставил на ноги.
– Мне сказали, шо ты – Махно?
– Ну!
– С Гуляйполя?
– С Гуляйполя!
– Брешеш! Той Махно, рассказують, черт з рогами. Моторный хлопец, боевой, первейший из анархистив. А это шо?.. Малое, сонное, ленивое, як байбак!
– Но-но! Не сильно наступай, дядя! – озлился Махно. – Если тебя перерубать, тоже поменьшаешь!
– Не серчай! – добродушно пробасил бомбист. – Пошли быстренько!
Они спустились на этаж ниже, миновали пустой зал, где еще вечером шло пиршество. Бомбист на ходу сказал:
– Мне пожаловалысь, явился Махно, всю федерацию разогнав и пишов спать. Чого ж, спрашиваю, сами сматываетесь, а його не разбудылы? Так боимся, говорять. Злющий, як собака… Я и подумав: попаде хлопець до немцев, клянусь Одессой.
– А, собственно, ты кто такой? – спросил Махно.
– Ну, ты даеш! Мене весь Донбасс знае, а ты «хто такой». – Здоровяк протянул ему руку: – Командир донбасских анархистов-бомбистов Левка Задов. Шо, не слыхав?
– Нет.
– Значит, ще услышишь! Клянусь Одессой!
– Не пойму, так ты с Одессы чи з Донбасса?
– А шо тоби больше бы понравилось?
– Все равно.
– Вообще-то я донецкий. Но шибко Одессу полюбыв. Мы там буржуазию тряслы. Хороший город, богатый.
Со звоном разлетелось большое оконное стекло, и с улицы донеслись звуки выстрелов, цокот копыт…
– Быстрее! – Задов схватил Махно за руку. Но тот вырвал ее, остановился как вкопанный. Задов с удивлением посмотрел на Нестора.
– У меня в маузере еще пять патронов. И обойма. Да ты мне пяток бомбочек оставишь, – сказал Нестор и, подумав, добавил: – И катись к едрене фене своей дорожкой.
– Шо, геройску смерть хочешь принять? – спросил Задов, почесывая затылок. Этот маленький гуляйпольский анархист вызывал у него симпатию.
– Давай бомбы! – попросил Нестор.
– Сичас! – Левка подошел к Махно, якобы собираясь отцепить от своих ремней гранаты, но неожиданно сгреб его в охапку и, как пушинку, понес вниз, к выходу.
На улице, в реквизированном автомобиле, Левку уже ждали его товарищи-бомбисты. Тревожно прислушивались к разгорающейся в ближних кварталах перестрелке.
Задов бросил Нестора в кузов автомобиля и навалился на него, попридержал.
– Гони на станцию! – крикнул он шоферу. – До бронепоезда!
…Неуклюжий сборный бронепоезд, обсыпанный людьми, словно муравьями, двигался по степным просторам.
На борту главного блиндированного вагона оплывшей масляной краской было выведено «Анархист Коц…».
Задов, Махно и еще несколько человек сидели на крыше бронеплощадки рядом с орудийной башней. Постукивали на стыках колеса. Перегруженный бронепоезд двигался медленно.
– Слушай, шо это за «Анархист Коц»? – спросил Махно у Левки. – Кто такой? Ничего про такого не слыхал.
– А бес его знает, – пробасил Левка. – В России сейчас анархистов, як блинов на Масленицу.
– Ты, Левка, все про блины, – заметил сосед, перепоясанный пулеметными лентами. – Давай лучше про мацу…
– Мацу не люблю. Сухость одна и хруст. Блины – другое дело. Особенно на коровьем масле. Багато не съем, а штук двести – ежели под настроение и в аппетит. Клянусь Одессой!
Окружающие расхохотались.
– Не надо, братцы, про жратву, – попросил кто-то. – Бо вже живот втянуло, як у той блудной собаки.
– Буде станция – розживемся! – ободрил «братков» Задов.
– И все-таки, – не унимался Махно, которого пока еще не слишком волновала мысль о еде, – кто ж он такой, этот Коц? Я почти всех известных анархистов знаю. Чем прославился?
Пожав плечами, Левка постучал массивной самодельной бомбой по броне орудийной башни. Люк отворился, и оттуда высунулся чумазый морячок в кожанке и бескозырке с местами вылинявшей надписью «Бесстрашный».
– Чого грюкаете, дармоеды безбилетни? – весело спросил он.
– Тут, братишка, есть интерес насчет этого Коца. Шо за анархист? Чим прославывся? – обратился к нему Левка.
– Колеса крутятся, шо вам ще надо? – удивился моряк.
– Не скажи! Желаем знать своих героев, – ответил Левка. – Имеем право.
– То не Коц, а Коцюба.
– Коцюба? – Нестор удивленно пожал плечами. – Кто-нибудь слыхав про таку знаменитость?
– Ни!
– Не знаем. Хто такой?
Морячок сбил набок бескозырку:
– Так це ж я и есть Коцюба… Краски, понимаеш, трошкы не хватило. В Царыцыни розживусь – домалюю.
– Краской разживешься и напишешь: «Анархист Кропоткин»! – строго сказал Махно.
Морячок задумался, стал загибать пальцы, считать. Покачал головой:
– Ни, не намалюю. Буквов багато, не вместяться. А Коцюба – в самый раз.
– И чим же ты, Коцюба, так прославывся, шо на нашем революционном бронепоезди свою фамилию желаешь увековечить? – так же строго, как и Махно, спросил у морячка Левка.
– Чим-чим? – даже обиделся морячок. – А цым… як його… Ну, хлеб ростыв, диток тринадцать душ… и цее… два года комендором при орудии.
– Ну, орудие – это щас не в счет. Теперь все чи при орудии, чи при пулемети. Жизнь така, – размышлял Левка. – А от тринадцать диточок – это да! – И решительно добавил: – Ладно! Малюй свою фамилию. Як братва? Не будет возражениев?
– Та ни!
– Чого там!
– Хай малюе!..
Левка протянул комендору уполовиненную «козью ножку». Морячок с наслаждением затянулся.
– Хорошо тут у вас, на воздухи, – сказал он. – Блаженство души.
– Так вылезай! – пророкотал Задов. – Пулемет дамо! Ручный!
– Не можу. Потому я есть корабельный комендор и должон быть при орудии.
– Так немцы далеко отстали, из твоей пушки не достать.
– А як большевыки?
– Ты шо, очумев? – спросил Задов. – Мы ж до большевыков и прорываемся, им на подмогу.
– Опоздали вы, братишечки, не знаете текущего моменту! – сказал комендор. – У йих все переменилось. Даже Красну гвардию большевыки переделують в Красну армию. Без выборных командирив, а только спецы и при йих комиссары. И дисциплина, як в старе время…
– Да ты шо? – удивился Левка и растянул ворот куртки-шахтерки. – А за шо ж мы тогда з красноперыми вмести буржуев били, за шо з ими, з красноперыми, разом воевалы? Бок о бок!
– Во-во, именно шо сбоку… – поморщился морячок и бросил тлеющий остаток самокрутки вниз. – Ладно! Штормяга всех проверит!
И он исчез в башне. Бомбисты переглядывались.
– Это шо ж получается? Мы едем, як семечко в маслобойку? – спрашивал Левка. Но никто ему не ответил, потому что никто ничего не понимал. Ни Задов. Ни Махно. Ни все остальные…
На крупной станции бронепоезд остановился. Обремененный листами брони паровозишко устало пыхтел, сбрасывая пар.
На белом вокзальном здании с выбитыми стеклами болтался уцелевший остаток вывески-названия станции: «…ская».
Комендор, рассматривая в бинокль большую казачью станицу, углядел многолюдный и шумный базар, сказал бомбистам:
– Гляди, братва, а базар тут фартовый!
– Так донска ж станица! Казачки! – отозвался один из анархистов. – Кучеряво живуть!
– Контра они все! – ответил ему другой. – Кулаки и буржуи…
Бомбисты стали соскакивать с бронепоезда. И те, кто сидел на бронеплощадках, и кто висел невесть на чем, и те, кто жарился внутри, – все побежали на базар. Кто с пустым сидором, кто с котелком, кто с ведерком. Запасаться!
Шум, гам. Каждый спешил оказаться первым. Кто-то из бомбистов упал, круглая граната оторвалась от его амуниции и покатилась по дороге. На это не обратили внимания. Только кто-то пошутил:
– Не наступи, хлопцы, она кусачая!
Захохотали – и вперед.
Левка и Махно остались на бронепоезде.
– Чего не пошел захарчиться? – спросил Задов у своего нового приятеля. – Я за бронепоезд в ответе, а ты чего?
– Денег нет.
– А у моих байстрюков, думаешь, есть?
Через некоторое время бригада и пассажиры бронепоезда побежали обратно. В котелках, ведрах несли яйца, молоко, всякую снедь. У кого под мышкой каравай пшеничного хлеба, у кого в руках несколько кур, гусь или визгливый подсвинок. Мешки за спинами тоже были раздуты..
А следом за анархистами поспешали разъяренные торговцы, в основном бабы, старики и дети. Кричали, галдели…
Но добытчики уже передавали харчи в двери вагонов, сами с помощью товарищей быстренько лезли наверх. Живая – гогочущая, визжащая и кудахтающая – добыча исчезала где-то за броней, в башнях.
Толпа остановилась перед бронированным чудищем. Бабы продолжали орать, а старики и детишки били по броне кто чем: кулаками, каменюками, палками…
– Бандиты!..
– Грабители!
– Ты сначала вырасти его, выкорми, а потом…
– Отдай, зараза!..
Махно хмурился.
– Не дело это, – сказал он Левке. – Нельзя крестьян обижать. Неправильно!
Левка встал на броне.
– Граждане и гражданки! – Его бас и внушительный вид заставили толпу стихнуть. – Вы видите перед собой бесстрашный отряд революционных анархистов, который…
Он смолк, так как был не мастак говорить речи. Стоящий рядом бомбист из более грамотных, возможно, бывший учитель, попытался шепотом подсказать:
– …который немало жизней положил на алтарь борьбы с буржуазией…
– Та помолчи ты, ей-богу! Сам скажу, як умею! – озлился Левка и продолжил свою речь: – В результате беспрерывных кровавых боев мы малость, як бы это получшее сказать, оголодали…
И он вдруг сорвал с плеча «учителя» кожаную дамскую сумку.
– Да ты что, Левка! – зло прошептал анархист. – Тут же вся наша казна!
– Но мы не якиесь там грабители! – проревел Задов, размахивая сумкой. – И у соответствии с революционной анархической совестью согласни расплатиться за все рекви… ну, за то, шо у вас трошкы харчей позычили! В общем, разделите по-братски, кому шо задолжалы!
И он высыпал содержимое сумочки на утрамбованную насыпь: керенки, царские ассигнации, кредитные билеты, билеты Займа Свободы. Звонко катились, ударяясь о рельсы, немногие золотые и серебряные монеты.
– Клянусь Одессой, это всё! Больше нема!
Торговцы бросились подбирать деньги.
– А насчет грабежу, так не надо обижаться, – продолжал басить Левка, возвышаясь над сутолокой. – Вы ж знаете, все граблять. Чи белые, чи красные, чи анархисты, чи монархисты. Бо все голодни. Хочь и воюем, а жрать хочется!.. И ще! Про деньги! Их же все равно скоро отменять, як пережиток… потому шо, клянусь Одессой, голод и деньги – то наши злейши враги, против кого мы и воюем. Плюньте вы на них, як на заразу, шо делае из человека свинью…
Всю эту прекрасную речь Левка произносил, стоя высоко над людьми, которые ползали, падали, вскакивали, вырывали друг у друга бумажки и монеты, не обращая внимания на его слова.
Махно молчал. Он задумчиво наблюдал за этой нелепой сценой: и смех, и слезы.
Сутулая, крепкая еще старуха выпрямилась, держа в руке несколько бумажек.
– Эт-то шо ж, за мого гусака только тридцать керенок? – спросила она у Левки. – Та он же отборным зерном кормленный! Сто двадцать стоит, не меньше!..
Левка высмотрел в сутолоке суетливого мужичка в очках, который уже успел подобрать несколько царских «катенек».
– Ты, оглоед! – крикнул он. – Я тебе говорю, который в очках. Отдай вон той гражданке за гусака «катьку». Бо твоя полудохлая курыця и десяти керенок не стоит. А ты сколько сгреб? Я ж сверху все бачу, клянусь Одессой!
Мужичонка неохотно расстался с частью добычи и исчез в толпе.
А толпа не переставала недовольно шуметь, требуя денег.
Левка показал пустую сумку, а затем, размахнувшись, забросил ее подальше. Вслед за ней устремились несколько оборванцев.
– Хороша станица, душевна, – сказал комендор, слушавший разговор из полумрака открытого люка, и достал из-за пазухи своей объемистой кожанки бутыль. – И самогон на тутешнем базаре лучший по всему Донскому краю. Из винограда гонють. Так шо, мабуть, тут и заночуем!..
На рассвете бронепоезд окружили красногвардейцы с винтовками и пулеметами. Разношерстное войско – кто с нарукавной повязкой, кто с жестяной звездочкой вместо кокарды, кто в офицерском мундире и с красным бантом на груди – выглядело не очень грозно. Тем не менее это была местная военная власть.
Начальствующий красногвардеец в папахе, с лихо завитым казачьим чубом, постучал рукояткой револьвера в броню.
Из дверцы броневой рубки высунулся комендор Коцюба в тельняшке.
– Позовите командира! – приказал красногвардеец в папахе.
– Не можу, – тихо ответил Коцюба. – Оны сплять. И дуже сердяться, когда их будять.
– Скажи, его вызывает начальник Красной гвардии города, – строго сказала «папаха». – А это, – он указал на коренастого седого мужика, – председатель здешнего Ревкома.
– Счас. – И морячок скрылся в рубке, но на мгновение еще раз выглянул: – Но я за вас усю ответственность з себе снимаю.
В рубке комендор встретился взглядом с недовольным заспанным Левкой.
– Шо там за крик, ей-богу? Выспаться не дадуть!
– Какоесь начальство. Командира шукають. А командир дуже хмельни, не встануть.
– Ладно, я с имы потолкую. – И Левка высунулся из рубки, вгляделся в светлые ночные сумерки, спросил: – Хто тут нами интересуется?
– Вы командир бронепоезда?
– Ну, допустим.
– Тут такое дело. Мы представители Красной гвардии и местного Ревкома…
– Ну шо ж, познакомимся. Приятное дело.
– Нам поручено взять вас под арест и произвести следствие.
– Это за шо ж такая немилость?
– За самоуправство и устроенную на базаре реквизицию, а точнее, грабеж.
Левка пренебрежительно сплюнул.
– Не шибко круто завинчуете? – спросил он.
– Вот в Ревкоме и разберемся, круто чи не круто! – сказала «папаха». – Согласно указаниям правительства Донской Советской Республики, такие анархические действия настраивають казаков супроть новой власти. Наступае критический момент, деникинские добровольцы пруть, а вы тут подрываете…
– «Реквизиция», «грабеж»! – криком прервал «папаху» Левка. – А ты моих людей накормыв? А мы, замежду прочим, не барышень катаем, а йдем на защиту Царицына! Так шо ты дурня не валяй, а поскорей открывай семафор!
– Бронепоезд ваш задерживаю! – строго ответила «папаха». – А вы все там – сдайте оружие и следуйте за мной!
– Строем чи як? – весело спросил Левка и бросил в темноту броневагона: – Связь! – Взяв у Коцюбы телефонную трубку, Левка подмигнул морячку: – Приготовиться к отражению атаки!..
Повсюду позахлопывались дверцы вагонов и башенок. Орудия начали вращаться, поводя своими хоботами и словно отыскивая цель. Анархисты, сидевшие на крыше бронепоезда, отцепили от своих перекрещенных ремней бомбы, залязгали затворами винтовок…
– Шо б вам тут для начала размолотыть? – оглядывая в бинокль окрестности, задумчиво спросил Левка. – Може, вам водокачки не жалко? Чи того… вокзала?..
И случилось то, на что и рассчитывал Левка: командир красногвардейцев сделал подчиненным знак рукой. И те стали отходить от бронепоезда, волоча за дуги «Максимы» и изредка оглядываясь.
…С характерным звуком поднялась «рука» семафора.
«Анархист Коц», ухнув паром, начал тяжелое движение.
Бомбисты посмеивались. Неодолимой была их вера в свою силу и революционный порыв. Случившееся они восприняли как мелкое и веселое приключение.
Бронепоезд, медленно набирая скорость, обдал паром стоящих на насыпи красногвардейцев….
До Царицына было вроде уже и недалеко, но кто взялся бы предсказать, сколько времени займет дорога! Сутки? Может, трое? А то и неделю или даже больше. Революционные порядки!
Глава восьмая
Царицын кишел революционным народом. Красная твердыня. У входа в обшарпанный особняк висел кусок фанеры с надписью: «Федерация анархистов Черноморья, Азовщины и Поволжья». Между особняком и скособоченным домишкой покачивался на легком ветерке лозунг-растяжка: «Превратим Царицын в центр мировой анархии». Белые буквы расплылись от дождей, черное полотнище было в пятнах. Но это не смущало тех, кто решил «превратить». Благо весенние дожди уже дали дорогу раннему лету.
У входа в особняк толпились люди, одетые кто во что горазд и вооруженные чем попало. Встречи, объятия. И здесь, на улице, и там, в коридоре особняка, куда протискивался со своей компанией Левка Задов. К этой компании и примкнул Нестор.
– Дайте пройты, братцы! – звучал бас Задова в многолюдном коридоре.
– Левка, ты? – раздался чей-то удивленный возглас.
И уже Левка, как медведь, тискал такого же, как и сам, огромного грека-анархиста:
– Ганжа, дружище! А я слыхав, шо тебя вбылы, клянусь Одессой!
– То Ганоцкого вбылы. А для мене, Левочка, ще не отлили ту пулю.
Наконец Задов вспомнил о Махно, который с любопытством наблюдал за встречей двух друзей.
– А это знаешь хто? – Левка указал на Махно. – Не смотри, шо ростом не в нас с тобой. Это ж тот самый черт рогатый Нестор Махно! Ну, тот, шо раком поставыв все Приднепровье.
– Махно? Ну як же! Слыхав!.. – И Ганжа вдруг ударил себя ладонью по лбу: – Подожди, вчора слыхав! Чи позавчора. Ну да! Тут тебе какойсь родич шукает. Я його и сьодня видал!.. Ты от шо, дружаня! Иди так пряменько по калидору, свернеш налево, найдеш шесту комнату. Он там уже третьи суткы подушку давит. Если только не помер с голоду.
Нестор протискивался сквозь гомонящую толпу. Толкнул дверь шестой комнаты. И увидел дремлющего, несмотря на окружающий шум и суету, человека. Лица не было видно, он уткнул голову в колени и обхватил ее руками.
Махно присмотрелся. Затем тронул спящего за рукав. Тот мгновенно проснулся, вскочил, бессмысленно тараща глаза.
– Гриня?.. Григорий? – удивился Махно. – Ты як здесь? Чего?
– Тебе шукав. Больше месяца… В Ростови з тобой розминувся. Потом в Калитве тебе люды видали и ще в Калачи. Я так и решыв, шо тебя в Царыцыни надо шукать. Тут все штабы.
– Ну, ладно! Ще наговоритесь, – пробасил вошедший следом за Нестором Левка. – Пошли крышу шукать! Бо тут народу, як селедки в боки. А ночевать же где-то надо.
Но Махно был озабочен грустным, даже скорбным видом брата, который как будто силился что-то сказать, но не решался. Григорий осунулся, потемнел лицом, зарос щетиной.
– Шо-то случилось, Грыць? – спросил Нестор.
– Та… потом…
Нестор понял: произошло что-то серьезное, раз брат бросился на его поиски.
– С Настей что-то? Говори! Не тяни душу! Шо-то про нее узнали?
– Та ни. Про Настю – ничого…
– Ладно, вы идить. Позже мы сюда ж подойдем, – сказал Задову и Ганже Нестор. – Мы пока там на бережочке посидим, поговорим.
Они сидели на лежащем у кромки воды бревне. У их ног шелестели речные волны. Разноголосыми гудками перекликались пароходы, переделанные теперь большей частью в «боевые корабли». С пулеметами и даже с малокалиберными пушками.
– Господи, до чого ж велыка Россия… – говорил Григорий. – Волга, казалось мени, на самом краю света. А выходыть, шо й за Волгой ще земли и земли, аж до океана. А вже там тая… як вона… Япония, де наш Омельян свой глаз потеряв… – Последние слова он произносил уже почти плача. И неожиданно, весь дергаясь от рыданий, он приник к Нестору, обнял его: – Омельяна та Карпа… убили их, братику… И хату нашу спалили. Только одна печь и осталась.
– А мама, дети?
– Их не тронулы.
Нестор молчал, щурил глаза, рассматривал то ли дальний волжский берег, то ли нечто еще более дальнее.
Выждав, когда брат немного успокоится, он спросил:
– Давай по порядку. Когда, кто, как?
– Сперва нашу хату спалили. Потом пришли до Омельяна… пристав, стражники, германци, ще офицер якийсь… их тепер у нас стилькы всяких… «Ты Махно?» – «Я – Махно». Дитей, правда, до суседей отвелы. А Омельяна до тына приставили и без розговору шарах з вынтовок… Може, они его за тебя принялы. А може, просто мстылысь… Ну, а потом Карпа привелы, шарахнулы над головой. А у нього серце не выдержало. Он последне время сильно хворав. Жаловался, шо йому все воздуху не хватае… Сейчас и мама, и диты – вси чотырнадцять – живуть в хате Карпа.
– Не плачь! – строго сказал Нестор. – Не время плакать.
– Мама совсем сыва стала. За тебе дуже беспокоиться… за Савву. Савва, слава Богу, десь ховаеться. Хтось продав його. Узналы, шо он с тобою на Кичкасскому мосту офицеров топил.
Помолчали. Плескалась река, колыхались в воде облака. Покой. Только гудки революционной волжской флотилии нарушали тишину.
– Кой-кого из твоих хлопцив бачив. Ждуть тебя, – сказал Григорий, понемногу приходя в себя. – В плавнях станем жить, по балкам… и германцев, стражников, офицеров сничтожать… Щусь, правда, сколотил небольшую бандочку, промышляють, як могуть… В плавнях продукты не ростуть. На одний рыбе довго не проживешь. Шуруют по погребах, по хатах… Не, без тебя, Нестор, не будет дела. Оружие у людей есть – атамана нема. – Григорий ждал ответа, но Нестор промолчал. И тогда он добавил: – Слухи пошли, мол, Нестор уже не тот. Не хоче насмерть воевать!.. Дурни! Не знають тебя!..
И вновь Нестор промолчал. После длинной паузы попросил:
– Про Настю шо-нибудь скажи. Может, хоть шо-то люды говорят? Не могла ж она исчезнуть без следа.
Григорий вздохнул:
– Ничого… – И добавил уже как нечто определенное, выношенное и как бы отторгающее память о Насте: – Возвертайся додому, Нестор! Германци росстрелюють, вишають, плетюганамы сичут до смерти. И паны… оны тоже мстяться за свои маеткы та за землю… Большая беда на Украине! Народ стонет!.. Ворочайся!
Махно встал:
– Пошли, помянем братов.
Под вечер слегка подвыпившие Нестор и его брат вернулись к особняку, где размещалась федерация. Что-то изменилось вокруг. Не было надписи на стене, что здесь находится штаб анархистов. Исчезла растяжка-лозунг насчет Царицына как будущего центра мировой анархии. И толпа не осаждала вход. Зато стояли, беседуя, несколько человек с винтовками, по виду не совсем похожие на анархистов. Строги, подтянуты. Невдалеке темнела машина, мотор ее работал.
Приглядевшись, Нестор заметил у одного часового звездочку на заломленной фуражке.
– Подожди! – настороженно сказал Нестор брату. – Отойди от меня подальше, а лучше сховайся он там, за лабазами. Если шо, пробирайся додому. Скажи хлопцам: жив буду – вернусь.
– А шо случилось? Шо? – забеспокоился Григорий.
– Сказано, отойди од мене. Сгинь! – сердито повторил Нестор и решительно зашагал к особняку.
Люди с винтовками, оглядев его и заметив маузер, расступились, пропустили в дом.
Но едва Нестор оказался в коридоре, как на него навалились, заломили руки, сорвали кобуру.
– Один из тех! – сказал крепко сбитый, скуластый мужичок. – С маузером. Видать, ихний начальник! Давай его до Романа Савельича, в ЧеКу.
Глава девятая
Время, как вода в широкой реке, текло в тюрьме незаметно.
Только покинув Бутырку, Нестор узнал о событиях, случившихся за годы его заключения. Теперь, на воле, он смог кое в чем разобраться и стал постепенно нащупывать под ногами твердую почву.
Он увидел, что в России существует невероятное количество партий, направлений, группировок, каждая из которых отстаивала свою правду и, не задумываясь, пускала в ход как аргумент пулю, или штык, или шашку, а то и артиллерию. И даже всяк отдельный человек предъявлял «свою правду» и нередко тоже был готов пойти на убийство ради собственных убеждений.
Великая Мировая война (чуть позже ее назовут Империалистической) произвела невиданное опустошение в сознании жителей многих стран, но для России ее последствия были просто катастрофическими. Еще долгие годы после этой войны русская душа была больна. Люди находились в состоянии крайнего психического возбуждения.
На Западе назвали все произошедшее кризисом цивилизации, упадком гуманизма, «закатом Европы». Там воспринимали мировую катастрофу умом, интеллектом. В России – душой. Ум может переварить и переосмыслить многое, душа – нет. Она надрывается…
Война для русских началась наскоком на Восточную Пруссию, по всем правилам былых кампаний. Гвардейская пехота и кавалерия шли в первых рядах. Пулеметов и легких, отличных скорострельных пушек было в достатке. Первые победы ошеломили самих наступающих. В Петербурге, спешно переименованном в Петроград, ликовали. Но тут же выяснилось, что смелости у гвардии и других кадровых частей более чем достаточно, а вот настоящих полководцев нет.
Кайзеровские военные даже были готовы отступить и отдать (на время) Восточную Пруссию. Но все же, подтянув тяжелую артиллерию и лучшие части, нанесли контрудар. Крупповские пушки сказали свое веское слово.
Поражение русских оказалось сокрушительным. Командующий Первой армией Александр Васильевич Самсонов застрелился. И так как «мертвые сраму не имут», всю вину за поражение свалили на командующего Второй армией Павла Карловича Ренненкампфа, «русского немца». Вскоре его отстранили от командования, отдали под суд из-за «великого множества преступлений», еще довоенных, а через четыре года расстреляли. В Таганроге. Правда, по приговору уже советского ревтрибунала. За командование карательным отрядом в Восточной Сибири в годы Русско-японской войны, когда взбунтовались рабочие и железнодорожники, не пропуская поезда по Великой Сибирской магистрали. Ренненкампф проявил тогда крайнюю жестокость, чтобы навести порядок.
С обвинений в адрес Ренненкампфа началась кампания обличения «русских немцев», переросшая в истерическую германофобию, затмившую былой антисемитизм и даже как бы отменившую его.
В самом деле, а кто же еще мог быть виноват? Ну уж, конечно, не Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, близкий родственник самодержца, безусловно, прекрасный строевой офицер, который, по своим военным способностям, мог командовать разве что дивизией, не более того.
После поражения в Восточной Пруссии, стремясь заткнуть дыры на северном участке и предотвратить прорыв германцев, главнокомандующий бросил в бой лучшие силы. Так, в Мазурских болотах полегла почти вся гвардия, опора державы, воевавшая с поистине безумной храбростью, заботясь о чести эполет, званий, фамилий.
Боевые действия поначалу шли с переменным успехом, но постепенно перевес стал неумолимо передвигаться в сторону противника. Выявились страшные прорехи в военном снабжении, недостаток оружия, прежде всего тяжелой артиллерии. Война развивалась совсем не так, как предполагали стратеги. Это было затяжное, позиционное, со сплошной линией фронта кровавое противоборство, требующее миллионов подготовленных солдат и офицеров, огромного количества боеприпасов, новейшей техники, продовольствия и амуниции, хороших дорог… Нехватка всего этого вкупе с отсутствием наверху настоящих военных умов тяжело сказывалась на состоянии русской армии.
Отправив Николая Николаевича на Кавказский, сравнительно небольшой фронт, самодержец взял обязанности Верховного главнокомандующего на себя. Для этой роли Николай Второй решительно не годился. Возможно, он даже сознавал это. Но уговоры близких, которые внушали императору, что одно его появление в Ставке в качестве «верховного» воодушевит любящих его солдат, подействовали. И Николай Александрович поверил в то, что неудач больше не будет.
В самом деле, постепенно стало налаживаться многое из того, что мешало ранее армии успешно противостоять умелым и хорошо вооруженным германцам. Крупные частные предприятия, выполняющие военные заказы, перешли под государственное управление. Путиловский и Подольский заводы начали производить тяжелую артиллерию поистине «морских» калибров, не уступающую крупповской. В нужных количествах в армию стали поступать патроны. Из среднего и младшего звена выдвинулись новые командиры.
Поражение, однако, вызрело не под напором германцев. Оно вызрело внутри армии, прежде всего внутри «серой солдатской массы», вчерашних крестьян, совершенно не готовых к восприятию новой, невиданной доселе войны. Армия купалась в крови. Потери только убитыми в русской армии превышали потери всех остальных стран Антанты (Англии, Франции, Италии, Японии, Румынии). Это было следствием неумелого командования, недостатка в боеприпасах и технике, а также тех довольно частых неподготовленных наступлений, которые объяснялись настойчивыми требованиями союзников «помочь», оттянуть часть сил кайзера с Западного фронта. Зависимость от союзников была значительной, прежде всего финансовая.
Русская душа, наивная и воспитанная в традициях православия: доброты, человеколюбия и участливости, – столкнувшись с достижениями западного технического ума, прагматичного и целенаправленного, не выдержала и, озверев, бросилась в другую крайность, отказываясь от всего, что проповедовала не только православная, но и вообще человеческая мораль.
Аэропланы, цеппелины, аэростаты наблюдения взмыли ввысь, словно «небесное воинство» дьявола. Артиллерийские снаряды с отравляющими веществами. Пулеметы. Разрывные пули. Минные поля. Тройные ряды проволочных заграждений. Бронемашины, танки. Траншейные крупнокалиберные минометы и мортиры, стреляющие надкалиберными чушками весом до шести пудов. Фосфорные бомбы и снаряды, разбрасывающие осколки с температурой около двух тысяч градусов, прожигающие тело насквозь. Огнеметы, выпускающие пылающие струи на расстояние до двухсот шагов… Да несть числа этим изобретениям, призванным уязвить, уничтожить мягкую человеческую плоть.
«Господа нас подучили, вооружили, бросили в окопы и нас же поливают адским огнем, о каком ранее никто и не слыхивал». Психика оказалась сломленной. Было от чего сойти с ума и еще больше ненавидеть господ и эту… интеллигенцию. И офицеров, которые заставляют все это терпеть. И полковых священников, которые благословляли на смерть, отпевая еще до гибели.
Недовольство в среде офицеров и солдат росло с каждым днем, и никакой большевистской пропагандой объяснить это было нельзя. Доморощенные идеологи пробовали направить подобные настроения в русло оголтелой германофобии. Любого немца подозревали в шпионаже. Это притом, что «мужи честны вышедши из немец» составляли во многих отношениях костяк государственной и военной машины. Офицеры с приставкой к фамилии «фон» воевали самоотверженно, и потери среди них, в процентном отношении, были выше, чем среди русских: старались «обелить имя». Не помогало!
У старательных, трудолюбивых колонистов, прибывших в Россию еще при Екатерине, отнимали скот и зерно: первый, еще царский, опыт раскулачивания. Журналисты искали подводные лодки поблизости от колоний, в лиманах, где глубина была «воробью по колено». Власти арестовывали «немецких агентов», якобы подававших этим лодкам световые сигналы.
Дума приняла «закон о ликвидации немецкого засилья» – не без влияния тех, кто мечтал завладеть образцовыми имениями и предприятиями конкурентов с «вражескими фамилиями». Владимир Фальцфейн, описавший жизнь своего брата Фридриха, создателя знаменитой Аскании-Новы (вот уж кого нельзя обвинить в отсутствии русского патриотизма!), упоминает еще об одном нелепом законе: запрещении говорить по-немецки в ресторанах и общественных учреждениях, а также требовании от «лиц немецкого происхождения» не появляться на улице в компании более двух человек. Владимир вспоминает, как в Херсоне не без опаски беседовали на русском языке три лица и их (шутки ради) напугал проходящий мимо земский деятель некто Горич. Он пригрозил им арестом. Эти три лица были: губернатор барон фон Гревениц, шеф жандармов барон Тульценман фон Адлерпфлуг и председатель уездной земской управы Оскар Фельц.
«Именно барон фон Адлерпфлуг… с величайшим усердием участвовал в травле немцев… Обрусевшие немцы поступали нередко более «по-русски», чем чистокровные россияне. В своей ненависти к Германии и ко всему немецкому они доходили до дикого фанатизма… многие после начала войны перешли в православные и даже поменяли имена… К сожалению, существовало предубеждение, что лишь приверженец православной веры является настоящим подданным русского государства»… Тоже из воспоминаний Владимира Фальцфейна.
Увы, кампания германофобии ударила по женщине, которая давно приняла православие и была более истовой верующей, чем многие фанаты религии, а именно по императрице Александре Федоровне. Повсюду распространялись слухи, что она-то и есть главная шпионка, выдающая секреты кайзеру. Слухи сильно будоражили и без того близких к бунту солдат, подрывали последнее доверие к власти.
Высшие военные чины прекрасно знали, что самодержец не принимает важных решений, не позвонив в Царское Село и не переговорив с венценосной супругой. Нередко он даже отменял резолюции после таких семейных совещаний. Все это не прибавляло уверенности в завтрашнем дне.
И все же одна лишь германофобия не срабатывала. Тогда военного министра Сухомлинова арестовали и судили за измену. Далеко не все понимали вздорность обвинений. По дисциплине и доверию солдат к своему начальству был нанесен страшный удар. Западные союзники писали: «Либо русские совершенно бесстрашны, либо окончательно потеряли рассудок. Во время военных действий судить министра за измену… на это могут решиться немногие!» Шестидесятивосьмилетнего Сухомлинова в конце концов из-за слабости доказательств его вины отпустили под домашний арест, к молодой жене.
Позже, в семнадцатом, когда терпящему неудачи куда более серьезные, чем при «старом режиме», Временному правительству потребовался козел отпущения, профессиональный адвокат Керенский, ставший военным и морским министром, вновь приказал арестовать Сухомлинова. Посадили в крепость. Удивительно: в мае восемнадцатого его освободила и вместе с женой отпустила за границу большевистская власть. Повороты судьбы!..
В конце шестнадцатого и в начале семнадцатого русская буржуазия, промышленники, банкиры и олигархи делали все, чтобы свалить Николая Романова или сделать из него номинальную фигуру, подчиненную им. Многим из этих «революционеров-бизнесменов» и политиков, путавших ораторское искусство с искусством государственного управления, казалось, что они смогут рулить страной лучше, чем император, потому хотя бы, что хуже невозможно.
Да, им удалось с помощью купленных газетчиков, своих агентов возбудить народ, наэлектризовать людей, и без того переживающих психический надлом. С плебсом они рассчитывали легко справиться: что будет делать толпа без опытных организаторов, знающих, как распоряжаться финансами, как управлять биржами, заводами, банками? Побунтует да и утихнет. Главное – возбудить, намагнитить, поднять «массы» на забастовки, растрясти армию и в конечном счете заставить самодержца передать корону им, подлинным властителям России. А уж они-то развернутся! Они доведут дело до победы!
Большевиков, лидеры которых удрали за границу или же ушли в подполье, они всерьез не принимали. Мелковаты-с!
Видные военачальники, командующие фронтами, также настаивали на отречении Николая Второго. Среди них те, кто потом возглавит белое, или, как его еще называли, кадетское движение: Деникин, Рузский, Корнилов, Брусилов, начальник Генерального штаба Алексеев. Уговаривал родственника отречься, возможно, рассчитывая вернуть себе должность, великий князь Николай Николаевич.
Союзники, англичане и французы, лобызавшиеся ранее с государем, тоже, как убежденные демократы, были не против избавиться от Николая Второго. Английский посол даже принял осторожное участие в действиях «заговорщиков». Крупный помещик, председатель Думы Родзянко, считавшийся прекрасным оратором и потому претендовавший на важное место в послецарской России, тоже ратовал за отречение. И популярный политик, публицист Шульгин. И участник «заговора дрожащих рук» Гучков, с помощью которого кое-как был убит Распутин. Гучков видел себя главным триумфатором, творцом победы. Эти самодовольные люди, задержав на фронте немногочисленные гвардейские части и тем побудив петроградский гарнизон к неповиновению, пугая царя разрастающимися забастовками, окончательно уговорили его отречься от престола в пользу брата Михаила, который еще до войны вернулся из Лондона со своей морганатической, но законной женой. Они были уверены: Михаил согласится на «английский вариант» – ограниченную, контролируемую Думой и правительством монархию. То есть контролерами станут они сами.
Но Михаил решил провести остаток жизни где-нибудь в тихом уголке России вместе с бывшей капитаншей Вульферт, теперь графиней Брасовой. Увы, этим тихим уголком станет для великого князя опушка леса под Пермью, где его злодейски убьют вместе с камердинером, ни в чем не повинным англичанином.
Во всем огромном семействе Романовых не нашлось никого, кто хотел бы и мог поднять упавшую шапку Мономаха. Это был полный крах, наступивший всего лишь через четыре года после торжественного трехсотлетнего юбилея дома.
Дальше начал действовать принцип домино. Сначала знаменитый Приказ № 1, принятый Временным правительством безликого и бесцветного князя Львова. Этот приказ отменял в армии дисциплину, отдание чести, уравнивал в правах рядового с офицером (это во время войны!), утверждал в частях вместо единоначалия троевластие: командира, комиссара, назначенного правительством, и солдатского комитета, который решал все вопросы, в том числе относящиеся к высшему командованию, например выполнять или нет приказ о наступлении. Военные тайны упразднялись. О предстоящих операциях теперь могли сообщать газеты.
Этот приказ и остальные меры «по либерализации» сделали армию небоеспособной.
Керенский, вскоре «за заслуги» ставший главой Временного правительства, всюду рассылал своих комиссаров и эмиссаров с задачей агитировать за продолжение войны. Этих посланцев нередко зверски убивали.
К тому же уже развернулись большевики. Лозунги их были просты: «Долой войну!», «Мир немедленно!», «Заводы – рабочим, землю – крестьянам!». Эти семена падали на больную, израненную душу и прорастали быстро, но диковинными всходами.
Солдаты разъезжались по селам и местечкам, унося с собой психоз немедленной и полной революции, уничтожения (а не просто изгнания) буржуев, кулаков и помещиков, дележа земли. Керенский, ставший Верховным главнокомандующим, пытался организовать контрудары на фронте. Надо было как-то оправдывать надежды Антанты. Долги России достигали почти пятнадцати миллиардов рублей. Золотых! По сути, долг был неоплатный, невозвращаемый, но новые «управители», в том числе назначенный военным министром Гучков, считали, что все так или иначе образуется.
Перед Россией маячила перспектива стать чьей-нибудь колонией, но об этом не думали.
Были срочно созданы ударные отряды, или «отряды смерти», на манер германских штурмовых групп. Еще находились добровольцы, готовые умереть за «свободную Россию».
«Ударники», а среди них было немало георгиевских кавалеров, первоначально творили чудеса героизма, словно бы искупая грехи разлагающейся армии, которую германцы уже не воспринимали всерьез. На Северном фронте, южнее Риги, «батальон смерти» под командованием храбреца из храбрецов, уроженца Херсонщины, награжденного всеми возможными орденами «с мечами», то есть за боевые подвиги, штабс-капитана Василия Егорова, после серьезнейшей ураганной артиллерийской подготовки – снарядов уже было в достатке – пробил все три линии хорошо подготовленной обороны 88-й германской дивизии, возглавляемой опытным генералом фон Будденброком.
Этот прорыв мог стать решающим для всего Северного фронта, но соседние полки не поддержали «ударников». Они митинговали и в конечном счете «ввиду возможных потерь» отказались идти в наступление. Батальон Егорова вынужден был отступить и понес основные потери именно в этот период. Из тысячи ста солдат вернулась лишь половина, а из двадцати шести офицеров – пятеро.
Керенский, получивший на фронте новый титул «Верховный главноуговаривающий», заложив по-наполеоновски одну руку за борт френча и размахивая другой (дамы плакали от умиления), призывал удвоить и утроить боевые усилия. Как ни странно, батальон Егорова, молва о героизме которого прокатилась по войскам, пополнился добровольцами и превратился в ударный полк, насчитывающий уже почти две тысячи солдат и пятьдесят шесть офицеров. Этим единственным по-настоящему боеспособным полком (да еще стойкими латышами) затыкали дыры под Ригой, спасая от окружения спешно покидавшую город Двенадцатую армию.
За две недели непрерывных боев, атак и контратак от полка осталось триста человек. Не желая погибать ради спасения невоюющих дивизий, «ударники» разъехались по домам.
Постепенно чуть ли не десять миллионов уцелевших в бойне человек с озлобленной душой, не боящихся крови, расходились по домам, унося с собой оружие. Русская армия окончательно разваливалась. Авторитет Керенского сошел на нет.
Позднее Ленин вспоминал в своих выступлениях, что власть буквально валялась под ногами, оставалось только ее поднять. И хотя и Сталин, и Зиновьев с Каменевым попеременно возражали против восстания, опасаясь непредвиденного, большевики, при отсутствии в России крупных государственных мужей, явились единственной силой, которая понимала, чего хотела, имела цели и знала средства для их осуществления.
Керенский трусливо бежал. Надежды тех, кто все еще продолжал верить в премьера, рухнули окончательно. Большевики и их союзники, левые эсеры и анархисты, сразу выдвинулись на авансцену. При этом большевики благодаря Ленину и Троцкому явно стояли ближе к залу.
И пусть цели большевиков вроде мировой революции, объединения всех пролетариев мира в братском хороводе были химеричны, пусть начальные шаги вроде немедленной экспроприации и раздачи чужого добра рабочим и крестьянам были явным следствием утопической мечты о всеобщем благоденствии, люди готовы были пойти за любым, кто поведет, укажет путь. Потому что предыдущие поводыри оказались слепцами.
В России наступало самое тяжелое и страшное время – начиналась Гражданская война. Вожаки, вожди, батьки, атаманы отхватывали себе кусочки страны, создавали отряды и даже армии. Конечно, «революционные».
Большевики, при всей четкости целей, на первых порах сами отдались стихии русского бунта. Здравые мысли в их головах мешались с фантазиями, и воплощение этих фантазий в жизнь привело к тому, что маленькие костерки на местах, после относительно бескровного торжества советской власти, разгорелись пожаром в масштабах всей страны.
Но это произошло не сразу. Еще наряду со вспышками грубейшего насилия совершались акты милосердия. Еще отпускали «контриков» из тюрем. Так, Корнилов, Деникин, Алексеев, «генералы-демократы», вчерашние разрушители монархии, были выпущены из Быховской тюрьмы и вскоре оказались на Дону.
Была в России одна пара, которой война неожиданно принесла долгожданное счастье. В конце шестнадцатого года Николай Второй, ощущая приближение катастрофы, дал своей любимой сестре Ольге разрешение на развод с принцем Петром Ольденбургским и благословил ее на новый брак. После стольких лет мучительного ожидания тридцатичетырехлетняя великая княгиня вышла замуж за Куликовского, к тому времени уже полковника. Она была сестрой милосердия на том же участке фронта, где воевал ее любимый, а незадолго до свадьбы ее наградили за личную храбрость Георгиевской медалью, которую вручил ей начальник Двенадцатой кавалерийской дивизии генерал барон Карл Густав Маннергейм, будущий маршал и президент Финляндии.
Долгая и мучительная монашеская жизнь закончилась. Здоровая и страстная женщина, великая княгиня уже к трагическому для Романовых февралю семнадцатого с радостью ощутила, что беременна. Она мечтала иметь много детей. Пусть кровь, пусть революция, пусть ужасы, наперекор всему она хотела полного счастья, хотя впереди ее ждали тяжелейшие испытания.
Да, были, были женщины в русских селеньях. И в доме Романовых тоже.
Не инфицированный «благодаря» Бутырке бациллами общего психоза Махно оказался дома, в запорожских краях. Понял только одно: свобода! Почти полная свобода действий, избавление от панов, дележ земли и торжество анархии в одном отдельно взятом уезде. Он получил все это как бы на блюдечке и не мог до конца осознать те колоссальные изменения, которые произошли и в устройстве державы, и в душах людей.
И когда внезапно исчезли любимые жена и сын (он догадывался «почему», но не в силах был понять «за что»), «железный каторжник» был растерян и подавлен. Он бежал с Украины. В сущности, бежал в никуда. Ему предстояло переболеть. Он должен был выработать иммунитет в виде стойкой, неуязвимой идеи, восстановить убежденность в своем высоком предназначении, отказаться от всего личного, не имеющего отношения к его борьбе за идею. Либо выработать, либо погибнуть, смешаться с серой, податливой толпой, чего он никогда не хотел.
Выйдя на свободу, Нестор начал жить по законам своего анархического братства образца 1905 года. Построение нового общества зажиточных, наделенных землей крестьян, создание коммун на месте латифундий, союз с рабочими на почве добровольного обмена продукцией – вот его идеал тех времен.
Жизнь выплюнула его как вишневую косточку. Из этого зернышка должно было прорасти невиданное дерево, с плодами, гибельными не только для самого Махно, но и для самых близких ему людей. Потеря жены и ребенка была лишь прологом. Махно с опозданием, только сейчас вступал в мир большой крови.
Глава десятая
Чекисты, как водится, облюбовали для себя приземистый, похожий на крепость особняк на главной улице Царицына.
Нестора втолкнули в кабинет, который хранил следы купеческой роскоши, и грубый канцелярский стол казался здесь инородным телом. Он попытался разглядеть хозяина кабинета, который сидел у залитого вечерним светом окна.
– Ну что, Нестор? – спросил человек, голос которого показался Махно удивительно знакомым. – Все своими цацками забавляешься? Анархическими?
Человек поднялся, вышел из-за стола. Сделал знак охраннику с винтовкой, чтобы тот удалился.
– Мандолина-а? – удивленно произнес Махно, не веря своим глазам.
Человек захохотал. Да, это был уже немолодой, утерявший былую гибкость и воровские вихлявые движения приятель Нестора по тюремным мытарствам, старавшийся в те давние времена в меру своих понятий помочь ему.
Теперь на нем был китель, кавалерийские шаровары, сапоги-вытяжки, ременная амуниция и револьвер в кобуре. Не шаловливый уголовник стоял перед Нестором, а серьезный представитель новой власти.
– Мандолина, – повторил Нестор, осматривая знакомца. – Н-ну, брат, и вознесло тебя!..
– Для начала: я для тебя не Мандолина и не брат. Не люблю фамильярности! – строго предупредил Нестора бывший дружок. – Сейчас я особуполномоченный ГубЧеКа Роман Савельевич Кущ!
– Я и говорю: вознесло, – вроде бы даже порадовался за товарища Нестор.
– Вот именно. Скажу для ясности: был в ссылке в Сибири, попал к умным людям. Открыли глаза, обучили, сделали мыслящей личностью. После революции примкнул к большевикам. К твоему сведению, на их стороне и сила, и правда… Сейчас вот помогаю строить новое общество, расчищаю, так сказать, капиталистические завалы. Опыт, ты знаешь, с юности у меня большой. На мякине не проведешь.
Роман Савельевич говорил отрывисто, четко, умело, сыпал формулировками. Но что-то в его речах было вторичное, не свое. И это почувствовал проницательный Махно.
– А вот это: трынь-брынь? – провел пальцем по губам Нестор. – Забросил?.. Жаль! У тебя ж такой талант был. Мог бы где-нибудь в цирке выступать.
– Насмехаешься? – спросил Мандолина. – Ты хоть знаешь, где находишься? И что такое ЧеКа?
– Слыхал краем уха.
– Карающий меч новой, советской власти. Важнейший орган борьбы с контрреволюцией и саботажем… А воюющий без меча – обыкновенный сопливый буржуазный болтун. Таким, к примеру, был Керенский. Не согласен?
Махно задумался.
– Ну почему же? Насчет Керенского согласен. А вот насчет меча, контрреволюции и саботажа, так это не про меня. Я больше за советску власть, чем ты, это факт. Я, замежду прочим, председатель Гуляйпольского Совета трудящих селян и солдат. Так шо ты своим мечом на меня не махай. Не в ту сторону махаешь!
Бывший Мандолина улыбнулся. Он был настроен благодушно. Встреча с Махно внесла в его жизнь оживление, пробудила память о прошлом, о «юности заблудшей».
– Ну и народ вы, анархисты. Оружия понацепляли, а карающий меч отрицаете! Или ты мне скажешь, никого не убивал? С чего тогда вдруг на вечную каторгу приговорили? За карету с деньгами? Брехня. Там кровь была, точно!
Махно нахмурился.
– За шо вы так на анархистов? – спросил он. – Мы ж вместе были – большевики и анархисты. Вместе революцию делали. У нас в уезде – раньше, чем в Петрограде. И сейчас наши боевые отряды – за трудящих!.. Что происходит?
– Сейчас мы, большевики, создаем Красную армию, – начал объяснять Роман Савельевич. – И анархистов мы не просто разоружаем, а, как бы сказать, вливаем в наши ряды. А то у вас кто в лес, кто по дрова. А нам нужен единый кулак! – Он продемонстрировал свой костлявый кулак. – Иначе не победим в масштабе… А кто не с нами, тот против нас. И таких мы будем это… элиминировать.
– Слова какие знаешь, – усмехнулся Нестор.
– Ну, если попонятнее: будем изымать из среды пролетариата. Короче, уничтожать. Время военное, некогда тут, понимаешь… Со всей Украины понаехало этих ваших анархистов. Тыщи! Затопили, как в половодье! В Москве уже с ними управились. Слыхал?
Махно отрицательно покачал головой. Под напором бывшего Мандолины, который превратился в категорично рассуждающего Куща, он несколько растерялся.
– Отсталый ты элемент!..
Слова Романа Савельевича заглушал грохот время от времени доносившейся сюда канонады. Дребезжали стекла. Вазочка с высохшими цветами, оставшаяся от прежних хозяев, скользила по подоконнику, торопилась упасть. Но Кущ, еще сохранивший ловкость, подхватил ее буквально на лету молниеносным движением худой длинной руки.
– Похоже, где-то бой начался, – встревоженно сказал Нестор.
Роман Савельевич, не отвечая, покрутил ручку военного полевого телефона в кожаном футляре.
– Синюкова! – попросил он. – Петр Макарыч? Это Кущ. Что там?.. Ага… Ага… Понятно. Скоро буду. – И, подняв голову от стола, посмотрел на Нестора веселыми глазами: – Это вашего «Коца» наши батареи добивают.
– Какого Коца? – не сразу понял Махно.
– Да бронепоезд, на котором ты сюда прибыл… Или не на нем? «Анархист Коц». Интересно, кто это? Ихний командир? Не пожелали разоружаться и передать бронепоезд Красной армии… Личный состав придется элиминировать. Сопротивление!
– Ты с ума сошел, Мандолина! Там же такие боевые хлопцы! Такая братва!
– Забываешься. Не Мандолина, а Кущ, – спокойно поправил Нестора Роман Савельевич, потуже затягивая ремень. Постучал стаканом о графин.
Тотчас вошел охранник, замер у двери. Винтовку с примкнутым штыком приставил к ноге.
– «Хлопцы», «братва» – это словечки из вашей запорожской вольницы! А нам нужны красноармейцы, а не братва! Кончается вольница! Все! – И он обратился к охраннику: – Отведешь. Передашь.
– На Степную?
– Нет, там могут сразу в распыл… Во «внутрянку» пока. Обыщите только! – И, проходя мимо Махно, бросил: – Посиди, подумай. И – к нам. Взвод дадим. Или чего побольше. Можешь и до полка дослужиться. Думай… На том свете думать не дают.
Уже в дверях Кущ неожиданно коротко отбил чечетку и при этом провел пальцами по губам, изумив не столько Махно, сколько охранника. Характерный звук мандолины родился и растаял в комнате.
Часовой вывел Нестора во двор, где в глубине, среди деревьев, стояло едва заметное одноэтажное строеньице с железной односкатной крышей и двумя маленькими зарешеченными окошками. Это и была «внутрянка»: ЧК только обустраивалась. Туда и втолкнули Махно. Во дворе уже были глубокие сумерки, а в «тюрьме» и вовсе темно.
Нестор огляделся. Где-то далеко все еще громыхали, постепенно стихая, раскаты орудий.
– Слышь, браток, кто это там стукает? – раздался из угла хрипловатый старческий голос.
– Орудия, – ответил Нестор. – Анархисты с большевиками братаются коло станции.
– А что, такие пошли анархисты, что из винтовки их не взять? Пушку надо?
– Такие пошли, – нехотя ответил Махно. – А ты хто?
– Человек…
Старик достал спички, зажег щепу, подобранную под ногами. Приспособил ее в щель стенки. Щепа разгорелась, и теперь они могли рассмотреть друг друга.
В углу сидел махонький старикашка с голым черепом и седой бороденкой. Блестящие его глаза выдавали, впрочем, живой, вовсе не погасший ум.
– А как ты спички пронес, дед? – спросил Нестор. – Не обыскивали? У меня все выгребли.
– Да как не обыскивали!.. Обыскивали.
– Ну и как же?
– Да я, милок, в рукаве тещу могу пронести, если надо. Сорок лет из тюрьмы на волю, из воли – в тюрьму… А энти пока еще не умеют обыскивать. Учатся!
Канонада стала постепенно стихать.
– Кто-то кого-то прикончил, – мрачно сказал Махно.
– Известно кого, – отозвался дедок. – Анархистов.
– Почему так думаешь?
– А чего ж тут непонятного! Анархисты – вот! – Он растопырил пальцы ладони. – А большевики – вот! – Дедок стиснул кулак.
– Помолчи, – подошел к окошку Нестор. – Может, еще забухает.
Они долго прислушивались. Но стояла тишина.
– Хе-хе, – вздохнул старик и неожиданно продекламировал:
За любовь и участье к народу Потеряем мы дом и свободу, За любовь и участье к нему Обретем кандалы и тюрьму!– Сам сочинил? – спросил Махно.
– Не… Где мне! Это поэт такой был – Некрасов… великий человек! Точно уже не помню всех стихов, сам я не письменный, а один хороший арестант читал. Давно уж, в восемьдесят первом, аккурат когда царя убили…
За дверью раздались голоса. Звякнули ключи, прогремели запоры. Старик проворно погасил лучину.
Кого-то еще втолкнули во «внутрянку». Кого-то крупного, громко и сердито сопящего.
Когда дверь закрылась и шаги охранников стихли, дед вновь зажег свою лучину.
– Задов! – обрадовался Махно. – Левка!
Одежда на Левке была разорвана, лицо разбито, как можно было догадаться, ударом приклада.
– Ты, Нестор? От тебе на – встренулись! А я-то думал, ты умнее: смотался!
Нестор смотрел на него, ожидая пояснений.
– Ну шо? – с горечью сказал Левка. – Мы як услыхали, шо на станции нашего «Коца» колошматят, кинулись туда. А против нас на подходе – батарея трехдюймовок. И цела бригада. Ну и шо ты сделаешь? Сыпанули они шрапнелью. Сначала, правда, чуть в сторонку, шоб напужать. Только шапки од ветра послетали… Залегли. А лежачий разве может як след бомбу бросить? А тут ще два броневика подкрались… – Левка вдруг всхлипнул – огромный обиженный ребенок. – На наших глазах долбали «Коца», пока хлопцы белый флаг не вывесили вместо черного. Цусима прямо! И хто? Свои же! Большевики! Революционеры за счастье рабочее!.. Ну, повязали нас. Хлопцев куда-то на Степную, а меня сюда. Говорят, если я не соглашусь перейти в Красну армию, расстреляють. А соглашусь – почет и уважение, паек, одёжа!
Щепа погасла, но старик нашел под ногами новую лучину.
– Что ж, им тоже солдатики нужны, большевикам-то! – заметил он.
– Эх, не понимаешь ты анархической души, дед! – с надрывом сказал Левка, стуча себя в грудь. – Шо жизнь? Тьфу! Свободу отбирають!
– Как не понять-то? – ответил старик. – Я, браток, анархистом был, когда тебя папа с мамой еще только сотворяли…
– Да ну?
– Коромысло гну! Я, дружочек, первый анархист Заволжья, степной волк. Вы от запорожских атаманов пошли, а я прямо от Стеньки Разина и Емельки Пугача… Через их завещанную долю стал анархистом-самоучкой. Эх, погуляли мы по Заволжью, пожгли помещиков, побили офицеров – любо-дорого!..
– А счас-то за что тебя?
– А по той причине, что воля, она живет, только пока революция. Вон как огонек на лучине: пока лучина есть, он горит… А потом берет в руки власть тот, кто сильнее… А меня повязали сначала большевики, а потом выпустили, потому что народ меня слухает, а я выступать страсть как люблю перед людями… разжигаю огонек. А там, глядишь, и полыхнет… Ой, как иногда полыхает! – говорил он, зажмурившись и переживая сладкие воспоминания. – А потом опять повязали. Не пондравился чем-то. Вишь ты, я всяку власть воззывал сничтожать!
– Ножевой старичок! – с уважением произнес Левка.
Махно размышлял.
– Ну и шо ты решил, дедок? – спросил он у заволжского анархиста.
– Не покоряться и… принять смерть… Хочется мне какое-то геройство сотворить и через то в людских душах поселиться. Вот это и будет моя новая жизня. А другой не хочу.
– А нам что посоветуешь?
– Ну, вы еще молодые. Нельзя, чтоб вас так, без толку постреляли. Вам жить надо.
– Покорившись?
– Ну, сегодня покорились, а завтра разъярились… А ты, малой, – обратился он к Махно, – еще долго будешь скакать, как необъезженный конек… Бежать тебе надо.
– Бежать? А куда? На Украине немцы, здесь большевики… Да и как убежишь?
– Была б охота, а вода дырочку найдет. В Москву беги, там, говорят, правда. Кропоткин там, Петра Лексеич. Он народ понимает. Вон какую революцию сочинил – на всю Рассею революцию!
– А говорят, Ленин.
– Ленин, конечно, тоже. Но его, вишь ты, помощники окружили, из бывших авокатов, всю правду скрывають, на анархию наговаривають… А Петра Лексеич старенький уже, ему бы кого помоложе в подмогу. Примирить бы их, Ленина с Кропоткиным. И, может, снова будем в дружбе и понимании. Большевики, вишь ты, сначала тоже как анархисты были: все старое рушили напропалую, а преж всего армию! Ить как вначале сказано было: царску армию сменит вооруженный народ. А что вышло? Теперь этот самый вооруженный народ берут в тиски…
– Хорошо бы в Москву, – вздохнул Задов.
– А-а, – махнул рукой Махно. – Хоть здесь помирать, хоть в Москве. Один черт!
– Разочарованный, стал быть? – спросил дедок.
Махно не ответил.
– Это бывает. Ты, видать, хотел жисть переобустроить, а она сама тебя переобустраиваить. Это как на болоте. Прямиком итить нельзя. По кочкам надо бы, по кочкам… – Подсвечивая себе лучиной, дедок стал тщательно осматривать потолок «внутрянки». Потом обратился к Левке: – Слышь, бамбула! У тебя силы на десятерых хватит. Вот ежели ту досочку подломишь – поднимешь край крыши. А энтот, – кивнул в сторону Нестора «анархист Заволжья», – он пролезет. А там в заборе дырку найдет… Жить захочешь – змеей станешь!
Дедок подтащил к стене несколько досок, валявшихся во «внутрянке».
– А часовой? – спросил Задов.
– Часовой об энту пору спит в копнушке в саду. Мобилизованные парни, они спать горазды.
Левка, встав на доски, могучими руками приподнял край тяжелой крыши. Поскрипывали гвозди. Левка то и дело приостанавливался, прислушивался. И снова напрягал могучие плечи. Пот катился по его лицу.
Дедок ему подсвечивал.
Наконец между крышей и стеной образовалась щель, сквозь которую завиднелось звездное небо.
– Полезай! – прокряхтел Задов.
– Слушай, Левка, я вернусь! Я тебя выручу!
– Полезай! – хрипел бомбист. – В Москву пробирайся! Правду нашим донеси! Правду!
– Стой! – Дедок достал откуда-то из-под подкладки пачку бумажных денег, сунул Нестору в карман. – Москва, вишь ты, слезам не верит, а денежки береть…
– Откуда они у тебя, дед?
– Я ж сказал: я и тещу в рукаве пронесу, не то что деньги…
Левка только тяжело дышал, когда Нестор карабкался по нему, как по дереву, и мало-помалу ввинчивался в щель. Спустя несколько мгновений он мягко спрыгнул на землю.
Левка опустил край крыши на место, сел в угол, вытирая рубахой лицо.
– Я тебя вытащу, Левка! – донесся снаружи громкий шепот Махно.
– Уходи!.. – Задов переводил дух. – Чуть жилу не надорвал. Как батя покойный…
– Животом дыши, животом, – посоветовал дедок.
Задов пыхтел.
– Доберется ли? – спросил он у старика.
– Энтот?.. Энтот куда хочешь доберется. Только пока он доберется, да пока что к чему, нас просто стрельнут. Оченно даже возможно.
– Не хочется, – пробасил Задов.
– Ясное дело… А ты по кочкам ходи, по кочкам, не ступай прямо. Да и невыгодно им тебя расстреливать. В тебе почитай бочка крови, ты им все подвалы позатопишь.
– А ты как же?
– Я – в песню, сказал же. Как услышишь, что про деда Сову, так это аккурат про меня песня будет…
Глава одиннадцатая
На Царицынском базаре, хоронясь и ускользая от красноармейских патрулей, Махно высматривал, кто чего продает.
В скобяном ряду, переходя с одного места на другое, он долго наблюдал за торговцем, перед которым на дощатом лотке были разложены старые и новые замки, гвозди, рашпили, скобы, всякая хозяйственная мелочь.
Торговец был лохмат, с костылем. Глаза глядели дико и настороженно. Мужичок на полторы ноги, а не простой.
Махно долго перебирал на его лотке железки. Затем наклонился к хозяину этого богатства:
– Слышь, браток, мне бы замок под десять ключей да пару пасхальных яиц с громким звоном…
Торговец посмотрел по сторонам, нет ли кого поблизости.
– Добра этого хватает, да цена кусает, – тихо сказал он. – Такая вот недоразумения. Какие будут мнения?
– Сговоримся.
– Приходи в грузовой порт, да не ищи сортир, а ищи буксир. «Прыткий» называется, на берегу валяется. Там у меня куры поют да яйца несут… Только приходи попозднее, как стемнеет.
– А может, раньше можно? Может, сейчас сходим?
– Сейчас-то сейчас, да вокруг много глаз. А ночью, где Волга-река, совсем не ходит ЧеКа. – И торговец перешел на прозу: – Сам видишь, что делается, браток. Скоро стенок в Царицыне не хватит… народу много развелось, укорачивают Россию… Ты не из тех, которые вчера на станции?..
– Нет, я из тех, которых…
– А-а… Ну, приходи, чайку попьем, да решим, как остаться живым!
Днем Махно, стоя в тени акации, наблюдал за особняком ЧК. Туда подъехал грузовик с охранниками у бортов и людьми, сидящими посередине. Кого-то со связанными руками поволокли в подъезд. Машина отъехала, заполнив улицу сизым дымом.
Нестор внимательно осматривал сад за забором. Как бы примеривался. Рассчитывал. Но услышал вдали топот идущего в ногу небольшого отряда. Потом из-за лабазов появился и сам отряд. Впереди, оборачиваясь, суетился военный с длинной шашкой, которую он то и дело придерживал рукой. Судя по всему, это был кадровый вояка. Фабричная звездочка на его фуражке сверкала на солнце красной эмалью.
– Четче! Четче! – кричал он. – Ставь ногу на ступню!.. Носок тяни!.. Левой, левой!.. Ать, ать!..
В переднем ряду на правом фланге, как самого рослого, Махно заметил Левку Задова. Рядом с ним вышагивали еще несколько уцелевших бомбистов из его отряда. Их переодели, они были в выцветших шароварах, в солдатских рубахах, на фуражках самого разного покроя поблескивали кое-как вырезанные из консервных банок жестяные звездочки.
– Больше задору!.. Задору!..
Задов тяжело бухал разбитыми ботинками по брусчатке. Он был слишком громоздкий для строевых упражнений.
Левка тоже заметил Нестора, хоронящегося за деревом. Но расстояние не позволяло ему понять, увидел ли его Нестор. Ни крикнуть ему, ни рукой махнуть Левка не мог.
И тут его осенило.
– Ну а молчим чего? – обернулся он к отряду. – Як на тещиных похоронах!..
– Во! Молодца! – обрадовался ротный. – Давай! С песней!
– Подхватывай, если хто знает! – И, глядя в ту сторону, где прятался Нестор, Левка громко запел: – «А мы по кочечкам, да по кочечкам, сквозь болото да в лесок»… – И смолк. – Тьфу, зараза, слова забыл!
– Здоровый, а дурак! И слух, как у овцы! – бросил командир.
Но Нестор понял: Левка прислушался к «первому анархисту Заволжья» и действовал так, как тот им посоветовал: прямиком не идти, а по кочечкам. И когда Левка еще раз обернулся, он махнул ему рукой…
А вечером Махно пошел в гавань. Буксир отыскал сразу, на нем полоскалось белье. Нос пароходика «сушился» на земле, а корма плескалась в воде затона.
Нестор присел на берегу на какой-то ржавый бочонок, стал ждать. Из иллюминатора несколько раз выглядывало и тут же скрывалось чье-то лицо. Потом на палубе появился одноногий торговец:
– Поднимайся!
Внутри на буксире было сумеречно. Масляно блестели детали машины. Одноногий выложил на стол свой товар: тяжелый австрийский пистолет «Рот-Штайер» и несколько гранат.
– Лишнего не беру. За шпалер две «катьки». «Замочек» – десятизарядка, как просил. И «яички пасхальные»: гранаты… К пистолету патронов только две дюжины, редкие, заразы. «Восьмерка». У пленных выменял…
– Обстоятельства, брат, малость переменились, – сказал Нестор. – Так повернулось, что твой товар мне пока без надобности. А вот в помощи твоей крепко нуждаюсь.
– В чем нужда?
– Надо мне отсюда смываться. Хотя бы в Казань переправиться, что ли…
– Во как! Не хочу картошку, а хочу горошку… А на чем переправиться-то?
– Да хоть на твоем «Прытком».
– Был «Прыткий», а стал корыткой… Но я тебя пристрою. Ты только толком скажи, куда тебе надо.
– В Москву.
– В Москву?.. И зачем? Люди бегут оттуда. Голод начался!
– Мои заботы.
– Оно верно. Но ты не до Казани плыви, а до Саратова. Выше, в Самару, не надо, там какие-то чехи бунтуют. Чего хотят, неясно. Но к стенке будут ставить, как все. Это уж порядок теперь стал такой… А от Саратова – поездом. Коли, конечно, сядешь.
– Уцеплюсь, – улыбнулся Нестор.
– Бывший «Царицынский купец» баржу наверх потянет. На нем пойдешь. Не бесплатно, конечно. Покажи руки.
Нестор показал руки. Одноногий ощупал их:
– Ничего. Рабочая рука. Уголек или там дрова в топку покидаешь… – Неожиданно он закатал рукав рубахи Нестора повыше, обнажил красный шрам. – Ишь ты, браслет какой! – И успокоил: – Не боись! На Волге все свои, река вольная… Эх, скоро за матушку-Волгу война будет, уж очень нужная река, через всю Россию… Так, значит, в Москву? За песнями?
– За песнями.
Сиплые и надсадные гудки и шум колесных плиц трудяги «Царицынского купца» будили дремотную волжскую тишину. Нестор кидал в топку уголек. Он был весь в саже.
Вниз заглянул механик:
– Ну, паря, теперь тебя родная мать не признает.
В запыленный иллюминатор Нестор видел только пароходные плицы и убегающие назад пенные буруны…
Вечерело. Гортанно покрикивали чайки. Солнце окрашивало воду в розовый цвет. Махно ощущал, как ноет тело. Вскоре его заменили, накормили.
…И снова был день. Нестор стоял в рубке буксира. Только сверкали белки глаз.
Слева за бортом проплывали холмы.
Капитан повернулся к Нестору:
– Скоро Саратов… Впервой в этих краях?
– Впервой.
– Важные места. Пугачевские, – сказал капитан с гордостью. – Гляди, во-он та горушка. Ее Лисьей называют, а еще Меловой. А тот шихан, что повыше, – Соколова гора. Там Пугач свой шатер ставил, все саратовцы на поклон к нему шли…
Нестор вглядывался в проплывающий берег. Горы, что отражались в тихой воде, были мирными, уютными. Никак не вязались они с грозным именем Емельяна Пугачева.
– Небось бои были серьезные? Кровищи пролилось?..
– Какие бои! Пугач здесь страху нагнал такого, что царские войска сдались без боя, – сказал капитан и философски добавил: – Так в любом бунте. Главное, страху нагнать. Вот и сейчас: кто сильнее, кто страшнее, тот и будет сверху.
– Ну, сейчас не бунт, – возразил Махно.
– А что, по-твоему?
– Бери повыше: революция!
– А это все равно. Это как назвать. Главное, что потом!
– А шо потом?
– Потом?.. Потом – голод. Бедность. И всякие болезни. Гадалки, знахари… Это уж как водится.
Помолчали. Впереди по носу к ним приближался город со своим шумом: ржанием лошадей, громыханием телег, криками извозчиков, перезвоном церковных колоколов…
– А может, дальше с нами? – спросил капитан. – Может, до Костромы?
– Мне в Москву надо. С Саратова поездом все ж побыстрее будет.
Глава двенадцатая
До Москвы Нестор добирался долго. Поезда ходили «по революционному расписанию». После того как кондуктор объявлял, что «дальше не пойдет», приходилось пересаживаться, ждать, а кое-где вылезать или даже прыгать на насыпь, если проходили поездные облавы где-нибудь в степи или в лесу. Об опасности предупреждали неожиданные скрипучие торможения, крики, вопли, выстрелы и топот на крышах, где, по случаю весеннего тепла, всегда сидели мешочники, прозванные «грачами».
В городах, если приходилось задерживаться, Нестор пытался найти собратьев по борьбе и вере, анархистов. И нередко находил. Даже в Пензе, городе по тем временам относительно богатом, жившем еще по-старому, куда Нестора завели кривые дорожки. Именно там он уложил в свой полупустой чемоданчик, поверх бельишка да пары брошюр, полторы дюжины круглых румяных булочек, подарок местных соратников. «В Москве, – предупредили они, – собак едят».
Махно не поверил. Он помнил Москву семнадцатого: не может быть, чтобы за год все так переменилось. Брехня! Ну, Питер – понятно, кругом болота, а Москва всегда была сытой…
Здесь же, в Пензе, друзья помогли ему одеться по-рабочему: в телогрейку, промасленные штаны, на голову напялили кепку в масляных пятнах. Еще не отмывшийся как следует от пароходного уголька, с темными морщинами, с мозолями на широких ладонях, гуляйпольский анархистский вождь приобрел самый надежный пропуск: облик настоящего пролетария.
Так он проехал до Рязани, пережив две проверки, и туманным ранним утром прибыл в Москву, которая только что, после переезда сюда из Петрограда ЦК большевиков и правительства, вновь, как до Петра, стала столицей, что Махно сразу и почувствовал. До вокзала, которым заканчивалась Рязано-Уральская железная дорога, он даже дойти не смог…
Народу из вагонов вывалила тьма. Невыспавшиеся, злые, они сразу же потянулись вдоль высокого, сколоченного из свежего горбыля забора, который отсекал прибывших от соседних путей, от свободы.
Нестор медленно двигался в толпе, приглядываясь и прислушиваясь.
Выход на привокзальную площадь преграждали заградотрядчики с винтовками и револьверами. Просеивая сквозь узкий выход толпу, они время от времени оттесняли кого-то в сторону, в глухой «мешок», и там быстро и ловко обыскивали. А иных толкали в большущую, то и дело открывавшуюся и закрывавшуюся вокзальную дверь.
Ну да, потертые сапоги, побитый чемоданчик, угольная пыль, вьевшаяся в мозоли, кепочка – все это хорошо. Но вот булки! Они, заразы, еще сохраняли запах доброго пшеничного хлеба! А заградотрядчики почти всех заставляли показывать ручную кладь, развязывать сидоры, мешки, раскрывать чемоданы. Часть вещей под крики и ругань хозяев отбирали. Брань не производила на красных стражников никакого впечатления. Кто-то попытался прорваться, бежать. Его догнали, избили, отобрали саквояж, он раскрылся, из него посыпалась мука.
Махно понял, что командуют заградотрядчиками двое китайцев и столько же, судя по выговору, латышей. Да, в Москве серьезный народ, подумал Махно. Эти промашек не дают и спуску тоже, не то что рязанские или пензенские. Да и документы его! Что им далекое и никому из них не ведомое украинское волостное Гуляйполе, председателем Совета которого он является. Да и нужно ли ему высвечивать свою фамилию? А что, если из Царицына по телеграфу сюда уже передали сведения о нем как о бежавшем из чекистской тюрьмы?.. Вот это переплет! То от полицейских и жандармов бегать приходилось, теперь вот от союзничков, большевичков. Дела!
– Шерстят, гады, – выругался двигающийся к выходу рядом с Нестором пожилой рабочий. У него было лицо пролетария-интеллигента, модельщика или лекальщика. – Приехали… латыши и эти… До того у нас посвободнее было.
– Оружие отбирают?
– Оружие, само собой. Харчи тоже. И вообще все, что приглянется.
Недалеко от выхода Нестор приостановился, и толпа стала обтекать его, как вода камень, но все же на его долю достались толчки и ругательства. Наконец он и вовсе выбрался на пустое место. Огляделся по сторонам. Но повсюду, куда ни падал его взгляд, был либо высокий деревянный забор, либо шеренги красноармейцев.
Постоял немного, размышляя.
Оттуда, от ворот, снова донеслась ругань, топот ног, выстрел.
Западня!
Неподалеку он увидел нескольких оборванцев. Сгрудившись, они во что-то играли или сосредоточенно и зло делили какую-то добычу, потому что периодически между ними возникала потасовка.
Нестор подошел к ним поближе, пригнулся и стал как бы одним из «детей революции». Но беспризорники сразу притихли. Рыжеволосый, конопушный пацаненок, скользнув опытным взглядом по фигуре Махно, по его чемоданчику, спросил:
– Че, дяха, на крючке сидишь?
– Вроде того.
– Оружию, что ль, таранишь?
– Какое оружие! Кум на выходе, а мне с им встречаться не в масть.
В этом маленьком, крепком человеке беспризорники приметили что-то близкое себе, уголовно-тюремное.
– Можно дотолковаться, – сказал рыжий, видимо, главный в этой компании. – Сармак будет?
– Это как водится.
– Пошли.
Двое схватили его чемодан, поволокли. Сделали с десяток шагов и вдруг исчезли, растворились. Нестор стал растерянно оглядываться по сторонам. Но их нигде не было.
Но вот у самых его ног, словно из-под земли, высунулась рыжая голова:
– Че ты? Сигай!
И только сейчас Нестор увидел под ногами кирпичную яму – черную, закопченную – для сброса из паровозных топок шлака. Яма была прямо под рельсами, от нее веяло теплом – видимо, совсем недавно ее освободили. От ямы тянулся узкий, тоже выложенный кирпичом туннель, предназначенный для выгребания шлака. Он выходил прямо на улицу.
– Через дорогу побыстрее! – предупредил рыжий. – Могут шмальнуть!
Перебежали незаметно. Нырнули в подворотню. Оттуда по лабиринту проходных дворов, где было темно, как в колодце, вышли на тихую, спокойную улицу. По ней шли люди, потертые и помятые, со злыми глазами, упрятанными под козырьки фуражек или поля старых шляп. Огонек семнадцатого года погас, иссякли восторги, кончился кумач для бантов и знамен.
Беспризорники поставили у ног Нестора чемодан.
– Че, дяха, думал, наверно, стырили уголок-то? Не… Мы зацепские пацаны. Зацепа и Щипок – верный дружок. Станция «Березай», дядя!
Нестор полез в карман штанов, извлек оттуда царский четвертной с Александром-миротворцем, отдал рыжему.
– А может, довесишь чего из чемодана?
– Сапожный инструмент! Шо тебе, коробку березовых гвоздей?
– А то я не чую, – усмехнулся беспризорник. – Ну и на том – в расчете… Поконали!
Подхватив чемодан, Нестор спросил у своих новых друзей:
– Случаем не подскажете, где тут у вас Третья Тверская-Ямская улица?
– Ямская слобода, это рядом, – сказал рыжий, соображая.
– Там еще церква такая высоченная, из кирпича…
– В Москве, дя, церква – не примета. В Москве этих церквей как семечек, – не без столичной гордости произнес рыжий.
– Я знаю, какая ему нужна. Что возле Александровского вокзала, – сказал самый маленький беспризорник, бледненький, лобастый, попавший сюда явно из «хорошей» семьи. – Ну, на Миусах.
– Ага, – кивнул старший и перевел взгляд на Нестора: – В Москве, дя, спрос да показ копеечку стоит.
Нестор полез в карман, отдал еще четвертной.
– Вон, видишь! – Рыжий указал на бесчисленные церквушки, маковки которых уже начинали зажигаться сквозь редеющий туман. – Это Замоскворечье… Пойдешь по Татарской улице. Если прямо пойдешь, в Красную площадь воткнешься. Там тебе могут новый шмон устроить. Так что лучше сверни налево. Через Ордынку выйдешь на Якиманку. Повезет, в трамвай втиснешься – до Тверской. Там спросишь… Запомнил?
– Запомнил, – ответил Нестор, морща лоб и напрягая свою, к счастью, недюжинную память. В этом потоке названий, отражающих всю татарско-русскую историю Москвы, иной бы заплутал.
– Ну, прощевайте. – Рыжий, а за ним и остальные, как равному, пожали Нестору руку и разом нырнули в ближайшую подворотню.
«А ничего пацанва, – размышлял Махно, идя по Большой Татарской. – А шо сильно торговые, так понятное дело. Это у нас бесприютного голодного хлопчика любая хозяйка-сердоболка пожалеет, покормит, постелю устроит. А тут свой устав. Москва!..»
До чего изменилась Москва за год! Исчезли господа с алыми бантами, кругом пролетарии или те, кто хотел выглядеть пролетарием, хотя… из рабочего – господина и наоборот не получается: видно за версту. Тут годы и годы нужны, чтоб натурально вышло.
Сам Нестор, впрочем, выглядел вполне натурально: патрули в гимнастерках или в мятых пиджачках с красными повязками на рукавах ни разу его не остановили. Так, скользили взглядом и шагали мимо. Да, и еще особенность. Вывески, которые некогда заманивали, обещали, куда-то подевались либо висели, сбитые набок и уже были и вовсе не нужны. Витрины магазинов и лавочек тоже были пусты, а то и вовсе заколочены горбылем.
Зато плакатов, объявлений, призывов – пруд пруди. На стенах, тумбах, заборах. Невероятные театры, лекции, клубы, кружки…
«Молодежь, на диспут! Отринем бога от нашего порога! С участием нашего светоча Ем. Ярославского».
«“Бунт заключенных”. Массовое действо с участием зрителей, апофеозом и феерией! В бывшем дворце Шереметевых и в саду… Участникам будет выдаваться вобла!»
«Полеты на Луну и Марс в ближайшем будущем. Лекция инженера Дуппельсберга!»
«Сбор средств на строительство гигантского дирижабля “Мировая революция!”…»
И еще одна афиша. Она привлекла особое внимание Махно.
«Союз идейной пропаганды анархизма. Лекция лучшего оратора Москвы тов. Волина-Эйхенбаума “Интуитивно-анархическое у Фридриха Ницше”».
Махно нахмурился, стараясь вникнуть в смысл написанного. Не вник, но все же удовлетворенно покивал головой (есть, живет все же такой союз анархистов!) и пошел дальше…
Добирался Нестор довольно долго и сложно, расспрашивая о направлении только людей, не внушающих опасения, которые и сами явно чего-то остерегались.
Но язык до Киева доведет, и до самой Белокаменной, даже если она стала серой. И Тверскую-Ямскую он нашел. С нее свернул в знакомый переулок и еще издали узнал дом Сольского по каменному льву у парадного подъезда. За не столь долгое время лев тоже изменился, постарел и перешел в инвалиды. У него была отбита лапа, ранее опиравшаяся на каменный, удивительно гладкий и ровный по форме шар. А добрая львиная морда была сильно поцарапана, видимо, осколками от разорвавшегося поблизости снаряда. Сольский еще как-то чудно́ называл льва…
– Мозамбик, – вспомнил Нестор и погладил рукой искалеченную львиную морду, которая ранее сильно напоминала человеческое вытянутое лицо. – Здорово, браток!
Всякие буржуйские штучки и украшения Нестор не любил как выражение классовой спеси, но этот лев уже был как бы своим, пострадавшим от революции.
По усеянным мусором ступеням Махно поднялся к парадному входу. Стекла в двери были повыбиты и заколочены горбылем, которому жить оставалось до зимы. Никакого швейцара и в помине не было. Стал подниматься по загаженной лестнице к квартире Сольского. Лифт не работал, да Нестор и не знал, как им пользоваться.
Нет, перемены его не смущали. Так ему было даже проще, понятнее. Но, пожалуй, Москва все-таки переборщила. Ведь не стал бы он в своей коммуне или еще где-либо терпеть свинство. Все это теперь народное, общее, а большевистское или анархическое, в этом разберется История. Ведь для общего счастья старались, а счастье не обязательно вырастает из грязи. Как истинный хохол, он ценил уют и порядок.
Стены лестничного пролета были ободраны и исцарапаны. Похоже, здесь поселились люди, которые полагали, что вскоре вернутся старые хозяева, и старались всячески им напакостить. На лестничных площадках стояли кособокие шкафы, лари для овощей или еще для чего-то, уже брошенные, пустые по простой причине: в них нечего было хранить. Не было ни муки, ни круп, ни овощей.
Нестор поднялся на нужный этаж. Звонка в двери не было, его вырвали. Исчезла и начищенная бронзовая дощечка с надписью «Евсей Натанович Сольский».
Нестор постучал. Стук получился глухой. Но услышали, открыли. В коридоре стоял чад, пар, и в этом белом мареве мельтешили какие-то фигуры.
– Чего надо? – недружелюбно спросила вставшая в двери пожилая женщина, вытирая о фартук мокрые руки.
– Это квартира Сольских?
– Эва!.. – удивилась женщина. – Который банкир? Так он убег. За границу кудась.
– А сын его?
– Зяма?.. Энтот туточки. Вон тама их хоромы. В торце. – Женщина указала рукой куда-то вглубь.
Нестор двинулся в указанном направлении. Прошел через многолюдную кухню, где возле плиты толпились несколько женщин, задел чей-то таз с водой.
В торце кухни он увидел небольшую фанерную дверь. Рядом с дверью на крюке висело оцинкованное корыто.
За дверью раздавались возбужденные голоса – женский, девичьи и узнаваемый Зямин. Спорили или ругались? Постучал, зашел. Огляделся.
Зяму узнал с трудом. Куда подевался его щегольской вид? Какая-то толстовка со шнуром-поясом, нестриженый, в нелепых галифе и тапочках. И здесь же были женщина неопределенных лет в пенсне и две худосочные прыщавые девицы-подростки.
Маленькое окошко, как в Бутырке, под потолком, пропускало в тесную каморку тусклый свет.
Сольский тоже не сразу узнал Нестора, но затем радостно воскликнул:
– Нестор! Собрат! Ты ли? – И обнял его, шмыгнув носом. Обернулся к близким: – Махно. Тот самый… сокамерник по Бутырке…
Девицы сделали книксен, а женщина поправила пенсне и уставилась на гостя.
Зяма представил Нестору своих:
– Жена… Фима. Убежденная анархистка, товарищ по борьбе. Сошлись гражданским браком… Падчерицы – Мина и Мира… тоже сочувствуют, понимают…
Девицы вторично сделали книксен.
– А где ж батька? – Нестор хоть и знал уже, но для вежливости спросил.
– Банк большевики национализировали. И он эмигрировал, – шепотом, с горечью поведал Сольский. – Я с ним не мог. Десять лет борьбы… Нет-нет, мое место здесь.
Зяма заметил, как Махно рассматривает тесную комнатушку, в которой на веревках были развешаны женские трусики, чулки, мужские кальсоны…
– Да! – словно извиняясь, развел руками Зяма. – Бывшая наша кладовка. Уплотнили. В интересах трудящихся. – В его голосе не было обычной иронии. – Революция требует жертв. Я не против! Чем я лучше других?
– А я подумал, не найду тебя здесь, пойду в Дом анархистов, – сказал Махно. – У кого-то спросил, где он – не знают.
– Да ты что? – почти прошептал Сольский. – Нельзя спрашивать! Нас же разгромили. Боевиков постреляли или в тюрьму, а нас, теоретиков, правда, не тронули, только перевели в другое помещение. Похуже, конечно. Я покажу… Ничего! Живем!.. А ты что же, вот так, с чемоданом, через весь город? И заградотрядчики не тронули?
– Нет.
– Повезло.
– Повезло, шо я стреляный воробей.
Махно открыл чемодан, развязал бечевку.
В чемодане, сверху на вещах, лежали булки. Белые. Много! Падчерицы ахнули. Сольский ударил в ладоши. Жена-анархистка втянула носом воздух.
– Пензенские, – пояснил Махно. – Там пока не так голодно… Берить!
Падчерицы с радостным визгом ухватили сразу по две булки и принялись надкусывать, утверждая свое право на добычу.
– Айнштеллен! – по-немецки крикнула идейная супруга Сольского. – Прекратить! Булки будем с чаем! Так сытнее!
…Разместились за столом. Посипывал самовар.
– А в Пензе ты как оказался? – спросил Зяма с набитым ртом.
Нестор промолчал, глядя, как женская часть семьи уплетает булки, макая их в блюдечко с каким-то серым жидким маслом.
– Не хочешь, не говори, – сказал Зяма и обеспокоенно спросил: – Ордер на проживание ты, конечно, получил?
– Какой ордер?
– Как «какой»?.. Сейчас в Москве такой порядок. Без ордера никак…
Нестор покачал головой:
– Ну и ну! Круто взяли власть большевики! И вы, анархисты, смирились? Сидите, як птицы в клетке?
Сольский вздохнул:
– Потому, видать, нас и разгромили, что не смирились. – И после долгой паузы заговорил снова: – Знаешь, мы бы как-нибудь и тут разместились, на полу. Но это невозможно. Вдруг ночью проверка? Семья, понимаешь? Меня могут взять заложником, очень даже просто. А я ведь, ко всему прочему, еще и лишенец.
– Это шо ж за чудо такое – лишенец?
– Ну, лишен всех социальных прав. Из-за папаши. Считаюсь социально чуждым. Ты прав: вроде птицы в клетке. Высунешь голову – отгрызут.
– Ну, большевички! – все больше удивлялся Махно.
– Их тоже можно понять, – не прожевав булку, вмешалась жена. – Террористические акты! Борьба за власть! Поэтому они анархистов так быстро и слопали. Спасибо, хоть не до конца.
– А чем анархисты им помешали? – спросил Махно. – Мы же вообще против любой власти. В том числе и против собственной.
– Вот поэтому они нас, теоретиков, до некоторой степени пощадили. Дали помещение, – пояснил Сольский. – Не дворец, конечно, но все же… не выбросили на улицу. Хотя могли. Власть-то в их руках… Слушай, Нестор, а какие-нибудь документы у тебя есть?
Жуя, подбирая со стола крошки и снова отправляя их в рот, он изучал бумаги, которые положил перед ним Махно.
Нестор смотрел на него с жалостью и горечью. И это тот самый человек, который, выходя из тюрьмы, обещал всем новую, свободную, счастливую жизнь, волю и радость!
– Вот! Это хорошая бумага! – Сольский выбрал из кипы одну справку. – «Выдана гражданину Махно… что он является председателем Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов…» Хорошая бумага для Кремля!
– А при чем тут Кремль?
– А где ж ты еще ордер получишь? Теперь все ордера только в Кремле и выдают. И на табак, и на воблу… Проси сразу комнату!
– В гостинице?
– Не знаю, это уж где дадут… А гостиниц теперь нет. Есть Дома Советов. Для проживания большевистского руководства. А чтоб без ордера поселиться – ни-ни! Строго.
– И шо, вот так прямо в Кремль и идти? – недоумевал Махно. – За бумажкой?
Сольский пожал плечами. Не понимает еще товарищ новой жизни, ох не понимает!
– Да! Вот так! За бумажкой! – подтвердил Зяма. – Но сегодня уже поздно. Сегодня как-нибудь…
Они какое-то время сидели молча. Нестор думал, как бы ему избавить Зяму от своего присутствия. Видимо, о том же думал и Сольский.
– Слушай, Нестор, – осенило Зяму. – А что ты скажешь, если я отведу тебя к Шомперу переночевать. В Союз идейной пропагады анархизма. Он там теперь комендантом. Исак Шомпер. Наш сокамерник. Да ты, верно, помнишь его?
– Еще бы, – буркнул Нестор. – Спиноза!
– Булок ему отнесешь… Только не в чемодане. Лучше за пазуху положи!
Но булок, заметил Махно, оставалось всего штучки три…
Здание с громкой вывеской «Союз идейной пропаганды анархизма» оказалось не то сараем, не то бараком, каких немало еще было даже в центре Москвы. Облупленные стены, в окнах стекла кое-где заменены фанерой или досками.
Исак, ничуть не изменившийся, с такими же вьющимися полуседыми лохмами, в кургузом пиджачке, сидел в «библиотеке» – комнате, заваленной книгами и газетами.
– Нестор?.. Ну, рад! Ну, рад! – Шомпер стиснул Нестора в объятиях, отскочил, чтобы получше его разглядеть, затем вновь прижал к груди. – Собираются, собираются соколята в родное гнездо! – Он все еще не утратил склонности к высокому «штилю». – «О, жаждал встретить я собрата, он снился мне в тяжелый час…»
Махно выложил булки на заваленный исписанной бумагой, газетами и книгами стол, и Шомпер вмиг смолк, сраженный увиденным.
– Хлеб! Белый хлеб! – патетически воскликнул он.
– Смеркается, – возвратил всех к прозе жизни Сольский. – Скоро комендантский час. Оставишь его переночевать?
– А ордер есть? – жуя, спросил Шомпер.
– Не успеет он уже. Завтра.
– Гм… гм… – недовольно промычал анархист.
– Ладно, – решительно сказал Махно. – Я где-нибудь на вокзале…
– Да что ты! – замахал руками Сольский. – Нашел место! Там-то тебя сразу и сцапают!..
– Гм… А какие-нибудь документы у тебя есть? – спросил Шомпер.
– У него все есть! Я смотрел! Нам бы с тобой, Исак, такие бумаги! – восторженно подтвердил Сольский наличие у Нестора нужных документов. – Ну, я побежал. Совсем стемнело. Мои будут беспокоиться… Семья!
Шомпер разложил для Нестора на полу в качестве постели кипы газет «Анархия».
– Наша газета. Бумага, правда, плохая, зато спать на ней мягко. – Он провел ладонью по газетам, будто погладил домашнее животное. – К сожалению, плохо расходятся. Увы! Не дорос народ!
– Нам бы такую в Гуляйполе! – вздохнул Нестор, укладываясь.
– Зачем? Людей грамотных у вас мало.
– Делать газету – грамотеев у нас, и верно, мало. А читать бы – читали! Хоть по складам! Только давай!
– А сытно у вас? – спросил Исак.
Махно невесело улыбнулся:
– Если б не немцы, было бы сытно. Грабят. И паны тоже землю назад отбирают. Не было б этого, галушек, сала было б у нас несчетно.
Шомпер сглотнул слюну:
– Да… Новороссия! Хлебный край!
– Да не в том дело, шо Новороссия, а в том, шо мы свою республику сотворили. Анархическу, вольну! Земли вдоволь. Добро панское людям роздали. Голодных не стало… Люди в нас поверили, от шо главное!
– Хорошо, хорошо. – Шомпер потирал руки. – Анархическая вольная республика! – Взгляд его мечтательно устремился вверх. – И ты, стало быть, во главе?
Нестор помрачнел.
– Была республика. И я был во главе. Был… Да все как-то не так вышло. Не хотел я во главе. Думал, шоб все сообща, громадой, миром. На сознательности. А люди захотели, шоб я вожжом был, властвовал. Я хотел як все, а они… Эх! – Он махнул рукой и смолк, не желая рассказывать о личном.
– Не доросли еще! – пробормотал Шомпер, теребя бородку. – А быть вождем – тяжкая ноша. Ни семьи, ни угла, ни простого счастья. Христова доля, брат! Хотя и Христос не хотел быть вождем! Только учителем!
– Это анархическая наука так теперь толкует? – спросил Нестор с неожиданным интересом.
– Да нет! Это уже не наука! Это уже личные наблюдения, горькие выводы!..
Шомпер стал рассказывать о вожде мексиканских крестьян Панчо Вилье, который возглавил революцию, овладел столицей страны, добился Конституции, общего равенства и братства, но был постепенно отстранен от руководства и в свои сорок лет отправлен на «почетную пенсию», получил немалый земельный участок и пятьдесят человек охраны, которая заодно обрабатывала землю, образуя небольшую крестьянско-анархическую коммуну. Всего-то!
– Слыхав я про Панчо Вилью, – ответил Нестор. – Може, от того мексиканского участка дело дальше пойдет. Говорят, не успокоился этот Панчо, не пошел на пенсию. Воюет… Анархия победит, это точно!
Он чувствовал в далеком мексиканце собрата. Подбадривал сам себя..
– Кажется, не воюет, – вздохнул Шомпер. – Слухи разные доносятся, но все пошло не так, как хотел Панчо Вилья.
– Значит, в науке не все сошлось, – не то спросил, не то сказал Нестор. – А вы меня учили, учили… Я и в Москву приехал, шоб мне растолковали, як дальше жить! – неожиданно зло, словно требуя немедленного разъяснения, закричал он. – Ну и шо вы мне скажете, вожди российского анархизма? Шо? Если для вас теперь булка – счастье!
– Тихо! – прошипел Шомпер. – Услышат, что здесь кто-то ночует!
Он замахал руками: бестолковый, нескладный.
– Ладно, – примирительно сказал Махно. – Вы не растолкуете, сам разберусь! – И повернулся спиной к Шомперу, давая понять, что устал.
– А ты-то как?.. Женился – нет? – спросил Исак. – Помню, твоя такие письма тебе писала! Поддерживала!
Нестор не ответил.
– А я вот тоже, как видишь, на газетах, – тихо сказал Шомпер. – Моя Нина так ко мне и не вернулась. Ее пожарный теперь в больших чинах, улучшенные карточки получает… Н-да!
Не услышав ответа, он ушел в другую комнату, зашелестел там «Анархией»…
Глава тринадцатая
В Кремль Махно пошел через Спасские ворота. Здесь стояли двое часовых в красноармейских рубахах, синих шароварах, обмотках и ботинках, с винтовками. Подтянутые не по-русски, чистенькие. Нестор подумал: хорошо, что он у Зямы сменил пензенскую замазученную одежду на гуляйпольскую, в которой проехал пол-России.
Подойдя поближе к воротам, Нестор посмотрел наверх, спросил:
– В семнадцатом, помню, тут иконка висела?
– А зачем? Верящих уже нет.
– Шо? Всех повывели?
– Вот ты, для примера, верящий?
– Нет.
– Вот видишь! – покачал головой часовой. Говор у него был с сильным латышским акцентом. – Зачем же иконка?
Подошел какой-то штатский гражданин в кепке. Махно показал ему справку. Тот долго читал, поглядывая на Махно, будто сверяя его личность с фотографией. Хотя какая там фотография на справке 1918 года!
– Глава Гуляйпольского Совета депутатов… – Он кивнул, признавая важность должности. – А чего на месте-то не сидится?
– А ты езжай к нам! – нагло ответил Махно. – Там тебе немцы живо хорошее место определят. Высокое… На виселицу подвесят!
Пролетарское нахальство произвело хорошее впечатление на гражданина. Свой брат! Не какая-нибудь вшивая интеллигенция!
– Ладно, проходи, – разрешил проверявший документы. – Тебе во ВЦИК. Это в здании Судебных установлений. Найдешь?
– Москву нашел. Значит, и Судебные установления найду.
…Коридор здания бывших Судебных установлений был широк и длинен. Комнаты, комнаты… Махно открывал двери наугад. Там сидели люди, стучали «Ундервуды», шелестели бумаги, кто-то что-то кричал по телефону, надсаживая глотку.
– Мне насчет ордера! – обратился Махно к мужчине, сидящему к нему спиной. Мужчина был обрит наголо. Обернувшись, он чудесным образом оказался женщиной, в кофте с оборками и в пенсне.
– Вам на воблу? – строго спросила женщина мужским прокуренным голосом. – Астраханский поезд еще не пришел. Завтра! Но сначала будем отпускать красноармейским кухням…
– Мне на комнату ордер! – прошипел уже начавший выходить из себя Махно.
– Там! – Махнула рукой женщина, вновь повернувшись к нему спиной.
Махно заглянул в следующую комнату, громко прокричал:
– Ордер на комнату!
Взмахивая руками, его посылали дальше по коридору.
Нестор остановился, поняв, что следует кого-то поймать и, не отпуская, расспросить. Но все торопились, никто не обращал на него внимания. У каждого были свои важные неотложные дела, не имеющие отношения к нуждающемуся в помощи человеку.
Неожиданно возле Махно приостановился явно никуда не спешащий человек. Он был примерно такого же, как и Махно, роста, лобастый, с залысинами, улыбчивый, ловко удерживающий в руке стакан чая с ложечкой, в серебряном подстаканнике.
– Заблудились, товарищ? – спросил он, будто бы узнав Нестора. – Приезжий? Вы к кому?
– Да мне бы ордер на проживание… на день чи два…
– Какие пустяки! – удивился незнакомец. – А вы, судя по всему, с Украины?
– С Катеринослава.
– С обстановкой на Украине в общем знакомы?
– Ну почему же в общем, – ответил Махно. – Очень даже знаком.
– Замечательно! – обрадовался лобастый. – Пойдемте! Решим ваши вопросы!
И он – под локоток – повел Нестора по коридору, пока не довел до двери с надписью «Председатель ВЦИК Я.М. Свердлов». И, мимо секретаря, лишь слегка кивнув, проводил Махно в другую, внутреннюю комнату, где у карты беседовал с кем-то маленький тощий человек в кожаной куртке и кожаных же штанах, остробородый, с лицом землистого цвета, в пенсне, хмурый, сосредоточенный, очень деловой. Взгляд у него был пронзителен, строг.
– Вот, Яша, товарищ из Екатеринослава… – сказал приведший Махно. – Из самой гущи. Как раз к твоему докладу.
Свердлов оценивающе посмотрел на Махно. И Нестор ответил ему таким же взглядом. Свердлов нахмурился, отвел глаза.
– Вы кто? – спросил он голосом анкетирующего.
– Махно. Нестор Иванович.
Свердлов поморщился: его не это интересовало, а самая суть.
– Партийность? На какой платформе?
– Председатель Гуляйпольского Совета крестьянских депутатов. С лета прошлого года по сей день. И ще разных должностей, як у собаки блох.
Свердлов, однако, не улыбнулся.
– Значит, с Екатеринославщины? Новороссия – хлебный край… Ваши политические убеждения?
– Анархо-коммунист! – бухнул Махно.
– Ну вот, пожалуйста! – обратился Свердлов к человеку с подстаканником, который, стоя, прихлебывал чай. – Как из Новороссии, так анархист. Вечно ты, Коля, не тех ко мне приводишь. Я сказок уже давно не слушаю…
– Напрасно, напрасно, – приведший стушевался. – Все же поговори! – И вместе со своим чаем вышел из комнаты.
Собеседник Свердлова, видимо, подчиненный, по-прежнему молча стоял возле карты, не желая выражать своего участия ни лицом, ни словом.
– Може, по-вашему, и сказки, – взорвался Махно. – А токо пока вы тут ще примерялись до вашей революции и токо обещались, мы у себя землю поделили, коммуны устроили, кулаков привели до знаменателя, панов повыгоняли и светлую жизнь трудящим устроили. Не знаю, чем вы займалысь в то время. Може, кожаный костюм себе шыли. Мы в коже не ходим. Запаримся, потому як не в кабинетах сидим, а в степи, под солнцем!
От волнения Махно перешел с русской речи на суржик.
Свердлов неожиданно усмехнулся. Смешок, однако, был у него сдержанный.
– Вот как! Злой, значит?
– А яким я должен быть? Девять годов каторжной тюрьмы, да битье, да чахотка!..
– Ну, этим-то, товарищ, нас не удивить! – прервал Нестора Свердлов. – Ладно, люблю ершистых. Садитесь, рассказывайте, чем дышит ваша анархическая Новороссия.
– Неправильное у вас представление про Новороссию, – ответил Махно. – Нашептали в уши… чи старых книжок начиталысь…
– Ну, не обижайтесь! Не обижайтесь! Это я вас прощупываю.
– Я не девка, шо меня щупать?
– Рассказывайте о том, что наболело.
Кресло тоже было кожаное, большое, глубокое, оставшееся с царских времен. Свердлов сел напротив, уставившись сквозь стеклышки пенсне на Махно. Собеседник Свердлова так и стоял у карты, слушал.
Махно помолчал, собираясь с мыслями.
– Ну, к примеру, что за настроение у вашего крестьянства? Почему наша Красная гвардия не встретила поддержки? Имею донесения…
– С цветами на вокзал не пришли, это верно! – сказал Махно. – А донесения выкиньте. Встретили мы Красну гвардию хорошо, два вагона хлеба в уезде собрали для Москвы… Токо помощи од вашей Красной гвардии мы не много увидали. Они всё в вагонах та на бронепоездах. Чуть подальше от железной дороги уходить боялись. А шо з вагона увидишь? И войну не выграешь. Зато утикать в бронепоездах очень даже удобно. Быстрише зайцев од немцев сбежали. А нашего крестьянина на кого оставили? Правильно, на немцев. От и судить тепер, какое у наших крестьян должно быть до вас отношение?
Свердлов хмыкнул:
– Но вы ведь тоже здесь, а не там. Тоже удрали?
– Удрав. По особым личным обстоятельствам… А двух моих братов немцы и паны за меня убылы.
– Н-да… – Свердлов размышлял. Затем подвинул к себе телефонный аппарат, крутанул ручку. – Мария Игнатьевна? У меня занятный человек с Украины, Владимир Ильич интересовался вопросом… Свежий, да…
Он ждал ответа. Махно тем временем смотрел на карту. Она была огромна. Нашел изгиб Днепра, там, где Екатеринослав и Александровск. А где ж родные места, где Гуляйполе? И не увидишь его, так, мелкая точка, словно муха наследила. «Хорошо им, – подумал. – Откупились Украиной. Их здесь не трогают, и ладно. А карта большая. Во всю стену кусок материи с бумагой. Но о человеческих бедах она молчит».
– Когда? – переспросил в трубку Свердлов. – Хорошо! – Он чиркнул что-то в блокноте, положив его на свое «кожаное», потертое уже колено, и обратился к Махно: – Завтра в час дня с вами хотел бы встретиться председатель Совнаркома Ленин. В полдень будьте у меня.
Нестор несколько раз порывался встать с кресла, и каждый раз Свердлов жестом усаживал его назад. Подумал: «Оно, конечно, удобно в панских креслах. Сидишь, словно в свежем коровьем дерьме: и тепло, и мягко. Но почему-то очень неуютно себя чувствуешь. Привыкать надо, что ли?»
Наконец, когда понял, что разговор окончен, Нестор решительно встал. Вспомнив, сказал:
– А я ведь до вас насчет ордера на комнату пришел.
– Это сейчас устроим. – Свердлов снова взялся за телефонную трубку: – Мне товарища Северина… И когда?.. – Положив трубку, Свердлов сказал: – Вот ведь незадача. У нас ордерами на квартиры ведает товарищ Северин. А он уехал по делам и будет только завтра… Потерпите до завтра?
– Потерплю, шо ж остается..
Свердлов протянул Нестору руку:
– Значит, до завтра. И уж, пожалуйста, не опаздывайте! Владимир Ильич этого не любит. Да и время его – на вес золота.
– Это я понимаю. Чего ж… – Махно еще раз мельком взглянул на карту, – Россия он яка, одному на своих плечах не удержать. Сообща надо. Чого ж не понять…
В Союзе идейной пропаганды анархизма Шомпер приготовил для своего гостя угощение. На столе, где скатертью служили листы все той же «Анархии», стояли две миски с какой-то жижей, блюдца с кусками слипшейся пшенной каши и лежали два кусочка серого хлеба.
– Вот, паек дали! – довольный собой, потирал руки Шомпер. – Нас, мирных анархистов, считают пока социально полноценными… Н-да! Суп из воблы – последнее кулинарное достижение. Малаховец бы не додумалась. А москвичи изобрели… Конечно, это не обед в Бутырке, но все же…
Из битой эмалированной кастрюльки он полил на руки Махно прямо над дырой в прогнившем полу старого барака.
– Вижу, в Кремле побывал! Улыбаешься! – сказал Шомпер, подавая Нестору обмылок. – А то ходил мрачнее тучи!.. Ордер-то дали? В «Лоскутку» или на Божедомку?
Махно выпрямился:
– Завтра.
– Так ты без ордера? Значит, опять будешь здесь ночевать? – откровенно огорчился Шомпер. – Да что ж ты там делал, в Кремле?
– Со Свердловым встречался…
– Со Свердловым?
Махно вытер руки «Анархией».
Сели за стол. Нестор молча поглощал супчик, символ новой эпохи. Похоже, вкус его совсем не интересовал. Шомпер же, полный любопытства, ждал. Окончив работать ложкой, он барабанил пальцами по столу.
– Там ще с одним познакомился, – как бы сам себе сказал Нестор. – А кто это был, постеснялся спросить. Но явно важный туз.
– Какой он из себя?
– Маленький такой, бородка клинышком, быстренький, лысоватенький, все чаек попивал… Сильно вежливый, просто душа человек.
– Так, может, ты это… Ленина встретил? – ахнул Шомпер.
– Не. Но, видать, тоже большой у них начальник. Свердлову говорит «Яша», а тот ему «Коля».
– Так это ж Бухарушка! – догадался Шомпер.
– Шо за Бухарушка?
– Бухарин. Николай Иванович. Первый после Ленина у них в партии теоретик. Ну, так считается… Хотя, по правде, малообразован и туповат!
– Ну не, – возразил Махно. – Обходительный такой. Похоже, много знает. Может, даже заграничные языки одолел.
– Языки-то он одолел. А ума от этого не прибавилось. На всех углах призывает к крайнему насилию.
– Откуда ты знаешь? – насупился Махно.
Шомпер сорвался с места, пошелестел газетами, вернулся.
– Вот послушай, что этот теоретик в «Правде» пишет. Отрывок из нового труда «Азбука коммунизма»… Вот! «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрела…» – Шомпер произнес с ударением: – «…начиная от расстрела человеческого материала капиталистической эпохи…» А, каково? Перевоспитывать людей, расстреливая их. Лойола бы не додумался! И как ловко! Не люди, а человеческий материал!
Махно, однако, отнесся к возмущению Шомпера скептически. Покривился, затем посмотрел на товарища, как бы заново оценивая его.
– С каких же это пор ты, Исак Наумыч, стал выступать против расстрела? А как же новый мир строить без насилия?
– Да, но большевики практически победили! Всех! Крайнее насилие уже не нужно. А Бухарушка, он прямо к этому призывает! А сам-то он, интересно, не боится за себя?
– А чего ему бояться? – усмехнулся Махно. – Большевики, конечно, сильно ошиблись, когда нас, анархистов, стали давить ногтем. А так-то они правы! Всех этих панов, офицеров, кадетов, аристократов, попов, купцов – всю эту сволоту, и верно, давить надо. Я согласный! Расчищать дорогу для счастья трудящихся!.. От только нам вразумлять большевиков следует: не враги мы им. Россия большая, там – они, здесь – мы, миром жить можем…
Некоторое время они молча пили жиденький морковный «чай». Шомпер смотрел на Нестора не без некоторого страха. Наконец спросил:
– Как же ты их вразумлять собираешься?
– Не знаю… Вот завтра проясню трошки.
– Как?
– У меня на завтра встреча с Лениным призначена.
– С Лениным? – изумился Шомпер.
– А шо такого? – спросил Нестор. – Ну, он – Ленин, а я – Махно… Ты уж прости меня, Исак Наумыч, пойду на твоих газетках полежу. Подумаю. Все ж не с суседкой на скамеечке буду балакать. С Лениным…
Он улегся на кипах газет, стал смотреть в потолок, где трещины на побелке образовали сложный узор. Прямо гадать можно!
Шомпер осторожно просунул в дверь всклокоченную голову:
– Слушай, Нестор, а ты не боишься? Может, они решат из тебя завтра сделать коммунистического человека? Своим методом. Ну, методом расстрела.
Махно усмехнулся:
– Ну, не завтра, это точно. Я им зачем-то нужный. Разве шо малость погодя… А может, до чего-то и доторгуемся.
– Ну-ну! – покачал головой Шомпер.
Вождь новой России был озабочен. Кивком поздоровался. И, как бы принимая во внимание уже известное ему о Несторе Махно от Свердлова, тихо сказал:
– У вас большое семейное горе. Очень сочувствую… Да, беды навалились на всех нас. Что поделаешь! Нашу революцию мировая буржуазия встретила в штыки. Это естественно. Но мы устоим!..
Махно молчал. Ленин ему нравился. Мощный человек. Как он сразу перевел гибель его братьев на мировой масштаб! И стул ему предложил, а не кресло. Это тоже Нестору понравилось: соображает.
Походив по кабинету мелкими шажками, вождь и сам уселся на стул напротив. Маленький, чуть выше Махно, складный, крепкий. В глазах и хитринка, и усмешка, и злость. Вот только тоже, как и Свердлов, рассматривал его в упор, щуря глаза. Строгий. Но он, Махно, строгих за свою жизнь вдоволь навидался.
– Так что вас привело в Москву? – перешел к делу глава большевиков.
Свердлов был здесь же, неподалеку, в своей комиссарской коже. Какая любовь вдруг выявилась у совершенно штатских в прошлом, незаметных людей к кожаной форме! Уже в годы Первой мировой она стала отличительным признаком новой и высшей военной касты, летчиков, шоферов, мотоциклистов, вообще людей техники, моторов и скорости. Свердлов застыл, прислонясь спиной к стене, как к печке, и уже не расстреливал Махно своим взглядом, а со скептической улыбкой глядел чуть в сторону, явно испытывая торжество охотника, добывшего редкий трофей.
– Как жыть? – спросил Махно. Он невольно приподнялся со стула. Больно серьезный был вопрос. – Неправильно все идет! Революция… она должна была счастье трудящим принести, а шо получается?
– Сидите, сидите! – Ленин движением руки усадил его.
– Селяне у меня спрашивают, а я у вас хочу спросить: как жить? Все как-то неладно выходит. Боком! – наступал Махно.
Память о совсем недавней собственной семейной трагедии еще жила в нем, не отпускала. Но Ленин вроде бы и без того понимал его беду, хоть и не всю. О пропавшей молодой жене, о пропавшем сыне разве расскажешь? И, заглушая душевную боль, Нестор продолжил, не дожидаясь ответа:
– Мы думали, коммунисты-большевики нам лучшие друзья. А они нас, как могут, подавляють. Где ж она… ну, где на свете… – Нестор не находил подходящего слова.
– Страна Беловодье? – подсказал ему Ленин. – Нет такой. Это выдумки. Но хорошо, что со своими сомнениями вы сюда пришли. Вы знаете, мы строим новое общество, коммунистическое. Первое в мире. Возникли тяжелые препятствия. А мы их не предвидели. Надеялись, что вслед за Россией революция начнется всюду. Не началась. Пока. И получается, что мы ввязались в драку, еще не зная, что у нас впереди. Но упускать момент нельзя! Будем продолжать драться!
– Анархисты были с вами. Рядом! – воскликнул Махно. – Тысячи и тысячи! Помогали вам. А вы их откинули!
– Да, были. Да, помогали. – Ленин развел руками. – В момент разрушения старого! Но что делать дальше, они тоже не знали. Боевики, террористы, взрывы, пожары… На этом ничего не построишь. Хаос – это пустота. А в пустоту тут же устремляется мировая контрреволюция.
– Мы знали. Знали, шо делать! – вновь привскочил Нестор. – Мы, крестьянские анархисты, сразу стали строить безвластное общество. А вы нам – руки вязать. В переносном смысле…
– А надо бы в прямом, что ли? – Ленина трудно было сбить с толку. Не в таких словесных баталиях он оттачивал свое мастерство. – А вы спорщик! Это хорошо! – Улыбаясь, но с каким-то холодком в голосе он спросил: – Интересно, почему именно Малороссия дает нам такое количество анархистов? Вы не задумывались?
– На это много причин, – уклончиво ответил Махно. – И не Малороссия, а скорее Новороссия. Козацкие края… У нас почти все революционеры, ще с той революции. Все вожаки – анархисты. Это точно.
– А я вам скажу… – Ленин продолжал относиться к лохматому и диковатому Махно несколько покровительственно. – Может, ошибаюсь… Крестьянство у вас играет особую роль. Оно всюду, но особенно у вас – мелкобуржуазно по сути… а анархизм есть проявление бунтующей мелкой буржуазии… и, конечно, он не признает никакой власти, в том числе и главенствующей роли пролетариата, его диктатуры…
Махно тоже щурил глаза, всматриваясь в этого человека в кургузом пиджачке и сбитом набок галстуке.
– Конечно, философию вы изучали не как я, – согласился Махно. – А я… я как тот гоголевский философ Хома Брут… – Нестор в волнении перешел на просторечный суржик. – Так у Хомы хочь бурса якаясь была, а у меня тюремно-каторжное самообучение. А только и в шестом году, и в семнадцатом наши селяне были первыми революционерами… не по науке, а по практике. И пролетариата у нас в Новороссии, и верно, багато. В том же Гуляйполе, например. На заводах, на фабриках. И мы с имы на равных, без всякого… Извините, если шо не так сказал!
– Штучка вы, однако, Нестор Иванович! С вами надо ухо востро держать. – Ленин резко встал, несколько раз торопливо прошелся по кабинету, снова присел напротив Махно, вернулся к разговору: – Мы слишком много спорим, кто важнее, кто главнее. Сходимся, расходимся. Но если сейчас погрязнем в спорах, нас раздавят!
– Кто? Германцы?
– Эти уйдут, как пришли. Антанта! Вы хоть знаете, что Николай Второй и Временное правительство наделали столько долгов, что России их вовек не вернуть? Миллиарды и миллиарды. Не явись мы, Россию неизбежно превратили бы в колонию, сырьевую базу мировых империалистов. И только мы смогли сказать: никаких долгов! Никому! Всё! Царизму давали, с него и спрашивайте!
Махно слушал. Он ощущал мощь знаний и убеждений Ленина. Сам он многого не ведал.
– Дорогой товарищ! – почти нежно сказал Ленин. – Без страшной, кровавой борьбы не обойдется. Но… – вождь замолк, давая оппоненту самому сделать выводы, – …для того чтобы победить, пролетариату нужно брать власть в свои руки! Именно пролетариату! Крепить государство! До некоторых выводов я и сам не додумался, когда за три месяца до Октября писал работу «Государство и революция»! Не додумался, каюсь!.. Вот у вас, анархистов, какова система управления?
– Ну… управления как такового у нас нет. Волеизъявление – да! Через Советы. Но через безвластные Советы, свободно избранные…
– Всеми избранные?
– Нет, – слегка растерялся Махно. – Эксплуататоры, конечно, не допускаются. Офицерье там, духовенство, нетрудова интеллигенция! Ну, и партии, котори не с намы.
– И что же получается? Полной свободы и у вас нет?
Нестор в задумчивости почесал затылок:
– Ну, нет.
– И это правильно!.. Далее. У вас нет управления?
– Мы в Советах выясняем, куда и как идти. А решають, конечно, трудящи!
– На митингах! – радовался Ленин. – А в это время буржуазия отхватывает кусок за куском!.. Вы о кельтах что-нибудь слышали?
– Ну, так… шо жыли такие люди, – замялся Нестор. Он этим не интересовался.
– Кельты – древнейшее население большей части Европы. По идеологии – ваши предки! Они тоже были против армии, воевали всем народом. Не было законов, судов – всё решали на митингах, собраниях. Их жрецы, друиды, даже письменность отрицали. Верили только в живое, непосредственное слово!
Свердлов кивал, улыбаясь. Удивительный человек Ленин. Гора насущных дел, а он увлеченно рассуждает о кельтах.
– На кельтов пошли войной римляне. Их было в десять раз меньше. Но… – продолжал вождь. – Но дисциплинированные! Строгие! Четкие! И в кратчайший срок разгромили кельтов! Мораль нужна? Все это может произойти и с нами, если мы поддадимся анархическим идеям. Близкий пример. Наш анархиствующий большевик Дыбенко умудрился сдать Нарву немецкому батальону, хотя у него, в сущности, была дивизия! Но не было дисциплины!
Ленин потирал руки. Пример действительно был убедительный. В ответ Махно сощурил свой, тоже не лишенный лукавства глаз:
– Я не упомню, а шо с теми римлянами в конце сталось? По-моему, их одолели темные варвары? Такие ж, как и кельты. Чи даже ще темнее.
Свердлов только руками всплеснул от неожиданного хода этого украинского мужичка. Рассмеялся и Ленин:
– Хорошо отбиваетесь! Выйдет из вас толк. – И вдруг спросил: – С немцами воевать будете?
Махно нахмурил брови, ответил не сразу.
– Понимаете, Красная армия не может сопротивляться Германии. Во-первых, из-за отсутствия силы. Мы свою армию только еще организуем с помощью волевого товарища Троцкого. Во-вторых, что вытекает из первого: по условиям Брестского мира мы не имеем права воевать, – сказал Свердлов, как бы подталкивая Махно к решению.
– Признаться, ехал я сюда, в Москву, с печальными думками. Мучил меня вопрос: как жить дальше, – наконец заговорил Нестор. – Думал, може, тут хто подскаже?
– И что же, нашли ответ?
– Вроде как нашел. Точнее, додумался. Сам.
– Ну и как же вы собираетесь жить?
– Перво-наперво, надо додому возвертаться и немца скидывать. Армию – не армию, а тысяч пять партизан с оружием я подниму. А может, и побольше.
– Вот! Совершенно правильное решение! – поддержал Нестора Ленин. – Партизанская крестьянская война – нож в мягкое подбрюшье оккупантов! Поезжайте домой! Мы вам поможем туда пробраться.
Махно встал.
– Подумайте в дороге еще вот о чем, – добавил Ленин. – Анархизм как идеология нравится большинству крестьян. Я повторюсь: причина в том, что в вашем украинском крестьянине особенно сильно развито собственническое, мелкобуржуазное начало. Это – стихия. Чтобы управлять ею, нужна твердая рука. Примите как аксиому! Только под руководством организованного пролетариата ваши селяне смогут чего-то добиться.
– А вот эту аксиому мы не примем! – ответил Махно. – Нам ничье верховодство не нужно! Своим умом до всего дойдем!
Ленин вздохнул:
– Победим – доспорим. Сядем за круглый стол и доспорим. На чем-то сойдемся!
Оставшись одни, Свердлов и Ленин вполголоса продолжили беседу.
– Ну-с? – спросил Ленин.
– Личность весьма серьезная, – ответил Свердлов.
– Мне тоже так показалось. Весьма, весьма полезный попутчик. Но до первого перекрестка.
Свердлов кивнул.
– Я верю, такие, как он, выпустят потроха из немцев. Но и сами во время борьбы с дисциплинированной кайзеровской армией кое-что поймут. Во всяком случае, нас поймут, когда выдохнутся, – задумчиво сказал Свердлов. – Вот тогда-то и войдет на Украину новая Красная армия! Она впитает в себя остатки этой партизанщины, как большая губка.
– Именно, именно!..
Они смотрели на карту… Как огромна Россия! Какое пространство и какой противоречивый народ свалились им в руки, как созревший плод. Плод, однако, оказался с колючками. Идеи немедленного коммунизма не принял, не поддался на них… не раскололся…
Тем временем Махно в сопровождении дежурного по Совнаркому, по-военному одетого человека с револьвером в кобуре, прошли по коридору, спустились в полуподвал, где очутились перед окованной железом дверью. Дежурный постучал условным стуком.
– Северин, – ответил он на вопрос из-за двери.
Прогремели запоры – и они вошли в небольшую комнату секретного отдела. Комната предназначалась для посетителей. В ней не было ничего, кроме стола и трех стульев. И еще одной железной двери.
– Вот, необходимо сделать документы товарищу, – пояснил Северин высокому бородачу в английском френче.
– Зельцер! – крикнул бородач.
Опять звякнули какие-то запоры или защелки, и из другой железной двери в комнату вошел длинноволосый, с проседью человек, явно принадлежавший к некогда угнетаемой царизмом нации. На нем был испачканный краской и прожженный кислотами фартук, руки тоже были грязны и обожжены, два пальца перевязаны. На носу косо сидели очки.
– Товарищ возвращается на Украину. Нужны документы, – вторично объяснил Северин.
Длинноволосый оценивающе оглядел Махно:
– Удостоверение от отдела народного образования вас устроит? На русском, украинском?.. Или сделать вас офицером варты? Нет, на офицера вы не тянете. Нет выправки. Будете народным учителем!.. Только извиняюсь за неудобство, но пару деньков придется обождать.
И человек исчез, вновь щелкнув замками.
– Колдун? – спросил Махно.
– Волшебник! – ответил бородач. – Его «документы» признают во всем мире!
В Союзе идейной пропаганды анархизма Нестора с нетерпанием ждали Сольский, Шомпер и… Аршинов.
– Петр Андреевич! – Махно заключил в объятия своего бывшего сокамерника, учителя и старшего товарища.
– А я – прямо из Брянска. И вот новость: ты здесь! Говорят, встречался с Лениным?.. Что, в самом деле?
– Встречался.
На столе, застеленном все теми же газетами «Анархия», лежали шмат сала, пироги, яйца…
– Дары брянских анархистов! – радостно сообщил Аршинов, усаживая Махно. – Не дадут с голоду помереть!.. Ну, рассказывай!
Махно, однако, молчал. Смотрел, как Сольский и Шомпер уплетали еду. Зяма положил в карманы два вкрутую сваренных яйца.
– Для девочек, – пояснил он. – Растут девочки… Закон природы.
Махно продолжал молчать. Самое бы время рассказать о необычных встречах в Кремле, о беседах со Свердловым и Лениным, первыми людьми новой республики. Лестные, конечно, встречи, можно бы и погордиться. Но… почему-то не хотелось. Не переварилось еще в голове, что ли? Не улеглось?..
Нестор не очень-то признавал власти. Любые. Но с этим властным, высоколобым человеком не мог не считаться. Вот Свердлов – тоже, видать, личность, а против Ленина – не то. Мелковат.
Прежде чем рассказывать, хотелось преодолеть в себе чувство собственной незначительности, ощущение, будто ты – точка на глобусе, который крутит этот кремлевский вождь. И дело даже не в словах Ленина, не в мыслях его, тут и возразить было можно. И, кажется, возражал. Но при этом, удивительная вещь, Ленин как-то незаметно, странным образом подавлял, овладевал душой.
Не мог тогда Нестор знать, что война с большевиками, прерываясь иногда на перемирия и союзничество, постепенно превратится в охоту и на него, Махно, как на зверя. Кровавую, страшную охоту. Но и тогда Нестор сохранит теплые воспоминания об этом человеке.
Глядя на Сольского и Шомпера, Махно вдруг начал смутно догадываться, что ему делать дальше. Прежде всего нужно отбросить все переживания, растерянность, боль от личной утраты. Это слабость. А слабых давят. Или подчиняют. Надо, избавившись от жалости к себе и другим, глядеть вперед. Определить свою цель и место в революции, как это ему исподволь подсказал Ленин.
– Чего молчишь? – нетерпеливо спросил Аршинов.
– Да вот, думки всякие… Понимаешь, он, конечно, великий человек – Ленин. Мозги как у Карла Маркса. С ним особо не поспоришь. Такие науки превзошел. Да если б только науки! Страну на дыбы поставил! Россию! Не шутка… Но вот одного не понимает – и, боюсь, тем подавятся большевики. Может, верх они и возьмут, потому шо сила. Но кровищи прольют море. А в конечном счете власть все равно не удержат. От я все и думаю, как бы его до правильной мысли повернуть!
– Какой? – в один голос спросили Шомпер и Сольский.
– Крестьян он не понимает… Ясное дело, с косой по травичке не ходил, за плугом не потел, корову в череду на зорьке не выгонял. Где ж ему крестьян понять? Он хочет переделать их на большевистский лад. Шоб они шо-то вроде пролетарьята были. Но ведь если крестьянина от земли оторвать – голод будет! Страшный голод!
– Ну и хорошо, – сказал Зяма, с трудом проглатывая кусок пирога. – Настанет наше время!
– Не, – покрутил головой Махно. – Никто не знает, чье время настанет, когда хлеба не будет!
– Подождите, подождите. – Шомпер потянулся за тоненькой картонной папкой. – Я тут кое-что выписал!
– У тебя, Исак Наумыч, я гляжу, на все случаи жизни цитатки заготовлены? – удивился Махно.
– А как же! Это необходимо. Я же лекции читаю. Познаю противника!.. Вот высказывания этого главы большевиков о крестьянстве.
– Ленина, что ли? – спросил Аршинов. – Так мы его всего от корки до корки изучили. И по крестьянскому вопросу тоже.
– Это совсем свежее высказывание. Слушайте! «У крестьянина две души: душа собственника и душа труженика. Это вытекает из его экономического положения. Надо эти две души выделить… И только тогда победим, когда будем отсекать собственнические устремления и поддерживать то, что является сутью труженика…»
– Так это и есть превращение в рабочего! – заявил Аршинов. – Об этом он не раз говорил. Ничего нового.
– Но вообще-то страшные слова! – нахмурился Махно. – Душу разделить можно только саблей. И шо будет? Труп!.. Крестьянин – это крестьянин. В нем всего намешано. Но резать по живому нельзя. Это будет катастрофа.
– Ленин заражен марксистской схоластикой, – возмущенно продолжал Шомпер. – Торжество догмы над жизнью!
– Но-но! Про Ленина так не надо! У него грамотешки – на всех нас хватит и ще на добрый полк всяких доцентов! – сердито, но с некоторой усталостью в голосе сказал Нестор. – Мне большевики чем-то сильно нравятся. От если бы их насчет земли вразумить? А как их вразумишь? Не вашими же лекциями?
– Презрением. И просвещением масс!
– Глупости, – покачал головой Махно. – За ними сила. И потом, это главные наши союзники. Во всем мы с ними сходимся, кроме вопросов о власти и о крестьянстве. Остальные партии нам не друзья. Думать надо! Думать!..
– Мы поможем! – вставил Сольский.
– Думать – не молотить, помощь не нужна, – скупо улыбнулся Махно.
– Кстати, походи с нами на лекции, диспуты, – предложил Нестору Аршинов. – Послушай. Может, извлечешь для себя какую пользу…
– Думаешь, поумнею? – весело отозвался Нестор. – Пара дней есть. Послухаю!
В клубе «Революционная трибуна», в особняке, хранящем следы былой роскоши, малость поколупанном и расписанном новыми хозяевами, в небольшом зале, заполненном менее чем наполовину, собрались теоретики-анархисты и любопытные – послушать худого, сутулого, хотя и молодого еще (возраста Махно) человека с неопрятной полуседой гривой волнистых волос, в проволочных очках а-ля Чернышевский.
– В своих противоречиях Фридрих Ницше, однако, прозревает облик нового человека, который, с одной стороны, тянется к власти, проявляя, в нашем понимании, ипсо факто[1], буржуазный или даже феодальный инстинкт, – обращался к залу лектор, – а с другой стороны, стремится освободиться от обузы государства, его диктата, от оков буржуазной морали, семьи и собственности. Но…
Лектор стоял на наспех сколоченной фанерной трибунке, обтянутой черной материей. Стол, за которым сидели Шомпер и еще двое неизвестных Махно анархистов-теоретиков, тоже был покрыт черной скатертью, отчего создавалось впечатление, будто это не собрание, а гражданская панихида. Впрочем, такое впечатление могло возникнуть лишь у посторонних, не знакомых с символикой анархизма.
Лектор Всеволод Волин-Эйхенбаум продолжал:
– …но наполненный «героическим пессимизмом», понимая, с нашей точки зрения, абсурдную неизбежность гибели, прорывается к торжеству свободы, вольному плаванию индивидуума в море условностей и предписаний, к сохранению раскрепощенного «я» в условиях, когда грубая сила стремится подавить эту тягу, усматривая в самом существовании такого индивидуума корпус деликти![2] – Всеволод Волин обвел глазами аудиторию, многозначительно добавил: – Мы-то с вами хорошо знаем, что это такое… На себе испытали.
Зал зааплодировал. Все, кроме Махно, для которого речь Волина была слишком туманна.
Сольский наклонился к нему, пояснил:
– Вникай! Сразу не понять! Иносказания, намеки! Одно слово: Волин-Эйхенбаум! Голова. Между прочим, брат его, Борис Эйхенбаум, куда менее заметная фигура, а уже профессор в Петрограде… Наш Волин тоже мог бы стать академиком, но ушел в анархизм!
Волин между тем, попив водички из треснутого мутного стакана, стоящего рядом с графином, поклонился собравшимся и продолжил:
– Знаменитое древнеримское и, что для нас важнее всего, ницшеанское «амор фати»[3] могло бы быть начертано на нашем с вами знамени, ибо только с таким пониманием, выраженным этими великими людьми, заблудшими, но инстинктивными анархистами, мы можем выстоять в нелегких условиях, в этом нашем циркулус витиозус…[4]
Вновь раздались аплодисменты.
– Глубоко, глубоко проникает! – восхищенно прошептал Сольский. – Как он их бьет!
– Кого? – спросил Нестор.
– Да большевиков.
– Я шо-то не заметил.
Волин продолжал разглагольствовать, но Нестор перестал его слушать, разглядывал собравшихся. Это были молодые и не очень молодые московские интеллигенты, «революционеры духа», выброшенные за борт потоком не подчинившейся им жизни. Непонятное Нестору племя.
Он встал и, сопровождаемый удивленными и раздраженными взглядами слушателей, вышел на улицу. Постоял, размышляя.
Напротив, на другой стороне улицы, увидел очередь у продуктовой лавки. Крики. Давка. Драка…
Аршинов вышел вслед за Нестором, не желая оставлять его одного.
– Не понимаю, Петр Андреевич, – сказал Махно, – ты же из наших, из катеринославских. Чего ты тут сидишь, это словоблудие слухаешь?
– Пропаганда, Нестор Иванович, великая сила, – сказал Аршинов. – Мы должны в Москве сохранить источник анархических идей… Что, не понравился тебе Волин?
– Напротив, я ему благодарный! – ответил Махно, провожая взглядом пролетку, в которой какой-то человек в форменной фуражке вез своего подвыпившего спутника, держа его за воротник. – Благодарный, потому шо понял: надо мне утикать из Москвы, и как можно скорее. Москва – центр бумажной революции. Отсюда только декреты проистекают и слова. А настоящая жизнь – там!
Они шли по улице.
– Уеду и буду поднимать народ против немцев! А когда их скинем, когда устроим свою крестьянскую анархическую республику, то большевиков, ну, если у их хватит ума до нас прийти, встренем як хозяева: пожалуйста, считайтесь с нами, селянами. Дадим и хлеба, только дайте нам самим хозяйновать так, как мы хотим. А шо им останется делать? Крестьянство мы защитим не только от их догм, но и от панов, офицерья, от всяких гетьманов… Не, спасибо Волину, очень непонятно, но красиво говорил. Под его речь мне хорошо думалось. Лучше, чем в тишине.
Они какое-то время шли молча. Потом Нестор обернулся к Аршинову:
– А то поехали со мной, Петр Андреевич! Нужен мне там такой, как ты, человек. Понатерпелый и знающий.
– Не могу, – ответил Аршинов. – Здесь решается много не только важного, но и для наших краев полезного!
– Много бумажного! – со злой иронией отрезал Махно. – Москва сильно много о себе представляет. А жизнь, она – там! – Он взмахнул рукой, указывая вдаль. – Горькая жизнь, согласен! Но другой, настоящей, пока нема! Но если все сообща за этот гуж возьмемся да с силой в одну сторону потянем, то будет!
Глава четырнадцатая
Через два дня высокий бородач в английском френче вручил Нестору несколько бумажек:
– Документы… справки… Прочитайте, запомните!
Длинноволосый Зельцер в своем фартуке стоял, скрестив грязные руки. Со странной усмешкой наблюдал за Нестором.
– «Народный учитель Шепель Иван Яковлевич… Шепель Иван Яковлевич… – повторяя, пытался запомнить Махно, – …находился на излечении в Яузской больнице на Швивой горке по поводу туберкулеза»… – Махно коротко взглянул на Зельцера. – А вы откуда узнали насчет туберкулеза?
– Тоже мне загадка Сфинкса… Вы присмотритесь к бумагам: нигде не жмут?
– Хорошые бумаги… Потертые, помацанные… Нам бы такого колдуна! – Нестор с восхищением посмотрел на Зельцера. – Мы бы там, на Украине, такие бумаги сочинили, шо я бы до гетьмана возрос, а то и до генерал-фельдмаршала…
– А то! – усмехнулся Зельцер – И вот еще для вас… к документам. Будет не лишнее. – И протянул пачку украинских карбованцев, каких Нестор еще не видел. Карбованцы были тоже уже помяты и не пахли типографской краской. Нестор догадался, что отпечатаны деньги не этой, как ее, Центральной радой, которая, как он полагал, все еще заседала в Мариинском дворце города Киева.
– Свеженькие, оккупационные… Да вы не беспокойтесь. – Зельцер улыбнулся. – Даже у немцев за настоящие проходят.
– За гроши тоже большое вам спасибо. Потратился в дороге.
После Кремля Махно забежал в каморку к Сольскому. Ни его жены, ни падчериц дома не было.
– Ну что, получил ордер? – первое, что спросил Сольский.
– Зачем ордер? Документы получил. Так шо все! Нечего мне здесь сидеть, – угрюмо ответил Махно. – Вечером уеду!
– Как? Так сразу? И куда?
– Как – куда? Додому, на Украину.
– Так там же сейчас немцы! Уже, наверно, до ваших краев добрались. Говорят, по самый Дон будет оккупация.
– Германцы так германцы, – сказал Махно. – Я ж не собираюсь их коням в хвосты ленты вплетать.
– А наши надеялись с тобой еще разок встретиться… И Шомпер, и Аршинов. Что-то вроде проводов устроить.
– Хватит времени – увидимся. А сейчас, пока светло, хочу ще одно важное дело сделать: с Петром Лексеичем Кропоткиным повидаться. Он вроде бы в Москве.
– В Москве. Но не у дел старик. Мечтал о революции, а эту большевистскую не принял. Ленина, правда, уважает, не раз встречался с ним, но их власть не признаёт… И реальное современное анархическое движение тоже не принял. Ни одной статьи в нашу анархическую газету не дал! На приглашения прийти в Союз даже не ответил. Не понял, отстал! – Сольский горестно развел руками, отчего его блуза, которая явно стала ему велика, после того как закончилась «бутырская кормежка», распахнулась и открыла тощий, поросший белым волосом живот. И это особенно оскорбило Нестора, поскольку словно бы имело отношение и к Кропоткину: как жест пренебрежения.
– Старик – великан! – резко сказал Махно. – Нам до него ще расти и расти. И тебе, Зяма, тоже!
Сольский вздрогнул. Поистине, не один лик был у этого маленького запорожского воителя. Зяме показалось, что перед ним лермонтовский Вадим, попавший сюда из другой эпохи. Из времен Разина или Пугачева.
– Адресок не подскажешь? – спросил Нестор уже более миролюбиво.
– Отчего же. Его адресок теперь вся Москва знает! – Сольский бросился к столу, заваленному бумагами, грязными тарелками, книгами, лежавшими «лицом вниз», раскрытыми на нужной странице.
Семья Сольского держалась исключительно на идейной общности, а не на каких-то там нежных чувствах и взаимной заботливости. Новая, революционная, анархическая семья!..
– Вот газета! – Зяма, напрягая зрение, отыскал необходимые строки: текст был слегка расплывчатым из-за добитого до ручки шрифта и плохо читался. – Ага, вот! «На злобу дня»… «Так называемый вождь и теоретик анархистов, бывший князь-аристократ, воспитанник прогнившего Пажеского корпуса…»
– Плевать мне на их слова. Ты мне адрес скажи! – вскипел Нестор.
– Да-да! Адрес! Вот, пишут: «…поселился… в особняке на Новинском бульваре в сто одиннадцатом доме, принадлежавшем бывшей аристократке Софье Петрово-Соловово… И хотя особняк был подвергнут пролетарскому заселению, Кропоткину с семьей оставили самую большую комнату. Наш великий анархист мирится с тем, что в соседней с ним комнате проживает князь Трубецкой, этот потомок Гедиминовичей, выселенный из своего дворца… Вот кого предпочитает анархист! Вместо того чтобы поселиться в пролетарской семье и набраться революционного…»
– Хватит! – прервал его Махно. – Хватит всякие пакости про Кропоткина! И кто ж такое написал?
Нестор прищурился, словно высматривал цель, и глаза его сверкнули странным блеском, похожим на вспышку дульного винтовочного пламени. Зяма, хоть и не был знаком с действиями гуляйпольской «черной гвардии», сразу понял, что ожидало бы бойкого автора заметки, живи он в тех краях.
– Подписано: «Захар Зоркоглазый».
– Сволочь, – коротко выразился Нестор. – Пойду! Значит, Новинский бульвар, сто одиннадцать.
– Если Кропоткин там еще проживает. – Сольский стал вновь рыться в газетах, отыскивая еще что-то и при этом продолжая бормотать: – Где-то тут… ну да… тоже короткая заметка… и очень непонятная. Не то большевики его высылают… в Дмитров, не то он сам туда едет. К своей родне, графьям или князьям Олсуфьевым. Не слыхал?
– Я и своих, катеринославских, не шибко хорошо знаю, не то шо… А як это – высылают? За шо?
– Ну, вроде заботятся о нем. Года-то у него немолодые. Вот и решили его подальше от Москвы, на «молочко и сметанку», для его же здоровья, – усмехнулся Зяма.
– Понятно. Не нужен им в Москве Кропоткин.
Благодаря своему умению ориентироваться на местности, Нестор быстро нашел Садовую улицу, что опоясывала собственно Москву. Садовая действительно была садовой: здесь дома, как высокие дворцы, так и особнячки, скрывались в начинающих уже зеленеть садах, и с само́й улицы, довольно узкой, означенной двумя колеями трамвая, невозможно было разглядеть номерных табличек на домах, а нередко и самих домов, хотя день занимался солнечный, пахло летом.
Словно странная река, без истока и устья, Садовая разделялась на дюжину подназваний: Самотечную, Каретную, Кудринскую… Когда-то номерные таблички с указанием улиц и полицейского участка, белые или бронзовые, ярко начищенные, крепились к крашеным заборам или воротам. Сейчас же от них остались только темные следы на выгоревших и ободранных заборах.
Сами же хозяева, как правило, люди состоятельные, и сбили эти таблички, чтобы запутать тех, кто явится с обыском или просто с целью грабежа. Пока нежданные гости ищут, стучат, перекликаются, есть время улизнуть, спрятаться или хотя бы убрать самое ценное подальше от недобрых глаз.
После посещения Кремля, с надежными документами в кармане, Махно чувствовал себя уверенно и не боялся расспрашивать прохожих. Так язык довел его до Кудринской, а дальше он отыскал и Новинский бульвар.
Здесь тоже были сады! Да какие! Не хуже, чем где-нибудь в Новороссии. Тут и волк заплутал бы в зелени…
Нестор увидел мужчину, который, оглядываясь, деловито отдирал от деревянного забора штакетины. Был он в куртке, перешитой из старой шинели, в кепке, стоптанных юфтевых сапогах. Похоже, близкий по классовой принадлежности человек.
– Эй, дядя! – позвал Нестор.
«Дядя» вздрогнул, уронил штакетину и посмотрел за плечо, явно выбирая путь к бегству. Но, присмотревшись, все же принял Нестора за своего.
– Чего? – спросил он, смелея на глазах.
– Не подскажешь здесь номер дому?
Мужик сбил на затылок кепку:
– А черт его знает. Я переехамши, еще в городу не шибко обвык.
– Ну хоть шо за улица?
– Улица-то, ясное дело… Черт ее знает, какая улица. – Мужик звучно высморкался, вытер пальцы о куртку. – Была, вишь ли, ране Новинская. А щас, говорят, будет эта… черт его… в общем, имени… за заслуги… Может, уже и не Новинская… Вот так! Москва, мать ее: живешь не знаешь где. Не то что у нас в Трофиловке, на Белгородщине.
– Н-да, – хмыкнул Нестор. – Случаем не знаешь, где тут Кропоткин живет? – Главе гуляйпольских анархистов казалось, что каждый человек в Москве, даже такой темный, как этот заселенец, должен знать Петра Алексеевича. Да и как может быть иначе?
– Знаю, чего ж! – обрадовался человек. – Энтого, товарищ, все хорошо знали. А только всё! Замели его надысь! Сам видал, как вели.
Мужичок весь светился от радости. Он не злорадствовал, просто был горд своей осведомленностью.
– Как «замели»? – спросил ошеломленный Махно.
– Обнаковенно… Щас это просто. Пришли, забрали. Пущай посидит, а то и того хужее. Все-таки энтот… элемент!
– За шо? Какой элемент? – продолжал недоумевать Нестор, холодея внутри и одновременно ощущая прилив горячей ненависти, желание немедленно выручать, мстить, убивать. Светоч мировой революции – и в кутузку.
– За што? – усмехнулся мужичок. – Так ведь булочная у него была! На углу Смоленско-Сенной. Супротив чайной, не знаешь, што ли?
– Какая булочная? – прошипел Нестор. – Шо ты мелешь!
– Ну, как же… На ней так и написано было: «Булочная Краваткина». Чего не отнять, витушки и сгибни знатно выпекал. – Гражданин вздохнул, сглотнул слюну.
– Краваткин?! Я тебя про князя Кропоткина спрашиваю!
Мужичок недоуменно заморгал.
– Ну, Кропоткин Петро Лексеич! – разъяснил Махно.
– Князь, говоришь? – Мужик даже отступил шага на два, не выпуская, однако, из рук штакетины, которые он, как бурундук, запасал впрок, предчувствуя далеко впереди холодную зиму. – Ты чо, мужик, с Луны свалился? Князя-то уж непременно замели. Тут булочника и то… А ты – про князя.
И он, пятясь, скрылся за кустом слегка зазеленевшей сирени, цепляя штакетинами ветки.
Дом, где проживал Кропоткин, все же отыскался. Девушка, стоявшая у открытых настежь ворот и читавшая в таком неудобном положении книгу, ответила неопределенно, но подавая некоторую надежду:
– Вы погодите, я сейчас узнаю.
Девушка исчезла, а Махно, ожидая, повернулся и увидел на противоположной стороне улицы красивый особняк, проглядывавший фасадом сквозь кусты и деревья. Это был знаменитый особняк князя Гагарина работы Бове, украшенный фронтоном с горельефами летящих гениев, покровителей рода.
Гениев Нестор принял за каких-то несущихся по воздуху людей и решил, что это изображения святых. Неистовый анархист сплюнул и подумал: «Гады, загнали нашего батьку Петра Лексеича в осиное гнездо. Нет, чтобы поселить в Кремле, со всем уважением».
В глубине двора, куда ушла девушка, у большого дома с мезонином стояли телеги. Одна была почти доверху нагружена добром. Другая ждала. И тут же стояли легкие дрожки. Возчики носили какие-то узлы, мебель.
Нестор догадался: Кропоткин уезжал в Дмитров. Уезжал к дмитровским аристократам и землевладельцам, дальним своим родственикам Олсуфьевым. Подобно другим «бывшим», их сильно уплотнили и урезали, отняв земли и усадьбы, но особнячок в Дмитрове пока оставили. Некогда славившиеся хлебосольством Олсуфьевы обещали седобородому «дедушке русской революции» тишину, хлеб, сметанку и молочко.
Но главная причина его отъезда заключалась в том, что дом на Новинском, где он занимал одну комнату, постоянно «трясли». Один за другим следовали обыски, как правило, ночные. И аресты. Пока временные. Логики в действиях новых властей было мало, а вот суеты много. Старик стал плохо спать, волновался, хватался за сердце и явно нуждался в покое. Но о каком покое могла идти речь в России в восемнадцатом году? Так родилась мечта о Дмитрове, где якобы было относительно сытно и тихо, потому что уезд отличался зажиточностью и относительно высокой грамотностью мужичков.
После возвращения из эмиграции весной семнадцатого года, почти одновременно с Лениным, Петр Алексеевич находился в состоянии перманентного ужаса. Это чувство возникло у него еще на Финляндском вокзале в Петрограде. Встречали его куда более радостно и пышно, чем вождя большевиков. Толпа была странная: почетный караул Семеновского полка вместе с полковым оркестром, министры Временного правительства, дамы с цветами, больше всего было рабочих, многие под черными знаменами, но в конце концов в первые ряды пробились анархистски настроенные матросы-балтийцы и от восторга стреляли в воздух.
Кропоткин на броневик не полез и сказал довольно короткую речь о необходимости социального мира, взаимопонимания и союза сословий ради победы. Мир с Германией – хорошо, но это будет означать поражение, а за поражением последует унижение и страшный братоубийственный хаос, а далее по логике вещей откат к диктатуре.
Анархист выступил против хаоса! Но он же высказался и против диктатуры! Против любой диктатуры. Только в единении народа видел князь залог победы, а вслед за победой, получив опыт социального единства, Россия двинется к безвластному устройству… Министры аплодировали, оркестр играл, в толпе плакали и восторженно кричали, морячки разряжали в воздух маузеры и карабины. Но Кропоткина это вовсе не радовало. Пахло грозой! То, что у морячков и рабочих было столько оружия, рождало дурные предчувствия. Как и благодушный вид растерянных министров, явно не имеющих навыков практического управления и улыбавшихся во все стороны. Позеры! Случайно выскочившие на сцену любители…
У старика были зоркие глаза.
Оттеснив всех, матросы понесли его на руках от вокзала до «Астории». Было очень неудобно и неловко. Слетели калоши, исчезла шляпа.
Чуть позже Петр Алексеевич видел, как те же матросики, вкупе с солдатами в шинелях с оборванными пуговицами и хлястиками, расстреливали или поднимали на штыки офицеров и просто тех, кто им чем-то не понравился.
Он перебрался в Москву, казавшуюся ему спокойной и благополучной. Грезилась ему почему-то Англия, зеленая, ухоженная, даже несмотря на войну, думалось о тред-юнионах, медленно, но уверенно, без потрясений завоевывавших социальные блага для рабочих. Он стал писать именно об этом, об английских профсоюзах и кооперативах, как бы не замечая происходившего в своей любимой России. Сам себе боялся признаться, что русский бунт, о котором предупреждал Пушкин, оказался не похож на его, Кропоткина, мечты и призывы, а великая анархия, прародительница общего счастья, обернулась грабежами, голодом, брошенными заводами и пустеющими полями. На что же была потрачена жизнь?
Жена с дочерью уехали в Дмитров осваиваться. Он заскучал, работа валилась из рук, и наконец тоже решил ехать и теперь бродил по гостиной, натыкаясь на стопки перевязанных бечевкой книг, чемоданы и узлы.
В гостиную вошла горничная Маша.
– Простите, ваше сиятельство, – сказала она. – Там у ворот какой-то человек вами интересуется. Явно не чекист. Похоже, приезжий, из Малороссии.
– Вы так считаете? – спросил Кропоткин.
– Я думаю, ваше сиятельство, что это кто-то из ваших поклонников, провинциал. Приехал увидеть и побеседовать, – ответила Маша, морща носик.
– А вот и не угадали. – Князь-анархист замахал руками. – Это, верно, Степан Васильевич прислал человека для помощи в погрузке. Я просил.
Петр Алексеевич не хотел принимать своих многочисленных надоедливых поклонников. Тем более в тысячный раз беседовать об азах анархизма. Он уже видел, что в России победили не большевики, победила русская бессмысленная, разгульная анархия, которую марксисты тоже взяли на вооружение: чтобы развалить армию и все, что составляло костяк державы. Затем последует укрепление власти победивших и искоренение анархии, ибо она несет лишь разложение и разрушение. Собственно, искоренение уже началось в самом прямом, расстрельном смысле. Ну и о чем же тут беседовать?
– Да, может, пришел от Степана Васильевича, – согласилась Маша, которая знала, что старик видит только то, что хочет видеть.
Махно вслед за Машей вошел во двор. Аллейка привела его к парадному подъезду, где он еще издали разглядел телеги и дрожки.
На крыльцо, заставленное всевозможными коробками, вышел представительный старик с окладистой белой бородой, с высоким лбом и львиной гривой, с пышными баками, ясно глядящими сквозь стекла очков глазами. Он указал возницам на большую продолговатую коробку:
– Этот поставец еще, пожалуй, поместится. Только оберните его чем-нибудь, одеяльцем, что ли!
Нестор понял: это Кропоткин! Ненавистник самодержавия, подхвативший черное знамя из рук Бакунина! Патриарх! Император от анархизма! Властитель революционных умов!
Проследив за установкой поставца, Кропоткин исчез в доме и тут же снова возник на крыльце. В одной руке он нес какой-то тючок, обернутый в старую шаль, в другой держал связку книг.
Махно, одолев робость, приблизился к ступеням. Снял с головы свою пролетарскую кепку.
– Здравствуйте, Петр Алексеевич! А я к вам по важному делу… Хорошо, хоть успел!
– Да-да, голубчик, успели! – пробасил старик Кропоткин. – Вы от Степана Васильевича? Знаю. Спасибо. Рук не хватает, а мелочей-то, мелочей! Держите! Это положите в дрожки!
Нестор отнес принятые из рук Кропоткина сверток и связку книг и бегом устремился по ступенькам крыльца наверх. Но оттуда пятился задом, преграждая ему путь, возчик, поддерживающий пианино. Второй, с другой стороны, едва не падая, толкал его.
– Ну-ка, подмогни, браток! – простонал он, обращаясь к Махно.
– Да-да, голубчик, подсобите, – попросил идущий следом за грузчиками Кропоткин.
Что делать! Махно вцепился в инструмент, подлез под черный корпус, пользуясь тем, что был небольшого росточка. И взял на себя основную тяжесть.
– Гляди, паря, – с облегчением выдохнул пятившийся мужичок, – ежли эфтот черный гроб привалит – надоть буде самделишний колотить… Пудов эдак-то… двадцать!
– Тащи! – теперь хрипел уже Нестор.
Поставили пианино на телегу, увязали. Махно сам проследил, чтобы инструмент закрепили хорошо. Подложил какие-то тряпки, чтобы в пути не поцарапать. Узлы затягивал от души. Если уж музыка нужна вождю для отдыха или для прилива сил в трудах, надо позаботиться.
– Крепкий ты! – похвалил его дмитровский, сворачивая самокрутку. – А по виду не скажешь. Хочешь до нас в хозяйство?
– Не голодаете? – спросил Нестор, расправляясь с последним узлом.
– Не, у нас не Москва. Покедова ничо. Земелька, правда, скудна. Огородничаем, извоз вот, торгуем. У нас, слышь, – он понизил голос, – у нас эти, эсера наверху в уезде. Справных мужиков не трогають, слава Богу. А баринков малость утесняют, это верно. Землицы нам привалило, рук не хватает: война. – Он перешел на шепот: – Только, слышь, гуторют, будто их большевики скоро к ногтю подберут! Ух, до чего ж эфти большевики строги! У нас на заставах коней намерились это… реквизицию… ну, забрать, в обчем. Хорошо, через Петра Лексеича у нас охранна грамота на перевоз. Да-а… Так не знаешь, будуть наших эсеров лопатить?
– Не знаю, – нахмурился Нестор. – А насчет анархистов? Как они?
– А эфти у нас только рази сбегшие матросики… Баламуты.
– Ладно, хватит разговоры разговаривать! – рассердился Нестор.
Он бросился в дом, отыскивая Кропоткина. Торопливо прошел в большую комнату с настежь раскрытыми дверями. Но здесь было пусто. Заметил сидящую на окне кошку, подхватил ее, вынес на улицу.
– Живность забыли. – Он передал кошку одному из возчиков. – А где ж хозяин?
– Эва! Так он уж покатил в дрожках на эфту… на Долгоруковску, а там через Бутырки на шашейку… Мы следом. Садись, до самого Дмитрова доставим.
Нестор, проклиная двадцатипудовое пианино и болтливых дмитровских мужичков, бросился к воротам, выглянул. Справа увидел удаляющиеся дрожки и львиную гриву Кропоткина, возвышающуюся над кузовком.
Догнал, задыхаясь.
– Петр Алексеич! Петр Алексеич!
Ухватился рукой за откинутый верх. Бежать стало легче. Старик уже плоховато слышал, и Махно крикнул почти в ухо:
– Петр Алексеевич!
Кропоткин взглянул на него сверху вниз, виновато улыбнулся.
Дрожки остановились.
– Ах ты! Совсем, голубчик, запамятовал! – сказал Кропоткин Нестору, не вылезая, однако, из дрожек. – Я ведь обещал Степану Васильевичу… – Он вытащил из кучи сложенных у его ног книжных связок один томик, легко разорвав шпагат. Достал из кармана чудо техники, новейшее изобретение заграницы, «вечное перо», блеснувшее на солнце стальным тяжелым корпусом, нажал на поршень, стряхнул куда-то в сторону жирную каплю чернил, что-то быстренько, ровным почерком написал, поставил замысловатую подпись. – Редкое издание, английское! Девяносто четвертого года… Заказывал в Лондоне, у Кантера. Пусть помнит старика!
Махно как завороженный следил за неспешными, но четкими движениями старика, похожими на священнодействие. Принял из его рук книгу, хотел что-то сказать, надеясь, что великий разрушитель, может быть, усадит его рядом и они поедут, сердечно беседуя, хоть до самого этого загадочного Дмитрова, а хоть и дальше!
– Трогай! – крикнул Кропоткин вознице, и дрожки помчались по бульвару, исчезли вдали в зелени садов.
Нестор посмотрел на книгу. «Великая революцiя». На титульной странице было малоразборчиво выведено: «Благодарю за участие, понимание, за общность мыслей!» И – красивая подпись, должно быть, хорошо известная анархистам. Кому – не написано. Может, из целей конспирации.
Нестор стоял посреди Новинского бульвара. Мимо него проехали нагруженные доверху телеги. И, невидимая среди узлов, тоскливо мяукала кошка.
В Союзе идейной пропаганды организовали настоящее пиршество. Собрались все. Помимо Сольского здесь были и Шомпер, и Аршинов, и еще несколько незнакомых Нестору анархистов. В центре стола, невесть каким трудом добытая, стояла бутылка вина в окружении хрустальных бокалов. Но главным украшением были аккуратно нарезанные ломтики хлеба и вобла, почищенная и разделанная на кусочки.
– Друзья, мы провожаем нашего верного друга… – торжественно начал речь Сольский.
– А может, обойдемся без пышных слов? – нахмурился Нестор.
– Нет уж! – не согласился Зяма. – Но я коротко!.. Ты избрал путь нелегкой борьбы во вражеском стане. Это героический поступок!.. Ура Нестору!
Анархисты-теоретики негромко, словно опасаясь чего-то, подхватили клич.
Выпив и вытерев губы газетой, Махно положил на стол книгу Кропоткина. Шомпер, библиофил, тут же вцепился в нее. Открыл обложку, прочитал надпись. Потряс гривастой головой, не веря своим глазам:
– Ты его видел? Беседовал? С самим?
Махно, насупив брови, ел бутерброд. Держал паузу, как актер. Шомпер, Сольский и Аршинов ждали. Нет, другой человек покидал Москву. Знающий себе цену. Самоуверенный. Неужели встречи с Лениным и Кропоткиным смогли так сильно его изменить?
– Два часа беседовали, – дожевав хлеб с кусочком воблы наконец сказал Нестор. – Великий старик! Важные вещи сказал…
– Ну!.. Ну!..
– На все вопросы такие полные ответы дал, я даже не думал! Принял как родного! Благословил…
За столом воцарилось молчание. Похоже, такого поворота никто не ожидал.
– Ну?
– Долго говорили. Он как бы между прочим наказал: «Помните, дорогой товарищ, шо революционная борьба не знает сентиментальностей! Действуйте самоотверженно, не зная жалости к врагам! В духе слов из этой моей книги!» И вот, подарил. – Нестор указал глазами на книгу.
– Так и сказал: «без сентиментальностей»? – ахнул Шомпер.
– Дословно! Это я на всю жизнь запомнил. Как клеймо на шкуре выпек. Много ще говорили, о разном. А на прощанье, уже на крыльце… ну просто до слез прошибло… Берегите себя, сказал, товарищ Махно, потому шо таких людей мало в России. Даже як-то неудобно было слышать такое про мою личность… Но сказал же! Прямо как наказ дал! Великий старик! Кремень! – Нестор встал, поднял свой бокал: – Я предлагаю тост за Кропоткина! За великого Кропоткина! – И выпил. – Ну, мне пора! Книгу оставляю вам на хранение, не хочу рисковать на границе… Провожать не надо! Прощайте, друзья! Ще, надеюсь, увидимся. Ще побываю в Москве!
И Махно стремительно вышел. Чтобы никогда больше не вернуться в столицу.
Некоторое время анархисты сидели молча, как будто чем-то придавленные. Лишь один Аршинов улыбался краешком губ.
– Коллеги, но ведь все это неправда! – наконец произнес Сольский. – Ну не мог Кропоткин наговорить такого! Старик потрясен реальным ликом революции, к которой столько лет призывал. Он теперь проповедует классовый мир, а не «безжалостность к врагам». Совсем недавно в кадетской «Свободе России» он призывал брать пример с цивилизованного английского рабочего движения.
Аршинов продолжал молчать. Все так же, слегка улыбаясь, он неторопливо листал «Великую революцию».
– Позвольте, – озадаченно сказал Шомпер, в возбуждении допивая остатки вина. – Но Махно ведь никогда не врал. Я был уверен, он не способен…
Сольский раздраженно обратился к Аршинову:
– А вы, Аршинов, что улыбаетесь? Что ехидничаете? Вам эта ложь доставляет радость?
Аршинов согласно кивнул: да, мол, доставляет. Объяснил:
– Друзья, это ложь во спасение. Случай не обмана, а самообмана. Нестору нужна была эта апостольская передача завета. От учителя к ученику. Для поддержки собственных сил. Для уверенности – после всех разочарований и сомнений.
– Да! Да! – вскочил в волнении Шомпер. – Да, я понимаю. Это – святое, святое…
– Махно разочаровался в нас, в наших речах и лекциях, – говорил Аршинов. – Он рвется в бой, а мы воевать разучились… или не умели. Этот придуманный им «завет» Кропоткина – укор нам!
– Да! Да! – продолжал волноваться Шомпер. – Нам надо было отправиться с ним… поддержать словом!..
– И дать повесить себя на первом же суку, – сьязвил Аршинов.
– Тоже верно, тоже верно, – заламывал руки Шомпер. – И ничем, ничем нельзя ему помочь…
– Да и я… – как бы укорил себя Зяма, – куда мне с семьей? Подлинный анархист должен быть свободен как ветер!
– Мы ему были бы обузой, – успокоил бывших сокамерников Аршинов. – И не судите его строго. Он увез с собой главное – «завет» великого анархиста. Эти слова скоро будет знать вся Новороссия, будьте уверены. И если Нестор уцелеет, мы о нем еще услышим! Я знаю этих хлопцев, в них еще бродит кровь запорожских козаков!
– «Он должен был родиться всемогущим или вовсе не родиться», – вспомнил, прикрыв глаза, Сольский.
– Да… – Шомпер почесал пятерней лохматый затылок. – Все понятно, все понятно… Удачи ему на его, возможно, очень нелегком пути! Опустошим же чаши, пожелаем ему счастливой дороги!
Он поднял «чашу» и попытался сделать залихватский глоток, но в «чаше» было пусто.
Медленно полз сквозь леса и перелески короткий поезд: три-четыре теплушки да пара старых, давно не крашенных скрипучих пассажирских вагонов. Густой дым тянулся за паровозом. На последней площадке покачивались фигуры кондуктора и охранника в полицейской шинели, но со звездой на фуражке.
В вагоне было тесно, душно, все заполнено дымом. Кашляли прокуренные мужики, кашляли обкуренные младенцы. Крестьяне, мещане, дворяне – все перемешались. Кто мешочничал, кто ехал менять последние ценности, кто от чего-то спасался бегством…
В этом вагоне был и Махно. Он скрючился наверху, давая место однорукому солдату, который сидел согнувшись, упираясь головой в багажную полку. Оба смотрели в окно, где сквозь космы паровозного дыма мелькали нищие деревеньки, унылые разъезды. Даже закатное солнышко не могло украсить пейзаж.
– Рассея! – вздохнул однорукий солдат. – Одно слово!
Покачивался, скрипел изношенный вагон. Тихо переговаривались пассажиры. Кто-то завтракал или уже обедал…
Приникло к окну семейство интеллигентов: благообразный средних лет мужчина, жена, постоянно оглядывающаяся и ждущая всяческих неприятностей, дочь, скрывающая милое личико под напуском старого платка, сын-подросток с выправкой кадета.
Неожиданно поезд, под тревожные гудки паровоза, резко затормозил. Остановился. За окнами послышалась беготня, крики, откуда-то снизу пополз черный густой дымок, завивался штопором у грязных вагонных окон. Запахло гарью…
– Ой, батюшки! Горим! – вскрикнула баба, сидящая на узлах.
– Слышишь, Петя? – забеспокоилась интеллигентка, испуганно поглядела на мужа. – Говорят, горим!
– Ну, горим… Все равно не выбраться, – флегматично ответил ее муж.
– Букса загорелась, обычное дело, – объяснил однорукий. – Тряпок с дегтем насовали, оно и пыхнуло.
– Деготь, он для телеги хорош, а тут машина, – отозвался какой-то мужичок. – Чуток постоим та й поедем.
За окном не стихали крики, ругань… Наконец поезд тронулся.
– Таких остановок еще будет и будет, – «успокоил» всех однорукий. – То рельсы разобраны, то банда налетит, то дрова кончились…
– Дрова, они для печки хороши, а тут машина, – опять не удержался «знающий» мужичок.
– О господи! – вздохнула «барынька». – Петя, это правда, что паровоз на дровах едет?
– Не знаю. Я мосты строил, а не паровозы… Время такое, что и на дерьме поедет.
Тихо плелся поезд, покачивался вагон. Революционные рельсы, кривые, давно не чиненные, не крепленные.
В сумерках зажгли фонарь: плошку с разбитым стеклом. Свету мало, чаду много.
Кругом жевали, курили, сплевывали на пол, сорили лузгой от семечек.
– О господи, – тихо вздохнула «барынька». – Обещали «международный вагон».
Нестор дремал на полке. Не в роскоши вырос. Грязи насмотрелся. Удобств тело не требовало.
За окном темно… Куда едет поезд? А черт его поймет! Машинист, может, и знает. А может, нет!.. Ах, революция! Красные банты, сладкие речи!
– Мам, я клопа раздавила… Фу!..
– Клопы не комиссары. Переживем! – буркнул в ухо дочери мостостроитель. – Главное, две комиссарские проверки уже прошли!
На маленькой станции Казачья Лопань, первой станции на Харьковщине – длительная стоянка. За окном – топот марширующих ног. Четкие военные команды. Выкрики на немецком языке.
– Что это?
– Казачья Лопань. Граница. Дальше уже Германия!
И в самом деле, вдалеке была видна табличка, установленная на столбике близ пути: «Дейч Фатерланд»…
– Боже мой… Германия! И где? Под Харьковом! – ахнул мостостроитель.
– Перевирка! Перевирка! – В вагоне появился какой-то железнодорожный чин из новой украинской власти. На фуражке кокарда, удивительная для пассажиров: трезубец и по сторонам два колеса. – Готуйте посвидчення… всё, що треба…
– Я не понимаю…
– А як що не розумиете, не слид було на Вкраину ихаты. Мы тепер незалежни, тому й вымагаемо, щоб вси державну мову зналы!
– Какой ты незалежный, если немцу жопу лижешь? – спросил Махно.
– Хто це сказав? Хто це сказав? А ну злазь!
Да откуда же узнаешь, кто сказал? Вагон – как мешок с картошкой. И сумеречно.
Чиновник быстренько просматривал документы. Возле интеллигентов приостановился. Внимательно прочитал строки в старом паспорте с двуглавым орлом. Помусолил еще какую-то бумажку. Потом, став строгим, официальным, спросил:
– Коштовности е? – И в ответ на недоуменные взгляды пояснил: – Драгоценности имеете?
Испуганная «мадам» протянула ему золотое колечко. Чиновник спрятал его в карман брюк.
– Прощению просим, – сказал он по-русски, – но наша держава молодая, нуждается в валюте. Сами понимаете, москали спокон веку грабили нас. – И улыбнулся: – Добро пожаловать на Украину! Украина – не Россия, голодать не будете!
– А перстенек, простить, пане, вы вкралы чи як? – в упор спросил у чиновника Махно со своей полки.
– Не твое собаче дило!.. Посвидчення! – рявкнул чиновник.
Махно протянул ему удостоверение и медицинскую справку, полученные в Москве.
– Народный вчитель… Так… В ликарни був. Сухотный?
– Ага, чахоточный. – И Махно кашлянул ему прямо в лицо.
Чиновник отшатнулся, вытер рот и усы платком.
– А ну выходь! – приказал он, пятясь и переступая через чьи-то ноги. – Выходь з вагону, бо зараз варту поклычу! Це ж ты мене ображав, жополызом обизвав?
Махно спокойно спустился с полки и вслед за чиновником пробрался к выходу из вагона.
На насыпи чиновник посвистел в свою игрушечную свистульку, подзывая двух вартовых с офицером во главе. Форма на них была синяя, с золотой окантовкой, за плечами карабины.
Чуть дальше виднелся немецкий патруль, тоже с офицером. Рогатые каски, кургузые, мышиного цвета мундирчики, поношенные сапоги с короткими голенищами. Но подтянуты, строги…
– Ось, пан хорунжий, – доложил вартовому офицеру чиновник. – Дуже пидозрила особа. По документу народный вчитель, а державною мовою володие погано… Шось тут не те!
Офицер стал внимательно рассматривать справку.
– Почему не знаете украинского языка? – спросил он, и стало очевидно, что и сам-то он его не знает. Видимо, из бывших офицеров русской армии.
– А як бы я его знав, когда девять рокив на царской каторге отбув? – спросил Махно. – Не то шо родной язык – родну маму забудешь.
– Девять лет? – переспросил пан хорунжий.
– Так точно. Вот, пожалуйста!
Махно закатал рукава, показывая багровые обручи на запястьях, вечную тюремную печать. Потом поднял штанины: там тоже были видны следы от кандалов.
– И туберкулез еще! – Махно закашлялся, но деликатно, в кулак. И все же офицер отступил на шаг.
– Ладно, ладно… – Он повернулся к таможенному чиновнику: – Ты что ж, сам не можешь разобраться, кто перед тобой? Борец за свободу Украины, жертва царизма!
Чиновник был явно скуповатый, не склонный «честно делиться». Видимо, он давно раздражал офицера, и теперь хорунжий был не прочь свести с ним счеты.
– Выбачайте! – извинился чиновник. – Помылывся.
– И пассажиров грабит, – оскалил зубы Махно. – Гляньте у нього в левому кармани…
Офицер быстро и ловко вывернул чиновнику карман. Из него выпали колечки, какие-то сережки, брошь, высунулись, не желая расставаться с теплым карманом, несколько ассигнаций. Ассигнации тут же попали в не менее теплый кулак пана хорунжего, а поднимать разлетевшееся золотишко офицеру было не с руки: наблюдая за этой сценой, к ним приближались немцы.
– Так-то ты бережешь честь молодой державы? – Офицер наотмашь ударил чиновника по лицу – к великому удовольствию Нестора.
Немцы подошли к месту происшествия. Офицер поднял драгоценности, спрятал их в свой карман, довольно улыбнулся:
– Репарацион… Гезетцмюссиг…[5] – Он ткнул пальцем в чиновника, как бы стреляя: – Пуф-пуф… Дер Шпитцбубе![6]
Нестор тоже был доволен. Отличные документы сделали ему кремлевские умельцы.
– Вы свободны… езжайте дальше! – Офицер варты возвратил Нестору бумаги.
Часть вторая
Глава пятнадцатая
Едва Нестор понял, что на станции Казачья Лопань, обозначившей границу новой России с новой, непонятной украинско-германской державой, он избежал крупных неприятностей, как тут же выяснилось, что дорожные передряги для него отнюдь не закончились.
Российский, «москальский», поезд, везущий возможные бациллы большевизма, дальше не пускали, а будет ли какой другой, хотя бы товарный состав до Харькова, никто не знал. А путь между тем не такой уж короткий – тридцать пять верст. Дежурный по станции, в «царской» еще фуражке без кокарды, хрипло кричал в медный, хорошо начищенный рупор, который поблескивал на солнце золотом:
– Громадяне! Шановни господа! Поезда до Харькова нема и, може, шо и не буде! Зато тут блызенько есть базар, де можно нанять подводу до Харькова… у кого есть гроши. Но торгуйтеся, бо цены дядькы заламують безбожни.
– А як грошей нема? – спросил кто-то из окружившей дежурного толпы.
– Тогда надо було дома сыдить, – прохрипел золоченый рупор.
Дежурный старался говорить на «державной мове», но это у него пока еще не очень хорошо получалось…
Солдатики с тощими сидорами на спине и крестьяне, у которых не было тяжелых клунков и мешков, решив топать в город пешим ходом, вереницей потянулись к шоссейке по вымощенному булыжником старому «московскому шляху», что лежал верстах в четырех от станции и вел к Харькову самым коротким путем. Но тут же прошелестел слух, что на их пути, возле Дементеевки, промышляет какая-то вооруженная шайка, которая грабит идущий пешком народец. На солдатиков, повидавших уже и горького и соленого, эта новость никак не подействовала. Махно тоже лишь слегка усмехнулся. Он знал: гуляйпольские мужики, занимавшиеся извозом, для привлечения пассажиров нередко распускали слухи о разбойниках, орудующих на пути в Екатеринослав. Впрочем, иногда слухи оказывались правдой…
Лишаться денег Нестору не хотелось. Вместе с мужиками, которые все же решили поискать какой-нибудь транспорт, он отправился в село неподалеку от станции. На базарной площади, пыльной, пахнущей конским навозом, Нестору удалось наконец втиснуться на длиннющую повозку, которую возница для удобства пассажиров несколько переоборудовал. Точнее, навалил на ее дно толстый слой соломы.
– Поедем тыхенько, панове, – утешил вислоусый возчик пассажиров, которые сидели в повозке, как куры на шестке, держа поклажу в руках. – Затратытесь трошкы, зато все ваше з вамы буде.
Махно улыбнулся. Он хорошо знал таких сноровистых возчиков. Они за проезд драли с людей три шкуры, а их сынки грабили тех, кто рискнул идти в город пешком.
По дороге, в каком-то селе, возчик поменял у «кума» выморенных лошадей на свежих. И за это собрал с пассажиров еще по два червонца. Ссориться с возчиком из-за дополнительной платы никто не стал. Отдали бы хоть последнее: кто же останется среди ночи на хуторе. Тем более что где-то шалили, постреливали.
В Харьков приехали лишь к утру. Отколовшись от попутчиков, Нестор побрел по просыпающемуся городу. Миновал центральный вокзал, на котором действительно не было ни поездов, ни пассажиров.
Пошел дальше. Нестерпимо засосало под ложечкой. Вспомнил, что уже больше суток ничего не ел. Но понял, что в городе, забитом беженцами из «голодного края» – России, ему поесть не удастся, а вот в поселочках близ города это было вполне возможно. Да и попутную подводу там найти легче.
Он шел вдоль железной дороги, надеясь на удачу. Вдруг поезд? Но вокруг было пусто. Два или три раза его останавливали патрули, состоявшие из украинских стражников и немцев, придирчиво проверяли документы.
Стало припекать, завлажнела, приятно холодя тело, рубаха. Да, это уже была не студеная Москва. А ближе к Гуляйполю станет еще жарче.
В дачном сельце Основа, близ волостного правления, Нестор увидел заведение, над дверью которого висела фанерка с корявой надписью на украинском: «Трахтiръ».
Народу, несмотря на раннюю пору, было здесь достаточно. К буфету выстроилась очередь. Буфетчица, пышногрудая украинка в вышитой сорочке, неторопливо прохаживалась между буфетной стойкой и ведерными кастрюлями. Нестор понял, что, если соблюдать очередь, ему здесь придется задержаться надолго. Высмотрев снующего по залу полового в фартуке, Нестор встал у него на пути.
– Не подсобишь, браток? – спросил Нестор и сунул половому в руку несколько украинских карбованцев. Прежде чем ответить, половой скосил глаз на бумажки. Деньги были оккупационные.
– «Землекопов» у нас не шибко уважають, – пренебрежительно сказал он, имея в виду изображенного на ассигнациях селянина с лопатой. – А царских нема?
Нестор показал несколько «красненьких» с портретом Александра-миротворца.
– Так в чем нужда? – оценив платежеспособнось посетителя, спросил половой.
– Побыстрее червячка заморить. Вторые сутки не жрамши, ноги не несут.
У полового были очки с выпуклыми линзами, сквозь которые мутновато и страшно глядели увеличенные зрачки. Он глухо покашливал.
– Сидайте от сюда. – Половой подвел Махно к стоящему в сторонке столу. – Я тоже, браток, газами травленный. Под Варшавой. Мы б выстоялы. Но на нас столько того яду напустылы. Потом мени сказалы: почти мильон хлопцев полягло на Северо-Западному фронти… А мени повезло, всего одне легке сгорело. Дохтора кажуть, ще года два проживу.
Махно уселся за стол.
– Держись, товарищ, – сказал он половому. – Держись, може, ще и вылечат. Щас новые лекарства есть. Ходят слухи, скоро люди до ста годов будут жить, а то й больше.
Фронтовик вздохнул и уже деловым тоном, но тоже почти в ухо, как своего, спросил:
– Шо заказывать будешь?
– А шо есть?
– Та все: яешня з шкваркамы, вареныкы, молочко топлёне, борщ з пампушкамы…
Нестор подавил голодную судорогу:
– Несы все!
Чуть позже, когда Нестор уже насытился и запивал вареники густым украинским компотом-узваром из сушеных фруктов, фронтовик в очках спросил:
– Только з Москвы?
Нестор даже поперхнулся:
– С чего ты взял? Я местный.
– Местни так не едять, – тихо заметил фронтовик. – Грошей нема. И говорка друга.
Махно рассмеялся. Конечно, документы его говорили о пребывании в московском госпитале. Но в родных местах он хотел походить на местного селянина. Не получалось. Он посмотрел вслед половому: своими очками инвалид напоминал ему несколько неуклюжего, но сообразительного Лашкевича. Эх, хлопцы, изверги, братья по духу, где вы сейчас? Что с вами?.. А вот двух кровных, родных братьев уже нет. Загубили их германцы да паны. Горюй, не горюй, ничего не изменишь. Только кровь закрасит беду. Большая кровь.
На станции он долго ждал хоть какого-нибудь поезда, идущего в его края. Но поезда не было. Ни в ту, ни в другую сторону. В тупике стояли несколько вагонов, и из них выгружали свои нехитрые пожитки пообнищавшие господа. Махно быстро смекнул, в чем дело. Вдали виднелись роскошные дома, хоть и с побитой местами черепицей, с облупившимися стенами. Да, почуяв твердую немецкую руку, прежние хозяева возвращались домой.
На платформе слышались радостные возгласы, смех, оживленные разговоры. Лаяли комнатные собачки, издали неотличимые от кошек. Визжали дети. Господа, конечно, тоже пообтрепались за время изгнания, подобно их дачам и виллам. И все же они чувствовали себя именинниками.
Ладно, паны и панночки, радуйтесь до своего часа. Черный будет час! Дуже черный!
Чуть поодаль, у пакгауза, на длинной грузовой площадке-рампе суетились грузчики, среди которых были и германские пехотинцы в бескозырках с красной выпушкой. Под наблюдением офицеров они таскали в вагоны мешки. В лучах щедрого украинского солнца золотилась, плавала едва заметная мучная пыль. Судя по тому, что пыли было немного, в мешках была хорошая пшеничная мука, крупчатка. В другой вагон грузили мешки с сахаром. Еще дальше – ящики, должно быть, с маслом или салом или еще с чем-то…
Если они вот так повсюду грузят в вагоны украинское добро для отправки в Германию, скоро в «трахтiрах» и корчмах не будет ни пампушек, ни борща с салом. Нестор сплюнул под ноги, подавляя ненависть, которая могла толкнуть его на необдуманный поступок. Ладно, грузите! Посмотрим, не подавится ли Вильгельм нашим салом?
Вдали виднелись порожние вагоны. Они стояли в очереди к пакгаузам, видно, были подготовлены для погрузки…
Дня через два, после целого ряда пересадок, порядком намучившись, но поддерживаемый радостью возвращения, Нестор высадился на железнодорожном узле Чаплино, верстах в пятидесяти от Гуляйполя. Дальше ехать поездом было опасно: народу в вагоны набивалось много, кто-то мог опознать. Наверняка по Нестору «скучали» и полицейские чины, и стражники, и всякие другие служивые. Да и среди землячков-гречкосеев далеко не всем придется по нраву прибытие Нестора в волость.
На площади возле станции пахло угольной крошкой, и на зубах начинало скрипеть. Рядом находилась шахта, где добывали каменный уголек. Люди кучками осаждали возчиков, которых и здесь, в отличие от былых времен, не хватало. То ли селяне опасались, как бы новые власти не мобилизовали коней, то ли, «подзаняв» в панских усадьбах упряжки, не хотели до поры до времени их показывать.
Нестор высмотрел стоящую чуть в сторонке от других пароконную тачанку и направился к возчику, седоусому, не совсем еще старому дедку, который сидел на передке, зажмурив один глаз, как бы нежась на солнышке. Его тоже окружили селяне, но дедок не обращал на них никакого внимания.
Винтом протиснувшись сквозь толпу к самой упряжке, Нестор взял кнутовище, торчащее над бортиком, и постучал по тачанке, как в дверь. Старик направил внимательный, умный, с хитринкой глаз на Нестора, словно прицеливаясь. После бесконечно долгой паузы, во время которой окружившие тачанку селяне притихли, старик наконец сказал:
– Сидай!
Люди возмущенно загомонили, когда Нестор уселся на заднее, отполированное задами пассажиров сиденье тачанки.
– А чого – вин? За шо така честь – без очереди? Твой кум, чи шо?
– Не бачишь, шо солдатик – инвалид, – хладнокровно ответил возчик и спросил у Махно: – Угадав? Вы, пане, инвалид?
– Инвалид, – подтвердил Нестор.
– Все слыхали? Человек – инвалид, – зевнув, бросил в толпу хозяин упряжки и, взмахнув кнутом, неожиданно громко выкрикнул: – А ну, расступись, народ!
Люди неохотно расступились. Тачанка тронулась. Только теперь Махно увидел, что у его возчика обе ноги отняты выше колен. Обрубки он вставил в специально приспособленный ящик с бортами и прихватил привязными ремнями, чтобы было удобно сидеть. Руки у возчика, как обычно у безногих, явно были сильные, и закатанные рукава рубахи открывали, помимо выпуклых мышц, замысловатые узоры татуировки. Не спрашивая, дедок направил коней на Ново-Михайловский шлях. Этот шлях, описывая дугу, выводил к Гуляйполю.
Такая уверенность возчика не очень понравилась Нестору, но он промолчал. Решил: когда подъедут к Большой Михайловке, можно будет разобраться, что это за гусь без лапок.
Возчик по-прежнему не оборачивался, не расспрашивал, куда и как ехать. Кони прытко бежали по пыльному шляху: видно, застоялись. Интересно, кого поджидал инвалид?
– А чего ты, дед, вдруг меня выбрал? – спросил Нестор, прервав молчание.
– Та так… якось… – неопределенно хмыкнул возчик, вожжами поощряя сытых коней к быстрому бегу. – Поглядел, вроде хороший человек.
– Я тоже так про себя думаю. А другие не верят, – весело согласился Махно. И немного погодя снова спросил: – А скажи мне, дед, как же ты с конями без ног управляешься?
– Ничого хитрого. У мене з конякамы восемь ног та две руки. А бильше и не надо!
– И что с тобою случилось, земляк?
– То длинна песня.
– Ну-ну…
Ехали еще с полчаса. Возчик иногда искоса украдкой поглядывал на Нестора, делая вид, что присматривается к колесам. Вдали, на самом горизонте, поблескивал синей краской куполок сельской церквушки, гребенкой торчали тополя. Милый сердцу пейзаж.
– Може, подскажете, пане, як тепер до людей обращаться? – спросил возчик, и в тоне его звучала усмешка. – Господин, пан чи гражданин? Чи, може, ще як? Може, товарыш?
– Ты мне зубы не заговаривай, – вместо ответа сухо сказал Махно. – Что ты все меня розглядываешь, как парубок девку?
– Замитылы, – удовлетворенно ответил дедок. – Шо-то вашая личность мени наче як знакома. Вроде я вас уже десь бачив…
– Не, – качнул головой Махно. – Я с других краев… А чего ты, дед, как-то по-чудному едешь: то шляхом, то полевкамы, то стежкамы?
– Я думав, вам – в Гуляйполе. А тут, понимаешь, на кажной версте заставы. Патрули. И цяя… варта, кол ей в печинку. Случаеться, вартовых убивають. Оттого воны злющи, як осенни мухы… Неспокойни у нас края. Фулигане хтось. – Безногий ухмыльнулся, явно довольный своими бедовыми земляками.
– А мне что! – беспечно сказал Махно. – Я мирна людына, учитель. Шукаю работу.
– Так вам не в Гуляйполе?
– Все-равно куды. Можно и в Гуляйполе.
– И справди вы вчитель? – продолжал допрашивать Нестора дедок. – Шо, и папир есть? Ну, документ?
– Все есть.
– Це совсем другой коленкор. А то тут до самой Гавриловки места не дуже надежни. И в Гавриловци тоже варта стоить.
– Подывымось.
– Лучше б, конешно, на неи не дывыться… Так, кажете, документы у вас справни? Тоди й через Гавриловку можно. А ни, так кущамы, тыхенько, на Вовчу речку, а там балкамы та плавнямы…
То ли инвалид беспокоился о ездоке, то ли его глодали сомнения, за того ли человека он принял своего пассажира, и хотел проверить, боится тот варты или нет, чтобы сделать свои выводы.
– Давай через село, – твердо приказал Нестор.
– То – як скажете. Но варта там клятая, – попытался еще раз вразумить пассажира дед. Но тот промолчал.
Возчик решительно кивнул и с полевки вновь выехал на пыльный шлях.
Вскоре они въехали в село. Улицы как будто вымерли. Посреди пыльного майдана, неподалеку от церкви, была сооружена виселица. На ней покачивались пять трупов. На груди у каждого висела дощечка с надписью: «Der Rauber». И рядом перевод на украинский – «Розбiйник».
Поблизости сидели, скучая, двое стражников из варты, одетые в обмундирование царской армии, но с трезубцами на мятых фуражках.
Возчик медленно проехал мимо виселицы:
– Бачь, три дня висят, а их все охраняють. Бояться, шоб не втеклы, чи шо?
Один из стражников лениво поднялся, сделал жест: стой. Ездовой тпрукнул, оттянул на себя вожжи.
– Хто? Куды? – спросил вартовой.
Махно протянул ему бумагу.
– «На-род-ный учи-тель… Шепель…» – по складам прочитал стражник. – И куды ж це вы, пан учитель, держите путь?
– Та спочатку, може, в Туркменовку, а потом в Межиричи загляну. Роботу шукаю, шоб з хорошей хозяйкой та з харчамы.
– Це правильно, – согласился стражник. – Сперва харчи та баба, а потом вже можно й учителювать… А ты хто? Як призвище? – обратил он свой взор на возчика.
– Правда.
– Шо правда? – начал сердиться вартовой.
– Правда – то хвамилие таке.
– Шуткуешь? А документ е?
– Дывысь! – Возчик показал на коробку, в которой, прикрепленные ремнями, покоились обрубки его ног.
Стражник стал разглядывать. Зачем-то потрогал:
– Ой бо!.. А як же ты, диду, злазишь – залазишь?
– Як павук.
Стражник кивнул:
– Ну, езжайте!
Медленно проплыла мимо них виселица. «Der Rauber», «Розбiйник»…
– Шо ж то за разбойники? – спросил Махно у возчика.
– Та напысать шо завгодно можно… Селяны! Хто шо з панського маетка взяв, як свобода при Махнови була. – Он вновь коротко взглянул на Нестора. – Кажу, як свобода при Махнови була, може, хто коровку взяв, чи, може, не захотив цюю… репарацию германцям платыть, чи хто ружжо держав дома… Паны вернулысь, сильно недовольни. Землю, добро назад позабыралы. Штрафы. А не хочешь платыть – батогив всыплять… а то й повисять. Людына зараз стоить семь копийок.
– Чого це семь копеек?
– Стилькы, кажуть, держави обходыться один патрон.
– Что ж терпите?
– Хто сказав, шо терпым?.. Бувае, шо пан случайно сгорыть з усим своим добром. Чи мадьяры та германци исчезають. Пиде куды-небудь и не вернеться… Всяко бувае… – Дед Правда повернулся, в упор посмотрел на Махно: – Я б, добродию, на вашому месте от так через села не розъизжав! Бо документ – то документ, а тая… физиономия, то – друге. – Он усмехнулся в усы. – А чим блыжче до Гуляйполя, тым бильше солдатив и тых… як их… сыщикив…
– Ты хутор Терновый знаешь? – спросил Махно. – Може, и про Трохима Бойко шо слыхав? Чи живый?
– Та вроде живый.
– Ну, от и повернешь на Терновый!
Вскоре дед Правда свернул на полузаросший проселок. С лошадьми он управлялся ловко, почти не трогая ни вожжей, ни кнута.
Подъехали к тому самому хутору, куда лет десять с лишком назад Антони и Семенюта вместе с Махно и его хлопцами перевозили со станции оружие, купленное в Вене.
Постаревшего Трохима все еще было легко узнать: прямой, сухопарый. И казацкий чуб все такой же густой, хотя и слегка поседевший. Он возился возле ульев. Услышав стук копыт, скинул с лица сетку, пошел к калитке. Увидел Махно, замотал головой, словно не поверил глазам. Прослезился, засопел носом:
– А у нас тут всякие чутки ходили, будто ты помер чи расстриляли. А я всем казав: «Не верьте! У Нестора девять жизней, як у той кошки. Скоро явится!» И як в воду глядив!
Они обнялись.
Еще в дороге Махно понял, что безногий ездовой – правильный человек, свой. Видимо, за кем-то на станцию приезжал, но что-то не сошлось. Бесспорно, узнал его, но виду не подавал. Потому легко согласился подвезти. Нестор протянул ездовому ассигнацию.
– Ни! – отмахнулся дед Правда и не без значения добавил: – З вчителив не беру. Таки вчителя, як вы, добре нас учать. И, так думаю, ще будуть вчить! – Подмигнув Трохиму, он хитро улыбнулся и исчез в золотой пыли, подсвеченной заходящим солнцем.
Потом они с Трохимом вечеряли. Нестор был благодушен. Все как-то хорошо складывалось. И дедок Правда подъехал в нужное время на станцию, и человеком он оказался своим, и Трохим был на месте. И вокруг родная степь, на которую все падало и никак не могло упасть багровое, в легких облаках, необъятное закатное небо.
Жена Трохима, поставив на стол тарелки с едой, исчезла за ситцевой занавеской. Будто ее и не было.
Ели неспешно. Нестор спрашивал, Трохим обстоятельно отвечал. При этом Нестор осматривал небогатое убранство горницы. Обратил внимание на божницу. Свет лампадки теплился напротив лика Христа, а слева и справа от него висели еще две иконы. Впрочем, не иконы – портреты. Слева – бородатый Кропоткин, справа – Емельян Пугачев. Два из полдюжины портретов, которые когда-то по просьбе Нестора нарисовал доморощенный гуляйпольский художник дед Будченко.
– Что то за иконы у тебя в божнице?
– Та хто його… Той, шо в середке – Христос. А тех двох не знаю. Который слева, кажуть, Николай Мерликийский – спаситель на водах. Когда кипятком ошпаришься чи ще шо – дуже помогае.
– Тебе помог?
– Мени – ни, а Мотря пробувала. Веришь – не, враз болячку як рукой сняло!.. Це когда комунарив з имения пана Данилевского выганяли, я ци иконы прыхватыв. Не пропадать же добру. И опять же подумав: если пану таки святи допомогалы, то, може, й нам з Мотрею кусок счастья кинуть.
– Дурненькый ты, Трохим! Тот твой Мерликийский – первейший анархист и революционер Кропоткин, а тот, что справа – бунтовщик против царя Емельян Пугачев.
– От ты господи!.. То-то, я думаю, вже сколько в хате высять, а счастья не прибавилось.
– А кто ж тебе его даст, счастье? Сами, своимы рукамы добывать будем. У тебя хоть какое оружие осталось?
– Трохы! Пара «манлихеров», револьверы, бомбы. Все смазанное, все в сухому. И ще есть новенький германський карабин з подсумками на сорок патронив.
– Откуда новый?
– Та був я тут на Вовчий речке. А немец пидъихав коня напоить. Так я його так ласкавенько – виламы. Не успел и ойкнуть.
– Коня-то хоть сообразил не брать?
– Коня одвив верст за пять. Там того германа и шукалы… Ну, шо, Нестор Ивановыч, визьмем по карабину, по бомби, та трошкы полоскочем германа? Чи пана якого?
– Позже. Мне еще надо в Гуляйполе наведаться.
– Не совитую! Узнають – зразу ж повисять. Тебе там давно ждуть.
– Бог не выдаст, свинья не съест… А може, и не узнают.
Катилась по степной дороге бричка. Трохим за ездового, а сзади сидела молодичка, а может, и панночка или жена богатея: симпатичная, чернобровая, в цветастом платочке, в красных сапожках. Веселая. Беспечно лузгала семечки. Такая общая народная беда – что дождик: молодость-то одна, невозвратная.
Проехали мимо взвода австрияков или немцев. Солдаты приподнимали каскетки, бескозырки с красными околышами, что-то выкрикивали, ржали…
– Маете успех, – не оборачиваясь, произнес Трохим.
Кони были в мыле, но вот уже показалось знакомое село, тополя, сады, не дышащие дымом заводские трубы. И надпись у шляха в странной немецкой транскрипции: «Гулеполедорф»…
Замелькали приземистые окраинные хатки Гуляйполя. Потом потянулись каменные постройки с железными крышами. Кое-где по улицам прохаживались вартовые. На бричку – никакого внимания. Ну, едет молодичка с батькой – пускай себе…
Немецкие солдаты, правда, улыбались, здоровались. От них, разогретых здешним жарким солнцем, исходил чужой запах. Чужое сукно, чужие ремни, чужой пот.
Промелькнули еще две-три улицы. Нестор не узнавал своего села. Почти не видно было жителей, лишь чужие солдаты бродили по улицам да виднелись чужие вывески на чужом языке…
Трохим попридержал коней возле низкой, крытой серой соломой хатки. Тын. Глечики на кольях. Маленькие «вмазанные» окошки. Полуголая чумазая ребятня в количестве доброго цыплячьего выводка, бегающая по двору… Все говорило о бедности, о безысходности быта.
Завидев замедляющую бег бричку, малышня с любопытством приникла к тыну. Разглядывали не столько ездового, сколько нарядную барышню.
– Карпова хата. Тепер оны все тут живуть, в куче, – сказал Трохим. – Вси Махны.
– Знаю… Езжай чуть дальше. И сверни в глухой переулок.
Когда бричка остановилась в конце огородов, на пустыре, Нестор велел Трохиму:
– Скажи Евдокии Матвеевне, пускай выйдет. Мол, какая-то барышня весточку от Нестора привезла…
Босая Евдокия Матвеевна не шла, бежала по безлюдному переулку. «Барышня» пошла ей навстречу.
Евдокия Матвеевна еще издали стала всматриваться в «дивчину». Остановилась. Вытерла концом платка лицо и снова вгляделась в приближающуюся к ней незнакомую и в то же время до боли знакомую гостью.
– Сук-кин ты сын, Нестор! – сердито вскрикнула она. – Не можешь як люды! Все з фокусамы! – И тут же перешла на причитания: – Боже ж ты мий, Боже! Звидкиля ты взявся? Шо за одежа? Опять театры? А казалы, тебе десь пид Ростовом убылы. Яка чортяка тебе туды занесла?
– И в Ростов занесла, и в Царыцын, и в Москву, – сказал Нестор, обнимая мать. – Но я ж Нестор. Як наш поп говорив, «всегда возвертающийся додому»!
– Ой, не вспомынай отця Дмитрия! То твий велыкый грех. А от тебе и на нас посыпалысь несчастя.
– Пустое, – нахмурился Нестор. – Хто теперь счасливый? – И удивленно спросил: – А як вы меня узнали?
– Матерынски очи можно оммануть, а серце – ни! – Она вновь набросилась на сына с упреками: – Чого ж в хату не заходышь? На задвирках з матирью зустричаешься!..
– Тихо, мамо! Тихо! Там невестки, дети. Разговоры по селу пойдуть. До беды могут довести! – Нестор перешел на деловой тон: – Про Омельяна, Карпа все знаю. А де Савва, Григорий?
– Савва в Катеринослави, в тюрьми. А Гришка недавно вернувся, десь по хуторам ховаеться, бо його ловлять. Всих Махнов хочуть снычтожить!
– Каменюка им в печинку! Чого захотилы!.. Про Настю никаких слухов, мамо? Про дитя?
– Ничого… Як водою змыло.
Нестор помолчал. Пришедший за Евдокией Матвеевной кот терся о его красные козловые сапожки. Где-то призывно мычала корова. Шелестели на легком ветерке листья. Простой, прекрасный и навсегда утерянный мир!
– Не знаете, кто с нашых хлопцев сейчас в Гуляйполи?
– Та хто ж тут буде? Десь ховаются… Тилькы того вашого, шо в очках, бачила. Тимоша Лашкевича. Його варта не трогае, вин инвалид. В чорных очках ходе.
– Мамо, найдить его, скажить, пусть сообщит всем, с кем держит связь, шо я вернувся, шо я в Терновому у Трохима Бойка. Там мене найдуть!
– Никуды я не пиду, ничого никому переказувать не буду! – заупрямилась мать.
– Пидете! – уверенно сказал Нестор. – Потому шо иначе останусь я один. Не с кем мне будет од варты отбиваться!
– Пиду, – вздохнула мать.
– Ну, прощайте, мамо! – Нестор приник к ней, поцеловал. – Спешу! – И протянул ей пачку денег. Тех самых, кремлевских: – Возьмить!
– Крадени?
– Добри люди далы. Хороши гроши, чистые. Берить! Толькы тратьте потихоньку, незаметно!.. Може, коровку купите? Он сколько детлахов в дворе, все худые и бледные.
И Нестор торопливо, не оглядываясь, словно боясь расчувствоваться, пошел к бричке, на ходу ловко поправляя хустку.
– Трогай!
Прислонившись к дереву, чтобы не упасть, мать горестным взглядом провожала скрывающуюся за углом бричку.
Глава шестнадцатая
Услышав скрип колес и топот лошадиных копыт, Трохим вышел из хаты.
Гости! В бедарке за кучера восседал молоденький красивый парубок Юрко Черниговский, который бегал по поручениям своего кумира Нестора Махно еще во времена коммуны в усадьбе Данилевских. Рядом с ним – Тимош Лашкевич. Солидный, серьезный, в черных очках, с портфелем.
– Хозяин! Слыхав, ты мед продаешь? – спросил Лашкевич.
– Здравствуй, Тимош. Сто год не встречались. – Они поздоровались. Лашкевич настороженно оглядывался. – Не гляды по сторонам. Чужих нема. Заходь в хату, поторгуемся, – усмехнулся Трохим.
– А ты, Юрко, походи кругом, – сказал пареньку Лашкевич, спрятал черные очки в портфель, а вместо них надел обычные, с толстыми стеклами, и вошел в дом.
В хате Нестор и Тимош обнялись. Лашкевич именинником глядел на друга подслеповатыми, слезящимися глазами.
– Ну, рассказывай! – нетерпеливо, с места в карьер перешел Нестор. – Где кто из хлопцив? Чи сохранилось хоть трохы оружия?
– Ну… Федос Щусь тут. Он теперь атаман. Собрав отряд. В плавнях ховаются, на Днепре. Бувае, нападают на почту, на банки, на панив. Ну, ще на австриякив, шо по одному до наших баб шастають. У нас тут по-большости австрияки, та тии… мадьяры чи венгры. Немци – в Катеринослави. Так шо нам трохы легше…
– Федос, говоришь, атаман? – помрачнел Махно. Старое соперничество продолжалось. На угощения, что выставлял на стол Трохим, собеседники пока не обращали внимания. – И кто ж из наших подался до Федоса?
– Та хороши хлопци. Сашко Калашник, Сёмка Каретников и ще багато гуляйпольских, новых, ты их и не знаешь… чоловик сорок… Надо нам до ных подгребать. Ветер туда воду гонит.
– Ветер и навоз по воде гонит. Мы свой отряд создамо… Кого из наших можешь найти?
– Ну… Сашка Лепетченка, Григория, твово брата, Марка Левадного… и тых хлопцив, шо з Московського полка.
– А шо, они тут? Не вернулись в свою Московию?
– В приймах у наших баб. Гуляйпольски бабы, сам знаешь… дуже сладки.
Махно все больше хмурился. Лашкевич нечаянно, не подумав, напомнил о Насте. Даже известие о Московском полке нисколько его не обрадовало. Налил по стаканчику себе и Лашкевичу. Выпили.
– Про Настю ничего не слыхав?
– Ничого, – отвел глаза Лашкевич. – Тишина.
Махно еще больше помрачнел. Но надо дела делать. Тем более что известие об отряде Федоса Щуся подействовало на него как красная тряпка на быка.
– Свой отряд создамо, – повторил он решительно. – Где б нам собраться?
Лашкевич побарабанил пальцами по своему потертому портфелю.
– В Гуляйполи нельзя, – сказал он.
– Это понятно…
– Чого думаете? – вклинился в разговор Трохим. – Тут и соберемся. Сюда, в Терновый, з весны нихто не наведувався. Ни немци, ни варта, ни друга яка чертяка. Хиба шо вовкы… Да, ще якись гетьманци недавно появылысь.
– Какие еще гетьманцы? – удивился Нестор. – Откуда гетьман?
– О-та-та! – развеселился Тимош. – Ты шо, газет не читаешь?
– Я в дороге уже больше недели.
– За цю недилю власть як раз и изминылась. Була ця… Центральна рада и так звани социалисты при них. Эсеры. А сейчас германци гетьмана поставылы. И все чин чином. Даже выборы якись устроилы.
Махно задумчиво спросил:
– Ну и какая разница: гетьман чи эсеры?
Лашкевич потер руки. Салом не корми, дай поговорить про политику.
– Разница, як я понимаю, така. В Ради все ж такы булы социалисты-революционеры. Ну, хоть по названию. А гетьман Скоропадськый – генерал. Из панов, багатющий помещик. В Раде командував армией. И як став гетьманом, разогнав всех социалистив-революционерив к чортовий матери. У нас тепер уже не республика, а Украинська держава. Землю приказано вернуть панам. Ну и скот, плуги, словом, все, шо бедняки тоди взялы.
– Ну и ну! – покачал головой Махно. – Беда им, этим придурошным гетьманцям будет. Загудит народ, как у Трохима улей.
Хозяин хутора согласно кивнул. Он-то знал, что бывает, когда разозлятся пчелы. Пчела себя не щадит: жалит, хотя, возможно, и понимает, что погибнет.
– Но и це ще не все, – протирая вспотевшие стекла очков, моргая ставшими какими-то беспомощными глазами, продолжил Лашкевич. – Теперь кажный двор должен сдать птицю, хлеб, мясо, масло в пользу Германии. Репарация называется.
– Облютеет народ, – бросил Нестор. И подумал: это хорошо. Чтоб нашего брата-хохла крепко расшевелить, надо горячий уголек в задницу вставить. Иначе и рукой не двинет. А из-за репараций, это уж точно, поднимется. Не упустить бы только время. А его на раскачку практически уже нет.
Махно решительно встал. И Лашкевич поднялся следом.
– Не по-людски, не по-украински таке, – заметив нетронутые закуски, проворчал Трохим. – Даже холодца не тронулы!
– Другим разом. Будет у нас ще праздник, Трохим! – ответил Нестор.
Провожая Лашкевича, он вышел во двор.
Юрко, увидев Нестора, соскочил с бедарки, вытянулся.
– Доброго здоровьичка, Нестор Иванович! – радостно заулыбался он.
Махно присмотрелся к парубку. Тонок, удивительно красив был этот смуглолицый хлопец в свои семнадцать.
– Ну, Юрко! Растешь ты на страх девкам! – сказал Махно и обнял своего бывшего «адьютанта».
– Ты, Нестор, только не сильно пока высовывайся. Не геройствуй! – прощаясь, попросил Лашкевич. – Не баламуть раньше времени уезд! Карателей набежит – куча!..
– От и хорошо.
– Надо бы тышком-нышком. Пока свои силы не соберем в кулак.
– Тышком-нышком мыши бегают, а мы ж не мыши… Езжай, «булгахтер»! Делай свое дело!
Юрко с восторгом смотрел на своего кумира, за которого, кажется, готов был отдать жизнь. Стегнул смирную лошадку. Тихо покатилась бедарка по поросшей муравой дороге, как по облаку, не поднимая пыли…
С утра начали прибывать гости. Первым, в рассветных сумерках, пришел Сашко Лепетченко. Встречал товарищей Нестор.
Увидев Сашка, обрадовался. Пошел навстречу. Обнялись.
– Ожидали мы тебе, Нестор! – возбужденно заговорил Сашко. – Тут таке кругом… немци, гетьманци, австриякы. А мы сыдым, каждый в своей норе. Ждем. Чого?
– А до Федоса чего не подался?
– Не знаю. Не по нутру.
– Что так?
– Грабыть не по нутру. Хочу понимать, в кого стреляю, за шо убиваю. Не за барахло, не за золоти перстенечкы…
– Помудрел ты.
– Время таке. Вси быстро мудреють.
– А Иван чого не пришел?
– Немае Ивана. Як пишов тоди – и сгинув… Хтось слыхав, будто он до цыган прибывся. Не верю. А ще слух пройшов, шо в Катеринослави його бачилы. В скуфейке, в подряснику. Будто бы в монастырь подався. А в якый, куда – хто знае?
– Всякому своя дорога, – задумчиво сказал Нестор.
И вот их уже человек тридцать собралось. Курили, разговаривали, спорили. Здесь были и брат Нестора Григорий, и Марко Левадный, и вояки Московского полка, надолго застрявшие в Гуляйполе в приймах: прапорщик Семёнов-Турский, пулеметчик Корнеев, второй номер Грузнов, ефрейтор Халабудов и застенчивый веснушчатый солдатик Ермольев. И еще хлопцы из прежней махновской «черной сотни», и конюх Степан…
Нестор подходил к каждому. С кем здоровался за руку, кого обнимал…
А чуть позже все расселись в садочке под вишнями, и Нестор отчитался перед ними:
– А после Ленина, як получил документы та поддержку, пошел я до нашего батька, до вожака всемирной анархии Петра Лексеича Кропоткина.
– До самого? – в один голос ахнули Сашко Лепетченко и Григорий.
А Трохим, услышав, вынес из хаты портрет Кропоткина, приспособил его на вишневом стволе.
Нестор за эти годы научился ораторствовать. Он мастерски, где надо, повышал голос, делал длинные паузы, чтобы дать слушателям осмыслить сказанное. И все завороженно смотрели то на него, то на портрет Кропоткина, который, как добрый святой, обозревал и благословлял собравшихся.
– И что я вам скажу, браты мои, – понизив голос до доверительного шепота, говорил Нестор. – Шибко я боялся! Ну что я за человек для Кропоткина? Я же – о! – Рукой Махно достал землю. – А он – о! – Рука ушла вверх. – Все страны прошел. Книжок написал больше, чем я вареников съел… – И, приостановив пальцем смешок, закончил патетически: – Он приняв из рук самого Бакунина революционну саблю свободы!..
Солдатики бывшего Московского полка открыли рты. Об анархии они пока имели самое общее представление: делай что хочешь, горячая баба под боком, еды от пуза. И никто тебя не трогает – воля! А тут еще революционная сабля! Что оно такое? Может, как булава у гетмана?
– Человек он оказался необыкновенный, редкостной душевности, – продолжил Махно. – Чтоб не збрехать, часов пять беседовали. Самовар чая выпили… ведерный. Обо всем расспросил. Об каждом из вас, моих соратниках. Одобрыв! И сказав самое важное… Сказав: «Не могу вам, товарищ Махно, советовать, ехать вам сейчас на Украину чи ни. Бо сильно там опасно! Сами решайте. Но если поедете, то знайте: революция не терпит сентиментальности». Это, конечно, по-ученому. А по-нашому, по-простому, это значить, что надо сничтожать оккупантов, гетьманцев, панов и другую всяку сволоту под самый корень! Крови не бояться! Жизни не щадить! Ни вражей, ни своей!
Все более пронзительным становился взгляд Махно. Он и сам уже искренне поверил в то, что такая встреча произошла, и как бы заново переживал ее.
– А на крыльце, когда прощались, обнял он меня и сказал… – Нестор потупил голову, как бы не решаясь передать последние слова вождя. Вздохнул: – Даже неудобно пересказывать, но Петро Лексеич сказал на прощание: «Берегите себя, потому шо таких, как вы, людей мало. Вождем угнетенных станете!»
Он покачал головой, как бы не веря в эту оценку, и присел на лавку. Задумался. В наступившей тишине все смотрели теперь уже не на портрет Кропоткина, а на Нестора, на глазах которого еле заметно сверкнула слеза.
– Так что прикажете делать? – наконец спросил прапорщик Семёнов-Турский. Он, хоть и бывший офицер, был из «простых» интеллигентов. Военному делу обучен хорошо, а вот насчет политики – «не письменный».
Махно не сразу пришел в себя. Трудно было ему после воспоминаний о встрече с Кропоткиным перевести разговор в русло будничных дел.
– Организуем отряд. Большой. Може, в сотню, може, в тысячу человек, – мечтательно сказал он. – Но при командире будет только ядро. Остальни – тихо, до сигнала, сидят по своим хатам. По сигналу все собираемся. Бой! И расходимся!.. По селам пустим слух, что люди тут видали Махна. И там. И там… Пусть гоняются. Селяне будут держать для нас свежих коней. За все отблагодарим. Но главное: нам нужна форма. Офицерска, гетьманской варты, рядовых. Всякая… Скоро они нагонят в наш уезд этой варты – искать нас. А мы меж нимы, как щука меж водорослямы. – Его рука изобразила этот извилистый и быстрый путь. – Какие будут предложения?
– Вдарить по варте и снять з ных форму! – сказал Марко Левадный.
– Вдарим, но немного попозже. Потому шо нема у нас сейчас ни сил, ни оружия для настоящого боя, в лоб.
– У пана Резника четыре сына в офицерах гетьманской варты. На ночь приезжають додому. У их дома циеи одежи, як навозу! И охрана там – гетьманци, – сказал худой, как держак лопаты, селянин. – Тут недалечко. Верст сорок. В Осокорах…
– О! – обрадовался Нестор. – И панов пощекочем, и формой розживемся. Только ж операцию надо хорошенько продумать. Она должна быть с заковыкою. Хитрая…
По пыльной дороге ехал свадебный поезд. Гости, видимо, уже порядком подвыпившие, горланили песни. Здесь и Сашко Лепетченко, и Марко Левадный, и Григорий, и бывшие вояки Московского полка…
«Невеста» – Юрко Черниговский – был в нарядной юбке-плахте и в такой же цветастой кофте, на которую набросили белую кисею. Весь нарумяненный, с наведенными угольком бровями, усыпанный всякими травами и степными цветами, он сидел в тачанке в окружении дружков и «бояр». Через плечо у каждого – вышиванные рушники, в петлицах пиджаков свежие степные тюльпаны. Были в свадебном поезде и женщины, тоже наряженные, нарумяненные.
Пыль, гомон, гармошка, песни, смех….
В одной из бричек, которой правил бывший конюх пана Данилевского Степан, сидел Махно. Его тоже с трудом можно было узнать. В глубоко нахлобученной барашковой шапке, с козлиной бородой, с белыми бровями он казался совсем древним.
Нестор, который любил при случае блеснуть артистическими способностями и умением перевоплощаться, был, кажется, искренне рад веселью, словно настоящей свадьбе. На время он даже забыл, что последует за радостным оживлением.
Рядом с Нестором сидел Лашкевич, без портфеля. В руках он держал, по-видимому, икону: из-под рушников выглядывала только часть бороды и один глаз святого. Махно раздвинул рушники. С «иконы» на него глянуло лицо Кропоткина.
– У Трохима позычив, – объяснил Лашкевич.
– Молодец, – похвалил «булгахтера» Нестор. – Какая ж свадьба без иконы!
В небольшом хуторке, близ клуни расположился конный разъезд гетманской варты, подкрепленный полудюжиной австрийских «синих» гусар с карабинами и пулеметом в повозке. Гусары были очень красивы в своих доломанах с золотыми шнурами.
– Стий! – Немолодой усатый гетманский хорунжий с недовольством оглядел поезд.
Смолкла гармошка, оборвалась дробь бубна. Гусары потянулись к саблям.
«Невеста» незаметно полезла рукой под складки юбки, извлекла и поближе перепрятала револьвер.
Хорунжий отыскал взглядом самого старого и трезвого среди свадебных гостей – Махно. Подошел. Нестор отметил обновленную форму офицера гетманской армии, фуражку с незнакомой кокардой.
– Шо вы так не во время свадьбу справляете, диду! Серед лета! У нас, украинцев, принято осенью свадьбы справлять. А зараз же сама горяча работа в степу!
– Так девка наша… тое самое… хиба не понятно? – Голос Нестора прозвучал хрипло, по-старчески.
Офицер понимающе усмехнулся. Подкручивая ус, поглядел на «невесту».
– Ну и молодежь пишла! – укоризненно сказал он. – В церкву не ходять, старших не слухають! Не то шо в наше время!
– И не кажить, пан офицер!
Нестор никак не мог определить звание офицера. Все было по-другому, и его хлопцам предстояло еще это выучить. Вот на узеньких зеленых погонах один ромбик. Кто этот офицер по званию? Вроде бы прапорщик… или… Нет, надо знать точно!
Одна из молодиц подошла к офицеру с подносом и чаркой:
– Выпейте, ваше благородие, за щастя молодых!
Тот выпил. Махно выставил перед ним «икону»:
– Целуйте икону, пан офицер! Свадьба – боже дело!
– Шо за святый?
– Не угадуете?.. Мыкола-Мерликийськый, спаситель на водах.
– Добрый святый! – Офицер приложился губами к бороде Кропоткина, сняв фуражку.
Надо было бы побыстрее уезжать. Но торопиться нельзя. Свадьба на Украине – дело неспешное. Каждого встреченного по дороге следует приветить, угостить. Свадебный поезд расписания не знает. А иной раз попадаются такие гости, что и пригласить требуется, чтоб, не дай Бог, не обиделись, не сглазили, не наслали на молодых порчу.
Вновь забили в бубен, растянули гармошку, запели «весильную»: «Ой ходыла та Маруся по крутий гори, побачила селезня на тыхий води…»
Оживился хутор. Всюду за заборами возникли, как круги подсолнечников, лица любопытствующих. Офицер вспомнил о своих обязанностях. Достал из сумки пачку листочков, несколько штук отдал Нестору:
– Визьмить! Роздайте десь там, по дороги. Хай люди почитают!
Махно внимательно рассмотрел листок, где текст был на русском и украинском. Здесь же был и портрет, довольно плохо отпечатанный. Присмотревшись, Нестор узнал себя, только молодого, времен еще Александровской тюрьмы.
– «Имеються сведения, что в нашем уезде объявился опасный преступник и убийца, каторжник Нестор Махно…»
Та-ак, стало быть, кто-то уже узнал и донес!
Нестор стал читать дальше:
– «…Приметы: роста малого, слегка горбат, узкоплеч, руки длинные, глаза светло-карие. Вознаграждение за поимку или указание места пребывания – миллион карбованцев…»
– Читай, читай, дед! Може, де його побачишь та розбагатеешь.
– А скилькы дають? – поинтересовался Махно. – Сам-то я не сильно грамотный.
– Мильйон.
– Мильйон? За такого страшного разбойника? Маловато!
– Проезжайте! – рассердился офицер и обернулся к стражникам: – И шо за дýрни ци селяны! Сто рублив в руках не держав, а мильйон для нього – маловато!
Кортеж проехал мимо улан. Приняв по доброй чарке самогона, они довольно вытирали губы, ухмылялись, переговаривались, разглядывая симпатичную невесту.
Пыль скрыла и свадебный поезд, и гетманскую стражу…
К ночи они подъехали к имению пана Резника. Тихо подъехали. Все, что могло громыхнуть или прозвенеть, было тщательно обмотано тряпками.
Стрекотали сверчки. Где-то в глубине рощицы потягивал однообразную песню коростель. Дерк-дерк…
В имении светилось несколько окон.
Хлопцы залегли неподалеку от особняка, в траве. К Махно подполз в сопровождении Сашка Лепетченка парубок.
– Це Мыкола, работник у пана Резника…
– Говоры, Мыкола!
– Окно в тому крыле я открыв, тилькы штовхнуть, – прошептал он, указывая на край длинного усадебного дома.
– А стражники? – спросил Нестор.
– У флигели. Тамочки, де лампа горыть, – указал Мыкола. – В карты грають… Ну, я поползу, бо можуть позвать… – И Мыкола исчез.
Но вот погас свет во флигеле… Затем, одно за другим, померкли окна и наверху, в господских покоях.
Махно жестами распределил хлопцев. Одни тихо и незаметно подкрались к флигелю, другие – к господскому дому. На Несторе уже не было ни седых усов, ни бороды, а у дружек с плеч исчезли расшитые рушники. Свадьба кончилась.
– А что делать, если там малые дети? – спросил у Нестора Семёнов-Турский.
Махно насупил брови, немного подумал:
– Всех! Под корень!.. Надо, чтоб панов лютый страх взял!
– С детьми я не умею, – потупившись, сказал Семёнов-Турский. – Не учили меня… с детьми…
– Не бойся, москаль! – успокоил Семёнова-Турского Лашкевич. – Мыкола, работник Резника, сказав, шо пан ще в прошлом годе семью за границу вывез.
Семёнов-Турский отошел к телеге, достал из-под сена винтовку.
Стояла глухая тишина, лишь изредка нарушаемая сонным криком какой-то ночной птицы.
Но вот двое, по плечам сгрудившихся хлопцев, поднялись к полукруглому окну господского дома. Едва слышно проскрипела открываемая створка окна. Темные фигуры мягко переползли в дом. Одна, другая, третья, четвертая…
Несколько человек затаились под окнами флигелька.
И снова долгая тягучая тишина…
Но вот ее прорезали выстрелы.
В доме зазвенело стекло, должно быть, посуда. Крики, стоны, возня. Чье-то тело в белом исподнем мелькнуло в окне, вывалилось, с мягким стуком упало на землю…
И тут же, высадив окна, остальные хлопцы ворвались во флигель. В темноте едва была видна возня людей в белом, в белье, и других одеждах. Длилось все это недолго…
Махно вошел в дом в сопровождении «невесты» – Юрка, уже избавившегося от своего наряда. Споткнулись об чьи-то тела.
Работник Мыкола зажег в мезонине керосиновую лампу.
– Форму и оружие! И больше ничего! – коротко приказал Нестор.
Из темноты, поблескивая стеклами очков, выступил Лашкевич:
– Нестор, тут десь и гроши! И золото!
– Форму! – сердито повторил Нестор. – И поджигай!
– Ты ж не велел усадьбы палыть, – возразил Лашкевич.
– Теперь – война! На смерть война! Без этого… без сентиментальностей!
Хлопцы грузили в брички мешки с военной одеждой и амуницией, укладывали оружие, подсумки с патронами. Все делалось быстро. Вывели из конюшни лошадей, взяли седла, сбрую.
Марко Левадный забрал у Мыколы лампу и с силой бросил ее в угол мезонина. Вспыхнуло от пролившегося керосина высокое пламя, огонь набросился на шторы.
Нестор последним сел в бричку, лошади тронулись.
– Нестор Иванович! – Перед лошадьми возник Мыкола. – Як же я? Заберить до себе!
– Сидай, Мыкола!
Над усадьбой поднималось пламя.
А чуть свет, когда деревья и трава только начинали светиться от росы, в глухой балке, густо поросшей терном и гледом, отряд переодевался в форму гетманских вартовых. Скоротавшие часть ночи кто на телегах, кто на куче веток, сонные махновцы примеряли обновки..
– Чистеньке, не пробыте ниде, – поглаживая синие шаровары, заправленные в добротные сапоги, удовлетворенно говорил Марко Левадный.
Махно накинул на себя китель. Увы, одежда была велика. Погоны с двумя ромбиками свисали с плеч, руки утопали в рукавах. Только фуражка хорошо приладилась на крупной голове.
– От бес… – возмутился Нестор. – Нема подходящого офицерского. Это шо ж, в рядовые записываться?
– Заедем в еврейску колонию, – посоветовал Лашкевич. – Там таки портни, шо за час хоть генеральску одежу сошьють..
– Риск, – ответил Махно. – На какую-то варту можем напороться. А нам пока это не в масть: ни до одежи, ни до оружия еще не привыкли… Шо за одежа? Шо за звания?
– То значковый, – пояснил военный человек Семёнов-Турский. – Вроде поручика, по-русскому – капитан.
– Подходящее звание, – со вздохом сказал Нестор, отдавая китель Семёнову-Турскому. – А размер неподходящий. Тебе – в самый раз. Носи!
Наконец из кучи одежды Махно и себе подобрал кителек по размеру, но на нем и вовсе не было погон.
– Корнеев! – позвал Махно. – Ты – старый солдат. Иголка-нитка есть? Возьми у Турского погоны значкового и пришей их на мой китель. Я все ж таки в капитанах должен быть, а не то шо…
Хлопцы, привыкая к новой одежде, ходили между возами. Щелкали затворами карабинов. Посвистывали сабли, выскакивая и вновь входя в ножны.
Ржали кони, не привыкшие к новым хозяевам. Семёнов-Турский, уже в погонах «бунчужного», то есть фельдфебеля, горячил своего коня. Форма сидела на нем ладно, и сам он держался в седле легко и крепко.
Нестор, глядя на него, покачал головой:
– Все ж таки офицер – это офицер, ничего не скажешь. Хоть в каких погонах… Слушай, Лександр, поучи и меня чуток! Ну, шоб я тоже выглядел як положено… А то ще опозорюсь перед гетьманцамы!
Семёнов-Турский спрыгнул с коня.
– В седло! – скомандовал он Нестору.
Нестор быстро и ловко вскочил на коня. Умел с детства.
Но бывший прапорщик остался недоволен.
– Как садишься? – привычным командирским голосом осадил он своего ученика. – Как баба на корову… Спину прямо! Голову ровно! Еще раз!
Махно вновь выполнил процедуру.
– Уже лучше! Ножку, занося, не сгибать! С замахом, прямо!.. Еще раз!
Махно был послушен. Он повторял и повторял упражнение.
– Лучше! Еще разочков тридцать попрыгаете, пан значковый – и можно ехать… А ну честь отдайте!
Нестор поднес руку к фуражке.
– Так мух в хате ловят! – рассердился прапорщик. – Локоток на высоту ладони! Пальцы сжаты, ладонь – линейка… Повторить!..
Махно повторил.
– А теперь – быстрее, не думая! Поднес к виску и отбросил… как саблю! Еще раз!
Наблюдая за муками Нестора, Левадный не выдержал:
– Ты шо ж, охвицерская твоя рожа, кричишь на Нестора Ивановыча як на якогось ефрейтора?
Семёнов-Турский стушевался.
Но Нестор вдруг зычным голосом скомандовал:
– Отставить, Левадный!.. Ты тоже слухай, потому шо и на тебе форма какая-то… унтера чи того… подхорунжего, сидит як на корове… Пусть учит!
– Ладно, – согласился Левадный. – А я його научу, як на гуляйпольских баб заскакувать!
– Он тебя самого научит! – усмехнулся Лашкевич. – Он уже у третей в приймах… и кажный раз все помоложе да покрасивше…
Реготали хлопцы. Весело начиналось утро. Как будто и не было усадебной Варфоломеевской ночи.
Кровь с сапог и ладоней смыли внизу, в ручье. Где война, там и кровь – это они понимали.
Понимали также, что с этого часа начиналась настоящая война. Не на жизнь, а на смерть.
Глава семнадцатая
Уже брызнуло солнце, поднялся жаворонок. Легкое марево стлалось над полями. Воздух над степью, как над жаровней, быстро прогревался. Пахло пылью и подсыхающей травой.
Конные вартовые ехали при оружии, при саблях. На Несторе – погоны значкового. Приклеенные черные усики преобразили его, придали фатовской вид. Кони были почищены, накормлены. Вид у вартовых довольный. Хозяева края, если не считать настоящих хозяев – германцев.
Навстречу им двигалась телега, высокой горкой лежала на ней солома. Двое понурых украинских селян сидели, свесив ноги. Искоса посматривали на вартовых. На телеге в мешке верещал поросенок.
– А ну подождите, хлопцы! – скомандовал Нестор. Подскочил к повозке, осадил коня. Спина прямая, голова откинута, взгляд орлиный, голос зычный, низкий, с модуляциями, иногда восходящими к сопрано и выше.
– Кто такие? Куда направляетесь?
– Так что, пан офицер, везем менять поросят на зерно, – ответил селянин.
– Дурак ты, Грузнов! – своим обычным голосом сказал Махно. – Хоть бы брехать складно научился! «Поросят везем»! В мешке точно поросенок. Один. А под соломой шо?
Один из селян, и верно, был пулеметчик Московского полка Грузнов, его-то Махно и узнал сразу. Второй был Нестору незнаком, мрачный, с прищуренными глазами.
– Нестор Иванович! – радостно воскликнул Грузнов. – А мы глядим – варта! Думаем, как бы ноги подобру унести… Вторые сутки вас ищем. В Терновом были, в Камышанке тоже. С Новохатки еле утекли. Там варты – море. Говорят, этой ночью помещика пожгли. Мы так и подумали: ваша работа!
Вокруг собрались хлопцы. «Вартовые». Курили, смеялись.
– Так шо у тебя под соломой? Он как бугром выпирает! – допытывался Нестор.
– Известно что! Вас же искали! – Грузнов разгреб солому, и из-под нее выглянул спеленатый мешковиной пулемет «Максим». – Почистили, смазали…
– А это кто? – указал Махно на второго селянина.
Незнакомец слез с телеги:
– Фома Кожин, – представился он и, подумав, добавил: – Бывший первый номер пулеметной команды Самурского полка.
– Откуда сам?
– Считайте, шо местный. С Новоспасовки. С-под Бердянска.
– Анархист?
– У нас все село анархическое. Как шо – так за топоры, за вилы. Ну а на войне на пулеметчика выучился.
– Он пулеметчик от бога, – отрекомендовал приятеля Грузнов. – Глаз-ватерпас. Стреляет, как на гармошке играет.
– Сам видел?
– Не. Пока на словах.
– На словах я пальцем в жаворонка попаду, – указал Нестор на трепещущую в небе точку.
– Чувствую. У него талант.
– Проверим. Пулеметчики нам нужны. От только ж формы, хлопцы, для вас пока нету. – Нестор несколько мгновений размышлял. – Ладно! Пулемет обратно под солому. И пока будете ну вроде як наши пленные… Веревка есть?
– Та есть якась…
– Свяжите. Только узлов не делайте, не усердствуйте.
Поехали дальше в поисках боевой работы. Связанные «пленные» полулежали на соломе, визжал на всю степь поросенок. Лошадьми правил Халабудов в форме казака гетманской варты. И вовсе чудно выглядела среди этой кавалькады бричка с Лашкевичем, очки которого отражали все степные краски. Неизменный портфель был рядом, в руке вожжи.
На перекрестке Махно, протерев ладонью потное лицо, скомандовал ему:
– Вот что, «булгахтер»! Дуй додому, до Гуляйполя!
– Та я бы з вамы…
– Твое дело, Тимка, счеты, а наше – пулеметы… Займайся коммерцией, пополняй казну и получше смотри вокруг своими окулярами. Людей собирай. Скоро нам много людей понадобится. Только не всяких, а таких, шо умеют воевать и крови не боятся.
– А як з оружием? Оружия у нас пока мало.
– Оружие будет. Сколько надо, столько и будет… Словом, будешь ты в уезде нашим уполномоченным и нашими очами. Кто, где, что?.. А понадобишься – позову.
Разъехались. Поднималась прибитая утренней влагой пыль.
Как ни бескрайня эта степь, но не пуста она. Ехавшие впереди «варты» передовым дозором брат Нестора Григорий и Марко Левадный стремительно спустились с пригорка. Подскочили к Махно.
– Впереди отряд. Невелычкый, чоловек восемь. З офицером. Похоже, «гетьманци». Только не варта, а, видать, армия. Бо одежа зелена.
– Добро.
Два отряда – махновский и гетманский – сближались. Все медленнее и медленнее, сдерживая коней и пристально приглядываясь друг к другу. Впереди гетманцев красиво, по-гвардейски держался в седле хорунжий, видимо, из кадровых военных. И седло у него было гвардейское, удлиненное, тяжелое. Он напряженно присматривался к «варте», у которой, как ни старались хлопцы, был несколько расхристанный вид, за исключением разве что Семёнова-Турского.
– Кто такие? – спросил он у Махно, хотя по отношению к значковому, старшему по званию, такой вопрос был явным нарушением субординации. Нестор, хоть не до конца разобрался в новых званиях, все же это сразу понял по тому хотя бы, что у командира гетманского отряда на погонах было всего лишь по одному ромбику.
– Сперва представьтесь сами! – потребовал он.
Офицер поморщился, но военная выучка взяла свое. Рука взлетела к козырьку.
– Хорунжий армии гетьмана Скоропадського Зеленцов прыбыл… э-э… прыбув для… э… розшукив цього злочинця Махно! – Он с трудом осиливал «ридну мову».
Махно тоже, как учил Семёнов-Турский, вскинул руку к фуражке:
– Гетьманской державной варты значковый… – Он проглотил фамилию, получилось нечто похожее на неразборчивое «семьсят восемь». – Теж прибув для розшукив цией Махны та его бандитов…
– О, так мы союзныкы! – обрадовался хорунжий. – Это… э-э… це добре!
Юрко Черниговский едва сдерживал улыбку. Между тем «пленные» на всякий случай высвободили руки из пут.
– А вы… это… бачу, двох уже… э-э… затрымалы, – путался хорунжий в дебрях двух родственных языков.
– Тилькы шо схватылы. Ще й поросятко в плен взялы, – весело объяснил Нестор повизгиванье и похрюкиванье, доносящееся из мешка.
– А може, вы, пан значковый, уступите нам свинку? Для подарунка пану Данилевскому. Собирае всю уездну знать. И нас прыгласыв.
– Шо, у Ивана Казымыровыча якесь торжество? – удивился значковый.
– Не знаю. Прыгласыв – и все. Сказалы, шо-то дуже важне… А вы с ним знайоми?
– Та хто ж не знае пана Данилевского!
– А я с его сыном в одном полку служил!
Гетманцы расслабились, видя, какое у начальства получается мирное продолжение разговора. Закурили. Потягивались. Разминались после длительного конного пути…
– А то, может, вместе заедем? – Хорунжий уже окончательно распростился с мучительным для него украинским. – Отдохнем. Да и овсом для коней разживемся… А с этими что собираетесь делать? – Хорунжий указал на лежащих на телеге «пленных». – Не станете же возить их с собой? Зачем?
– Шо вы предлагаете?
– Да вон два подходящих дерева… э-э… простите, не расслышал вашу фамилию…
– Фамилия моя, должно быть, вам знакома, – ответил Махно. – Нестор Махно. Слыхали?
Хорунжий не сразу вник в смысл сказанного. Сначала ему показалось, что он ослышался. Или капитан пошутил. Но рука Махно, легшая на рукоять пистолета, убедила его, что происходящее – никакая не шутка. Он тоже схватился за кобуру, которая у него, по военному времени, не была застегнута. Но выстрел Нестора опередил его.
Прозвучали еще несколько выстрелов. Это Юрко Черниговский, Лепетченко, Левадный, Корнеев разрядили свои карабины.
Трое гетманских конников остались на месте, подняв руки. Лошади убитых, услышав выстрелы и почуяв запах крови, метались и ржали.
Поднявшие руки всадники очень быстро сообразили, что в живых их не оставят. Убивают не со зла, а по военной необходимости. Со зла и простить могут, а необходимость – штука стальная. И они, резко пришпорив коней, бросились в сторону, к спасительному леску, что желанным островком вставал верстах в двух от шляха.
– Утикуть, Нестор! – закричал Лепетченко. – Доложать же…
– Не втекут! – раздался голос Фомы Кожина.
Солома уже была раскидана, рыло «Максима» глядело в сторону скачущих, патронная лента – в приемнике. Грузнов и Кожин лежали за пулеметом, вытирая лбы, чтоб не мешали капли пота.
– Ну-ну, Фома Кожин, покажи, какой ты первый номер!
– На сколько шагов отпустить? – как бы лениво, сонно спросил Кожин, взводя тугую рукоять затвора.
– Ну, на полторы тысячи…
Кожин кивнул, выжидая, когда конные удалятся на должное расстояние, и закрепил винт горизонтальной наводки. Меж тем беглецы стали расходиться в стороны, пригнувшись и ожидая выстрелов в спину. Спасительный лесок был уже совсем близко, рукой подать.
– Уйдуть! – сдали нервы у Левадного. – Стреляй!
Кожин выжидал еще несколько мгновений.
– Руби дрова, – пробормотал он себе под нос и, поводя последовательно стволом «Максима», дал три короткие очереди. И было видно, как, пыля, перевертываясь, полетели наземь всадники.
– Сашко, Григорий! Скачите, хлопци, разберитесь. Если форма не подпорчена – снимить, – приказал Махно. И, глядя, как наметом помчались к лесочку хлопцы, негромко сказал пулеметчику: – Ну, Фома Кожин, быть тебе в нашей армии первым номером.
– А что, и армия будет?
– А шо ж за анархическая республика без армии?
– Это правильно.
– А к чему это ты сказал «руби дрова»? – спросил Махно. – Шо за дрова?
– Та пустое, – смутился немногословный Кожин. – Потом как-нибудь расскажу.
– Ну, потом – так потом… А шо, хлопцы, не проведать ли нам пана Данилевского? – озорно поглядев на своих бойцов, спросил Махно. – Приглашение было!
Имение пана Данилевского за короткое время господства немцев вновь приобрело былой блеск. Заново покрашено, вместо фанерок опять вставили стекла. Вечерний свет отражался в высоких окнах.
И ворота были новые, и варта у ворот.
– Стий! Хто таки? – спросил старший, с погонами чотового, унтер-офицер.
– А тоби повылазило? – гневно спросил у него Махно. – Карательна экспедиция, з самого Киева.
Даже издали было видно, что двор имения запружен нарядными панскими бричками. Кучера, ожидая хозяев, сидел на траве у флигеля и в своих черных фраках были похожи на стайку ворон. Блестел лаком и никелем единственный автомобиль, вероятнее всего, на нем приехал кто-то из высших германских чинов.
– Препрошую, а шо, пан хорунжий Зеленцов ще не прибув? – споросил Махно, проявив полную осведомленность.
– Не було! – ответил чотовый, убеждаясь, что прибыли свои.
– Располагайтесь, хлопцы, десь там у двори, отдыхайте. А мы проведаем Ивана Казимировыча! – обратился Махно к своим: теперь все они были одеты в форму варты, Кожин и Грузнов тоже. Спрыгнув с коня, он сказал чотовому: – Спытай пана Данилевского, чи прыйме вин представныкив карательной экспедыции з Киева. Скажи, значковый Мануйлов с командой.
Чотовый убежал, придерживая саблю, а Махно оглядел своих.
– Ты и ты, пойдете со мной, – сказал он Семёнову-Турскому и Левадному, на которых была унтерская форма. Затем приказал Григорию, Лепетченку и еще двум «гетманцам»: – Вам стоять вместе з ихней вартой у ворот! Всем, кого не назвал – ждать около парадного входа! И быть начеку!
В зале было много гостей. Публика собралась разношерстная: человек десять помещиков-латифундистов с женами, немецкий полковник в сопровождении лейтенанта, два офицера в форме гетманской армии и, конечно, сам пан Данилевский в черной черкеске с «газырями» – дань давнему военному прошлому. Кресло рядом с ним пустовало.
Одетые в украинские вышитые косоворотки и опереточные шаровары слуги стояли рядышком у стены.
– Иван Казимирович! – обратился чотовый к Данилевскому. – Начальник карательной экспедиции, значковый Мануйлов в сопровождении командиров.
– Просы!
Махно и его сопровождающие вошли в зал, лихо отдали честь. Особенно залихватски это получилось у Нестора. Они оказались довольно близко от хозяина.
– Здравствуйте, господа! – Данилевский сощурился, приглядываясь к Махно: его уже длительное время подводили глаза. – Прошу сидать!
Рассаживались.
– Господа! – тихим и совсем не праздничным голосом заговорил Данилевский. – Я хотел собрать вас по радостному поводу, но… вынужден несколько отложить торжество. Произошло событие чрезвычайной важности… Слухи, которые вот уже столько времени тревожили общество, подтвердились: в Екатеринбурге большевиками расстрелян царь и его семья! Зверски убиты почти все Романовы!..
Присутствующие зашумели: весть произвела впечатление.
Данилевский поднял руку, прося тишины.
– Об этом печальном факте мне вчера сообщили телеграммой… Я знаю, не все мы монархисты. И речь не о царе. Царь предал нас, он отрекся от России. Бог ему судья. Но убивать безвинных детей… – Данилевский взял со стола большую фотографию, поднял ее над головой. На ней были дети императора – все пятеро. – Их-то за что? В чем они провинились?.. Михаил Александрович, известный либерал, желавший дать свободу Украине – его за что?
Он умолк, давая всем прочувствовать всю трагичность произошедшего.
Немецкий лейтенант, наклонившись к уху полковника, быстро переводил.
– Все эти эсеры, эсдэки, большевики, анархисты и кто там еще? – продолжил Данилевский. – Этим расстрелом они посеяли в России кровавое семя. Это как чертополох, который не выведешь быстро. Он и через десятки лет будет давать кровавые всходы!.. – Заметив краем глаза какое-то шевеление в двери, Данилевский прервал свою речь и, чуть добавив в голос теплоты и торжественности, произнес: – Господа! Моя дочь Винцента!
Винцуся во всей прелести своих восемнадцати лет появилась в зале. Смутившись при виде такой большой мужской компании, она тем не менее старалась держать себя в руках. На ней было простое черное, но весьма пикантное платье. К ее волосам, в знак траура, была приколота темно-бордовая лента.
В ее осанке угадывались польская смелость и горделивость – качества, которые в свое время позволили юной Марине Мнишек вскружить головы обоим Лжедмитриям, и в то же время чувствовалась застенчивость украинской селянки. В сочетании с цветущей красотой – смесь умопомрачительная.
Все мужчины встали и, если бы не печальное известие, несомненно, зааплодировали бы. Немецкий полковник, немолодой, багроволицый, хотел что-то сказать, но слова как будто застряли у него в груди.
– Как это… Дие унердшонхейт? – Полковник вопросительно взглянул на переводчика.
– Неземная красота, – подсказал переводчик.
– Вот… несем-ная кра-зота! – громко произнес полковник.
– Да, Винцуся – гордость и утешение для такого вдовца, как я, – сказал Данилевский, довольный общим восхищением. – Бог рано отнял у меня жену, но наградил прекрасными детьми!..
Винцента сдержанно поклонилась и присела подле отца.
– Но вернемся к нашей печальной новости. Циничная жестокость, проявленная большевиками, призывает нас к объединению. Кто бы ты ни был: петлюровец или немец-колонист, австриец или гетманец… всем нам надо быть вместе. Не сумеем сейчас выполоть с нашего поля кровавое семя, будем десятилетия, а то и столетия собирать кровавый урожай!..
Данилевский смолк. В зале стало совсем тихо. Слуги, мягко ступая по коврам, разносили бокалы с напитками.
Нестор заметил, что сидящая неподалеку Винцента украдкой рассматривает его, и растерялся. Узнает? Не узнает? Если узнает, что сделает? Как ему не хотелось, чтоб она узнала его, эта девочка из далекого детства, спасшая его тогда от плетей и позора, превратившаяся сейчас в красавицу, каких он в своей жизни не видел.
Они словно играли в прятки: когда он разглядывал ее, она отводила глаза. И наоборот.
– Я надеялся, господа, вскоре собрать вас, – сказал Данилевский, – чтобы отметить в нашем дружеском кругу радостное событие – восемнадцатилетие ангела моей души Винцуси. Но произошедшее обязывает меня… – он взял в руки бокал, – обязывает меня предложить вам по нашему древнему русскому обычаю помянуть мученически убиенного императора нашего Николая Александровича, его супругу, пятерых прекрасных и ни в чем не повинных детей… всех Романовых, как бы мы к ним ни относились… Земля им пухом.
Все встали, взяли в руки бокалы. Пить не торопились, как бы подчеркивая печальную торжественность ритуала. Молчали.
Винцента что-то прошептала на ухо отцу. Сомневается!
Пан Данилевский тоже перевел взгляд на значкового варты. Затем потянулся к лежащим на столе очкам, надел их и вновь уставился на Махно.
Нестор коротко взглянул на своих спутников. Те его поняли.
Иван Казимирович продолжал внимательно всматриваться в Нестора. Выражение его лица постепенно менялось. И эта перемена решила все…
Нестор неприметно сунул руку в карман. То же самое сделали и его спутники.
– Да, Иван Казимирович, это я, Нестор Махно. Заглянул по-соседски… За упокой, говорите? – В звонкой тишине прозвучал голос Нестора.
И, выхватив пистолет, он выстрелил в двух гетманских офицеров, наиболее молодых и быстрых, но еще не сумевших ничего понять. Затем в немецкого лейтенанта. Но тот – раненный – откатился по полу и стал рвать из кобуры свой «люгер».
Загремели выстрелы, зазвенело стекло бокалов, посыпался на стол хрусталь богатых люстр…
Один из помещиков закрыл собой жену, а второй, напротив, спрятался за супругу.
Сквозь дым от выстрелов была видна широкая сутулая спина пана Данилевского. Он обнял дочку и заслонил ее собой от огня.
Левадный и Семёнов-Турский тоже начали стрелять. Левадный понимал, что противник имеет численный перевес, и они могут проиграть. Лакеи куда-то подевались – возможно, вот-вот вернутся с оружием в руках.
Марко извлек гранаты: одну бросил на стол, другую – в дальний угол. Несколько офицеров увидели это, попадали на пол. Дважды рвануло. Зазвенели оконные стекла.
В заполненную дымом залу ворвались несколько махновцев и тоже начали довольно бестолковую пальбу.
Наконец все стихло. Дым медленно улетучивался сквозь разбитые окна. Лишь где-то во дворе все еще раздавались отдаленные выстрелы: то хлопцы добивали тех, кто пытался сопротивляться.
Никто из гостей Данилевского не уцелел. Марко Левадный сидел на полу, придерживая пораненную осколком ногу.
Махно подошел к мертвому пану Данилевскому. Рядом с отцом лежала красавица Винцуся.
Став на колени, Махно перевернул ее тело, прислушался: не дышит ли?
Тоненькая струйка крови стекла по шее девушки. Должно быть, в последнем приступе удушья она рванула на себе тонкий шелк, и ее грудь оказалась почти открыта. Нестор поправил разорванное платье, прикрыл грудь, провел рукой по глазам, опуская веки. Лицо его было мрачно.
– И скажи, другий раз – и в ту ж саму ногу, – пожаловался Нестору Левадный.
– Какого черта ты гранату бросил? – зло спросил Махно. – Кто тебе велел гранаты кидать?
– Надо було, – оправдывался, кривясь от боли, Левадный. – Мене, бачишь, и самого гранатой ранило…
– Лучше б убило! – прошипел Нестор.
В зал вбежал Грузнов:
– Уходить надо, Нестор Иванович. Один гад на коне успел уйти. Счас все Гуляйполе поднимет!
Махно, словно не слыша, последний раз взглянул на прекрасную панночку и пошел из зала. Но не к выходу, а к лестнице, ведущей наверх. Поднялся в знакомый коридор. Подошел к двери, вошел в комнату, где он прожил несколько счастливых месяцев с Настей.
Теперь здесь была девичья спальня Винценты. Картинки, фотографии на стенах, зеркала… Следы поспешных сборов для выхода к приглашенным: платья на кровати, раскрытая пудреница, помада у зеркала… На этажерке – книги. А чуть выше – музыкальная шкатулка. Та самая, подаренная им Насте в невесть каком году.
Нестор взял шкатулку в руки, крутнул ручку. Но ящичек не отозвался, только захрипел в ответ. Он подержал его некоторое время, осторожно поставил обратно и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. И тут случилось необъяснимое: из комнаты до него донеслась до боли знакомая мелодия.
Нестор приоткрыл дверь и увидел, что шкатулка отчего-то, может, от сквозняка, упала с этажерки, катилась по полу и издавала щемяще печальную мелодию…
Нестор молча прошел к тачанке, уселся на заднем сиденье, где его ожидал Левадный. Юрко Черниговский резко сорвал с места лошадей. Они проскочили в ворота мимо убитых вартовых. Кавалькада помчалась по пыльной дороге прочь от усадьбы. Вырвалась в степь…
Марко с перевязанной ногой поддерживал Нестора. Его начинала бить дрожь, судороги сотрясали тело. Марко навалился на него всей своей многопудовой тяжестью:
– Заспокойся, Нестор!.. Заспокойся! Гоны, Юрко! Скорише!
Юрко на мгновение оглянулся.
– Не дывысь сюды, Юрко! Не надо! Хиба не знаешь, шо з Нестором Ивановычем од переживаниев робыться? Чого дывыться? Гоны!
Во весь опор самой первой мчалась по степи тачанка с Нестором. Замыкала кавалькаду громыхающая телега с пулеметчиками.
Остановились на хуторе у колодца. Было уже почти темно. Расслабленный Нестор полулежал на сиденье, плохо соображая, где он и что с ним. Семёнов-Турский напоил его из жестяной кружки холодной водой. Брызнул в лицо.
– Скачите дальше! – сказал Махно слабым голосом. – За ночь надо до Волчьей речки добежать. Плавни там не хуже днепровских. Нас будут на Днепре искать. А мы на Волчьей отсидимся.
Глава восемнадцатая
На рассвете они были в плавнях. Горел костерок. Нестор присел поближе к огню, закутался в шинель. Пил из кружки горячий чай. Жизнь постепенно возвращалась к нему. Все сочувственно молчали. Вид у вожака был неважный: как после тяжелой болезни. На него старались не смотреть. И это больше всего задело Нестора. Он обвел глазами соратников.
– Ну что вы очи отводите? – понимая, что не все удовлетворены результатами последней операции, взорвался он. Какая-то неведомая тяжесть наваливалась на него, сжимала сердце. – Да, и невиновные, случается, под пули попадают! Жалко панночку. А что поделаешь? Революция, как сказал Кропоткин, не терпит сентиментальности… И я… я тоже, как видите, не железный!..
– Ниякых претензий, – сказал Левадный. Одна нога у него была без сапога, штанина обрезана чуть ниже колена, и голень обвязана полосами белого белья, прихваченного из имения. – Ты – с намы, мы – с тобой. И, слава Богу, показалы им, де крапыва росте.
– Оно и так, и не так, – как-то неопределенно согласился Грузнов. – Из пулемета убивать и то тяжко. Ночами не спишь. Как, Кожин?
Фома пожал плечами:
– Сначала было. В четырнадцатом, в Пруссии. Ночами не спал…
Семёнов-Турский неожиданно решительно поднялся:
– Пойду я, хлопцы, от вас. Не моя это война. Когда в противника – мне это понятно. А тут – гранатами… всех подряд…
– Шо, кишка тонка? – зло заулыбался Левадный. – Чи офицерское нутро заныло? В Гуляйполе жил, пил-жрал, на мягких перинах нежився – такой анархизм тебе нравился! А когда анархизм з револьвером та бомбою, когда обороняем нашу селянску революцию, это уже не нравится? «Не моя война»?.. Не, господин бывший прапорщик, од нас просто так не уходять!..
– В спину, что ли, выстрелишь? – спросил Семёнов-Турский и демонстративно повернулся спиной. Тускло поблескивал сползший с плеча погончик бунчужного.
– Жаль, Константин, – с тихой грустью сказал Махно. – А я хотел тебя начальником штаба сделать. Ни одного настоящего вояки, офицера, у нас нема. А ты – боевой.
Бывший прапорщик постоял, словно размышляя. Потом, так ничего и не ответив Нестору, медленно пошел от костра.
– Продаст! – сказал Лепетченко, глядя на Нестора.
– Не…
Было слышно, как хрустели ветки под ногами уходившего.
– Ну и як будем дальше жить, Нестор? – спросил Григорий.
– Воевать… Нельзя нам в затишке сидеть. Обложат. Надо, шоб они метались, як на пожаре… Один день передышки, коней выпасаем – и дальше. И бить, палить, выкуривать! И опять!.. И силы собирать!..
В плавнях всегда сумеречно. Деревья растут плотно, ветви низко опускаются к земле, словно ищут сырость и прохладу – спасение от зноя. Солнце с трудом пробивается сквозь густую сочную листву.
Расположенные вдоль здешних рек плавни спокон веку были для казаков надежной защитой. Зеленой крепостью. Непроходимым лабиринтом. Это и лес, и луг, и кустарник, и болотца, и озера, и протоки, и ерики. По весне большую часть плавней заливает полая вода, ее потоки разрушают все прежде созданное и создают новое. Если год-другой не был здесь, не сразу отыщешь старые места или не отыщешь их вовсе.
Лишь на песчаных буграх, где стояли хатки рыбаков, ничего не менялось, хотя и здесь в иной год река загоняла хозяев на деревья и начинала большое переустройство. Это уже не талая, а шалая вода, бедовая. Образовывались новые русла, разбивали плавни на новые острова.
А уж рыбы-то в плавнях, а уж птицы! Голодным не будешь, лишь бы сухари да соль прихватил.
Почва в плавнях обычно песчаная, подпитанная снизу водой. И растут рядом гигантские осокори, вербы и мелкий краснотал. На бугорках высятся стройные березы, осины, а к ним тянутся непроходимый колючий терн, глед, шиповник. Камыш растет такими густыми массивами, что в нем заблудиться – раз плюнуть. Как в дремучем лесу. Камыш – великолепный материал для шалашей, для крыш куреней. Козаки иногда такие курени строили, что в них можно было полсотни всадников поместить, вместе с лошадьми.
А травы! Такие иногда здесь травы попадаются, что если ты травознавец, любую рану излечишь, а если понадобится отрава, яд для черного дела – то и этого добра здесь на все вкусы и желания.
И все это зеленое царство живет, шумит, лопочет, манит, кричит, крякает и пугает! Одному в этих местах ночевать – не дай бог!
Такие вот днепровские и иные казачьи плавни. Они компанию любят. Укроют, накормят, чистой проточной водой напоят…
Наевшись и напившись, махновцы спали вокруг костра, помалу съедавшего ветки сухой вербы. Дымок был душистый.
Дозорный Корнеев, дежуривший неподалеку, вынырнул из зарослей. Он был встревожен, потряс Махно за плечо:
– Нестор Иванович! Проснитесь! Там люди подкрадаются!
– Какие люди? – вскочил Махно. Он сразу пришел в себя, будто и не спал.
– Чорт их знает. Но много. С оружием.
– Сашко! – Нестор растолкал Лепетченка: – Поднимай хлопцев, ставь вкруговую!
Рассовывая по карманам гранаты, махновцы разбегались, прятались за деревьями, готовясь к бою.
– Ставь сюда пулемет, – скомандовал Нестор Кожину.
Фома был, как всегда, спокоен и меланхоличен. Сунул за пояс гранаты.
– В таком лесу, Нестор Иванович, пулемет – як слепой на ярмарке. Все слышно, ничего не видно… Я лучше с бомбочками!
И тоже исчез в зарослях.
Нестор проверил свой маузер и револьвер «вебли». Прилег у кострища. Командиру метаться ни к чему. Лесной бой – это действительно бой слепых. Не знаешь, что приказывать, и как, и кому…
Послышались приглушенные возгласы, возня, и мощный Марко Левадный выволок к кострищу незнакомого парня, зажав ему рот. Грузнов приставил к спине захваченного ствол карабина.
– Ось, – доложил Нестору запыхавшийся Марко. – Одын зовсим блызько подкрався. З бомбою!
Махно неожиданно усмехнулся. Пленный силился что-то сказать, но мощная ладонь Левадного не давала ему открыть рот.
– Убери руку! – приказал Махно.
– Так загорланит!
– Не.
Левадный отнял руку.
– Сашко! Калашник! – Нестор вглядывался в знакомое лицо.
– Нестор Иванович!
Они обнялись. Сашко, обернувшись, погрозил кулаком Левадному:
– Чуть голову, зараза, не открутыв! Ничого, Марко, в долгу не останусь!
– Сам виноватый! Крався, як змеюка…
Калашник обернулся и, сунув в рот два пальца, громко свистнул.
Вскоре вокруг кострища собрался отряд Федоса Щуся – молодые и старые, разношерстно одетые кто во что и вооруженные кто чем.
Федос, глядя на Нестора и его бойцов, качал головой:
– «Державна варта», «офицеры»… Ще б чуть-чуть, и перебили б мы вас, як кошенят.
– Это, Федос, бабка надвое гадала, – улыбнулся Нестор. – То ли вы нас, то ли мы вас.
Только теперь они обнялись. Все же никак не предполагали, что, так решительно разойдясь, встретятся в плавнях, на Великом Лугу. Могли и вообще не увидеться. Время такое: человек может на минутку от костра отойти – и больше никогда не вернуться. Иной сбежит, иного украдут и убьют.
Федос достал баклажку с самогоном.
– Лекарствие, – сказал он и подмигнул.
Они с Нестором сделали по глотку и пустили баклажку по кругу. Хлопцы гутарили, обменивались впечатлениями. Среди появившихся с Щусем парней кроме Сашка Калашника был и Сёмка Каретников, отчаянный черногвардеец, несколько хлопцев из гуляйпольского анархистского воинства и еще Алёшка Чубенко – из новеньких, крепенький, востроглазый, односельчанин Щуся. К отряду пристал недавно, но числился не то заместителем Федоса, не то начальником разведки, потому что был грамотным: церковно-приходскую окончил и даже на каких-то курсах полгода учился…
– А мы тут настоящого гетьманского хорунжого прихватили, – похвастался Щусь. – По плавням шастал.
Хлопцы Щуся подвели к кострищу Семёнова-Турского. Его форма была изорвана и испачкана кровью, лицо разбито, руки связаны. Один глаз заплыл.
– Но така ж зараза! Били его, били! А он, гад, молчит!
– Это ж Семёнов-Турский, – ухмыльнулся Махно. – Наш… Розвяжите!..
– Не узнал! – удивился Щусь.
– Сперва излупили до полусмерти, а потом стали допрос сымать, – пробурчал Семёнов-Турскпий. – «Не узнал».
– Так говоришь, Константин, ничего им не сказал? – спросил Нестор.
– А откуда я знал, кто они, за кого? – отвечал бывший прапорщик, с трудом раздвигая запекшиеся в крови губы и обнаруживая отсутствие переднего зуба.
– А били, смотрю, как следует… Ты ж Федоса хорошо знаешь. И других тоже. Чего ж молчал?
– Не успел. Они для начала какой-то дубиной по голове огрели.
– А говорил, Константин, шо ты не анархист, – заключил довольный Махно. – Ты как есть анархист. Настоящий!.. Ничего, главное – голова цела! А зуб тебе Щусь новый вставит, как только власть возьмем. Золотой!.. Налейте ему як следует!
Чуть позже Нестор и Щусь отошли в сторону, от всех подальше.
– Такое дело, Нестор… Надо бы нам вместе действовать. Сообча мы бы добре оккупантам та гетьману перцем зад натерли! – сказал Федос.
Морячок даже за время жизни в плавнях сохранил свою фатоватость и привычку любоваться собой, своим «боевым видом». На нем была матросская бескозырка с вылинявшей надписью «..анн зла…ст». Нестор помнил: когда-то на ней хорошо читалось «Иоанн Златоустъ». Длинные вьющиеся волосы никак не соответствовали бескозырке. Гусарский парадный доломанчик со шнурами, необъятные, уже порванные морские клеши. Офицерская двойная кожаная амуниция, на которой висели всевозможные гранаты, револьверы, пистолеты, бинокль, а сбоку еще и сабля. Настоящий ходячий арсенал.
В десяти шагах от костра было уже темно. На деревья падали мечущиеся отсветы: хлопцы гомонили, переходили с места на место, махали руками, перебивая друг друга. Во всем этом было что-то нереальное. Театр.
– А чекчиры ты чего не надел? – спросил Нестор.
– Яки чекчиры?
– Гусарски штаны в обтяжку. Как их… рейтузы. Тоже со шнурамы. Красивые. И весь твой мужской элемент был бы наружу.
– Та ну тебя в баню! – рассердился Щусь. – Я про дело, а ты про тело!
Но, похоже, он был сбит с толку иронией Нестора.
А Махно вдруг посерьезнел, пригнул к себе ивовый прутик, откусил кончик, пожевал, выплюнул горечь.
– Конечно, вместе воевать… разумно, – произнес он.
– Ну вот. Тут и задачка. А в задачке спрашивается: хто из нас будет за главного командира? – спросил Щусь.
Махно молчал, ожидая, когда Щусь сам даст ответ на свой вопрос. Старое соперничество!
– Я б и не против: ты всегда был впереди, – говорил Федос. – Коренником был… Но зараз совсем другое дело. Все переменилось. Пока ты там у затишку отсижывался, мы отряд соорганизували, воевали, кровь свою анархическу проливали… Может, я шо не так говорю?
– Так, так, – согласился Нестор.
– Ну от… – ободренный, продолжил Щусь. – И так получаеться, шо хлопцам будет трошкы обидно, если не я буду главным. А ты, Нестор, будешь у меня… ну… заместителем.
– У тебя ж вроде есть заместитель?
– Алёшка Чубенко? Его б в начальники объединенного штаба. Сильно, зараза, в маневрах разбираеться.
Махно задумчиво теребил в руках веточку верболоза. Она не ломалась, и куст ее не отпускал.
– Отломи, – нагнул он веточку к Щусю.
– Фокусы? – Федос, недоумевая, начал ломать. Но гибкий верболоз гнулся, складывался пополам, но не ломался. – Так верболоз же! – сказал он.
Махно подтянул к себе ветку и моментально посередине перекусил ее острыми зубами.
– От и все, – улыбнулся он.
– Ты это к чему? – нахмурился Щусь, чувствуя подвох.
– К тому, что настоящий командир тот, кто быстро находит решение, – сказал Махно. – Мне, Федос, тоже будет неудобно перед хлопцамы, если я под тебя пойду…
– Шо, разойдемся? – спросил друг-соперник.
– Зачем? У тебя гуляйпольцы, и у меня гуляйпольцы. Будем вместе воевать. Ты своими командуешь, я – своими. А бои покажут, кто из нас лучший командир.
– Согласный. В боях я никому не уступаю, – сказал Федос. – Проверено и печаткою проштемпельовано! Спроси хоть у Калашныка чи у Каретникова. Ты ж им доверяешь?
– А зачем спрашивать? Увидим. Жизнь покажет. – Махно узлом завязал верболозину и затем резко, с силой отбросил ее. – А может, ще вражеска пуля нас когда-нибудь рассудит…
Щусь улыбнулся. Красавец и смельчак, он сейчас, после первых боев, не боялся ни черта, ни смерти и был убежден в своей правоте. Вот только ирония Нестора раздражала и смущала морячка.
Глава девятнадцатая
Как огненный и кровавый смерч, пронеслись Нестор Махно и Федос Щусь по Александровскому уезду. Похоже, они соревновались в смелости, отваге и… в крайней жестокости. Чужая, «вражья» кровь – гетманцев, оккупантов, панов – ударяла в голову, пьянила.
Даже самые отчаянные хлопцы опасались этого странного дуэта командиров. Объединенный отряд то ударял одним кулаком, с размаху, по разъезду варты, а то, разделившись на несколько групп, путая следы, жег усадьбы и беспощадно вырезал семьи сразу в нескольких местах. Уезд-то большой: от Александровска до Веремеевки, с запада на восток, сто верст, а от Павловки до Новоспасовки, с севера на юг, и того больше. И если случалось залететь в соседние уезды Екатеринославщины, так еще лучше, совсем сбивали с толку погоню.
Нестор наслаждался своим беспощадным к действующим лицам театром, где он был и режиссером, и актером и где причиной провала кровавого спектакля могла стать только его собственная гибель. Он непрестанно переодевался, менял «чины» и «звания», был то гетманцем, то германским уланом, то австрийским военным чиновником, то мадьярским латифундистом. Костюмерная сама шла ему навстречу по пыльным шляхам, а сценой служила вся необъятная таврическая степь с ее балками, плавнями, речками.
Переодевшись, не раз он заезжал в дальние усадьбы, где еще не знали о том, что случилось с Данилевскими. И оставлял после себя лишь пепел. Начальника местной варты, сотника, который принял махновцев за мадьярских гонведов, карателей, Нестор приказал повесить на самом высоком кресте местного кладбища. На старых козацких могилах ставили кресты из мореного дуба, ванчеса, очень высокие и крепкие… На таком и четверых гетманских сотников можно было пристроить в петлях.
Сбитые с толку, мечущиеся, раздосадованные неудачами и нагоняями от начальства, каратели мстили крестьянам. Налагали огромные штрафы на крестьян первого попавшегося на пути села, секли до полусмерти шомполами, конфисковывали скот и зерно «в пользу Германии». Кое-кого арестовывали и увозили, после чего человек исчезал бесследно. Иногда расстреливали прямо на месте, если было хоть малейшее подозрение.
Результат был обратный. Крестьянское море возмутилось. К Махно иногда приходили добровольцы, которых он до поры до времени оставлял дома, потому что большой отряд не позволил бы ему совершать быстрые маневры, удары и отскоки. Но без дела они не сидели: выпасали для подменки лошадей, заготавливали продукты. Это позволяло «черной гвардии» совершать за сутки стокилометровые марши.
Так рождалась будущая армия Махно. Она опиралась на широкую поддержку народа, на тактический маневр «россыпься – соберись», на быстроту и неожиданность бросков.
Не один и не два отряда партизан действовали на Екатеринославщине. Тут же, рядом, «ходили», почти пересекаясь с путями Нестора, с полдюжины групп, среди которых выделялись анархические, даже слишком анархические отряды Маруси Никифоровой и некоего Ермократьева, человека «без руля и без ветрил». После того как со своими хлопцами, целым полком в триста человек, Ермократьев по пьянке попал в засаду и вышел из боя с семью подчиненными, он пристал к Махно.
Впрочем, Маруся Никифорова тоже отличалась необузданным нравом, экстравагантностью и свирепостью, по сравнению с которой действия махновцев выглядели почти гуманными.
Бывший прапорщик Московского полка Семёнов-Турский в кровавых «акциях» не участвовал. Его к ним и не привлекали. Он сидел в своем передвижном «штабе»-тачанке. Планировал, намечал маршруты. Нестор оберегал его. Боялся, что тот уйдет.
Но наступил и для Нестора час усталости. Крови было пролито вдоволь. Екатеринославщина бурлила. Войск в губернию нагнали столько, что куда ни глянь – там или германские, или австрийские, или мадьярские штыки. Того и гляди – напорешься. Но главное – не хотелось уже убивать. Нестор не умел пылать ровным огнем ненависти. Он то вспыхивал, то пригасал. Такая была у него натура.
Когда Ермократьев, желая отомстить начальнику Александровской уездной варты, сотнику Мазухину, тому самому, который руководил злополучной засадой, упросил Махно и Щуся помочь, сотник был пойман. Ермократьев садистски расправился с виновником гибели его полка. Он раздел его догола, привязал к половым органам гранату, которую и взорвал с помощью бечевки. Перед тем вдоволь натешился над сотником.
Это было слишком даже для Нестора. Он выгнал Ермократьева из отряда, и тот как в воду канул. Больше никто и никогда о нем ничего не слышал.
Но затем отличился Щусь. Он сжег в паровозной топке священника. Батюшка, видите ли, во время расправы щусевцев над немецкими колонистами призывал к миру и взаимопрощению. Колонию хлопцы Щуся тоже сожгли – «за помощь оккупантам».
Щусь – не Ермократьев. Старый соратник, авторитет. Выгнать его Махно не мог, да и не имел таких прав, поскольку пока не был единовластным командиром в объединенном отряде. Но он устал от крови. Его через день трясли нервные припадки. Он исхудал, по телу пошли чирьи, глаза стали плохо видеть.
В очередной раз уведя своих хлопцев в плавни на реке Волчьей, Махно за несколько дней пришел в себя. Это зеленое царство всегда действовало на него успокаивающе.
Нестор уже был готов к новым боевым действиям, когда туда же, опасаясь попасть в переплет без находчивого и осмотрительного соратника, явился со своими хлопцами Федос.
Ранним утром, под покровом тумана, проскользнув мимо сторожевых постов, в лагерь прибежал житель села Дибровки, маленький, юркий хлопчик по фамилии Босняк.
– Громада прислала: допоможить! – закричал он, остановившись среди камышовых шалашей. – Каратели в селе! Знущаються над народом. У дядька Охрима дочку забралы… пропала!.. Граблють! Двух суседей шомполамы забылы! Кажуть, шо ще й вешать будуть!
На крик собрались махновцы, обступили Босняка.
– Сичас воны, заразы, поснидалы, отдыхають! Вызволяйте село, хлопци! – И Босняк бухнулся на колени.
…Через полчаса запыхавшаяся махновско-щусевская пехота была уже близ села, на опушке небольшого лесочка. Конные уложили лошадей и, прячась за ними, всматривались в то, что происходило в полуверсте.
В окулярах бинокля Щусь видел лежащую перед ним Дибровку, лошадей, спешенных конных вартовых, селян, австрияков, каких-то еще вооруженных людей в шляпах.
Махно, у которого бинокля не было, щурил глаза и тоже что-то прикидывал. Пригнувшись, к нему подбежал Семёнов-Турский:
– Я с хлопцами подобрался на тридцать шагов… Докладываю: в селе около ста двадцати человек. Германская конная варта, взвод австрияков с повозками и до пятидесяти вооруженных немецких колонистов…
– От заразы ци колонисты. Уже вооружились, – отозвался Щусь. – Пять чи шесть ихних колоний спалил… Видать, мало им насолил!
– Потому и вооружились, что спалил, – бросил Махно.
– Так богатеи… И грошей у них немеряно!
– Виселицу строят, – дополнил доклад Семёнов-Турский. – Правду пацан сказал: карательная экспедиция.
– Атаковать! С ходу! – решительно сказал Щусь. – Окружить и перебить! Я поведу хлопцев…
– Не горячись, – остановил его Махно. – Подумаем.
– А шо ж тут думать, як наших людей собираются вешать! – выкрикнул Щусь. Он явно хотел услышать одобрение и своих, и махновских бойцов. И он его получил.
– Атаковать! Конных вперед! – раздались голоса командиров.
– А ты что думаешь, Константин? – спросил Махно у бывшего прапорщика. – Что присоветуешь?
– Ударить надо, – задумчиво сказал Семёнов-Турский. – Но не окружать… Дать им путь для отступления. Кто-то побежит, за ним другие… Выбьем!
– Офицерские штучки, – скривился в улыбке Щусь. – «Стратегия»…
– Тактика, – поправил его Семёнов-Турский. – Они хорошо вооружены. Одних пулеметов – не менее пяти.
– Ну й шо?
– Если окружить, они будут биться насмерть. Их втрое больше. Если и победим, у нас почти не останется бойцов… Крах!
– Не крах, а трусость! – стоял на своем Щусь. – А хто погибнет, тот погибнет во славу!
– Подожди, не горячись, – остановил Щуся Нестор. – Константин розумное предлагает. Если наших много поляжет, кто в такую армию пойдет? А от если они драпанут, а мы село освободим – эт-то уже настоящая слава по всему уезду. И новые бойцы.
– Так, може, цее… соберем собранию, проголосуем? – спросил Федос. Он знал, за кем сейчас пойдет большинство.
– «Покы сонце зийде, роса очи выисть», – пословицей ответил Махно. – Соглашайся, Федос! Побьют твоих хлопцев, кем командовать будешь?
Щусь нехотя согласился:
– Ну, шо ж… Хай будет не по-нашему, а по-офицерски! А там слепой покажет, як кривой бегает!
Бурьян, заросли кукурузы, подсолнухов, картофельной ботвы. Все это тихо шевелилось от движения нескольких десятков махновцев и щусевцев. Хлопцы ползли, прижимаясь к земле. Морячок скользил в первых рядах. Иногда оглядывался, усмехался Нестору. Дескать, ты там «в тылу» командуешь, а я – вот он! – в первых рядах. Ветер колыхал ленточки его бескозырки…
Кожин установил свой пулемет в бурьянах, просматривал в прицел улицу. Видел, как на площади австрийский офицер что-то приказывал селянам, которые тащили на себе столбы для виселицы. В руке у лейтенанта был стек, символ полной власти.
– Ты хоть селян не порежь, – сказал Махно Кожину. Он лежал рядом с пулеметчиком и тоже следил за шевелением бурьяна.
– Закрой рот, – неожиданно огрызнулся Фома. За пулеметом он становился резким, злым.
Махно послушно умолк. Из картофельной ботвы поднялась рука Щуся: сигнал, что они вышли на рубеж и готовы к атаке.
– Давай, – хрипло прошептал Махно.
– Руби дрова, – как некое заклинание произнес Фома, осторожно, словно боясь кого-то вспугнуть, сжал рукояти пулемета и надавил на гашетки.
Очередь из десяти – двенадцати патронов показалась оглушительной. Группа офицеров как бы разлетелась в разные стороны от ветра. Но недалеко. Тела остались тут же, на земле.
Из лесочка во весь опор вылетел «эскадрон» – дюжины полторы хлопцев. Пыль стлалась за всадниками. «Ур-ра!» – прогремело над селом. И этот крик подхватили. Из бурьяна, из ботвы вырастали фигуры атакующих. Выстрелы слились со взрывами гранат. Вместе со своими бойцами бежал в атаку бесстрашный Щусь.
Кожин, выцеливая, посылал то влево, то вправо короткие очереди…
Воинство, хозяйничавшее в селе, пришло в волнение, а затем запаниковало. Кто запрыгнул на коня, кто на ходу вцепился в заднее сиденье брички, кто с трудом забрался в высокую европейскую фуру с тяжелыми бортами. Ездовые яростно хлестали лошадей. Не успевшие за что-то уцепиться, бешено работая ногами, устремились на противоположный конец села.
Селяне, приготовившиеся ставить бревно в яму, развернули его и бросили перед набирающей скорость фурой. Та взлетела вверх, порвались постромки. Попадали на землю и покатились вартовые. В руках у мужиков оказались лопаты. Взмахи – как на молотьбе: у хозяйственного мужичка лопата всегда хорошо заточена.
И как только стихли выстрелы, тотчас на площади начали собираться бабы, старики, дети…
Щусь взобрался на борт опрокинутой фуры, стащил с головы бескозырку. Он очень картинно выглядел – загляденье, с этим сочетанием гусарского доломана и бескозырки.
– Граждане земляки! Товарищи! – прокричал он, размахивая бескозыркой. – Мы, повстанческа армия, пришли, шоб дать вам защиту од германских грабителив и прочей сволоты! Записывайтесь в нашу армию!..
Махно шел по огородам рядом с пулеметчиками, тянувшими за дугу тяжелый «Максим».
– Ну, ты й грозный, Кожин, – сказал Махно, припомнив, как пулеметчик вызверился на него в начале боя.
– Прощению просю, Нестор Иванович, – ответил пулеметчик. – Но сильно я серчаю, когда мне под руку бубнят.
– Та я и сам такой, – успокоил его Нестор. – Главное, свое дело знаешь… А скажи мне все-таки, Фома, что ты всё повторяешь «руби дрова»?
– Та… глупости, – смутился Кожин. – То ще когда я малой был, букву «р» не выговарював. А учителка у нас злюща была и придумала, шоб я по сто раз на дню повторял: «Руби дрова, руби дрова». С тех пор я и повторяю, шоб успокоиться.
– Х-ха, – восхитился Махно. – Надо будет и мне, як рассержусь, шо-то такое повторять… «Руби дрова»! Надо же! А я думал, то у тебя клятва якась!
В селе уже началось веселье. Повстанцам выносили еду, вино, самогонку.
Щусь выпил из глиняного кухлика, вытер губы.
– Нестор, уже человек сто записалось, – сказал он, увидев подошедшего Махно. – Даже четыре бабы!..
– Пускай оружие сховают та дома сидят, – ответил Махно. – Понадобяться – позовем. Зачем нам сейчас так много народу? Нам маневренность нужна, увертливисть…
– Сам же сказал: у нас армия будет. Уже пора поднимать людске море!
– Все будет. Только пускай пока наша армия по хатам сидит. Когда надо – позвали. Выскочилы, укусили – и снова додому! Нигде никого… Кто? Где? Пусть гоняются…
– Ты, Нестор, на бой з того горбочка смотрел, а я в первых рядах. И видел, в каком люди настрое. Рвутся в бой. А ты… Не понимаю!
Махно вздохнул. Сокрушенно помотал головой. Один ум – хорошо, а два ума – в военном деле – плохо. Но сейчас Щусю ничего не объяснишь. Рано. Они, партизанские вожаки, еще только набираются опыта. Командовать, когда у тебя тридцать – сорок человек – одно, а когда несколько сотен – другое.
Махно узнавали.
– До нас, Нестор Иванович! До нас! Угощайтесь!
Махно повернулся к Черниговскому:
– Юрко, скажи хлопцам: не пить. Глотнули помалу— и хватит. Ночевать будем на улице, в обуви и одеже! Оружие, припас – при себе!
– Нестор! Я германа хорошо изучил. Ни он, ни австрияки ночью не воюют, – сказал Федос. – Утричком жолудевого кофею попьют – и только тогда…
Махно не ответил. Где-то возле хат уже пели. Танцевали. Украинское село вмиг перешло от печали к веселью. Такой уж нрав у народа.
Среди ночи Юрко Черниговский разбудил Нестора, спящего на возу, на сене. Воз стоял посреди двора. Махно мгновенно вскочил.
– Нестор Иванович, хлопцы з дозору прыбиглы. Фуры скриплять, артиллерия. Не выдно, но без счету идуть. З усих дорог.
Махно прислушался. Было тихо. Даже собаки спали. Мерцали звезды.
– Ночью и куст на корову похожий, – пробормотал Махно. – Но… буди хлопцев! Пускай запрягають коней. Соберемся на краю села, коло клуни.
И тотчас зашевелилось село, задвигалось. Взлаяли обеспокоенные собаки.
Внезапно невдалеке, шагах в двухстах от села, раздались хлопки, и в небо со всех сторон взлетели ракеты. Стало светло, как днем. И все поняли, что село окружено…
Фома Кожин и Грузнов, таща за собой «Максим», оказались рядом с Нестором.
– Занимать оборону? – спросил невозмутимый Кожин.
– Какая к черту оборона! – зло ответил Махно, вскочив на повозку. – Судя по всему, их тут полк, не меньше… Германы! Это вам не австрияки!
И словно бы в подтверждение того, что сюда пришла воевать армия кайзера, заухали пушки. Снаряды рвались бестолково, но где-то уже заржала раненая лошадь, вскрикнул кто-то из бойцов…
– Фома! Грузнов! Берите ручные пулеметы и эти… «Льюисы», что варта побросала: будем прорываться до леса.
– А «Максим»?
– Бросай! На ходу придется стрелять.
– Не, «Максима» не брошу. Привык…
Поблизости рвались снаряды, к ним уже присоединились немецкие «машингеверы», легкие переносные пулеметы, новинка восемнадцатого года.
Лепетченко и еще несколько хлопцев подхватили два «Льюиса» с толстыми кожухами и рубчатыми дисками на полсотни патронов. Кожин поднял на руки «Максим», несколько мгновений подержал его на весу, словно решая, оставить эту непомерную тяжесть или забрать с собой. Щит он заранее отдал хлопцам, но сам пулемет решил не снимать со станка на случай, если придется огрызаться. Взгромоздив его себе на спину, он неторопливо пошел вслед за Лепетченком. Грузнов шел рядом с ним с «Льюисом» на плече. Шли, тяжело дышали. Фома всей спиной болезненно ощущал тяжесть четырехпудовой, с острыми углами, «железяки».
– Ничего, – задыхаясь, успокаивал он сам себя. – До лесочка сдюжим.
В конце улицы их ожидал Махно. Он шел чуть впереди, указывая путь. То и дело вокруг них взлетали ракеты, свистели пули и совсем близко рвались снаряды.
Сразу за селом, на огородах, они прибавили шаг. Побежали. Через ту же самую картофельную ботву и заросли кукурузы, через которые недавно пробивались в село. Уж на что был костист и крепок Кожин, но он почти сразу отстал. Больше всего боялся споткнуться в темноте. Многие хлопцы, попав на грядки, падали, поднимались. Впрочем, поднимались не все. Упасть же с «Максимом» на спине – гиблое дело, даже если и не ранен. Можно запросто сломать хребет.
Хлопцы, увидев тяжело бегущего Фому, бросились помогать ему, поддерживать «Максим».
Впереди у них встали неясные тени. По силуэтам можно было понять, что это немцы. Грузнов на ходу стал стрелять, хлопцы бросили несколько гранат. Расчистили путь.
Фома с помощью махновцев догнал Грузнова, и теперь они потрусили рядом.
Подпрыгивая на огородных грядках, их обогнали две брички.
– Кидайте сюда свою имуществу! – предложил ездовый одной из бричек, Семка Каретников.
– Езжайте с Богом, – тяжело дыша, прохрипел Кожин.
Брички умчались вперед. Ездовые бросали в разные стороны гранаты. Коня в одной из бричек ранило. Он споткнулся, упал. Бричка перевернулась. Каретников, спрыгнув, поднял с земли два карабина, оставил бричку с раненой лошадью. Побежал к виднеющемуся впереди лесочку.
Кожин на миг задержался, дал веером две очереди. Стук станкового пулемета остановил противников. Видно, им показалось, что напоролись на уже подготовленную оборону.
Удался повстанцам этот кинжальный прорыв. Хотя и не без потерь. Приходили в себя уже в рощице. Пули свистели теперь только над головами, срезая листву. Да свет от ракет бегал среди деревьев, высвечивая и без того белые лица бойцов.
– Юрко, посчитай, сколько тут нас, – попросил Махно. – И где начальник штаба?
Семёнова-Турского принесли на руках. Когда взлетели очередные осветительные снаряды, стало ясно, что только что назначенный начштаба не жилец. Изо рта текла кровь. Рана на груди была заткнута тряпкой, подсунутой под рубаху.
– Ну что ж ты, Константин, – горестно произнес Нестор.
– Зацепило, – виновато сказал бывший прапорщик и слабо, через силу, улыбнулся. Лицо его ушло в темь до новой вспышки ракеты.
Он зацепил пальцем Нестора. Махно склонился к нему.
– Имей… в виду… – прошептал Семёнов-Турский. – Это… регулярная… все продумано… в лесок они… они неспроста дали уйти… Западня. – Он смолк, что-то забулькало в его горле. С трудом, сквозь клекот, он проталкивал слова: – За леском засады… Крепкие засады… не одолеть… Надо… надо…
– Что надо, Константин? – спросил Махно сорвавшимся голосом. Он наклонился совсем близко к лицу умирающего: – Что надо? Скажи!..
Снова вспыхнула ракета. Она взлетела словно для того, чтобы осветить запрокинутое лицо прапорщика. Белое и уже неподвижное.
– Эх! – вздохнул Махно и с силой ударил кулаком о ствол дерева, не зная, как выразить боль и злость. – Какого человека загубили, сволочи!.. – И закричал, обращаясь к хлопцам, собравшимся вокруг: – Настоящий анархист был! По природе!
– Заспокойся, Нестор! – Григорий обнял его и прошептал на ухо: – У тебя из ноги кровь текет.
– Так перетяни… Только шоб никто не видел, – успокаиваясь, тихо ответил Нестор.
Осветительные снаряды взлетали все реже, но направлены они были уже только к лесу. Они застывали на какое-то время в темном небе, будто подвешенные на ниточках фонари. Это было новое, еще неизвестное средство освещения, последнее достижение Первой мировой…
Махно прислонился к колесу брички, присел на траву. Он то ли размышлял, то ли все еще оплакивал прапорщика, не успевшего сказать последнее важное слово. Юрко наклонился к нему.
– Шестнадцать хлопцев из двадцати осталось, – доложил он.
Раздался треск, послышались громкие голоса. На полянку вышли Щусь, Калашник, Каретников, еще несколько человек. У Каретникова была перевязана голова так, что виднелся лишь один блестящий от возбуждения глаз.
– Сколько людей с боя вывел, Федос? – спросил Махно.
– Вроде четырнадцять… чи пятнадцять, – ответил Щусь тихо. Былого петушиного задора в нем не осталось ни на грош.
– А было?
Щусь промолчал.
– Пятьдесят три, – ответил за него Каретников.
– Многовато хлопцев загубил, Федос!
Морячок по-прежнему не отвечал.
– Шо думаете?
Молчали и хлопцы. Переминались с ноги на ногу.
– Тикать надо… – несмело предложил Калашник.
– Тикать… – повторил Нестор, как бы обдумывая эту мысль. – Тикать – не фокус. Если пропустят… Конечно, может, хто и уцелеет.
– Таке дело, – вдруг оживился Щусь. – Тут в лесу, я знаю, стоит старая землянка. Попробуем там держать оборону. Все ж таки лес…
– Оборону? – переспросил Махно. – А патронов у тебя много?.. На час боя, я знаю. А дальше шо?
Щусь не ответил.
– У нас с Грузновым по четыри диска, – сказал Сашко Лепетченко.
– На сколько хватит?
– Если серьезный бой… может… В диску, казав Грузнов, вроде сорок сим патронив. Надо у нього спытать. Вин там, отдыхае.
– Пускай отдыхае.
Помолчали. Махно вдруг поднялся:
– Ну от шо, хлопци. Готовьтесь!
– Шо, тикаем? – раздались голоса.
– Зачем же тикать? Атакуем… Федос прав, в это время германы и австрияки не воюют. Вон, только с одной пушки пуляют. Для видимости. Думають, шо нас разбили, а утром можно будет уже и добивать. Так шо, если ударить как следует по селу, ей-бо, они драпанут. Ну не ждуть они, шо мы снова на село пойдем. Да ще ночью. Думают, шо мы пересидим в лесочке, потом будем вырываться на Волчью, в плавни. Где-то там и засады крепкие поставили… И начштаба так думает.
– Так он же помер!
– В том и суть. Он и мертвый думает, а ты и живой, а соображаешь туго..
– С кем атаковать? У нас людей жменька, – буркнул Щусь. – А германов только в селе не меньше сотни.
Нестор не обратил внимания на слова Щуся. Вернее, сделал вид, что пропустил их мимо ушей. Спросил у окруживших его бойцов:
– Ну шо, хлопцы, будем тут, в лесочке, помирать, как старые собаки? Чи устроим им концерт?
– Це, Нестор, самовбывство, – уже громко сказал Щусь.
– Не хочешь с нами, сиди в своей землянке… Кто со мной?
– Я… я… я… – раздались голоса.
– Тогда пошлы! – Махно направился к лежащему на соломе Грузнову, тот, похоже, спал богатырским сном. – Вставай, Грузнов!
Пулеметчик не шевельнулся.
– Ну, вставай! Надо итти! – попробовал растолкать Грузнова Юрко и, растерянный, поднялся: – Нестор Иванович, он уже холодный… И кровь на животи…
Нестор склонился к Грузнову, взял его за руку. Но и без прощупывания пульса было ясно, что пулеметчик мертв.
– Героический человек… Терпел, молчал. – Он отыскал взглядом Щуся. – От такие у нас люди, Федос! А ты с ними в атаку боишься итти!
– Та я як все, – отозвался Щусь. – Пойду. Чего ж…
– Ну и ладно… Фома! Дай мне «Льюис» Грузнова.
– Тяжелый, – предупредил Кожин.
– Не тяжелее мешка с зерном. – Нестор взял пулемет на руки. – Покажи, де тут предохранитель. Ага. Понятно… Юрко, два диска с собой и далеко от меня не отходи!
– Та я завсегда рядом, Нестор Ивановыч!
Выйдя из леса, они затихли. При каждом взрыве осветительных снарядов приникали к земле. К счастью, свет сотен тысяч свечей не пробивал заросли. Переползли через дорогу. Начались огороды. Ползли. Даже подсолнухи не шевелились, метелки кукурузы не вздрагивали. И все ближе и ближе к домам… От скрытности сейчас зависела их жизнь.
В селе горели костры, доносились разговоры, беспечный смех. Немцы – кто ел, кто пил, кто спал, накрывшись шинелью. Спали на снарядных передках, на фурах, просто на земле. Винтовки по всем правилам были поставлены в козлы. Возле них прохаживался полусонный часовой. Ждали рассвета. Основной удар планировали нанести на той стороне леса, на открытом пространстве, перед плавнями. Там уже расположились засады, которым была передана большая часть пулеметов. Воевать – это наука. Die Militarwissenschaft.
И вдруг раздалось многоголосое «Ур-ра!». Затрещали сухие выстрелы, громко забухали, сотрясая ночной воздух, гранаты…
Махно и Лепетченко приостановились и стали поливать улицу пулеметными очередями. Не целясь. Пули сами находили свои жертвы. Хоть и ночь, а движение теней было заметно.
Кожин с кем-то из молодых волок по огородам «Максим». Спотыкались о еще неубранные тыквы, капустные вилки. Падали. И снова бежали на звуки близкого боя.
Село опустело. Те из немцев, кто посмелее, попрятались за плетнями, стали отстреливаться…
И тут партизанам пришла неожиданная помощь: и стар и млад, все, кто пытался записаться в отряды Махно и Щуся, высыпали из хат на улицу со своим «холодным оружием» в виде вил, кос, топоров. В каждом дворе завязывалась схватка. Атакованные с тыла солдаты яростно сопротивлялись, понимали, что на пощаду им рассчитывать нечего.
Крики, азарт боя…
Похоже, такой схватки оккупанты не могли себе представить даже в дурном сне. Они пришли сюда, чтобы отъедаться и отсыпаться, но не воевать с лютью и безоглядностью.
Но – дрались. Один смельчак уцепился за рукояти установленного на треноги пулемета, дал очередь, смел нескольких партизан. Но тут же сзади на него навалились несколько стариков с вилами. Смолк пулемет…
Не выдержали австрияки и немцы! Побросав винтовки, побежали из села. Некоторые обрубали постромки, вскакивали на лошадей. Мчались на фурах. От брошенной кем-то из партизан гранаты разлетелся на куски артиллерийский передок со снарядным ящиком. Полыхнуло так, что загорелись соломенные крыши ближних хат…
И – тишина. Возле все еще дымящихся хат стали собираться жители села. Все были взволнованы небывалой победой. На улицах, во дворах и на огородах валялись изуродованные в бою пушки и пулеметы, лежали убитые оккупанты. Люди требовали митинга! Это новое, короткое, как выстрел, слово с питерских и московских уличных собраний докатилось уже и сюда, в глухую украинскую провинцию.
– Даешь митинг!
– Якый тоби митинг, придурок?! Для його ця… як вона… трибуна нужна!
– Нестора! Махна сюды! Пиднимить його!
Нестора подняли на снарядный передок. Юрко помог ему удобно пристроить перевязанную ногу.
В руках у многих сельчан появились копотные самодельные факелы. Осветили стоящего на снарядном передке Махно.
– Нестор! – закричал из обступившей его толпы все еще разгоряченный недавним боем Лепетченко. Повязка на его голове пропиталась кровью. – Веды нас куда скажешь! Хоть до чорта в пекло!
– Нестор! – поддержал приятеля Каретников. – Будь нашим батькой!
– Батькой! Нестора – батькой!
– Мы с тобой, Нестор Ивановыч! Не отказуйся!
Затерявшись в толпе, Щусь молчал. Он не ожидал такого предательства от Каретникова.
– Батько!..
– Батько Махно!..
Общие слезы и общий восторг. Каждый норовил дотронуться до Махно.
Нестор затуманившимися от слез глазами видел лица людей. Слышал крики. Это была высшая минута его славы.
«Батько» – так называли козаки своих военачальников, которые завоевывали сердца народа. Таким был славный запорожский полковник, кошевой атаман Иван Серко, кумир его детства. Батько! Отец для всех, даже для стариков!
– Батько Махно!.. Батько…
– Батько! – кричал уже и Щусь, заражаясь общим настроением.
Не было и нет выше звания на Украине! Что там фельдмаршалы и генералы, которым вручали ордена, эполеты и жезлы в роскошных залах? Не на площадях вручали! Не народ!
– Спасыби вам, – бормотал Нестор сквозь слезы. – Спасыби!.. Я только для вас… Спасыби!
«Он должен был родиться всемогущим или вовсе не родиться»…
Глава двадцатая
Играла музыка… Ранней украинской осенью восемнадцатого года в братской могиле хоронили бойцов анархии. Без гробов: некогда! Опускали одного за другим в большую яму. Грузнова, Семёнова-Турского, многих…
Печально играл нехитрый деревенский оркестр: барабан, бубен, гармошка, скрипка. Исполняли, что знали: жалостливое, народное. «Из-за горы витер вие, а в долыни тыхо. Добре було на Вкраини, а тепер лыш лыхо…» Старая украинская песня о козацкой доле, о смерти на чужбине…
С кладбищенских деревьев падали первые пожелтевшие листья. Падали на непокрытые головы повстанцев, на лошадей, на груду свежей, черной земли. Встав на тачанку, говорили короткие речи, грозя кулаком, утирая слезу. Под музыку кто не заплачет?
Нестор говорил, опираясь на палку, за ним Щусь с перевязанной головой, потом Халабудов… Гармошка, бубен, скрипка играли тихо, не заглушая их слов. Нестройные залпы прощания вмешались в эту музыку.
Местный батюшка примчался к похоронам, придерживая рясу. Его перехватил Лепетченко: на его голове была все та же заскорузлая, рыжая от запекшейся крови повязка. Глаза у Сашка были дикие, он развернул коня, едва не сбив батюшку:
– Повертай додому, пан отче.
– Без отпевания? – испугался священник. – Нельзя так. Не положено.
– Иды, иды. Сами управымся.
– Сынкы, як же так… Души загубите… Грех!
– У сынов анархии грехов не бувае, – строго обьяснил Лепетченко, тесня попа конем.
– А души, души? – спрашивал батюшка, но партизан не ответил.
Полетели в яму комья земли. Проворно заработали лопатами привычные к тяжелому труду сельчане. Какой-то мужичок привез на телеге только что сколоченный из старых бревен темный крест.
– Куда ты с хрестом! – остановил его Щусь у самой могилы. – Мы без хреста… О! – Он оттянул здоровой рукой тельняшку, показал татуировку: «Свобода или смерть».
– Селян уважить надо, – возразил возчик. – Не поймуть. Не собак закопуем!
Щусь вопросительно посмотрел на Махно. Нестор сделал разрешающий жест: мол, пусть. Крест быстренько вкопали в свежую землю, подровняли могилу. Юрко подвязал к кресту черное знамя с надписью: «Власть рождает паразитов, анархия рождает свободу». Его заготовили уже давно, собирались водрузить в Гуляйполе, как только освободят.
Старухи крестились на знамя. Перешептывались:
– Це шо ж, хоругва у них така?
– Хоругва, бабушка. Хоругва.
– Ну, тоди нехай.
Музыканты играли без перерыва. Переходили от одной печальной мелодии к другой. Трепыхалось на ветру черное знамя…
От похорон к веселью – один шаг. Украина на четвертом году войны. Ко всему привыкла.
Вечером те же музыканты играли веселые и шуточные песни. «Ой пиду я до млына, до старенького, та й найду я там Васыля молоденького…»
Еще полно сил и уверенности украинское село, еще много молодежи, еще вдоволь зерна в амбарах, и многопудовые свиньи роются на осенних огородах…
Репарации? Контрибуции? Умные люди много мудреных слов придумали. А смысл один: грабеж. Как и сто, и триста лет назад. К этому можно приспособиться, крестьянский ум верткий…
Как бывало? Пронесся по селу слух: едут! Быстренько скотину на глухой хутор, до кума, лошадей – в лес, зерно – в яму за огородами. Случалось, что-то находили: плетей всыплют, зато основное останется. Голода на Украине давно не было. Шевели мозгами – будет хата с пирогами. А пока… пока гуляй, бабы с мужиками! Гуляй, девчата с парубками! Вот скинут оккупантов и варту, заживут сами, без панов, без налогов, без управляющих. Свобода! Не будет державы, господ, начальников!
Гуляло село! Хоть смерть и близко ходит и до свободы не две, не три версты, а парубки все равно льнут к девчатам. А как же по-другому? Как же свадьбы гулять? Как же дети будут рождаться?
Тени танцующих мелькали за тынами. Смех, крики:
– Помянем товарышив наших…
И тут же:
– Ой, дядько Федос! Шо вы мени руку пид спидныцю запускаете! Мы ж з вамы ще й не познакомылысь!..
Жизнь!..
Не спало село, догуливало победу. Откуда-то издали доносились усталая гармошка и охрипшие голоса.
Махно лежал на телеге, на охапке душистого сена, глядел в глубокое звездное небо. То ли слушал голоса, то ли был погружен в свои мысли.
– Батько, – сам себе тихо и удивленно сказал он, вслушиваясь в ночную жизнь села.
Прозвучали шаги, над ним склонился Юрко Черниговский, верный телохранитель и ординарец.
– Шо, батько Нестор Ивановыч, нога болыть? – Хлопец с явным удовольствием выговорил этот новый титул – «батько».
– Нога?.. Нога – это ничего. Душа болит, Юрко.
– Чого, батько? Нимцив побылы, армия разростаеться. Из Осокоров сорок мужикив пришли – просяться. И из Серапионовкы – тоже з полсотни…
– Молодые, старые?
– Та всяки.
– Старых – додому. Понадобятся – позовем. А молодых – на проверку. Кто из них какой-нибудь специалист, ну, артиллерист там чи ветеринар, пулеметчик, кавалерист – тех оставляйте…
– Я и говорю: скоро настояща армия буде! – восторженно сказал Юрко.
– Не спеши, Юрко. Пока шо так получалось: с десяти одного-двух брали, а остальных, пока время есть, обучать надо. И пускай ждут. Чтоб конь справный был, седло, шашка, винтовка! Придет час – позовем!
– Так чого ж вы печалуетесь?
– Сильно это, Юрко, ответственно – «батько». Через то и душа болит. Это ж… понимаешь… это ж не просто командир, а всем трудящим людям батько. – Махно тяжело вздохнул. – От атаман Серко был. Его тоже батьком звали. Какой человек! Триста с чем-то боев выиграв. А бои тогда какие были! Саблями, пиками, врукопашну. Кровь лилась, як дождь осенью.
– Слыхав трошки, диды рассказывалы.
Махно на время замолчал. Вспомнилось вдруг босоногое детство, костер, пастушьи ночи, чудесные рассказы о запорожцах. Давно это было, ой как давно!
– От и я хотел, ще когда хлопченятком был, стать таким, як Серко. Он справедливый был, и храбрый, и жестокий, и мылосердный, и хитрый – всего было намешано… И все ж был он своим козакам батьком.
– Вы б ще поспалы, – попытался успокоить Юрко растревожившегося Махно. – Я туточки… з маузером!.. Я не засну!
– Я й настоящим батькой уже был бы, не названным. Сыну вторый год бы пошел. Татом бы мене звал… А тепер я для всех батько, а сам без сына. Такой вот фокус жизни… – Махно поворочался, осторожно передвинул раненую ногу. – А ту панночку Винцусю помнишь? Ох, яка ж красива была!.. От я и думаю: сколько ж ще крови прольется, пока счастье придет… Ну, наступит оно. А сына моего нема. И той красивой панночки… Винценты. И для кого оно будет, то счастье? Может, для тебя, Юрко?
Но адъютант не отвечал. Умаявшийся за сутки, он мгновенно уснул. Махно склонился с воза, вынул маузер из его расслабленной руки, положил рядом с собой.
– Спи… телохранитель, – тихо сказал он Юрку и продолжил размышлять то ли сам с собой, то ли со спящим адьютантом.
Ночь на возу под украинским небом будоражила его, будила воспоминания, неожиданные мысли, которые казались ему какими-то чужими, навязанными звездами над головой, легким ветерком с плавней или еще чем-то непонятным, таинственным, сильным, скрывающимся где-то рядом, но незаметным глазу. Может быть, они, эти мысли, были даже вредными, непозволительными для воюющего человека?
– От и детей царских большевики побили. На шо рассчитывают? На силу свою? Не-ет, куда-то не туда катится наша жизнь. Не похоже, шоб к счастью… Врагов надо быть без жалости, тут по другому нельзя. А дети – они ж пока ще никто, не враги – это уж точно.
А сам-то он жалел их, когда кровавым огненным шаром прокатилась его сотня по степным усадьбам? Нет, не жалел. Ради дела, ради свободы, ради очищения родной земли старался. Брал грех на душу, брал! Чего ж сейчас рассиропился? Стал в большевиков за царских детей шилом тыкать. А ведь он с большевиками одним миром мазан! Миром? Кровью!.. Вот вырастут сегодняшние дети, придут другие поколения? Поймут ли они их? Оправдают ли? Кто знает, не заглянешь ведь в будущее.
Мысли Нестора стали путаться. Он задремал…
На рассвете загорланили петухи. Следом замычали коровы, требуя пойла. Обычные деревенские звуки. И не подумаешь, что еще вчера здесь был бой, горели хаты, потом были митинги, похороны и следом веселье. Как много могут вместить в себя одни короткие сутки! Об этом – теперь уже прошлом – напоминали лишь закопченные печи на месте сгоревших хат и еще не убранные с улиц разбитые орудия, снарядные повозки, убитые лошади. И, как тяжелое похмелье, остатки ночных дум.
Заспанный, еще не отошедший от тяжелого короткого сна, Махно сидел на возу, а местный мужичок Порфирий, в кургузом, потертом, но городском пиджачке и грубых крестьянских сапогах, перебинтовывал ему ногу. Возле Порфирия стояло несколько склянок с торчащими из них палочками, самодельными шпателями.
Нестор морщился от боли.
– Ты потихенько… не спеши, – зло шептал Порфирию Юрко.
– Думаешь, буде не так больно?.. – шмыгнул носом Порфирий. Нос у него был цвета недоваренной свеклы и выдавал склонность к народному напитку. – Оно, конечно, був бы я настоящий лекарь… А я цей… як його… фершал… по скотине… теринар, та еще й самоучка… Я бильше, як бы сказать, по кастрации… ну, кабанчика облегчить чи там с бычка вола исделать…
Вокруг уже собрались махновцы, наблюдали. Рана в икре была сквозная, по мякоти. Прочистив отверстие нащипанным из чистого холста тампоном, намотанным на револьверный шомпол, Порфирий затем влил в рану первача, испытывая явное наслаждение от запаха. Зато Нестору приходилось несладко. Закусив губу, он откинулся назад.
– Вы, хлопци, следить за цым теринаром, – обратился к махновцам Григорий. – Привык кабанчикив легчить, так шоб ненароком батьку яйця не отхватыв… Бач, як руки трясуться!
Хлопцы захохотали. Даже Махно улыбнулся сквозь сжатые губы.
– Рукы трясуться од сурьезной роботы, – пояснил Порфирий. – Спробуй быка завалыть… З людыною не легше. Вона, правда, не брыкаеться. Зато яка ответственность… Наша теринарна робота, так думаю, сама тяжола. А я с утречка ще даже не похмелявся.
Благостную утреннюю тишину нарушил дробный стук копыт и скрип колес – прямо во двор лихо въехала двуконная тачанка. Под умелым управлением ездового замерла на месте, словно ударилась об стену. Кони даже всхрапнули, закусывая удила. С них стекала пена.
– Здраствуйте! – обратился ездовой к обступившим Нестора махновцам – Сказалы, в Дибровки страшенный бой иде. Так я до вас, на подмогу!
– Спасибочки. – Федос Щусь галантно снял бескозырку. – С трудом, но обошлысь и без вас.
– Не успив, значить? – нисколько не смутился дед. – Ничего, другие бои будуть!
Щусь заглянул в тачанку и, увидев две культи вместо ног, принайтовленные к переднему сиденью, даже рот открыл от удивления.
– Бои-то будут. А только на кой хрен ты нам, безногий, нужен? – безжалостно сказал он.
– Ты помолчи, сопляк! – добродушно огрызнулся дед Правда и поверх голов хлопцев обратился к Махно: – Здоровеньки булы, Нестор Ивановыч!
Махно вгляделся в приезжего. Трудно было забыть это грубое лицо с крупными, глубокими морщинами и полуседыми усами, которые не висели понуро, как у печального чумака, а лихо глядели в стороны.
– Здорово, дед Правда!.. Шо, признал меня в этот раз?
– А я й тоди, на станции, вас прызнав. Тилькы ж вы не хотилы, шоб вас признавалы, я й промовчав… А насчет ног, так я так скажу, Нестор Ивановыч: чем коротши ногы, тем розумнее голова. Закон природы!
Хлопцы поняли, что встретились знакомые. Расслабились. Заулыбались. С интересом прислушивались к беседе. Заглядывали в тачанку, в короб, где ремнями крепились обрубки ног. Качали головами, восхищаясь и жалея.
– Ну и яка ж польза нам от твоей розумной головы? – не без ехидства спросил Щусь. Он не без труда пережил возведение Махно в звание «батьки». Но быстро свыкся с переменой: против народа не попрешь. Не только германца победил Нестор, но и его, Щуся. Ну что ж, будет вторым, как когда-то. – Голова, дед, она только приказы отдает рукам чи там ногам. А те уже действуют.
– О! Справедлывый вопрос! Я ж ще с Японской войны пулеметчик. Даже медалью награжденный, – с достоинством отвечал дед Правда.
Тут уж хлопцы и вовсе зашлись смехом. Увечье деда Правды как тема для разговора, а то и шуток их не смущало. Обтерпелые хлопцы, всего навидавшиеся.
– Ну и як же ты без ног, дед Правда, будешь пулемет тягать? – Щусь залихватски сбил набок бескозырку так, что она чудом удерживалась на макушке.
– То ты його тягать будешь, – спокойно ответил дед, сворачивая цыгарку. – Бо у тебя только бескозырка розумна, бачь, як на голови держится. А шо под нею, це ще надо провирять!..
– Но-но, дед! – нахмурился Щусь. – Ты на флот не того… не шибко…
– А шо! Я правду в очи говорю, потому и хвамилие у мене таке – Правда. Ще от запорожских козакив хвамилие пишло! – спокойно сказал дедок, затягиваясь самосадом и высокомерно оглядывая обступивших его тачанку махновцев. – От вы пулеметы на тачанках возите. А в бою шо? В бою их на землю ставите, а коней кудась в укрытие… Так – ни?
– Ну, примерно, – согласился кто-то из хлопцев.
– Дуристика! Бо – потеря времени, це раз, и маневру нема, це два… От я й подумав… А ну подайте мени сюда пулемет!
Махно внимательно присматривался и прислушивался к Правде. Он уже начал догадываться, до чего додумался дед.
– Принеси ему пулемет, Фома! – приказал он стоящему здесь же Кожину.
Пулеметчик и двое его помощников подняли на тачанку семидесятикилограммовый «Максим» со щитом и станком.
– Сюды його! – показал дед.
И Кожин с хлопцами установили пулемет на заднее сиденье, в уже заготовленные выемки для колес. Ствол пулемета смотрел дулом назад.
Дед, привычно приподнял свое тело на руках, пересел, быстренько приладил какие-то дощечки в гнезда, прочно закрепил колеса, затем сказал Кожину:
– Ну, займай свое законне место, служивый! А вторый номер хай заправыть ленту. Произведем репетицию.
Заняв свое место ездового, дед Правда тронул коней. Тачанка выехала со двора, понеслась по улице к выгону. Пулеметчики, как и их оружие, ехали задом наперед.
– А ну, давай! Шмальни! – прокричал дед Кожину.
– В кого?
– Та ни в кого!
– Так не могу!
– А ты представь соби, шо перед тобою той… як його… гетьман Скоропадський!
– Ну, разве что!
Прозвучало несколько коротких очередей.
Дед Правда круто развернул тачанку.
– А ну – з поворота! По нимецкому кайзеру, кол йому в печинку!
Еще одна очередь разнеслась над селом.
Тачанка помчалась по улице обратно. Фома Кожин уже не стрелял. Он только ворочал стволом пулемета: туда-обратно, вверх-вниз. Прилаживался…
Подъехали к Нестору Махно.
– Антилерия на колесах! – доложил дед Правда. – Хай пулеметчик скаже!
Фома слез с тачанки. Махно вопросительно смотрел на него.
– Дело! – одобрительно сказал Кожин. – Только спинку надо ще чуток подрезать, для лучшего обзора.
Махно залез в тачанку. Поводил стволом вправо-влево. Положил руку на могучее плечо деда Правды:
– Соображаешь!
– А я шо говорыв. – Дед обернулся к Щусю: – Дело не в бескозырке, а в голове…
– А если таких тачанок штук пять, а то и вси двадцать… – стал размышлять Махно.
– Це все равно як полк! – отвечал ему дед. – Та шо там полк! Армия!
Махно, опираясь на палку, повернулся к Каретникову:
– Семка, сколько у нас тачанок?
– Наберем… Шесть штук, трофей. И ще у селян…
– А пулеметов?
– Пьять «Максимов»… и австрийскых четыре… У йих эти… «шварцлозы», чи як. Трохы на «Максима» схожи.
– Собери плотников и шоб через три часа они обладнали пулеметами шесть тачанок! И команды подбери!
– Слухаю, батько! – вытянулся Каретников. – Семь штук обладнаем. На две «австрияков» попробуем приспособыть.
– Людей багато взяли?
– С полсотни пришло. Старых обратно отправили. А молодых чоловик десять отобрали.
– Правильно. И хоть малость их обучите. Бои не за горами!
И едва ли не в тот же день у двух австрийских, или, если быть точными, у немецких 75-миллиметровых полковых пушек собралась молодежь, только что записавшаяся в отряд.
– Шо це есть? – с важным видом спрашивал Сашко Лепетченко. Перевязать голову чистыми тряпками у него так и не нашлось времени. В своем тюрбане с рыжими пятнами он выглядел геройским и знающим воякой. – Объясняю. Це есть артиллерийське орудие, з якого можно не только людей поубивать, но й хату розвалить и все таке прочее. Состоить из щита, колес, ствола… ну, и из цього… як його… через которе дывляться… – к своему явному стыду, замялся лектор.
– Панорама, – подсказал Мыкола, хлопец из имения Резника.
– Це ты, Мыкола? О, молодец! А ну йды сюда! – обрадовался Лепетченко.
Мыкола, смущаясь, протиснулся сквозь толпу.
Незамеченными подошли к толпе Махно, Щусь и еще несколько командиров. Прислушались к беседе.
– Ты шо, в артиллерии служив? – спросил Лепетченко у Мыколы.
– Було.
– Стрелять можешь?
– Можу, – под гул одобрения ответил Мыкола. И после паузы со вздохом добавил: – А от попадать ще пока не можу.
– Як же це? – удивился Лепетченко.
– Та я в расчете був шестый номер. З кобылою, на зарядному ящику. До панорамного прицелу не допускалы. Та там и наука страшенна… тригометрия… «С закрытой позиции по задней рейке», «Нулевая отметка»… – забормотал он и вовсе что-то невразумительное. – Убыться – не понять!
– Сгынь, артиллерист кобылячий! – обозлился на него Лепетченко и, заметив возвышающуюся над толпой бескозырку Щуся, позвал: – Федос! Ты ж моряк. У вас там, на флоти, сплошна калибра… Стрелять можешь?
– Стрелять – дело простое, – важно ответил Щусь. – Но я ж гальванометрист. Это повыше артиллериста. У нас там сплошь электрическа наука!
– Похоже, вси мы тут гавнометристы, – под общий хохот бросил кто-то из толпы. – Бо стрелять из пушок нихто не умеет.
– Ладно, хлопцы! – подвел итог Махно. – Пустые разговоры! Нам пока пушки – до коровьего хвоста. Нам быстрота нужна, маневренность, а не орудия тягать… А будет настояща армия, найдутся и артиллеристы.
– Це правильно, батько! – раздались голоса. – Буде армия, буде и антиллерия!
Так в хохоте, в фантазиях и в серьезных думках рождалась знаменитая в будущем повстанческая армия батьки Махно.
Верхом через село промчался Калашник с двумя хлопцами. Прервал обед.
– Батько! Од Янычаровкы на нас йдуть нимци! Скадрон германських гусарив, до полку австриякив. И ще й артиллерийска батарея!..
Махно обратился к Фоме Кожину:
– Что, Фома! Может, попробуем тачанки на практике?
Немногословный пулеметчик не ответил, лишь что-то промычал, сидя на тачанке и прибивая доски-держалки. Рот у него был полон гвоздей.
– Пять тачанок уже готови, – ответил со своего экипажа дед Правда. – А от пулеметчикив мало.
– Научатся, – бросил Махно. – Гайда, хлопцы!
– А як же село? Спалят! – охнул кто-то из местных.
– Всех не спалят. А там, де палят – лучше растет!.. – ответил Нестор и успокоил: – В селе боя не будет!.. Гайда!
…Спустя короткое время из села выехала вереница телег, наполненных бойцами и новичками, только что вступившими в отряд. За ними – не как положено, одна за другой, а шеренгой, двигались тачанки с пулеметами. Прикрывала отход кавалерия батьки Махно: человек сорок разномастно одетых и кто чем вооруженных бойцов. Пыль поднималась над широким шляхом. День был безветренный, жаркий.
Объединенный карательный отряд уже вступал в село. Немецкий кавалерийский майор из ганноверских «синих гусар» (голубоватый доломан с витыми шнурами через грудь, такие же чакчиры и тоже со шнурами, богатая кожаная амуниция, высокая фуражка с имперской черно-белой кокардой), красавец с подкрученными усиками, взошел на пригорок, повернулся к теснящимся за ним унтерам, фенрихам и рядовым:
– Бандиты бегут! На марше это будет легкая добыча. Покажите, на что вы способны!.. Пленных не брать!
Гусары начали перестраиваться, следуя за правофланговыми, у которых на пиках трепыхались черно-белые флюгарки. Это было внушительное зрелище! Мощные кони, на них крепкие ганноверцы, откормленные за месяцы хозяйничанья на Украине. Их слегка искривленные тяжелые сабли, больше похожие на палаши, посверкивали богатыми гардами, играли синими темляками. На «правильной» войне гусары предпочитали скромную, неприметную форму мышино-зеленоватого цвета, но, вступив в капитулировавшую часть России, предпочли надеть броскую, парадную.
– Марш!.. Можете надеть шапки! – зычно скомандовал майор. – Попугайте эту сволочь!
Уже на ходу, но еще не торопясь, гусары доставали из кожаных черезседельных сум свои пышные меховые шапки, затягивали на подбородках пряжки. Топот копыт становился все громче. По ширине всей улицы, вытаптывая расползшийся по дороге спорыш, мчались, все убыстряя аллюр, шеренги гусар. В таком порядке они и выскочили на шлях.
Прекрасное зрелище! Майор наблюдал за ходом эскадрона в свой «цейс»:
– Хорошо идут! Хорошо!
На настоящей войне, где-нибудь на Западном фронте, он бы не смог провести такой атаки-преследования. У англичан и французов – хорошо оборудованные позиции, проволока, рвы, сотни пулеметов. А здесь – голая степь и убегающая по ней толпа полуоборванных крестьян: прекрасный материал для рубки. Этот, с позволения сказать, противник, даже если у него и есть два-три пулемета, уже не успеет развернуться, пристреляться. Разрозненный огонь выбьет самое большое пять-шесть гусар.
В бою не обходится без потерь. Но сейчас их не будет. А вот толпа удирающих бандитов будет уничтожена. Вся. В этом он не сомневался.
Пыль становилась все гуще и мешала ему наблюдать. Но за пыльным бураном, поднятом гусарами, виден был второй столб – от махновцев, – сквозь который просматривались разномастно одетые кавалеристы на низкорослых крестьянских лошадках.
Могучая масса гусар накатывалась на них, готовая смять, раздавить, поглотить. Расстояние между убегающими и догоняющими быстро сокращалось.
Махновские всадники, среди них и Лепетченко со своей чалмой, и Калашников, и Левадный, и сам Махно с перевязанной ногой, сопровождаемый верным Юрком, то и дело оглядывались, убеждаясь, что гусары неумолимо приближаются…
Впереди махновской кавалерии мчалось пять тачанок с пригнувшимися пулеметчиками. Сквозь пыль Махно видел прищуренные глаза невозмутимого Кожина, жующего соломинку, искривленное лицо деда Правды, чуб Каретникова поверх пулеметного щитка…
– Батько, скачить в сторону! – умоляюще прокричал Нестору Юрко, глядя на догоняющих их гусаров в каких-то никогда не виданных в этих краях меховых папахах. – Мы тут сами…
Гусары, видя, что махновские кавалеристы не рассыпались в стороны, а продолжали прикрывать собой длинный обоз, опустили пики. Редкая, почти никогда не выпадавшая гусарам удача: атаковать и рубить противника по всем правилам старинного кавалерийского искусства!
Ближе пики… Ближе… Совсем близко…
– Нестор Иванович! – закричал Юрко, прикрывая собой Махно и намеренно чуть отставая.
Фома Кожин привстал на своей тачанке и заорал громовым голосом:
– Руби дрова!
И тотчас махновские всадники ушли влево и вправо на поле, где ежиком торчала стерня, оставшаяся после косовицы. Гусары оказались в двух-трех десятках шагов от тачанок, идущих одна рядом с другой, строгой шеренгой. Из-за пыли гусары не могли увидеть, что на всех тачанках установлены пулеметы. Да и неприметны они были, лишь слегка выделяясь зелеными щитами из-за спинок задних сидений.
Новое оружие новой, маневренной гражданской войны! Гусарам оно еще было неведомо. Впрочем, махновцам – на практике – тоже.
Пять пулеметов одновременно ударили по гусарам. Почти в упор. Очереди сначала пошли не очень точно. Но шлях был мягкий, прицел не сбивал, и пока махновцы, разошедшиеся в разные стороны на своих юрких лошадях, скакали по степи, «Максимы» валили гусар шеренгами. Гусары шли на кинжальный огонь, как бык на красную тряпку. Лишь последние несколько шеренг начали догадываться о ловушке, все еще не до конца понимая, откуда ведется огонь. Стали расходиться по степи. Поворачивали обратно…
Тачанки остановились, и Фома Кожин меткими короткими очередями продолжал стрелять по противнику.
На шляху, как ряды у хорошего косаря, лежали шеренги гусар: у некоторых даже диковинные шапки не слетели, удерживаемые подбородочными ремнями. Кое-кто еще слабо шевелился. Спешившиеся махновцы подбирали оружие, подсумки с патронами, добивали раненых, рыскали по карманам, расстегивали амуницию, стаскивали сапоги… Успели раньше воронов…
Нестор подъехал к тачанке деда Правды, еще раз посмотрел на дорогу, устланную трупами лошадей и людей. Снял свою барашковую шапку, потрясенный зрелищем.
– Ну и ну!.. Кто б мог сказать! От это тачанка! От эт-то степная царица! – Он свесился с коня, наклонился к деду Правде. – Дай я тебя расцелую, дед!.. Хоть ног у тебя и нету, зато какая золота голова!
– Позволь, и я тебе поцилую, – отозвался дед Правда, вытирая мокрый ус. – Бо и я б не догадався от так рядком тачанки поставить… Это ж получилась цела батарея! Шо твоя шрапнель!.. Не-е, Нестор Ивановыч, у тебя и ногы, и голова – все на мести! Не здря батькой нариклы!
Нестор обернулся к Кожину:
– Хороших дров нарубил, Фома!..
Но пулеметчик был недоволен:
– Не. Все ж таки многие успели обратно повернуть.
– Догоним!
«Тачанка» – слово это в новом, грозном своем значении войдет не только в украинский и русский языки, но и, в транскрипции, в немецкий. Старинная подрессоренная бричка с пулеметом на заднем сиденье – чудо степной войны! С последними выстрелами Гражданской войны она исчезнет, вновь превратившись в обычную мирную повозку, средство передвижения землемеров, счетоводов…
В селе майор опустил бинокль. Лицо его стало безжизненным и страшным. Часть гусар, пыльных, в сбившихся шапках, уже почти подскакала к своему командиру – жалкие остатки блестящего эскадрона…
Но их доклад майора уже не интересовал. Он не стал его слушать, резко развернул коня и ускакал из села в степь, в сторону Гуляйполя. За ним тронулся конвой.
Разбитое войско, растянувшись по степи, последовало за командиром.
К Нестору подьехали Щусь, Григорий, Лепетченко, Калашник, Левадный, Каретников, Трохим Бойко… Лашкевич протянул Нестору карту:
– Глянь, батько, якыйсь гусар посеял. Вроде як наши места, а написано не по-нашому. Ось Катеринослав, Херсон, Одесса…
– Отдай Чубенку. Федос говорил, он в карте хорошо разбираеться.
– Як на гармошке грае, – подтвердил Щусь.
– Может, она нам чуть позже пригодится. Когда по всей Украине пойдем. А пока… дорогу до Гуляйполя мы и так найдем!
– Шо, на Гуляйполе пидем? – удивился Щусь. – Там же немцев до чорта. Полк, не меньше. А у нас?..
– А у нас – внезапность, это уже считай рота. Тачанки, что нагнали на них страху – ще рота. Та нас человек… Сколько, Тимка?
– Може, сто, може, чуть бильше.
– Ну так шо ж нам наполовину разбитого немецкого полка бояться? – Нестор поднял глаза на Щуся. – Даю тебе, Федос, в подкрепление три тачанки, пойдешь со своими хлопцами левым флангом. И прочешешь все Гуляйполе до самой церквы…
– Поняв.
Махно оглядел окруживших его бойцов, остановил взгляд на немолодом Трохиме Бойко:
– Ты, Трохим, в Японскую кем был?
– Так це колы було!.. Младшим унтер-офицером…
– О! – обрадовался Махно. – Назначаю тебя, Трохим, полковником. Пока полка нема, покомандуешь теми, хто есть. Зайдешь в Гуляйполе с правого фланга. И тебе тоже – три тачанки… Встренетесь з Федосом на площади, коло церквы! Понял?
– Понять-то поняв! Но полковник – це дуже высоко! Назначь мене, Нестор, лучше… ну, хочь сотником, чи шо.
– Ладно, будешь сотником, – легко согласился Махно. – Это ж временно. А справишься, хлопцы тебя хоть генералом назначат. Потому шо командиры у нас будут выборные. – Он встал на подножку тачанки, сверху оглядел сгрудившихся вокруг него соратников. – Давайте, хлопцы, не опозоримся! Гуляйполе – то наша родна мать! Наша столица! Ворвемся с грохотом, с гамом! Вперед!..
Застучали сотни копыт. Засвистели нагайки. Заскрипели колеса телег, тачанок. Пыль поднялась над степью…
Гуляйполе было не близко. Но уж очень им хотелось побывать в своем родном селе, в своей столице!
Справа высился курган с каменной бабой наверху. Сколько уже видел этот рукотворный холм, степная пирамида, вот таких походов, сколько слышал разбойничьего свиста, скрипа, звона оружия! Сколько крови впитала эта земля!
Глава двадцать первая
Поколупанное пулями здание почты, мрачный особняк бывшей полицейкой управы, народный театр, площадь, на краю которой стояла расписанная, как шкатулка, Крестово-Воздвиженская церковь.
Гуляйполе…
Бой только что закончился. Еще уносили в больницу на самодельных носилках раненых. Еще дымились, дотлевая, две-три хатки и клуня. А народ все стягивался и стягивался к площади. Почти все мужики были вооружены. Гвалт, шум. Махно стоял на тачанке, и к нему тянулись руки – люди хотели хоть дотронуться до него.
– Батько!
– Батько Нестор Ивановыч! З возверненням!..
– Надовго в этот раз, Нестор Ивановыч?
– Ще не знаю. Какая будет военна диспозиция, – загадочно отвечал Махно.
В угол площади согнали толпу пленных. Это были в основном австрияки, но попадались и венгры, и немцы. Среди них выделялись своими нарядами гусары. Махновцы бродили между пленными, высматривая добычу.
Вот один из махновцев углядел добротную меховую гусарскую шапку, снял ее. Немец что-то гневно заговорил.
– Та не шуми ты, ей-богу! – флегматично рассердился добродушный дядько. – Во-первых, нашо она тоби серед лета? И потом, скоро ж тоби не на чем буде цю шапку носыть. Ферштей?
Дядько примерил шапку, она ему оказалась велика, накрыла глаза и даже нос. Вокруг захохотали. Рассмеялся даже только что гневавшийся пленный…
– Ничо, може, жинки на воротник сгодиться. – Махновец затолкал добычу в торбу и пошел дальше, высматривая, чем бы еще поживиться.
И повсюду здесь шли торги. Меняли награбленное на награбленное.
– Мундирчик, мундирчик! Дывысь, як росшитый! Узорчатый! Пуговкы, шнурочкы!
– Дура! То доломан, а не мундир. На шо меняешь?
– На револьверт з патронамы.
– Малахольный! За револьверт я тоби живого гусара дам вместе з доломаном и ще й з конякою в придачу.
– Штанци! Штанци! Бач, з шовковым шнуром.
– То чакчиры, а не штанци.
– А як ты в йих розбыраешься?
– Я пока ще и в бабах розбираюсь!
Шумели махновцы, торговались. Хохотали. Площадь превратилась в ярмарку. К махновцам присоединились и гуляйпольские жители, тоже пытались что-нибудь урвать.
Пленные были испуганы, особенно не протестовали. Лишь высокий статный майор, командир эскадрона гусар, бунтовал. Не позволял себя раздеть. На чем-то настаивал. Иногда выкрикивал: «Коммандирен!», «Макно!»… Призывал, что ли?
В управе Махно и Лашкевич склонились над бумагами. Слева от себя Лашкевич пристроил счеты. Он то и дело смотрел в бумажки, какие-то отодвигал в сторону, какие-то клал под счеты, а некоторые, более важные, совал в портфель. И щелкал, щелкал костяшками.
– В австрийской бригадной кассе взялы двенадцать тысяч марок. – Он кивнул в сторону кожаных ранцев с телячьим верхом, брошенных в углу. – Хороша добыча… И в банке взято шестьдесят тысяч карбованцев…
Он опять пощелкал костяшками.
– И як ты, Тимош, так ловко с этим инструментом ладишь! – глядя на счеты и на измазанные чернилами тонкие пальцы «булгахтера», изумился Нестор. – Я до этой машинкы никак не могу дойти головой, як она считает? И главное, шо не ошибается. От в чем фокус!
Нестор взъерошил своему финансисту волосы. Давно не виделись. Лашкевич все это время скрывался на окраине Гуляйполя, мало показывался в дневные часы в селе. Случалось во время облав прятаться в подвале. Дружеский жест батьки остался, однако, без внимания. Тимош был увлечен своей математикой.
– Из комендантской кассы взято собранных по контрибуции шесть тысяч рублив… и сто шестьдесят штук серебряных и сорок три золотых монеты…
В комнату управы ввалился Щусь. Руку он уже снял с перевязи, но все еще прижимал ее к животу.
– Батько! – прокричал он еще от самой двери. – Мы там трошки пленных пошарпалы, не буде возражениев?
– А с чего вдруг ты разрешение спрашиваешь?
– Та там майор ихний, такый гад, все лаеться, до тебя просится. Видать, жаловаться буде… Може, пострелять их к чортовий матери?
– Но-но! Я тебе постреляю! – вскочил Махно. – То ж военнопленные! Не понимаешь? Это ж политика!
– Когда оны Украину грабили, не було политики. А теперь, значить, политика?
– Не лезь, Федос, в те дела, в яких не разбираешся! – строго сказал Махно. – Давай сюда того майора!
Щусь, гулко топоча ногами, вышел.
Много претерпела управа за последнее время. И казармой была, и складом. Стены пообтерлись, украсились надписями, полы пришли в негодность. Лаги под ними прогнили, доски гнулись.
Махно помотал головой – несколько ночей недосыпал, сказал Лашкевичу:
– Значить, так! Гроши раздай. Ограбленным, обиженным, вдовам, сиротам.
– Надо бы, шоб хоть документ якый предъявлялы, – высказал сомнение Тимош. – Шоб не сунуть кому попало. А то…
– Нема времени, – прервал его Махно. – При людях будешь раздавать. Народ знает, хто сирота, а хто нет… И без бюрократии! – И, понизив голос, доверительно добавил: – Не сегодня завтра нас отсюда попрут.
– Як же це? – горестно всплеснул руками Лашкевич. – С боем пришли, народ обнадежилы, все рады, як дети. А мы их покинем?
– Покинем. Свою силу показалы, германське гнездо розворошили и пока покинем. А будем тут долго сидеть – окружат и роздавят. И от села ничего не оставят… артиллерией.
– Поняв, – упавшим голосом ответил Тимош.
– И от шо ще! Малость грошей оставь. Зайдешь в типографию, заплатишь наборщикам. От души. Пускай отпечатают прокламации… для своих и для этих… для оккупантов. По-немецки. Найди переводчика.
– Так есть же у нас переводчик. Ще весною до нас пристав. Сашка Кляйн.
– Заготовь на каждого пленного по двести марок, по бутылке самогона. Ну, ще по шматку сала. С хлебом, конечно.
– Ты шо, Нестор? Отпустыть их хочешь, чи шо? Оны, падлюки…
– Тихо! Ну, пускай Щусь не понимае! Он тот… гальванометрист. А ты ж грамотный. Неужели не ясно: это ж политика! Пусть идут с салом та с прокламациями до своих. Напиши шо-то душевне, шоб за живое брало. Напиши, шо мы не хочем убивать, шо мы люди мирные… Про деточек шо-то… Ну, в таком духе.
– А мени шо, опять в Гуляйполи сыдить? В подполи?
– Пойдешь с нами. Нам в походе булгахтер тоже нужен. Народ прибывает.
– Ну, слава богу. – Широкое крестьянское лицо Лашкевича, на котором так странно смотрелись окуляры в проволочной оправе, расплылось в улыбке. – А то я без хлопцив якыйсь загубленный. Як без дороги.
– Выполняй!
Лашкевич надел фуражку, схватился за кожаные ранцы. Но они оказались тяжелые.
– Не надрывайся! Возьми хлопцев в помощники, – заботливо сказал Нестор.
На почту Махно пришел в сопровождении Юрка Черниговского и двух хлопцев из числа положенной ему теперь охраны – «почета».
– Ну шо, чернильна душа, телеграмму отправишь? – спросил он у знакомого почтаря.
Тот смущенно шмыгнул носом и развел руками.
– Шо, немцы без телеграфа жили? – гневно спросил Махно.
– Та ни. Покы бой йшов, провода покралы, – жалобно доложил почтарь. – Свынець – он же в хозяйстви… чи там на грузила, чи гончарам…
– Так… – рассердился Махно. – Ты меня знаешь?
– Та ну як же… Махно… Нестор Ивановыч.
– Плохо ты меня знаешь. Если через два часа на столбах не будет висеть провод, вместо провода будешь висеть ты! Понял?
– Понять-то поняв, – чуть слышно ответил телеграфист. – А только де ж я його тепер найду?
– Постарайся! Даю тебе двух хлопцев с нагайками. – Махно оглянулся на своих подручных. – Они тебе, в случае чего, подмогнут!
…На официальных зданиях – на управе, театре, бывшем полицейском стане – уже появилась наглядная агитация. Флаги, транспаранты – белым по черному: «Власть рождает паразитов!», «Свободу всему миру трудящих!».
Сельский художник-самоучка Будченко, стоя на шаткой лесенке, дописывал третий лозунг: «Богачи – павуки, кулаки – кло…»
Нестор, возвращавшийся с телеграфа, с удовольствием оглядел художество деда Будченка.
– Слышь, дед! Красиво! – не удержался он. – От только после слова «клопы» припиши ще два – «Смерть кровососам!»
– Я красною краскою, – согласился дед Будченко. – Шоб як кровь!
– Молодец, дед! Соображаешь!
На пороге управы Нестора задержал Щусь:
– От этот майор до тебя рвався!
Нестор оглядел майора, гусарский наряд которого уже был порядком потрепан.
– В чем дело? – спросил холодно.
– Их габе айне биттен… Их габе айне биттен… – заговорил майор. – Их бин айн официр…
– Так. Ясно, шо офицер, – сказал Нестор и обернулся к сопровождающим. – Поищите этого нашего немца… як его…
– Кляйн? – подсказал Юрко.
– Во! Пусть разберется, шо эта немчура хочет.
Юрко нырнул в толпу и буквально через несколько мгновений привел невысокого крепенького паренька с фатоватыми усиками. Это и был Сашка Кляйн.
– Поговори с немцем, спроси, шо ему надо? – попросил Кляйна Махно. Обменявшись с офицером несколькими фразами, Кляйн объяснил:
– Майор говорит, что по законам войны у пленных офицеров не отбирают оружие. Он просит вернуть ему револьвер.
– Я не слыхав о таких законах, – сказал Махно. – К тому ж у нас тут не война, а наглая грабительска оккупация.
– Он просит… он просит… – замялся Кляйн, – …револьвер всего с одним патроном.
Нестор долго и внимательно рассматривал майора.
– Битте… Битте, герр коммандер!.. – догадавшись, что означает эта длинная пауза, вновь обратился к Нестору майор.
– Шо ж… его дело… – сказал Нестор и велел сопровождающему его Левадному: – Дай ему, Марко, свой револьвер… с одним патроном.
Марко извлек из-за пояса револьвер и, не мелочась на патроны, отдал его майору.
– Данке!.. Шённ… данке! – благодарно зашептал майор, и на его глаза навернулись слезы. Он прижал револьвер к груди, осмотрелся. Увидел безлюдное место между глухой стеной управы и акацией, направился туда.
Никто не последовал за ним. Молча проводили его взглядами.
Майор подошел к акации, прислонился к толстому стволу. Долго смотрел на площадь, на снующих по ней людей. Поднял взгляд выше, увидел крыши домов, летающих в небе голубей… Еще выше…
Какое огромное небо над этой дикой землей, населенной непонятными варварами, которые воюют не по правилам, расстреляв из пулеметов гусарский эскадрон, прекрасных, доверчивых юношей. Таким методам его не учили. А через час или два и остатки эскадрона, он не сомневался, будут расстреляны. Он не хотел видеть этого.
Огромное небо… Облака. Куда они плывут? Может быть, туда, к Нижней Саксонии, к родному Ганноверу, к волшебным долинам Везера и Лейне. Судьба забросила его на восток. После мясорубки на Западном фронте война здесь казалась отдыхом. Они радовались. Россия распалась и сдалась. Им предстояла легкая гарнизонная служба, поддержание порядка среди монголоидов.
Ах, лучше бы он воевал где-нибудь во Фландрии.
Сухо щелкнул выстрел. Небо зашаталось, закружилось и померкло…
Лишь на следующее утро Юрко Черниговский доложил, что связь с Екатеринославом налажена.
– Нагайка помогла? – спросил Махно.
– Та всыпалы… – усмехнулся Юрко. – Од души!
На почте Нестор медленно расхаживал по помещению, поглядывая на телеграфиста. Сочинял текст.
– Записуй! Катеринослав. Военному коменданту герру… шо там у них за герр?
– Герр генерал Шлиппе, – подсказал телеграфист.
– Ну, этому, значит, герру…
Хлопцы помирали со смеху от произношения Махно.
– Пиши дальше. Ультиматум! – Нестор наслаждался звучанием этого слова и повторил его еще раз: – Ультиматум!.. Я, батько Махно, объявляю Гуляйполе столицей анархической вольной республики. Карательную экспедицию направлять сюда не советую. Бо могу сильно рассердиться. Тем более шо уже вся губерния охвачена восстанием. Ваши потери будут огромными и бессмысленными… Записал? Ну быстрее, быстрее!.. Приказываю: освободить из тюрьмы анархистов и других революционеров. В случае невыполнения все взятые нами в плен немцы и австрийцы будут расстреляны! Подпись: командующий повстанческой Украинской анархической армией батько Махно! – Он повернулся к своим сопровождающим: – Ну как?
– Здорово, батько! Особенно насчет армии…
– А шо, разве не армия? Она ж теперь вырастает як на дрожжах!
Телеграфист уселся за аппарат, начал выстукивать телеграмму.
И ночью при свете трех ламп Махно и Лашкевич продолжили корпеть над бумагами. На стене кто-то уже успел развесить портреты анархистских «святых» – Кропоткина и Бакунина.
– Это шо, ще столько осталось? – спросил Махно.
Лашкевич щелкал на счетах. Перед ним лежала гора денег всевозможных цветов и оттенков: австрийские шиллинги, немецкие марки, «старые» и «новые» русские рубли…
– Пленным роздать, як ты приказав. – Лашкевич отгреб от себя большую горку денег. Юрко Черниговский тут же ссыпал их в большой мешок и отнес к платяному шкафу, который временно служил чем-то вроде сейфа. Лашкевич указал на оставшуюся гору денег: – И в армейской казне надо хоть трошкы держать. Чи яку конячку у селян купыть, чи ще шо… Не будем же грабить!
– Правильно понимаешь нашу политику, «булгахтер»! Трофеи – это одно, а за грабеж – расстрел.
От группы ожидающих своей очереди отделился пожилой темнолицый дядько с прокуренными усами, положил перед Нестором бумагу:
– Утром не досталось. Так я до вас. Може, ще не все раздалы?
Нестор прочитал. Не нашел цифру.
– Так сколько просишь?
– Та скилькы дасте… Я ж понимаю, не я одын погорелець.
– О! Такие у нас люди! – подписывая бумагу, решительно сказал Махно и повернулся к Лашкевичу: – За спаленную хату выдай сто тысяч, за убитого зятя та дочку… – Он замолчал.
– Так скилькы? – не отрываясь от бумаг, спросил Лашкевич. – Грошей мало, только те, шо в казни.
– А разве есть у людыны цена? – Махно посмотрел на Лашкевича: – Где наша армейска казна?
– Та он, в шкафу. Отдельно. В тому кожаному ранци.
Нестор взял из шкафа ранец, подошел к столу, вытряхнул на него все деньги.
– Бери! Вси забырай! – махнул рукой. – Вместе з торбою.
Дядько, не ожидавший такого количества денег, стал засовывать деньги обратно в ранец.
– Спасыби вам, батько! И всей нашей… як ее… анархический власти. – Поклонившись, он отошел от стола.
Лашкевич заглянул в свой «гроссбух», поднял глаза на Нестора, укоризненно сказал:
– Ще ж на больныцю хотилы! Окна повыбыти! И ранетым! И докторам надо було б… Не выдержуе наша экономика.
– Другим разом заплатим, – вздохнул Нестор. – Наша экономика военна! Грабь награблене, раздавай ограбленным! – отрезал Нестор.
– А казав: за грабеж – расстрел.
– Понимай не так, як хочеться, а як сказано! Отбирай награбленное, а не трудом нажитое. И отдавай тем, кого ограбили.
Тут дверь распахнулась, и в проеме встал брат Нестора Савва. Он был, пожалуй, самый высокий в семье, на голову выше Нестора. Широко расставив руки, пошел на Нестора. Они обнялись.
– Здравствуй, братушка!.. Отпустылы! Вчора вечером! Не всех! В основному анархистов!.. – доложил Савва. Что-то вспомнив, он полез в карман старенькой куртки, извлек оттуда свернутый вчетверо листок, отдал его Нестору. – Подарок тоби, братику!
Нестор развернул листок. Это была листовка с давней тюремной фотографией Нестора и с надписями на немецком и украинском: «Бандит и убийца… помощь в поимке… Два миллиона марок»…
– Недавно всего миллион давалы. Дорожчаешь ты, братику.
– То вин раньше був просто Махно, а тепер – батько Махно. Та ще й командующий армией… Так шо ты не дуже! – осадил Савву Марко Левадный.
– Ты мене, Марко, не пужай! Бо я ж все-таки старший брат! – возразил Савва. – А старший – це старший! Хоть над командуючим, хоть над батькой!
Все рассмеялись. Братья еще раз обнялись.
Пленных выстроили на церковной площади. Немцы, австрийцы, венгры. Лишенные офицеров, они сами по себе подравнивались, поправляли мундирчики.
Савва, которому Нестор поручил ответственное дело, стоял у двух возов, полных какого-то добра и накрытых драным полотном.
– А хто ж толмачом будет? – спросил он у стоящего рядом Лашкевича.
– Он той… наш, гуляйпольский немец. Не узнаешь? Ну, шо приказчиком в галантерейной лавке у Липшиця був… Сашко Кляйн. Сочувствуе анархистам!
– Надо же! Приказчик, холуйска душа – и анархист! – удивился Савва. Он взобрался на воз, вытянул из кармана шинели бумажку. Впился в нее глазами. – Граждане австрияки, германци, венгеры! – обратился он к пленным.
Пленные слушали внимательно. Вид вооруженных с головы до ног анархистов внушал ужас.
– Мы понимаем, шо вы не враги, шо вы есть подневольни солдаты, которых пригнали сюда силой, як баранов… Возвертайтесь додому! Берить пример з нас, вольных анархистов! Делить господску землю, занимайте их хаты, делайте свою революцию! Свобода або смерть! Третьего путя немае! Нихто вам не допоможе, нихто вас не пожалие! Вы сами кузнеци свого счастя!
Кляйн переводил, но смысл призывов Саввы не доходил до солдат. Не привыкли они к таким речам.
– Дорога у вас дальня. А шоб вы добыралысь в свий фатерлянд весело та нас добром вспомыналы, мы вам, кажному, на дорогу подарок: по бутылки самогона, по-вашему, значить, шнапса, по караваю хлеба и по фунту нашого украинского сала! Ну и ще по сто марок!..
Хлопцы сдернули с возов парусину, и взорам пленных открылось все, что было привезено: бутылки с самогоном, клунки с едой. Лашкевич распаковал укутанный в мешковину, плетенный из лозы конский сапет, там лежали, перевязанные бечевками, пачки денег. Он разложил их перед собой.
– Подходи по одному! – скомандовал бухгалтер.
Пленные не трогались с места, боялись подвоха. Потом несмело потянулись к возу. Получив подарки, отходили, удивленно заглядывали в клунки.
Вскоре и самые робкие двинулись к возам. Затолпились. Хлопцы как могли пытались установить порядок.
– По одному! По одному! – кричал Кляйн и, повернувшись к Савве, сердито сказал: – Командуй, если взявся!.. Тьфу, мать их!.. А еще немцы!
Савва засмеялся.
Получив продукты и деньги, построившись в колонну по четыре, немцы покидали Гуляйполе. Прошли по разбитым улицам, вышли за околицу, побрели по степи…
Разведчики докладывали, да и сам Нестор хорошо понимал, что если не сегодня вечером, то уж завтра им несомненно придется оставить родное село. И в Гайчуре уже скопилось порядочно войск, и в Пологах. К утру подтянутся и те, что располагались в Александровске.
Долгий день клонился к вечеру, солнце уходило за большую тучу, обещавшую ночной дождь.
В сопровождении Юрка и своего «почета» батько смотался на бричке к станции, еще раз продумал, где он встретит карательный десант, который прибудет непременно на поездах: взбешенные его ультиматумом карательные власти и начальники варты будут действовать как можно быстрее.
Нестор понимал, что значительная часть повстанцев и те гуляйпольцы, которые помогали ему в селе, не успеют уйти. Не было у него столько лошадей и повозок, чтобы взять всех желающих. Да и большое количество людей повиснет на нем тяжелой гирей, лишит маневренности. А сейчас оккупанты еще достаточно сильны, и его может выручить лишь молниеносный маневр, неожиданные укусы в местах, где они его не ждут. Даже маленькие победы способны создать ему необходимый авторитет, чтобы потом в короткий срок можно было сформировать настоящую армию и овладеть хотя бы одним уездом. Для начала. А впоследствии вся Украина станет великой анархической республикой. Конечно, в союзе с Россией, пусть и большевистской.
Малороссийский крестьянин, хлебнув воли, не примет диктаторские методы большевиков, а Москва, в свою очередь, не обойдется без хлебной Украины. Что ж, они пойдут рука об руку с Лениным: ведь умнейший человек, все поймет. Анархисты и большевики – близкие по духу и целям политические силы. Должны сойтись. Как Ленин сказал тогда: «Победим – доспорим. Сядем за круглый стол – и доспорим. На чем-то сойдемся».
Поездка по шляху, знакомый степной пейзаж с тополями и крошечными хуторами, вдохновили Нестора, внушили самые радужные мысли о будущем. Он уже понял, где должны настигнуть оккупантов тачанки, чтобы в спину им произвести шквальный огневой налет и мгновенно раствориться…
Этот удар на марше разозлит карателей. В Гуляйполе будут не только контрибуции и шомпола. Виселицы тоже будут. Но что поделаешь – война! Он уже знал ее законы. Победителей не судят.
На обратном пути со станции он увидел странное шествие. Пленные. Впереди шло деятка два немцев, за спинами у них были клунки и мешки с гуляйпольскими подарками. Лашкевич, Савва и Кляйн выполнили его приказ и теперь сопровождали пленных до границы уезда. Немцы, а вслед за ними и несколько мадьяр, узнали его, сдержанно поприветствовали.
Австрийцев было гораздо больше. Они шли не колонной, а толпой, горланя песни. Видно, не выдержали, успели приложиться к самогону. Они тут же обступили Нестора, и один из австрийцев, то ли чех, или словак, немного знающий русский, принялся что-то объяснять, но так как остальные тоже орали и пытались вмешаться в разговор, Нестор ничего не мог понять, пока к нему не подъехала тачанка с Лашкевичем, Саввой и Кляйном.
– Выслушай, шо они хотят? – спросил Нестор у Кляйна, пожимая руки австрийцам, которые все тянулись к нему, повторяя: «батка», «батка».
– Это они в ваш отряд просятся, – перевел Кляйн. – Сильно, Нестор Иванович, на них подействало наше гостеприимство.
– Скажи им: для меня важнее, шоб они там, у себя, раздали прокламации и агитировали своих прекратить войну. Кончится война, пусть приезжают. Устроим интернационал. Земли хватит, жинок им найдем. У нас красивые жинкы, сами видели… Ну, прощайте.
Бричка с трудом вырвалась на свободу. Некоторые австрийцы, держась за спинку тачанки, бежали следом, что-то лопотали. Наконец отстали.
Махно был не в силах сдержать улыбку.
– Вот ведь какая штука: воюем друг против друга, а оказывается, делить-то нечего. Зачем кому-то надо народы стравливать?
Он обернулся, попросил Юрка остановить коней. Долго смотрел вдаль, туда, где, пыля, шли по дороге военнопленные. Длинная мышиного цвета колонна растянулась до впадины, скрылась в ней. Снова возникла на другой ее стороне и таяла на горизонте…
– От який интересный факт, – задумчиво глядя вдаль, сказал Махно. – Бутылка первача и сало – сама лучшая агитация. А если ще и грошей добавить, можно всю Европу перевернуть!
Глава двадцать вторая
На рассвете, как и предполагал Нестор, на станцию Гуляйполе прибыли два эшелона хорошо экипированных карательных войск смешанного состава, с тремя пушками. Там же, на платформе, австрийский полковник узнал, что махновцы покинули село и ушли на восток, к Веремеевке. Это ободрило полковника, поглядев на карту, понял, что партизанский вождь по своей неграмотности попадет в район, окольцованный железными дорогами.
Несколькими походными колоннами каратели двинулись по шляху на Гуляйполе, чтобы, миновав село и оставив там небольшой гарнизон, продолжить преследование банды и прижать ее к какой-либо станции, где уже заранее ее будут ждать войска.
Махно же, заранее отправив отряд в днепровские плавни, оставил возле себя только тачанки. И выжидал в небольшой роще, пока войска покинут станцию. Затем, промчавшись на тачанках, он на полпути к Гуляйполю ударил по карателям сзади. Пока те рассыпа́лись, пока отцепляли от передков и устанавливали пушки, тачанки унеслись, догоняя своих немного раньше ушедших товарищей. Переправившись через железную дорогу, они исчезли на просторах Новороссии.
А на пыльном шляху неподалеку от Гуляйполя осталось тридцать – сорок трупов солдат и офицеров.
В войсках поднялся ропот. Солдаты собирались кучками, митинговали. И полковник принял верное решение: заняв большое и богатое село Гуляйполе, дальше никуда не идти, а солдат ободрить хорошей пищей и возможностью грабежей местных жителей. К тому же не век же им здесь воевать, пора и «нах хауз, нах фатерлянд»! Об этом бандиты пишут во всех листовках и прокламациях, а солдаты очень внимательно вчитываются в такие призывы.
Отряд Махно, осваивавший азбуку партизанской войны и изобретая новые, еще нигде не испытанные способы (которые значительно позже войдут во все учебники и пособия), метался по Александровскому уезду и за его пределами. Оккупанты чувствовали себя уверенно лишь в крупных населенных пунктах и железнодорожных узлах, где они были защищены пулеметами и пушками, установленными на укрепленных позициях.
Главными пособниками «германа» выступали местные богатые хуторяне и часть немецких колонистов, из числа зажиточных. Эти люди прекрасно понимали, что как только анархисты во главе с Махно возьмут власть, их в лучшем случае лишат хозяйств и «излишков» земли. Они уже видели, как наводил порядок Нестор в относительно мирном семнадцатом.
Оккупационные войска снабдили своих добровольных помощников оружием, неподготовленных обучили, как им пользоваться – и пошла борьба не на жизнь, а на смерть. «Кулацкая гвардия» дралась за свое, нажитое, кровное.
Но они чувствовали: немецко-гетманский режим неустойчив. И «паны», латифундисты, стали постепенно покидать поле боя. Как военная сила крупные землевладельцы уже почти иссякли. Молодые уходили на Дон и Кубань. Старики уезжали в Киев, Одессу и еще дальше, потому что и Киев уже качался, как козацкая «чайка» среди волн, раскачиваемая крестьянскими волнениями.
Последним исчез Кернер, бросив и свои филиалы, и мукомолку, и завод в самом Гуляйполе, где давно уже остыли печи, а готовые сельхозорудия разошлись по селянским дворам. А что было делать? Взыскивать ущерб с помощью гетманских и германских шомполов? Нет уж! Исаак Наумович знал козацкие нравы и обычаи. Боком вылезут эти шомпола. Лучше уж, прихватив то, что можно, нацепив драгоценности на себя, под рубаху, под необъятный бюстгальтер жены Фиры, под ее шелестящие юбки, пуститься в путь до Одессы, пока еще при гетмане ходят поезда, а там на пароход и куда глаза глядят – подальше от строптивых праправнуков Тараса Бульбы, от бывшего артиста Нестора Махно, игравшего когда-то Красную Шапочку, а потом ставшего Волком. И отнюдь не сказочным.
Сделав несколько маршрутных «кренделей» и порядком распугав кулаков и колонистов, Махно вновь оказался в Гуляйполе.
Недавно благополучное, благоустроенное село представляло сейчас жалкое зрелище. Многие дома и даже целые улицы были выжжены.
Управа, к счастью, уцелела, в ней и разместился Нестор со штабом.
Как и прежде, Махно и Лашкевич корпели над бумагами.
– Теперь пиши приказ номер двадцать семь, – сказал Нестор. – О добровольной сдаче коней на нужды армии и на восстановление в уезде коммун… У кого, значит, больше трех… «значит» вычеркни… у кого больше трех коней – одну коняку берем с заменой, а у кого больше пяти – две коняки – без возмещения…
– Це розумно, батько, – торопливо записывая, кивал головой Лашкевич. – Шоб коммуны хоть трошкы озимых посеяли. Лопатой багато не вскопаешь.
– Надо только, шоб хлопци за это проголосовали! Я – не власть!
– За це проголосуют, батько!
К управе подлетела тачанка со Степаном на переднем сиденье и с Трохимом Бойко и Сашком Кляйном позади. Лошади были взмылены.
Бойко торопливо прошел внутрь управы, следом спешил Кляйн.
Следом, почуяв какие-то новости, в кабинет Нестора потянулись еще человек семь его командиров.
Бойко уселся на свободный стул. Рядом с ним – Кляйн. Он положил на стол перед Махно газету с крупным готическим заголовком «Берлинер тагеблад».
– И шо? – спросил Махно.
– Перемирие. Може, даже с нашей легкой руки. Те пленни, шо мы тогда отпустили, наверное, сказали шось кайзеру. Кайзер подумал, ну и… – объяснял Кляйн. – Словом, капитуляция… Война кончилась. От написано: «Немецки войска обязуются в ближайшие дни покинуть оккупированные территории»…
Хлопцы застыли у двери, вслушивались.
– Так они тебе и пойдут с Украины. – Махно вглядывался в газету, в неясные снимки. – От ты, Кляйн, немец! Скажи, ты добровольно откажешься от доброго шматка сала?
– Я не откажусь, – сказал Кляйн. – Но им придется… Вы ж сами убедились, чужие солдаты у нас воевать не хотят.
– Ну, хорошо. Немцы, допустим, уйдут! – сжал губы Махно. – А гетьман со своим войском? Со своей вартой? Шо он будет делать?
– Тикать, – усмехнулся Щусь. – Он без германа як козак без штанов.
– Це ж настояща воля, хлопци! – усаживаясь за стол и закуривая, радовался Лепетченко. – Довго ждалы, все ж таки вона пришла!
– Не танцуй, Сашко, гармошка ще не грае, – насмешливо сказал Махно. – Герман уйдет, хто-то другой придет. Хлеб да сало – его спокон века на всех не хватает… А через нас, между прочим, на Крым дорога…
– А хто прийдет? Большевики! Больше некому! – прикинул Щусь. – Мы з имы як-то столкуемся!
– Может, большевики, а может, какой другой батько придет. Чи мамка. Он Маруська Никифорова со своей бандой тут ошивается, – сощурил глаз Нестор. – Их чертова уйма сейчас всяких разных розвелось!..
– Скинем! – тряхнул чубом красавец Щусь. – Германа скинули. И других тоже покидаем в Днепро. Воды там хватит…
– Больно вы осмелели! – неожиданно вскипел Махно. – Насмалили тут, гергочете!.. – Он вскочил, рявкнул: – А ну вон отсюда! Дайте поработать!..
Наступила тишина. Хлопцы один за другим понуро вышли во двор. В комнате остались лишь Юрко Черниговский – за спиной Нестора, как телохранитель, и Тимош Лашкевич.
Хлопцы во дворе снова закурили, приходя в себя от вспышки Нестора.
– От тебе й на! Сам же говорыв: анархия – це когда все коллективне, без всякой власти… – вздохнул Лепетченко. – А сам…
– Може, снова Настю вспомныв? – шепотом предположил Калашник.
– Известно, мужик! – поддержал его Каретников. – Нельзя мужику без бабы. Кровь киснет. Карахтер портится…
– А де ему найдешь хорошу? На танцах? Та й годы – уже тридцать…
– Опять она его привяжет до себя! Как и та! – нахмурился Щусь. – Надо найти ему якусь анархистку… а не то шо «тю-тю, тра-ля-ля»…
Разговор становился все более оживленным. В спорах обрисовывались черты будущей подруги.
– Тут Маруську Никифорову вспомнылы! – сказал Лепетченко. – От то анархистка! Вырви глаз! Настояща!
– От именно шо «вырви глаз»! – не согласился Каретников. – Сколько народу ни за шо порубала… Маруська! Вона, россказуют, одному офицеру гранату до срамного места привязала, а до кольца – длинну веревочку. Приарканила того офицера до дерева, а сама за камяным забором. И стала, зараза, потыхеньку смыкать за веревочку. Офицер верещить… Ну и… ясне дело!
Щусь неожиданно захохотал. Товарищи недоуменно посмотрели на него. Хоть и немало крови пролили они и не против были пролить еще столько, но кощунство над мужской природой им не могло понравиться.
– Ты чого регочешь, Федос?
– Та вин и сам такый. Их бы з Маруською переженыть – от була б пара, – сказал Каретников.
– То не Маруська. То Ермократьев таку шутку с офицером учинил, – попытался оправдать Маруську Никифорову Щусь. – Хоть и она… бомба, а не баба… Тоже… ха-ха… с фантазией.
– И шо? Таку змеюку нашому батьку в постелю? Мало яка фантазия ей в голову прийде?
– Не, ему надо душевну, тихую и таку, шоб…
Не найдя подходящих слов, Каретников обрисовал руками округлые формы будущей невесты.
– И шоб обязательно была анархистка? – усмехнулся Щусь. – От эт-то вже была б сказка.
Кандидатура на ум не шла. Топтали снег, сорили окурками. Думали.
– Есть така! Знаю! Телефонистка с Кирилловкы! – вскричал вдруг Щусь и, глянув на окно управы, понизил голос: – Не то шоб анархистка, но нам раза три помогала. Сочувствующа. Добра дивчина, факт.
– А ты шо, вже попробовав? – спросил Каретников. – Так нам така не годится! Батько если узнае, сам тебе застрелыть! Це тоже факт!
– Та не, шо я, дурной? – красавец тряхнул чубом, сбивая набок бескозырку, которую никак не хотел менять на папаху. – Я з сестрой, з Галкой. А эту Хрыстыной звать. Красывиша за сестру. Ласкова. И без карахтера.
– А пиде до батька?
– Та ты шо! – даже возмутился Щусь. – Царицей Гуляйполя будет. А може, и всей губернии!.. Я сьогодни ж за нею съездю!
– Не надо. Мы сами. А то ты там… по дороги… Батьку не понравыться, шо ты прывиз.
– На станции паровоз визьмем, – решил Каретников. – На паровози скорише!..
Раскачиваясь, мчалась по заснеженной степи одинокая «овечка», паровозик, созданный для малых работ. В будке машиниста было тесно. Помимо бригады паровозников здесь разместились еще Каретник, Лепетченко и дивчинка лет двадцати, очень симпатичная, одетая по-городскому, но в дорожном однотонном платке. Ветер врывался в будку и порошил угольной пылью.
Кочегар, хлопая заслонкой, кидал в топку, лопата за лопатой, маслянистые куски антрацита. Каретников ему помогал. Машинист на минуту остановился, указал глазами на антрацит, прокричал:
– От это уголек! Сам бы його ел с хлебом.
Антрацитом разжились в Бердянске, куда свезли его австрийцы, чтобы переправить к себе, да не успели. Сашко из-за этого топлива чуть на станции перестрелку не устроил. Но имя Махно остудило складских сторожей. С батькой никто не хотел ссориться.
Машинист оторвался от смотрового окошка, смахнул с чумазого лица сквозняковую слезу. Взглянул на девушку.
– Вы, барышня, лучше б платочек пониже на личико опустили. Он глазки какие! А угольком запорошите – беда будет!
Девушка послушно накинула на лицо край платка. Закрыла глаза – огромные, доверчивые, любопытные и слегка испуганные. Она сидела на добротном мягком стуле, прихваченном хлопцами где-то по дороге. Стул покачивался и грозил скинуть пассажирку.
– Ну и разогнался ты, Савелий! – крикнул Каретник машинисту. – Як бы под откос не загреметь!
– Сам бежит, – весело объяснил машинист. – Машина як конь. Хорошо накормишь, и бежит с удовольствием. Машина без довеску, уголек добрый. Вот только путя поганые. Никудышние, скажу, путя. И то сказать, когда их строили? Ще при Катьке!
Стараясь перекричать свист, грохот, рев топки и лязг заслонки, Лепетченко, в меру своей революционной эрудиции, старался подготовить Христину к предстоящей роли «царицы Гуляйполя».
– Ты, Христя, знаю, помогала нам. А скажи, чем анархисты прыйшлысь тоби до серця?
– Хороши хлопци, – тихо ответила телефонистка и добавила громче: – Ну, за свободу, за волю. Так тато говорылы.
– Хороший у тебе тато. Из пролетариев?
– На заводи работае.
– А скажи, Христя, якых ты знаешь анархистив?
– Хороших.
– Це и кози понятно. А ты скажи, яки воны бувають по ций… по теории? Ну, по науке?
В ответ дрогнули длинные, слегка загнутые ресницы. Блеснули карие, с золотинкой, глаза. «Бог ты мой, – подпрыгнуло сердце Лепетченка. – Та на кой мне бес вси ци анархисты, когда тут таки очи!» Но надо было продолжать лекцию для блага будущей совместной жизни батька и Христины.
– Так от, запоминай! Анархисты бувають террористы, синти… ну, ци… синтилисты та анархо-коммунисты, – разъяснял Сашко. – От мы все, а первейший з нас батько Нестор Иванович, анархисты-коммунисты, хочь и террор не откыдаем, если для дела. Це понятно?
Снова утвердительно опустились ресницы.
– А насчет того, шо у нас жинкы обчие, так то капиталистическа брехня. Розводы, конечно, бувают, не без цього. Но шоб дви бабы одновременно… – Лепетченко почесал затылок, подумав о Щусе и его сложной личной жизни, и закончил: – З цым у нас строго. Вплоть до расстрела… Но вообще мы, анархисты, люды верни. И ты, Христя, полюбы батьку, полюбы на всю жизню, за його страдания ради счастья трудящих!
– Я вже люблю, – испуганно прошептала Христя. – А только страшно стало чогось. – И умоляюще попросила: – А може, ще вернемся? А то так сразу! Я й подумать як следует не успела!
– Та ты шо! Хиба можно так батьку обманувать? – чуть не вскричал от негодования Лашкевич.
А паровоз разогнался еще больше. Постанывали, скрипели мосты, переброшенные через ручьи и овражки. Машинист дал свисток какому-то своему знакомому. Христина заткнула уши. Покладистая и боязливая дивчина. То, что батьке надо!
Поздним вечером сияющий Каретников появился в управе.
Махно поднял на товарища воспаленные глаза.
– Ты шо, уголь таскал? – спросил он. – Черный весь.
– Отмыюсь. Подарок тоби, батько, прывезлы.
– Какой ще подарок?
– А такый, шо получаеться суприз!
Батько махнул рукой: хлопцам все веселье да баловство.
…Поздним вечером он вошел в свою комнату, обычно пыльную и казенно унылую. Удивился: все было залито светом. Горели две «двадцатилинейки». Воздух был свежий, влажный, душистый. На стене висели коврики и рушнички. Между переплетами окон, очищенных от отпечатков грязных рук, стояли стаканчики с древесным углем, а кусочки ваты были обсыпаны мелко нарезанной серебристой бумагой. И оконные стекла светились хрустальной чистотой.
Нестор не сразу заметил стоявшую в углу со скрещенными на животе руками девушку.
– Ты хто? – спросил Нестор.
– Христына.
– Хрыстя, значить?
– Можно Тина.
– По-городскому хочешь?.. Ну, добрый вечер, Тина.
Махно некоторое время размышлял, вникая в загадку появления Тины. Вспомнил слова Каретникова: «Подарок… суприз…» Улыбнулся: «Пусть будет Тина. Красивая. На какую-то пташку похожа. Вроде канарейки… Ладно, пускай поет себе в хате».
Приоткрыв дверь, крикнул:
– Юрко, неси панского вина и закусить. И пусть подогреют воды!
И тут же появилось внутреннее беспокойство, как у заядлого холостяка: «Какая-то она городская. Может, с норовом? Будет тут характер показывать?»
Он повалился на пышную, украшенную кружевным покрывалом кровать с горкой подушек. Вытянул ноги:
– Снимай, Тина, сапоги!.. Ноги гудят…
Утром Тина, напевая, хлопотала в доме. Побелила плиту, почистила поржавевшие чугунные конфорки, перемыла и расставила на полочки принесенные хлопцами тарелки и чашки. Некоторые были с картинками, из господских домов. Все расписаны: пастух и пастушка у пруда, лебеди, деревья, коровки. Загляденье!
«Царица Гуляйпольщины» свивала себе гнездышко на самой вершине вулкана.
А Нестор во дворе умывался. Юрко поливал ему. Неподалеку, за плетнем, наблюдали Лепетченко и Щусь.
От щуплого, но жилистого и крепкого тела Нестора шел пар. Багровыми кольцами выделялись на запястьях вечные следы кандалов.
– Утро какое хорошее, ясное! А, Юрко? – спросил Нестор, с удовольствием подставляя тело под струи воды. – Скоро солнышко встанет. А германа на наший земле уже нету… От так!
Хлопцы за тыном переглядывались, улыбались. Угодили батьке!
А чуть в сторонке, несмотря на раннее утро, толпились робкие посетители.
– Ну а вы чого так рано приволоклись? – спросил Махно, отфыркиваясь.
– Та чого ж, батько, – обрадовались хорошему настроению Нестора селяне. – Мы той… за циею… за писацией…
– Компенсацией?
– Ну да, покы дають, надо успеть взять. А то мало шо ще скоиться. Чи вы роздумаете, чи гроши кончаться, чи якыйсь новый атаман прийде – последне одбере.
– Идить в контору, – нахмурился Нестор, утираясь. – Я скоро приду!..
Глава двадцать третья
В холодные зимние сумерки, когда ударили первые морозцы и снег уже не таял, невидимой тенью кто-то прошмыгнул к хате. Тут же загремел засов, «ведьма» Мария распахнула дверь, не дожидаясь стука.
Оглянувшись по сторонам, Владислав Данилевский вошел внутрь. Его трудно было узнать. В селянской свитке, грубых сбитых сапогах и в видавшей виды полупапахе, с длинными, уже с легкой сединой усами, он выглядел обыкновенным селянином.
Мария обняла его. Она тоже изменилась, но в иную сторону. Похудела, похорошела, вся светилась. Хотела его обнять, но он отстранился. Был угрюм.
– Чуяла? – спросил.
– Чуяла… Так «ведьма» же…
– Да какая ты ведьма. Баба.
– От и хорошо! Для тебя я только баба.
– По-русски стала говорить…
– Учусь. До учительки хожу. Надо ж знать панску мову.
Сняв шапку, он перекрестился на красный угол, сел за стол, свернул толстую крестьянскую цыгарку. Она задернула занавески на малюсеньких окнах, тревожа озябшие ростки «девичьих слезок» в горшках.
Он потянулся цыгаркой к лампе, но остановился:
– А живот твой где?
– Вспомнил! – Она улыбнулась. – Я думала, забыл… Живот мой там, за занавеской. – Она указала на выцветший ситец, отгораживающий половину комнаты.
Он ссыпал махорку из цыгарки обратно в кисет. Она ждала, что он захочет взглянуть на дитя. Но Владислав порылся в карманах, выложил две гранаты Мильса, револьвер и, наконец, свернутую в рулон пачку денег. Мария настороженно следила.
– Чтоб не забыть. Спрячь.
Тяжелая пачка царских сторублевок лежала среди учебников и книг… Чехов, «Каштанка», Толстой, «Чем люди живы», «Учебник правильного русского языка для малороссов»…
Она не притронулась к деньгам.
– Что, пришел его убивать? – спросила она.
Он промолчал. Потом ответил негромко и несвязно:
– Отец, сестра… Он всех… Дело чести. А буду я жив или нет… какая разница!
Мария погладила его по щеке.
– Сгрубел… Як терка… И волос сивый в усах… Не ходи! К нему сейчас не подберешься. Может, потом… позжее… А сейчас – только себя сгубишь… Ты верь мне. Я чую.
Он отвел ее руки.
– Не уговаривай, не надо. Это мое мужское дело.
– Твое… Только твое?.. Ой, панска твоя душа! – горько вздохнула она. – А моя любовь? Куда ее? В печь?.. Знаю, горе твое великое… безутешное… Но твой час еще придет. Не спеши!
– Не могу! Душа горит!
Он посмотрел на ходики. Мария перехватила его взгляд и тихо исчезла за занавеской. И было слышно, как она ласково шепчет там что-то в ответ на недовольное хныканье младенца. Успокаивала. Потом возвратилась с ребенком на руках.
– Погляди хоть. Дочка.
Ребенок был полусонный, причмокивал. Владислав глядел на дочь отрешенно.
– Красивая, – объяснила ему Мария. – Ты ничого в цьом не понимаешь, но погляди, якый ротик, якый носик, бровки… Панска дочка!
– Назвала уже? – равнодушно спросил Владислав.
– Крестила.
Она прижала к себе дочь с материнской страстью:
– Винцента… Винцуся… Винцусенька!..
Данилевский замер. Имя прозвучало для него как внезапный удар в сердце.
– Как?.. Винцента?.. Ты знала?
– Не знала. Помнила только, шо ты в бреду сестру свою звал… Винценту. Я й подумала, хай будет еще одна Винцента Данилевская. Свет богаче станет…
– Дай подержать!
Он взял ребенка на руки, вглядываясь в ее личико, отыскивая черты погибшей сестры.
– Я тебя понимаю, – тихо сказала Мария. – Только ж ты и эту Винценту сиротой оставишь. Так получается… Она и помнить тебя не будет.
Он ходил по хате, осторожно и неумело держа дочь на руках. Размышлял. Из красного угла, чуть освещаемый лампадкой, глядел на них лик Божьей Матери – тоже с младенцем на руках…
…Рассвет пробивал ситцевые в горошек занавески.
– Господи, – прошептала она. – Я так люблю тебя, так люблю…
Он чуть заметно усмехнулся. Прижал ее к себе.
– Я тебя замучаю, – сказала Мария. – Я… знаешь что… я тебе ще хлопчика рожу. Такого, як ты! С таким носом, с горбочком от тут. – Она коснулась его носа. – Ей-богу, рожу… Прямо чувствую! Уже все во мне!
Он покрутил головой, хмыкнул:
– Не время для детей.
– А когда время? Дети рождаются не от того, что время, а от любви… И если б все люди высчитывали, як на счетах, когда время, то все людство осталось бы без детей. И вымерло бы… Мы не счетоводы, мы живые… А Бог каждому и хлеба дасть, и дорогу укажет…
– Ох, не ведьма ты, не ведьма. – Он обнял ее. – Баба!
– Да, – согласилась Мария.
Восемнадцатый год пролистывал над Украиной свои последние дни, как страницы большой, красным соком залитой книги. Следующий том будет еще краснее…
Несмотря на любовные ласки и шепоток до петухов и позже, Нестор просыпался по-прежнему рано. Надо было идти по делам, но он не хотел будить Тину. Он смотрел на дивчину, слегка освещенную падающим из окна меловым предутренним светом. Она во сне подергивала носиком и слегка посапывала.
Он должен был привязаться к подруге за эти несколько дней, но почему-то этого не произошло. Магия первой ночи как-то быстро улетучилась, и сразу начались будни. Присутствие в комнате другого существа, которое почему-то по-настоящему близким не стало, его уже раздражало.
Было такое ощущение, что в дом хлопцы действительно принесли клетку с канарейкой. Милая птичка, поет, зернышки клюет… и не более. Забава.
Его дел она не понимала. Считала это какой-то разновидностью работы, вроде дежурства на телефонной станции.
Стал часто вспоминать Настю. Она тоже была не очень-то развитая, но даже когда молчала, даже когда с ним спорила, он чувствовал ее слитность с тем миром, который заключался в нем. Настя была как степь – огромная и непознаваемая. С нею было и спокойно, и интересно.
А Тина даже своим сочувственным щебетом словно гладила его против шерсти. Ему было просто жалко ее. Вот досталась бы она кому-нибудь другому – глядишь, и оба были бы счастливы. Почему так устроена жизнь, почему одни сразу припадают друг к другу, как вьюнок к мальве, а другие остаются чужими? Каждый сам по себе.
Раньше доверяли разбираться в этом Богу: соединились – живите. Революция Бога отменила. Дала свободу. Ну и что изменилось в отношениях между мужчиной и женщиной? А ничего. Выходит, любовь не подвластна никому.
Махно ворочался в постели и думал. В такие минуты Настя просыпалась, прижимала его к себе тяжелой горячей рукой, и он успокаивался. А эта… сопит себе, смотрит свои сны.
Постепенно Нестор задремал.
А проснулся он от осторожного стука рукояткой нагайки в окно. Приподнялся на локте и увидел за стеклом обеспокоенную физиономию Каретникова.
В одном исподнем Нестор вскочил, распахнул обе створки уже обклеенного бумагой окна, при этом опрокинул горшок с цветами. У него было хорошо развито чутье на недобрые вести.
– Шо?
– Мы тут уже четыри часа, ще с темна ждем…
– Ну шо? Шо?
– Бронепоезд на станции. Чорт його знае чий. Директория, кажуть, тепер на Украини И вас дожидаеться якыйсь хорунжий од якогось верховного атамана Украины. Передав, не явытесь на переговоры, открые огонь з артиллерии!
– Чего ж сразу не разбудили?
– Та Тина… «батько отдыхае» – и все!..
– Сейчас выйду!
Он отвернулся от окна. Тина, предчувствуя вспышку гнева, отступила в угол, прикрываясь рушником, который она приготовила для Нестора.
– Чего не разбудила? – спросил он, распаляясь.
– Вы так крепко спалы, утомылыся… Ну хиба так можно надрываться!
– Дура! – заорал Махно. В гневе он бывал страшен. – Ты хоть понимаешь, с кем живешь? За мной тысячи людей! Я за всех отвечаю! В твоей птичьей голове есть хоть якоесь соображение?..
Тина попробовала оправдаться, но лучше бы ей промолчать:
– Я ж про вас думала… Ночью шось говорылы, а очи закрыти… аж страшно…
– Дура! – Он запустил в нее сапогом. – Будят – поднимай!
Сапог с силой ударился в стену, рядом с головой Тины. Она закрылась руками.
– А, черт! – негодуя уже на самого себя, подобрав сапоги и одежду, Махно выскочил в коридор. Там его ждал взволнованный Юрко. Помог одеться. Руки у Нестора никак не попадали в рукава «венгерки» – красивой синей свитки со шнурами и двумя рядами пуговиц. Папаху он теперь носил высокую, каракулевую. Да и каблуки на сапогах были гораздо выше, чем на самых нарядных шляхетских. Не хотелось ему быть невысокого росточка…
– Батько, давайте возьмем з собою хоть пару тачанок з пулеметамы, – предложил Юрко уже во дворе, усаживаясь в тачанку. – Чорт их знае, шо за люды…
– Шо те пулеметы супротив бронепоезда! – зло ответил Махно. – Головы с собой возьмем!.. Трогай!
Бронепоезд был облеплен мелкими снежными хлопьями, как рождественский подарок, но сквозь снег четко проступала надпись «Вильна Украина». По платформе вдоль бронепоезда прохаживалась группа офицеров. Во главе – суровый человек в пенсне. Кожаное полупальто австрийского покроя, с накладными карманами. На белой папахе с красным шлыком, закинутым на переднюю часть шапки, красовалась желто-синяя кокарда с трезубцем в сердцевине. На груди – желто-синий бант. Это и был генеральный хорунжий. И с ним еще двое-трое офицеров, одетых разнообразно, но тоже в папахах со шлыками и при бантах. Погон ни у кого не было: новая армия Украинской народной республики хотела откреститься и от офицеров, и от гетманцев.
Тачанка с Махно, Каретниковым и с Юрком за кучера влетела прямо на платформу. Махно соскочил на досчатый настил и неторопливо, как бы ленцой подошел к роскошному командиру. Подошел не как подчиненный для доклада, а как хозяин, встретивший неожиданного гостя и ждущий объяснений причины визита.
Генеральный хорунжий вынужден был представиться первым. Он взмахнул рукой с золотыми шевронами, но не поднес ее к виску для приветствия, а словно собирался почесать за ухом, да передумал.
– Слава Украини! – произнес он и, не дождавшись ответа, сухо сообщил: – Генеральный хорунжий броневых сыл Народной республикы Украины Суховерхый.
– Махно!
– Догадався, – сказал Суховерхий, с чуть приметной усмешкой оценивая рост Махно, его каблуки, «венгерку», огромный маузер в деревянной кобуре. – Я вас чекаю вже бильше чотырех годын. – Он бросил короткий взгляд на часы, извлеченные из бокового кармана кожанки, и щелкнул крышкой. – Ще б трошкы, и я открыв бы огонь по ваший резиденции за непокору. Мои гарматы бьють верст на десять з гаком.
– А у меня тут недалеко, в Пологах, стоит паровоз под парами, – смирненько так и тихо, на хорошем русском ответил Махно. – На паровозе сорок пудов динамита. Если пустить на вашу колею… Интересно бы получилось!
Суховерхий пристально посмотрел в глаза Нестора. Но куда его спрятанным за стеклышками серым глазкам против яростного взгляда каторжника. Не та была у него биография, не такую жизнь прожил генеральный хорунжий.
– Ну что ж, вы именно такой, каким мне вас обрисовали, – сказал Суховерхий, тоже переходя на русский. – Поговорим по-хорошему. Я, между прочим, не какой-нибудь военный скот, жаждущий крови, а в недавнем прошлом доцент украинской филологии… – Он указал рукой. – Пройдемте в салон, поговорим наедине.
– Поговорим, – сухо ответил Махно.
– Ссориться нам, украинцам-демократам, не пристало, – заметил генеральный хорунжий. – Не затем мы совершаем революцию.
Они вдвоем шли к вагону, украшенному трезубцем. Махновские хлопцы и свита хорунжего остались на перроне.
Салон-вагон поистине был генеральский, доставшийся от царской армии. Да и весь бронепоезд – не какой-то там самоклепанный из железных листов в мастерских, а заводской, на манер броненосца. «Подарок» от старого режима, от царской России. Круглые башни с трехдюймовками, барбетные выступы для пулеметов, тяжелая морская пушка…
На стенке штабного отделения, в самом центре, висел большой портрет усатого человека. На столе, придавив развернутые штабные карты, стоял ополовиненный штоф, в беспорядке были расставлены тарелки с закусками.
Их встретил крупный и грузный человек с оселедцем на голове, в русском генеральском мундире без знаков отличия, но тоже с бантом. Он крепко, по-мужицки, пожал Нестору руку.
– Головный атаман Запорожского коша полковник Горобец, – представился он басом. Видимо, полковник уже был порядком навеселе.
Сели за стол.
– Ну, по первой! – предложил Горобец. – За вильну Украину!
– Похоже, уже не по первой, – заметил Суховерхий.
– Так сьодни ж празднык, – ответил, багровея, атаман.
– Сегодня и правда праздник, – объяснил хорунжий. – Наши войска отбили Катеринослав. Правда, в верхнем городе еще офицерский корпус… сотни две… и остатки австрияков… но это так… пыль.
– Мы их! – Горобец хлопнул кулаком одной руки по ладони другой.
– Само собой… Но давайте о главном. В Украинской республике теперь народная власть. Директория. Во главе крупнейший украинский социал-демократ Винниченко, прекрасный писатель. Не читали?
– Слышал, – нахмурился Махно. – Все, знаете, недосуг. То тюрьма, то революция, то война с германцем…
– За нас также профессор Грушевский. Конечно, знаете? Бывший председатель Центральной рады и, смею заверить, выдающийся историк. Кстати, из эсеров… – продолжил генеральный. – Лучшие люди! Но главное, – Суховерхий указал на портрет, – головной атаман всеукраинского войска Симон Васильевич Петлюра, тоже социал-демократ. Он ведет нас к победе.
– За Петлюру! – предложил Горобец.
– А из селян у власти есть кто? – спросил Махно.
– Вся Директория – защитница селян. У Симона Васильевича отец – извозчик, а сам он даже не смог окончить духовную семинарию. Революция позвала!
Горобец кивал, хотя, похоже, высокопарная речь Суховерхого ему не совсем нравилась. Верховенство профессоров и интеллигентов его не очень радовало.
– Сам я – тоже из простых, – перебил он Суховерхого. – В царский армии насилу до прапорщика дослужився… А Петлюра – это голова. Хочь, если по правди, як военный атаман – тьфу! Не знае, де левый фланг, де правый!..
Суховерхий постучал ладонью по столу, оборвав крамольные слова атамана:
– Стоп! Досыть! – Он повернулся к Нестору: – Петлюра о вас наслышан. Ценит. Предлагает важную должность и союзничество. Нам надо объединяться против большевистской России. Это страшная разрушительная сила, которая принесет Украине беду. Мы должны вместе срочно создавать единую армию!
– Козак козаку брат! – изрек Горобец. – Шоб я сдох!
Махно сосредоточенно смотрел на портрет Петлюры. Предложение Суховерхого не вызвало у него восторга.
– То, шо у Петлюры батько был извозчиком – это хорошо, – сказал он. – У меня батько тоже… Ну, не извозчиком… кучером служил. У богатых.
– Я ж и говорю – брат, – заявил Горобец.
– Ну, брат-то брат. У иного извозчика и пять, и десять лошадей… и так получается, шо я ему не совсем брат. И даже не родич.
– Это не важно! – сказал Суховерхий.
– Ну хорошо, – заявил Махно, буравя взгядом то одного, то другого собеседника. – А какие у вашего правительства планы насчет буржуазии? Богатеев? Панов, у которых по сотне тысяч десятин земли, а то и больше?
Суховерхий от волнения даже вскочил, стал нервно протирать пенсне, и стало понятно, что при всей своей грозной «броневой» форме он прежде всего доцент, филолог.
– Да ведь это будет народна социальна республика, – объяснил он. – Мы все будем братьями! Потом все уровняем. И всех.
– «Бо старшины з намы, з намы козакамы…» – вдруг запел атаман.
– Стоп! – крикнул ему генеральный хорунжий и вновь обратился к Махно: – Неужели непонятно? Богач будет делиться с бедным. И все мы будем одним народом, братским. Батрак будет сидеть за одним столом с владельцем имения, учиться за его счет, лечиться… Мы их убедим, господ! Только не надо спешить, не разрушить бы экономику! – Видя, что Махно не очень убеждают его доводы, Суховерхий еще больше распалялся. Расстегнул свою кожанку, открыв расшитую рубаху. – Мы все находимся в одной экономической упряжке, бедные и богатые! – взволнованно говорил он. – Мы должны найти общий язык, если не хотим гражданской войны… Пусть в России бьют друг друга… их дело… Экономика – такая вещь, что ее насиловать никак нельзя. Вот последние произведения Винниченко… Так вы ничего его не читали?
– Нет.
– Жаль. Владимир Киррилович сам с Херсонщины, знает жизнь наших селян. Обязательно прочтите его «Голытьбу»! И еще «Заветы батьков»… Это Панас Мирный наших дней…
Махно кивнул. В самом деле, надо будет почитать. Хотел и сам рассказать им, как страдал за селянскую голытьбу, как делил землю, выгонял панов, устраивал коммуны, но увидел их сытые лоснящиеся лица, стол, заваленный спиртным и закусками, и понял: не поймут. Или не поверят. Решат, что хвастается.
Писателей он уважал с тех пор, как познакомился с сочинениями Лермонтова. Но все же… написать про Вадима – это одно, а быть им – другое. Это не кровь на листе бумаги. Это кровь живая, горячая – своя и врагов. То же и с «голытьбой». Сочувствие бедноте – дело святое, но одарить неимущих землей – еще святее.
– Я вам тоже рекомендовал бы одну книжечку прочитать. Хорошо прочищает мозги. И на всяки разные думки наводит, – сказал Махно.
– Чью же?
– Лермонтова. «Вадим» называеться.
– Москаль? – поднял на Нестора тяжелый хмельной взгляд главный атаман Запорожского коша Горобець. – Москалив мы пока не вывчаем. Потом будем. Колы резать их пидем.
– Стоп! – гневно пресек откровения Горобца Суховерхий и пояснил: – Пан атаман больше дружит с саблей. На книжки пока нет времени.
– Ну раз уж заговорили о москалях, – сказал Махно. – Как вообще с Россией? Шо с ней делать?
– Россия – великая страна, – немного подумав, ответил генеральный. – Но она же – главный враг Украины. Никто так не был для нас вреден, как Москва. Даже исторически. Ни татары, ни поляки, ни литовцы. Это надо понять раз и навсегда. Надеюсь, вы хоть знаете, как наш Тарас Григорьевич отзывался о москалях?
– Шевченка всего прочитал, – кивнул Нестор. – «Кохайтеся, чорнобрыви, та не з москалямы, бо москали – чужи люде, роблять лыхо з вамы…»
– Вот, истинно! – обрадовался Суховерхий. – Катерина – символ страдающей и доверчивой Украины. Шевченко это хорошо понимал.
– И по-братски относился к русским, которые ему много помогали! И «Катерину», если не ошибаюсь, он посвятил русскому поэту Жуковскому, который вместе с художником Брюлловым выкупил его из крепостных.
– Гм… – Генеральный хорунжий с интересом посмотрел на Махно, вначале показавшегося ему сереньким, неразвитым мужичком, которого непредсказуемые повороты революции возвысили на миг на высоту «батьки». – Гм… Это эпизоды личной жизни. Мы же говорим о политике. С точки зрения политики Россия – наш вечный антагонист.
– А как же тогда быть с теми миллионами украинцев, шо живут в России и считают ее своей Родиной? – спросил Махно, испытывая уже некоторое раздражение. – Вот говорят, и на Дальнем Востоке – на три четверти переселенцы с Украины. А на Украине шо, мало русских? Особенно в Новороссии.
– Новороссия – это атавистическое понятие, – сухо возразил генеральный. – Оно было введено для раздела Украины. Но мы, украинцы, должны быть особо чувствительны к таким вещам.
– Та шо тут довго балакать! – неожиданно выкрикнул атаман Горобець, подливая себе горилки. – Быть их надо! Ну, москалив! И ще ляхив! Те тоже…
Суховерхий строго зыркнул в сторону атамана, но ничего не сказал. Продолжил:
– Конечно, необходима дипломатия. Все же Россия – крепкий сосед, – как бы поправил приятеля Суховерхий. – И любое ее ослабление мы должны воспринимать как победу Украины. Мы наконец должны сделать выводы из истории. Тем более история сейчас повернулась к нам лицом, поставив во главе России извергов-большевиков. И они в конце концов разрушат все, что досталось им в наследство от великой империи. Украина не должна упустить свой шанс!
– Вот мы и вернулись к вопросу, который я вам вначале задал. Шо нам делать с Россией? Как нам с ней жить? – в упор глядя на Суховерхого, вновь спросил Нестор. – Соседи все ж! И язык почти шо родственный.
– Вопрос, я бы сказал, не простой, – начал было Суховерхий. – Но, с другой стороны…
– Так вы это… вы пока сами разберитесь, а потом уже и мне, неучу, растолкуете. Пока я вас не понимаю. А може, и вы… ну, як бы это… не до конца все продумали… – Нестор решительно встал: – Великодушно меня простите, но вынужден вас покинуть. Я так, знаете, спешил до вас, шо забыл погасить в хате лампу. Боюсь, як бы хата не сгорела…
– Но как же? – растерялся Суховерхий. – Мы же должны до чего-то договориться…
– А стременну чарку? – тяжело поднялся атаман. – Як же так?
– Потом… другим разом… когда-нибудь, – обоим сразу ответил Махно.
Провожая взглядом уходящего Нестора, Суховерхий тихо сказал:
– Хитрая сволочь!
Возвращаясь в Гуляйполе, долго ехали молча. Когда скрылись вдали строения станции, Каретников первым прервал длительное молчание:
– Ну шо, батько? – спросил он.
– Предлагали атаманом. Под их булаву.
– А ты шо?
– Сказал: подумаю… Бумажные люды. Доценты какие-то… Но оружие у них есть!
Подумав еще, Махно спросил у Черниговского:
– Юрко! Ты у пана работал?
– А як же! Ще хлопчиком… На дверях стояв, казачком.
– А за одним столом з паном сидел?
– Шуткуете, батько? – улыбнулся Юрко. – Та мене б удавылы, если б я на панське кресло сив.
– То-то и оно! – отозвался Нестор. – Не, несерьезные люды…
– Хто?
– Петлюровцы. Большевики все ж нам ближе. Они хоть понимают, шо богатый с бедным як плетка з конякою: близко знакомы, а дружбы нема… И Ленин. Я во многом несогласный с ним, а все ж не сравнить с этим генеральным доцентом. Дело знает. Хотя, поговаривают, Ленин тоже из панов.
– А казалы, из пролетариив, – возразил Каретников.
– Из бедненьких панов, – пояснил Нестор. – Из городских. Ни огорода у него не было, ни худобы, ни птицы. Все с базара.
– Ну, це почти шо из пролетариев. И заступаеться за рабочий класс.
Смолк Махно. Было о чем подумать. Смотрел вниз, не обращая внимания на приветствия встречных и обгоняемых гуляйпольцев. Вся Россия встала на дыбы. С Украиной вместе. Было когда-то одно царство – стали сотни. И у каждого своя правда, у каждого своя вера. И, самое главное, у каждого свое оружие. Богата была царская армия. Всем хватило…
Щусь встретил Нестора с расцарапанной щекой.
– Утикла, стерва!
– Кто?
– Та Тинка, зараза!
Махно замер. Щусь, робея, стал отступать от него. Нехорошо смотрел на него Нестор, ой нехорошо!
– Шо ты, батько? Я только хотел ее удержать… так она як та тигра… Он Лашкевич видел! И записку на столе тебе оставила!..
Махно быстро прошел в комнату. И снова, как когда-то, увидел следы поспешных сборов. Пудреница на полу, помада… цветная хусточка…
Ему вдруг стало больно. Чем Тина виновата? Старалась, как могла. Не позволила ночью беспокоить. Не от плохого умысла…
Он тяжело уселся на постель. Издалека смотрел на записку, лежащую на столе, но в руки ее не брал. Сказал вошедшему вслед за ним Юрку, указав на стол:
– Прочитай. Шо-то у меня глаза болят.
– «Батько Нестор Иванович… – стал медленно читать не очень грамотный Юрко. – Я вас очень хотила полюбыть, потому шо вы есть народный страдалець… Но я не гожусь. А главне, вы мене нисколько не жалиете и не любыте. А без любови жить невозможно… Тикаю од вас, бо мени з вамы страшно. Не держить зла. Тина».
Юрко широко раскрытыми глазами посмотрел на своего кумира. Как можно было написать такое? Обидеть батьку?
– А что, Юрко, я и вправду страшный бываю? – спросил Нестор. В этот миг его лицо, искаженное судорогой боли, действительно внушало страх.
– Буваете, батько, – заикаясь, ответил Юрко и тут же добавил, желая исправить случившееся: – А може, давайте я догоню Тинку?
– Не надо, – ответил Махно. Только теперь заметил разбитый горшок на полу, сломанный цветок. – «Залетела пташка, та не в тую хату…» Иди, Юрко! Иди, скажи хлопцам, шо сегодня батько никого не приймае. И горилкы принеси!..
Выспаться захмелевшему с вечера Нестору не дали. Раздался громкий стук, но не в окно, как накануне, а в дверь. Махно тут же вскочил: одежда, маузер – все рядом. Вошел заспанный Юрко.
– Батько, там до вас якыйсь чоловик. Каже, срочно, – тихо доложил он.
Нестор торопливо оделся. Маузер через плечо. Лицо опухшее, неумытое.
– Проси! И лампу засвети!..
В комнату вошел коренастый человек в шинели без погон. Давний знакомый Павло Глыба.
– Здорово, батько Нестор Иванович! – чуть усмехаясь, произнес Глыба. Увидел ополовиненный штоф на столе, огурец. – Примешь большевика?
– Да хоть черта!.. Опохмелишься?
– Не опохмелюсь, но выпью. За нашу встречу.
Выпили. Закусывали солеными огурцами.
– С утра оно и хорошо, – сказал Глыба. – Вроде як крылья вырастають… Ты як, не переминыв отношение к большевикам?
– Я вчера все думал, какой из чертей не самый рогатый. – ответил Махно. – Може, и большевистский…
– Говорят, з петлюровскими генералами выпывал. Ну и с кем лучше пить?
– С тобой. Ты понятнее, ближе мне.
Еще выпили.
– Я только шо из Катеринослава, – сказал Глыба. – У нас там подполье немалое. И оружие есть! Хотим скинуть Петлюру. Нам, интернационалистам, эти самостийники – як гвоздь в сапоге.
– Скидайте!
– Без тебе не обойдемся. Ты теперь батько. У тебя военна сила.
– Зауважали?
– Да я анархистив всегда уважав… хочь, може, и не любыв.
– Ну, мы не бабы, – мрачно ответил Махно. Вспомнил записку Тины. – То им без любови жить невозможно.
– Ну, так як?
– Так вы ж мою силу спользуете, а власть себе возьмете. У вас же диктатура пролетарьята.
– Власть и поделить можно.
– Уже делили. Революцию в Петрограде и в Москве вместе делали, а потом что?.. Анархистов сапогом под зад!
– То – там, а то – тут. Будешь главнокомандующим войсками Катеринославщины. В городе заводы и, главне, военни склады. Много оружия, патронив. А у тебе, хоть войско и велыке, а оружия-то маловато. А там його – вам на пять годов хватит.
– А ты откуда знаешь, шо у нас с патронами не густо? Вынюхал? У вас, большовыкив, шо, носы собачьи?
– Може, й собачьи. Мы не обидчиви… Наши хлопцы подсчиталы, шо пулеметы на тачанках вдвое больше жруть патронов.
– Це не секрет. С тачанки на глазок бьешь, – согласился Махно.
– Ну вот! Я тебе дело предлагаю. Поскольку вы, анархисты, дружескый нам народ.
Махно задумался. Довод о вооружении был весьма серьезный.
…На Совете одним из первых выступил Чубенко.
– Це просто сказать – Катеринослав! А без хитрости его не взять. Там петлюривцив, мабуть, тысячи четыре… – Алексей в сомнении покрутил головой.
– Побеждает тот, хто бьет первый, – сказал Махно. – Но Чубенко прав, без хитрости через Днипро нам не переправиться. Я тут придумав кое-шо такое, шо ни один петлюровский доцент ни в одной книжке ще не вычитал…
– С тачанками налетим? – попытался угадать Щусь.
– Тачанка в городе шо мышь в крынке, – отрезал Махно. – Не туда думаешь, Федос!
– Ну, так и россказуй! Не тяны кота за яйца!
Глава двадцать четвертая
Уже через сутки махновское войско выступило на Екатеринослав. Далеко по Гуляйполю растянулись повозки, брички, сани…
– Батько Нестор Ивановыч, визьмить мого Васыля! – просила гуляйпольская баба, догнав тачанку с Махно. – Добрый солдат буде!
– Сколько ему?
– Шистнадцять.
– А винтовка есть?
– Берданка.
– И мого Петра! – кричала другая. – У нього шабля, а ружжо добуде.
– Люди нам нужни будуть, – подсказал Лашкевич. – Город велыкый…
– Главное, богатый, – усмехнулся Махно. – Они ж на грабеж рассчитывают. – И повернулся к бабам, бегущим рядом с тачанкой и все еще ждущим ответа: – Ладно. Пусть идуть. Но если грабить будут, расстреляю!..
– Спасыби, батько. Мий не буде. Хиба шось в карман визьме. Маленьке!
Далеко по степи растянулись вереница людей и повозок. Первый большой поход Махно…
Еще задолго до рассвета почти тысячное войско остановилось близ Игрени.
Батько молча ходил вдоль стоявших в ряд на дороге телег. Никто не понимал, почему остановились, тихо переговаривались между собой, гадали.
– Батько диспозицию продумуе, – прошелестело по телегам. Мудреное слово успокаивало. Внушало уважение. С диспозицией-то уж точно победим!
На самом же деле Нестор ждал Кляйна, которого накануне отправил в Екатеринослав на разведку. Тот уже должен был его здесь ждать. Но его не было, и это нервировало батьку. Он верил в народную примету: если что в начале не заладится, не жди в конце удачи.
Махно впервые командовал такой армией, собранной с миру по нитке. Не все были хорошо обучены. Хромала дисциплина. Понимал: не надо бы пока идти на Катеринослав. Большой город, около двухсот пятидесяти тысяч жителей. Не брал он еще такие города. Не было опыта…
Бывший приказчик появился почти вовремя, опоздание на какой-то час в таком деле вполне простительно. В форме австрийского цугфюрера, в сопровождении еще одного махновца, Кляйн бесшумно возник из темноты, словно проявился на фотографической пластинке.
– Ну, докладай! – с ходу попросил Нестор. Его тяготило бездействие, волновала неопределенность.
– С железнодорожниками в Нижнеднепровске договорено. Хлопцев перевезут. В пять утра рабочу смену в город повезут. С ними.
– Шо в городе? – спросил Махно.
Кляйн рассказал о том, в чем за короткое время смог сам разобраться. В городе еще держались оккупанты, не успевшие покинуть Украину из-за нехватки транспорта. Они скучились в одном районе, никого не трогали, ни во что не вмешивались, однако бешено сопротивлялись, если возникала угроза их жизни. В нижней части города формировался какой-то офицерский корпус. По слухам, деникинцы. Но их пока было мало, и никакой опасности они не представляли. Гнездышками, как птицы на большом дереве, обосновались большевистские группы. У заводов и промышленных кварталов начеку стояли «рабочие дружины», неплохо вооруженные, подчиняющиеся профсоюзам.
И при всем этом в городе как бы властвовали петлюровцы, которые, однако, ни один из своих приказов не смогли провести в жизнь. Разве что из учреждений изгнали служащих, плохо говоривших на украинском языке. Поскольку город был в основном русскоязычный, то учрежденческая жизнь до поры до времени замерла.
Рабочие дружины и большевики были готовы вышибить Петлюру. Надеялись на помощь Нестора.
– А бронепоезд? Бронепоезд этого, мать его, генерал-хорунжего не стоит там, у моста? – вспомнил вдруг Махно.
– В городе его нет, это точно, – улыбнулся Кляйн, сверкнув в темноте зубами. – В городе он был бы как коняка в церкви.
У Махно отлегло от сердца. Бронепоезда он побаивался. А если бы он стоял у моста, пришлось бы бесславно сворачивать поход…
К рассвету они уже были у Днепра. Впереди был длиннейший мост, за ним тусклыми огоньками мерцал большой город. Река еще не стала, по темной воде плыли огромные льдины, поднимался пар. Но забереги уже застыли. Реку вот-вот скует мороз…
Темно, только фонари тускло светились на станции в Нижнеднепровске. Отсюда, как положено, на рассвете отправлялись в город несколько «рабочих поездов». Теплушки, покрикиванье «овечек», простуженные сиплые гудки. Серо, тускло.
– Первый поезд! – разнесся в сыром воздухе голос дежурного. – Приготовиться к отправлению!
Рабочие стояли в товарном вагоне, облокотясь о перегораживающий широкую дверь брус.
А с тыльной стороны в вагоны забирались махновцы. С винтовками, ручными «Льюисами», Фома Кожин со своими подручными даже втащил «Льюис»…
Народу в вагонах – не продохнуть. Многие махновцы присели на пол. Тыльные двери закрылись.
Дежурный ударил в колокол. «Овечка», тяжело вздохнув, тронулась, потянула состав к мосту. Медленно въехала на мост. Здесь располагался первый петлюровский пост – впускной.
Паровоз замедлил ход, остановился возле дощатой будки. Здесь стояли человек пять-шесть петлюровцев в папахах со шлыками и в жупанах. Два фонаря высвечивали французский пулемет «гочкис», установленный на деревянном помосте, и двух пулеметчиков.
Кто-то из рабочих бросил вниз цыгарку. Она летела, роняя искры.
– Не курыть на мосту! – сердито выкрикнул петлюровский бунчужный.
– Це ты, Григорий? – спросил рабочий. – Здорово!
– Здоров, Петро! – подобревшим голосом отозвался бунчужный. – Никого не забулы? Нихто не проспав?
– Все на месте… Така вже наша жисть заводська! В тры вставай, в десять вертайся. Жинку только рукою помацаю, та й сплю.
Петлюровцы ответили хохотом.
– Рука, це не те, шо баби треба! Позовы – поможем!
Снова рассмеялись.
– Шо они за базар розвели! – сердился зажатый в тесной массе тел Щусь.
– Терпи, – прошипел ему Махно.
– Вси свои? – спросил бунчужный.
– А якый дурак в таке время в город поедет! – ответил Петро. – Открывай семафор, Григорий!
Один из петлюровцев помахал фонарем, и на дальнем конце моста, на выпускном посту, загорелся зеленый огонек. Поезд набрал ход. Уже совсем рассвело, и внизу был хорошо виден могучий ледоход…
Пулеметчики на первом посту, глядя на проплывающие мимо них вагоны, получше укутывались в полушубки. В фермах моста посвистывал декабрьский ветер.
– Хорошо им там, в вагонах. Затишно! – завистливо вздохнул один из них.
А поезд двигался над покрытой льдом рекой, и, несмотря на стук колес, было слышно, как с глухим шорохом и треском ломались, наезжая одна на другую, огромные льдины. Кое-где они уже смерзлись. Ворча, неохотно, река останавливалась…
В паровозной будке, помимо машиниста и кочегара, находился и Трохим Бойко.
– Ты мне так подгадай, шоб третий вагон аккурат став супротив тех пулеметив, – высмотрев вдали приближающийся петлюровский пост и пулеметное гнездо на нем, попросил Трохим машиниста.
– Не сумлевайся.
Пост приближался… Вот уже паровоз сравнялся с постом, где в рассветной дымке горели фонари. Слева на небольшом возвышении стояли два пулемета. Рядом с паровозом возник петлюровский унтер с фонарем в руках, детская кисточка на шлыке его папахи нелепо болталась на спине.
– Та тормозы ж! – сердился он.
– Заело, Савельич! – прокричал из будки машинист. Но притормаживал…
И вот уже третий вагон подкатился прямо к пулеметному гнезду, остановился. И тотчас вагонная дверь широко распахнулась, раздалось короткое «Руби дрова!» и прозвучали две экономные пулеметные очереди Фомы Кожина.
– Шо там таке? – всполошился петлюровский унтер.
– Тикай, Савельич! Може, спасешься! – посоветовал машинист.
– Шо?.. Чого?.. Куды?.. – бормотал унтер, глядя, как распахиваются двери вагонов и из них сыплются на железнодорожную насыпь обвешанные оружием махновцы. Стреляли только вверх, пока для острастки.
Федос Щусь вместе с Юрком Черниговским возникли возле коновязи, где мирно жевали сено четверо заседланных коней.
– А цього, в яблуках, для батьки! – отвязывая коней, сказал Юрко.
– Цей издаля дуже приметный. Бери гнедого! – посоветовал Щусь.
Они вскочили на коней и, ведя под уздцы еще по одному, врезались в сутолоку покидающих мост людей.
Юрко остановился возле бегущего вместе со всеми Нестора.
– Сидайте, батько!
Нестор тут же вскочил на коня. К нему приблизился Федос, он тоже уже где-то раздобыл коня.
– Смотри, Нестор! Улицы, улицы!.. Город!
Перед ними в рассветных сумерках проступал угрюмый пугающий город. Серые дома, темные окна с кое-где теплящимися огоньками. И уличные неяркие фонари.
– Ну, город, – спокойно ответил Нестор. – Ну и шо?
– От я й думаю: куды теперь?
– Бери своих хлопцев – и вдоль по этой улице. Шмаляйте вверх. Наводите шорох, панику, страх.
– А опосля?
– Спросишь, где у них тут почта чи телеграф. Займешь обое… Словом, действуй по обстановке.
– А ты?
– На вокзал. А дальше… куда крива вывезет. – И, пришпорив коня, Махно поскакал вслед за бегущими махновцами.
Федос проводил его взглядом и обернулся к Кляйну, который держался чуть сзади на тоже где-то реквизированном сером коне. Скорее всего, у извозчиков.
– Слыхав, Сашко? Надо спросить у когось, де у них тут та почта?
– Я так думаю, где-то в центре.
Щусь с Кляйном поскакали по широкой и пустынной пока улице, догоняя свою скрывавшуюся вдали сотню.
Махновцы растекались по улицам, переулкам…
Нестор и Юрко спешились и, придерживая за уздцы лошадей, теперь побежали вместе со своими бойцами.
Неподалеку раздался артиллерийский выстрел, за ним сразу же второй. За невысокими привокзальными строениями взорвались снаряды.
– Артиллерия, батько! И не одна пушка!
– Слышу.
Они остановились, стали прислушиваться.
Снова раздался выстрел. Полыхнуло совсем близко, на невысоком пригорке, у вокзальных строений.
– Марко! Сашко! – Нестор указал Левадному и Лепетченко в сторону бухающих пушек. – Артиллерия! Надо бы с двух сторон зайти!
Хлопцы, на ходу разделяясь на две группки, исчезли.
Солнце еще не взошло, но стало уже совсем светло. На улицах появились горожане. Они шарахались в стороны, жались к стенам домов.
Махновцы пробегали мимо, не обращая на них внимания.
Артиллеристов они нашли быстро. С двух сторон взобрались на пригорок.
Зарядные ящики, вопреки уставу, стояли рядом. Когда между ними разорвалась граната, петлюровские артиллеристы бросились в разные стороны. Завязалась потасовка.
Лишь сотник в жупане с красными петлицами не суетился. Он присел на лафет, закурил. Подле него остались еще двое подчиненных.
Махно с пистолетом в руке, на ходу выстрелом свалив набегавшего на него здорового артиллериста-петлюровца, подошел к сотнику. Молча постоял возле него. Тот продолжал курить.
– Чего ж не удираешь? – спросил Нестор.
– А зачем? – Сотник бросил себе под ноги окурок, аккуратно его затоптал. – Счас хтось в зарядный ящик попадет – и ни нас, ни пригорка.
– Ты из кого? Из панов? – спросил Махно.
– Похожий? – невесело улыбнулся сотник и показал грязные руки.
– За батька Махна воевать будешь? За свободу, за землю?
– А чего ж! Махно – с Гуляйполя, а я з Чубаровки. В одной речке купались.
– Земляки, выходит.
– А ты тоже… того… у Махна воюешь?
– Так я и есть Махно!
– От только брехать не надо! Махно, россказывали – о! И – о! – Сотник поднял руки высоко вверх, а затем широко развел их. – Здоровый, россказывають, бугай.
– Якый есть… А пока, для знакомства, очисть мне от пулеметчиков мост, там, на входе.
– Это можно. – Сотник повернулся к двум уцелевшим артиллеристам: – Степан, подавай шрапнельни. Головку – на тридцать.
Степана опередил Мыкола, махновский хлопец, из имения пана Резника. Он извлек из ящика шрапнельный унитарный патрон, потащил к пушке. Степан ключом подкрутил дистанционную трубку, вглядываясь в деления на алюминиевом кольце боеголовки.
– Неси ще, пушкарь! – скомандовал сотник теперь уже Миколе.
Шрапнель разорвалась над мостом. Пулеметчики оставили свои гнезда, бросились врассыпную.
На мост ворвалась кавалерия, которой командовал Каретников. Помчалась по настилу. Следом за ней потянулись брички, телеги, тачанки, линейки… Хорошо: у моста два яруса. Верхний – для гужевого транспорта, нижний – для поездов.
Махно вглядывался в смутно виднеющихся на мосту конных…
– Стой! Не стреляй! – остановил Махно унтера, готового еще раз дернуть кожаную «сосиску». – То – наши!
Еще минута – и махновская конница стекла с моста, ворвалась в город. Звонко цокали подковы по булыжной мостовой.
Юрко ждал конников у подножия пригорка, придерживая своих коней.
Семен Каретников скакал во главе своей кавалькады. Заметил Юрка, резко и картинно осадил возле него своего коня.
– Де батько, Юрко?
– Там, на горци! С пушкарямы!
– З якымы пушкарямы? Откудова у нас артиллерия? – удивился Семен.
– Та батько на ходу загитирував. До нас примкнулы!
Каретник, пришпорив коня, взлетел на пригорок.
– Шо тепер, батько?
– Не знаешь шо? Город брать.
– Як?
– Побольше шуму, стрельбы, криков… А потом пошукайте оружейни склады. Для этого и город занимаем.
Каретников спустился вниз. Взмахом руки призвал своих конников. Одетая в устрашающе разнообразную форму (жупаны, свитки, доломаны, венгерки, шинели всех цветов), махновская кавалерия со стрельбой, гиками, свистом помчалась по широкому городскому проспекту.
– Даешь губернию! Слава батьке!
– За землю! За волю!
Хотя какая тут в Екатеринославе земля? Разве что палисадники да крохотные садочки. А так – богатый торгово-промышленный город, который почти не грабили. Сотня магазинов, дюжина рынков.
Большинство махновцев в таких городах и не бывали никогда. На каждом шагу сокровища!
…Сашко Калашник со своими бойцами подбежал к пустому трамваю, они ввалились в него, громыхая винтовками, обрезами и ручными пулеметами.
Испуганный вагоновожатый хотел было выскочить, но кто-то успел схватить его за ворот гимназической шинельки.
– Ты шофер? – спросил Сашко.
– Ну, примерно… Вагоновожатый.
– Давай, вожатый, гони до завода «Металлист»!
– Не могу!
– А через «не могу»! – Калашник поднес к лицу вагоновожатого пистолет.
– Я б с превеликим удовольствием! Но, господа, туда нету рельсов!
– А ты без рельсов?
– Без рельсов не получится. Потому – трамвай.
– Ну, тогда… тогда давай жми по рельсам!
– А куда?
– Вперед! Куда ж еще!
Звонок. Трамвай тронулся с места. Набирая скорость, помчался по городу.
…Тем временем Махно говорил артиллерийскому сотнику:
– Хороший ты хлопец! Як звать?
– Павло Тимошенко.
– Будешь у меня в армии начальником артиллерии.
Раздался звук зуммера телефонного аппарата. Он чем-то напоминал утиное кряканье. Сотник вопросительно посмотрел на Махно. Нестор кивком головы «разрешил».
– Сотник Тимошенко слухае, – взяв трубку, сказал Павло.
– Сотнык, шо там у вас за стрильба? Перепылысь, чи шо? – прозвучал начальственный голос.
– Та ни… Тут… – замялся сотник. – От… я передаю трубку…
Махно принял трубку:
– Слухаю.
– Хто це? Шо там у вас творыться? З вамы розмовля генеральный хорунжий Суховерхый!
– Доброго ранку, пан Суховерхый! Шо за стрильба, пытаете? Це я займаю Катеринослав. Пробачьте, шо не извистыв вас заранее…
– Хто це? Хто?
– От тоби на! Договорылысь зустриться, обицялы просвитыть мене насчет экономикы. Я й спишив… Це Нестор Махно!
На том конце торопливо бросили трубку.
– Видать, пока еще сам слабый в экономической науке. Не захотел меня просвещать.
Нестор опустил трубку, взглянул на сотника. Тот наконец поверил, что перед ним действительно сам Нестор Махно. Вытянувшись в струнку и став едва ли не вдвое выше, он ел глазами Махно.
– Слышь, Павло! А давай шмальнем десяток снарядов по городу.
– А в шо стрилять?
– В шо хочешь! Главное, шоб побольше шуму!
– Неси гранаты! – прокричал сотник Мыколе.
…А трамвай с махновцами мчался по городу. Шум, гогот, стрельба из винтовок…
Где-то далеко впереди от них разорвался снаряд. Следом еще один, ближе.
– Братцы, счас в нас вмаже!.. Стой! – скомандовал Калашник.
Трамвай резко остановился. Как горох из стручка, махновцы посыпались из вагона, побежали прятаться под кирпичную арку.
– Это ж надо, зараза! Нащупав!
– Хто?
– Та, видать, Петлюра …Артиллеристы суетились вокруг пушек. Махно любовался их стрельбой.
– Уровень двадцать пять, трубка сорок!
Стволы пушек задрались повыше.
– Перше! Огонь!.. – сам себе скомандовал «сотник» и дернул за «сосиску».
Выстрел.
– Дай-ка я стрельну! – попросил Махно. Он сейчас был похож на ребенка, увлеченного боем, как игрой. Дернул за «сосиску». Откатившийся затвор едва не ударил его по плечу.
– Отскакивай, дура! – закричал петлюровский унтер, командир второго орудия.
– Ты на кого рявкаешь! – озлился Юрко, неотлучно находящийся при батьке.
– Та пускай, – миролюбиво сказал Нестор Юрку. – То ж он не по злу, а для науки!.. – И уже унтеру: – Давай ще разок!
…Снаряд разорвался совсем рядом с трамваем. Зазвенели, посыпались на мостовую выбитые стекла.
Следующий снаряд рванул уже далеко позади.
Хлопцы опять бросились к трамваю, вместе с ними и вагоновожатый.
Трамвай снова помчался по городу, пугая прохожих беспрерывными звонками. Сашко увлеченно дергал за веревку.
Вскоре трамвай бежал уже по городским окраинам. Впереди встало огромное и мрачное темное здание, обнесенное высоким забором.
– Шо то за хата? – спросил Калашник у вагоновожатого.
– Тюрьма.
– Так шо ж ты мовчишь? Стой! – приказал Сашко. – Батько казав, при анархизме тюрьмы надо сничтожать!..
И они вновь покинули трамвай, побежали к тюрьме…
…Нестор и Юрко Черниговский неторопливо ехали верхом по одной из главных улиц города. Их сопровождали человек десять вооруженных до зубов бойцов. Где-то недалеко еще гремел бой. На их пути то и дело попадались лежащие на мостовой убитые петлюровцы, некоторые уже без сапог.
Навстречу Нестору вышел Сашка Кляйн:
– Батько, мы тут какой-то штаб обнаружили. Видать, большое начальство було. Може, сам губернатор чи комендант.
Махно и сопровождавшие его спешились, оставили лошадей коноводам, а сами пошли вслед за Кляйном.
В очищенном от товаров магазине, похоже, действительно располагался чей-то штаб. Торговые витрины в большом зале были сдвинуты к одной стене, и сюда натащили кресла и стулья. На двух сдвинутых столах вместо скатерти была расстелена карта города. На ней стояли пепельница, полная окурков от папирос и сигар, пустые бутылки из-под дорогого коньяка и не менее дорогих вин, бокалы. На стульях и подоконнике – несколько телефонных аппаратов в роскошных кожаных футлярах. В углу стояла застеленная одеялом кровать…
Из соседней комнаты появился Щусь в белой папахе с красным шлыком и кожаной куртке, на рукаве которой была зигзагообразная, золотом шитая полоса.
– Это шо за маскарад?
Хлопцы Щуся были довольны видом своего командира. Хохотали.
– Це, Нестор, мы тут нашли. Тут папаха лежала. – Щусь снял и кинул на кровать папаху. – А тут, на кресле, кожанка. Видать, начальственна. – Щусь сбросил с плеч и кинул на кресло куртку. – Мы когда сюда ворвалысь, Нестор, тут ще дым от папирос по хате плавав.
– И горилка в бутылках була, – сказал Нестор.
– Була, не отказуемся.
– Интересно, в чем же он сбежал, пан генеральный хорунжий Суховерхий? – разглядывая оставленную одежду, задумчиво спросил Нестор. – Не в одном же исподнем?
– Та хрен з ним, Нестор! Удрав и удрав! Може, хлопцы его ще где-то поймають, – сказал Щусь.
Время от времени кто-то входил или выходил, и дверь отзывалась на это легкомысленным перезвоном колокольчика.
Махно резким движением руки смел со стола пустые бутылки, бокалы и склонился над планом города. Вместе с ним план изучали Чубенко, Щусь, Кляйн, Левадный и Лепетченко.
– Черт его розбере, де мы, – сказал Левадный. – В степу хорошо, все кругом видать и без карты… и связь через конных. А тут? Хужее, чем в лесу. С донесением чоловек часа два буде блукать по цых вулицях, покы кого найде… Куда нас черти занеслы?
– Учитесь! – отрезал Махно, продолжая блуждать взглядом по сплетению улиц и водя по ним заскорузлым пальцем. Затем поднял глаза на Щуся: – Почту взял?
– И почту, и той… як его… телеграф. И ще якыйсь банк нашли. Хлопци охраняють.
– Тимош, – обернулся Нестор к Лашкевичу. – Дуй в банк! Разбирайся! Гроши – в мешки и на вокзал, в вагон. И опечатай! Чи охрану поставь!.. А закончишь с банками, проводь конфискации у буржуазии. Город богатый!.. Тебя, Федос, нацелюю на оружейни склады. Каретников со своими хлопцами тоже этим же займется, тебе в подмогу.
– Легко сказать – склады.
– Если б легко, я б Мыколу послал! – Нестор указал на Мыколу-артиллериста.
Щусь неохотно покинул помещение. Кляйн, который до сих пор состоял при Щусе, вопросительно посмотрел на Нестора.
– Кляйн при штабе останется. За толмача. Тут, в городе, всяких иностранцев як блох на собаке. Алёшка Чубенко, будешь начальником штабу!.. Марко, проследи со своими хлопцамы за Камьянкой – неспокойный пригород… Ты, Трохим, возьми на себя базар на Озерном, – обратился он к Бойко. – То – пупок в городе. Оттуда чего хочешь можно ждать. И проконтролируй, шоб хлопцы не грабили. Разве шо для пропитания…
– Тут черт голову сломае, – сказал Чубенко, глядя на телефонные аппараты, на карту. – Якый з мене начальник штаба? Дуже высоко ты мене поставыв, батько!
– Высоко – так летай!
Черногвардейцы один за другим, бряцая шаблюками, шпорами и другими железяками, выходили во двор, садились на коней…
Махно посмотрел на оставшихся возле него Григория и Савву:
– А вам, браты, патрулировать на улицах. Шоб не было баловства. А то багато хлопцев видел с пустымы мешками. В случай чего – прямо на месте! Моею рукою!
– А я куда? – обиженно спросил Кожин, решив, что о нем просто забыли.
– Ты, Фома, тоже при штабе. В резерве! Город! Мало шо может случиться!..
У ворот тюрьмы лежали три убитых охранника в синей форме. Вышки были пусты. Ворота распахнуты…
По двору бегали выпущенные на волю радостные арестанты. Кто в полосатой тюремной одежде, оставшейся от «добрых времен», кто в своем, домашнем, а кто и в наброшенных на плечи шинелях, снятых с убитых охранников. Радостные голоса, вопли сливались в один сплошной рев.
– Крычить, черти рогати: «Слава батьке Махно!..» – обратился к ним Сашко Калашник. Но никто его не слушал.
– Додому спешать, – объяснил поведение арестантов кто-то из махновцев.
– Хорошо б додому! – озабоченно почесал затылок Сашко. Он посмотрел на здание тюрьмы. Кирпичные стены были высокие, массивные. – Це ж сколько динамиту надо, шоб цю тюрьму розвалыть! А батько наказував: тюрьмы сничтожать!
Рядом с Калашником остановился один из солдатиков Московского полка, без оружия, в одной драной рубахе. Лицо побитое.
– Ты чого це голый на морозе, Ерофей? – спросил Сашко.
– Раздели, заразы, в колидоре, оружию отобрали, – чуть не плакал хлопец. – Я ж им замки открывал, как тех пташечок на волю выпускал. А они… Хоть бы саблю оставили, я б им головы посносил!
– Да, – задумчиво сказал Калашник. – Похоже, будуть ще з цыми пташечками дела!
На Озерном базаре махновцы пробежали по рядам. И уже кто-то пил из глечика молоко, кто-то рвал зубами шмат сала или круг колбасы. Голодные!
– А платыть? – кричала торговка.
– В штаби гроши. Бижи, там батько Махно роздае, – огрызнулся махновец.
– Зараза ты бандитска! Шоб тебе чорты в свынячому сали варылы. Шоб твои кышкы на ковбасу чортам пишлы!.. – не унималась торговка.
Хлопцы хохотали.
– Ну чего ты кричишь! Не бандиты мы, тетка. Жрать хочеться, а грошей нема!
– Заладыла: гроши, гроши! – даже возмутился махновец, который реквизировал у бабки круг колбасы. – А ты хоть знаешь, тетка, шо грошей скоро вже не буде? В Киеви вже отминылы!
– А шо ж буде?
– Свобода… Доброта до людей!
– Тьфу, придурок! Де доброта, там и голота…
– Не понимаешь, тетка…
…В штабе раздался телефонный зуммер. Кожин протянул трубку Нестору.
– Ты, Махно? Це я, Глыба! Еле нашел! Шо там у тебе?
– А шо у меня? Потихоньку занимаю город!
– А мы тут заседаем. Хотели б и тебя послухать.
– Сами себя слухайте… Соловьи! – Нестор швырнул трубку на рычаги, повернулся к своим хлопцам: – Большевики, леви эсеры… Я так понимаю, власть делять…
Вечером в одной из богатых квартир с резной мебелью и тяжелыми шторами на окнах, с электричеством, радугой играющем на хрустальных люстрах, семья в испуге выстроилась вдоль стенки. Один из трех зашедших сюда махновцев, старший, пояснял:
– Несить, панове, шо лышне з одежи. Бачите, пообносылысь. – Махновцы и в самом деле выглядели оборванцами. – И нас не бойтесь. Нам батько Нестор Ивановыч строго наказалы, шоб бралы только то, шо на себе. И у кого шо лышнее… От у тебе скилькы штанив? – спросил старший у главы семейства, благообразного господина в домашнем сюртуке.
– Ну, не знаю, – растерянно ответил тот, глядя на жену.
– Бачь, не знаешь. А я знаю. У мене одни, та й ти з диркамы. Так шо роздилым по-братски и розийдемось як друзья!..
– Господь свидетель, – пробасил пожилой, очень грозный с виду махновец и перекрестился. – Мы не то, шо… а по-доброму… по-селянски… В помочь… бо зима, а воювать надо…
Из квартиры все трое вышли переодетыми, в новой обуви, в штанах со штрипками, в нелепых модных пальто и шляпах.
– Ну от! Мы не то шо… У йих багато всього, а мы по справедлывости, – подвел итог пожилой махновец. – Так, як батько наказаувалы: шо кому надо, по потребности. И не бильше… А польта хороши, – пощупал он материю. – З пидкладкою… тепли… не то шо шинелки.
Они шли по улице, держа винтовки наготове. Всматривались в окна. Под ногами хрустело стекло разбитых витрин.
– А я во… – Молодой вытащил из кармана пальто огромный серебряный половник. – Побачив та сховав… борщ йисты… зразу повный рот, а не то шо ложкою сьорбать… Тилькы чижолый.
– Однесы назад, Харитон. То ж серебро, – сказал старший. – Подумають, шо украв.
– Може, не подумають. А як однесу, так точно скажуть, шо украв… Та, по правди, багато у ных цього добра. Не замитять! – И он спрятал половник в холщовую торбочку.
– Ну, хиба шо багато, – согласились с ним остальные двое.
Неожиданно на улице погасли фонари. Темнота.
– Куды иты, Кузьма?
– А чорт його знае.
– В степу хочь день, хоть ничь – все выдно… а тут просто як в якийсь ями…
Неуютно повстанцам батьки Махно в большом городе. Особенно ночью.
…В штабе зажгли свечи. Огромные. Видимо, их принесли из ближайшей церкви. Благо в городе было больше двадцати православных церквей, не считая лютеранских, католических и дюжины синагог. Трикирий и дикирий ярко горели на столе, оплывая воском. А в углу возле телефона пылало еврейское семисвечие.
Чубенко накручивал ручку:
– Барышня, дай мне начальника электрической станции.
Несколько мгновений «начштаба» вслушивался.
– Станция не отвечае!
– Ну, помоги, дорогенька, може, начальник дома? Скажи, з ным батько Махно желае побеседовать.
Какое-то время Чубенко вслушивался, потом медленно положил трубку.
– Ну что там?
– Шо… Якие-то придуркы щиты на станции разгромылы. Начальника электростанции росстрилялы, а квартиру його ограбылы.
В штабе воцарилась тишина. Нестор беспокойно ходил по комнате, пиная ногой попадавшиеся по пути какие-то штофы, кружки… В углу ворочались спящие махновцы. Стонали раненые. Пожилой махновец, раненный в ногу, раскачивался из стороны в сторону, в полудреме навевая на всех тоску песней:
– Ой, судома, пане-брате, судома, судома…
– Шо ты такое похоронное спиваешь? – обозлившись, остановился напротив мрачного махновца Нестор. – Шо это ще за судома?
– Не знаю. У нас на Житомырщини таки жалослыви писни спивають.
И вновь в штабе тихо и уныло зазвучало:
– Ой, судома, судома…
– Черт знает шо! – выругался Махно. – Не город, а какой-то бордель… Света нема. На квартирах грабежи… убийства… песни хоть сам помирай! Скорей бы день!
Раненый мужик прервал свою тягучую песню, приподнялся на локте. Последние слова Нестора вывели его из полудремы.
– Ага! Дуже богатый город, батько, – сказал он. – Такый богатый… голова кругом… и одни буржуи. Взирвать бы його чи запалыть… Карасину треба, батько!
С грохотом в штаб ввалился Глыба.
– Темнотища, – отдувался он, большой и неуклюжий, как медведь. – Якись дурни хотилы ограбить. «Фраер, дай огоньку!» Я дал! – Он показал здоровенный, с разбитыми костяшками, кулак. – Наверное, курыть бильше не будуть… – Протянул руку Нестору: – А тебя, батько Махно, поздравляю! Только шо ты назначен комиссаром по военным делам города Катеринослава.
Махно, ухмыляясь, вяло пожал руку Глыбы:
– Это хто ж меня назначил? Ты?
– Коллегиально… Поспорили, конечно. Чуть до драки не дойшло! Эсеры за свое, у профсоюзов други интересы… Но мы, большевыкы…
– Постой! – прервал басовитый рокот Глыбы Махно. – Какой же я комиссар? Я ж батько. Это у вас там, у большевиков, комиссары!
– Ты нам подходящий. Революционер, каторжник, боевый командир…
– Я – комиссар, а ты, значит, председатель?
– Не… Председателем у нас старый большевык, двадцать год тюрем и ссылок. Михневич. А я комиссар по мобилизации, продовольствию, и это… по женскому вопросу.
– От это хороший вопрос! – усмехнулся Нестор. – Так иди, пока темно. Самое время заняться женским вопросом.
– Не шуткуй! Это серьезно! – начал сердиться Глыба. – Женщины – большая политическа сила, тилькы надо их малость поднять!
– Голодный? – спросил Нестор у Глыбы.
– Четырнадцать часов тилькы воду з графину пыв!
Юрко, не дожидаясь указаний, поставил на стол бутылку «казенки», фужеры и декоративное, огромных размеров блюдо, наполненное солеными огурцами, помидорами и кусками мяса. Глыбу не надо было упрашивать. Ел он поспешно, руками, отхлебывая из фужера «казенку», как воду.
Пиршество Глыбы было прервано появлением Григория, Саввы и еще нескольких махновцев, тащивших за собой двух шестнадцатилетних гуляйпольцев – Василя и Петра. Оба паренька, в свою очередь, волокли за собой объемистые клунки, вцепившись в них мертвой хваткой.
– От, батько, ци двое грабылы по квартирах, – доложил брату Савва. Для него Нестор теперь, в боевой обстановке, тоже был батько.
– Та мы тилькы те, шо батько дозволылы, – попробовал обьясниться Петро, с трудом разлепив разбитые губы. – Трошечкы. Для себе.
Махно сделал знак Черниговскому. Расторопный Юрко извлек из клунков несколько пиджаков, шапки, сапоги, ботинки, какие-то серебряные салатницы, вилки, ложки. Даже говорящих кукол, которые на разные голоса, хлопая голубенькими глазками, жалобно призывали: «Мама!» Черт знает сколько всякого барахла может вместиться в такой с виду небольшой клунок!
– Ну нашо вам столько шапок? – почти добродушно спросил Махно. – Шо у вас – голов як у того змея?.. От дурни!..
– Так то ж, батько, для чого стилькы? Колы одна вещь зносыться, друга буде, – рассудительно обьяснил Василь. – А то у буржуазии стилькы всього, просто обидно!..
Махно махнул рукой: мол, хватит оправдываться. Подозвал к себе Кляйна, который, как и все остальные, с интересом следил за происходящим.
– Сашко! Ты грамотный, пиши приказ! «При занятии Екатеринослава славными партизанскими революционными войсками во многих частях города начались грабежи, разбой и насильства… Подлая тень падае на славных партизан-махновцев, которы борются за счастливу жизнь всего пролетариата и трудового крестьянства. Шоб предотвратить эти паскудства, шо творять люди без чести и совести… – Махно внимательно посмотрел на лица двух стоящих перед ним малолетних грабителей, словно пытался понять, доходит ли до них смысл воззвания, – …объявляю, шо всякие грабежи и прочее в данный момент моей ответственности перед революцией будуть пресекаться в корне…»
Василь и Петро притихли в ожидании самого худшего. Глыба застыл, держа в руках надкушенный соленый огурец.
– «…Объявляю, шо каждый такой преступник рассматривается мною як враг восстановления власти вольных Советов и справедливости и будет беспощадно расстреливаться. О чем и довожу до сведения всем гражданам… Главнокомандующий батько Махно».
– Ну, это ты, Нестор Иванович, уже не по чину замахнувся, – пробасил Глыба. – «Главнокомандующий»…
– Ну не комиссар же! – ответил Махно и повернулся к брату: – Савва! Найди типографию, и шоб утречком листовка висела на всех домах!
– Да як же ночью, братику? – попробовал возразить Савва. – И без света. Де я их…
– Саввочка! Ты як ночью поссать идешь, свой инструментарий в темноте находишь? – ласково спросил Махно и внезапно разразился криком: – Хоть приказы сполняй справно! Там, на Кичкасском мосту, я на тебе понадеявся, а ты…
– Сполню, братику! – схватив листок, Савва, а за ним и еще несколько махновцев исчезли за дверью, стуча о косяки прикладами и бухая сапогами.
– Ты, Юрко, – Нестор вынул из-за голенища свою плеть, протянул адьютанту, – возьми мою плетку, отведи этих двух злодиев на улицу и на морозце моей батьковской рукой всыпь им по десять плетей… для науки!
– Слухаю!
– Детвора! – сказал Глыба Нестору не без укоризны.
– Детвора!.. – Махно плеснул себе в стакан «казенки», выпил и с хрустом закусил огурцом. – Иначе расстрелял бы!.. Может, хоть що-то поймут!.. Города – это паскудство, согласен… Я думав, оккупанты их хоть трошки пограбили. Не! Они, видишь ли, города не трогають. В селах обогащаються. А мои хлопци, выходит, за село обиду на городе вымещають…
– Расстрелами грабежи не остановишь.
– А чем?
– Грабежи – от бедности. Пока народ бедный, нияк ты их не прекратишь.
– Чого я й боюсь. Шоб не превратился мой отряд в армию грабителей! – Нестор поднял с пола тяжелую серебряную супницу. – Ты думаешь, он из нее борщ хотел есть? Чи галушки? Ничего подобного. Он и и сам толком не знает, для чого оно. Блестит – берет. Як щука!
Глава двадцать пятая
Рассвет занимался над Екатеринославом, хмурый, ветреный, с низкими тучами, со снежной крупкой. Савва и его помощники шли по улице, клеили на стены домов, на афишные тумбы белые прямоугольные листки…
Внимание Саввы привлекло одно из объявлений. Многоцветное, яркое. Шевеля губами, он медленно прочитал: «Меблированные комнаты м-м Тришкиной “Парадизъ”. На месяцъ, на неделю, на ночь, на часъ. Теплая вода, завтраки, обеды и ужины в нумера».
– Хоть бы час пожить в такому «Парадизи», – проворчал Савва и сердито наклеил посредине этого объявления свое.
Рассвело уже настолько, что можно было погасить свечи.
В штаб ввалился Калашник. Вслед за ним махновцы ввели связанного человека в сером полупальто и шляпе, натянутой на глаза. Под верхней одеждой просматривался мундир юридического ведомства.
– Де вас носит втори сутки? – сердито спросил Нестор.
– Тюрьму найшлы, батько! – доложил Калашник. – Прийшлось повозыться!
– Взорвалы?
– Куда там! В семь кирпичив сложена, зараза, з пушкы не пробыть… Заключенных ослобонялы! Камеры заперти, ключив нема. Всю ночь возылысь.
– Як хотите, но шоб тюрьму сничтожили, – строго приказал Нестор. – Мы город оставым, они снова тюрьму людьмы набъют. Думать надо, Сашко!
– Батько! Шоб таку тюрьму подорвать, надо подвод десять динамиту. А мы только одын ящик найшлы, – упавшим голосом произнес Калашник. – Забор и той не проломыть!
– На складах пошуруйте! Не може быть, чтоб в таком городе на складах динамита не было!
– Пошукаем, батько! Постараемось! – заверил Калашник и со своей ватагой двинулся к двери.
Махно посмотрел на связанного человека в натянутой на глаза шляпе:
– А это шо за чучело вы привели?
– Подарок тоби, батько, – улыбнулся Калашник. – Сам прокурор губернии!
Сашко небрежно снял с приведенного человека шляпу, и Махно узнал своего давнего знакомого, следователя, несмотря на то что со времени их встречи прошло лет десять, если не больше. Все такая же вытянутая огурцом, наголо обритая голова, строгий вид, а главное – на сером мундире серебряный знак Военно-юридической академии с надписью посередине «Законъ». Да, это был он, строгий законник Кирилл Игнатьевич из Одессы, который когда-то присутствовал на провалившемся опознании Махно. Постарел, осунулся, стал прокурором, но все так же подтянут и надменен.
– От эт-то встреча! – даже ахнул от неожиданности Нестор. – Помнится, в девятьсот восьмом вы былы всего лишь следователем… Хорошую карьеру сделали!
Кирилл Игнатьевич не ответил.
Махновцы с интересом наблюдали за этой необычной встречей.
Глыба встал.
– У вас тут свои разборки. А мени пора по своим делам! – И протянул руку Нестору: – Прощевай пока.
Он ушел.
– Батько, чого нам з цым прокурором возыться? Ну, подывылысь на нього – и хвате… Дозволь, я його выведу… тут недалечко… до кирпичного забору, – с энтузиазмом предложил Сашко Калашник.
– Я поможу! – оживился мрачный махновец.
Махно пресек их рвение жестом:
– Он мне ничего плохого не сделал. Закона придерживался. Через то меня первый раз и выпустили…
– Та невже, батько, мы его отпустим? – ужаснулся кто-то из махновцев.
– Отпустить не могу, – вздохнул Нестор. – Мы ж всю эту царску юриспруденцию должны под корень сничтожить. Так наша анархическая наука гласить, а не то шо по злобе… Развяжите его! – приказал батько. – А где пенсне? Он тогда был в пенсне!
– Роздавылы. Оны сопротивлялысь, – пояснил Калашник, обрезая веревки.
– Ну и идите, хлопцы, по своим делам. Но шоб тюрьмы в городе не было. Там, де я, тюрем не будет!
Ватага во главе с Калашником покинула штаб.
– Садитесь, господин прокурор, – сказал Махно. – Извините, запамятовал, як вас величать? – на минуту забыв обо всех своих тревогах, он наслаждался этим спектаклем. Маленький суд!
– Кирилл Игнатьевич! – мрачно откликнулся пленный законник.
– Вот видите, Кирилл Игнатович, теперь на Катеринославщине торжествует наш, анархический, революционный закон!
– Не приметил торжества… И что же он, извините, собой представляет, ваш закон? – спросил прокурор. Его значок поблескивал: видимо, он часто его чистил.
– А все просто! Не надо нияких этих ваших кодексов, статей. Як народ скажет – от и весь закон!
Махновцы встретили это заявление одобрением. Срезал батько самого прокурора, ой срезал! На то он и Махно. Голова!
– Прошу прощения. – В глазах прокурора, несмотря на подавленное состояние, блеснуло любопытство: эких высот достиг хлопчик из Гуляйполя! – Я так понял, что тюрем у вас не будет?..
– Понятное дело!
– Никаких тюрем! – гомонили махновцы.
– Ну а как быть, если суд решит наказать? Куда посадить человека, чтобы он, допустим, одумался, осознал?
– От вы меня посадили! И шо, я одумался? – спросил Махно.
Прокурор не нашел, что ответить. И бойцы Нестора еще больше повеселели.
– Ну, с вами – особый случай, – согласился прокурор. – Похоже, в тюрьме у вас нашлись учителя. Они вооружили вас полузнанием – самым страшным оружием в руках сильного и властного человека!
– Ну, вы меня не обижайте, – добродушно сказал Нестор, усаживаясь напротив пленного. – И насчет власти… Я на себя не много беру… без хлопцев ничего не решаю!
И опять – одобрение бойцов.
– Ну вот собрался ваш народный суд. Судите селян. – Прокурор постепенно смелел, вероятно, примирившись с мыслью о том, что эти вроде бы добродушные хлопцы в конце концов убьют его. – Один сильно провинился, другой так, по мелочи. Как будете наказывать?
– Народ проголосует, – объяснил Махно. – Тому, кто сильно виноватый, само собой – смерть. Сразу же. А который по мелочи… ну, обругают, опозорят. Может, батогов по заду на площади дадут – и отпустят. Потому як сажать некуда, тюрем нет.
– Вот и выходит, что у вас «или – или», – сказал Кирилл Игнатьевич. – Любой наговор или ошибка могут стоить жизни. Ни следствия, ни защиты.
– Почему же! Народ защитит, если человек стоит того…
– Не всегда… Все может быть, если отсутствует закон, – упрямо повторил обреченный прокурор. – Отмена выработанных историей человечества законов, она скажется и на вас! Желание судить от имени народа может кого угодно соблазнить… И все это в конечном счете против вас и обернется… Разве у вас нет противников?.. Постойте, постойте! – остановил он возражения Махно. – Вот вы политических противников не признаете. Ну, кадетов там, меньшевиков, эсеров… и целые классы и сословия – офицеров, священство, купцов, помещиков не признаете и просто уничтожаете… Но вас ведь тоже могут записать в противники более сильные ваши враги!
– Ха! – улыбнулся Махно. – Мы – селяне. Нас нельзя сничтожить, потому шо нельзя без хлеба прожить! Все войны, если вдуматься, проистекають из-за хлеба.
– Це так! – нестройным хором подтвердили все, кто находился в штабе.
– Все может быть, если отсутствует закон. Вот вы землю раздали не по закону, да? А может, через какое-то время вам скажут: земелька-то, извините, не ваша. Подвинтесь!
– Ну, эти сказки мы вже слыхали! Да кто может нам сказать такое? Панов и всяких богатеев мы ликвидируем, может, также и большевиков разом со всякими эсерами. Мы, селяне – сила! Нас нельзя сничтожить, потому як на нас вся жизнь держиться! – категорически заявил Махно. – И потом, за нас целая наука. Анархизм – не игрушка!
– Наука или нет, но развитие общества – это борьба анархии и порядка. Закона и своеволия, – вздохнул прокурор. – Может быть, так и должно быть. Но почему, почему это происходит именно в России? И в такой кровавой форме! Это ж на века скажется. Может быть, именно сейчас, в эти годы, ломают хребет моей России… и потом – инвалидное кресло!.. Не сразу! Не сразу!.. Это как туберкулез. Будут времена кажущегося выздоровления. Но кризис однажды наступит!..
Со звоном колокольчика в штаб вошел запыхавшийся Левадный. По его лицу было видно, что он не с добрыми вестями.
– Шо у тебя?
– За Каменкой, возле Старых Кайдаков, наскочилы на петлюровску разведку. Полковник Самокиш пидходить з Кременчуга на подмогу своим. Разведка доносит, у нього корпус!
– Понял. – Нестор поднялся со стула, посмотрел на прокурора, лицо его поскучнело. – Ну, насчет туберкулеза… тут я с вами мог бы поспорить! Но – не буду! Нету времени! – Он неожиданно протянул ему руку, и тот машинально ее пожал. – Спасибо за беседу, Кирилл Игнатович. Редко доводится вот так поспорить с образованным человеком. Голова – вроде оружия, ее тоже надо каким-то ершиком прочищать. – И обернулся к Каретникову: – Выведи бывшого гражданина прокурора. И зразу ж назад!
– Можно, и я? – спросил похожий на медведя махновец.
– Тебе – нельзя, – ответил Махно и повернулся к Каретникову: – И тот значочок, шо на нем, не снимай. Пусть так и едет на тот свет со своим законом…
– Пошли! – Каретников поднял слегка обмякшего прокурора со стула и подтолкнул его к двери.
Кирилл Игнатьевич нашел, однако, в себе силы, вскинул удлиненную бритую голову.
– До свидания всем! – сказал он. – Похоже, скоро увидимся! И запомните: это не заря русского крестьянства, это начало конца!
Дверь отозвалась на его уход заливистым звоном колокольчика. Затем неподалеку прозвучал выстрел.
Они шли по городу. Светало. На шаг впереди Нестора шел Юрко, сзади несколько махновцев, один из которых тащил на плече «Льюис». Хрустело под ногами стекло. Побитые витрины, фонари, поколупанные пулями и осколками снарядов стены домов…
Еще издали Махно заметил отпечатанный крупными буквами собственный «приказ». Он был наклеен на кирпичную стену дома. И подпись увидел – «Главнокомандующий». Крупно набрано! И на многих других домах белели такие же листы…
Махно обратил внимание на афишную тумбу с обрывками устаревших призывов и объявлений. Обошел кругом. Прочитал: «Заем свободы! Пиддержуйте неньку Украину!»… «Настоящий петербургский кафешантан! Лучшие исполнительницы канкана во главе с м-ль Лорье!»… «Абрикосов и сыновья! Настоящий шоколад! Подарочные бонбоньерки!»…
Следы куда-то исчезнувшей бурной и праздной жизни! А на улицах пустота. Только где-то далеко еще трещали выстрелы, а кто с кем схватился – неизвестно.
С другой стороны улицы, придерживая одной рукой шашку (другая на перевязи), к ним подбежал Трохим Бойко. Пожалуй, впервые Нестор увидел, что не молод уже Трохим и тяжел для войны.
– Так шо, батько, Чечеловку и Озерный базар почистылы. Петлюровци тилькы на якийсь Сурский улыци осталысь. Там той, новый леватор, з бетону… не пидийты.
– Пусть сидят, пока не сдохнут… А шо с рукой?
– Та ничого… Пуля.
– У хирурга был?
– Був… Тут, в городи, удобно: прямо на улыци вывишено, де якый дохтор. Дывлюсь, а тут рядом, зразу ж за вуглом, той… як його… енеролог. Он ще поначалу отказувався. Ну, я йому трохы пошептал. И, вирыш – ни, так швыденько лангетку сделав и загипсував… Хороший дохтор!
Махно расхохотался. Настроение у него после прочтения собственого приказа явно улучшилось.
– Дохтор сказав, шо через недилю заживе, як на собаци… А ты чого регочешь, батько!
– Хорошо, шо он тебе только руку полечил. Мог бы и что-то другое. У него б это даже лучше получилось… Гордись, Трохим! На старости лет у венеролога побывал!
– Ну, у енеролога. И шо?
– Он, Трохим, главным образом срамными делами занимается. Хорошо хоть, шо не додумался тебя почистить, як кабанчика!
Теперь уже гоготало все окружение Нестора.
Вдруг они услышали крики, раздававшиеся из окна третьего этажа.
– Помогите, помогите! Люди добрые!.. – кричала простоволосая, растрепанная женщина.
– А ну, Юрко! – скомандовал Нестор. – Быстро!
Его адъютант, а за ним и еще несколько махновцев мгновенно исчезли в подъезде и вскоре вытолкнули на улицу трех порядком побитых граждан, одетых в явно не подходящие для их облика пальто, краги и штиблеты.
– С какого села? – спросил Махно, подозревая, что так преобразились его бойцы.
– Ты че, дяха! Че ты прикинул, ше я с села? – дерзко спросил один из задержанных, характерно, по-блатному шепелявя. – И где ты меня мог видеть в селе? Че я там за…
Тут он тяжко ухнул, проглатывая слово. Это один из махновцев наградил его тычком приклада по хребту.
– Не выкаблучивайся! Отвечай батьке Махно як попу на исповеди! – с обидой за своего кумира крикнул в лицо дерзкому блатарю Юрко.
– Да мы че? – обиженно произнес блатной. – Раз это, я дико извиняюсь, батька Махно, то мы… это… просим пардону. По роковой ошибке куда-то не туда ввинтились.
– Вас не для того из тюрьмы выпустили, чтоб грабить, – мрачно процедил Махно. – Вам волю дали… Волю!..
Между тем Юрко извлек из карманов задержанных золотые украшения, цепочки, мраморных слоников, часы…
– Може, вы нас назад в тюрьму доставите? – дергался другой блатарь и, обрывая на своем пальто пуговицы, закричал: – Мало нас царизм дыбил! Мало нас жандармы трюмили!..
– В тюрьму захотел? – недобро усмехнулся Махно. – Тюрьмы больше не будет!
– Оны, батько, хотели снасильничать в той квартири, – сказал Юрко. – И матир, и дочку…
– А че? – спросил дерзкий. – Ну… намаялись без женского присутствия, как кобели на цепи… А насчет грабежу, так мы слыхали, и ты, батька, по этому делу прохвессор! Шо ж ты тянешь на нас? Мы, просю пардону, родня!..
И вот тут Махно вышел из себя. Молниеносно выхватил из кобуры свой «уэбли» и разрядил его, не особенно целясь, в троих по очереди. Двое упали замертво, а третий, шатаясь, остался на ногах. Потом опустился на колени…
Десятки лиц, прильнувших к окнам, тотчас исчезли будто ветром сдуло.
– Добейте, – приказал Махно, повернулся и пошел дальше.
Улица была пуста. Какой-то юноша-очкарик высунулся из окна второго этажа. Его пытались оттащить в глубь комнаты, но он цеплялся за подоконник.
– Палачи! – кричал юноша. – Людей убиваете, как скотину на бойне!..
– Дай, батько, я на него патрон срасходую, – сказал мрачный махновец. – Шашкой не достать!
Он снял с плеча «винт», но Махно отвел ствол в сторону:
– Не надо! Дурной пацан! А славы на весь город…
Кто-то из домашних заткнул очкарику рот, его оттащили в глубь комнаты. Закрыли окно.
– Обидно, батько! – проворчал махновец. – Хто-то грабыть – нас ругають. Наказуем грабытелив – опять же на нас… Клятый город!
Послышался цокот лошадиных копыт, фырчание автомобильного мотора. Группа конных махновцев сопровождала автомобиль, в котором гордо восседал Тимош Лашкевич с помощником. Автомобиль был забит саквояжами, банковскими мешками, чемоданами. Позади автомобиля вился, подхваченный морозным ветерком, шлейф сизого дыма.
– Батько! – окликнул Нестора Лашкевич, как только автомобиль притормозил. – Почистили банки, ломбард. И кассы в магазинах тоже. На складах кой-шо найшлы… Грошей, батько, и за три дня не пересчитать. Не скоро очухается буржуазия! Ксплуататоры!
– Вези на станцию, загружай в вагон. И жди там. – Тревожные предчувствия мучили Нестора. У отцов анархизма ничего не было сказано о том, как вести себя в захваченных городах.
У магазина с шикарной вывеской «Дамское белье г-жи Мирулевой и г-на Дитц, а также шароварные юбки для дам-велосипедисток. Парижский шик» Нестор услышал веселый смех, гомон. На витринах жалюзи опущены, кокетливая маркиза над окнами порвана, но двери были настежь открыты, и смех доносился явно оттуда.
Нестор с сопровождавшими его хлопцами вошел внутрь. Еще издали увидел какую-то женщину, обвешанную оружием, и нескольких тоже весьма хорошо снабженных винтовками, револьверами, гранатами и шашками мужчин.
Гомон и смех смолкли. Обе группы настороженно смотрели друг на друга.
– Маруська! Никифорова! – удивленно воскликнул Махно. Он узнал в женщине предводительницу хорошо известного анархического отряда, который в свое время Маруська сформировала в Александровске, хотя бродила со своими хлопцами по всей правобережной Таврии – от Одессы до Александровска. Даже сами селяне Маруськин отряд иначе как бандой или шайкой не называли – за безудержные грабежи и жестокость.
– Нестор? – Круглолицая, миловидная, с крепкой и стройной фигурой, Маруська обняла Нестора. Он чуть отстранился, понимая, что рядом с Маруськой выглядит подростком.
– Ты чего тут? – спросил Нестор.
– Так дамский же магазин!
У нее были смеющиеся и лукавые желто-карие глаза, в которых никак не отражалась суть этой отчаянно смелой, наглой и свирепой дочери русской революции.
– Я не о том. Як ты тут, в Катеринослави, очутилась? – Встреча с Марусей была для Нестора приятным сюрпризом. – Ты ж где-то на Херсонщине была!
– Як узнала, шо Махно Катеринослав берет, так и решила: надо подсобить боевому товарищу! Од Никополя до Катеринослава – меньше чем за сутки…
– По магазинам… помогаешь!
– Не будь свекрухой, Нестор! – улыбнулась Маруся. – Слабость у меня до дамского белья! – Схватив Махно за руку, она буквально подтащила его к стопке отобранного ею белья. – От такие штанишки, як пушок легкие… А эти… Какую ж красоту придумали люди для нас, для баб! Я б хочь сейчас одела, та неудобно – одни мужики, – с неожиданной стеснительностью произнесла она.
– Ой, расстреляю я тебе, Маруська, за грабеж! – пригрозил, хмурясь, Махно. – Приказ мой читала?
– А как же! Но в нем ничего не сказано про дамске белье для анархисток! – засмеялась Маруся. – Та и какой же это грабеж? Так, дамский интерес!
Хохотали махновцы. Хлопцы из банды Маруси тоже.
И тут смеющиеся красивые глаза Никифоровой вдруг превратились в две узенькие щелочки, наполненные гневом. Та еще бабонька!
Она небрежно бросила вещи, которые держала в руках, в общую кучу:
– Выносьте, хлопцы! Та не попачкайте! – скомандовала она своим подчиненным и перевела взгляд на Нестора: – Слухай, Нестор! Ты, конечно, батько и страдалец за народ! Но шо ты знаешь про бабскую долю революционерки? Шо ты знаешь про красиву дивчинку, шо в шестнадцать годов попадает в руки тюремщиков? Шо ты знаешь про мою жизнь? Шо я бандитка? Да! И от я, бандитка, – она ударила себя в пышную, оттопыривающую меховой жакет грудь, – до двадцати пяти вообще не знала, шо такое белье. Не какое-то там красивое, кружевное, а обыкновенное. Хоть бы бабские штаны тепли… на зиму! Потому шо про кусок хлеба думала не только для себя, а и для меньших своих братов и сестер. Экономила на всем. Даже по заграницам жила без штанов. Просила, да! Дождешься у них, как же! Пять су – на булочку. А англичане, немцы, думаешь, щедрее?
Нестор с удовольствем отметил для себя, что Маруська не только грозная террористка, но и прекрасная, пламенная «ораторша». Отчаянно смелая в своей откровенности и потому понятная, вызывающая интерес и симпатию.
– Белье буржуйское тебе жалко!.. – усмехнулась Маруся. – А мне ни себя, ни их, гадов, не жалко! В двенадцать лет я посудомойкой на винном заводе князя Трубецкого работала, в Бериславе. Мастера и всякое пьяное начальство таскало меня в кладовку. Бросят на матрас, как куклу, и справляют свое удовольствие. А шо скажешь? Выгонят, как кормить семью?.. Это похужей, чем кандалы да плети… А сейчас я желаю свое господство проявить. И белье у них взять, какое хочу, и остальное всякое! И плевать мне, Нестор, на твои приказы! Вот так!
– Та бери хоть весь магазин! – смущенно махнул рукой Нестор. Он резко повернулся и вышел, за ним хлопцы. С порога прокричал атаманше: – А в штаб до меня заявись! Шоб согласовать совместни действия!..
– Ну и баба! – покрутил головой увальневатый махновец. – Така любого мужика согне, як той силач Поддубный подкову!
– Картина, не баба! – согласился приятель. – Я якось у цырки був, так там выступала баба зо львамы. В клетку до ных без батога заходыла… Слухалысь, як собачкы. А звери сурьезни!
Вернувшись в штаб, Махно отогревал у печки руки.
– Лексей, собери всех командиров. Разбрелись, як стадо без пастуха. – Отойдя от печки, он навис над сидящим у телефона Чубенко. – Не знаю, шо вообще вокруг нас творится! Прошли полгорода, а ничого не уяснили. Где тот Самокиш, шо на Катеринослав идет?
– Батько, – устало произнес Чубенко, – никуда не могу дозвониться. То в баню какуюсь попадаю, то в готель… На всю телефонну станцию одна барышня осталась, и та плаче, боиться…
– А ну попроси дать мне вокзал! Щусь где-то там, и другие хлопцы. И Глыба со своимы большевиками вроде тоже там заседають.
– Барышня! – жалобно попросил «начштаба». – Дорогенька, найди кого-нибудь на вокзале… Сильно надо!
Какое-то время он вслушивался, затем передал трубку Нестору.
– Алло, алло! – закричал Нестор. – Куда вы там, дьяволы, все пропали?.. Алло! Это кто? Мени когось из начальства!
– Комендант!
– Чего комендант? С тобой батько Махно говорит!
– Ну и что, что ты батько Махно? Собирай свою шайку и убирайся из города!
– Ты с кем так?.. Да я…
– Не шуми, Нестор! Це я взяв трубку, Глыба!
– Слухай, Павло, шо там у тебя на телефони за контра? Счас пришлю хлопцев…
– Не горячись, Нестор! То с тобой говорил комендант рабочих дружин. У них тут совещание…
– Пускай совещаются. Меня их разговоры не касаются?
– В том-то и вся суть. Про анархистов йде речь, про тебя. Дело сурьезне, Нестор. По телефону вы ни до чого не договорытесь. Приезжай самолично, потому шо дело повертается не в твою пользу!..
– Шо ты меня стращаешь! – возмутился Нестор, но услышал, что на том конце уже повесили трубку.
Он опустился на стул и какое-то время сидел, задумавшись, нервно барабанил пальцами по столу. Затем резко поднялся, сказал Юрку:
– Поехали, Юрко, в гости до контрреволюции! Спросим, чем мы им так не угодили? – И обернулся к Левадному, который тоже был в штабе: – И ты, Марко, тоже с нами. Возьми сколько есть конных… на всякий случай…
Глава двадцать шестая
Махно с Юрком, в сопровождении полудюжины конных под командой Левадного, подъехали к вокзалу. Спешились. Тут же оказался Кляйн, доложил обстановку:
– Офицерье из города ушло. Австрийцы сидят тихо. Самокиш в двенадцати верстах. У него семь тысяч штыков и сабель. Основная власть сейчас у рабочих дружин, у их коменданта. Хотят порядка. Большевики у них авторитета не имеют.
– Так, – почесал затылок Махно. – От и воюй в городе!
Нестор, Юрко и Кляйн, гремя саблями, поднялись по ступенькам, пошли по длинному коридору с бесконечным количеством дверей. Юрко, вышагивая чуть впереди, открывал двери… одну, другую, третью. Никого.
В конце коридора он услышал за дверью многоголосый гул.
– Вроде тут, – сказал он.
Махно распахнул дверь, вошел. Следом за ним – Юрко и Кляйн. Встали по бокам. В большом зале было многолюдно, накурено.
– Я так понял, тут не все меня знают и потому позволяют себе… в разговоре по телефону… Я – главнокомандующий революционно-повстанческой армией анархистов батько Нестор Махно.
– Ну, знаем! Ну, Махно! – поднялся со стула высокий, со впалой грудью седой рабочий. – А я Калабуха, назначенный рабочими дружинами комендант города.
– Чем заслужил такой тон? – вспыхнул Махно. – Вижу, тут не буржуазия собралась, а такие ж труженики, як и мы, селяне… Так от, я пришел сюда, шоб помогти вам освободить вас од буржуазии и прочих капиталистов…
Сидящие в зале недовольно загудели. Седой рабочий, с которым, видимо, и разговаривал по телефону Махно, поднял руку. Шум стих.
– Ты, дорогой товарищ, нас не агитируй. Потому как мы верим не сладким речам, а добрым делам. А по делам твоим так получается, шо ты не главнокомандующий, а атаман, и не армия у тебя, а шайка…
– Но-но! – Нестор машинально положил руку на рукоять шашки.
– Шайка, – бесстрашно повторил комендант. – Посмотри только, шо вы с городом сотворили. Грабежи, разбои, убийства…
– Я отдал приказ…
– Опять-таки слова. А бесчинства в городе не прекращаются.
– Грабят не мои люди. Грабят уголовники.
– Но твои люди, атаман, с тюрьмы их выпустили. Потому ты за все и несешь ответ. Но дело и не в том… От собрались мы здесь, представители от рабочих дружин, считай, от всего рабочего класса города и просим тебя, атаман, уходи из города и шайку свою уводи. А не то…
– Угрожаете? – сухо спросил Нестор.
– Угрожаем. Не послушаешься, поднимем против тебя всех рабочих. Побьем!
Взгляд у Калабухи был суровый. Знал, что говорил. Давно, очень давно Нестор не слышал таких речей.
– А ты, Глыба? – зло накинулся он на сидящего здесь же и не проронившего ни слова Глыбу. – Это ж ты позвал меня! Золотые горы обещал. От имени своего большевистского подполья! Шо ж молчишь?
– Та шо он тебе скажет! – ответил за Глыбу комендант. – Они тоже на сладкие речи мастера. Не успел ты в город войти, они уже засели власть делить… Словом, не доводи до греха! Забирай свое войско, атаман, и уматывай! Не стравливай рабочих с селянами. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Комендант смолк, ждал ответа. Ждали и другие представители рабочих дружин. Народ серьезный. Оружия у них было не меньше, чем у махновцев.
Нестор молчал. Думал.
– Ну шо ж… Не поняли мы друг дружку. Ладно! Скоро вам петлюровский атаман Самокиш в зад перцу подсыплет, может, тогда шо поймете, – наконец сказал Махно и более спокойным, деловым тоном продолжил: – Там мы кое-шо в вагон погрузили. Оружие, патроны – все для революционной анархической армии. Дозвольте вывезты!
– Ни!
– Не позволим! – зашумели рабочие.
– Мы б и не против, – хитровато посмотрел на Нестора комендант. – Но – нема паровозов.
– Для Петлюры хотите сберечь? Ну-ну!
– Шо такое махновци, мы уже узнали, а Петлюра свой норов ще не показал, – выкрикнул кто-то из рабочих. – Може, получшее будет, хто знае.
– Понятно, – ухмыльнулся Махно.
– Это еще не все, – угрюмо сказал комендант. – Твои хлопцы пограбили банки, кассы. Так от гроши мы вам тоже вывезти не позволим. Потому как рабочим зарплату нечем будет платить, семьи станут голодать.
– Все? – зло спросил Махно.
– Вроде все, – сказал комендант. – Разве что одно пожелание. На дорожку. Вы хорошие слова не только на своих хоругвах пишите, но по возможности и сполняйте. Чтоб, значиться, слово не расходилось с делом. Тогда еще приходьте. Будем рады вас снова встреть.
Нестор ожег взглядом коменданта и торопливо вышел. Громкие шаги заполнили гулкую тишину коридора…
Остановились на ступеньках. Ожидавшие хлопцы вопросительно смотрели на батьку. Но Нестор был мрачен. Молчал.
– В степ надо, батько, – нарушил тишину артиллерист Мыкола.
– Смолкни! – закричал вдруг Нестор во всю мощь своего голоса. Он был в состоянии, близком к истерии или к приступу его нервной болезни.
С каждым часом захваченный – или не захваченный? – им город становился все более непонятным, все более пугающим. С рабочими не повоюешь. Их много. И город они знают не хуже, чем махновцы свое Гуляйполе.
Вернувшись в «штаб», Махно склонился над картой губернии. Размышлял. В сомнении качал головой. На карте Днепр синей широкой излучиной охватывал город, как бы держал его в объятиях. Река – натянутый лук, а длинная линия моста – стрела. И нацелена она на родную сторону, на Новомосковск, Чаплинку, Гуляйполе…
– А шо, хлопцы, лед на Днепре уже добре стал? – спросил в пространство Махно.
– Пока не перейдешь – не скажешь, – отозвался один из махновцев.
– Надо было впереди нас того прокурора через речку пустить… на пробу!
– По льду рискованно… И сверху як на ладони, – вздохнул Чубенко. – Не потонешь, так перебьют, як на стрельбыщи.
– А чого така спешка, батько? – спросил Лепетченко.
– А того, шо хлопцы Каретника коло дворца Потемкина напоролись на петлюровскую разведку. Полковник Самокиш уже на краю города.
– Одибьемся! – отозвался Лепетченко. – Подумаешь, якыйсь полковник Самокиш!
– У Самокиша корпус «сичевых стрельцов». Он Киев брал… У него семь тысяч войска. А у нас тысяча, и та розбрелась по городу, як куры по выгону… И ще и рабочие против нас взбунтовались. Могут на мост не пустить.
Махно отшвырнул карту и выпрямился. В такие решающие минуты он казался даже выше ростом. Все тоже встали.
– Всем – по городу! Гоните хлопцев до моста. Пока его Самокиш не захватил, мы жывы!
– Я ж казав, у степ надо! У степ! – обрадованно сказал Мыкола.
– Умный! – обрезал его Махно. – Будешь командующим!.. Но – не сегодня.
– Нестор, а гроши? – спросил Чубенко. – Тут ще столько грошей! Лашкевич не успел их на вокзал вывезти! Мешков пять! Ще й трошкы золота!
– Не до грошей, Алёша! Лучше с головой остаться… Набивайте карманы, а больше не вынесем!
Стали рассовывать по карманам свиток, за пазухи пачки ассигнаций. Словно семечки, запихивали в карманы штанов золотые червонцы. Монеты, падая, со звоном катились по полу…
– Все! Пошли!
Они покидали город. Кто на конях, кто пешком. С десяток махновцев заполнили извозчичью пролетку, она накренилась от тяжести. Кучер нахлестывал лошадь…
Впереди улицу перегородила небольшая баррикада из выломанных заборов и всякой рухляди, бочек, ящиков, драных кресел, столбов. Из-за баррикады раздались ружейные выстрелы. Пока поверх голов, предупредительно.
Махновцы остановились. Конные спешились…
Над баррикадой поднялся командир в тужурке и кожаной фуражке.
– Повертай назад! – закричал он.
– А вы кто такие? – спросил Нестор, смело выходя вперед.
– Рабоча дружина з «Металлиста»! Тут наши дома!
– Так мы ж браты ваши, махновцы!
– Бес рогатый вам брат!.. Мотайте отсюда!
– Та вы шо, хлопци? – поддержал батьку Лепетченко. – Проты революции?
– Яка революция! Бандитив с тюрем повыпускалы! Сплошна грабиловка!.. Не пропустим! Повертай назад!
Вот-вот, и вспыхнул бы бой. Махновцы уже защелкали затворами. Прибыла подмога: несколько подвод, на них человек тридцать во главе с Фомой Кожиным.
– Доставай пулемет, Фома!
– Нема пулемета. Отобрали!.. Окружилы яки-то… человек сто. Спасибо, хоть не перестреляли.
– Во дела! – почесал затылок Лепетченко.
– Ладно! Пошли назад! – скомандовал Махно. – На вокзал!
На вокзале они застали кутерьму. На путях стоял состав: десяток товарных вагонов и один пассажирский. Но паровоза нигде не было видно.
Нестора встретили Бойко, Щусь, Лашкевич и еще с полсотни махновцев.
– Шо тут у вас, Федос? – спросил Махно.
– Та шо? В те вагоны оружие погрузили, патроны… А он в тот буржуйский вагон – гроши, и в мешках, и в ящиках…
Где-то недалеко послышалась стрельба. Потом ухнули пушки. Высоко в небе вспухли белые округлые дымки, и шрапнель звучно ударила по крышам зданий.
– Пристрелка! – сказал кто-то. Махно узнал бывшего артиллерийского сотника Павла Тимошенко. – Пока нас не видят… А увидят – будет каша!
– Слушай, артиллерист! – обрадовался Махно. – Задержи мне того Самокиша на часок-другой. Еще не все хлопцы собрались…
– Чем? Саблей?.. Передки с лошадьми у меня увели.
– Кто?
– А бес его знае… Наганом перед носом помахалы!
– Щусь! Давай до состава паровоз!
– А где его взять, батько? В депо ни одного паровоза! Кудась отогнали, заразы! Чи где-то в депо спрятали.
Еще одна шрапнель разорвалась… и еще одна, поближе. И осколочная граната лопнула где-то за домами…
К перрону со скрипом, под уханье тяжело работающих людей, подкатила ручная дрезина-качалка. На ней приехали Глыба и несколько вооруженных рабочих.
– Глыба! Черт большевицкий! – прокричал Нестор. – Это ж ты меня уговаривал: Катеринослав, Катеринослав…
– Сам же видишь, Нестор, яка тут, прости, анархия! – ответил Глыба.
– Анархию не трожь, Глыба. Это больше похоже на пожар в бардаке… Ну и шо? Пехом прикажешь бежать через мост? – спросил совета Махно.
– Не перебежишь. Там железнодорожники паровоз поставили, на тендере два пулемета… Не хотять никого пропускать! – сказал Глыба.
– На лед пошли, батько! – предложил кто-то из черногвардейцев.
– На лед – то смерть! – отозвался Глыба.
– Значить, с боем будем из этой западни вырываться! – решил Нестор.
– Не пори горячку! – остановил его Глыба. – Погоди малость, попробую с дружиной потолковать. Там есть и наши хлопцы…
Дрезина укатила. А толпа махновцев на вокзале все росла. Нестор увидел своих братьев Григория и Савву, Каретникова, Калашника, Лепетченка. Кто-то конный, кто-то пеший. Подъехали повозки, где лежали один на другом раненые.
Махно хотел было спросить у Калашника про тюрьму, но только махнул рукой. Обернулся к стоящим за спиной командирам:
– Сколько ж нас тут?
– Та десь за триста, – ответил Лашкевич.
– А было больше тысячи…
– Те, шо присталы до нас, шоб чем-то поживыться, не придуть, – заявил Григорий. – У них клунки, бояться, шо отберешь… Мабуть, по льоду пидуть.
– Дурни пустоголовые! – нахмурился Махно, нервно поглядел на часы. Затем решительно обратился к Щусю: – Строй народ!
Тот сорвался, побежал вдоль перрона, разгоряченный, в тельняшке под распахнутой «венгеркой». На наплечном ремне он придерживал связку гранат.
– По шестеро в шеренгу… И поскорее!.. Конные – вперед, будете атаковать!
– Сдурел, Федос? – вскочив на коня, спросил Каретников. – Ты ж чув, там паровоз з пулеметами? Шо я, конями на тендер заскочу?
– Это война, Семен! – на ходу ответил Щусь. – Жить захочешь, заскочишь!
Разорвалась еще одна шрапнель. И еще. Совсем близко. Кто-то из бойцов упал с коня.
Наконец вернулась дрезина с Глыбой.
– Договорывся! – крикнул Глыба. – Дуйте по мосту!
Все увидели, как на дальнем конце моста возникло облачко пара, раздался сиплый, словно отсыревший свисток, и паровоз укатил.
– Пошли! – приказал Махно.
Перрон опустел. Махновцы бежали через мост. Пешие держались за стремена конных. Тронулись телеги с ранеными.
Снаряд разорвался на откосе, совсем неподалеку от путей. Осколки ударили в фермы моста…
– Ты с нами, артиллерист? – спросил Махно у бегущего рядом Тимошенко.
– А куда мне теперь? – тяжело дыша, ответил сотник. – Только какой я артиллерист? Без пушек!
– Будут пушки!.. – оскалил зубы Нестор то ли в улыбке, то ли в приступе ярости. – Были б кости… мясо нарастет…
Они бежали уже по настилу моста. Внизу был виден вздыбленный после недавнего ледостава Днепр. Синеватое, припорошенное легким снежком пространство. Снежная крупка секла лица…
Тяжело топотали по доскам сапоги. Стучали копыта. Скрипели колеса телег.
Бегство…
Наконец Екатеринослав остался где-то за Днепром. Они остановились, едва он скрылся за пригорком. Развели костры. Кто-то из махновцев, не дожидаясь, когда разгорится костер, стал подвязывать бечевкой прохудившийся сапог.
– О! С добром возвертаюсь! – показал махновец подлеченный с помощью веревки сапог.
– Скажи спасибо, шо живой, – ответил ему приятель.
– Спалыть бы той город! – раздувая еле тлеющий огонек, сердито буркнул Микола-артиллерист. – Степ – це наше!
Со стороны оставленного города слышалась стрельба. Раздавались короткие, экономные очереди станкачей, сухо трещали винтовочные выстрелы.
Нестор сел на коня, за ним поскакал и Юрко. Они исчезли в белой пелене…
Передовые части «сичевых стрельцов», иначе «синежупанников», вышли на крутой берег Екатеринослава, откуда был хорошо виден Днепр до дальнего берега. Это были лучшие, самые дисциплинированные и обученные части в разномастном, наспех собранном стотысячном войске Петлюры. С ножа кормленные, обутые-одетые, с германским вооружением или же с лучшим российским, «одолженным» на старых румынских складах. В синих жупанах (кожушках) или в синих свитках, в синих шароварах с фатоватым напуском на сапоги, в белых папахах с синими же шлыками, на их концах вместо кокетливых кисточек – желто-синие эмблемы Украинской Народной Республики.
Лучшие стрелки, лучшие пулеметчики вышли на днепровский откос, расставили пулеметы, винтовки…
Полковник Самокиш встал на коне на откосе, как памятник самому себе. И руку с висящей на ней нагайкой протянул, указывая на Днепр. Повинуясь жесту полковника, стрельцы уставились на лед.
А там, внизу, сползали с берега на лед и пробирались по нему сотни людей. Они осторожно прощупывали непрочный еще ледок, обходили вздыбленные торосы, оставшиеся от ледостава. У каждого была нелегкая ноша: мешки, торбы, ящики, чемоданы…
Рядом, друг подле друга, ползли гуляйпольские хлопцы— Василь и Петро. У обоих – по два увесистых клунка.
– У тебе шо? – спросил Василь.
– Матери на кофту, братам на штаны. Ложкы, вылкы, таке-сяке… Но чижоле!
– Своя ноша не тяне. Я самовар надыбав, такый, як у нашого пана. Блыщить, як дзеркало, – похвастался Петро.
Затрещал под Петром лед. Он откатился в сторону. И снова, толкая перед собой клунки, стал продвигаться вперед. Они отползли уже далеко от берега…
На льду виднелось много черненьких фигурок. Это были махновцы. У каждого либо на спине, либо перед собой был чемодан или мешок, а то и два, набитые ценными екатеринославскими «гостинцами»… Домой! В село! То-то порадуются родичи обновкам из губернского города!
…Самокиш презрительно усмехнулся. Сам он был из запорожских казаков, хорошего атаманского рода. И по льду тоже ползли потомки тех же сичевиков. Но – война! За Украину!
– А ну, хлопцы! – крикнул полковник во всю мощь хорошо промытой глотки. – Покажить грабижныкам, шо таке сичови стрильци! И шоб ни одна пуля мимо!..
А черных фигурок на льду было все больше и больше. И по взмаху полковничьей плети берег открыл огонь. То одна, то другая фигурка замирала. Некоторые бросали клунки и начинали заячий бег к спасительному, очень еще далекому берегу. Под иными лед проламывался, и они почти без крика уходили под воду.
Под Петром лед вновь затрещал. Он попытался повторить свой маневр: откатиться. Но льдины неожиданно раздвинулись, и он оказался в полынье. Схватился за край льдины.
– Васыль, – позвал он. – Выручай!
– Як?
– Протяны шо-небудь!
Но куски тонкого еще льда под руками Петра обламывались. И он, невольно расширяя полынью, продвигался к Василю.
Василь понял, что еще несколько мгновений, и он окажется рядом с Петром, в той же полынье. И он вскочил, побежал от него…
Петро провожал его недоуменным и испуганным взглядом. Поняв, что надеяться больше не на кого и не на что, он отнял руки от льдины и тихо ушел под воду. Льдины тут же сомкнулись над его головой…
…А Махно стоял на противоположном от города берегу и смотрел, как расстреливают его армию. Сотни черных фигурок лежали на льду и уже не шевелились.
Внимание Нестора привлекла одна фигурка. Махновец с двумя увесистыми мешками в руках бежал по льду, делая какие-то заячьи зигзаги, останавливался, отпрыгивал назад и снова устремлялся вперед, к спасительному берегу.
Это был Василь. Он бежал и в голос плакал. Но не отпускал свои клунки.
Нестор видел, что бойцу осталось уже совсем недалеко до берега. И тут он внезапно остановился, словно налетел на невидимое препятствие. Тихо опустился на колени. Упал…
– О! Попав! – обрадовался сичевик. – Не втик, зараза!
Смолкала стрельба. Весь лед был усеян черными фигурками.
Махно снял шапку, повернулся, понуро пошел по берегу. Юрко шел следом, ведя под уздцы своего и батькового коней.
Глава двадцать седьмая
В Гуляйполе их встречали толпы, в основном старики и бабы.
Махно ехал на коне, низко опустив голову. Рядом с ним бежали матери Василя и Петра.
– Батько, де мий Васыль?
– Куды див Петра, Нестор Иванович?
Из толпы выкрикивали и другие имена. По мрачному виду махновцев они догадывались, что хлопцы уже никогда не вернутся.
– Нестор, зараза! Куды див мого сына? – не отставала, цеплялась за стремя мать Василя. – Тилькы шеснадцать год йому! Нестор! Погубытель!
Уже не батько он для них. Просто Нестор. Каторжник. Палач…
Махно неожиданно огрызнулся:
– А ты его шо, воевать посылала? Ты за добром его посылала! Грабить! Я помню… Кто не грабил, тот живой!
И в самом деле, кого-то обнимали, целовали. Возгласы. Плач, слезы, смех…
Махно проехал через Гуляйполе, не остановился ни возле своей хаты, ни возле управы. Скорее вон! За ним тянулось его поредевшее войско. Самые стойкие, самые надежные хлопцы…
Дальше, за окраинными хатами – степь, покрытая белым пухом. Воздух, воля!
Остановились на окраине села в полуразрушенной усадьбе пана Данилевского. Здесь еще жил кое-кто из челяди и из бывших коммунаров. Многие окна были забиты досками. Из труб во флигелях тянулись дымки.
Лошадей завели в конюшни, они хрумкали сеном.
А в полуобгоревшем зале Нестор собрал людей. Черногвардейцы и более молодые, те, кто был предан Махно, смалили цыгарки, люльки. Ждали, что скажет батько. Здесь же сидели бывший петлюровский пушкарь Павло Тимошенко и два его унтера.
Батько молча глядел в стол. Было о чем поразмыслить. Наконец он встал, и все стихли. Даже погасили цыгарки о подошвы сапог.
– Вот шо, хлопцы! – сказал Нестор. – Вывел я вас в Катеринослав за оружием и революционной славой. Оружия не добыли, а славу в Днепре утопили… Пушки, пулеметы – то все наживное. Людей потеряли несчетно – от беда! И все это – моя вина. Моя! – Он обвел всех взглядом обреченного, затравленного зверя. – И поэтому… ухожу я од вас в отставку. Снимаю с себя высоке звание батька. И прошу прощения, шо оказался негодным вам командиром… И все. И нечего мне вам больше сказать…
Он сел. Наступила тишина. Затем все взорвались шумом, криками.
– Батько, ты шо? Як мы без тебе?
– Бувае! Шо зробыш!
– Не вини себя! Ты нам батько, мы твои дети!
– Нельзя так, батько! Бувае мороз, а бувае й жарко…
Махно, не обращая внимания на крики, снял с себя «венгерку», с треском сорвал рубаху…
А шум продолжался. Многие навзрыд плакали.
Хоть и двадцатый век на дворе – а козаки. Потомки запорожцев. Большие дети! Убить, жизнь отдать, украсть, подарить, поцеловать, ударить – все эти понятия для них как снег в одном накатанном коме. Едины.
– Пиду спать! – Нестор забрал под мышку свою одежду, шапку, пошел к выходу из зала. У двери остановился, повернулся: – Решение не поменяю. Так шо вы, хлопцы, думайте, кого поставить. Я – всього-навсього только Махно. Песчинка в море. А революция и анархия – это самое главное!
Он лежал под кожушком в «своей» комнатке с огромным зеркалом, что так нравилось Насте. Было о чем подумать и что вспомнить. Правда, зеркало треснуло. И было холодно.
Изредка его рука тянулась к штофу. Булькала жидкость…
В комнату осторожно заглянул Юрко:
– Може, чого треба, батько? Закусыть? Огирка, може, соленого?
– Я сплю, Юрко!
Но он не спал. Смотрел в потолок. Там он увидел крюк, к которому когда-то была привязана колыбелька Вадима.
В комнату просунул голову Лепетченко:
– Батько, ну шо ты удумав? Куды ты пидешь?
– До брата твого… Ивана… – пьяным голосом ответил ему Махно.
– Так вин в монастыри.
– От… В монастырь и подамся.
А в коридоре, в зале – всюду сидели хлопцы. Ждали. Невесть чего ждали.
Юрко тихонько вышел из комнаты.
– Ну шо там? Як? – полюбопытствовали хлопцы.
– Спыть… Третий день спыть…
– Хай… Може, трохи заспокоиться душа…
У кровати возле Нестора валялись три пустых штофа, опрокинутая чарка. Там же, на полу, стояли тарелки с огурцами, хлебом и с салом. А он то ли спал, то ли лежал с закрытыми глазами.
В зале тем временем тихо размышлял приблудный артиллерист Павло Тимошенко:
– Ну шо такого случилось? Ну, надавали по шиям. Так станем умнишыми! А шо, козаков не били? Ще й як! У Берестечка сколько козаков полягло. Тысячи! И кого роздолбали? Самого Богдана Хмельницького! И шо? Смахнул с себя Богдан стыдобищу, як собака воду, – и через год наголову розгромыв ляхов под Батогом… И Нестор Ивановыч отоспиться… одумаеться…
– Якый ты умный, – сказал Лепетченко. – Ты батьку це росскажи!
– Ага! Зайди до нього! – отозвался и Щусь. – Задом наперед выйдешь… Слухай, Павло, ты ж офицер, хоч и поганенький, петлюровский. Може, пойдешь до нас начальником штаба? Чубенко, я вижу, не тянет. А без штаба, сам знаешь, нема армии.
– А командовать хто будет?
– Найдуться люди, – уклончиво ответил Федос. – А хоть бы и я! Если, конечно, Нестор откажется. Пивгода в плавнях с хлопцами просидел. Не пропали. Так шо опыт имееться.
– Не, Федос, в твою армию я не запишусь, ты извини. У тебя голова со сбитым прицелом. Рвешься командувать, а того не понимаешь, шо тебе этого не дано. Какой из тебя гальванометрист – не знаю, а командир с тебя негодящий. Суеты много, а толку чуть.
– Но-но, полегше на поворотах! – обиделся Щусь. – Полный назад, потому шо…
– Да ты не серчай на меня, Федос. Я ж для твоей пользы. Командиром может быть человек образованный и с особым, командирским, талантом. Также и начальником штаба. А я сам из фейерверкеров. Война научила целить и все такое… а штаб – наука умственна, это мозг армии. А у меня шо? – Он постучал себя по коротко стриженной голове. – «Трубка, целик, ориентир…» И все!
Галдели хлопцы, беседовали. Сочувственно встречали Юрка, который время от времени отлучался, чтоб заглянуть к батьке.
– Ну як там, Юрко?
Он только отрицательно качал головой.
В сопровождении двух «оруженосцев» в зале усадьбы появилась Маруся Никифорова.
– Ну шо, мужики, сидите, як общипанные гуси? Голгочете?
– Маруська! Живая! – удивился Лепетченко. – А мы думали, ты уже в Днепре!
– Выскочила!..
– От вона! – указал пальцем на Марусю Лашкевич, как будто узрел в анархистке облик Жанны д’Арк. – От хто пиде до батька. Вси бояться, а вона сможе!
– Известно, де мужик силой, там баба хитростью! – оскалил зубы Щусь.
– Выручай, Маруся!
Она тяжело, по-мужски, уселась в кресло, которое любезно освободил для нее Лашкевич. Поправила сползшие на живот револьвер и гранаты:
– Ну шо там з батьком? Рассказуйте!
Вечером в дверь комнаты Нестора кто-то негромко постучал. Нестор глядел в потолок, на стук не отозвался.
Дверь открылась, и в комнату решительно вошла Маруся, неся перед собой сковороду с дымящейся жареной картошкой. Юрко, шмыгнув следом, поставил на стол жбан с рассолом, торопливо подобрал тарелки с закуской, ногой затолкал под кровать опорожненные штофы. Маруся ударом сильной руки распахнула окно. Махно спокойно следил за ней, ничему не удивляясь.
Анархистка, страх и гордость Новороссии, налила рассол в глиняную чашку.
– Выпей, батько, рассолу. И ешь! Пока картопля горяча! На сале, с цыбулькою!
– Все-таки утекла од Самокиша? – приподнялся на локте Нестор.
– А ты шо, поминки по мне справляешь? Не выходишь до людей… Шо у тебя за печаль?
Нестор не обращал внимания на ее слова:
– Ну, а як же дамске белье? Бросила добро?
– Еще чего! Вот!..
Она приподняла край длинной балахонистой юбки, и у самых голенищ выглянуло кружево длинных дамских панталон а-ля мадам де Рекамье.
– Все на мне. Четыре пары. Больше не натянула…
Махно не выдержал, тихо засмеялся.
– Слухай, батько! – Она подсела к Нестору на край кровати. – Плохо дело. С Ростова офицерье и казаки сюда идут, в Мелитополи колонисты кучкуются, а с Харькова большевики выступили, Красна армия. А шо оны с собой несуть, сам черт не пойме. Одно известно, анархистов нихто из них не любит… Батько, ешь картошку и пиднимайся! Не отдавай Гуляйпольщину на растерзание!.. Отдохнул – и все! И хватит!
Нестор, склонившись над сковородой, взял в руки деревянную ложку, стал есть. Запивал рассолом. Вытирал рукой капли жира с заросшего щетиной подбородка.
Маруся жалостливо смотрела на него. Ждала.
– Народу прийшло до тебя – тьма. А ты… Ну, дали трохи по морде. Так шо? Батько детей не бросает, Нестор! Люди на тебе надеются.
Нестор молча ел. И лишь когда подчистил сковороду, поднял глаза на Марусю.
– Добре, – сказал он со вздохом. – Скажи Юрку, пусть принесет горячей воды. И бритву…
Часть третья
Глава двадцать восьмая
Не только Нестору Махно трудно было разобраться в клубке политических противоречий и хитросплетений, которые представляла собой Украина. Революции подготавливают умы, а далее властвуют страсти. Тут любой человек запутается. Дирижеров зачастую хватает только на прелюдию, а далее «играют все!».
В собственно России было проще. Большевики отгородились от грозных немцев Брестской капитуляцией: а как еще назвать этот «мир», за который пришлось отдать сотни пудов золота и огромные земли, в том числе нефтеносный Каспий? Кремль принялся укреплять свою власть жесточайшими мерами. Никто не мог помешать. Бывшие союзники вели тяжелейшие бои с получившей подпитку Германией. В свое время Антанта сделала многое, чтобы втянуть неподготовленную Россию в войну, и теперь платила по счетам.
В России все определял «гений и злодей» в одном лице: Ленин. «Всех задавиша…»
На Украине такого вождя не было. Перед потрясенными жителями Малороссии и Новороссии мелькал красочный и пугающий калейдоскоп лиц, правительств, партий, течений. Украина вступила на путь Польши, которая, некогда сильнейшее государство, стала жертвой шляхетской демократии, борьбы всех со всеми, и потеряла независимость.
Центральная рада, которая возникла сразу после Февральской революции семнадцатого года, состояла в основном из социал-демократов и социал-революционеров (эсеров) и насчитывала аж… 815 человек! Огромный террариум несогласных друг с другом политических деятелей с большими амбициями.
Естественно, из этой большой, недееспособной выделилась Малая рада. Обе Рады возглавил профессор, доктор наук, историк Михаил Грушевский, который был вынужден совершить неожиданный политический кульбит, перепрыгнув с позиции конституционного демократа на площадку социалистов-революционеров. При Радах существовал Генеральный секретариат, исполнительный орган, что-то вроде правительства, которым ведал писатель и социал-демократ Владимир Винниченко. Первый генсек на российском пространстве…
Военными делами занимался деятельный, но малоизвестный человек, учившийся в духовной семинарии, но не окончивший ее. Сплошные ассоциации… Звали человека Симон Петлюра.
Поначалу, несмотря на бесконечные распри, Малая рада склонялась к союзу с Россией Керенского на условиях федерации. По мере того как «петроградский юрист» доказывал – и доказал! – свою беспомощность, усиливалась идея самостоятельности Украины. Приход к власти большевиков с их целями и методами заставил большинство членов Рады перейти к мысли о независимости. Правда, споры внутри Рады продолжались. Винниченко считали пробольшевистским, а Грушевского проавстрийским. Видимо, каждый из киевских авторитетов, как и триста лет назад гетман Хмельницкий, искал, к кому же все-таки прислониться. Оказаться вдруг одному – тяжелая доля.
На Украине все же был хозяин – кровавый хаос. Эсеры пообещали помещичьи и кулаческие земли крестьянам, заводы – рабочим, но механизма для такого передела собственности не создали. Местные батьки, атаманы, анархисты, эсеры, большевики и просто различные авантюристы создавали свои маленькие республики, и всяк на свой лад решал эти проблемы. Никто при этом не мог или не хотел справиться с бандитизмом и грабежами. На Черноморском побережье всем распоряжались матросы, склонные к анархизму.
Однако Петлюра, в отличие от ученых-теоретиков, профессоров и писателей, действовал активно и провозгласил процесс «украинизации» армии, то есть тех частей русской армии, которые оказались на Украине. А их было немало. Им необходимо было только переприсягнуть, выучить азы украинского языка – и карьера была обеспечена. Многие пошли на это, что давало не только достаток, но и спасало от самосуда толпы.
Эти действия Петлюры не могли не оказать влияние на общую политическую обстановку. В ноябре семнадцатого Рада в своем третьем универсале (манифесте) объявила о создании Украинской народной республики (УНР) в составе России, но уже через два месяца в четвертом универсале провозгласила УНР независимой державой. А чего же было ожидать, если чуть ранее написанный Лениным ультиматум от имени правительства РСФСР разоблачал Раду как оплот буржуазии и контрреволюции. Так называемый Первый Всеукраинский съезд Советов, состоявшийся перед новым, 1918-м годом в Харькове, ставшем «красной столицей» Украины, объявил Раду вне закона. Таким образом, Раду просто вытолкали из Советской России.
Чехарда! Было от чего закружиться голове человека, проживавшего на Украине. Методы большевиков были топорными. Но топор – вещь убедительная, особенно в сочетании с плахой. 24 января Рада провозгласила независимость, а 26-го Киев уже был занят войсками так называемого Южного (красного) фронта, наступавшего от Одессы. Эсеровская Рада успела удрать в Житомир, а потом, от греха подальше, в затерявшееся в лесах местечко Сарны.
Главнокомандующим Южным фронтом (по крайней мере, он сам так себя называл) был… эсер, некто Михайло Муравьев, бывший подполковник, который всячески подчеркивал, что происходит из простых нижегородских крестьян. Двадцать лет назад он «с успехами» закончил юнкерское училище, неплохо воевал на Русско-японской и на Великой войне, был отмечен наградами. В октябре семнадцатого он предложил свои услуги большевикам, был назначен начальником обороны Петрограда и командовал войсками, подавившими жалкий «мятеж» Керенского и Краснова, скорее пропагандистское изобретение, чем реальное военное выступление.
Услуги и «военный талант» Муравьева большевики оценили высоко. Через два месяца бывший подполковник уже командовал фронтом: правда, на бумаге этого фронта еще не существовало. Загадка: фронт де-факто, не де-юре.
Трудно сказать, каковы были подлинные военные способности главкома, но несомненно, что он являл собой великолепный материал для науки психопатологии. Незадолго до занятия Киева Муравьев руководил массовым истреблением офицеров в Одессе. Надо сказать, украинские города на Правобережье были заполнены офицерами бывшего Юго-Западного (Брусиловского) фронта русской армии, достаточно успешно действовавшего во время Великой войны. В Москве считали, что такое количество офицеров таит опасность для советской власти. В Одессе Муравьев проявил небывалую изобретательность в способах мучений и казней. Главком не просто уничтожал «военную косточку», он наслаждался процессом. Классовая вражда тут была ни при чем, тем более что большинство «царских командиров» получило свои звездочки на погоны во время Великой войны и к дворянству не принадлежало.
Не будем описывать, как убивали людей, оставим это для учебника психиатрии. Благодатное времечко для садистов! Все можно было списать на «классовую ненависть».
В Киеве Муравьев дал Петлюре наглядный урок, как надо поступать с теми, кто может представлять (а может и не представлять) угрозу для режима. Еще в первые месяцы «незалежности» Симон Васильевич выделил офицеров, не пожелавших переприсягать и украинизироваться: при регистрации он выдал им так называемые красные билеты, в сущности карточки неблагонадежности, ограничивавшие их обладателей в правах.
Муравьев, захватив при бегстве Петлюры из Киева эти списки и адреса краснобилетчиков, взялся за аресты и казни. Лобное место он не изобретал. Удаленный Бабий Яр ему был не нужен. Перед красивейшим зданием Киева, дворцом императрицы Марии Федоровны, вдовы Александра Третьего, где, естественно, главком расположил свой штаб и личные апартаменты, находилась большая площадка с запущенным уже розарием. Там и казнили. Рубили изобретательно и вычурно. В войсках Муравьева нашлось немало уголовников, садистов, психопатов. Отличились и матросики-анархисты. Из окон своей спальни или из кабинета красный властитель Киева мог наблюдать все действо.
…Сейчас во дворце заседает нынешняя украинская Рада. Здание отреставрировано. На площадке – клумбы с цветами. Пышно цветут розы. Земля, видно, хорошо удобрена. К сожалению, нет здесь и подобия памятника невинно замученным. «Кровь текла по площадке, как во время дождя», – вспоминали невольные свидетели. Булгаков, хорошо знавший Киев тех лет, писал: «…Выйдут пышные всходы… и от крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет… Никто».
По сведениям украинского Красного Креста, на площадке было зверски убито от трех до шести тысяч русских офицеров. Точнее подсчитать было невозможно. Если с чисто военной точки зрения, это командный состав не менее десяти дивизий. А с человеческой – это горе тысяч и тысяч семей.
Муравьев не щадил даже военных врачей. Заодно перебил энное число «буржуев» и студентов призывного возраста – потенциальных офицеров. И собратьев-эсеров не щадил.
По всей Украине под разными знаменами, с чуть меньшим размахом, действовали десятки и сотни таких Муравьевых. Так что жестокость Нестора Махно – это едва ли не «детские шалости». Воспринимать гуляйпольского анархиста как изверга можно лишь в том случае, если заретушировать на моментальном снимке Истории обступающие его другие, куда более зловещие фигуры.
В апреле восемнадцатого в Москве Михаил Муравьев был арестован за ряд злоупотреблений, в том числе за излишнюю жестокость и повышенный интерес к красивым дворяночкам, которые отбирались для развлечения штаба.
Ленин и Троцкий освободили Муравьева как нужного для революции человека и назначили его… командующим важнейшим в то время Восточным фронтом. Но Муравьев, переоценив себя как нового Бонапарта, поднял мятеж против своих покровителей и был убит якобы при вооруженном сопротивлении во время ареста. По некоторым сведениям, застрелил Муравьева лично командарм Михаил Тухачевский, тоже безусловно авантюрист не без садистских наклонностей, но более умный и осторожный, циник.
В общем, истории Украины и России переплетались, ни за что не желая разъединяться, а потоки крови только скрепляли этот союз. Центральная рада, не в силах справиться с большевизмом и анархизмом, позвала на помощь войска Германии и Австро-Венгрии. Одновременно московское правительство подписало Брестский мир и тем самым тоже как бы пригласило вчерашних врагов прийти на Украину. Одни хотели защитить свой режим, другие – свой. Но итог был один. До сих пор спорят, кто же первый позвал кошку понянчить мышонка…
Утвердившись в городах, оккупанты стали грабить села. Для того и пришли. Это вызвало общую ненависть, прежде всего крестьян. При этом помещики, землевладельцы и офицеры, получившие от кайзера и гетмана, как бы сказали сейчас, крышу, и без того не навидимые «простыми людьми», теперь, в случае перемен, могли стать жертвами самого страшного «народного террора» как союзники оккупантов и защитники «панства». Что вскоре и произошло.
Вернувшись в Киев вместе с немцами, Рада радовалась недолго. Оккупантам не нужно было беспомощное правительство, избравшее своим лозунгом «либерализацию и демократизацию». Тем более что во главе Генсекретариата, преобразованного в Совмин, вместо обвиненного в большевизме Винниченко стал… студент третьего курса Василь Голубович, социалист-революционер с весьма радикальными взглядами и неуравновешенным характером.
Самым заметным поступком нового председателя правительства стало то, что он при помощи министра внутренних дел (!) в ковбойском духе похитил миллионера и банкира по фамилии Добрый. Тем самым он якобы протестовал, во-первых, против возвращения крупной буржуазии, а во-вторых, желая досадить оккупантам за то, что они отменили его эсеровский Универсал о социализации земли, то есть о переходе земли из частной собственности в общенародное достояние.
Преступление раскрыли. Немцы, воспитанные на логике Канта и Гегеля, не могли понять, в чем связь между таинственным похищением банкира и требованием социализации земли. Они не знали украинской поговорки: «В огороде бузина, а в Киеве…»
Голубовича, хоть и был он премьером и руководителем якобы независимой Украины, все же судили. Правда, после того как «на съезде хлеборобов» гетманом Украины был избран Павло Скоропадский, генерал-лейтенант, праправнук гетмана Ивана Скоропадского, сподвижника Петра Первого. Павло хоть и был объявлен оппозицией ставленником немцев, все же совсем недавно воевал с ними, причем храбро, и даже заслужил Георгиевский крест. При Раде он «украинизировался», но, став гетманом, провозгласил федерацию Украины с Россией – только не большевистской.
Бывший глава бывшей республики студент Голубович на суде закатил истерику, разрыдался и заявил, что «больше не будет». Его отпустили с миром.
А хлеборобы, настоящие, от сохи, гетмана не признали. Видно, не тех хлеборобов пригласили на выборы. Причина в том, что Скоропадский обязал селян вернуть латифундистам и кулакам землю, скот, инвентарь, рассчитаться за причиненный ущерб и, кроме того, выплачивать оккупантам репарации и поставлять на нужды Германии мясо, молоко, хлеб…
Селяне, уже узнавшие вкус земли и запах горящих усадеб, стали резать гетманскую варту, помещиков и офицеров, кому бы последние ни служили. Махно поначалу был лишь одним из многих…
Полная потеря гетманской власти на селе и поражение Австро-Венгрии и Германии привели к тому, что Петлюра, верховный атаман многочисленных кошей, куреней и дивизий, тоже пошел на Киев. В декабре восемнадцатого он окружил и взял брошенный немцами Киев. Сопротивлялись лишь разрозненные офицерские и юнкерские отряды. Ясновельможный гетман Скоропадский не успел организовать армию защитников. Киевская варфоломеевская эпопея, начатая еще недоброй памяти «большевиком» Муравьевым, продолжилась с невиданным размахом и жестокостью. Гайдамацко-казацкие настроения петлюровской армии помножились на крестьянское стремление люто расправиться с теми, кто, по их мнению, поддержал «панов».
Эпопея невиданных казней в Киеве не знает себе равных в истории. Об этом оставлены сотни свидетельств очевидцев. Мария Нестерович вспоминает: «Всю ночь возили эти трупы. Такого ужаса я не видела даже у большевиков. Видела больше, много трупов, но таких умученных не было».
Подобное происходило во многих городах и местечках Украины, но, пожалуй, с меньшим ожесточением. Здесь костер офицерского холокоста пылал не столь ярко. Находились петлюровские командиры, которые сдерживали подчиненных. Знаменитый полковник Болбочан, герой петлюровщины, отпускал офицеров, позволял им уйти на Дон. За что, впрочем, позднее был расстрелян.
На селе Петлюра тоже не вызывал особого доверия. Его политика классового мира и всеукраинского братства не вдохновляла вкусивших полной свободы и собственной власти крестьян. Прибывшему с фронта солдату невозможно было представить себе братство и равенство с офицером, малоземельщику-крестьянину – с кулаком. Эти люди знали жизнь и ее законы. Равноправие достигалось лишь в бандах, как правило, анархических. Недаром о Махно говорили: «Батько с нами и чарку выпьет, и в бой пойдет, и песню заспивает, и добром поделится…»
Новым органом власти в УНР – Директорией – руководил вначале все тот же Винниченко, а затем Петлюра. Но Симон Васильевич не поладил с писателем и скинул его. Пытался всякими мерами восстановить порядок в Киеве до провинции у Петлюры руки все не доходили. Да и в столице ничего не получалось. Как вспоминают представители Красного Креста, казни продолжались украдкой, ночью, исподтишка. «Встретят на улице человека… похожего на офицера… выведут на свалку, пристрелят и тут же бросят… Или шомполами запорют насмерть, иногда на полусмерть».
Кроме антиофицерских настроений, войска Петлюры были заражены антисемитизмом, непременной болезнью всех крестьянских восстаний на Украине. Карали по тому же принципу «похожести».
…При всем блеске и полновесности армия Петлюры, хорошо снабженная стараниями многих европейских благодетелей, не отличалась ни дисциплиной, ни боевой храбростью, ни ратным умением. Многочисленные экзотические коши и курени, одетые в разные цвета, плохо справлялись даже с отрядами отстаивающих свои «суверенные права» крестьян. От Красной армии, постепенно приобретающей черты профессиональной, как правило, просто бежали. Так, они оставили Киев, не похозяйничав там и месяца. Вскоре от Директории откололась УГА – довольно многочисленная армия Украинской Галицийской республики, которая, волею большинства, переходила то к одной, то к другой стороне.
На востоке уже начали наступление части возрождающейся русской армии, для которой отнюдь не петлюровцы были опасным врагом. Такие районы, как махновская Гуляйпольщина, вообще оставались недоступными для Директории. От Петлюры откололся и создал собственную армию еще один авантюрист (сколько их в России родилось, столь склонных к самозванству!) – атаман Григорьев.
Словом, на Украине творилось черт знает что! Наступило прекрасное время для батек, вождей и атаманов. Богатый край стал лоскутным одеялом, сшитым из разнородных амбиций. Ухватив каким-то образом кусочек власти, люди занимались лишь одним – разрушением. В этой обстановке человек созидания был просто неуместен. Как белая ворона в черной стае.
Бурлила, бурлила Украина, став ареной невиданных противоборств. И всюду, и все – «не на жизнь, а на смерть». Никаких снисхождений. Русское славянство отринуло христианскую мораль и окунулось в языческие времена. Крест в руке святого Владимира, сверкавший над Днепром, померк.
Тьма и кровь!
Украина полыхала. Всюду. Пожарные знают, что существует такой огонь, с которым невозможно справиться, пока не сгорит все, чем питается пламя.
Глава двадцать девятая
Все Гуляйполе было заставлено возами, ручными таратайками, фурами, а то и просто палатками из дырявой парусины, сквозь которую пробивались дымы костров. Орали дети, лаяли привезенные беженцами собаки, трещали выламываемые на дрова заборы и плетни.
Сплошной табор, а не столица анархической республики.
И в бывшей управе, где заседал Военно-революционный совет анархистов, – всюду обживались люди. Даже в коридорах и каких-то темных закутках. Лишь две комнаты были свободны – служебная, для заседаний, и временно личная Несторова, в которую он перебрался не так давно, после того как от него сбежала симпатичная молодичка Тина.
Из черной гвардии на заседание пришли Лашкевич, Калашник, Щусь, Лепетченко, Левадный, Кляйн, Чубенко. Было и несколько новых командиров: артиллерист Павло Тимошенко, Маруся Никифорова и пошедший на повышение Трохим Бойко. Как водится, было накурено. Жаждущие хлопцы то и дело тянулись к графину с водой. Видать, во время «безвластия» они тоже завивали горе веревочкой.
Над Гуляйпольщиной еще висела пелена зимней украинской ночи. Но ее чернота уже была слегка разбавлена синькой приближающейся весны. Скоро, скоро зальет светом гуляйпольские снега. Здесь, случается, половодье падает сверху, как ястреб, в три-четыре дня солнце растапливает снежную степь, вызвав к жизни робкие поначалу первоцветы. И вот уже на склонах балочек покачиваются тяжелые, мохнатые колокольцы сон-травы, в открытых необъятных просторах начинается кратковременная ярмарка тюльпанов.
Сейчас бы о севе думать, маяться торжеством плуга, тискать жен на пуховых перинах от предвесеннего непонятного буйства жизненных соков, а лучшие мужики вот уже второй год, обкуривая друг друга махоркой, мучаются переделкой мира, тоскуют о близком рае.
В открытую форточку тяжелыми слоями поверху вытягивался махорочный дым, а ночь впускала в ответ свежесть предстоящих природных перемен, для которых не надо ни заседаний, ни споров.
На столе была расстелена когда-то хлопцами подаренная Нестору немецкая карта, исчирканная всякими стрелочками и значками. Отгибающийся край прижимал батьков револьвер.
– Ну шо, «булгахтер»? Сколько в нашей казне грошей? – Нестор обвел воспаленным взглядом приятелей и остановил его на Лашкевиче: – Первый вопрос: як людей будем кормить, одевать? Скажи нам як начснабжения и финчасти: сколько еще у нас грошей осталось?
– Яки там гроши, батько! Пусто! – виновато глядя поверх очков на батьку, ответил Тимош. – В нашей казне даже мыши не бегають. Шо Марко за пазухой з Катеринослава принис, та я трохи… – печально доложил он. – Коня доброго не купыш.
– Так. С этим все ясно! – глядя в стол, вздохнул Нестор. – А може, нам разведка шо-то хорошее доложит?
– Кадеты в Мариуполе и Бердянске, – встал Кляйн. – С песнями идут.
– С песнямы? – удивился Трохим Бойко. – Оте пацаны с краснымы погонамы?
– Не, Трохим, то не пацаны. Кадеты – конституционни демократы, – пояснил Махно. – Они – за буржуазну республику. С них в основном и формирует свою армию Деникин. Понял?
– Чого ж не понять? Буржуйска армия! Короче, беляки, – развел руками Трохим. – А чого з таким вывертом? Ну, чого с песнями?
– Сыльно в соби уверени.
– Щусь!
– От Волновахи в наши края Шкуро продвигается – тысяч пять кавалерии. От Мелитополя идут объединенни отряды офицеров и немецких колонистов. Тысячи тры, може, больше. Командует якыйсь генерал… як его… не то Кило, не то Тило.
– С трех сторон, значит? – подвел итог Махно и перевел взгляд на Чубенка: – А шо на севере, в Катеринославе?
– Там красни… Який-то матрос Дыбенко выбыв Петлюру. Турнув його аж пид Киев… Кучеряво живут ци дыбенковци. З бронепоездамы.
– Хоть со стороны Катеринослава нас не будут шарпать.
– Шо ты говоришь, батько?! – вскочила Маруся. – Эти ж самые первые на нас пойдут. Большевики, то ж самые лютые враги анархии.
– Эти враги, Маруська, получшее тех врагов. С нимы как-то договоримся.
– Договарювався вовк з бараном вместе на охоту сходыть…
– Смолкни! – начал сердиться Махно и обратился ко всем: – Шо получается? Людей нема, оружия нема, казна пуста… Ну, оружия, допустим, выпросим немного у красных… Трохим! Проберись в Катеринослав, встренься с этим большевицким матросом, с Дыбенко. Скажи, шо батько Махно хотел бы нанести ему дружественный визит. А может, он сам до нас захочет – примем з почетом… Помнится, Ленин при мне шо-то поминал про этого Дыбенку. Не то он сам анархист, не то уважает анархистов. Словом, поговори с ним, выясни, чем дышит. Намекни насчет оружия, патронов…
– Поняв. – Бойко встал и покинул совещание. Когда дверь за ним закрылась, Махно еще какое-то время молча изучал карту.
– Выхода два, – сказал он наконец. – Чи в плавни идти, прятаться, як мыши…
– Шо, сдавать Гуляйпольщину? – не выдержал Щусь.
– Чи… – спокойно продолжил Махно, – …чи разослать посыльных по селам, пиднимать мужикив, собирать войско?
– Та хто ж до нас запышется опосля Катеринослава?
– Когда жареный петух в зад клюнет – запишутся. Лучше, чтоб раньше. Для этого послать толковых хлопцев, агитаторов. Пусть разъясняют: поодиночке селяне пропадут. А вместе мы – сила. И Гуляйпольщину отстоим, и, може, дальше по Украине пойдем!..
Перед утром Юрко осторожно заглянул в комнату Нестора:
– Не спыте?
– Что там у тебя? – сонным голосом отозвался Махно.
– Та якыйсь отряд до вас. Чоловик сорок…
– Что за отряд?
– Кажуть, шо анархисты. Вроде як похожи.
…И действительно, на кого еще быть им похожими? Расхристанные, полуодетые, изможденные люди шеренгой стояли перед Нестором. Кто в вязаной фуфайке, кто в дырявых кальсонах, а кто в шинельке на голое тело. В рваной обуви. Но строй довольно четкий, и в руках у каждого была винтовка, и держали они ее по всем правилам, «к ноге».
Нестор поежился от утренней прохлады.
Двор перед имением, где выстроился непонятный отряд, накрывали синеватые рассветные сумерки. И от этого люди, выстроившиеся перед Нестором, казались пришельцами из страшных малороссийских сказок, тех, что, пугая друг друга, рассказывают, лежа на печи или на полатях, сельские хлопчики.
– Батько Махно! Отряд новоспасовских партизан-анархистов вырвался из окружения… не имея боеприпасов и понеся потери личного состава, прибыл до тебя, – поднявшись по ступенькам к Нестору, доложил небольшого роста крепенький человек в замасленной фуражке со следами двух перекрещенных молоточков на тулье. – Командир отряда Виктор Черныш.
Он единственный был чисто выбрит, аккуратные усы, взгляд темных глаз живой, быстрый. Махно обратил внимание на рваную обувь одного из партизан: из дыр выглядывали посиневшие от холода пальцы.
– Голодные? – спросил у Черныша.
– Трошки бы поели. Со вчерашнего дня шли без остановки. Выбились из сил.
Махно повернулся к адьютанту.
– Юрко! Найди Лашкевича. В тепло их, дать горячего, шо есть. И скажи Тимке, пусть выдаст одежку, особенно сапоги для разутых… Жить пока будете в клуне. Там печь, соломы вдосталь. – Нестор внимательно оглядел прибывших, отметил их спутанные, похожие на паклю волосы, строго приказал: – Но перво-наперво – постричься. Наш парикмахер Никифор раньше графьев стриг. Но лучша стрижка у него – «под ноль». Рекомендую. Ни одна вошь на такой голове не задерживается.
…Чуть позже Нестор и Черныш сидели в зале у карты. Несколько человек спали в углу на соломе. На столе, кроме карты, в самом его уголке стояла нехитрая закуска, штоф.
– Отсюда, от Новотроицка, к нам в тыл зашел Шкуро, – показал карандашом Черныш. – Ну, мы – в каре. Прорвались. Но на марше он трошки моих порубал. – Голос у Черныша сорвался. – Патронов уже не было… Здесь вот по де-филе у Конки проскочили втихую. От разъездов штыками отбились. Но опять же не без потерь.
Махно удивленно посмотрел на Черныша: грамотный мужик, какие мудреные слова знает!
– Ну, про каре я шо-то читал. – Махно показал пальцами квадрат. – Против атак со всех сторон… А шо за птица така – «де-филе»?
– Это просто. Вон барышни по набережной или по парковой дорожке дефилируют. Слыхал ведь? – доходчиво объяснил Черныш. – Де-филе, я так понимаю, это узкое пространство, выводящее на простор… Мы вдоль речки прошли, по кустарнику. Рискованно, конечно, но что было делать?
– Грамотный! – с одобрением отозвался Махно. – Из офицеров?
– Паровозный машинист, – улыбнулся Черныш. – Юзовское училище. И кой-какой боевой опыт.
– Машинисты – люди грамотные, – согласился Махно, продолжая думать о чем-то своем. – Паровоз – такая штука: надо знать, як шестеренки крутятся, когда уголек подкинуть…
– И это тоже, – улыбнувшись, кивнул Черныш.
– Сам-то откуда?
– Из Новоспасовки.
– Слыхав про новоспасовцев. Известные вояки.
– В Приазовье две Новоспасовки, Бердянская и Мариупольская. В одной бывшие азовские казаки осели, народ до шашки и винтовки привычный. Я – из этих. А в другой Новоспасовке – молокане, из духоборцев. Известные бунтовщики. Священников своих, пресвитеров выбирают на собраниях, икон не держат. Правда, войны не признают. Но когда припечет… И медведь в зимней берлоге тоже смирный, но если его палкой потыкать – уноси ноги.
– А вот тут як прошли? – снова склонился к карте Нестор. – Тут же Петлюра?
– Он нас малость зажал было. И еще восьмой деникинский корпус пришел ему на подмогу. Но корпус только-только формируется, мы и проскочили под видом новобранцев. Мимо пушек строем прошли, с песней.
– Ну да? – восхитился Нестор. – А что пели?
– «Взвейтесь, соколы…», известно… Казацкий старшина нам даже честь шашкой отдал.
Батько рассмеялся: любил такие лихие штучки.
– Ты, Виктор, и при германцах тут был?
– Воевал.
– Так шо опыта не занимать?.. Со своим отрядом отдельно будешь чи под мою руку пойдешь? – Он испытующе посмотрел на новоспасовца.
– Под твою, конечно. У тебя, батько, опыта поболее моего. Ты тут голова.
– Дурная, правда, – печально улыбнулся Махно. – Он в Катеринославе мне жопу хорошо намылили. И петлюровцы, и, шо обидно, наш брат рабочий. С нимы мы, по правде говоря, трошки не понялы друг дружку.
– Так это ж, как у нас говорят: за одного битого…
– Тем и утешаюсь… Пойдешь до меня начальником штаба?
– Да ты что, батько? – удивился Черныш. – Дело-то серьезное… А у тебя что, нема его?
– Вроде и есть. Алёшка Чубенко. Но слабенький. Грамотешки маловато. Командир боевой, с шашкой родился, а от карта для него як для меня Библия. Потому и предлагаю тебе. Партизанскую войну понимаешь. И дисциплина у тебя в отряде есть. Заметил!..
Он разлил в чарки самогон. Черныш поднес к губам свою, но отставил, задумавшись: уж больно неожиданное было предложение.
– Хорошо, шо ты машинист, а не какой-то там, из офицеров, – сказал Махно. – У нас все-таки особая армия… – подумав, добавил: —…будет. У нас повстанчество. И война у нас особая. Не по уставам… Поздравляю с высокой должностью!
– А я еще согласия не давал.
– Ты ж молчишь. А в народе як говорят: молчание – согласие.
Они выпили.
– Свой отряд кому сдашь?
– Есть у меня хлопец… – Черныш подошел к двери, окликнул: – Митька!
Хлопец, вероятно, все время стоял неподалеку, охранял командира, потому что возник в двери сразу. Черноволосый, горбоносый, с серьгой в ухе, бывалый контрабандист, с легкостью перешедший в анархисты.
– Дмитро Садираджи, – отрекомендовал Черныш. – Ему и полк можно доверить.
Махно придирчиво оглядел грека и остался доволен. Сказал:
– Жить будете в имении. Тут, в моей комнате. Негоже начштаба и его ближайшему командиру где-то в клуне ютиться.
– А ты как же? – удивился Черныш.
– Козак не без доли. Я ж все-таки гуляйпольский…
…Вечером Нестор в сопровождении верного Юрка Черниговского подошел к старенькой хатке, где жила мать вместе с вдовами-невестками и многочисленными внуками. Постучал в дверь:
– Мамо, пустить переночевать!
Услышав голос сына, Евдокия Матвеевна отодвинула дверной засов:
– Господь мылостывый! Нестор?..
Она обняла Нестора. Обеспокоенно спросила:
– Шось случилось? У тебе там – господська комната, а у нас така теснота.
– Гостям свою комнату уступил, мамо!
– О господы! Кругом ця клята война! А люды чи подурилы? Ще й в гости ездять!.. Де ж тоби постелыть?
– На полу кожушка киньте… Шо козаку треба? Степу, хлеба та неба… Де козак спыть? А там, де стоить…
– Все шуткуешь, бидолага… – шмыгнула носом мать. – Все за волю борешься, за щастя для людей!.. А у самого… ни дому свого, ни жинкы, ни диточок…
Вся хата полна спящей родни – от года до двадцати с гаком. Сопят, ворочаются, кашляют во сне…
Нестор кинул кожушок в угол, на глиняный пол. Умостился, свернувшись по-собачьи. Юрко, оглядев комнату, вышел из хаты.
…Близ управы стояли, гутарили ближайшие соратники Нестора. Некоторые были навеселе: на то и вечер.
Белые стенки хат были подсвечены пламенем костров. Иные коммунары, лузгая семечки, грелись у огня, а те, кто приехал уже в сумерках и не успел найти для себя жилья, что-то варили. Плакал ребенок. Беспокойно кудахтали куры, привезенные на телеге. Кони хрустели муравой, наощупь выедая ее по краям улицы.
Черногвардейцы остановили Черниговского.
– Юрко, подь сюды! – позвал адъютанта Щусь и, понизив голос, спросил: – Куды батько подався? До якоись крали? – В его голосе звучала надежда.
– Та не, – ответил Черниговский. – У матери ночуе. Ниде йому.
– А в своей фатере? – удивился Щусь.
– Там тепер новый начальнык штабу.
– Это конечно… Начальнык штаба нам нужный, – без всякого энтузиазма произнес Щусь. И тут же, вздохнув, признался: – А я подумав, може, батько бабу себе нашел…
– Нельзя батьку без жинкы, – согласился Лашкевич, как бы продолжая не сейчас начатый разговор. – Оно даже и якось несолидно.
– Народу у нас теперь – считай, армия! – поддержал «булгахтера» Калашник. – Батьку авторитет нужон. А без жинкы не то. Як все равно в форме, а без штанов.
– А шо ж тут сделаешь? – спросил Юрко. – Была Тинка. Втекла.
– Шо Тинка? Тинка-картинка! А йому нужна сурьезна женшина, з характером и шоб анархического направления ума! Ну и шоб уважалы ее вси у войске. Шоб була, як… як… – Лашкевич не нашел подходящих слов и жестами обрисовал будущую желаемую «матушку». Он словно бы поднял на растопыренных пальцах что-то весомое, значительное, но хрупкое, как двухведерную бутыль.
– Я уже не раз говорыв: окромя Маруськи Никифоровой другой такой на всей Катеринославщине не найти, – настаивал Каретников. – Хочь шо кажить, а баба настояща!
– В Добровеличковки в школи вроди вчителька есть, – возразил Лашкевич вкрадчиво. – Дитей учить цьому… анархизму. Подменку нам готове.
– Шо, уже и в школи така наука? – удивился Юрко.
– Про анархизм она сама придумала. А так вроде по арифметыци, по всяким такым наукам. Но в анархизми розбыраеться.
– Но Маруська настоящая анархистка, в боях проверена, бойова! – не согласился Щусь. – От если б было от батькы такое задание, я б и эту, добровелычковскую, с собою на какое-то боевое задание взяв. Проверил бы…
– Во-во! Ты провирыш, – язвительно усмехнулся Лашкевич. – Ты уже половину гуляйпольских дивчат провирыв…
Польщенный Щусь тряхнул непокорным чубом. Красавец, ничего не скажешь. И бескозырка с облинявшими золотыми буквами «Иоанн Златоустъ» хоть и помятая-потертая, но лихая, даже не поймешь, как она на голове держится. Черный щегольской жупанчик, перетянутый в талии офицерским ремнем. Кожаная никулинская амуниция: вниз и поперек – ремни, и маузер, и бинокль, и шашка с темляком, и карабин, и гранаты! Герой!
– Не завидуй, Тимош! – весело огрызнулся Щусь. – Сколько мужиков в империалистицку повыбили. Я й стараюсь… восполняю.
– Дывысь, Федос! – процедил сквозь зубы Лепетченко. – Если батько имее до Маруськы серьезни выды чи на цю глаз положе – то за таку пробу вин з тобою знаешь шо сделае?
Щусь несколько потускнел:
– Я к чему?.. Говорят, шо она сильно люта! Надо бы проверить. Батьку шибко люта тоже не нужна, хоть и анархистка.
– Ты про Маруську чи про цю, добровелычковску?
– Про Маруську.
– Може, вона й не люта. Бачь, нашла до нього подход: картопельку йому жарыла. На сале, – рассудил Каретников. – И на выд пидходяща. Може, хай бы женывся!
– Ну, если б я на всих бабах, шо мени картошку жарылы, женывся, ей-бо, став бы турецькым султаном, – вмешался в разговор до сих пор молчавший Трохим Бойко. – Вопрос сурьезный. Не нам його ришать. Наше дело – воювать!
– Война войной, а баба батьку нужна! – решительно высказался Лашкевич. – Пидведем итог! Имеем дви кандидатуры. И надо ришить! Гуртом!
– Ну да! Собранием! – рассмеялся Юрко. – Вы хоть батьку известить, а то женыте, а вин и знать не буде, шо жонатый!
– Зеленый ще ты, Юрко, зубы скалыть, – отрезал Трохим. – У батька нема времени, соображаешь? И потом, батькова жинка всих нас касаеться. Яка буде жинка, така буде й война. Бо од неи батькове настроение. Скилькы мы не будем шось ришать, а батько з жинкою подилыться. И шо? Ночна кукушка всих перекукуе!
Долго еще спорили хлопци. И молча, по одному, по двое разошлись…
Утром, подъезжая на коне к имению Данилевского, Нестор издали заметил многолюдье. Все еще продолжали гореть на площади перед имением костры. Трещали выламываемые на дрова заборы и плетни…
Ведя коня под уздцы, Нестор вглядывался в лица. Старые. Молодые. Битые жизнью и не очень.
Его внимание привлекли горящие на солнце духовые оркестровые трубы. Остановился, стал с интересом их рассматривать. К нему подошел хромой усатый мужчина. Лицо интеллигентное. Очки на веревочке, от ушей к затылку.
– Откуда? – спрашивает Нестор.
– Из Голой Пристани. Безвуляк. Учитель музыкы.
– Оружие имеете?
– Две берданкы… на семнадцать человек. Нам сказали, шо у вас, Нестор Иванович, оружия цього – як навозу. В Катеринослави, сказали, добыли.
– Не добыли, – помрачнел Махно. – А это, товарищ Безвуляк, зачем? – Он указал на музыкальные инструменты.
– Та как же… У вас, сказали, армия. А яка ж армия без музыки?.. У нас в Голой Пристани свой оркестр был. И так получилось, шо все оркестранты решили до вас. Ну, мы й подумали…
– Правильно подумали, – согласился Махно. – А ну покажите, шо у вас за оркестр.
– Это можно! – Безвуляк поправил веревочку на затылке, похлопал в ладони. Тотчас оркестранты разобрали свои инструменты, построились. Состав музыкантов был необычен: собрались и духовые, и гармошка, и бубен, и несколько скрипок, даже какой-то мужичок был с дудкой, в которую надо дуть сбоку, в отдельную трубочку.
– Фагот, – объяснил Безвуляк. – Прибился к нам по случаю голода в Петрограде. Из оркестра Императорского Мариинского театра. Но – мастер, скажу я вам!
– Добре, – кивнул батько. – Ну давай! Уважь!
– Вам народное чи революционное? У нас в репертуаре – на все случа́и.
– Тогда вжарьте народне, но с уклоном в революционне, – загнул Нестор.
– И это возможно, – нисколько не смутился Безвуляк.
Взмахнул рукой. И грянула музыка. Задорная, лихая, с присвистом… «Засвысталы козаченьки» с неожиданными вставками из «Марсельезы»…
Нестор послушал немного, одобрительно улыбнулся Безвуляку и ушел. А музыканты продолжали играть…
…Музыку было слышно и в зале, когда Махно и новый начальник штаба Виктор Черныш снова склонились над картой.
– Далеко не пойдем, пока в губернии погуляем. Людей нам пока, до серьезных боев, хватит, – сказал Нестор. – Не считал, но за тысячу… И все прибывают. И коней на полк хватит… А от оружия и боеприпасов – кот наплакав! Исходя из такого рассуждения, шо б ты, начштаба, мне присоветовал? – Он внимательно посмотрел на Черныша.
Оторвавшись от карты, тот ответил таким же внимательным взглядом:
– Оружие, боеприпасы, кровь из носу, надо выпросить у большевиков. Дадут, потому что в данной ситуации мы им вроде как родичи. После чего можно рассуждать, как жить дальше… Петлюровцы сейчас наступать не будут! Над ними висят большевики… Остаются южный и западный участки… – Начштаба обвел карандашом названные направления: – Сперва надо бы ударить на юг, на Мелитополь. Упредить сводные отряды офицеров и колонистов вместе с этим генералом… как его… Тилло. А потом лучшие силы кинуть на восток. Зайти кадетам во фланг, на Бердянск и далее на Мариуполь. – Черныш показал на карте дугу, ведущую вдоль Азовского моря. – Побегут.
– Разумно, ничего не скажешь, – кивнул Махно.
– Но!.. – поднял указательный палец Черныш, размышляя. – Надо прикрыть Гуляйполе со стороны Веремеевки. Генерал Шкуро сам из партизан… мастер внезапных налетов. Кавалерия у него из чечен. Так пробирается, что не стукнет и не грюкнет. А потом – в шашки!
– О! Я вижу, ты прирожденный начальнык штаба! А отказывался! – радовался Махно. – По генералу Тилло мы хитро ударим. Он, я слыхал, из гвардейцев. По уставу воюет. А мы так ударим, что он про такое ни в одной книжке еще не читал!.. – Махно бросил на стол карандаш: – Мне нравится твой план, начштаба. Разрабатывай в подробностях.
Батько подошел к окну. Во дворе по-прежнему горели костры. У коновязей перебирали ногами отдохнувшие и накормленные лошади. Блестели на солнце оркестровые трубы.
– Воевать тепер будем з музыкой, начштаба! – сказал Нестор, глядя в окно. – Хорошие музыканты. Хочь нашу козацкую, хочь «Марсельезу» – все грають!
У старой кузни, вдали от глаз и ушей, выстроились махновские «маршалы». Здесь были многие черногвардейцы, и Трохим Бойко, артиллерист Тимошенко, Маруся Никифорова, Сашко Кляйн, Фома Кожин, новоспасский командир Дмитро Садираджи. И даже дед Правда на своей тачанке.
Черныш, подтянутый, выбритый, стремительно прошелся вдоль строя:
– С сегодняшнего дня, считайте, у нас создана армия. Выборность командиров как основной анархический принцип остается. Но вы теперь не черногвардейцы, не атаманы, а командиры полков. Нарушение дисциплины недопустимо. Нам предстоит воевать с крепким противником. Поэтому в армии вводится медико-санитарная служба, служба связи, разведки и контрразведки, боевое снабжение, продовольственное и все, что должно быть в армии… Ввести бы и агитпроп. У красных агитация на высоту поставлена и дает хорошие результаты. Надо у всех учиться! И у противника тоже!
– Ты, начштаба, за большевиков не шибко агитируй! – громко откликнулся Щусь. – И вообще, шо-то ты сильно круто забираешь!
До сих пор Щусь негласно был на правах второго после батьки: «полубатькой». Новый начштаба как бы оттеснил его, нарушил неписаный, но уже установившийся закон.
Махно, до сих пор молча слушавший Черныша, сидя в седле, тронул своего крепкого конька по направлению к Щусю. Остановился возле него. Помахивал нагайкой, словно примеряясь для удара.
– Слухай, Федос! Ты, видать, не до конца все понял, шо тебе начальник штаба объясняет? Могу подробнее растолковать! У нас теперь армия. А армия без дисциплины…
– Та шо тут непонятного? – буркнул бывший гальванометрист. – Дисциплина – так дисциплина… мы, флотские, до нее приучени.
Но покорности в его голосе не было. Нагайка некоторое время поболталась перед носом у Щуся и уплыла за голенище Несторова сапога. Конек попятился, отнес батька от строптивого морячка.
– Вот вы, Щусь, командир лучшего, слыхал, полка, – польстил матросу сообразительный начштаба, – пойдете на Мелитопольское направление. Боеприпасов мало, соберем все, что сможем. Против вас сводный полк колонистов и белогвардейцев. Они уже заняли Орехов и переправились через Токмачку. Надо так отбить их наступление, шоб они забылы сюда дорогу. Да и нет у нас пока сил на все фронта воевать… Придаю вам, товарищ Шусь, отряд Никифоровой и пулеметную роту Фомы Кожина.
– О, уже рота! – поднял кулак дед Правда. – Приехал я на одной тачанке, а уже восемь. Рота! А будет ще с десяток, чи й с два – уже и полк! Правильно, товарыш начальнык штабу! Хорошо командуете!
Черныш благодарно усмехнулся. Поддержка была ему нужна. Тем более от деда Правды, авторитет которого, как это всегда водилось у козаков по отношению к старшим и сообразительным, был весьма высок.
– А нас куда? – обиженно спросил смуглый Садираджи. – Мы, новоспасовские, шо, у Бога телятко съели?
– Не бузотерь, Дмитро, – оборвал его Черныш. – У вас тоже хватит роботы. Позднее. Когда боеприпасами разживемся… Пойдете на Бердянск, Мариуполь…
– До моря, додому! Сантуринское пить будем! – обрадовался Садираджи. – А за лишнее слово просю прощению!
Черныш подошел к Нестору. Тихо спросил:
– Кого в заслоне оставим?.. И тоже ж боеприпасы нужны! И хлопцы крепкие.
– Потом скажу, – ответил Махно. – И про боеприпасы, и про крепких хлопцив.
…Плыли над степью легкие облака, предвестники тепла. Снег упрятался в выбалки и в затененные рощицы. На прогретые склоны наступающая весна горстями сыпала первоцветы.
Тачанка с Махно и его адъютантом, с кучером Степаном на передке въехала в знакомую нам еврейскую колонию Ново-Ковно. Тачанку сопровождал эскорт – трое конных.
Мало что изменилось в колонии за последний с лишком год. Разве что победнее стала. Пооблупились саманные домишки, исчезли кричащие вывески шинкарей и торговцев галантереей. Лишь землянки остались неизменными: выступая на аршин из земли и глядя на мир маленькими подслеповатыми оконцами, они были похожи на укрепления, столь уместные в эту неспокойную пору.
Колония словно вымерла, только в стеклах окон мутнели любопытные лица. У одного из саманных домиков Нестор велел остановиться. Подождал.
И точно: вскоре возле тачанки появился старый знакомый Нестора Лейба Шимонский, в длинном лапсердаке, жилетке и ермолке.
– О, сам батька Махно! А я, признаться, ждал! – сказал Лейба, здороваясь. И, видя удивленное лицо Нестора, добавил: – Я подумал: раз этот хлопчик уже стал батькой, значит, скоро приедет и скажет: «Граждане евреи! Что вы можете дать для революции? Можно деньгами! Но только не мелочитесь: нужны большие деньги!»
– Почему большие? – спросил Махно.
– Так вы ж теперь батько. Это все равно что козацкий цар. А вы слышали, чтоб цар брал маленькие деньги?
Махно усмехнулся:
– Поговорить надо, Лейба!
– Вот чего у меня много, так это времени, – прищурил хитрый глаз Лейба. – Времени для разговоров у меня много больше, чем денег. Если бы время можно было продавать, я был бы богаче, чем Ротшильд.
Они отошли в сторонку и беседовали в чахлом садочке, и у них под ногами греблись в весеннем теплом навозе куры.
– Я вам дал по пять десятин земли на душу, а где отдача? – сказал Махно.
– Революция, война! Молодежь у нас и раньше не очень интересовалась землей, а теперь все пошли руководить. Уходят к большевикам и чем-нибудь руководят. Даже плешивый Зяма, который думал, что он портной, когда к брюкам пришивал рукава, теперь в Киеве управляет Киевшвейпромом. Бедный Швейпром, он думает, что все евреи умные, а у нас каждый второй дурак, и мы, старые люди, это знаем, но у нас никто ничего не спрашивает.
– Ну, а отряд самообороны остался?
– Все как было, – с гордостью ответил Лейба. – Разве можно жить без самообороны в наше время?
– А этот, с пулеметом? Твой сын?
– Якоб? Конечно, он у нас. Он мой заместитель по этой… по боевой части. Все мои сыновья состоят в самообороне. И Лейба, и Марк, и Исаак. И дети всех моих соседей…
– А почему так тихо в колонии?
– Потому что я еще не свистел… Но не волнуйтесь, они уже вас видят и готовы сделать этот… – он постучал себя пальцами по лбу, – ферфлюхте геданхтнис!.. Сделать залп!
– Вот шо, Лейба! – сказал Нестор. – К нам на Гуляйпольщину идет атаман Шкуро. Белый генерал… с казаками и чеченами…
– Слыхали про Шкуро, – скривился Лейба. – Это плохо. Это большие грабежи и большое насилие!
– Надо бы поставить заслон возле Гуляйполя. Скорее всего, он сюда не дойдет. Но – на всякий случай. Моя армия будет в тяжелых боях. А Гуляйполе останется открытым.
– Конечно, евреев берегут. Их ставят туда, где врага не будет, – грустно сказал Лейба. – Но я хорошо изучил наши старые мудрые книги, где сказано, что враг всегда появляется там, где его не должно быть. Валтасар не ждет Кира персидского там, куда приходит Кир… Но скажите, Нестор, почему мы должны защищать не Ново-Ковно, а Гуляйполе?
– Потому шо Ново-Ковно за Гуляйполем. И Шкуро прежде придет в Гуляйполе, но потом обязательно пожалует и к вам. Лучше его упредить.
– Разумно, – согласился Лейба. – Бой в колонии – опасно для женщин и детей.
– И вот ще шо. – Махно достал из-за пазухи бумагу, на которой был длинный список имен и фамилий. Многие зачеркнуты. Лишь два имени – Исака Гольцмана и Симона Острянского – не тронул чернильный карандаш. – Эти двое – ваши?
– Да, – прикоснулся корявым пальцем к бумаге Лейба. – Плохие портные. Я бы не посоветовал вам шить у них даже картуз.
– Они предатели. – Нестор передал список. – Они предавали ваших людей.
– Я догадывался, – печально кивнул старик. – А что с вычеркнутыми?
– Мы их расстреляли.
– А почему не расстреляли и этих?
– Те были из Гуляйполя. А эти – из вашей колонии. Вы уж сами их… Нам ни к чему, шоб кто-то сказал, шо мы убиваем евреев.
– Нет… Еврей не может расстреливать еврея.
– Это шо, тоже в ваших мудрых книгах написано?.. Мы своих предателей, значит, можем расстреливать, а вы своих нет? – нахмурился Махно. – А как же тогда революцию делать? С этой вашей добротой?
– Не будем спорить… Если будет бой, я пошлю их туда, куда надо. И пускай Бог разберется, как с ними быть.
– Умные вы люди, – вздохнул Нестор. – Значит, пусть Бог расстреляет?
– Может быть. Он больше про них знает… Вы, козаки, сколько лет на земле?
– Ну, лет четыреста, может, пятьсот, – прикинул Махно.
– А мы – три тысячи, а то и больше. Мы пережили египетский, вавилонский плен, персидское, греческое, римское владычество… Если бы еврей убивал еврея, что было бы с нами?
Нестору осталось только покачать головой.
– Созывайте отряд! – приказал Махно. – Будете теперь называться еврейской ротой. Вольетесь в нашу армию. Но командиром по-прежнему будете вы, Лейба!
– А то кто ж еще! – пожал плечами Шимонский.
Он свистнул, как некогда, в два пальца. И тотчас колония ожила.
К месту сбора побежали молодые люди: кто в традиционной одежде, кто в немецкой форме, кто в старой русской. Оружие стало у них получше, берданки и дробовики сменили «манлихеры» и трехлинейки.
– Только от шо, – предупредил Махно. – С патронами у нас туго.
– Я так и думал, – ответил Лейба. – Раньше на черный день мы копили деньги. Теперь, когда настали сплошь черные дни, копим патроны… Что ж, обойдемся своими припасами.
Бывший драгун Якоб, со своим неизменным «Льюисом» на плече, встал первым, по нему подравнивались остальные. Вихрастый очкарик с волочащейся по земле саблей. Угрюмый крепыш с длинными пейсами, торчащими подобно кошачьим усам. Долговязый немолодой колонист со шрамом на лбу…
Махновцы насмешливо смотрели на эту странную новую роту в войске батьки Махно. И когда Лейба удалился к шеренге, кто-то из конвоя спросил:
– Батько, це шо? Рота чи вооруженна синагога? Чого у ных таки прями ружжа?
– Выкинь глупости с головы! – отрезал Нестор. – Я таких видел в деле. Нормальные хлопцы!
– Ряды сдвой! – скомандовал Якоб, и отряд довольно четко выполнил команду.
Лейба с улыбкой искоса взглянул на Махно: мол, знай наших!
– Скажите им речь, батько! – попросил Лейба. – Скажите им такую речь, шоб заиграло сердце!
Нестор подошел поближе к строю. Вглядываясь в лица, набрал побольше воздуха. Выдержал паузу. И по мере того как он выжидал, люди еще больше подравнивались и наконец замерли. Им тоже хотелось выглядеть орлами. Даже те, кто был явно не предназначен к военной службе, тянули вверх подбородки. Подрагивали длинные винтовки в руках малорослых мальчишек. Не очень, прямо скажем, устрашающее для противника зрелище – строй еврейских колонистов.
– Бойцы революции! – прокричал Нестор. – Настал и ваш час защиты воли и свободы, каковую принесла на Гуляйпольщину великая наша мать Анархия!.. Что такое жизнь человеческа? Так, ничто! С комариный хоботок! А счастье и равенство всех людей, всех наций? Эт-то ж во! – Он раскинул руки, обнимая пространство…
Его слова летели над пробуждающейся степью. Подступала весна девятнадцатого года, самого кровавого в истории Гражданской войны…
Глава тридцатая
Федос Щусь, перейдя вброд речку Токмачку, залег на бугорочке среди верболоза и рассматривал в бинокль другую колонию, немецкую – Либерсдорф. Она казалась игрушечной в линзах трофейного «цейса». Аккуратные домики, черепичные крыши, люди в жилетках, гольфах и чулках, копошащиеся во дворах.
– Живут же, заразы! – сплюнул Щусь, не отрываясь от бинокля. – Богатеи. Ксплуататоры!
– Дай! – протянула руку к биноклю Маруся Никифорова и, получив игрушку, тоже зло процедила: – Аккуратисты, гады! Прям душа горит!
Полк Щуся, тачанки, конница – все было упрятано позади, в лощине, среди низкорослых приречных деревьев и верболоза, который уже начал пушить свои сережки.
– И у меня, Манюся! Тоже! Душа горит! – Щусь воровато огляделся по сторонам и вдруг приник к Марусе. Обхватил ее одной рукой, а другую попытался сунуть ей за пазуху. И при этом хриплым прерывающимся голосом бормотал: – Я это… я трошечки… ты не думай… сколько уже без бабы…
Маруся дернулась так, что Федос откатился. Вскочила и, выхватив из-за голенища плеть, несколько раз огрела ею Щуся по голове.
– Ляжь, скаженная! – прикрывая рукой голову, прошипел Федос. – Увидят – перестреляют!
– Козел! – прошипела Маруся и снова улеглась рядом со Щусем.
– Не злись, Манюся! Мы, мужики, як старц(и). Наше дело просить, ваше дело чи отказывать, чи давать. Но шоб плетюганами… – Он провел рукой по лицу, нащупал вздувшиеся болезненные рубцы. – Ты глянь, шо с лицом сотворила. Меня ж мои хлопцы не узнают.
– Еще раз Манюсей обзовешь – точно не узнают.
– Малохольна! Беры свой отряд и пали колонию! Всю! Шоб батько там, в Гуляйполи, столб дыма увидел! И немцев с села не выпускай, пускай посмаляться… Гранаты кидай! Побольше грома!
– А ты? – уже мирно, почти дружелюбно спросила Никифорова.
– А я выйду на Сеножаровску дорогу. Белякы як увидят, шо колония горит, кинутся своим на подмогу. Тут им Фома Кожин и покажет, как он рубит дрова…
– Хитроумный ты, чертяка, – усмехнулась Маруся. – Наверное, многим девкам головы скрутил за свою молодость…
– А я ще не старый, – оскалил зубы Щусь. – Ще поскручиваю.
– Нарвешься на какую-то! – Маруся смерила Щуся презрительным взглядом. – Пообрывает тебе все, шо висит… котяра!
Они спустились в лощину. И уже через несколько мгновений Маруся со своим отрядом помчалась к колонии…
А Щусь прошелся вдоль тачанок, мимо Фомы Кожина, мимо деда Правды.
– Нам спешить не надо. Хай Маруська делает свою роботу, – сказал он небрежно. – А задача у нас така: сделать этим колонистским гусарам примерно то, шо тогда под Дибровкою!.. Не забыл, Фома?
– Еще б! – отозвался за молчаливого Фому дед Правда. – Я и то их штук двадцать пидкосыв, як лозу…
– Знаю, знаю, – сказал Федос. – Так от! Похоже, у них там генерал Тилло из гвардейских кавалергардов… З нашими тачанкамы они ще пока не познакомились. Надо б познакомить.
Фома Кожин был, как всегда, молчалив и серьезен. Балагурство Щуся ему было не по душе. Говорил Фома всегда мало, в основном по делу.
– Вот что! – обратился он к своим пулеметчикам. – Помните, у вас всего по одной ленте. Двести пятьдесят патронов. Каждая вторая пуля – в точку. Очереди короткие, прицельные. Не сничтожим мы их – порежуть они нас. Как баранов. Все!
Они неторопливо собрались, выехали из неглубокой балочки и увидели, что Марусина «рота» уже у самой околицы. Въехала в колонию. Раздались первые выстрелы, первые разрывы гранат…
И заметались по селу жители, стали загонять в хлева скотину.
В большом кирпичном здании с надписью «Школа» старик-сторож торопливо закрывал расписанные цветочками ставни больших окон.
С гиканьем пролетая мимо школы, какой-то махновец бросил в еще не закрытое ставней окно гранату. Зазвенели стекла. Взрыв, и над колонией разнесся пронзительный крик множества детских голосов.
В другом месте Марусины хлопцы подожгли пучки соломы. Помчались к сараям, гумнам… Легко вспыхивали сараи с их соломенными стрехами.
Полетели гранаты в окна других каменных домов. Дымное пламя занялось над массивным амбаром.
Над колонией повис сплошной гул: взрывы и выстрелы смешались с криками людей, воем рвущихся с цепей собак, мычанием коров, гоготом гусей.
Объезжая стороной колонию, Щусь видел, как над ней поднимаются клубы дыма. Дед Правда принюхался, как чуткое животное, поводя ноздрями.
– Дура, зерно пидпалыла! – мрачно сказал он. – То ж хлеб!.. Хиба ж можно!..
А по шляху к Сеножаровке, вырвавшись из колонии, помчалась высокая немецкая фура. И лошади, и их хозяева обезумели. С фуры сорвало верх, торчали только дуги, и там, за дощатыми бортами, во весь голос орали перепуганные дети…
– Остановыть? – спросил один из хлопцев у Щуся. – Там же диты!
– Сдурел? – обозлился комполка. – Пусть скачуть! Шоб генеральская кавалерия поскорее на нас кинулась!..
Когда фура исчезла с глаз, конница и тачанки Щуся выбрались на пыльный шлях. Он был пуст…
Но вот вдали возникла серо-зеленая, поблескивающая металлом масса. Она словно бы текла по шляху, как вырвавшийся из запруды поток.
– Торопятся, – оскалил зубы Щусь. – Разворачивай тачанки, Фома. Будем от них тикать… но не спеша… пускай они трошки кровь погорячат.
Тачанки развернулись и, по четыре в ряд, заняли всю широкую полосу шляха. За тачанками мелкой рысью скакали всадники во главе со Щусем. Своей массой они прикрывали смертоносные повозки…
Конный сводный гвардейский полк галопом мчался по направлению к Либерсдорфу. Странный полк! Здесь были гвардейские офицеры, кавалергарды и кирасиры, какие-то мичманы в мятых фуражечках, колонисты в гольфах, симферопольские студенты-очкарики и даже гимназисты в форменных кителях. Всех их объединила идея сопротивления. Вчера еще ссорившиеся друг с другом, постоянно спорившие, неистребимые демократы и их противники, приверженцы сильной, единой и неделимой, обрусевшие немцы, преданные только своему хлеборобству и овцеводству, – теперь они все вместе, единой лавой мчались навстречу невиданной, хитроумной народной партизанской войне.
Впереди на сером в яблоках коне скакал немолодой, тонколицый командир в шинели без погон, в сбившейся на затылок фуражке и удерживаемой только спущенным на подбородок ремешком. Он горячил коня, подхлестывал его нагайкой.
Дальше произошло примерно то же, что не так давно случилось под Дубровкой. Щусь и его всадники на всем скаку разошлись в стороны, словно раздвинули занавес, открыв четыре пулеметные тачанки. И началось! Застрочили одновременно все четыре пулемета – и, надеявшиеся на легкую победу, гвардейские конники стали падать под копыта своих коней… Падали и кони…
Все еще ничего не понимающий генерал мчался за тачанками даже тогда, когда вокруг него уже почти никого не осталось…. Но вот и он, взмахнув руками, полетел на землю…
Тишина, подобная звону, повисла над степью. Даже колония уже затихала, только дымки догорающих пепелищ лениво тянулись к голубым весенним проблескам в облаках…
На шляху валялись, поблескивая медью, пустые гильзы – чудовищные, не прорастающие зерна войны. Лужицы патронов у разгоряченных пулеметов залили сиденья тачанок. Парок вился над клапанами водяных кожухов. Мир и покой…
Лишь время от времени звучали сухие одиночные выстрелы, как мирные щелчки пастушьей плети. Хлопцы добивали раненых, собирали трофеи, оружие, боеприпасы… Обычное дело после удачного боя!
Щусь остановился возле лежащего на земле тонколицего седоватого человека. Поднял его шашку с георгиевским темляком с золоченой рукоятью. Присвистнул:
– Царска штука…
Распахнул его шинель – сверкнули награды: два Георгиевских крестика – в воротнике кителя и в петлице. И орденские знаки Владимира, Станислава и Анны с мечами.
– Ишь ты, при параде до Бога собрався… Степка! – окликнул он своего адъютанта. – А ну сними с него китель – батьке подарим!
Степка расстегнул у убитого китель, достал залитую кровью бумажку.
– Видать, якыйсь документ.
– А ну дай! – Щусь по складам прочитал: – «Тил-ло… А-лек-сандр… Алек…» Не разобрать… Выходит, это и есть той самый генерал Тилло, – удовлетворенно сказал Щусь. – От батько будет радый! В первом же бою таку важну птицу завалили!..
В штабе новый начштаба Виктор Черныш доложил Нестору о результатах боя в Либерсдорфе и Сеножаровке. Слушая, батько отнюдь не казался довольным. Он сидел, мрачно уставясь в стол.
– Сеножаровский полк почти полностью уничтожен. Генерал Тилло убит, – доложил Черныш.
– Наши потери? – коротко спросил Нестор.
– Четверо раненых. И все.
– А побитых в школе детей ты почему, начштаба, в потери не записываешь? – сердито стал выговаривать Нестор. – Они ж ни белые, ни красные, ни анархисты. Они потом могли бы кем-то стать. Но не станут… Я не так давно пол-России объехал. Голодовка там страшенная. Люди мрут. А ты спаленный хлеб почему в потери не записываешь?.. Для кого ж мы власть берем, кровь проливаем, если тех, для кого мы светле будуще добываем, на свете не будет? Погибнут от гранат, вымрут с голода…
Черныш молчал. Да и что тут скажешь! На войну списать? Но ведь и у войны какие-то законы должны быть. Жестокость – возможно. Но не беспредельная.
– Ты от шо! – сказал Нестор, поднимая на Черныша воспаленные глаза. – Позови сюда Щуся и Никифорову. А сам пока не заходь. Я хочу з ими по-простому поговорить, по-козацки.
Ожидая, он ходил, ударяя толстой, хорошо сплетенной нагайкой по голенищу сапога. Злость переполняла его.
Федос, а следом и Маруся вошли в штабной зал. Щусь держал на вытянутых руках китель со знаками орденов. Нес торжественно.
– Кто это тебе так мордяку росписал? – заметив следы плети на лице Щуся, спросил Махно.
– Генерал Тилло, батько… он на меня прямо с конякы. Шо было делать? Я его, он меня… Та от Маруська не дасть сбрехать… Ну, я его… – хохотнул Щусь.
Маруся, однако, не поддержала его. Она видела, что Махно в гневе, и чувствовала, что гнев этот вот-вот обрушится на них.
– А это тебе, батько, генеральский трофей! – протянул Щусь Нестору орденоносный китель. – От всего моего полка и от Маруськи лично.
– Кинь в угол, – приказал Махно. Он остановился напротив Щуся и свирепым взглядом буравил его.
Щусь смешался, улыбка сползла с его лица.
– Если б не этот генерал, – кивнул Нестор на брошенный в угол китель, – я б тебя расстрелял. Прилюдно. Перед строем.
– Ты чего, батько? Як сказился? – недоуменно спросил Щусь. Удивилась и Маруся.
– Мы с генераламы воюем. С помещиками, ксплуататорами. А вы з кем?
– Мы Сеножаровский полк зничтожили, с генералом вместе.
Но Махно не слышал слов Щуся.
– А вы – з детьми воевали. Школу подорвали, детей побили.
– То ж бой был. Горячка. Ты ж знаешь, батько, як это бывает.
Нестор не принял оправданий Щуся. Сказал, обернувшись к Марусе:
– Ты ж будуща мать, Маруська. В твою дурну голову не пришло, шо дети – не враги. Нормальни бабы детей из огня выносят. Волосы на них горять, а они з криком боли выносят. Так всегда на селе было! На том все стояло!.. А ты!..
Нестор был близок к припадку. Его била дрожь.
Маруся молчала. Опустив голову, смотрела себе под ноги.
– Тут в штаби легко рассуждать. А надо было генерала вывести на наши тачанки, – как бы оправдывая и себя, и Никифорову, сказал Щусь. – А нормального боя мы б не выдержали… – И, зная, что Махно, как это уже не раз у него бывало среди нервного исступления, находится в каком-то вялом, опустошенном состоянии, добавил проникновенно, почти интимно, как свой своему: – А разьве мы с тобой, Нестор, панов з их детьми не сничтожалы? Разьве жалели их? Вспомни хоча б, як мы на усадьбе пана Резника хозяйнувалы! А шо, там детей не было? А панночку Данилевську разьве не мы убили?.. Вспомны, как тебе сам Кропоткин сказав: «Ниякой жалости ни до кого!» Чи я шо-то не так понимаю?
Маруся, хоть и храбрости была невероятной, но и она сейчас отошла в угол и даже сжалась. Ждала, что батько в ответ на дерзкие слова Щуся схватится за плетку, а то и за саблюку – и разнесет его кудрявую голову, как кочан капусты!
Но Нестор тяжело вздохнул, скривился, словно от резкой боли. Он и сам не понимал, отчего приступы жестокости сменялись у него вдруг сочувствием и раскаянием. Если б не замечательная анархическая теория, которая нашептывала ему, как вещунья-бабка, всякие важные слова о конечной цели, о всеобщем счастье, можно было, в минуту отчаяния, разогнаться и расколотить голову о кирпичную стену. Раз уж судьба решила возвести его в народные батьки, вожди, почему не дала ему железное сердце, не избавила от мук?
– То такое время было, Федос, – тихо сказал Махно. – И мы, по правде сказать, тоже былы звери степные… загнанные в угол звери. Кто кого?.. А сейчас другое время – я батько. У меня армия, полки, всякие службы. Другый спрос! И ты тоже уже не матрос без царя в голове, а мой командир конного полка.
Не хотел больше Нестор славы безрассудного атамана. За ним теперь, можно сказать, не только армия, а целая анархическая республика! Единственная в мире!
Щусь не понял, что в эти минуты ему бы лучше всего помолчать вместе с батькой. Может, все и кончилось бы миром. Но он снова попытался оправдываться.
– Батько, скажу тебе честно, положение было безвыходне. Маруська не дасть сбрехать. Патронов мало. А этот генерал…
– Я з вами не про генерала говорю – про детей. Малолетни дети при чем?
– Так бой же! Сам знаешь, батько, лес рубають – щепкы…
– Дети – щепки? – оправдания Щуся вновь вывели Нестора из себя. – Ты командиром был в том бою. С тебя и весь спрос… Не, ты не человек, Федос. Ты садист!
Щусь не понял. Он оглянулся на повсюду расставленные стулья.
– Куда?
– Шо – «куда»?
– Та ты ж говоришь «садись».
Это окончательно добило Нестора. Он схватил со стола нагайку и несколько раз с силой перетянул приятеля по спине, по рукам, которыми тот прикрывал голову.
Щусь отскочил к двери.
– Пошел вон! Снимаю тебя с полка. Слышишь? Рядовым пойдешь… в самое пекло… Кровью умоешься за детей, зараза!
Последние слова Нестор выкрикивал уже не Щусю, а закрывшейся за ним двери.
Маруська тоже попятилась к выходу. Но Нестор отшвырнул нагайку в сторону:
– Чего смотришь? Женщин не бью. – Он присел к столу, вытер выступившую на губах пену. Спокойно сказал: – От боевых действий тебя отстраняю. Иди в хозяйственну роту. Прачок у нас нема… Начальник штаба тебя опредилит… Уйды с глаз!
И когда она тихо отступила, все еще ошеломленная приступом батькиного гнева, он почти фальцетом закричал ей вдогонку:
– И картошка, шо ты жарила – отрава! Картошку жарить не навчилась!.. Баба называеться!
Во дворе Щуся обступили махновцы, с любопытством ждали объяснений.
– Батько? – спросил Калашник, указывая на красные рубцы на лице.
– Ще чого! С генералом Тилло трошкы силой померялись. Он – меня, я – его. Маруська видела, она лучшее росскажет… А шоб батько на меня руку пиднял? Та никогда! Мы ж з им ще з детства кореша. Полаять себя я ему розрешаю. Для пиднятия авторитета!..
И тут во двор по ступенькам спустилась зареванная Маруська.
– Ты чего, Маруська?
– Та пошел он! Картошку, говорит, не умею жарить! Та я… меня вся Украина знает… Я губернаторов убивала! А он – «картошка». Индюк!
И махновцы, и проживающие в имении селяне с изумлением взирали на всхлипывающую от обиды Марусю Никифорову. Еще никто на Украине не видел плачущей атаманшу, которая никогда и никого в плен не брала.
– От боевых действий отстранил. В хозроту направил. Ничого, я ему, заразе, ще «нажарю картошки»!.. Такой бой выдержали! Целый полк розгромили! А он!.. За шо?
Рассудительный Лашкевич спокойно сказал:
– Не обижайся на батька, Маруся! Если наказав, то за дело! Мовчи! Вин не злопамятный! Скоро забуде!
Щусь и вытирающая слезы Маруська ушли со двора.
– Лютует батько! – провожая взглядом обиженную пару, сказал Каретников. – А мы ж його на Маруське женыть хотилы!
– Ага. Бачишь, як вин до неи посватався! В хозяйственну роту! Подштаники стирать!
– И все равно, женыть треба!
– Та як йому найты подходящу?
– Заспокоиться батько – росскажу йому про ту вчительку, шо я вже россказував… Шо розумна, шо красыва! – вступил в разговор Тимош Лашкевич. – Спивать йому про неи буду, як бандурист. Уговорю!
В штабе сидели Нестор, Черныш и еще несколько его командиров. Алёшка Чубенко с появлением Черныша был переведен на боевую работу, принял пехотный полк, пока еще в количестве, положенном роте. Это его только обрадовало, и на Черныша он смотрел как на избавителя.
Все ждали, что скажет вернувшийся из Екатеринослава Трохим Бойко.
– Докладай, Трохим! Может, хоть ты чем порадуешь?
– Та шо докладать? Днив пять ждав, пока цей Дыбенко мене прийме. Сперва його жинка мене обглядела. Хороша барынька, не з простых. Сама просто пава! В кожаному, при револьвери. Кажуть, така большевичка, шо дали никуда. Так от, сперва вона про все роспытала. Те, шо й не хотив, рассказав. А потом, через сутки, и сам Дыбенко мене прийняв. Цей – простый, наче з нашого села. Договорылись, шо днив через трое вин нанесе нам визит. Каже, багато чув я про Нестора Махно, охота самолично з ным познакомыться, а може, й потоваришувать…
Нестор и Черныш удовлетворенно переглянулись.
– Дыбенко так и сказав: мол, в гости чи не в гости, а бойовый путь моей славной Заднепровской дивизии лежить через ваше Гуляйполе, – продолжил Бойко. – Так шо в любом случае заявлюсь з инспекцией.
– Надо, конечно, подготовиться для встречи этого Дыбенка, – сказал Нестор. – Шоб все было четко. Не только на параде. Это – само собой. А ну, если ему захочется наши службы проверить… Шо там у нас со службами, Виктор? – обратился он к Чернышу.
– Служба связи налажена. Кляйн занимается… Снабжение, и боевое и продовольственное, у Лашкевича. За разведку и контрразведку временно отвечае Садираджи. Мой хлопец, доверяю ему как себе. А вот с агитпропом – тут похуже. Грамотный человек нужен, политически подкованный. С учителем по музыке беседовал, с Безвуляком – не потянет.
Почувствовав подходящий момент, поднялся Тимош Лашкевич:
– Есть у меня на примете одна вчителька. В Добровеличковке. В школе не только арифметике дитей уче, но и про анархическу науку лекции читае. Може, Нестор Иванович, знайшов бы время, побалакав бы з нею? Дуже, на мий взгляд, подходяща кандидатура. Анархизм цей як «Отче наш» знае. И так – все при ней.
– Красива, хочешь сказать? – поднял глаза на Лашкевича Нестор.
– Не то слово!
После совещания, когда все вышли на солнышко, Каретников спросил у Лашкевича:
– Ты кого в агитпроп батьку советуешь? Опять цю… Галку Кузьменко?
– А шо? Красыва. Строга. Учёна, як все равно прохвессор. Дитей в школу пид черным прапором водит.
– Подходяща, кажешь, кандидатура? – ядовито спросил Каретников. – А ты хоть знаешь, хто у неи батько?
– Ну и хто?
– Жандарм… От так!
– О-та-та! – покачал головой Калашник.
– Ну й шо? Ну – жандарм! – возразил Лашкевич, который, все знали, любил читать книжки про всякие любовные истории, восполняя этим недостаток внимания со стороны сельских девчат. – А скилькы бувало, шо панночкы з богатой семьи подаються в революцию? Он Мариетта Лопес, дочка того… латиноамериканського фельдмаршала, спуталась з повстанцем, втекла з ным в ихню сельву…
– Ты, Тимош, брав бы поблыжче примеры! – ворчливо сказал Марко Левадный. – Он у Сашка Лепетченка батько був полицейским урядныком. Ну й шо з того? В кожному сели був чи полицейский, чи жандарм. Свои ж, селяне. Таки ж, як и мы, дядькы.
Помолчали.
Левадный ударил метко. Действительно: «Шо з того?»
Глава тридцать первая
Добровеличковка – село небольшое и нескладное: всего одна улица протянулась вдоль узкой и мелкой речушки. Школа в центре такая же несуразная. Просто длинная мазанка с большими окнами.
Перед входом в школу Нестор, одетый по этому случаю в пиджак, причесанный, в сверкающих хромовых сапогах на высоких каблуках с подковками, остановился, чтобы перевести дух. Было тепло, уже задымилась ранним белым цветом черешня.
Его сопровождали Лашкевич и Юрко. Они сдули с его плеч невидимые глазу пылинки. Пожалуй, впервые друзья и почитатели батьки видели, что он несколько растерян. Конечно, Махно старался не подавать виду. Хмурился, сжимал челюсти.
Вчерашним вечером он пораньше оставил дела. Сидел у окна, всматривался в медлительные летние сумерки, дышал густым воздухом, настоянном на запахах примятой сочной травы, остывающей пыли, лошадиного пота, свежих тополиных листьев и только-только зацветающих садов, могучее дыхание вольной, необъятной степи.
Из всего, что рассказал о Дыбенко Трохим Бойко, Нестора больше всего задело то, что агитпропом у него ведает видная баба, боевой товарищ с револьвером и прочими свидетельствами авторитета. Хороший командир, конечно, должен иметь при себе подругу, лучше всего верную жену. Особенно такой командир, как он, батько, который у всех на виду, хлопцев не чурается. Любят хлопцы, когда при батьке еще и матинка. Особенно если красивая да умная. Им тоже погордиться хочется. «Наш-то, наш… Орел! Какую красуню к седлу приторочил!»
Он знал все эти дела. Знал, да не везло ему. Тина – какой это был боевой товарищ? Игрушка. Кукла. Да, хорошо бы встретить Дыбенко как равного. Ты при бабе, большевистский генерал? Я тоже не вчера с коня соскочил. Вот так…
И вот они стояли в Добровеличковке перед входом в школу.
– Де ее комната, Тимош?
– Он та. Чуете, голосы?
– И шо, сильно грамотна?
– Та не дай бог!
Махно, решившись, вошел в коридор. Прежде чем открыть дверь, отшаркался. На двери была надпись: «Четвертая группа революционной Добровеличковской школы».
Постучав и не дождавшись ответа, вошел. И остался у двери. Школьники – и совсем юные, и средних лет, и пожилые дядьки – повернули к Нестору головы.
На стене класса висели портреты отцов анархизма: Бакунина и Кропоткина.
– Вам что? – не особенно дружелюбно спросила учительница. Она была тонкая, довольно высокая, с лицом простым, но привлекательным. Особенно хороши были ее слегка навыкате темные глаза. Выглядела она лет на двадцать пять.
– Я спрашиваю: вам что? – еще строже спросила учительница. Говорила она по-русски, но с едва заметным акцентом и по-украински напевно.
– Ничего, – слегка растерявшись, ответил Нестор. – Хотел послушать. Я ведь в школу почти шо и не ходил. От и захотелось… Вы Галина Андреевна Кузьменко?
– А вы?
Она, конечно, догадалась, кто перед ней. Но хитрила. Хоть и анархистка, вольная личность, а тоже свою бабью политику должна вести. Каждая женщина, хоть и самая темная, в глубине души сознает, что даже при первой встрече между двумя полами начинается легкая, игривая и кокетливая схватка за первенство, главенство. Будь перед ней хоть батько Махно, хоть ангел, хоть дьявол.
– Я – Нестор Махно.
– Слышала. Знаю… Ну, что ж. Садитесь, слушайте! К сожалению, урок наш уже подходит к концу.
Махно сел за парту рядом с конопушной девчушкой, похожей на Настю – на ту Настю, из далекой его юности.
А учительница вновь обернулась к оживившемуся классу:
– Так вот, после путешествия в Восточную Сибирь Петр Алексеевич составил описание тамошних гор и даже был одним из основоположников теории их происхождения. Богатства недр Восточно-Сибирских гор уже давно занимали ученых России, но выделить им достаточное количество денег на проведение геолого-изыскательских работ царь все никак не мог…
– Это кто ж такой Петр Алексеевич? – шепотом спросил Нестор у конопушной соседки.
– Кропоткин.
– Как видите, Петр Алексеевич был не только знаменитым путешественником, но и выдающимся ученым-геологом и географом. Он внес крупнейший вклад в разработку теории древнего оледенения Евразии. В тысяча восемьсот семидесятом году Петр Алексеевич и его друг ученый Воейков задумали послать большую морскую экспедицию от Новой Земли и до Берингова пролива. И чем все кончилось? Опять же царь не нашел денег…
Она подошла к висящей на стене географической карте, указала на Новую Землю, очертила Северный Ледовитый океан, Берингов пролив. И – так точно, так уверенно. Нестор, хоть и учился в Бутырке у лучших педагогов, но сравнение было в ее пользу. Да и про географические открытия Петра Алексеевича он не очень-то был осведомлен. Не это интересовало его в анархисте.
– Хороша учительница? – опять тихо спросил Нестор у соседки.
– Та шо вы! – восторженно, так же шепотом ответила девчушка.
– И ты все понимаешь?
– Не дуже!
– От и я… тоже!
Галина строго посмотрела на перешептывающихся и продолжила:
– Российские богатеи тоже не пожелали раскошелиться. Что им наука! Если они и дадут сегодня деньги, то уж барыш хотят получить непременно завтра. В семьдесят втором году Петр Алексеевич Кропоткин покинул Россию и уехал в изгнание во Францию и Англию.
Учительница коротко взглянула на увлеченно слушающего Нестора, сказала:
– В следующий раз мы с вами поговорим о другой стороне деятельности Петра Алексеевича Кропоткина, о его теоретических разработках величайшей науки, которая называется анархизм… Все свободны!
Ученики, дети и взрослые, быстро покинули класс. Нестор и учительница остались вдвоем.
– Вам это было интересно?
– Я знал Кропоткина як теоретика анархизма. И ничего не знал о его деятельности як геолога, путешественника… Спасибо, хоть чуть-чуть просветили.
– Вы по делу приехали? Или так, случайно?..
– По делу. Честно. Брехать не умею. Приехал познакомиться с вами на предмет назначения вас начальником агитпропа армии. Про вас много хорошего говорили. Хвалили.
Он старался говорить гладко, грамотно, хотя за последнее время отвык.
– Ну и что же? Подхожу я вам в агитпроп?
– Чего ж не подходите? Выходит, шо в самый раз. А то у большевиков комиссары, политотделы всяки, лекторы. А мы с хлопцами як сироты. Сами всё разъясняем, як умеем. За шо воюем, и прочее.
– А может, так и лучше? Доверия больше!
– Может… Так и вы вроде не из чужих. Гуляйпольского уезда!
Они рассмеялись. Стало как-то легче говорить.
– Знаете шо? – предложил Нестор. – Может, пройдемся трошкы по степи? Тут как-то трудно разговаривать. Будто я ученик.
Прошлись по улице. Повернули от хат на простор. Все село следило за ними. В каждой дырочке в плетеном тыне – чей-то глаз.
В степи снова начинал отвоевывать свое место ковыль. Распаханной земли становилось все меньше. За подсолнечниками, которые еще только высунули из-под земли первые упругие листочки, голубело шелковистое ковыльное море. Волны. Нестору здесь дышалось легко.
– От шо! – решительно сказал батько. – Нема у меня времени кидать в небо красивые слова. Я по-простому. Выходьте за меня замуж, Галина Андреевна!
– А как же агитпроп?
– И для агитпропа вы подходите. Не на печи ж вам сидеть с вашим образованием. А жена – это жена.
– Надолго? – насмешливо спросила учительница.
– А на всю жизнь.
Они остановились. Галина изучающе смотрела на Махно. Ей надо было за несколько минут пройти путь, который иные женщины преодолевают за месяцы, а то и годы. Хотя революционные вожди и учили, что брак не должен отвлекать от более важных дел, все же поспешность Нестора тревожила ее. Она была крестьянской дочерью.
– Так сразу?.. Надо бы немного подумать, – сказала она.
– Это конечно. Это я понимаю. Подумайте. – Он взглянул на свои часы-луковку. – Время есть. Я ще целый час могу подождать.
– А что ж такая спешка?
– Белые подступают. И ще Шкуро. Предстоят тяжелые бои. Хотят нас придушить.
– Надеюсь, вы меня не спрячете в погребе во время боев?
– Не. Мне боевая подруга нужна. Шоб и на коне, и с карабина, и с тачанки…
Глаза учительницы вспыхнули. Именно о такой жизни она иногда мечтала.
– А посоветоваться с близкими я могу? – спросила она.
– Дело сурьезне. Даже надо посоветоваться. Время у вас ще есть. – Он снова взглянул на часы, затем на низко висевшее над степью солнце. – С полчаса, а то и чуть побольше.
Ковыль прошелестел и прибоем лег у их ног. Очень, очень недолгое ухаживание!
Близких у Галины уже давно не было, только закадычная подруга Феня. Их связывала больше чем дружба. С ранних детских лет их считали назваными сестрами.
Феня уже ждала Галину у самой калитки. Видела, как Галина уходила с батькой Махно в степь, как они беседовали, удаляясь к ковыльному морю. Для пустого разговора, Феня знала, батько не приехал бы.
– Ну шо? – спросила она Галину.
– Сватается.
– Ну а ты?
– Времени мало дал на раздумья. Всего полчаса.
Феня расхохоталась. Была она, в отличие от подруги, чернобровая, смуглая, верткая, как егоза: типичная хохлушка-хохотушка. За нее уже раза три сватались, но, подумав, она «выносила гарбуза». Отказывала. Не боялась, что ее жгучая красота поблекнет.
– Може, оно и к лучшему, – сказала Феня, все еще продолжая смеяться. – Сильно думать – только голова заболыть. А толку ниякого. Выходь, Галю! Мужчина он основательный, за ным не пропадешь. И мене з собою возьмешь. А то тут одни хлиборобы. Тилькы й разговору шо про сотки, десятины, семена, опоросы… Так и скажи батьку: согласна за тебе выйты, но при одном условии: берешь до себе в войско мою лучшу подругу Феню Саенко! Може, я хоть там якогось хорошого хлопця пригляжу!
Из Добровеличковки Махно уезжал вместе с Галиной Андреевной. Школа закрывалась на летние каникулы. Феня должна была приехать в Гуляйполе на следующий вечер и поступить в распоряжение штаба для связи и разведработы.
Нестор держал руку Галины в своей.
Свадьбу сыграли через день. Тогда уж, под крики и под чарку водки, они впервые и поцеловались. Галина чуть сутулилась, чтобы быть пониже, и Нестор мог без усилий дотянуться до ее губ. Ночью она как могла старалась быть нежной и ласковой. Понимала: это не любовь, это – союз. Но, во-первых, любовь, как и всякие ухаживания с цветами и подарками – это все буржуазные штучки, пережитки, которые нельзя уносить в своем сознании в царство всеобщей свободы и счастья. А во-вторых, стерпится – слюбится. Это, конечно, из области старой морали, но мудрость дедов сразу не отбросишь.
Нестор тоже старался быть деликатным, внимательным, щедрым на ласки и всякие душевные слова, чем немало удивил и растрогал Галину Андреевну. Суровый, лютый батько сразу стал своим. Но не более того.
Глава тридцать вторая
В степи, неподалеку от зеленой балки, расположилась на отдых еврейская рота. Уставшие, грязные, навьюченные мешками с продовольствием и боеприпасами, вооруженные люди тут же ставили таганы, разводили под ними костры.
Но не успел еще разгореться под таганами огонь, как к роте подъехала тачанка, следом за ней подвода. С тачанки спрыгнул Черныш. Следом махновцы сняли с подводы пулемет.
Черныш подошел к Лейбе и Якобу:
– Вот что, фройнды. Видите вон ту балочку? Спрячьте на входе в нее с пяток добрых хлопцев с гранатами. Опасное место, по нему кадеты или Шкуро могут к вам в тылы проникнуть. А тут вокруг ровная степь, пулеметы закроют все подходы. Дальше – речка… Словом, здесь вы держите все пути к Гуляйполю, как кучер вожжи.
– Это мы понимаем, – сказал Якоб.
– Надеюсь, вы также понимаете, что надо хорошо окопаться? Сделайте окопы для роты, для боевого охранения.
Махновцы сбросили с телеги на землю дюжины две лопат.
– Это оружие номер один, – улыбнулся Черныш. – А в остальном желаю успеха… Там еще патроны и гранаты. Подарок от батьки. А пулемет «Максим» – от всех нас!
Лейба проводил взглядом удаляющиеся тачанку и подводу. Скомандовал:
– Самооборонцы! Отставить таганы! Беритесь за лопаты!
Затем Лейба достал из кармана список, который при встрече дал ему Махно.
– Якоб! Позови мне Исака Гольцмана и Симона Острянского, – тихо сказал он.
И пока Якоб ходил за парнями, командир раздавал лопаты. Очкастый, с торчащими вихрами, молодой человек неловко покрутил в руках лопату.
– Чего ты смотришь на нее, как на врага? – спросил Лейба. – Я знаю, что умные евреи вроде тебя не любят лопат. Копай тем концом, где железо, а не тем, где палка… А ты чего такой мрачный, Гершко? – обратился он к крепышу с пейсами, похожими на кошачьи усы. – Ты ж не могилу будешь копать, а окоп…
Скоро от груды лопат почти ничего не осталось. Лишь два заступа.
Тут перед Лейбой встали двое.
– Исак, Симон! Вы у нас очень смелые парни, – сказал Лейба. – Идите шагов на триста вперед и хорошо там окапывайтесь. Вы будете наши глаза и уши. Будем надеяться, что никто сюда к нам не придет. А если все же, не дай бог, кто-то придет, то это будет сам генерал Шкуро. Не вздумайте сдаться ему в плен. Потому что лучше еврею умереть, чем попасть в руки к этим рауберам Шкуро… Идите…
Двое парней, волоча лопаты, обреченно ушли в степь. Винтовки за их спинами тоже выглядели уныло и совсем не воинственно.
– Этих я знаю, папа, – сказал отцу Якоб. – Эти убегут.
– А тогда зачем тебе пулемет? – спросил Лейба.
К ночи все было готово: и окопы, и пшенный кандер. Якоб задумчиво облизал ложку, спросил:
– Слушай, папа, почему так? Богатые евреи уехали, а мы должны воевать.
Лейба вздохнул:
– Ты хочешь сказать, что это несправедливо, да? Они вернутся и воспользуются плодами того, что сделали мы?
– Ну да. Если мы погибнем, наша святость перейдет к ним и умножит их богатства. Разве не так?
Отец взглянул на небо, как будто ища ответа. Звезды проступали в темных полыньях среди облаков, мигали, загорались и гасли, но не могли дать ответа ни на один из вопросов.
– Ты же был в Литве цадиком, отец, праведником. Ты должен все знать.
Лейба усмехнулся:
– Праведник – всего лишь простой человек, который живет, стараясь не грешить. Тебе надо было бы спрашивать у талмудистов, у людей ученых, у талмидхаханов. А мы амхаарцы – люди земли. Но я скажу тебе, не мудрствуя. Пришел человек по имени Махно и попросил нас помочь. Он никогда не обижал нас и не смеялся над нами, и я вижу, он хочет, чтоб над нами не властвовали и не смотрели на нас как на темных амхаарцев. Если мы не отзовемся на его слова, то чего мы стоим? Мы стоим только той паршивой жизни, которая у нас была, и ни гроша дороже. Вот и все. Может быть, мы и погибнем, но у тебя тоже есть сыновья, они вырастут, и они будут не хуже тех богатых, о которых ты говорил, потому что достойная память об отцах – это такие крылья, без которых человек не может подняться. Так что иди своим путем и не думай, что твоя жизнь важнее, чем эти звезды.
Якоб тоже взглянул на небо. Он не признавал Бога, но он верил в мудрость отца.
Словарь местных слов и оборотов речи
Багато – много
Выбачайтэ – простите, извините
Годувать – кормить
Громада – общество
Десь – где-то
Дитлахы – дети, ребятишки
Добродий – благодетель
Догодовувать – докармливать
Зраднык – предатель
Клаптык – лоскуток
Клунок, торба – тканевая сумка
Колы не колы – иногда
Кутыльгать – хромать, прихрамывать
Маеток – имение
Мантачка – брусок для подтачивания косы
Надия – надежда
Налякать – испугать
Нехай – усть
Обмаль – маловато
Онучи – портянки
Очи – глаза
Паняй – езжай
Позычить – одолжить
Помылывся – ошибся
Свит за очи – куда глаза глядят
Сволок – потолочная перекладина, балка
Сниданок – завтрак
Сокыра – топор
Спидныця – юбка
Спочатку – сначала
Чоботы – сапоги
Чуеш – слышишь
Шукать – искать
Примечания
1
Ipso facto – тем самым (лат.).
(обратно)2
Corpus delicti – состав преступления (лат.).
(обратно)3
Amor fati – любовь к року (лат.).
(обратно)4
Circulus vitiosus – порочный круг (лат.).
(обратно)5
Репарация… По закону (нем.).
(обратно)6
Мошенник (нем.).
(обратно)



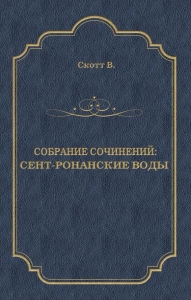

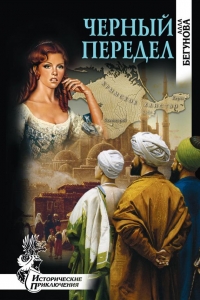
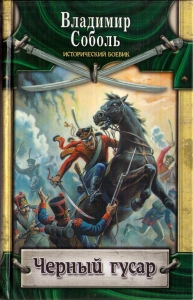
Комментарии к книге «Хмель свободы», Виктор Васильевич Смирнов
Всего 0 комментариев