М. Зуев-Ордынец ХЛОПУШИН ПОИСК
ДОРОГА
Июнь. Безветрие. Жарынь.
Сухой жар бил, как из печи. Рожь налилась до половины, и хрипели, щелкали, вавакали в ней перепела. Налился и лист в лесу, был он зелен и густ, и дышал лес березовой горечью. Соловей запустил было замысловатое коленце и, спохватившись, замолк. Для песни не пришел еще час, надо ночи подождать.
У подножия невысокой горы журчал ручей. Из-за далекого перелеска к ручью вилась изрытая нырками, рытвинами и выбоинами дорога — старинный Верхнеяицкий тракт.
В дорожной пыли купались воробьи. Вдруг шумные драчливые их стайки попритихали и, сорвавшись с дороги, рассыпались по ближним березам.
На тракту показался всадник. Поджарый, орехового цвета жеребец, сдерживаемый туго натянутыми поводьями, беспокойно резвился на сухих стройных ногах.
У горы жеребец рванулся, вытянул шею, его горячие плюшевые ноздри затрепетали. По лесу рассыпалось звонкое ржание. Всадник припал к луке и гикнул. Екая селезенкой, жеребец понесся к ручью.
За плечами у всадника подпрыгивала легонькая фузейка, у пояса болтались натруски, деревянные патроны, куда засыпают отмеренные заряды пороха и свинца.
Одет был всадник в красный казацкий чекмень и высокую казацкую же волчью шапку. На лоб вздернут накомарник, частая сетка из черного конского волоса.
В прохладе березовой рощи, у ручья, ядовито звенели комары, в воздухе танцевала мошкара.
Отогнав от воды разгоряченного коня, человек напился, потом разулся и опустил в ручей ноги. Ледяная вода обожгла икры, он счастливо поежился и засмеялся. Вынув из-за пазухи краюху свежего, еще пахнущего полынью хлеба, он начал есть. Ел осторожно, ломая хлеб небольшими кусками и бережно собирая в ладонь крошки. Недоеденный кусок сунул снова за пазуху. Потом прислонился к березе и тихо, с грустной удалью запел:
Черный ворон воду пил, Воду пил. Он испил, возмутил, Возмутил…В сытую тишину дня ворвался вдруг странный шум. Человек оборвал песню и тревожно прислушался. Шум нарастал откуда-то со стороны тракта, словно там разливалась бурная, порожистая река. Человек взглядом окинул дорогу. Вдали поднималось облако пыли.
«Стадо, что ли, гонят?» — подумал он.
Его жеребец стремительно вытянул свою длинную шею, навострил тонкие уши и заржал, захлебываясь радостью и здоровьем.
Когда порыв ветра сдернул с тракта пыльный полог, перед глазами предстал бесконечный обоз. Голова его приближалась уже к ручью, хвост терялся где-то в дальнем перелеске.
Во всем обозе были только мужчины. У всех за поясами торчали топоры, у многих на плечах упруго, большими серебряными рыбинами колыхались пилы-однорядки с лезвиями, завернутыми в тряпки.
Впереди обоза ехал на сивой кобыле седой капрал в стареньком, еще елизаветинских времен, синем мундире. Между телегами сверкали солдатские штыки. Над обозом вились тучи мух и слепней. Ветер приносил со стороны дороги едкий запах пота.
Передние телеги поравнялись с ручьем. Люди шли, низко опустив головы, всем телом подавшись вперед, словно тащили за собой невидимую, но огромную тяжесть. Пот грязными полосами бороздил их лица. Воспаленно блестели глаза. Потрескавшиеся черные губы жадно ловили воздух.
— Эй, крещеные! — гулко крикнул человек в красном чекмене. — Здесь ручей, испейте воды холодной!..
Люди на миг оторопело остановились, а потом, побросав пилы, толпою ринулись к ручью.
— Стой!.. Куда?.. Стой!.. — неистово закричал капрал и ожесточенно заколотил ногами в бока своей клячи.
Но уже со всего обоза, задыхаясь и хрипя от нетерпения, бежали к ручью люди. Они плашмя падали у воды и пили, пили, казалось, не только ртом, но и всем измученным, пылающим лицом.
Человек отошел от ручья, спустился на тракт. Вдоль обоза, услышав о воде, бежали люди. Он шел им навстречу, зорко и пытливо вглядываясь в пыльные, изможденные лица.
Его остановил тяжелый, тошнотворный запах. Телегу, точно бисером, облепили жирные зеленые мухи. Он поднял лежавшую на телеге кучу тряпья. С раздраженным жужжанием взвились мухи, в ноздри ударил удушливый сладковатый запах разлагающегося мяса.
На телеге лежали два мертвеца. Руки их были скрещены на груди, закрытые глаза впали, веки потемнели, носы заострились. В головах у каждого стояла иконка.
— Погинула православная душа! — печально прошептал человек.
— Чего смотришь? Протухли, — сказал кто-то сзади.
Человек быстро опустил на лицо накомарник и обернулся. Около лошади стоял невысокий мужичонка, осаживая оглоблю косившей упряжки. Одет он был в рваный сермяжный армячишко, подпоясанный лыком. Мужик подошел к телеге, покопался в передке и вытащил красную восковую свечу, перевитую наискось сусальным золотом. Высек огонь, зажег свечу и поставил ее в головах покойников.
— Протухнешь! Второй день везу. А жара-то!.. — пробурчал он сердито.
— Отчего померли? — спросил человек в накомарнике. Голос у него был глухой, он слегка пришепетывал.
— Животами изошли, — ответил мужичонка. — Путь дальний, запасу мало. Кору, глину с мучицей мешаем, палыми лошадьми не брезгуем. Видишь, скоты-то тоже еле ноги волочат. — Он кивнул на своего усыпанного репьями, вислозадого мерина. Усталый конь осел на заднюю ногу — не то задремал, не то собрался подыхать. Мужичонка поправил за поясом топор и еще более сердито добавил:
— Ты не думай, не только эти двое богу душу отдали. Посчитай-ка, сколько их во всем обозе наберется. Немало! Протухли, а хоронить не дозволено. Вот и везем.
Глаза мужичонки блестели сухим чахоточным блеском. Он то и дело трескуче кашлял, судорожно цепляясь пальцами за рубаху на груди.
— Сам-то здоров? — ласково спросил человек в накомарнике и протянул недоеденную краюху. — На-кась, пожуй.
— Здоровьем скудаюсь, это верно, — нехотя ответил мужичонка. — Грудью болею. Иной раз кровью блюю. А видишь, в какую даль поволокли? Из-под Чердыни мы. Слышал, может? Чуешь, какая даль? Верст, считай, тысячу будет. Или больше?
— Тысячу будет. А куда путь держите?
— На Белореченский графа Чернышева завод.
— Зачем?
— Кисель хлебать! — Мужичонка окончательно рассердился. — Знамо, работать… Ты слушай-ко, дело как было. Графу для заводского действия работные люди понадобились, и послал он шпыней[1] разведывать, нет ли в наших краях свободных деревень, к заводам не приписанных. А наши села царскими были. Вот и приписали нас к Белореченскому заводу. После обедни согнал староста мужиков царский приказ слушать. Вышел поручик и объявил: «Больше подати царице платить не будете. За вас граф заплатит. А вы должны свои подати на графском заводе отработать». И должны мы теперь на графском, будь он проклят, заводе сто двадцать ден проработать. А на дорогу сюда и отсюда еще сто ден клади. Сколько выходит? Когда же на себя-то работать? Как без нас бабы с жатьем управятся? А нам до весны домой не возвернуться.
— А зачем шли? — сурово спросил человек в накомарнике. — Кто же после драки кулаками машет? Эх, дядя, елова твоя голова!..
— Мы не шли! Нас силой повели! — обидчиво ответил мужичонка. — Мы тогда поручику прямо сказали: «Мы, хлебопашцы, привыкли около землицы ходить. Нам заводская работа несподручна. На завод не пойдем!» Так их благородие и отъехали ни с чем. А далее вот что было. В самый Еремей-запрягальник[2], когда ленивая соха и та в поле, наехали на село драгуны. Чистое мамаево нашествие! Старосту батогами били, зачем царицыного указа ослушался. Мужиков тоже пороли — на заводе работай-де, а не на пашне. Потом мужиков хватать начали, ребят, кои повзрослее, тоже позабирали, в колодки забили, на подводы побросали. Езжай! Вот и едем! В Катеринбурге только колодки сняли, когда люди мереть начали. А ты говоришь — зачем шли? Не пойди тут!
Мужичонка затяжно закашлялся, навалившись на телегу. Отдышавшись, робко спросил:
— На заводе, чай, не сладко? Не слышал?
— Чего слышать, сам работал, — хмуро ответил человек в накомарнике. — Сам в заводской кабале мучился. Есть-спать некогда. Утром приказчик, как собак, работных плетью пересчитывает. На цепь сажают, в шейные и ножные железа куют, кнутом за малую провинность секут.
— Исусе Христе! — испуганно прошептал мужичонка.
— Не любо на заводе работать, в рудники пошлют. К тачке прикуют! Ровщики-рудокопы света белого не видят, так под землей и живут — хозяину руду добывают.
— Не пойдем ни на завод, ни в рудники! — внезапно, с ярой ненавистью крикнул мужичонка.
Человек в накомарнике не ответил. Он потянул сетку книзу, открыв загорелый, в оспинах лоб и черные с желтизной, шустрые глаза. Долго, пытливо смотрел он на оторопевшего мужика и обнял его за плечи:
— Тебя как кличут-то, провора?
— Семен, а по прозвищу Хват.
Человек в накомарнике улыбнулся глазами: не шло это прозвище к тщедушной, болезненной фигуре мужика.
— Слушай меня, провора, в оба уха. Слушай и другим мужикам передай. Указ есть о том, чтоб приписным мужикам по домам с заводов расходиться и снова на пашню оседать. И заводские мужики тоже от работ ослобоняются, и билет в том получают на вечную вольность.
Семен Хват испуганно отшатнулся.
— Чей указ? А ты сам-то его видал?
— Видел я его, провора. Чей указ? За подписанием амператора Петра Федоровича собственной руки. Указ тот велит крестьянам под заводами не быть, работным людям тоже, а работать только по вольному найму.
— Чего голову морочишь? — враждебно зашептал мужичонка. — Вона какой ты заслух пущаешь. Нам, дуракам, ум мутишь. Какой Петр Федорович? У нас сейчас царица, Катерина. А царь Петр Федорович умер…
— Жив! Жив царь Петр, мужицкий царь, надежа крестьянская! — тихо, но горячо сказал человек в накомарнике и снова обнял Семена за плечи. — Слушай, говорю, и для нас солнце взошло.
У казаков, на Яике, царь Петр спасался. А сейчас казацкая беднота, по его царскому приказанию, против старшинской стороны, против казаков-богатеев и петербургских генералов бунт подняла. К казакам орда пристала: башкирцы, калмыки, киргизы. Работные заводские люди тоже. Недалече отсюда Златоустовский и Саткинский купца Лугинина заводы взбунтовались. Власть по народному выбору поставили. Мир закачался, провора! Тряхнем теперь бар, помещиков да заводчиков-кровососов! Хватит, попановали.
— Мир, говоришь, закачался? — сдавленно прохрипел Хват и положил руку на топорище, затертое до лоска. — В топоры их, иродов! Топор на шест насажу, вот тебе и секира будет!
— О чем разговор ведете? — послышался сзади строгий голос.
Оба испуганно обернулись. Около телеги стоял старый капрал, сопровождавший обоз. Он смотрел сурово и подозрительно.
— О том разговор, — нашелся человек в накомарнике, — зачем мертвяков с собой волокете? Земле предать их надо. Не след над покойниками измываться. Иль живых не хватает?
Капрал важно разгладил седые прокуренные усы.
— Воинского артикула не знаешь, парень. Солдат должен выполнять приказ начальников столь скоро и столь точно, сколь можно. Сдали мне людей по счету, по счету и я их управителю заводскому сдам. А живые они или мертвые, меня не касаемо.
Человек в накомарнике засмеялся. Смех его был спокойный и невеселый.
— А на что твоему управителю тухлое мясо? Собак кормить?
— Попридержи язык, парень! — прикрикнул капрал и вдруг схватил незнакомца за рукав. — А ты кто такой? Знаешь, что за такие слова бывает? Солдат крикну! В колодки забью!
Человек в накомарнике спокойно отстранил капрала.
— Отзынь, служба. Не пугай. Мало ли что с перепугу стрястись может. Медведь покрепче меня, и с тем с испугу-то знаешь, что бывает? А есть я караванный приказчик с Источенского завода. Ездил на Белую барки смотреть. Еще чего знать хочешь, провора?
— Чего на тракту делаешь? Разбойным делом промышляешь? Ась?
— Дурак ты, служба, хоть усы у тебя и сивые. На попас остановился, коня подкормить.
— А чего морду под сеткой скрыл?
— Известно чего. Комар жигает. Да ты чего прилип ко мне как банный лист?
— Ну, то-то! — капрал хлопнул собеседника по плечу. — А ты не серчай, парень. Ноне с народом ухо востро держать надо. Время бунташное.
Человек в накомарнике кинул на капрала сметливый и хитрый взгляд.
— Бунташное, говоришь, время? А разве чего слышал, господин капрал?
Капрал замялся и нестрого погрозил пальцем.
— Не проведешь, парень. С алтыном под полтину подъехать хочешь? Те слухи не для твоих ушей.
— Верно, служба, помолчи! А то и тебя батогами спрыснут, не посмотрят на мундир… А мы тоже не святый боже. Без тебя узнаем, что нам надобно.
Незнакомец круто повернулся и зашагал к ручью. Старый капрал долго смотрел ему вслед.
У ручья было пусто и тихо. По-прежнему шептались березы, ныли комары, да сытно фыркал где-то пасущийся жеребец. Берега ручья были истоптаны, вода бежала мутная, грязная, не было видно золотистого песчаного дна. Человек в накомарнике покачал головой и запел:
Черный ворон воду пил, Воду пил. Он испил, возмутил, Возмутил…Потом вдруг оборвал песню и ласково посвистал. Жеребец всхрапнул, зашумел, продираясь сквозь кусты, и как вкопанный остановился около хозяина. Ловко прыгнув в седло, человек в накомарнике снова спустился на тракт. Медленно, шагом ехал вдоль обоза, кого-то отыскивая взглядом. Тихо, про себя, напевал:
Возмутивши улетел, Улетел. На лету речь говорил, Говорил…Около телеги с мертвецами натянул повод. По-прежнему горела свеча в головах покойников. На веки их кто-то положил медные гроши. Под телегой, укрываясь от солнца, лежал на разостланном армяке Семен Хват. Он не спал. Тоскливыми, страдающими глазами глядел в глубь леса, подступившего к тракту.
— Дядя Семен, провора, слушай-ко, — тихо окликнул его всадник. И когда Семен выглянул из-под телеги, сказал повелительно: — Слова мои запомни и мужикам передай. А еще… сигнала от меня ждите. По государеву кличу поднимемся! Слышишь?
— Слышу, — несмело ответил Хват. — А кто ты, дядя? Скажи. Ведь не приказчик ты с завода?
Человек в накомарнике помолчал, разбирая поводья и поигрывая казацкой нагайкой, потом негромко хохотнул:
— Я, брат, из тех ворот, откуда весь народ. Никакой я не приказчик. А кто, время придет — узнаешь… Эх, будет время, за все посчитаемся!
Он крепко ударил коня нагайкой и быстро поскакал прочь.
КОНТОРА
Приказчик Агапыч глядел то в маленькое слюдяное окошко конторы, то на управителя Карла Карлыча. Но чаще в окошко, так как в управителе его все раздражало: и розовое полное лицо, тщательно выбритое и припудренное, и аккуратно завитые букли парика, и добротность сукна управительского кафтана.
«Ишь, чертов немец, — думал Агапыч, — все еще питерских привычек забыть не может: каждый день морду скоблит да парики завивает. Погоди! Поживешь с нами в тайге годок-другой, обрастешь, что медведь, как и мы».
Но Агапыч не очень-то похож был на косматого медведя. Запашной с косым воротом кафтан его из тонкого синего сукна, штаны плисовые, красная рубаха из московского канауса, а жилетка бархатная. И все же мутно в глазах делается от зависти, когда смотрит приказчик на управительский короткополый кафтан да штаны до колен, чулки и туфли с пряжками. Догадалась бы берг-коллегия дать ему хоть завалящий какой-нибудь чин, и он бы так вырядился, и кружева на шею нацепил бы, и парик бы надел. Уже есть у него паричок из крашеной, правда, кудели, но с буклями и косой, все как полагается. Оденься вот так-то, и сразу видно, что не серый мужик, а господин чиновник. Да нет, не даст берг-коллегия чин, а стало быть и дворянство пермскому мещанину, как ни старайся, как ни усердствуй на работе. Несбыточное мечтание! А хотелось бы, ох, хотелось!
В конторе тихо, скрипит лишь перо в руках Карла Карлыча, да шуршит бумагой под шкафом мышь. Агапычу нудно. Тоска и обида сердце давят. Он крякает, вздыхает, даже рыгает, загораживая рот рукою, а потом, чтобы отогнать тоску, закрывает глаза и читает молитвы.
Но вот управитель громко вздохнул, положил перо и начал посыпать написанное песком. Агапыч открыл один глаз и, продолжая молиться, выжидательно посмотрел на управителя.
— Чего шепчешь, сударь, — насмешливо спросил управитель, — молишься или ругаешься?
Агапыч открыл второй глаз и, оттолкнувшись от стены, на которую опирался, встал прямее.
— Молюсь, батюшка Карл Карлыч. Душою к небу возношусь.
— А ты лучше спустись обратно на землю, господин приказчик, да посмотри, все ли в сей ведомости правильно.
Шемберг протянул приказчику только что написанную бумагу. Агапыч оседлал нос большими, в оловянной оправе, очками и забегал глазами по строкам.
Ведомость
учиненная, коликое число на Вашего Сиятельства Белореченском заводе пушек и снарядов и протчего мелкого литья, за июль и август сего 1773 года отлито:
О том значится под сим.
Пушек осьмифунтовых…12
Пушек трехфунтовых…19
Мортир двенадцатифунтовых…8
Ядер в мортиры…170
Гранат осьмифунтовых…200
Картечи двухфунтовой…670
А протчего мелкого литья за сие время отлито:
Кандалов ручных с цепями…1614
Цепей толстых железных для каторги…1178
Замков к цепям…476
Золота по сие число имеется налицо 3 фунта и 47 золотников. В последнюю седмицу добыто оного 16 золотников с четверкой. По убожеству руд и по неоткрытию других лучших и для добычи выгодных, золотоискательство мною приостановлено, дабы работных людей не отвлекать от огневого доменного действия.
Агапыч крепко крякнул. Он-то знал, что завод на золоте стоит, что добыча золота производится беспрерывно. Не обижает свой карман управитель, а делиться, чертов немец, не хочет! А камешки самоцветные, тумпазы, зумруды, метисты, что у горщиков за гроши покупаются? Тоже рубли не малые, а в ведомости управитель о них и словом не обмолвился. Утроба ненасытная! Агапыч вздохнул и продолжал читать.
А еще, честь имею Вашему Сиятельству донести, что на Белореченском заводе Вашем, а такожды на всех фабриках заводских, доменной, кричной, сверлильной, молотовой и протчих, все, слава богу, благополучно.
Управитель завода бергауптман Карл Шемберг.— Все в точности, батюшка Карл Карлыч! И о литье, и о золоте тоже, все верно, — отдавая обратно управителю бумагу, сказал Агапыч. — Ну и почерк же у тебя, батюшка, отменный! Любому протоколисту впору. И штиль тоже ничего, легкий. А только вот…
— Что — только вот? — запечатывая бумагу в полотняный конверт, спросил управитель. — Говори, сударь.
— Пишите вы их сиятельству графу, что на заводе-де все, слава богу, благополучно. А у нас с мужиками неладно, с приписными к заводу, с теми, что из-под Чердыни в июне пришли. Дорогой померло страсть много. Едва ли не треть. От живота богу душу отдали.
— Граф еще пригонит. В России народу хватит, — небрежно ответил управитель, шаря в карманах табакерку. — Чего же ты хочешь? Я не могу их воскресить.
— Это верно. Будьте здоровы, батюшка Карл Карлыч! (Управитель чихнул от понюшки.) Я про мертвых только к слову, а далее про живых будет. Из вновь пригнанных мужиков отобрал я крепких да смирных для толчей рудных и плавильных печей, а хилых да норовистых отправил на дальние рудники.
— Правильные поступки. Молодец! — похвалил Шемберг, заряжая нос новой понюшкой.
— Спасибо, батюшка Карл Карлыч, на добром слове. Служу тебе с рабским чистосердием. — Агапыч низко поклонился. — А они, мужики, мне заявили: «Мы, пахари, к огневой и рудничной работе не привычны. Не пойдем ни в рудники, ни к печам!». А когда я их к работам понуждать стал, они с завода ушли, в лесу табором своим стали.
— Ерунда! — Управитель скосил глаза на кружевное жабо, обсыпанное табаком. — Не давать им провианту, пока на работу не встанут. Захотят кушать, будут работать. Все?
— Все, батюшка Карл Карлыч. Только вот еще замечаю я, недовольны и наши работные людишки. Давненько замечаю.
— Недовольны? А чем же они недовольны? Пример?
— Уж и не знаю, как и сказать, батюшка. Вот она, ихняя жалоба, — положил Агапыч на стол лист бумаги. — Переданы мы, пишут они, по именному царскому указу из казенного в частное содержание к его сиятельству графу. И велено-де нас содержать на таковом основании, как и в казенных заводах. А поверенный его сиятельства, то есть вы, батюшка, все штатные оклады отменил, а определил сдельную, которая ниже окладной. А разницу ту, жалобщики говорят, управитель в свой карман кладет. Вот дерзость какова, батюшка!
— О, канальи!
— А той-де сдельной платы им едва на самую убогую пищу достает, а в одежде и в обувке завсегда-де претерпевают великую нужду и убожество.
— Фу, грязные недовольные свиньи! Все?
— Еще есть, батюшка.
— Еще? Пример?
— А еще жалуются, что из той задельной платы приказчики наглостью своей половину удерживают, понуждая в книгах расписываться в полной мере. А еще жалуются, когда от воли божьей или от убития на работе занемогут, то платы вы никакой им не производите.
— Лентяи!
— А еще жалуются…
— Довольно! — крикнул управитель. — Будет, как я хочу. Моя воля! А с жалобщиками поступать по закону — в колодки и в подвал. Понятно?
— Чего не понять. Батогами еще спрыснуть не мешает или кнутом. Кнут, он не мучит, а добру учит. А битому псу, батюшка, только покажи кнут — испугается.
— Э, нет, — поморщился управитель, — это варварство. От битья они болеют и не могут работать. Это на крайний случай.
— Ну, ин ладно, — деловито ответил Агапыч, — и колодки хорошо. А только вот…
— Что только вот? Опять — только вот? — управитель снова поморщился. — Почему сразу не говоришь? Почему тянешь?
— Да я, батюшка Карл Карлыч, хотел сказать, как бы это вредных следствий не произвело. Всему заводскому действию приостановка может быть.
— Почему остановка? Пример?
— А как же? Ведь они мне сказали: передай управителю, коли в воскресенье он по-нашему не сделает, с задельной платы нас не снимет, то мы после обеда в понедельник и работать бросим. Знают ведь, что до осеннего паводка должны с пушечным казенным литьем управиться, вот и дерзят.
Управитель, понесший к носу новую понюшку табаку, забыл о ней на полдороге.
— Что это? Бунт? — растерянно спросил он.
Агалыч подумал для виду и охотно согласился:
— Оно, пожалуй, точно так. В бунт вверглись наши людишки. Известно — волчьи души! Сколь ни корми, все в лес глядят.
Управитель встал, решительно хлопнув ладонями по ручкам кресла:
— Я им покажу бунт! Господин приказчик, — управитель крикнул так, что Агапыч вздрогнул и испуганно вытянул руки по швам, — слушайте мой приказ! Наказать каждого по вины состоянию. Пример: этого… как его… Жженого… Кто такой Жженый? Откуда он?
— Вольнонаемный он, однако, «слепой», беспаспортный значит. Человек неизвестный, без письменного вида принят. Дерзок больно — глядит вдоль, а говорит поперек.
— Тем лучше! Жженого немедля под караул взять.
— Ты что, батюшка, угорел? Откуда мы караул возьмем? Всего у нас на заводе десять инвалидов, да и те по очереди на вышках дежурят, от пожару…
— Молчать! — управитель стукнул по столу табакеркой. — Жженого под караул сей секунд! А вы, господин приказчик, старый дурак. Да, старый дурак! Пример: люди бунтуют, а он знай себе водку пить. Где это видано? Вы должны за народом крепкое наблюдение иметь.
— Да ты что, батюшка Карл Карлыч, уж больно-то… Дурак, да дурак. Я по должности своей едва управляюсь. Руду припаси, уголь припаси, провиант тоже. А еще и за народом гляди? А я что, сыскной, что ли?
— Молчать! Должен быть сыскной! Живо, исполнять мое приказание!
Агапыч молча пошел к дверям, путаясь в долгополом кафтане. Но у порога остановился, почесав поясницу, и сказал невинно:
— А я, батюшка Карл Карлыч, так полагаю. Оттого людишки наши мутят, что Пугача близко почуяли. Не иначе.
— Пугача? — управитель пожал плечами. — А что такое Пугач? Птица?
— Вроде птицы, коршуна-стервятника… Я про Пугачева говорю, про Емельку. Слышал, чай? И в наших краях его посланцы объявились. Близ бродят.
— Ш-штиллер! — зашипел управитель и возмущенно всплеснул руками. — О, бог мой! И он молчал! Тянул, тянул всякую чепуху, а о самом главном молчал. О, думкопф!..
— Я, батюшка Карл Карлыч, думал, что ты об этом наслышан. А мое дело известное — руда, уголь да провиант, до остального не касаюсь. Это уж ваше дело, управительское.
— Откуда знаешь? — управитель тряхнул Агапыча за плечо.
Приказчик помялся.
— Да все говорят. Что люди, то и я. Толков много, а толку нет. Может, и врут. У страха не только глаза, уши тоже большие.
— Неправда! — управитель стиснул кулаки. — Ты все знаешь. Говори!
— Человечек у меня верный есть, — нехотя ответил приказчик, — он по приказу моему с лазутчиками пугачевскими водится и все мне передает. Верный он, не выдаст.
Управитель запустил пальцы в завитые букли парика.
— Анекдотен! Шпионы этого бунтовщика ходят около моего завода, а я ничего не знаю. Как работать с такими людьми?
Агапьгч виновато кашлял и с притворным смущением смотрел в пол.
— Но ведь я имел известие. — Управитель снова подошел вплотную к Агапычу. — Я имел известие, что эти канальи привязались к Оренбургу и дальше не пошли.
— Эх, батюшка, — приказчик сокрушенно качнул головой. — Пугач птицей летает! Вчера в степях ездил, а сегодня к нам в Урал, в горы прилетел. Не сам, так птенцы его. Слушь-ка, батюшка, — понизил голос Агапыч, — округ нас, в тайге, собирается таем бессамыга всякая воровская, а на соседнем Источенском заводе воровские пугачевские листы прибили ночью во многих местах, по воротам и стенкам.
— Ну, а что теперь делать? Я совсем не знаю этой вашей уральской страны… Господин Агапыч, вы здешний человек, — управитель перешел вдруг на заискивающий тон, — и я всегда имел большое доверие. Что делать? Пример?..
Агапыч поднял на лоб очки и развел руками.
— Ума не приложу, батюшка, что тебе делать. На заводе нам не отсидеться, потому — рвы песком затянуло, рогаток совсем нет, а частокол еле-еле стоит. Недавно пьяный инвалид через него полез, так чуть шею не сломал, — весь частокол так сразу и обвалился. Ежели вот насчет антиллерии прикинуть. Ее у нас сколько хошь. Пороху вот только кот наплакал. Да и опять же биться кто будет? Инвалиды наши трухлявые? Повернут они треуголки свои задом наперед. Затылки врагу покажут. От башкирцев-сыроядцев оборонились бы, а против пугачевских, пожалуй, не выдюжить. На слом возьмут! Опять же, и самое главное, людишки наши неспокойны, шатость в них замечаю. Вишь, с понедельника работу бросают. Не иначе, тоже Пугачева закваска в них бродит. Чуешь, дела-то какие, батюшка? Со всех сторон напасть! Вот и гляди теперь, как поступать тебе.
— Ну, а ваш совет какой, господин Агапыч? — Управитель чуть-чуть обнял Агапыча за плечи и заглянул ему в глаза. — Как вы думаете, что делать? Пример?..
— Ты, батюшка Карл Карлыч, меня в это дело не путай, — решительно сказал вдруг Агапыч и высвободился из объятий управителя. — Ты управитель, а я нет. Твое дело, и ответ твой будет. А я — сторона!..
Управитель закусил губу и вдруг крикнул озлобленно, наступая на приказчика:
— Перед кем мой ответ будет? Ну? Перед кем? Пример?
— Отвяжись, батюшка, — Агапыч испуганно попятился. — Чего пристал? Против кого согрешишь, тому и ответ дашь. Понятно, чай?
— Понимаю. — Управитель горько усмехнулся. — Я понимаю, что господин главный приказчик есть изменник. Он уже перешел на сторону Пугачева. Хорошо, очень хорошо! Уходите! Я один буду делать дела и один буду идти в ответ. Перед кем угодно: Пугачев, черт, дьявол! Вы уходите сей секунд…
Управитель опустился на стул и закрыл руками лицо.
Но Агапыч не уходил. Он вытащил красный ситцевый платок и долго сморкался, в обе ноздри, долго вытирал нос и также долго, не спеша, прятал платок обратно в карман. И все время не спускал настороженного, выжидающего взгляда с управителя. Затем крадучись, на цыпочках, подошел к нему.
— А ты послушай, батюшка, чего я тебе скажу. Поклянись спасителем, что ты никому, никогда, на дыбе даже, не признаешься, что я тебе совет давал. А тогда уж и допытывайся у меня, чего хошь. Слышишь, ай нет?
Управитель излишне торопливо, выдавая скрытую радость, поднял руку. Пухлые и короткие, точно обрубленные, пальцы его заметно дрожали:
— Клянусь, никому и никогда!
— Ну, ин ладно! — Агапыч потер руки, как бы умывая их. И вдруг заторопился, стал деловитым и серьезным.
— Перво-наперво, батюшка, за своих людишек возьмись. Как говорится — искру туши до пожару, беду отводи до удару. Как они, в понедельник-то, зашебаршат, тебе наперекор пойдут, ты их и осади!
— Что я буду делать против бунта? — Управитель уныло покачал головой. — Вот если сообщить господину капитан-исправнику…
— Ни-ни! — Агапыч замахал руками. — К ярыгам теперь поздно соваться. Ничем они тебе не помогут. Ты выше меть! Немедля шли срочный пакет в Верхнеяицкую крепость и проси тамошнего коменданта, чтоб на завод команду выслал и канониров к нашим пушкам. Бунт-де у нас начинается, и для спокойствия края надо-де бунтовщикам острастку дать. Ну, подарочек ему сунь. Много-то он тебе не пошлет, сам, небось, трухнул порядком, а усмирительную команду какую ни на есть вышлет. Вот тогда ты с нашими смердами и рассчитывайся. Да построже, по-русскому! Кого батогами, кого в колодки, а у кого язык длинный, на дальние шахты сошли, на Лысую гору. Небось, пойдут на отвал! Немазана телега скрипит, небитый мужик рычит. Жалобы, вишь, пишут! Ну, а коль рука согрешит, голова в ответе! Пашку Жженого не забудь. Он самый зловред и есть. Такого в петлю не жалко, да и на сук. Все ли понял?
— Все, все. Дальше?
— Еще и дальше? Команду ты на заводе задержи, а для того командира всячески улещивай да задаривай. А с командой кто нам страшен? Сам Пугач около Оренбурга завяз, а от шаек его с командой отобьемся. Ништо! Ну, пиши в крепость, поторапливайся. А я пойду гонца налаживать.
У порога Агапыч опять остановился и через плечо поглядел пытливо на управителя. Шемберг нервно и бестолково перекладывал по столу бумаги.
ТАЙГА
Хороши у нас на Урале первые осенние дни. Ушла жара, нет туч, дождей, стихают ветры, и стоит тихая бодрящая теплынь. Комарье и гнус пропадают, а появляется летица, или по-другому тенетник, летучая радужная паутинка. Если тенетника богато, осень сухая будет. Но бывает в эти дни перелом, когда почувствуешь, что дело идет к осени. И солнце светит ярко, и тепло, но вдруг прилетит знобкий свежий порыв ветерка и пропали сразу запахи трав, деревьев, земли, пахнет лишь ветром, а воздух чист, как родниковая вода, и дали ясны.
Там, где Баштым-гора отвесной стеной оборвалась к Верхнеяицкому тракту, из густой чащи мелкого березняка вышел к дороге человек, для таежных бродяжеств одетый слишком щеголевато: поверх суконной бекеши алый кушак в шесть обхватов с кистями до колен, обутый в вогульские унты, расшитые бисером, а на голове богатая башкирская шапка с бархатным зеленым верхом, с опушкой из соболя. Через плечо у него висели деревянная лядунка для пороха и легкое персидское ружье. Если бы не богатый наряд, его можно было бы принять за промысловика-охотника.
Сбросив с плеч ружье, человек вытер рукавом пот со лба и пристально стал всматриваться вдоль тракта.
Потом он вдруг несколько раз оглянулся и быстро зашагал к лежавшему впереди оврагу.
Около оврага, поросшего орешником, стоял верстовой столб — сосновый кол, в нижнем отрезе не меньше шести вершков, а высотою сажени в полторы. Верхушка столба была тщательно обтесана, кончаясь длинным и острым пиком. Сделано это было, по-видимому, недавно — дерево еще не успело почернеть. На острие пика была насажена человеческая голова, отрубленная под самым подбородком. По лицу, вздувшемуся и почерневшему, нельзя было понять — старика ли это голова или молодого. Один глаз был выдран птицами, а другой — мутный и неподвижный, с закатившимся зрачком, смотрел в небо. Ветер перебирал волосы льняного цвета, остриженные под скобку, топорщил их, откидывая со лба и опять укладывая прядь к пряди.
Ниже головы на аршин, на столб было насажено простое тележное колесо. На колесе лежал обезглавленный труп.
Охотник снял шапку и, шепча молитвы, стал быстро креститься. Потом вдруг вздрогнул, боязливо оглянулся, надел шапку и бросился в кусты.
На тракту послышался конский топот. Со стороны Белореченского завода ехал верховой. Вслед за ним, на ременном чумбуре, бежала запасная лошадь.
У столба обе лошади испуганно шарахнулись в сторону, чуть не выбили из седла всадника и пустились вскачь.
— В Верхнеяицкую фортецию поскакал всадник-то, — раздался вдруг рядом пришепетывающий голос.
Охотник испуганно оглянулся. Почти над его головой, на каменистом взгорье, стоял, опираясь на фузею, человек в красном казацком чекмене. Лицо его было скрыто под волосяным накомарником.
— Хлопуша!.. — Охотник облегченно вздохнул. — Неужто в крепость? Откуда знаешь?..
— Верно тебе говорю. Команду на завод вызывать, не иначе! А знаю потому, что с вашего завода бреду. При мне гонца в фортецию налаживали.
— На заводе был? Зачем? — Охотник недобро посмотрел на Хлопушу.
— Голова надоела? По плахе заскучал? Или тоже на кол захотел? Как этот? — Охотник кивнул на верстовой столб с трупом колесованного. — Знаешь, кто это? Тоже лазутчик царев, как и ты. На Источенский завод с государевыми письмами к работным и мастеровым людям был послан. А заводской управитель его заарканил да, недолго думая, топором по шее… А ты сам под топор лезешь.
— Ладно, провора, не пугай! — Хлопуша весело тряхнул головою. — Мы и не такое видывали. Князь-генерал Вяземский, кровопийца питерский, еще того лучше делал. Непокорным работным людишкам топором бока обтесывал, а после того кол в рот вколачивал… Ну, ин ладно, хватит разговору. Время-то уж не раннее. Я вашим ребятам, Пашке Жженому да мужичку Сеньке Хвату, встречу назначил у Карпухинской зимовки. Для того и на завод ходил. Пойдем-ка, провора, пора.
Но охотник не тронулся с места.
— Годи, Хлопуша! И чего ты с Жженым связался? И еще это мякинное брюхо — Сеньку к нашему делу пристегнул? Подведут они нас под топор, ненадежные. Говорю тебе — со мной одним знайся. Петька Толоконников не выдаст!
— Ладно, — хмуро ответил Хлопуша. — Толкуй, кто откуль. Шагай знай!
Толоконников молча, обиженно вскинул на плечо ружье и полез в гору, вслед за Хлопушей. Тотчас от дороги началось сечище, вырубка, где роняли лес на уголь для домны. Здесь Хлопуша остановился и посмотрел вниз. На берегу заводского пруда раскинулся Белореченский поселок, его избы, потемневшие, исхлестанные дождями, корявые, подслеповатые, вбитые в землю. На дальнем берегу пруда поднимался к небу ленивый голубой дымок — рыбаки варили уху. Все мирно, тихо, ничто не предсказывало близкую небывалую грозу.
А левее пруда, в ближней горной пади, был виден рудный прииск. Всюду безобразные свалки пустой породы, все вокруг изрыто ямами, закопушками, шурфами. Бегали тачки-колымажки, скрипели, отчаянно визжали их колеса.
— Собаками зовут колымажки эти, — сказал Петька. — Эк визжат!
— И жизнь собачья, — угрюмо откликнулся Хлопуша. — И люди по-собачьи визжат да скулят. Одначе, пойдем дале!
За сечищем начиналась глухая тайга. Лиственницы, тополя, березы стояли золотые, черемуха, клен, шиповник расписали тайгу алыми, черно-багровыми, оранжевыми красками, и только ветвистые кедры и стройные сосны стояли такие же строго зеленые, как и летом. В недра тайги уходила извилистая тропа, заросшая травой по пояс, а где и до плеч, мокрой от непросохшей росы. Красный чекмень Хлопуши и бекеша Толоконникова, намокнув, потемнели.
Петьке Толоконникову бросилось в глаза, с какой ловкостью Хлопуша отводил ветки, нависшие над тропой, с какой легкостью и уверенной твердостью ставил он свои ноги, обутые в коты из сыромятин, на корневища и обломки скал.
«Э, да ты лазун!» — подумал Петька и спросил:
— А что, Хлопуша, вижу я, не впервой ты в наших краях? Ловко ходишь!
Хлопуша, не останавливаясь, кинул через плечо:
— Сметливый ты, провора. Верно! Три раза я через ваш Камень лазил. Стежка знакомая! А через Урал-батюшку баско ходить. В каждой деревне или на заводе, на полке у кутного окна, хлеба краюху и кринку молока оставляют. Жалеют нашего брата, беглого. Я, провора, всю Расею наскрозь прошел. И тайными горными тропами ходил, и степную сакму топтал, и бурлацким бечевником с лямкой шагал. На барщине у помещика спину гнул, в солдатчине капральскую палку испытал, на горных заводах хребет ломал и соль рубил в Илецкой защите. Ох, солона та каторжная соль!
— Ты и с каторги бегал?
— Три раза!
— Гляди ты! — не сдержал восхищения Петька. — Неужто три раза? Ну и голова!
— А Ренбургскую крепость считаешь?
— Тоже убежал?
— Нет, сами выпустили. Не шуткую, правду говорю — сами выпустили. Как батюшка наш, пресветлый царь, под Ренбург подступил, я в тюрьме сидел на цепи, что пес. Губернатор тамошний, немец длинноногий[3], сам меня освободил и к царю послал, чтоб убил я его. А я пришел к царю, во всем ему признался. И спрашивает меня его величество: «Хочешь на волю идти или мне служить останешься?» — «Желаю, — говорю, — вашему пресветлому величеству служить». — «А деньги, — спрашивает, — у тебя есть?» — «Четыре алтына!» — говорю. — «Выдать, — приказал он, — семь рублев и кафтан новый, красный».
Хлопуша тряхнул полой кафтана:
— Вот этот самый!.. А через неделю опять к себе призвал и наказал в Урал ехать, указ его объявить, пушки лить, также призывать охочих работных людей в его армию. Тут он меня полковником пожаловал.
— Выходит, значит, околпачил ты немца, — засмеялся Толоконников. — Ну, а к нам ты откуда пришел?
— По реке Сакмаре ходил. На Бугульминской и Стерлитамацкой пристанях был. А оттуда на Камень перекинулся. Авзян-Петровский, Катавский, Симский да Юрезанский заводы поднимал. А теперь вот к вам забрел.
— Все по государеву делу.
— По его! Везде мужиков и заводчину поднимаю, чтобы дворян, помещиков и заводчиков смертным боем бить. То поиск мой, провора! Хожу, ищу, высматриваю, чем нашему батюшке услужить можно. Стой, никак пришли?
Невдалеке зачернела чемья, шалаш из корья, луба и елового лапника: не то стан охотника-соболятника, не то временное жилье горщика-искателя подземных кладов. Хлопуша знакомо раскрыл низенькую дверцу, скрылся в чемье и вынес оттуда берестяный туес с квасом, большую точеную из липы чашку и новенькую кленовую ложку. «Вот ты где скрываешься!» — догадался Петька.
— Давай-ка вот сюда, под дубок заляжем. Место караулистое, округ видно будет, — предложил Хлопуша.
Улеглись удобно между корнями большого дуба, Хлопуша поднял накомарник и налил чашку квасу. С каменным треском сокрушал на колене огромные ржаные сухари. Звонко хрустел ими на зубах. Запивал щедро квасом. Ядреный квас бросался в нос, бодрил. Хлопуша повеселел, покрикивал на Петьку:
— Чего лениво жуешь, гостек? Пряника захотел?..
Петька отбросил решительно в кусты недоеденный сухарь и подполз ближе к Хлопуше.
— Слышь, Хлопуша, давно я у тебя что-то спросить хочу. Да боюсь…
— А ты не робей, провора. — Хлопуша засмеялся. — Я ведь ничего, не сердит, если не пьян.
Поглаживая смущенно ствол ружья и смотря в сторону, в кусты, Петька заговорил:
— Сказывал ты, что с царем довелось тебе самолично видаться. Занятно мне очень, каков он из себя обличьем?
— Обличье у его величества самое приятное. Росту среднего, лицом продолговат, смуглый, глаза карие, волосы темно-русые, подстрижен по-казачьи, борода черная с сединой, плечист, но в животе тонок. Ничего, ладный мужик! А зачем тебе царское обличье знать понадобилось?
— Так!.. — неопределенно ответил Петька и, помолчав, сказал насмешливо: — Лицом продолговат, глаза карие, борода черная. Ишь ты! А в хоромах управительских на портрете, красками написанном, его царская персона совсем по-иному изображена: лицо округлое, бритое, глаза голубые, а плечики узенькие. Как же так, а?
Хлопуша перестал жевать и спросил невнятно, с набитым ртом:
— Это ты к чему разговор клонишь?
— Ответь ты мне для ради бога, мучаюсь очень, правда ли тот, от кого послан ты, есть истинный государь Петр Федорович? Иль названец он только, донской казак Пугачев? — выпалил горячей скороговоркой Толоконников.
На скулах Хлопуши, под тугой кожей, задергались живчики.
— Много будешь знать — мало будешь спать! — глухо, с угрозой, сказал Хлопуша. — Гляди, голову не сломи!
И уже спокойно спросил:
— Почему мнение такое имеешь, дурень?
— Да как же, — заторопился, будто покатился неудержимо под гору Петька, — ведь и до него были названцы: Кремнев да Чернышев, беглые солдаты, да армянин Асланбеков, да беглый пахотный Богомолов. Этот пятый по счету, что Петром Федоровичем себя называет. Уж и веры более нету…
— Откуда ты знаешь про тех четырех? — спросил подозрительно Хлопуша. — И про Пугачева отколь слышал?
— Как не слышать? Хоть и на краю света живем, — Петька обиженно вскинул голову, — а все же проходят мимо бродяжки, беглые, от помещиков утеклецы, рассказывают…
— Про тех четырех говорили правду. А про Пугачева не слышал, — с наивной хитростью сказал Хлопуша. И, почувствовав, что Петька ему не верит, крепко хлопнул его по плечу:
— Дотошен ты не в меру, провора! Все тебе знать надо, как да что. Аль тебе платят, чтоб ты все вызнавал? Уж не ушник ли ты управительский? А?.. Ну, ин ладно. Не обижайся. Я ведь шутной.
Петька молчал, низко опустив голову.
Черный ворон воду пил, Воду пил…Запел вдруг тихо, надтреснутым голосом Хлопуша.
Он испил, возмутил, Возмутил…Хлопуша перевел дыхание, а в это время где-то близко звонкий и сильный тенор подхватил:
Возмутивши улетел, Улетел…— Кто? — шепотом спросил Хлопуша, подавшись вперед, готовый бежать. Затравленный зверь заметался в его глазах.
— Свои! — успокоил Петька. — С завода, Жженый твой.
Хлопуша поспешно натянул на лицо накомарник.
А песня приближалась, но теперь она стала другой, разудалой, бесшабашной:
Гуляки мы таежные, Соколики острожные, На нож неосторожные… Да-эх, неосторожные!..МАНИФЕСТ
Из кустов на поляну, прямо к дубу, вышли двое: молодой парень, беловолосый, широкоплечий, кряжистый, но с синими девичьими глазами и чахоточный чердынский мужик Семен Хват.
— Мир беседе! — крикнул беловолосый, и по его звонкому тенору можно было догадаться, что он-то и пел в тайге.
— Милости просим на стан, коли добрый человек! — ответил Хлопуша. А парень прищуренными, насмешливыми глазами разглядывал Хлопушу.
— Ты чего же, дядек, накомарник не скидаешь? — засмеялся беловолосый. — Чудак человек! Ведь, чай, конец лету!
— Тебя не спросил, — обиделся вдруг Хлопуша. И прикрикнул грубо: — Язык чесать пришел? О деле говорить надобно.
— О деле? О каком деле? — спокойно, не переставая улыбаться, спросил беловолосый. — Коли есть дело, говори. А для начала скажи, кто ты таков будешь?
Парень надвинулся вплотную. Хлопуша поднял накомарник на лоб, и они посмотрели друг на друга в упор чужими и даже враждебными глазами. Семен Хват забеспокоился, подошел и поднял руку, словно хотел разнять их сцепившиеся взгляды. Но Хлопуша сам отвел глаза в сторону и засмеялся дружелюбно:
— Глаза у тебя, провора, девичьи, а взгляд горячий, звериный. Видать, не малую силу в сердце носишь… А зовут меня Афонькой Соколовым, по прозвищу Хлопуша. Так и ты меня, провора, зови. Царский полковник я, первого Яицкого полку.
— Ишь ты, — оживился беловолосый, — наслышаны мы про тебя кой от кого. Давно ждем!
— Вот ты кто! — оживился и Хват. — А мы с тобой, помнишь, когда впервой встренулись? Тракт помнишь, и мертвяков на моей подводе? На Иванов день то было.
— Я все помню! — весело ответил Хлопуша. — В Иванов день впервой встренулись, вот на спасов день беседу повели, а на Параскеву-пятницу[4], глядишь, и драться вместе пойдем!
— Ну, сказывай, с чем ты от царя-батюшки к нам послан? Зачем нас звал? — опять спросил беловолосый.
— Или не знаешь? — хитро прищурил глаз Хлопуша.
— Откуда же нам знать? — удивился беловолосый. — Степь от нас далече. Сорока на хвосте принесет, что ли?
Хлопуша круто повернулся и удивленно посмотрел на Толоконникова. Петька, опустив глаза в землю, дробил прикладом ружья кедровую шишку. Беловолосый перехватил недоумевающий взгляд Хлопуши.
— Чего ты на Петьку пялишься — узоры на нем расписаны?
— Чудно мне что-то! — недобро сказал Хлопуша. — Ладно уж, разберусь!
— Об деле-то когда же? — торопил беловолосый. — Начинай!
Хлопуша заговорил быстро, без запинок, видимо, уже заученное:
— Взысканы и вы великой царской милостью… Взял он и вас, заводчину, под свое защищение… Ведомо, поди, вам, сколь много годов ходил он по Расее, высматривал, как народ живет. Везде он побывал, все увидал…
— Везде побывал? — с открытой издевкой спросил Толоконников. — А мы об это время панихиды по ему пели. Чудно!
— Не его же убили-то, — строго сказал Хлопуша, — за его один верный солдат смерть принял. Того и похоронили. Ты не перебивай меня, провора, — с нескрываемой угрозой посмотрел он на Петьку, — я ведь, когда рассержусь, дурной бываю. Не зашибить бы тебя ненароком!.. Ну вот, везде, говорю, побывал его царское пресветлое величество, истинный наш государь и за народ болельщик. И увидел он, какое везде утеснение народу учинено. Ты простую избу возьми. К солнцу слепой стеной, без окон поставишь — темно будет. Окна против ветров прорубишь — избу выстудишь. Дверь навесишь к ветру боком — откроешь и не закроешь. То простая изба! А царство-государство? Его, ох, трудно построить! Потому у нас воеводские и боярские неправды, как студеные ветры дуют, а народы в темноте и убожестве живут. Вольных казаков насильно к регулярству приписывают, чтобы управлять ими на питерский манер, орду степную — киргизов, калмыков и башкирцев — прадедовских земель лишают, ясаком, как петлей, душат, мужиков крепостных баре вместе с борзыми собаками в карты проигрывают, а вас, заводчину, управители с приказчиками на работе морят. Понял он, что баба его, царица Катерина с боярскими стакнулась, против народу идет, ну и объявился!..
Хват восторженно хмыкнул носом. Петька угрюмо молчал. Беловолосый не сводил с Хлопушиного лица настороженного взгляда.
— А к вам я послан с тем, — продолжал Хлопуша, — чтобы пришли вы теперь под его власть и повеление и помогли бы ему вызволить прародительский престол от бояр-лиходеев. Нужда у царя большая в пушках, бомбах и прочем воинском снаряде. Того и должны вы ему промыслить немедля.
— Это как же? — спросил беловолосый.
— Дело простое! Заводских командиров да управителей в петлю и на, ворота, а заводы под царя отобрать.
— Из ярма бы заводского уйти, на землю бы!.. — с тоской откликнулся Семен Хват. — Нарушить бы проклятые заводы, на распыл их пустить!
— Безумно говоришь, — строго остановил мужика Хлопуша. — Заводы нарушать нельзя! Кто тебе пушку против ворогов отольет? А лемех для/твоей сохи-Андреевны? Вот то-то!
— А заводчина в драке смелая, — вмешался в разговор беловолосый. — У нас, заводских мужиков, ни коровенки, ни пашни, ни избенки — ничего нет. Нам не над чем трястись. Оттого мы и смелые в драке.
— Прямо скажу, плохое дело затеваете! — решительно сказал Толоконников. — Не наша каша и ложка не наша. Нахалом и нахрапом ничего не добьешься!
— Молчи, холопья душа! — Хлопуша с хрустом сжал зубы. — Помолчи, говорю! — Но Петька даже не посмотрел в его сторону.
— Холопом меня не укоряй. Мы под богом все холопы. А супротив власти идти бог не велит. Вот подали мы управителю жалобу. И коли по-нашему он не сделает, облегчение нам не даст, к самому графу ходоков пошлем. Граф-от узнает, он управителю задаст!
— Твой граф нас плетьми из дому выгнал! И волим мы из той графской да заводской каторги вырваться! — крикнул с ненавистью Хват и надсадно, отплевываясь кровью, закашлялся.
— Что говоришь ты, Петька? Куда народ вести хочешь? Сам слепой, а в поводыри набиваешься. Ужель не знаешь, дитя малое, что боярам только вера, что наш брат в законе мертв? Заставят работать батогами.
— На закон не клевещи! — угрожающе закричал Толоконников. — Графу не веришь, к самой царице-матушке иди! У нее свою правду отыщешь.
— Правду? Правду у царицы отыщешь? — голос у Хлопуши дрогнул. И он бросился к Толоконникову. — А это ты видал, видал? Вот, гляди!
Он присунулся к Петькиному лицу своим изуродованным лицом, вместо носа, вырванного клещами палача, у него чернела дыра.
— Гляди, говорю! Вот тебе царицына правда. Вот!.. Кнутом били, ноздри рвали. Вот и вся их правда!..
Петька испуганно отпихнул Хлопушу, торопливо закрестился.
— Уйди, уйди, сатана! Не совращай! Не пойдем за тобой на богомерзкое дело. Присяге не изменим! А твой царь — антихрист! Чучело он, а не царь. Чу…
Хлопуша обеими руками сдавил Петьке горло. Навалившись на него всей тяжестью тела, начал пригибать к земле, спрашивая не спеша, спокойно, с холодной злобой:
— Чучело, говоришь? Не царь? Чучело, а?
У Петьки подгибались ноги. Хрипя и цепляясь ослабевшими пальцами за душившие его руки, он медленно оседал на землю.
— Пусти, задавишь! — Беловолосый дернул Хлопушу за рукав. И Хлопуша послушно выпустил Петьку, обессиленно упавшего на желтые дубовые листья, устилавшие землю.
— А ты, кликуша, — строго сказал беловолосый Толоконникову, — лучше помолчи с царицыной правдой. От этакой правды запоешь матушку-репку. Я тоже на своем хребту правду испытал. Теперь и ты, Хлопуша, погляди.
Беловолосый стянул зипун, заворотил рубаху, и все увидели на спине и боках его белесые борозды глубоких рубцов.
— Вижу, тоже меченый! — невесело засмеялся Хлопуша. — Где тебя так?..
— Плетью-шестихвосткой лупцевали. В Каслях дело было. Кыштымские и каслинские работные людишки взбунтовались тогда. «Мы-де были приписаны к заводам на три года и свое уже отработали. Пусть теперь другие слободы помучаются». Приказчиков избили, а управителя в конторе заперли, хотели голодом уморить, если увольнение не даст[5]. А тут драгуны наехали, кого перестреляли, кого перепороли и к работам вновь принудили. Я тогда мальчонкой был, в драгун камнями пулял и на офицера с палкой бросился. За что капитан и ободрал мне кожу шестихвосткой.
— А сейчас Кыштым и Касли опять поднялись, — сказал Хлопуша, — к казакам атамана Грязнова пристали. На Челябу пойдут, самому воеводе Веревкину под хвост горячего угля сунут. И всякие инородцы к батюшке-царю приклонны: мордва, калмыки, киргизы, башкирцы. У башкирцев полковником Салават Юлаев, мой кунак. На врагов свирепый, а для друзей мягкий, как девка. Неужто вы только царю верность свою не окажете?
— А знак у тебя есть какой, что ты и вправду к нам от царя послан? — спросил беловолосый.
— Манихвест царский при мне. Чего еще тебе надо?
— Кажи!
Хлопуша, откинув полы чекменя, полез в карман шаровар, вытащил грязную тряпку, развязал зубами тугие узлы и показал с ладони лист толстой синей бумаги, захватанный и порвавшийся на сгибах:
— Кто грамотный?
Беловолосый сказал:
— Давай! Зиму у пономаря учился. Может, и разберу.
Хлопуша протянул ему бумагу. Беловолосый плюнул в ладони, отер их о штанины и тогда только принял манифест. Вздохнул взволнованно, приготовляясь читать, и вдруг вспомнил, что при чтении такой важной бумаги надо обнажить голову. Сбросил свой собачий колпак на землю. Семен Хват быстро и испуганно последовал его примеру. Хлопуша не спеша обнажил голову. Лишь Толоконников сидел под дубом, смотрел в землю и шапку не снял. Хлопуша шагнул к нему и ударом ладони по уху сбил с него шапку. Толоконников промолчал и крепче стиснул ствол ружья.
Беловолосый поднес бумагу к глазам и посмотрел с досадой на небо, уже потемневшее, с редкими и робкими еще звездами.
— Эх, леший тебя задери! Темно читать-то. Сеня, дай-кось огоньку.
Хват метнулся быстро в кусты и выволок на поляну сухую, желтую елку. Отломил макушку, высек огня, поджег. Пламя, лизнув хвою, загудело, рванулось кверху, словно порываясь улететь. Затем раздумало и, жадно урча, вгрызлось в смолистые сучья.
Подавшись ближе к огню, положив бумагу на левую ладонь и водя по строкам пальцем, беловолосый заспотыкался на каждом слове:
«Манифест самодержавного императора Петра Федоровича Всероссийского и прочая, и прочая. Сей мой именной указ в горные заводы, железодействующие и медеплавильные и всякие — мое именное повеление. Как деды и отцы ваши служили предкам моим, так и вы послужите мне, великому государю, верно и неизменно до капли крови и исполните мое повеление. Исправьте вы мне, великому государю, мортиры, гаубицы и единороги и с картечью и в скором поспешении ко мне представьте. А за то будете жалованы бородою, древним крестом и молитвою…»
— Ну, это нам без надобности. — Хват тряхнул факелом так, что отгоревшие сучки, золотые и хрупкие, посыпались на траву.
— А какая у тебя надобность? — недовольно спросил пугачевский полковник. — Чего ищешь?
— Землю черную, родущую ищу, и волю.
— Мужик все о брюхе, — презрительно бросил Толоконников.
— О шее тоже. Хомут барский холку натер! — огрызнулся Хват. — Ладно, читай до конца.
«…и вечной вольностью, и свободой, — продолжал беловолосый, — землею, травами и морями, и денежным жалованьем. И повеление мое исполняйте со усердием, а за оное приобрести можете к себе мою монаршескую милость…»
— Все? — нетерпеливо спросил Хват. — А о мужиках?
— О мужиках далее следует, — ответил Хлопуша.
«…А дворян в своих поместьях и вотчинах, супротивников нашей власти, и возмутителей империи, и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, как они чинили с вами, крестьянами. А по истреблении злодеев — дворян и горных заводчиков, всякий может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до окончания века продолжаться будет. Великий государь Всероссийский…»
Беловолосый запнулся, смущенно поглядел на Хлопушу.
— А далее что-то непонятное, не разберу никак. Закорючка какая-то.
Хлопуша взял из его рук манифест:
— Где тебе, холопу, монарший подпис разобрать. То военной его коллегии да енералам по плечу. Видишь, царская печать приложена, на коей его лик изображен? Все по закону!
Беловолосый не ответил.
Елка догорала, свистя и постреливая. На лицах людей дрожали красноватые отсветы пламени, вырывая из темноты то нос, то завиток бороды, то глаз, остро поблескивающий. Все молчали. Хлопуша, скрывая тревогу, излишне старательно завертывал манифест в тряпку. Первый заговорил робко Семен Хват.
— Указ этот иным слаще меду, а иным горчее полыни. Как думаешь, Павлуха?
Беловолосый поднял с земли шапку и решительно нахлобучил ее на самые брови.
— А вот как думаю! Кто бы он ни был, а для нас пусть будет царь!
Он глубоко вздохнул и добавил с силой:
— Видимое дело, за ним надо итти. Так я и ребятам скажу! Прежде соберись, а потом дерись!
В той стороне, где сидел под дубом Петька, зашелестели вдруг сухие листья. Беловолосый посмотрел туда, и голос его, вдруг сорвавшись, зазвенел:
— Коли выехали на большую дорогу, так уж катай вовсю! На тройке! По ветру раздувай гнездо гадюк, заводчиков, чиновников, помещиков, дворян! Наотмашь бей, без промашки! Царицу Катьку за косы по улицам потащим! Молоньей ударим в Питербурх! А для царя потрудимся, отобьем для него завод. У нас уже все сговорено. В понедельник, после обеда, все, как один, бунтовать начнем. Старых крыс гарнизонных перевяжем, управителя — на осину, пушки — царю! Ладно ли будет, дядя?
Хлопуша обрадованно взмахнул руками. Тень его запрыгала по поляне:
— Ой, провора, вот это ладно! Как тебя кличут-то?
— Крестили Павлом, а кличут Жженым.
— Эх, Павлуха, погоди! То ли еще будет. Питером тряхнем, из бархата зипуны шить будем! Всю Расею на слом возьмем! За землю и вечные вольности!
— Пускай так и будет! За землю и вечные вольности! — торжественно, как присягу, повторил Жженый. — Давай в том по рукам ударим. По обычаю.
Жженый протянул ему руку ладонью вверх. Хлопуша снял шапку, перекрестился и, размахнувшись, сильно ударил Павла по ладони:
— Тому и быть, провора. Неспроста и неспуста слово молвится и до веку не сломится! Назад пятиться не будем. Лучше плаха сосновая, чем в обрат идти.
— Не пойдем! — крепко ответил Павел. — Ты нам только вожака дай, а наш народ работный в бунтах наторелый. Не впервой!
— Знаем вас, заводчину уральскую, — с уважением сказал Хлопуша, — народ вы дружный и, где нужно, порядок блюдете. Когда первый отряд работных людишек к царю на подмогу пришел, у нас в лагере тревогу пробили. Думали, царицыно войско. Шибко хорошо шли, стройно, как воинская команда. А вожака зачем нам искать? Ты, я вижу, ловкач, тебе и атаманить.
— Ладно, потружусь для народа, — просто ответил Павел, — в понедельник в гости на завод жалуй. А сейчас прощевай. Пошли мы. Давай, Сеня, шагай.
— Куда же вы? — Толоконников насторожился. На завод не пойдешь, чай? Агапыч передал вашу жалобу управителю. Стариков в колодки забили и тебя ищут.
— Не бойся, — ответил Жженый, — к жигарям[6] на курени пойдем, там пока что жить будем…
Жженый и Хват зашагали вниз с горы, но Хлопуша окликнул их.
— Пашка, погоди! Забыл тебе сказать…
Он подошел к Жженому, отвел его в сторону и, понизив голос, спросил:
— Скажи, Павлуха, кто такой будет Петька Толоконников? Он из каких?
— А прах его знает из каких! — недовольно и раздраженно отмахнулся Жженый. — Без лопаты колодец выроет. Усердный! Одначе, смотря для кого его усердие. Работает он на плотине плотником, а все более около управителя крутится. Управитель Карл Карлыч через него у горщиков камешки самоцветные покупает. Дает управитель горщикам за самоцветы гроши, а из тех грошей, гляди, полушки к Петькиным ладоням и прилипнут. Паучок Петька. Маклачит! И век свой маклачить будет!
— Та-ак! — протянул Хлопуша. — И я чуял, что от козла бобер не родится. Ладно, иди, провора.
Когда смолкли их шаги, когда даже настороженное ухо не различало уже потрескивания сучьев и шороха листьев под ногами ушедших, Хлопуша присел, нащупал в траве свою фузею и на брюхе, волком, вполз в кусты, густо разросшиеся вокруг зимовья. Отсюда хорошо видна была вся поляна. Угли сгоревшей елки еще тлели, освещая ровным багровым светом корни дуба и сидящего на них Толоконникова. Хлопуша положил для твердости ствол фузеи на развилку сучка. Голодным волчьим зубом щелкнул взведенный курок. Мушка поползла по щеке Петьки и замерла на его виске.
— Не бойсь, у меня промаха не бывает, — шепотом успокаивал кого-то Хлопуша, — я тебя сразу, без муки…
Напряженно согнутый палец Хлопуши лег на скобу курка. Он долго и тщательно целился. И вдруг откинулся назад, словно неожиданная мысль оттолкнула его голову, прильнувшую к ложу фузейки.
— Нет, Афонька, годи! А может, ошибаюсь я? Может, пустомеля он только, дурак скудоумный, а не ушник управительский. Дознаться надо, а тогда уж…
Без опаски, хрустя сучьями, вышел из кустов.
— Эй, Петра! Свету, что ли, здесь ждать будешь? Пойдем?
Петька поднялся.
— Пойдем!
Опять впереди, прыгая через ручьи, карабкаясь через обломки скал, шел Хлопуша. На ходу незлобно смеялся.
— Вот говорил ты, провора, не пойду за тобой. Ан, видишь, одной тропой идем.
— Не пойду с вами! — Петька упрямо дернул головой. — Моя дорога иная!
Деревья поредели. Впереди зачернел простор тракта.
— Ну, что ж, как знаешь, — глухо откликнулся Хлопуша и остановился. Толоконников тоже остановился, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Хлопуша подошел к нему и положил обе руки на его плечи. Тяжело положил, словно хотел в землю вдавить. Но заговорил спокойно и весело:
— А скажи, провора, где письма государевы, что я тебе давал? Почему Жженый о них ничего не знает?
— В надежном месте захоронены. Никто не найдет! — твердо ответил Толоконников.
— А почему работным людям письма не передал, как уговор был?
— Боюсь! Приказчик за мной шибко следит. Случая жду. Передам, вот тебе крест.
Неожиданно, без всякого предупреждения, Хлопуша, шибко размахнувшись, ударил Толоконникова кулаком по лицу. Петька упал к его ногам, выпустив из рук ружье. Хлопуша наступил на него ногой и выдернул из-за пазухи нож.
— Лежи, пес!
Петька закричал тонко и визгливо. Судорожно перебирая ногами, подполз к Хлопуше и уцепился за полу его чекменя.
— Милый, хороший, не надо. За что же, родной?
Он заплакал тихо, по-детски:
— Правду говорю, одну правду сущую. Убей бог, коли вру!
— Не бог, я убью, — жестко сказал Хлопуша.
И ударом ноги в грудь снова опрокинул его на землю.
— Холуй ты господский! Кушак купецкий откуда! Унты бисером расшил! Щеголь-щеголевич! Откуда все сие?
— Деньги копил. Перед девками охота пофорсить, — ныл Петька у ног Хлопуши.
— А ружье? Ружье откуда? На какие деньги?
— Приказчиково ружье, Агапыча. Ей-же-ей! — Толоконников прижал к груди руки. — Просил ему уток пострелять.
Хлопуша свел в раздумье над переносьем свои тяжелые брови.
— Хитер ты, провора, как нечистый. Как змея под вилами извиваешься. И бес меня дернул с тобой связаться!
Петька молчал, лишь изредка жалобно всхлипывая.
— Ладно уж, поверю на сей раз, в последний. И в последний раз упреждаю — не подумай во вражий стан перекинуться. Везде тебя достану. Попал в нашу стаю, лай не лай, а хвостом виляй!
Хлопуша сунул за пазуху нож и лениво усмехнулся:
— А на то, что я тебя кулаком огрел, не сердись, провора. Прощай покуда. — Нырнул в кусты и пропал.
Петька встал, отряхнул с бекеши пыль. И настороженным ухом поймал далекую песню Хлопуши:
Черный ворон воду пил, Воду пил…Погрозив кулаком в сторону, откуда слышалась песня, Петька прошептал со слезливой злобой:
— Будет тебе ужо, черный ворон! Дай срок, свернут тебе голову!
Потом скуля тоненько, по-собачьи, от злобы и обиды, поднял ружье. Проверил заряд. Огляделся.
Внизу, у подножия туповерхого холма, на котором он стоял, расплескалось белое море тумана. Оно расплывалось неторопливо, заливая кусты, овраги, камни. С Баштым-горы сорвался холодный ветер и, свистя, шарахнулся в туман. Мутные его волны доплеснулись до вершины холма. Остро и крепко запахло опавшими листьями и прелой хвоей. Из-за гор шла запоздалая, может быть последняя, гроза.
Толоконников спустился на тракт. Вблизи забелело что-то трепещущее, похожее на большую птицу. Подошел ближе, осторожно вглядываясь. В этот миг со стороны завода полыхнул яркий свет. Там, видимо, открыли колошник домны, чтобы засыпать руду и уголь. И в зловещем зелено-багровом этом свете Петька увидел колесованного пугачевского лазутчика. Под ударами ветра мертвец махал руками, прямыми, как палки, словно подманивал Петьку, чтобы схватить последней хваткой. Волосы на мертвой голове, приподнятые ветром, стояли дыбом. Петька дико вскрикнул:
— Да что же это, владычица?.. Господи, помоги!.. Чур, чур, чур меня!
И, сорвавшись, побежал, спотыкаясь в колеях тракта. А ветер тоже рванулся испуганно вслед за ним, и, будто злясь на его медлительность, сердито толкал в спину.
Петька бежал вниз, туда, где качались над домнами столбы зеленого дымного огня.
ДОНОС
Крепкая добротная изба с шестью окнами по фасаду. И целый день, и вечерами до полуночи, пока объездчики не прикажут гасить огни, светятся эти окна, а из дверей несутся песни, бубен, сопелка-веселуха. Развеселый дом! Таким ему и положено быть, не даром же над дверью шест прибит, а на нем глиняный горшок с выбитым дном и помело. Это кабак при Белореченском заводе, или по меткому народному словечку — кружало, потому что в нем с раннего утра до поздней ночи кружит горемычный народ.
Внутри кабака длинные столы, скамьи, стойка кабатчика. Дух перехватывает едкий запах сивухи, чеснока и протухшей вяленой рыбы, потных грязных тел и мокрой одежды. Кабатчик, с рыжей бородой веником и благообразной мордой, с прибаутками отпускает пенник и полугар заводчике и вольнонаемным, и приписным, и крепостным тоже. Всем горе залить охота! От собачьей жизни кого не потянет выпить крючок, железную кружку с ручкой крючком. Висит она над ведром с сивухой, сам снимай, сам черпай, а пятак с тебя кабатчик стребует, не проглядит.
Но есть в кружале и чистая, как ее зовут, половина, ход в нее с другой двери, не с той, что в кабак, и называется она уже трактиром. Там в чистеньких и тихих горничках ублажается заводская верхушка, мастера, нарядчики, канцеляристы, а также проезжие — горные чиновники, купцы, окрестные приказчики.
В одной из таких комнаток и сидел под вечер Агапыч, гроза и милость Белореченского завода. От печи несет сухим благодатным жаром. Приказчик любит тепло, а потому, несмотря на сентябрь, кабатчик, знающий причуды Агапыча, начал уже протапливать его любимую горенку.
В горенке тишина. Потрескивает свеча на столе, стрекочет сверчок в углу, и еле слышно шумит за стеной кабак. С улицы изредка доносятся глухие дребезжащие звуки. Каждые полчаса у главных заводских ворот караульщик выбивает часы в чугунную доску, а все остальные сторожевые посты повторяют этот бой. И долго плавает над заводом глухой басовитый чугунный гул.
Сторожа не спят. Они зорко охраняют завод, заброшенный на край света, в дикие Уральские горы, они охраняют покой Агапыча, покой жарко натопленной его любимой трактирной горенки. И пусть разыгравшаяся непогода стреляет в окна дробью дождя и бросается охапками опавших листьев. Пусть где-то близко гремит волнами Белая. Пусть воет жалобно в трубе горный ветер. Не добраться им сюда, в ленивую сонную одурь, к столу, на котором стоит глиняный штоф настоянного на горных травах ерофеича, стоят миски просвечивающих соленых груздей, глянцевитой рыбьей икры, редьки, залитой сметаной, лежат шафранного цвета яйца, испеченные в золе.
Против Агапыча, под лубочной картиной, на которой «мыши кота хоронили», сидел капрал заводской инвалидной команды, сивый старик в синем елизаветинском мундире, с медалью за какой-то поход. Он опрокинул уже не одну чарочку ерофеича и был по-детски ал. Старый вояка был непрочь выпить и еще, да задерживал его Агапыч, сидевший с неопорожненной чаркой.
— Чтоб чисто было в глотке, треба выпить водки! — поднял капрал свою чарку. — Отстаете, господин приказчик.
— Не пьется, не глотается, душа и водки не принимает, — Агапыч сокрушенно вздохнул. — Вот, дьяволы, как жизнь взбулгачили!
Он постучал в стенку. В дверь высунулась рыжая борода кабатчика.
— Пришли-ка ты мне, братец, — сказал Агапыч, — простецкого питейного меда поигристей. Да тараканов-то отцеди!
— Слабеете духом, замечаю, Василь Агапыч, — укоризненно проговорил капрал. — Ну, а я, старый штык, винца выпью.
Блаженно жмурясь, он опрокинул чарку, утерся ладонью и забубнил в прокуренные сиво-желтые усы унылую солдатскую песню:
Горчей тебя, полынушка, Служба царская, Наша солдатская, царя белого. Не днем-то нам, со вечера, солдатушкам Ружья чистити, С полуночи солдатушкам Головы чесать, Головы чесать, букли пудрить…— Солдатушки, солдатушки! А где они, эти солдатушки? — вытирая полотенцем пот с лица, спросил сердито Агапыч. — Пригнать сюда надо войско настоящее, регулярное, и ничего тогда не останется от этого мужицкого царя.
Капрал сочувственно тряхнул головой:
— Кажное ваше слово на месте, Василь Агапыч, кажное ваше слово к делу! Да где войско-то настоящее взять? Все на турка ушло.
И капрал снова тоскливо затянул:
Головы чесать, букли пудрить. На белом свету во поход идти, Во поход идти, во строю стоять…— Ох, господи, дай Расее спокойствие! Война на миру, что пьяный на пиру, разорит, — снова завздыхал Агапыч.
— Откеда же ему, спокойствию, взяться? Народушке спокою не дают, отсюда и волнения всякая. — Капрал вытащил тавлинку, но, забыв зарядить нос, задумался, барабаня пальцами зорю по ее крышке. — Вот пригнали мы летом на завод чердынских. На муку пригнали! Я сам их вел, и покойников тащил. Хоть бы покойникам покой дали… А правду ли бают, Василь Агапыч, — осторожно заговорил капрал, — что на неких горных заводах работные людишки против своих владельцев с уязвительным оружием поднялись? И те заводы самозванцу передали?
— Враки! — Агапыч топнул ногой. — Стар ты стал, капрал. Бабьим сплетням веру даешь. Пушки льют у нас сейчас, оттого, по поверью, и басен много по заводу ходит. А ты, капрал, как услышишь такие разговоры, тащи говоруна к самому немцу, немедля. Он ему наломает репицу-то!
— Слушаюсь, Василь Агапыч! — четко, по-военному согласился капрал. И, разгладив усы, запел снова:
Во строю стоять да ружью держать. Пристояли резвы ноженьки Ко сырой земле, Придержались белы рученьки К огненному ружью…— Будет тебе, капрал, — Агапыч недовольно поморщился, — без тебя тоска сердце щемит, а ты еще воешь, как волк на болоте. Коли петь охота, пой веселую.
— У солдата веселых песен не бывает, — обиделся капрал, — что солдатская песня, что тюремная — одинаковы. И у солдата собачье житье. Попробуй-ка артикулы ружьем да саблей метать с утра до ночи, от одного этого взвоешь!
Оба замолчали. Вой ветра в трубе превратился в многоголосый рев. Сверчок испуганно смолк.
— Непогода-то какая разыгралась. — Агапыч зябко передернул плечами. — Не дай бог сейчас в горах быть, закружит, завертит, в пропасть бросит.
Капрал вдруг насторожился. В сенях послышались шаги, неуверенные, какими ходят в темноте. Шум шагов приблизился, стих, и кто-то зашарил по двери, ища скобу.
— Кому бы это быть? — забеспокоился Агапыч.
Капрал подошел к двери и толчком открыл ее:
— Кто там? Входи!
Сильный порыв влажного, пахнущего дождем ветра ворвался в комнату и затушил свечу. В темноте кто-то шагнул через, порог, хрипло, надсадно дыша.
— Кто это? Не подходи. Топором огрею! — отчаянно крикнул Агапыч.
— Чего труса празднуешь? Или совесть нечиста? Черту душу продал? — спросил кто-то зло и насмешливо.
Капрал трясущимися руками выбил огонь. Затлел трут, загорелась свеча и осветила Петьку Толоконникова. Он был заляпан грязью до ворота. Бекеша его напиталась водой, и на полу образовались мутные лужи. Шапку Петька потерял, намокшие растрепанные волосы спустились на глаза, правая щека от удара Хлопуши вздулась и почернела. Он стоял, прислонясь изнеможенно к притолоке, и тяжело, с хрипом дышал.
— Петруха, чего ты? — метнулся к нему приказчик.
— Годи, дай передохнуть, — с трудом, чужим голосом выдавил Петька. — Насилу добрался. От самой Баштым-горы бегом. А буря крутит, глаза застилает, с тракту сбился, думал — заблужусь. Хотел уж стрелять, знак на завод подавать.
— Да в чем дело-то, Петрушенька? — с тревогой спросил Агапыч.
— Беда, Василь Агапыч! — тяжело, точно камень с горы, упали Петькины слова. И придавленный ими приказчик бессильно опустил руки.
— Какая же беда-то? Не томи ты для ради бога!..
— Конец нам всем приходит. Карачун! — крикнул Петька. — Говорил я тебе, что около завода Хлопуша ходит, полковник самозванцев. Чертов ворон, рваные ноздри! — выругался злобно Толоконников. — Я его все вкруг да около водил, а он возьми да как-то с Павлухой Жженым и снюхайся. Без меня. Ну и спелись. Сегодня манихвест пугачевский читали. Хотел я их рассорить. Куда! Чуть не задушил меня этот каторжник. Пашка ему крепко обещал, по рукам били, что в понедельник, после обеда, завороху начнут. Гарнизонных, говорят, перевяжем, они-де, старые крысы, и так со страху помрут…
Капрал обиженно крякнул. Петька, словно не замечая, продолжал:
— Управителя обещался — в петлю и на ворота, а приказчику — башку долой!
— Так и сказал? — Агапыч затрясся.
— Так и сказал! Чего мне врать? А пушки самозванцу пошлют, в Москву… Тьфу, в Берду. Антиллерия, вишь ты, ему нужна. Оренбург громить. Действуй, Василь Агапыч. Чуешь, на носу беда. Не медли!
— Господи, владычица-богоматерь. — Агапыч завертелся по комнате. — Не знаю, что и делать, и к каким мыслям прилепиться?
— Что делать? А вот что! Для того и бежал, чтобы не упустить их… Сажай инвалидов по коням, пусть гонят что есть духу на Карпухину зимовку. Там Хлопуша станует. Хватай его живого аль мертвого. В нем вся беда! — глаза Толоконникова сухо блеснули злобой. — А за попутьем пусть у жигарей на ближних куренях пошарят. Там Павлуха Жженый да Сенька Хват, из чердынских мужиков, хоронятся. Вот тогда ты у заворохи голову отсечешь.
— Команду, команду скорей из крепости слали бы! — не слушая Петьку, взмолился Агапыч. — И чего они мешкают? Над ними не каплет… А тобой, Петруха, я доволен, то исть вот как доволен. Не забуду!
— Вижу, что доволен, — дерзко ответил Толоконников. — Да что мне с того? А вот спросил бы, не зябнут ли у гуся лапы? Вы здесь в тепле меды распиваете, а я в непогодь по горам лазай да горло под нож разбойный подставляй.
— Счас, счас, Петрушенька, не сердись, — торопливо полез в карман Агапыч, вытащил серебряный рубль, подумал, прибавил еще один и протянул их Петьке. — На-ка вот, держи!
— Это добре! — Петька подкинул на ладони весело звякнувшие рубли. — Только мне этого мало. Ты свое обещание исполняй. Помнишь? Мастером плотинным кто обещал меня сделать?
— Пойдем к управителю, ты ему все расскажешь, там обо всем поговорим, — уклончиво ответил Агапыч. И, повернувшись к капралу, прикрикнул начальнически — А ты, дед, прикажи своей команде коней седлать и немедленно скачите, куда Петька говорил. И чтоб без Хлопуши не возвращаться! Слышишь?..
Когда захлопнулась за Агапычем дверь, начал одеваться и капрал. Накинул заплатанный плащ, напялил на голову порыжевшую треуголку, пристегнул саблю.
— Кажись, в самом деле и до нас докатило. Ну, капрал, опять пороху понюхаешь. Связать, говоришь? Ну, гляди, парень, не ожгись! Как бы мы тебя не связали.
На дворе, шлепая по лужам, снова затянул, но не безрадостную, что пел в трактире, а веселую, походную:
Еще солнце не вставало, Батальон наш во цепу. Тут скомандовал поручик: — Разом-кнись, на два шага!— Старые крысы, говоришь? — обиженно закричал капрал в ночь. — Погодить тебе надо! Хошь и сед капрал, а зубы имеет, скусить патрон сможет!
Водку лили мы манеркой, Мяса ели целый фунт. Не-еприятель удивля-ался Против нашей красоты!…Долго в ту ночь, на удивление караульным, шумели на широком заводском дворе. Перекликались сиплые невыспавшиеся солдатские голоса, покорно всхрапывали туго заподпруженные кони, звякало затаенно оружие. Потом запели на ржавых петлях тяжелые заводские ворота, и топот многих конских копыт замер на тракту.
Долго в ту ночь горел огонь в господском доме, занимаемом немцем-управителем. Утихла гроза, перестал дождь, выкатилась из-за гор луна, а в окнах господского дома все еще не потухал яркий свет многих свечей. И лишь перед рассветом, когда побледнела усталая луна, а на востоке стыдливо закраснелась заря, от господского дома к конюшне кто-то протопал торопливо. А затем, никем не замеченные, прокрались через заднюю калитку на тракт двое людей. Это были Петька и Агапыч. Агапыч говорил встревоженно:
— Помни, сколь важное дело мы на тебя возлагаем. На тебя вся надежда! А лошадей не жалей. Одну посадишь, бросай, другую бери. Главное, гони!
Петька вдруг вздрогнул всем телом.
— Чего ты? — удивился Агапыч.
— Против Баштыма мертвец на кол насажен. Мимо придется ехать. Страшно!
— Глупишь! Мертвого не бойся, живого стерегись.
— Живого? — Толоконников недобро засмеялся. — Живой, я чаю, теперь со скрученными руками за капраловым конем на аркане бежит. Не выпусти, гляди, Агапыч, сего черного ворона. Лучше с ним своим судом, вернее!
— Не бойсь! Мы ему башку так свернем, что он свою спину увидит… А от коменданта не отставай, покуда он команду не вышлет. Видит он сам, чай, какое дело, коли второго гонца шлем. Ну, трогай с богом! Помоги тебе владычица небесная. — Агапыч усердно закрестился.
Толоконников тронул пятками бока коня, но тотчас натянул повод. На тракту, приближаясь, зачавкали многочисленные конские копыта. Слышны стали людские голоса, средь которых выделялся начальнический бас старого капрала.
— Эй, капрал! — не утерпев, крикнул Агапыч. — С добычей иль с пустыми руками?
Всадники, гарнизонные солдаты-инвалиды, надвинулись вплотную. Капрал выдвинулся вперед и бросил к ногам приказчика берестяной туес с остатками кваса, большую точеную из липы чашку, новенькую кленовую ложку и мешок с ржаными сухарями.
— Вот что на Карпухиной зимовке нашли, — сказал капрал. — А ворон улетел!
— Его рухлядь, Хлопушина. Признаю!.. А ты, капрал, — старая тетеря! Где тебе за вороном гоняться. Улетел! Небось, к зимовке-то как орда башкирская подкатили, с криком, с гиком. Вот и спугнули! — закричал отчаянно, трусливо и злобно Толоконников.
И тотчас же из-за солдатских спин ему ответил такой же отчаянный крик:
— Петька!.. Иуда ты!.. Это ты нас, Петька, предал!
Предрассветный тихий ветерок подхватил последние слова, перекинул их через Белую, ударил о горы. И горы ответили звонким эхом:
— Петь-ка, пре-дал!..
Задремавший у главных ворот караульный вскочил и с перепугу, не ко времени, что было силы бахнул в чугунную доску молотом.
«Не сплю-де! Поглядываю!..»
А предатель уже вихрем несся по тракту. Он низко пригнулся к луке, словно боялся, что обличающие слова, как пули, сорвут его с седла. И когда затих бешеный топот его коней, капрал снова сказал робко, сконфуженно:
— А Павлуху Жженого на куренях у жигарей тоже не нашли. Жигари бают, и не заходил он к ним. Леший знает, где он шатается. А вот этого молодца скрутили. Куда его, господин приказчик?
Агапыч поднял глаза. Со связанными за спиной руками, с арканом на шее стоял перед ним чердынец Семен Хват. Семен, после недавнего возбуждения, кашлял затяжно и трескуче.
— Без году неделя на заводе, а уж бунты подымаешь? — сказал с угрозой Агапыч. — До утра в колодки его! А утром скажешь доменному мастеру, чтобы взял его на домну в засыпки. Домна из его лучше батогов дурь выбьет. Да какой мне в нем толк? Эх, Хлопушу и Жженого вы упустили, старые крысы! А этот и без домны того и гляди сдохнет, не жилец, слава богу. Такие нам не страшны.
И, взмахнув безнадежно рукой, приказчик зашагал к заводу. Солдаты тоже тронули коней. Петля аркана захлестнулась вокруг шеи Хвата. Он дернулся судорожно и побежал рысцой за конем, выплевывая на холодную черную грязь горячую алую кровь.
ПЕСНЯ
Карл Карлович Шемберг с вечера воскресенья начал пить портвейн стаканами. Ночь с воскресенья на понедельник не спал. Он ничего не понимал и потому растерялся окончательно. Какой-то пугач появился где-то в диких калмыцких степях, из-за этого завтра на заводе начнется бунт, который грозит остановкой всего заводского действия. Следовательно, граф, владелец завода, будет недоволен и пришлет из Петербурга письмо, полное угроз и оскорблений. Эти русские вельможи не привыкли церемониться со своими подчиненными. Граф не посмотрит, что он, Шемберг, потомок саксонских рыцарей и бергауптман, горный чиновник шестого класса, не только реприманды писать будет, но и не поскупится в письме на крепкие русские ругательные словечки.
Остановятся работы на золотых приисках, а это еще хуже — от этого пострадает его собственный, Шемберга, интерес.
Всякие бунты должны усмиряться оружием, а комендант Верхнеяицкой крепости, невзирая на двух посланных к нему гонцов, не шлет просимый секурс[7].
Страшно жить в этой дикой стране!.. Вот почему искал он утешения и храбрости в вине. И в понедельник утром, осунувшийся и похудевший после бессонной ночи, как был в халате и туфлях на босу ногу, он все еще жадно глотал вино.
В дальних комнатах башенным боем пробили часы. Шемберг сбился со счета. Пришлось вытащить из ночного столика золотой, английской работы, хронометр. Мелко, но торопливо семенит секундная стрелка, а минутная и часовая встали суровым прямым углом.
— Девять! А в одиннадцать ударит к обеду колокол и тогда…
И хотелось швырнуть дорогой хронометр об пол, чтобы остановить неумолимый бег стрелок.
С трудом подавив в себе бессильную злобу, пересел от кровати к угловому окну. Отсюда был виден весь завод, темный и низкий, как тюрьма, с железными решетками на окнах, с толстыми дверями под крепкими замками.
Небольшой приток Белой, речка Безымянна, перегороженная четырьмя плотинами, образовала четыре заводских пруда. Из этих прудов вода по деревянным желобам и трубам бежала на вододействующие колеса заводских фабрик[8], где ковала железо, накачивала воздух в домны, сверлила пушки, дробила руду, пилила лес, молола зерна на провиант работным людишкам.
У трех дальних плотин расположились бревенчатые приземистые, почерневшие от дыма кричная фабрика, вертельная, где пушки на вододействующих станках внутри сверлились, а снаружи оттирались, рудодробильня, кузница, слесарная, лесопильная и мельница. Их окружали угольные и рудные амбары, склады готовой продукции и провиантские магазеи.
Около ближней, четвертой плотины, совсем рядом с господским домом, стояла доменная фабрика, единственное кирпичное здание завода. Две заводские домны — пузатые, несуразные, старинные, еще петровских времен; гордо возвышались над одноэтажными строениями завода. Из труб доменных печей шел густой темный дым.
Шемберг вдруг гневно нахмурился. Его зоркий и опытный глаз заметил, что дым одной из домен был броде бы бледнее, серее и жиже. Всмотрелся внимательнее и вскочил в бешенстве:
— Так и есть! Заснули там, что ли? «Козла» хотят посадить, мерзавцы! Мастера оштрафовать надо, а засыпок после работы выпороть и в подвал, на пустую воду, без хлеба!..
Но тотчас снова опустился в кресло, притихший и растерянный. И впервые почувствовал, что не хозяин он на заводе. И мастер не виноват. Мастер тоже, небось, боится прикрикнуть на осмелевших внезапно работных людишек.
Дрожащей рукой налил вина в стакан, выпил и снова уставился тупо в окно…
За дальней, первой плотиной, на высоком берегу пруда робким, грязным стадом сгрудилось заводское селение. Маленькие курные избенки из тонкого заборника и наспех вырытые землянки нахохлились под крышами из побуревшей соломы, березовой коры, а то и просто дерна. Крошечные, едва руку просунуть, окна были задвинуты наглухо досками или затянуты скобленой брюшиной. Покосившиеся плетни уныло стерегли чахлые огороды с сорным горохом, дряблой репой, луком и хмелем. Только дома мастеров, нарядчиков, канцеляристов стояли высокие и осанистые, весело поблескивая тесовыми крышами и окнами. И склонились над этим горемычным селением в неизбывной тоске невеселые березы да горькие сосны.
Но Шемберг чувствовал, что это робкое, горемычное селение, как заряженная электричеством туча; таит в себе мощную разрушительную грозу. И он вдруг ясно представил себе, как придет эта гроза…
…День будет кипеть обычной суматохой, грохотом, голосами. И в этот обыденный, такой привычный хаос движений и звуков неожиданно ворвутся чужие и страшные крики. Они прилетят из того вон ближнего лесочка, дико нарастая, переплеснутся через заводские валы и частоколы, и на широкий шихтплац, заводской литейный двор, выкатится буйная, обезумевшая толпа, вопя:
«На слом!.. Ура-а!.. Наша берет!..»
Он, конечно, бросится отважно навстречу смертельной опасности и закричит:
«Стой!.. Назад!.. Опомнитесь, друзья!..»
Но его окружат безумные глаза, искривленные ревущие рты, безобразный клубок человеческих тел собьет его на землю, сотни грязных ног начнут топтать его, бить, пинать, сотни безжалостных рук будут таскать его окровавленное тело по острым камням и кускам шлака и рвать на клочья.
Шемберг вскочил, и, зажав руками уши, словно он уже слышал вой и грохот бунта, заметался по комнате. Подбежал к окну и ударом ладони распахнул рамы.
Тяжелыми запахами серы, угля, масла, человеческого пота, палящим дыханием сотен пересохших ртов ворвался в комнату завод. Шемберг испуганно отшатнулся, но тотчас лег на подоконник, жадно всматриваясь и вслушиваясь.
Раскинувшийся под окном, огромный, как площадь, шихтплац был пустынен и тих. Лишь хрипенье домны да прилетавшие с дальних плотин глухие удары кричных молотов будили тишину гор, зажавших завод. На домнах копошился десяток рабочих-засыпок, да в заводские ворота вползали телеги жигарей, привезших с лесных хуторов «уголье» — пищу ненасытным домнам. Шемберг не видел, как из-под вороха углей высунулась чья-то взлохмаченная голова, а на густо вымазанном сажей лице сверкнули синие девичьи глаза. Телеги, мирно поскрипывая осями, скрылись за угольными амбарами.
Шемберг, ничуть не успокоенный этой тишиной и безлюдьем, продолжал тревожно вглядываться и вслушиваться.
И он услышал. С вершины домны, оттуда, где у колошников копошились рабочие-засыпки, прилетела песня. Ее пели хриплые голоса и пересохшие от доменного зноя губы:
Ах!.. Когда б нам учинилась воля, Мы б себе не взяли ни земли, ни поля…Странно было слышать эту песню, падавшую откуда-то с высоты, словно с неба.
Мы пошли бы, братцы, в солдатскую службу, Крепкую бы сделали меж собой дружбу…Песня на миг затихла, а затем обрушилась на землю потоками ярости и гнева:
Всякую неправду стали б выводить И злых господ корень стали б переводить.Шемберг медленно поднялся с подоконника. Вот они, первые раскаты приближающейся грозы. И что же, ждать ее здесь, в тесной комнате, быть застигнутым ею, как зверь в ловушке? Нет, лучше, пока не поздно, идти опасности навстречу, посмотреть ей в глаза, узнать, выпытать, нельзя ли схитрить, обмануть, отвести удар.
— Скорее же, пока не поздно!
Забыв, что на нем только халат да туфли на босых ногах, Шемберг бросился к дверям.
ЗАВОД
Завод был полон огня, дыма, грохота, криков. Тяжко ухали кричные молоты, звенели мелкие проковочные молотки, ломы с грохотом крушили спекшиеся глыбы шлака, а люди голосили:
— Бей!.. Тащи крицу!.. Бей, дурень!.. Шуруй!.. Поворачивайся!..
Но человеческие голоса тонули в звенящих криках терзаемого железа, которое стонало под ударами молотов, визжало под сверлами, гремело, падая на камни, шипело, урчало в утробах домен, клокотало в огневых раскаленных горнах. И даже в те короткие мгновения, когда ковка и битье прекращались, воздух продолжал сотрясаться эхом, отбрасываемым горами.
В одно из таких затиший Шемберг услышал совсем иные звуки — они доносились с вала. Там чинили палисад, частоколы и ладили лафеты к пушкам. Тогда только перешел с торопливой рысцы на шаг, успокоенно вздохнул и подумал; «Хорошо, господа бунтовщики! Мы еще посмотрим кто кого!» И тогда только заметил, что он не одет, что осенний холодный ветер забирается под распахнувшиеся полы халата и, круто свернув к кричной фабрике, вошел внутрь.
Широкий низкий деревянный сарай, подпертый, как колоннами, толстыми бревенчатыми столбами, был тесно заставлен пылающими горнами и кричными молотами. Здесь было темно, угарно и черно от стародавней копоти, нависшей на потолке и стенах. Маленькие слепые окна были заделаны толстыми и частыми тюремными решетками, и только сквозь дырявую крышу смотрелось в дымный, черный сарай голубое чистое небо.
В кричной урчали горны, завывали меха, молоты долбили крицы, и искры, золотыми осами взлетев к потолку, падали на людей. Через пропаленные дыры рубах и штанов видны были на коже людей розовые пятна ожогов. Работные хрипло дышали от напряжения и надсады, пот обильно струился по их худым телам, пропитывая рубахи.
— Эй!.. Берегись! Ожгу! — раздался сзади Шемберга чей-то крик и чьи-то руки бесцеремонно толкнули его в спину.
Он испуганно отскочил в сторону. Трое рабочих с грохотом прокатили мимо него тачку, а на тачке лежала крица, огромная железная болванка, раскаленная докрасна, покрытая ослепительно сверкающими, белыми, как рис, крупинками окалины. Крица обдала Шемберга искрами, ярким светом и жгучим жаром.
Работные клещами и крючьями подняли крицу и положили ее на наковальню.
— Бей, не жалей! — крикнул один из работных, видимо, старший.
Огромный кричный молот, насаженный на длинное бревно, приподнялся угрожающе и рухнул на крицу. Весь кричный сарай дрогнул от этого удара. Мириады искр, брызнувших из-под молота во все стороны огненным туманом, застлали от Шемберга и молот, и наковальню с крицей, и работных. А когда огненный туман рассеялся, молот снова обрушился на крицу, выжимая из металла, точно горячий сок, струи искр.
Где-то рядом за стеной шумело и плескалось вододействующее колесо, поднимаемый им молот долбил крицу. Под его ударами ноздреватая губчатая масса, освобождаясь от шлака, превращалась в плотный и звонкий железный брус.
— Стой, будя! — снова крикнул старший.
Молот вознесся кверху и замер под закопченным потолком.
— Почему остановка? Пример? — крикнул раздраженно Шемберг. — Работать надо!
— Перемежка нужна, — хмуро ответил старший. — Молот раскалился, испортиться может. Остыть ему надо.
И, посмотрев искоса, по-волчьи, на управителя, добавил:
— Молоту остыть надо, а нашему брату остыть не дают.
Старший был точно вылит из железа, до того прокалилось его тело от постоянного соседства с огнем. Он был в одной рубахе нараспашку, и по его черной от копоти груди струился пот. Волосы у него были бесцветные, спаленные, глаза подслеповатые и потухшие от жара, но мускулы богатырские. Он резко выделялся среди остальных рабочих, худых, как скелеты, высушенных, с измученными лицами и шаткими, неверными движениями. Шембергу особенно бросились в глаза могучие руки старшего, точно обгорелые и обугленные, с растрескавшейся кожей, со следами бесчисленных ожогов.
— Чумак, спроси у барина, скоро ли мы из заводской каторги вырвемся? — крикнул кто-то старшему.
Чумак закатал повыше рукава рубахи и, лукаво прищурив глаз, усмехнулся:
— Наше в нашем кулаке! Мы свое сами возьмем. Зачем нам об этом барина спрашивать. А такой вольной жизни, чтобы над нами ни пана, ни приказа не было, мы добьемся. Это верно!
Работные тесно обступили управителя. Воспаленные их глаза сухо горели злобой. Шемберг молча повернулся и пошел к дверям. Тогда за спиной его раздался грохот. Ему показалось, что крыша сарая обрушилась на его голову. Он остановился побледнев, прижав руки к сердцу. А когда оглянулся, увидел, что по кричной плывет огненный туман искр. К потолку со скрипом поднимался молот, готовясь к новому удару…
…Выйдя из кричной, Шемберг направился было домой, но раздумал и повернул к домнам. Они встретили его едким, кусающим за горло запахом серы. Столетние старушки тяжело хрипели, глотая воздух и привычно пережевывая сотни пудов руды и угля. И переплавленная руда, превратившись в чугунное тесто, глухо урчала в их каменных желудках.
У подножия домен были вкопаны в землю огромные дубовые чаны, наполненные формовочной землей. В эти чаны ставились пушечные формы. В обе стороны от чанов уходили узкие канавки, тоже из формовочной земли, с ямками, вдавленными в землю на равном расстоянии друг от друга.
Сюда хлынет расплавленный чугун и, остыв, превратится сразу в несколько пушек и двести ядер к ним.
Но хлынет ли?
С тыльной стороны домен, тоже у их подножий, были прилажены громадные, в три человеческих роста, кожаные меха — фурмы. Эти гигантские гармошки сжимались и раздувались без человеческой помощи. Они приводились в движение деревянными рычагами, связанными с вододействующими, а попросту говоря, обычными мельничными колесами. От тяжести падающей через плотину воды вращались колеса, двигались вперед и назад рычаги, раздувались меха и через два железных сопла вдували воздух в каменные легкие домны.
Но стоит взбунтовавшимся работным разъединить рычаги и колеса, как меха остановятся и начнется ужасное остывание домны со всей массой непереваренной руды, угля и флюсов. В печи сядет «козел», как говорят на Урале, ляжет в горне домны спекшаяся из руды глыбища в сотни пудов. И придется много недель сотнями рук пробивать толстый каменный кожух домны и ломать, раскалывать, выбрасывать по частям спекшегося «козла».
А может быть, и хуже. Взбешенные работные разнесут чан с формовочной землей и выпустят расплавленный чугун прямо на землю. Но об этом страшно было и подумать! Тогда сгорит весь завод!
К вершинам домен вел крутой земляной накат, устланный бревнами. Тощий конь, надрываясь, тащил по накату телегу, груженную углем. Шемберг узнал одну из телег, которые он видел час назад из окна, въезжающими в заводские ворота. Конь, выкатив от усилия дрожащие белки глаз, судорожно перебирал ногами по бревнам наката. Возчик и двое доменных работных помогали животине, но телега не двигалась с места. Тогда подбежал к ним до сих пор стоявший в стороне широкоплечий и беловолосый парень с лицом так измазанным сажей, что на нем видны были только глаза, горевшие холодным синим пламенем. Он уперся в телегу сзади плечом, и она медленно вползла к вершине домны.
Здесь работные-засыпки, обутые в лапти с деревянной подошвой, пересыпали уголь в ручные тачки и подкатили их к железной заслонке в крыше домны.
— Отчиняй колошник! — крикнул доменный мастер.
Один из рабочих уцепился длинной кочергой за кольцо заслонки и со страшным напряжением сдвинул ее. Из колошника, как из пушки при выстреле, вылетели клубы зеленого дыма и длинные языки пламени. И все работные, словно по команде, закашляли.
На колошник страшно было смотреть. Вырывавшиеся из него языки пламени свивались в огненный столб, вершина которого упиралась, казалось, в облака. Но работные один за другим подкатывали к колошнику тачки, опрокидывали в него уголь и отбегали поспешно назад.
Последний из работных, низкорослый, хилый, со впалой чахоточной грудью мужичок, подкатив тачку к колошнику, остановился и зашатался. В лицо его ударил клуб дыма. Он закрыл лицо руками и начал медленно валиться вперед, в колошник. Работные испуганно вскрикнули и бросились на помощь товарищу. Но их опередил все тот же беловолосый и синеглазый парень. Он схватил чахоточного работного за руку и так дернул назад, что оба они упали.
— Засыпай колошу! Поворачивайся! — заревел мастер.
Беловолосый вскочил и, легко подняв тяжелую тачку, опрокинул ее в колошник. Заслонку снова задвинули. Работные, отхаркиваясь и отплевываясь, отошли к новому возу с рудой, поднявшемуся к вершине домны.
Чахоточный не тронулся с места. Он сидел на своей тачке и, завернув подол длинной рубахи, вытирал катившиеся из глаз от едкого дыма слезы. Беловолосый подошел и сел с ним рядом, прямо на горячую крышу домны.
— Тяжело, дядя? — спросил беловолосый.
— Утроба ненасытная, чтоб ее разорвало! — хрипло, с ненавистью сказал чахоточный.
Беловолосый понял, чью утробу ругал собеседник.
— Утроба у домнушки ненажорная, верно говоришь, дядя. По десятку телег руды да по два десятка телег угля зараз жрет. А как распорем мы ей брюхо, так выпустит она нам столь чугуна, что сразу отольем три пушки да еще и ядра к ним.
— А на кой ляд мне те пушки и ядра? — чахоточный скривился. — Пушки не сухари, в рот не положишь.
Беловолосый подался ближе к чахоточному и сказал тихо:
— Забыл, Сеня, что тебе Хлопуша говорил? С чем же ты, Сеня, против бар да заводчиков пойдешь? С голым кулаком?
Семен Хват отшатнулся, потом наклонился, всматриваясь в вымазанное сажей лицо беловолосого. Он открыл рот, чтобы крикнуть, но вместо этого прошептал:
— Пашка! Неужто и тебя схватили? Вот горе-то. И тоже на проклятую домну робить послали? А для чо у тебя рожа в саже устряпана?
— Коли бы я им попался, висеть бы мне на глаголе[9]. Для того и рожу сажей вымазал, чтобы раньше времени не схватили.
— Чего же ты сам к медведю в берлогу лезешь? — Хват забеспокоился и вдруг поспешно соскочил с тачки. — Слышь, друг, а ведь нас Петька Толоконников приказчику выдал. Я своими ушами слышал.
— Вон оно что! — зловеще сказал Жженый. — Ну ин ладно!
Доменный мастер, косившийся зло на отлынивающих работных, но чуявший что-то неладное на заводе, а потому молчавший, вдруг увидел за спинами Хвата и Жженого поднявшегося на домну Шемберга. Наливаясь гневно кровью, мастер заорал:
— Эй, вы, от работы бегаете? Даром господский хлеб жрете? Марш к тачкам!
— Не ори, дикошарый, — спокойно ответил Павел. — Чего больного человека понужаешь?
Мастер стиснул кулаки и двинулся на Павла:
— Я тебя счас так жогну, чертова рвань, что ты отсюда кубарем скатишься!
Но, к удивлению его, этот чумазый работный не бросился бежать, не отступил даже, а, наоборот, пошел навстречу, говоря по-прежнему тихо, но с угрозой:
— Годи, господин мастер, иное запоешь, как подвесим тебя на кочерге над колошником. Будешь, как окорок, коптиться. А чтоб не скучно тебе было, рядом приказчика да немца-управителя подвесим.
Мастер посмотрел растерянно на Шемберга. Жженый перехватил его взгляд и оглянулся. Увидав управителя, попятился было, но вдруг засмеялся.
— Ну что, господин немец, твоя взяла. Скричи солдат и в подвал волоки.
— Кто ты? — отрывисто спросил Шемберг.
— Жигарь с заводских куреней, — быстро ответил Жженый. — Послан к тебе, господин управитель, выборным от всех наших куреней, с жалобой…
Шемберг резко повернулся и, подобрав брезгливо полы халата, начал спускаться с домны, спотыкаясь устало на бревнах, иссеченных конскими подковами, усыпанных шлаком и углем.
ВЫШКА
Грязные бревна доменного наката вспомнил Шемберг, когда поднимался по крутым ступеням на вышку господского дома. Он вспомнил те чувства бессильной злобы, страха и унижения, которые испытал, уходя с домны. И если там, наверху, на вышке, он не увидит то, за что, казалось бы, готов был отдать десять лет жизни, унижение не будет отомщено.
А впрочем, черт с ним, с унижением! Важнее другое. Мало ли унижений пришлось испытать ему, обедневшему саксонскому дворянину, из нужды взявшемуся за грязное и тяжелое горное дело? Окончив с грехом пополам в родной Саксонии знаменитую Фрейбергскую горную академию, молодой дворянчик-рудознатец[10] в поисках быстрого обогащения очутился в этой варварской стране, в этих диких Гиперборейских горах.
Ему говорили, что здесь драгоценные камни лопатами гребут, и он согласился стать управителем горного железоделательного завода в Уральских горах. Драгоценные камни здесь лопатами не гребли, попадались они не часто, но ему посчастливилось напасть на рассыпное золото, и немало уже золотого песка, и самородков тоже, прилипло к рукам потомка обнищавших саксонских рыцарей. Владелец завода, граф Чернышев, сидит безвыездно в столице и заводом своим мало интересуется. Шемберг здесь царь и бог, контроля над ним нет никакого, и, конечно, он свой карман не забывает. И черт с ним, с унижением, лишь бы его не убили эти взбунтовавшиеся рабы, лишь бы не лишиться теплого и выгодного управительского места…
На площадке вышки, огороженной резными перильцами, остановился. В дальнем углу, на массивной подставке, высилась большая зрительная труба, к окуляру которой, услышав шаги Шемберга, торопливо припал Агапыч. Труба была направлена на Верхнеяицкий тракт.
Шемберг повел красными от бессонницы, словно опаленными, глазами. С вышки окрестность была видна верст на сорок в окружности. Громады уральских кряжей уходили вдаль валами, словно окаменевшие волны океана. Между ними разбросала свои извилистые рукава, как клинки громадных сабель, река Белая: то вырываясь на просторную пойму, то снова пропадая в глубинах горных ущелий и логов. А через эти кряжи, то поднимаясь к перевалам, то спускаясь в долины, стлался серый половик Верхнеяицкого тракта.
Эта древняя колодничья, сиротская и гулевая дорожка, перекинувшись через уральские хребты, одним концом, через Верхнеяицкую крепость, ушла в глубь необъятной Сибири, а другим — метнулась на Оренбург, в оренбургские степи. Там, в степных ковыльных просторах, ревела гроза, там простой донской казак, вчера еще нищенски скитавшийся по казачьим уметам на Яике-реке, сегодня именем мертвого Петра потрясал империю, рубил на сосновой плахе пудреные дворянские головы и атаками киргизских и башкирских орд покорял и обращал в развалины императорские крепости.
Шемберг оттолкнулся от перил и подошел к Агапычу:
— Ну, как? Нет?
Приказчик оторвался от трубы и ответил безнадежно:
— Нету ничего, батюшка Карл Карлыч, ничего не видать.
Шемберг направил сбившуюся трубу снова на тракт и сам припал к окуляру. Увидел близко-близко уродливые изломы скал, зелено-бурую щетину лесов и красноватый щебень тракта.
Но и горы, и тракт были пусты. По тракту лениво тянулся чей-то обоз, да чернело несколько пешеходов, а в горах, где-то очень далеко, горел невидимый костер, и голубой его дым длинной волнистой пеленой стлался над вершинами леса.
— Доннер-веттер! Ничего! — Шемберг яростно стукнул кулаком по перилам.
Мрачный и подавленный, он сел на перила, зябко поджимая ноги под полы халата. Агапыч снова прильнул к трубе. Так прошло еще полчаса.
Посмотрев вниз, на шихтплац, Шемберг увидел, как к домнам начали собираться кучки людей. Управитель не выдержал и забегал по площадке. И вдруг остановился, затих, стиснув ладонями виски: на шихтплаце зазвонил обеденный колокол.
Шемберг обезумевшими глазами смотрел вниз, на литейный двор. Там уже тяжело колыхалась огромная толпа, залившая весь шихтплац. А с дальних плотин, с дальних фабрик все еще бежали вереницы работных. Наверх, на вышку долетали крики — яростные, гневные, веселые, ликующие:
— Работу кончай!.. Не бойсь!..
— С праздником, братцы!..
— Ноне наш праздник!..
— Довольно бары попраздновали!..
— Управителя сюда!.. В петлю его!..
— Выходи, чертов немец!.. На расправу…
Шемберг поднял ногу, занес ее над перилами, словно собирался прыгнуть вниз, к зовущим его людям. Побелевшие, трясущиеся его губы шептали:
— Бежать… Спрятаться… О, мой бог, это конец…
— Едут! Ей-богу, едут! — вдруг отчаянно взвизгнул Агапыч. — Они! Спасители наши едут!
— Кто?.. Что?.. — ошалело переспросил Шемберг, все еще держа ногу занесенной над перилами.
И, наконец, поняв, ринулся к трубе, плечом оттолкнув приказчика. Глаз долго не мог найти окуляр. Горы, тайга, река плясали перед глазами. Наконец он увидел.
Верстах в десяти от завода, там, где тракт вынырнул из леса, чернела плотная, движущаяся масса, изредка вспыхивавшая металлически-блестящими искрами. Наладив окуляр по глазу, Шемберг разглядел отдельные, ритмически подпрыгивающие на крупной полевой рыси фигурки гусар и даже стальные ножны их сабель, на которых искрилось солнце. Пыль волчьим хвостом стлалась за отрядом…
— Слава богу! Это они! — Шемберг поднял от трубы голову. И сразу стал прежним управителем, строгим и важным.
— Господин Агапыч, поезжайте к ним навстречу, и проводите их к главным воротам.
— Слушаюсь, батюшка, — прошептал Агапыч и рванулся было бежать.
— Стоять! Слушать до конца! Не суетиться без толку, — загремел Шемберг, — Вы, оказывается, большой трус, сударь! Итак… Проводите отряд до главных ворот и следите за мной. А как я махну платком — пускайте их на шихтплац. Все! Теперь идите.
Агапыч загрохотал вниз по лестнице, а за ним медленно начал спускаться и Шемберг. Внизу, в комнатах, его встретил дрожащий, перепуганный камердинер-немец.
— Ваша милость, — сказал камердинер по-немецки, — люди требуют вас немедленно к себе. Но я умоляю вас спрятаться. Эти азиаты взбунтовались, они убьют вас.
— Ничего, Фриц, — улыбнулся успокаивающе Шемберг, — мы сейчас обрубим те руки, которые хотят нас убить. Дайте мне одеться.
Управитель сбросил халат, скинул туфли и, стоя среди комнаты в одном белье, глубоко задумался. Какая-то тайная мысль вызвала ядовитую улыбку на его губы.
— Послушайте, Фриц, — обратился он к копавшемуся торопливо в гардеробе камердинеру. — Дайте мне тот самый костюм, в котором я представлялся нашему всемилостивейшему повелителю, королю Саксонии. И не торопитесь, прошу вас. Не на куртаг[11] собираемся. Эта чернь, если я ей нужен, подождет.
Камердинер пожал плечами и подал управителю камзол из алого бархата, такие же панталоны и кафтан из золотистой французской парчи. На ноги Шемберг надел шелковые чулки и туфли с высокими красными каблуками и большими серебряными пряжками. Густо напудренный парик с длинной косой, кружевные манжеты, такое же жабо и лорнет на широкой ленте дополняли его щегольской костюм. Полюбовавшись на себя в зеркало, Шемберг двинулся к выходу в сопровождении камердинера, несшего за ним серебряную табакерку, платок и длинную трость с золотым набалдашником.
Со стороны можно было подумать, что Шемберг действительно направляется на прием к высочайшим особам.
В парадном зале он пропустил вперед камердинера и остановился перед портретом владельца завода. Отвесив портрету низкий и церемонный поклон, Шемберг отрапортовал четко и твердо:
— Ваше сиятельство, господин генерал-аншеф, российских орденов кавалер и граф Иван Захарович Чернышев! Ваш покорный слуга, Карл фон Шемберг, направляется усмирять взбунтовавшихся рабов вашего высокографского сиятельства. Осмеливаюсь уверить вас, господин граф, что при защите кровных интересов ваших я не пощажу даже жизни собственной!..
Отвесив портрету еще один поклон, взял из рук удивленного камердинера трость и не спеша, гордо и спокойно направился к двери, за которой бушевали сотни разъяренных голосов.
ЗАВОРОХА
Шихтплац, словно низкий берег в половодье, затопили толпы работных и мастеровых людей. И среди этого буйного разлива двухэтажный, обшитый раскрашенными под кирпич досками, господский дом казался угрюмым островом, не признающим весеннего буйства. Все двери господского дома были на запоре, а окна прикрыты толстыми дубовыми ставнями. От таких ставен любой камень отлетит, а пуля в них застрянет.
Вокруг дома сидела, стояла, перебегала, разговаривала, кричала, буйствовала многострадальная, терпеливая, покорная, а теперь хмельная от радости заводчина. Здесь были все те, кто копал в шахтах руду, кто выплавлял из руды чугун, кто ковал железо, отливал пушки, ядра и кандалы на собственные руки, кто рубил лес, жег уголье, кто плотничал, столярничал, слесарничал, кузнечил, молол муку, извозничал, все те, кем жил завод.
Здесь были ровщики-рудокопы с землистыми лицами и, цинготными деснами, кричные рабочие с запеченными на вечном жару лицами, в которые на всю жизнь въелась сажа, зеленолицые, беспрерывно кашляющие доменщики, обугленные, с опаленными ресницами, в кожаных фартуках-защитках литейщики, с воспаленными, слезящимися от смоляного дыма глазами жигари-углежоги, с ногами, скрюченными ревматизмом, плотинные рабочие и даже мальчишки-заслонщики, поднимавшие заслонки у кричных горнов, радуясь неожиданному празднику, весело ныряли между взрослыми и щебетали по-воробьиному. Чердынские мужики держались особняком, в сторонке, около своего вожака Семена Хвата. Чердынцы явились на шихтплац с телегами. Они надеялись получить сегодня же «вольный царский указ» и тотчас двинуться восвояси, к родным избам и пашням. Здесь были все, кто понял, наконец, что только дружная и смелая завороха, общий бунт всем миром против дворян-помещиков и горных заводчиков, даст им долгожданную свободу.
У парадного крыльца господского дома собралась небольшая кучка людей в обшитых галунами и позументами «жалованных» кафтанах, в сапогах. Люди эти не буйствовали, не кричали, даже не разговаривали — стояли молча, опустив глаза в землю. Это были «мастеровые чины» — заводские мастера, нарядчики, уставщики, надзиратели. Все они вышли из простых работных, большинство из них втайне сочувствовало бунтовщикам, но, боясь потерять свое привилегированное положение, свою относительно сытую жизнь, они открыто к бунту не пристали.
А работные, теряя терпение, начали уже швырять камнями и кусками шлака в окна господского дома. Ребятишки-заслонщики барабанили палками в ставни. Крики с каждым мигом становились озлобленнее:
— Управителя давай!..
— Выходи, немец, на беседу!..
— Агапыча, миропродавца поганого, захвати!..
— Спрятался, скоблено рыло!..
Общий шум и крик прорезал вдруг одинокий веселый и озорной вопль:
— Робя-я!.. Вали к управителю в гости!.. Вали-и!..
И послушная этому веселому крику толпа ринулась к парадному крыльцу. Но в этот миг открылась дверь, и Шемберг шагнул через порог, навстречу бегущей к нему толпе. Его парчовый кафтан нестерпимо сверкал на солнце. И пораженная, даже испуганная этим невиданным сверканием, толпа остановилась и смолкла. Стало так тихо, что слышно было, как на дальнем конце шихтплаца гудят домны. Шемберг, приготовившийся к чему угодно, только не к этой мертвой тишине, не выдержал и попятился.
Но вот работные сначала заговорили злобно, негодующе, а потом новый взрыв криков взлетел над литейным двором. Гул толпы прорезывали отдельные выкрики, и, казалось, что на них, как на веретено нитка, накручивался общий рев. Шемберг, наконец, разобрал, что эти выкрики относились к нему.
— Ишь, вырядился, чертова кукла!..
— Словно поп на пасху!..
— Трутням праздник и по будням!..
— На нас медного креста нет, а у него табакерка серебряная!..
— Гляди-и, палка с золотой маковкой!..
— Нахамал богатства нашими горбами!..
— В петлю его, жеребца, на сук!..
Шемберг поднял руку, показывая, что он хочет говорить. Гул постепенно начал стихать и вскоре замер.
— Кто хотел меня видеть? Пример? — звонко и вызывающе крикнул Шемберг. — Вот я! Ну?
По толпе пробежала короткая судорога. Она началась в центре и приближалась к передним рядам. Чувствовалось, что кто-то пробивается сквозь толпу к крыльцу. Вот зашевелились передние ряды, расступились, и кто-то, весь черный от сажи, сквозь которую выступали только красные веки, губы и синие глаза, выбравшись из толпы, быстрыми шагами направился к крыльцу. Камердинер Фриц, взглянул на вымазанное сажей лицо подходившего, тихо ахнул и юркнул испуганно за спину управителя. Шемберг, поколебавшись минуту, остался на месте. Работные молчали, вытягивая любопытно тощие жилистые шеи.
Вымазанный сажей человек подошел к крыльцу и, поставив ногу на нижнюю ступеньку, взглянул на управителя дерзкими синими глазами.
— Кто, пытаешь, тебя видеть хотел? А хоть бы и я!
— Кто ты? Пример? — Шемберг надменно посмотрел на него в лорнет.
— Второй раз меня спрашиваешь, кто я, — откровенно издевался подошедший.
— Вспомнил! — нехорошо засмеялся управитель. — Это там, на домне… Ты выборный, с жалобой пришел от заводских жигарей…
— От всех работных людей! От всего, значит, мира! — перебил управителя чумазый, обводя рукой молчавшую толпу работных. — А коль взаправду хочешь знать, кто я есть — изволь. Павлом Жженым зовусь, из литейщиков буду.
— А-а, ты и есть Жженый! — управитель всматривался в него с недобрым любопытством. — Чего же ты хочешь? Пример?
— Немалого хочу! — Жженый насмешливо тряхнул льняными волосами. — Вот что, барин, довольно лясы точить. Батюшка, наш пресветлый государь, тебе повелевает, коль не хочешь ты в петле качаться, покорись волей и завод ему отдай.
— Какой государь? — надменно спросил Шемберг. — В России есть государыня, государя нет.
— Говорю тебе, довольно аркаться, барин! — раздраженно ответил Жженый. — Будто не знаешь, какой государь, обыкновенный — Петр Федорович, анпиратор.
Шемберг выпрямился и, молитвенно закатив глаза, сказал:
— Ее величество императрикс Катрин Алексеевна, вот кто ваша государыня. А холопский царь Петр есть самозванец, бродяга и вор!
— Иди ты к лешему со своей немецкой Катриной! — крикнул Жженый и поднялся угрожающе еще на одну ступеньку. — А если ты, пес, оглобля тебе в рот, нашего холопского царя признавать не хочешь, то разговор у нас с тобой иной будет!
Кружевное жабо запрыгало на груди Шемберга от его неистового крика:
— Молчать, раб, холоп! Запорю!
— Кнутобойничать ты мастер, знаю, — спокойно ответил Жженый. — Пороть меня хочешь? Так не удастся тебе это. И кому еще бог поможет…
Все выпитое за эти дни вино словно впервые подействовало на Шемберга. Он размахнулся и ударил Жженого по голове золотым набалдашником своей трости.
— Под караул!.. В кандалы!.. В Сибирь!..
Оглушенный ударом Жженый упал на руки стоявших рядом «мастеровых чинов». Доменный мастер вывернул на спину Павловы руки. Павел сопротивлялся слабо.
— Выручай Пашку! — заревели работные. — Не давай его скручивать!.. Бей управителя!.. Вяжи мастеров!.. Ура-а!..
Работные бегом ринулись к крыльцу. Шемберг выхватил из кармана платок и, подняв его высоко над головой, трижды взмахнул им.
Передние ряды уже добежали до крыльца. Шемберг на миг закрыл глаза. Страшна была эта несущаяся неотвратимо лавина полуголых, черных от копоти людей. Ступени крыльца загудели под многими десятками ног. Рядом с собой увидел управитель воспаленные глаза, изнуренные лица. Запахи пота, грязного тела, лука, ржаного хлеба ударили в ноздри, и голова его закружилась. Десятки рук протянулись к парчовому управительскому кафтану, и одна рука в багровых ожогах и глубоких царапинах вцепилась в подол. Тогда Шемберг, не помня себя, ударил еще раз. Кто-то болезненно вскрикнул, толпа подхватила этот крик, навалилась, затрещали, не выдержав такого напора, перила крыльца…
В это время с грохотом распахнулись ворота, и на шихтплац въехал на взмыленных лошадях эскадрон гусар.
Толпа на мгновение замерла, а затем отхлынула от крыльца обратно к домнам и сгрудилась у их подножий, около чанов с пушечными формами. Шемберг улыбался, хотя и бледный с перепугу, но торжествующий, и незаметно поправлял сбившийся парик.
Снова стало тихо на литейном дворе. Замерли обе стороны. Лишь одна гусарская лошадка звонко фыркала и трясла головой, звеня удилами. Но гусар, как будто испуганный, что она нарушает тишину, сердито дернул поводьями, и лошадь стихла.
Офицер отряда спрыгнул с лошади и, неуверенно переставляя затекшие от долгой езды ноги, поднялся на крыльцо. Приложив руку к шапке, представился:
— Секунд-ротмистр Повидла. По приказанию коменданта Верхнеяицкой фортеции полковника Ступишина прибыл в ваше распоряжение.
— Благодарю вас, господин офицер! — Шемберг горячо потряс его руку. — Вы прибыли вовремя. Еще бы одна минута, и мне, как говорит русская пословица, капут был. Видите?
Офицер повернулся к работным, откашлялся, сплюнул и закричал:
— Эй, холопы, сейчас же выдать зачинщиков! А ежели вы, воры и шельмецы, ждете к себе Пугачева и припасаете для его злодейских шаек кормы и припасы воинские, то буду я вас вешать за шею и за ребра, пытать крепко, а также уши и носы обрежу. Знайте то, воры, и ужасайтесь!
— Раскаркалась ворона к ненастью! Легче, барин, пуп надорвешь! — насмешливо и громко ответил Жженый.
По толпе прокатился хохоток.
— Покоритесь, холопы! — крикнул офицер, стукнув ножнами сабли о ступени крыльца. — Одумайтесь, пока не поздно!
— Сам царицын холоп! — смело ответили ему из толпы.
Над головами работных замелькали притащенные ребятишками-заслонщиками колья, дубины, кузнечные кувалды, рудодробильные балды и большие куски руды.
— В колья их!..
— Волим за царя Петра!..
— За вечные вольности!..
— Бей царицыных холопов!..
Толпа тяжело колыхнулась, шихтплац загудел, застонал от топота тысяч ног. Люди бежали на гусарские ряды, наклонив головы, как разъяренные быки.
Срывающимся голосом офицер крикнул команду. Взлетели к плечам гусарские карабины, и грохот залпа покрыл топот и крики бегущей толпы. В передних рядах несколько человек упало. Задние, набежав на них, остановились в нерешительности и, повернув назад, снова отхлынули к домнам. Шемберг облегченно вздохнул. Гусары поспешно перезаряжали карабины. Секунд-ротмистр Повидла бежал к своему отряду, на бегу командуя:
— К бою!.. Са-абли вон!..
Взблеснули на солнце выхваченные из ножен кривые гусарские сабли. Гусары разбирали поводья и садились крепче в седлах, готовясь к конной атаке. Тучный секунд-ротмистр добежал, задыхаясь, до своего коня и легко взлетел в седло.
Жженый был в первых рядах нападающих и теперь, при отступлении, он оказался последним. Сердце его жгли злоба и стыд поражения. Он не спеша, шагом, из презрения к врагу даже не оборачиваясь, подходил к домнам, где кричали, спорили о чем-то потерпевшие поражение работные. Они указывали испуганно руками и дубинами в сторону гусар. Тогда только Павел обернулся.
Гусары с обнаженными саблями у правого плеча перестраивались в развернутый строй. Вертевшийся перед строем на горячем жеребце секунд-ротмистр нетерпеливо помахивал маленькой, казавшейся в его ручищах игрушечной, сабелькой. Шемберг, навалившись на перила, жадно смотрел в лорнет на готовившуюся расправу над взбунтовавшимися холопами.
Павел понял: сейчас гусары бросятся на столпившихся у домен работных, и начнется безжалостная рубка, вернее избиение безоружных. Десятку-другому вооруженных дубинами и кувалдами работных не отбиться от гусар, которые налетят со всего конского маху. Остальные работные были безоружны. И бежать было некуда. Работные, отступив к домнам, попали в ловушку. Спереди гусары, сзади высокая стена плотины. Перебьют их здесь, как крыс. А среди работных немало ребятишек-заслонщиков. Пожалеют ли царицыны солдаты детишек? В драке кто же разбирается? Что же делать? Павел беспомощно оглядывался, отыскивая способ спасения. В голову лезли страшные сцены усмирения драгунами каслинского и кыштымского восстаний работных, когда он пулял в драгун камнями. Не отбиваться ли и сейчас камнями, кусками руды и шлака? Э, нет, детская затея!
— В атаку-у!.. Марш-марш! — ротмистр взмахнул над головой саблей и первый пустил своего жеребца галопом. Эскадрон послушно сорвался вслед за командиром.
Стальной лязг оружия, дробный топот копыт, лошадиный храп, кожаное скрипение седел приближались к домнам с каждым мгновением. И тогда Павел крикнул:
— Домну на выпуск!.. Бей летку!
Работные тотчас поняли мысль Павла. Чумак и еще двое работных схватили длинный горновой лом, остальные дубинами, кувалдами и просто голыми руками начали ломать, разрушать дубовые чаны с пушечными формами, литейные канавы и вдавленные в землю формы для ядер. Чумак скомандовал, и работные ударили ломом в нижнюю ступеньку домны, где была летка, замазанная огнеупорной глиной. Но в спешке или с непривычки промахнулись.
— Брось! Дай мне!
Подбежав к ним, Павел выхватил из их рук тяжелый лом, которым обычно орудовало трое горновых рабочих. Но где их было искать в этой сутолоке, когда атакующие гусары приближались во всю конскую прыть?
Жженый недаром был старшим горновым. Тяжелый лом, длиной в два человеческих роста, привычно и ровно лег в ладони Павла. Ни один конец его не перевешивал. Жженый попятился и с разбегу ударил ломом в летку. Тотчас на месте удара глина засияла светло-оранжевыми бликами. Павел ударил еще и еще. Глина порозовела, потом вспыхнула алым жаром.
Вытянутые в галопе шеи гусарских лошадей, их прижатые назад уши, выкаченные глаза и обветренные мрачные лица гусар были, казалось, совсем рядом, когда Павел ударил четвертый раз и, бросив лом, побежал в сторону. Работные тоже бросились врассыпную. И только одни гусары видели, как летка выстрелила снопом огня, вслед за которым хлынула струя тяжелого пламени. Раскаленный чугун, гневно урча, поплыл из летки и, не найдя форм, бросился на сырую землю и пошел грохотать взрывами, разбрасывая далеко по сторонам огненные струи и брызги.
Гусарские лошади вскинулись на дыбы и, повернувшись на задних ногах, помчались обратно к воротам. Всадники нахлестывали их, били плашмя саблями, с ужасом оглядываясь на тяжело плывущую за ними огненную смерть. В воротах произошла заминка, перепуганные лошади кусались и били задом, а затем шихтплац опустел. В освободившиеся ворота бросились работные, но большинство из них побежало к частоколу и, помогая друг другу, благополучно перелезли через него.
Жженый бежал одним из последних. Пробегая мимо подожженного расплавленным чугуном склада, Павел с размаху ударился ногой о камень и, не удержавшись, повалился на землю. Падая, он увидел человека, метнувшегося к нему навстречу из-за горящего амбара, затем над ухом его грохнул выстрел и что-то тяжелое упало ему на спину. Все это следовало одно за другим так быстро, что Павел не понял сути происшедшего. Осторожно выполз из-под навалившейся на него тяжести и увидел сутулую спину человека, убегавшего в сторону господского дома. Человек этот размахивал на бегу длинным, еще дымившимся пистолетом.
Ничего не понимая, Павел огляделся, отыскивая тяжесть, упавшую ему на спину, и увидел лежащего на земле Семена Хвата. Чердынский мужичок зажимал ладонями простреленный бок, дергаясь в предсмертной икоте. Жалость затопила сердце Жженого.
— Сеня, голубь, как же это ты, а? — ласково и грустно спрашивал он, будто укоряя приятеля за какую-то ошибку.
Семен открыл глаза, увидел Павла, и бледные губы его задрожали в слабой улыбке:
— Павлуха, — еле слышно прошептал он, — это Петька Толоконников… Он нас предал… солдат на курени наслал… И теперь он… предатель… Хотел в тебя, а я… я…
Семен задрожал мелкой дрожью, как в ознобе, и вдруг сразу стих, раскинув отяжелевшие руки.
Павел поднялся с колен и, словно убеждая сам себя, сказал громко:
— Петька Толоконников, значит? Запомню! Все запомню!
Посмотрел еще раз на мертвого Семена и пошел к воротам тяжело, с усилием отрывая от земли ноги.
Полчаса спустя, на литейном дворе было тихо и пусто. Чернели большие лужи остывшего, похожего на коросту, чугуна. Догорал подожженный чугуном амбар. Около ворот бились, порвав сбрую и опрокинув телеги, перепуганные выстрелами и расплавленным чугуном лошади чердынцев. Кругом валялись трупы убитых. Около них — словно кто накидал — шапки, дубины, кувалды. Над дворами медленно кружились стаи ворон.
К трупу Семена Хвата, подпрыгивая и спотыкаясь, боком подкрадывалась большая черная ворона. Осмелев, она вспрыгнула ему на грудь и, растопырив крылья, призывно каркнула.
ПОПУГАЙ
В зале — красноватая полумгла. Топится большая печка. Раскаленная ее пасть разбросала трепетных огненных зайчиков по блестящему, как зеркало, паркетному полу и обитым цветным штофом стенам.
Прямо против печи, ярко освещенные, висят в тяжелых золоченых рамах темные портреты, рисованные масляными красками. С темных полотен глядят суровые и надменные генералы, улыбаются лукавые женские лица, играют всеми цветами шелка кринолинов, переливаются парчовым блеском орденские ленты.
В бронзовом шандале, изображающем змей с разинутой пастью, оплывали свечи, распространяя теплый запах тающего воска. Их колеблющийся свет падал на жареного гуся, блестевшего золотистой кожицей, на свиной холодец, покрытый, как инеем, застывшим салом, жареную рыбу, тугие моченые яблоки и на уральский деликатес — красноватую жирную медвежатину. Под такие заедки как не выпить, а пить было чего. На столе тесно от графинов с ерофеичем, от низких, квадратных, зеленого стекла штофов с водкой, от пузатеньких и длинногорлых бутылок с заморскими винами разных марок. Хранились они на случай приезда на завод его сиятельства графа, но управитель частенько прикладывался к графским винам.
— Хорошо живете, — сказал гусарский секунд-ротмистр Повидла. — В горных пустынях живете, а стол не только, скажем, в Уфе или Екатеринбурге, а и в самой столице не стыдно показать.
Тучный, мешковатый, веснушчатый, с длинными гусарскими локонами, болтающимися у висков, и с толстыми, как обрубки канатов, усами, он развалился в кресле около печки. Лицом к ротмистру на мягком бесспинном табурете поместился Шемберг. За его спиной, в тени, опершись на кочергу, стоял Агапыч.
Повидла расстегнул желтую, расшитую шнурами венгерку: ему тяжело после сытного управительского ужина. Он изредка сладко поеживается и водит по стенам зала осоловевшими глазами.
Серой тенью скользнул к столу Агапыч и закоптевшими железными съемцами снял со свечей нагар. Ярче заблестела позолота портретных рам.
— А чьи же это портреты навешаны? — вяло спросил ротмистр.
— Их сиятельства графа, благодетеля нашего, — предупредительно ответил Агапыч. — А также предков и прапредков ихних.
— Где портрет графа нонешнего, здравствующего? — Повидла внезапно оживился.
— Крайний, около окна, — сказал Шемберг. — А что? Пример?
Ротмистр подошел к портрету и встал против него, покачиваясь нетвердо на кривых ногах.
— Хорош! Красавец! — насмешливо, нараспев протянул Повидла. — В орденах, в лентах, а государыне изменник.
— Как? Изменник? — Шемберг испуганно вскочил, Агапыч уронилч кочергу.
— Разве не слышали? — ротмистр повернулся к ним. — Граф Иван Чернышев у Пугачева в военной коллегии заседает. Правая рука Пугачева! Он фельдмаршалом пожалован и послан Уфу завоевывать.
— Нет!.. Нет!.. Не верю!.. Чтобы столь славный вельможа, осыпанный милостями императрицы… О, мой бог!.. — отчаянно кричал управитель. Агапыч молчал и смотрел выжидающе то на Шемберга, то на ротмистра.
И тогда Повидла хрипло, простуженно захохотал:
— Есть у Пугачева граф Чернышев, это точно, но только не ваш благодетель. Яицкого казака Ивана Зарубина, прозванием Чика, пугачевский сброд именует графом Иваном Захаровичем Чернышевым. Есть еще у Пугача в военной коллегии граф Воронцов и граф Панин. Тоже, небось, головорезы какие-нибудь.
Ротмистр снова опустился в кресло и, протягивая ноги к огню, сказал назидательно и строго:
— Как же это можно, что мы, дворяне, опора престола, на сторону холопского царя переметнулись? Никогда этого не будет.
— Господин Пугачев изволит забавляться, окружая себя ложными генералами и графами. — Шемберг успокоенно улыбнулся. — Я так полагаю, а? Холоп тешит себя высокими титулами. Не так ли?
— Не так, батюшка! — твердо ответил Агапыч. — Пугач хитер, как старый лисовин. Он это с умыслом делает, чтобы у простого народа крепче вера в него, в царя, была. Вот-де, глядите, наиглавнейшие вельможи российские от царицы отпятились и меня признали. Вот в чем загвоздочка!
Никто ему не ответил. Ротмистр взял со стойки длинную трубку и начал набивать ее табаком. Покончив с трубкой, он злобно бросил:
— Попадись мне в руки этот Пугач, кажись, живьем бы его зажарил!
— Такие чувства делают вам честь, господин ротмистр. Преклоняюсь пред столь высоким патриотизмом! — Шемберг восхищенно и почтительно наклонил голову.
— Не в патриотизме дело, батенька мой! — Ротмистр досадливо отмахнулся. — Жить спокойно не дают, канальи! Нам под белым ремнем и без того не сладко, а тут еще, что ни год — бунты. Не на бранном поле, не в бою с честным врагом сложишь голову, а зарежут тебя, как барана, эти кожаные рыла, башкиры или киргизы скуломордые. Опасная, сударь мой, служба в наших стенных и горных крепостях, покою совсем нет. Да ведь сами видите, ежели не первый год в здешних местах проживать изволите. Давно ли башкирцы под водительством Батырши[12] генерально бунтовались и русским царям сущими неприятелями сделались? Батыршу усмирили, яицкие казаки замутились[13].
Ротмистр прикурил от поднесенного Агапычем уголька и продолжал:
— Надо вам сказать, судари мои, что казаки с испокон веку смуту разводили и верить им никак нельзя. Продувной народ, особенно на Яике! Им, видите ли, не по нраву пришлось, что их прежние вольности уничтожили и взамен выборных атаманов да есаулов из Петербурга чиновников прислали. Плакались они, лицемеры, что петербургские чиновники с казацкими старшинами и богатеями снюхались, жалованье им задерживают, у казацкой бедноты лучшие земли и рыбные ловли отбирают. А когда царица их вранью не поверила, они бунт подняли, Яицкий городок кровью залили.
— И как возможны такие дикости в такой просвещенной стране, где царствует премудрая Екатерина, оплот свободы и законности? — льстиво и напыщенно сказал Шемберг. — Лучезарная корона ее проливает благоденствие на всех подданных, без различия веры и языка.
— Усмиряли мы казачишек беспощадно, — продолжал Повидла. — Иных в петлю, иным голову долой, а остальных плетьми да в Сибирь или в солдаты без срока. Но только, видимо, корешки бунтарские не все до конца повыдергали. Пугач-то ведь в Яицких степях объявился, казаки тамошние его первым войском и были.
— А каково ваше мнение, господин секунд-ротмистр, — спросил осторожно Шемберг, — опасен ли сей мятеж и потрясения империи не вызовет ли он? Пример?
Ротмистр не медлил с ответом:
— Думаю, что времена Стеньки Разина не повторятся, но все же нашему краю опасность грозит немалая. Готовым ко всему нужно быть.
— А зачем он к нам в город полезет? Пример? — удивился Шемберг.
Агапыч снова приложил уголек к потухшей ротмистровой трубке и сказал поспешно:
— Да что вы, батюшка? Емелька-то хоть мужик сер, да смекалку у него черт не съел! Он знает, что здесь на горных заводах пушки льются, пороху и ядер запас немалый, а из работных людишек пушкарей и наводчиков набрать можно. Прямой ему расчет к нам сюда, в Урал, броситься. А для чего же он и Хлопушу сюда направил, — все для этого.
Ротмистр захохотал, выпустив густой клуб дыма, словно из пушки выстрелил.
— А из тебя, сударь, неплохой полковник вышел бы. Клянусь честью! А у Пугача из тебя целый генерал-аншеф получился бы.
Агапыч вздрогнул при последних словах офицера и спрятался поспешно за спину управителя. Не заметивший этого ротмистр сказал серьезно:
— Господин приказчик прав. Казаки и орда гололобая служат Пугачу легкой кавалерией, мужичье — его пехота, а за артиллерией он сюда, в горы кинется. Расчет господина приказчика вполне верен.
По кислому лицу Шемберга можно было понять, что он отнюдь не радуется верности расчета приказчика. И чтобы переменить неприятную тему разговора, он спросил:
— А как дело с Оренбургом? Как поживает генерал-поручик Рейнсдорп?
Ротмистр снова захохотал, даже закашлялся от смеха.
— О, этот кадрильный генерал молодец!
— Почему кадрильный генерал? — Управитель строго поднял брови. — Я давно замечаю, что русские военные завидуют быстрым успехам по службе немцев. О, немцы умеют служить! Почему же кадрильный генерал? Пример? Такие глупые слова подрывают уважение к особе генерал-губернатора и…
— Те-те-те, сударь мой! Эва куда вы хватили! «Уважение». «Особа». Я сам человек военный, и для меня дисциплина на первом месте. А просто это анекдот презабавный, от которого честь его превосходительства нисколько порухи не терпит. А почему кадрильный — извольте выслушать… Доносили ему не раз о злодейских умыслах Емельки, но его превосходительство мер принять не соизволил, а по случаю коронации монархини нашей спокойненько пир задал на весь город. Парад войскам устроил, бал, развальяж полный! Никто и не заметил в суматохе, как к дому губернатора подскакал казак с рапортом от начальника Нижнеяицкой дистанции[14] полковника Елагина. Только его превосходительство хотели в кадрили пройтиться, а ему адъютант рапорт и сунь в руки. Прочитал его генерал и даже за голову схватился: «Боже мой, — говорит, — Илецкий городок самозванцем на слом взят, население, крамоле подверженное, его хлебом-солью встретило, а теперь он сюда, на Оренбург двигается». Дама его, натурально, ждет, когда ее кавалер от дел освободится, чтобы в кадрили пройтись, а генерал вытаращил на нее глаза, да как гаркнет: «Чего, матушка, ждешь? Поезжай домой! Теперь кадриль другая пойдет, в той кадрили ты мне не пара!..»
Ротмистр сам первый захохотал над своим рассказом. Шемберг изобразил на лице что-то отдаленно напоминающее улыбку. Агапыч осторожно хихикнул и тотчас смолк, угодив, таким образом, и ротмистру, и управителю.
— А теперь, — продолжал ротмистр, — его превосходительство генерал Рейнсдорп сам Емельку танцевать заставляет. Да иначе и быть не должно. Оренбург ведь не какая-нибудь степная или горная фортеция. Об его каменные стены и бастионы обломает вор Емелька свои зубы. Но какова дерзость сего душегуба. Увидав, что Оренбург ему не осилить, он посылает генералу Рейнсдорпу указ, как настоящий император. Один из офицеров, который из осажденного города прорвался, при себе его копию имел. Для любопытства списал. У меня тоже копия сего пугачевского приказа имеется.
Ротмистр покопался во внутреннем кармане венгерки и передал Шембергу лист бумаги. Управитель развернул и начал читать. Агапыч читал через его плечо.
Указ
нашему губернатору Рейнсдорпу
Довольно известно вам из опубликованных манифестов, каким образом мы от завистников общего покоя, всероссийского престола лишены были. Только вы, ослепясь неведением или помрачаясь злобой, не приходите в чувство: власти нашей чините с большим кровопролитием противление и стараетесь имя наше таким же образом, как и прежде, вновь угасить и наших верноподанных рабов, яки младенцев, осиротить. Однако мы по природному нашему отеческому благодушию, буде вы теперь придете в чувство и власти нашей покоритесь, всемилостиво прощаем и сверх того всякою вольностью отечески вас жалуем. А буде в таком же ожесточении и суровости останетесь и данной вам от создателя высокой власти не покоритесь, то уже неминуемо навлечете на себя праведный наш гнев.
1773 г. Великий Государь Петр III Всероссийский.
— До чего православным христианам и верноподданным дожить пришлось! — в притворном ужасе и негодовании Агапыч всплеснул руками. — Беглый вор и против законного государя бунтовщик генералу, начальнику губернии своим гневом грозит и свою отеческую милость обещает. Кто же сей превеликий и предерзкий злодей? Хоть бы одним глазом на него взглянуть. Зверолик и страшен, полагаю.
— Отнюдь нет, сколь это ни странно, — ответил ротмистр. — Самовидцы говорят, просто мужичишка плюгавенький.
— Мал коготок, да остер значит! — Агапыч хитро прищурился.
— Остер, это верно. Храбр, сказывают, как бес. Под нашими пулями вертится да посмеивается. А войско его, по слухам, сброд мужичья и голытьбы. Настоящего боя не принимают и удирают от первого регулярного залпа.
— А ежели он начнет удирать да в нашу сторону? — с затаенным коварством спросил Агапыч. — Тогда что мы будем делать? Ась?
Шемберг, заметно приунывший, вдруг оживился:
— Я имею мнение, что сюда надо командировать генерала Суворова. О, это гений!
— Да что вы, сударь мой! — ротмистр замахал руками. — Это уж поистине на муху с обухом. С Пугачом и без Суворова ваши компатриоты справятся — Кар да Фреймам. Они со свежим войском на него идут.
— О, да! Кар молодец! Он покажет Пугачеву!
— Найдется и у Емельки, чем показать вашему Кару, — пробормотал Агапыч себе под нос.
Но Шемберг услышал и подозрительно покосился на него. Приказчик торопливо спрятался в тень.
— Не знаю, что покажет Пугачеву генерал Кар, — продолжал управитель, — но я имею надежду, что сего славного генерала бог благословит окончанием бунта и поимкой главного изменника.
Ему никто не ответил. Все долго молчали, уставившись на огонь, прислушиваясь к тихому потрескиванию паркета в дальнем темном углу зала. Казалось, там ходит кто-то крадучись, на цыпочках. В печке вдруг громко выстрелило, и уголек вылетел к ногам ротмистра. Агапыч вздрогнул и перекрестился:
— Вот чертова пушка! Напугала.
Снова замолчали, думая каждый о своем, а в общем, об одном и том же.
«Что там, в степях, — думал Повидла, — держится ли еще Оренбург? Не переправилась ли уже через Сакмару пугачевская армия? Проберусь ли я обратно в свою крепость с маленьким эскадроном через край, объятый мятежом? Загостился я здесь, пора восвояси…»
Шемберг думал о Хлопуше. Управитель понимал, что он не может быть спокойным за свой завод, пока в окрестностях его находится этот пугачевский полковник.
«Где же бродит этот беглый каторжник? — беспокоился Шемберг и вздрагивал от неожиданной мысли — Может быть, стоит он сейчас на соседней Баштым-горе и смотрит вниз, на освещенные окна нашего зала…»
Агапыч тоже думал о Хлопуше.
«Как бы мне увидеться с ним наедине. Я бы ему такое словечко шепнул — ай-ай! Да нет, разве увидишься. Может, весточку ему послать? А с кем? Петька Толоконников совсем обмишурился. Выдал себя со всеми потрохами. Ему теперь и носу Хлопуше нельзя показать. Убьет его Хлопуша, как пса смердящего. Ой, хорошо бы было, ежели бы кто из бунтовщиков пристукнул Петьку из-за угла. Много он лишнего знает. Выдаст, храни бог…»
Любимец управителя, яркий и пестрый, как клоун, попугай какаду сладко вздремнул под разговор. Наступившее молчание разбудило его. Он сорвался со своего кольца и, покрутившись под потолком, опустился на плечо Агапыча. Блестящие шнуры и галуны на венгерке ротмистра, видимо, раздражали заморского гостя. Разъяренно вздыбив перья на шее, махая крыльями и вытянув голову в сторону ротмистра, он кричал деревянно:
— Дур-рак… дур-рак… дур-рак…
— Экая противная птица, — сказал, поморщившись, Повидла.
Попугай повернул к нему голову, словно прислушиваясь, и, затянув глаза матовыми веками, произнес с почти человеческой ненавистью:
— Мер-рзавец!
От неожиданности ротмистр растерялся, а затем буркнул злобно:
— Я б такую гадость… в лепешку!
Испугавшись за своего любимца, Шемберг потянулся к бутылкам.
— Все эти неприятные разговоры о бунтовщиках плохо действуют на сон. Может присниться какой-нибудь ужасный кошмар, вроде этого чертовского Пугачева. Поэтому надо выпить. Что желает господин секунд-ротмистр? Ром? Портвейн? Малага?.. Пример?
— Давайте рому выпьем, — быстро сделал выбор Повидла.
И, крякнув после стакана крепкого рома, сказал:
— Скучища у вас здесь. Хоть бы биллиард был, я бы вас новой игре в три шара обучил. Стоп. А не поохотиться ли нам?
— О, мой бог, какое совпадение! — воскликнул обрадованно Шемберг. — Я только что имел намерение предложить вам очень интересную облаву.
— Облаву? — оживился ротмистр. — На кого, на лисицу?
— О, нет! На крупного зверя.
— На волков?
— Нет! Еще крупнее.
— Ого! Значит, на самого хозяина, на медведя?
— Опять не угадали.
— Да что же, черт возьми, у вас в горах слоны, что ли, водятся?
Шемберг выдержал паузу и отчеканил:
— На человека!
Ротмистр разочарованно откинулся на спинку кресла:
— Облава на человека? Что же, дело бывалое. А кто же сей двуногий зверь, беглый работный ваш или…
— Сей двуногий зверь есть проклятая каналья Хлопуша!
— Хлопу-уша? — безнадежно протянул Повидла. — Э, нет, на это согласия не даю. Ну его к бесу! Два раза ведь пытались мы ловить его, а он меж пальцев уходил. Скользкий, что налим. Опять даром горы облазишь да все ваши камни боками пересчитаешь. Хлопушу ловить, что по воде плетью бить. Только себя забрызгаешь.
— О, нет, господин секунд-ротмистр, — торопливо заговорил Шемберг. — Теперь ошибки быть не может. От шпиона нашего нам известно, где Хлопуша скрывается… Где он скрывается, господин Агапыч?
— На Карпухиной зимовке, — быстро откликнулся приказчик. — Это нам доподлинно известно.
— Ну, вот! Видите? Игра будет наверняка. За ним следит наш шпион. С Хлопушей скрывается еще один злодей, заводский работный Жженый, зачинщик бунта на заводе. Теперь мы их схватим наверняка.
— Нет! — Ротмистр упрямо покачал головой. — Опять без пользы измучаешь людей да казенную амуницию порвешь. И чего вы напрасно беспокоитесь? Три недели прошло после усмирения бунта…
Шемберг пожал насмешливо плечами. Усмирение бунта! А какой толк от этого усмирения? Работные, правда, притихли, но на работу не выходят. Сидят себе по избам. А пошлешь за ними нарядчиков — в горы, в лес убегают.
— Три недели я у вас живу, а кругом тишь да гладь. — Ротмистр отмахнулся. — Пустое вы затеваете.
— Хорошо! — К удивлению Агапыча, управитель легко сдался. — Пусть будет так, как решил господин секунд-ротмистр. Вам лучше знать, что надо делать, и довольно об этом говорить. Надоело! А сейчас я покажу вам, господин секунд-ротмистр, одну славную вещицу, которая вас, как солдата, весьма заинтересует.
— Посмотрим вашу вещицу, — откликнулся ротмистр, весьма довольный, что кончился неприятный для него разговор о Хлопуше.
Шемберг пошел к себе в спальню и вернулся с деревянным ларцем под мышкой. Отперев его, он вытащил и протянул ротмистру небольшой двуствольный пистолет строгой отделки. Единственным его украшением были курки в виде крылатых китайских драконов.
Глаза ротмистра жадно заблестели:
— Ого, бесценный Кухенрейтер! Э, да здесь и другой. Два родных брата. Откуда они у вас?
— Мой род идет от рыцарей Карла Великого! — гордо ответил Шемберг. — Все мои предки были военными. И на моей родине дворяне — тоже опора престола. Лишь мне не пришлось посвятить себя этому благородному занятию. Проклятая бедность!
— А за сколько, примерно, вы продали бы сии прелести? — любуясь отсветом пламени свечей на вороненой стали стволов, спросил ротмистр.
— Я их не продам и за сотню червонцев, — ответил управитель. — Это память о моем отце. Но я их отдам даром тому, кто приведет ко мне Хлопушу и Жженого.
«Ой, хитрец немец! — забеспокоился Агапыч. — Ой, хитер пес!».
— По пистолету за голову? — деловито спросил Повидла. — Ну, что ж, я согласен. Будь по-вашему, сегодня ночью устроим облаву.
Агапыч хотел что-то сказать, но раздумал. А Шемберг не смог удержать радостную улыбку.
— Э, да они заряжены, — воскликнул ротмистр, увидав порох на полках пистолетов. И, обращаясь к управителю, спросил:
— Можно попробовать?
— Пожалуйста, — Шемберг поклонился.
Ротмистр взвел курки, оправил кремни и повел по залу тонким и длинным стволом, отыскивая цель. Дула, как два внимательных черных глаза, переползали с предмета на предмет. Агапыч съежился, словно ему сразу стало холодно. Ротмистр прищурил левый глаз. В этот миг управительский какаду, задремавший на плече Агапыча, проснулся и, увидев ненавистную венгерку ротмистра, крикнул сонно:
— Дур-рак!
Дуло дернулось в его сторону, и тотчас прогремел выстрел. Попугай, будто сбитый невидимой рукой, слетел с плеча Агапыча и комочком пестрых перьев шлепнулся на пол. Пуля оторвала ему голову. Агапыч съежился, прислонился к стене и, шепча молитву, бессмысленно хлопал обезумевшими от страха глазами. Потом, опомнившись, стал ощупывать голову — цела ли?
— Хорош, каналья! Выверенный! — спокойно сказал ротмистр, продув дымящийся ствол.
— И выстрел тоже хорош! — ломающимся от ярости голосом крикнул Шемберг. — Я бы за такой выстрел!.. — и не докончил. Лицо его задергалось.
— Кончайте, сударь! — Повидла повернулся к нему. — Что же вы замолчали? Недосказанное слово язык жжет.
— Варвар! Азиат! — забывшись, закричал Шемберг.
— Кто это варвар? — с нескрываемой угрозой спросил ротмистр. И, резко отрывая слова, продолжал: — Ежели вы, сударь, так говорить начали, то требую немедля сатисфакции[15]. Сейчас, тут! В пистолетах есть еще заряды.
Шемберг сжал еще кулаки и, круто повернувшись, молча вышел из зала.
— Струсил! — презрительно бросил ему вслед Повидла. — Туда же — «дворяне, опора престола!» Не дворянин, а гороховая колбаса!
Отшвырнул брезгливо носком сапога трупик попугая и тоже пошел к дверям, раздраженно звякая шпорами.
Оставшись один, Агапыч долго и тихо смеялся, лукаво и довольно качая головой. Смех его прервали куранты, хрустально-нежно прозвеневшие в спальне Шемберга. Пересчитал бой, беззвучно шевеля губами, и снова затрясся в смехе.
Затем перешел к столу, косясь опасливо на лежащие пистолеты, потянулся к бутылкам и налил стакан малаги. Сладко щурясь, тянул не спеша душистое, густое вино. Стакан дрогнул в его руке и пролившееся вино пятнами крови расплылось по скатерти. В раму кто-то постучал сильными, частыми ударами. Агапыч подбежал к окну и отшатнулся с воплем:
— Хлопуша!
К стеклам, чуть запотевшим от первой топки, прилипло безносое лицо. Агапыч рванулся от окна, но страх свинцом налил ноги. В голове мелькнула мысль: «Хотел ведь Хлопушу с глазу на глаз видеть. Ну, вот он пришел. Иди, сунься-ка к нему»!..
А безносый человек за окном призывно махал руками. Собравшись с духом, Агапыч снова прильнул к стеклу и вдруг плюнул раздраженно и облегченно. Он узнал Петьку Толоконникова. Приплюснутый оконным стеклом Петькин нос он принял за рваные ноздри.
— Вот нелегкая его возьми! Везде этот бес мерещится.
Агапыч торопливо побежал к дверям.
Войдя в зал, Толоконников потянулся иззябшими руками к печке.
— Экая стужа, так и хватает за сердце.
— Чего по ночам таскаешься? — раздраженно спросил Агапыч.
— Как чего? — удивился Толоконников. — А облава на Хлопушу? Ведь нынче ночью собирались. Он и Жженый в землянке у Башкирского Брода ночуют. С ними только два конных башкирина. Возьмем голыми руками.
— У Башкирского Брода? — притворно удивился Агапыч. — А я управителю сказал, что они на Карпухиной зимовке станут. Как же это я спутался.
Толоконников смотрел на него, недоумевая.
— Вот что, парень, — сказал решительно Агапыч. — Ничего из этого дела не выйдет. И облавы никакой не будет.
— Что так? — опешил Толоконников. — Иль не веришь мне?
— Верю! Да только переругались они дюже, офицер и управитель.
— Чего не поделили? — хмуро полюбопытствовал Петька.
— А вот, видишь, — показал Агапыч на мертвого попугая, — офицер голову ему отстрелил.
— Это из-за пичуги-то заморской? Ну и дурни! Так неужель из-за пичуги этой Хлопушу упустим?
— Видать, упустим! — Агапыч хитро улыбнулся. — Я к ним ни за какие деньги не пойду с докладом. Оба дюже распалились. Немец запустит чем ни попади, а ротмистр, тот, пожалуй, из пистолета пульнет. Лютый!
— Язви вас всех в печенку! — Петька хлопнул шапкой об пол. — С дурнями свяжешься, голову ни за грош потеряешь!
— Очень даже просто голову потерять можно, — охотно согласился Агапыч. — Уразумел или еще растолковать?
Толоконников испуганно попятился от приказчика:
— Не надо! Все равно не пойму. Вяжешь, Путаешь… Ну тебя к монаху! А только пойми, господин приказчик, нам с тобой теперь поздно пятиться. Головой играть не след. На голову короче не стать бы. Уразумел или еще растолковать?
Петька поднял шапку и, следя по паркету мокрыми унтами, пошел к двери. Но тотчас же вернулся.
— Слушь, вот еще что. Шел я сюда через Баштым-гору и зашел к тамошнему огневщику[16] погреться. И рассказал он мне, что седни, в сумерки слышал он скрип тележный, крики верблюдов и голоса великого множества людей. Словно бы целое войско горами шло. А где шли и кто, ему не видать было. Чуешь, какое дело?
— Неужель он? — прошептал Агапыч.
— Пугач, думаешь? А что ж, не диво. Пока вы тут склоку разводите, он и подкрадется, яко тать в нощи. Уговорился я с огневщиком, коли он что неладное увидит, костер на Баштым-горе, на самой маковке, запалит. Это весть нам будет. Куда тогда попятишься, Агапыч? Одно нам тогда останется — ворота закрывать и солдат на валы выводить. Ну, пошел я…
Проводив Толоконникова, Агапыч вернулся в зал, потушил свечи. Тьма, словно ожидавшая этого, выпрыгнула из углов, спустилась с потолка. И потускнело золото портретных рам, искрящимися льдинами засинели окна. Нахлобучив треух, вышел на двор. Шагая к своей избе, оглянулся на Баштым. Сразу остановился. Протер глаза, словно в них попала пыль, опять поглядел.
На макушке Баштыма горел костер. Одиноко мерцающий во тьме огонек имеет притягательную силу человеческого взгляда, И Агапычу почудилось, что кто-то безжалостный и злой смотрит пристально с вершины горы на обреченный завод. Но вот острая макушка Баштыма начала вырисовываться яснее и яснее, словно сзади горы поставили огромную свечу. И, наконец, яркое зарево трепетным пологом повисло на черном ночном небе.
Агапыч повернулся и побежал обратно, к господскому дому.
ЗАРЕВО
Смерть какаду не на шутку взволновала Шемберга. Даже в постели, укрывшись пуховым одеялом, не мог забыть окровавленный трупик птицы. Подвинул ближе к изголовью ночной столик со свечой и раскрыл переплетенный в желтую свиную кожу толстый том сочинения о рудном деле. На титульном листе полюбовался картинкой: Уральские горы, увенчанные императорской короной с вензелем Екатерины, разверзлись, и сыпятся из их недр сокровища — глыбы руды, плиты мрамора, потоки самоцветов, золотого песка и самородков. Начал читать с того места, на котором остановился в прошлую ночь:
«Ныне уже, любители рудных дел, одарены вы отменным зрением, коим не токмо по земной поверхности, но и в недра ее глубоко проникнуть можно. Пойдем ныне по своему отечеству, станем осматривать положения мест и разделим к произведению руд способных от неспособных. Потом на способных местах поглядим примет надежных, показывающих самые места рудные. Станем искать металлов, золото, серебро и протчих, станем добираться отменных камней, мраморов, аспидов, и даже изумрудов, яхонтов и алмазов.
Дорога будет не скучна, в которой хотя и не всегда сокровища нас встречать станут, однако, увидим минералы в обществе потребные, которых промыслы могут принести не последнюю прибыль».
Не закрывая книгу, положил ее себе на грудь и задумался: «Золото, серебро… Изумруды, рубины, алмазы… Все это есть наверняка в здешних горах, если поискать как следует, умеючи. Русские не замечают богатств, валяющихся у них под ногами».
Над кроватью, в дорогой рамке, висела напечатанная золотыми буквами цитата из указа императора Петра I. В тысячный, наверное, раз перечитал царские слова:
«Наше Российское государство перед многими иными землями преизобилует и потребными металлами и минералами, благословенно есть».
«Это верно! Государство Российское изобилует многими металлами и минералами. А горы Уральские еще не открыли полностью своих недр. Совсем рядом, в Ильменских горах, за Урал-тау, бродила разведочная партия купца Раздеришина, которую охранял казачий конвой из Чебаркульской крепостцы. Казак охраны Прутов тоже, любопытства ради, копался вместе с рудознатцами в камнях и наткнулся на месторождение самоцветных камней — топазов, аметистов, изумрудов. Туда теперь много горщиков налетело, туда и ходит Петька Толоконников по его, управительскому, поручению, скупает у горщиков камни. Отменные иной раз попадаются! Однако это чужие земли, с законом можно поссориться. Хорошо бы на свой риск начать разведку и своих гор. „Станем искать металлов, золото, серебро и протчих… станем добираться отменных камней, мраморов, аспидов, и даже изумрудов, яхонтов я алмазов“. Но как сунешься в горы, если кругом бродят пугачевские шайки? Надо выждать время, пусть утихнет этот бунт, и тогда с собственной разведочной партией можно будет отправиться на поиски „отменных камней“. Средств на это дело хватит! Не даром прошли пять лет управительства графским заводом. А пока будем отсиживаться от бунта на заводе и ждать лучших времен. С офицером помириться надо. Подарок ему подсунуть какой-нибудь. За его спиной и за спиной его солдат можно чувствовать себя вполне спокойным. Никакой Хлопуша не страшен!..»
Мечты о ждущих его в Уральских горах Голкондах и Эльдорадо успокоили взволнованные чувства управителя и навеяли дрему…
Улегся поудобнее и задул свечу. Через неплотно прикрытые занавеси на окнах увидел розоватый отсвет. Решил, что это всходит месяц, вздохнул счастливо и сразу заснул.
Проснулся от странного звука, похожего на отдаленный тихий звон колокольчиков. За время сна потерял представление о времени — не знал, свел ли он веки на одну секунду или проспал несколько часов. Тихий, едва уловимый звон повторился где-то совсем близко, чуть ли не в головах кровати. Неожиданный и непонятный страх перехватил горло. Крикнул сдавленным голосом;
— Кто здесь?
— Это я, ваша милость, — ответил из-за двери спальни камердинер.
Шемберг облегченно, шепотом выругался. Спросил недовольно:
— Что надо?
— Извините, ваша милость, что тревожу столь неожиданно. Но вести получены, не терпящие отлагательства.
Шемберг нашарил в темноте туфли, надел халат и отпер дверь. Вместе с камердинером, внесшим зажженный канделябр, в спальню проскользнул Агапыч. Приказчик, видимо, еще не ложился. Он был в своем долгополом кафтане, наглухо застегнутом, и в валенках, на которых таял снег. В руках он держал громадную связку ключей, пропустив их кольцо на руку до локтя. Тихое позвякивание ключей и разбудило управителя.
— Ну, зачем беспокоили среди ночи? Пример? — строго спросил Шемберг.
Агапыч, не отвечая, подошел к окну и отдернул занавес:
— А вот зачем! Сами изволите видеть.
Шемберг подошел к окну и вздрогнул. Небо было залито нежно-розовым заревом.
— Что это? — шепотом спросил потрясенный Шемберг.
— Пугач! — сурово и коротко ответил Агапыч, — И до нас добрался. Надо думать, это Хлопуша орудует.
— Почему ты так думаешь? Может быть, просто пожар. Где горит?
— Сосед наш, Источенский завод горит, — по-прежнему хмуро отвечал Агапыч, — И баталия, видимо, там идет немалая. Набат слышен, из ружей палят.
Шемберг схватил канделябр и бросился из спальни. Видно было, как он несся по комнатам, развевая полы халата, а пламя свечей коптящими языками стлалось над его головой. Ом добежал до лестницы на вышку и скачками, через несколько ступеней, ринулся наверх. Агапыч всплеснул руками и шариком покатился за управителем.
Ветер, свистевший в столбах вышки, загасил свечи. От этого еще чернее показалась ночь и еще ярче заполыхало зарево, из бледно-розового превратившееся в багрово-красное и охватившее всю северную часть неба. Огонек на верхушке Баштыма погас, растворился в пламенных разметах зарева. Оттуда, со стороны огненного моря, долетали звуки набата, словно стая медных птиц неслась с криками под багрово-черным небом.
Вот зарево вспыхнуло особенно ярко, осветив нагие березы господского сада и черные пятна вороньих гнезд на них. Огненные блики легли даже на Белую, и она в их отсветах текла медленная и черная, как вар. И тотчас же, покрывая тревожные звуки набата, над горами гулко охнул пушечный выстрел. Эхо звонко раскатилось по реке. Воронье сорвалось с гнезд и с оглушительным карканьем закрутилось над домом. Словно догоняя первый выстрел, покатился гул второго. Затем выстрелы начали сдваиваться, страиваться. Задребезжали стекла. За спиной Шемберга Агапыч шептал:
— Его гонят, или он по заводу бьет?
Управитель не ответил. Вцепившись в перила, не отрываясь, смотрел на зарево…
По тракту бешеной дробью рассыпался стук копыт лошади, мчавшейся галопом. Шемберг прислушался. Всадник скакал сюда, к заводу. Конь прогрохотал по гати заводской плотины, затем цоканье подков послышалось на литейном дворе и замерло около дома.
— Узнать, кто! Живо! — бросил через плечо Агапычу Шемберг.
Приказчик поспешно спустился с вышки.
Снова один за другим раскатились два пушечных выстрела. Снова огромными хлопьями сажи взлетели кверху вороны. Агапыч, вынырнув на вышку, сказал запыхавшись:
— Оттуда, с Источенского завода. Купец питейной продажи. Насилу от душегубов вырвался. Да вы спуститесь вниз, он вам все по порядку обскажет…
В зале, где в уголке еще лежал убитый попугай, Шемберг увидел молодого парня в длиннополом кафтане и в сапогах выше колен.
— Батюшка барин, — бросился он к управителю, — бегите, душеньки свои спасайте! Разорили наш завод душегубы, кабак мой сожгли. Как же я теперь ответ держать буду?
— Не мели без толку! — услышал Шемберг за своей спиной спокойный голос и обернулся. Секунд-ротмистр, одетый, даже с пристегнутой саблей, стоял сзади него.
— Когда напали на завод? — спросил ротмистр.
— Скоро после полуночи. Потаенно подкрались, а потом как загалдят…
— Много их?
— Сила несусветная! С дрекольем, с пиками на слом бросились. Избы предместья зажгли, на пристани барки и лес тоже запалили. Потом в ворота ломиться начали.
— А гарнизон ваш?
— Гарнизона на бунтовскую сторону переметнулась. У пушек клинья вытащили, ворота открыли и бунтовщиков с хлебом-солью встретили. А те, как вломились на завод, контору и дома мастеров пожгли, а все заводское устройство, фабрики, амбары и магазею, где для работных провиант сложен, не тронули и даже свой караул поставили.
— А работные люди бунтовщикам отпор дали? — спросил Шемберг.
— Куда там! — Кабатчик злобно отмахнулся. — Тотчас к злодеям пристали. Мастера да нарядчики, те в горы убежали. А заводской управитель и офицер в каменном господском доме заперлись. Да где уж, доберутся и до них. Это счас бунтовщики палят, по господскому дому.
— А наших кого не видел среди злодеев? — осторожно спросил Агапыч.
— Были и ваши. Павлуха Жженый и еще некоторые. Они у нас две пушки на лафетах забрали. Похвалились, что ваш завод пойдут громить. А за набольшего у бунтовщиков пугачевский полковник, прозвищем Хлопуша.
— Хлопуша? — управитель вздрогнул. — Тогда пощады нам не будет. Хлопуша с нашим Жженым, говорят, большие друзья.
— Ладно. Иди, — сказал кабатчику ротмистр.
Но тот переминался с ноги на ногу и не уходил.
— Для вас у меня тоже весточка есть, ваше благородие, — обратился он, наконец, к ротмистру, — слышал я, как бунтовщики меж собою похвалялись, будто скопище пугачевское вашу Верхнеяицкую фортецию обложило. А в ней генерал Деколонг с отрядом спрятался.
Ротмистр заметно растерялся.
— Та-ак, — протянул он, подкручивая усы задрожавшей рукой. — Начальник сибирского корпуса генерал Деколонг осажден пугачевской рванью. В мыслях не держал, что бунт столь яростен будет. И, обращаясь к Агапычу, попросил:
— Не откажи, сударь, вахмистра моего ко мне крикнуть.
— Что вы предположены делать? — забеспокоился Шемберг.
— Неужели, сударь, не догадываетесь? — Повидла нехорошо улыбнулся. — Ретироваться надо. Здесь остаться — наверняка эскадрон погубить.
— Но ведь ваша крепость осаждена бунтовщиками?
— Мало ли крепостей и городов в здешних краях. И не все их пугачевцы обложили. На Челябу пробираться будем. Воевода Веревкин нас с открытыми объятиями встретит. У него теперь, при временах столь тревожных, каждый солдат на счету. Оттуда, из Исецкой провинциальной канцелярии, полагаю, воспоследует руководство притушением сего дерзкого бунта.
— А я как? — растерялся управитель.
Ротмистр пожал плечами.
— Я вас не бросаю. Коль в седле умеете сидеть, поедете с моим эскадроном. Я не варвар, как думают некоторые, — многозначительно подчеркнул он. — Жизни вас лишать желания не имею.
— Мой бог! Прошу вас, господин секунд-ротмистр, забудьте эти мои глупые слова. Умоляю, забудьте, — протянул к офицеру руки управитель. — Я сознаюсь, что был дурак. Но как же я брошу здесь деньги, меха, золото? Господин граф накажет меня за это.
— Вас я беру, — холодно оборвал его ротмистр, — а до остального мне дела нет. Обоза у нас нет, эскадрон пойдет налегке. Из-за вашей рухляди я голову терять не намерен.
— Рухляди! — Управитель в ужасе всплеснул руками. — Графское золото — рухлядь?
«Не о графском ты золоте заботишься, а о своем. Насосался у нас здесь, как пиявка», — подумал со злобой Агапыч.
И, подкравшись к управителю, торопливо шепнул ему на ухо:
— Подарочек его благородию посулите, он и перестанет ломаться…
Шемберг, хлопая туфлями, побежал в спальню и тотчас вернулся, неся мешочек из замши. Развязав торопливо, опрокинул его над столом. Сверкающей струей полились сиреневые и сине-алые аметисты, золотистые хризолиты, топазы-тяжеловесы, розовато-желтые селениты.
— Вот, — сказал Шемберг, — я давно хотел сделать вам презент. Прошу, пожалуйста, принять.
Гусар пренебрежительно посмотрел на груду камней, «Дешевкой хочет немец отделаться. Рубины и изумруды, небось, не показывает. Здесь товару и всего-то целковых на пятьдесят».
А Шемберг, заметив равнодушный, презрительный взгляд офицера, занервничал:
— Это есть селенит, лунный камень, — взял он из кучки камешек с шелковистым отливом, желтый, но с затаенным багрецом внутри. — От него в доме тишина бывает. Если, пример, жена сварливая…
— В собак им пулять, селенитом вашим. В Екатеринбурге на базаре его сколь хочешь, — пренебрежительно выпятил губу Повидла.
— О, бог мой! — всколыхнулся управитель. — Селенит — в собак пулять.
Он заторопился, дорогое время уходит, разровнял по столу ладонью камни и, словно угадав мысли секунд-ротмистра, вытащил единственный в камнях рубин.
— Ахтунг! Шесть граней! Екатеринбургской огранки работа. Не хуже амстердамской. — Он поднес к свече камень густого кровавого цвета. — А днем, светом нальется, не так еще заиграет!
— Камешки, небось, не честным путем вами приобретены, — ядовито сказал Повидла, а приказчик взрыгнул от злой радости. — Чай, и золотишком ворованным промышляете, а может быть, и фальшивую монету чеканите, как покойный Акинфий Демидов? Кунштюки ваши, сударь мой, все же ни к чему не приведут, — сказал он. — Вас я с собой беру, а добро свое здесь прячьте. Это последнее мое слово!
Шемберг беспомощно поглядел по сторонам. На глаза ему попался ларец с кухенрейтерскими пистолетами. Схватил его и протянул ротмистру:
— Это тоже мой подарок! Вы солдат, вам они нужнее. А я не о себе забочусь, интерес господина графа мне дороже собственной жизни.
Повидла сдался. Бережно принял от управителя ларчик, передал его вошедшему вахмистру, а камни со стола сгреб в гусарскую ташку.
— Хорошо. Пропозиция моя такая к вам будет, — сказал он. — Берите с собой еще лошадей, вьючьте их переметными сумами и седельными торбами. Хватит?
— О! — Управитель поднял глаза к потолку. — Я всегда говорил, что вы благородный человек.
В этот момент за дверьми послышалась возня, чей-то отчаянный крик, и в зал ворвался человек. Он упал к ногам Шемберга, целуя полы его халата. Это был Петька Толоконников.
— Барин, солнышко наше ясное, — завопил Петька, — меня с собой возьмите! Ежели останусь, смертушка мне. Ведь я для тебя служил, смилуйся, не бросай!
— Пшел, пес! — Шемберг брезгливо вырвал из рук Петьки полу халата. — Ничего я не знаю. Уходи, живо!
Петька упал на пол и, колотясь головой о паркет, взвыл по-бабьи:
— Смертушка моя!.. Быть мне на веревке!.. Ратуйте, люди добрые!..
— Кто это? — ротмистр удивленно поднял брови.
Шемберг замялся, смущенно потирая руки.
— Работный наш, — сказал он, наконец, и добавил стыдливо — Сей человек выполнял для нас особенного свойства поручения, нарочито деликатные.
— Камешки самоцветные он у горщиков для управителя выманивал, — рубанул в открытую Агапыч. — А еще шпионом нашим был, Хлопушу обихаживал.
— Как? — развел удивленно руки Шемберг. — Петька был Хлопушин конфидент? Почему я об этом не знал?
— Не одному тебе, батюшка, Петькой пользоваться, — ответил невежливо Агапыч и обратился решительно к офицеру. — Ваше благородие, Петьку вы с собой забирайте. Не дайте человеку пропасть. Хлопуша и Жженый о Петькином ушничестве дознались, и ему здесь верная смерть будет.
Ротмистр ткнул носком сапога лежащего Петьку:
— Довольна выть, не баба! Отвечай, только не ври. Уршакбашеву тропу знаешь?
— Знаю! — вскинул голову Петька. — Убей меня бог, знаю, ваше благородьичко!
— Провести нас ею сможешь?
— Семь раз ходил, — радостно закричал Толоконников. — Для управителя за самоцветами ходил. Сначала все по берегу Белой, так чтоб Малиновые горы[17] все время в спину были, а как до Акташ-горы дойдешь, круто на закат свертывай, на башкирские святые горы Иремель. Там тропа кончается и на два пути делится. Левым путем по реке Ай до златоустовского купца Лугинина завода добредешь, а правая тропа на Чебаркульскую крепость и далее на Челябу пойдет. Вам куда, ваше благородие?
— Верно! — подтвердил ротмистр. — А до Челябинской крепости, по-твоему, как далеко?
— Сам не хаживал, а от других слыхал, что ден пять пути будет.
— Ладно! Пойдешь с нами проводником. Иди, сряжайся в путь.
Петька бросился в ноги ротмистру, поцеловал полу его венгерки и выбежал торопливо из зала.
— Трактом ретироваться небезопасно, — обратился ротмистр к Шембергу. — От летучих шаек злодеев нападению подвергнуться можно. А в случае неудачи, с вашим добром как ускачешь? И решил я скрытной Уршакбашевой тропой до Иремеля подняться, чтобы из сих мест, объятых мятежом, незаметно выбраться. А потом пойдем открыто на Челябу. Так для наших голов и для вашего добра лучше будет.
Никто не заметил, каким торжеством загорелись глаза приказчика, когда ротмистр согласился взять Толоконникова проводником. Но он поспешил под опущенными ресницами скрыть их радостный блеск, К нему подошел Шемберг.
— Господин Агапыч, совета прошу. С заводом как поступить? Сжечь, чтобы Хлопуше не достался? Пример?
Агапыч выдвинулся вперед. Вид у него был торжественный и серьезный. Склонив голову набок, заговорил проникновенно:
— Батюшка Карл Карлыч, сам ты видел, что я на службе его сиятельства графа живота не жалел. И хочу я до последнего издыхания ему послужить. Останусь я на заводе его добро доглядывать. Бог не выдаст — свинья не съест. А без врагов и в заячьей норе не проживешь. Стар я, и смерть мне не страшна. Может, хоть малую толику из графского имущества сберегу. А, впрочем, твоя управительская воля, как прикажешь, так и сделаю.
Не поверил Шемберг ни одному слову Агапычеву. Уставился на него пытливо. Хотел в душу ему пробраться, разворошить ее до дна, узнать, что задумала эта проклятая лиса. Но Агапыч ответил ему по-детски невинным взглядом. С безмятежным спокойствием ждал он ответа управителя. И Шемберг, не в силах разгадать задуманное, ответил сухо:
— Оставайтесь. Я рад. Об усердии вашем, при случае, графу донесу.
— Все? Можно трогаться? — спросил ротмистр и приказал вахмистру:
— Приказывай седлать. Предупреди гусар — дорога дальняя.
И когда все вышли из зала готовиться в дорогу, Агапыч прошептал злорадно:
— Вот так-то! Владыкой самовластным здесь был, а теперь пятки салом мажешь. После полотенчика — онучей! Мудрите вы много. А во многой мудрости — многие печали. Я же попросту живу. Бегите, спешите и Петьку с собой захватывайте. Кто тогда докажет, что я против Пугача шел? Никто! Все следы замел я! А с душегубцами Емелькиными я полажу. Послужу новым хозяевам! Старые-то, вроде немца, все только в свой карман норовили. У них не попользуешься. А новых хозяев я вокруг пальца оберну. Ишь что офицер-то говорил: «У Пугача из тебя генерал бы вышел». А на кой мне ляд их генеральство? Я управителем на заводе буду. Сколь ни есть времени, а все поцарствую. Сундуки золотом набью. А с казной-то везде хорошо, везде ты гость дорогой. Спокойных времен дождусь и, глядишь, кафтанчик короткополый надену и паричок напялю. За деньги и дворянство купить не диво!..
ГОРЫ
Шемберг вытащил из потайного ящика сверток с особенно крупными золотыми самородками и самоцветными камнями и сунул его за пазуху белого бараньего Полушубка. Вздохнул облегченно. Окинул прощальным взглядом комнату и вышел на крыльцо.
Рассвет чуть брезжил, но на дворе было светло от выпавшего за ночь первого недолговечного снега, мягкого и пушистого, как мех. Горы были молчаливы и угрюмы. Притаилась, как волчица, тайга, враждебно ощетинилась. На каменные лапы сыртов положила она тяжелую голову с острыми хвойными ушами и смотрела внимательно, не мигая, черными бездомными глазами.
Было тихо. Заснул даже вечный бродяга ветер. Шумела только Белая, вздувшаяся от растаявших первых снегов. Длинные черные ее волны бежали вдоль берегов, взбрасывая вверх оторванные от заводской пристани бревна и доски. Бревна поднимались на дыбы и, ударяясь о бока стоявшей здесь же баржи, гремели точь-в-точь, как вчерашние пушки.
Поеживаясь от предрассветного холодка, струями пробегавшего между лопаток, Шемберг пошел к воротам. Оттуда неслись людские голоса и конское ржанье. Погонщики, выбранные, управителем из особо приближенных дворовых людей, суетились около вьючных лошадей, увязывая торопливо тюки. Их работу педантично проверял камердинер Фриц. Невыспавшимися сиплыми голосами переговаривались гусары, докуривая перед походом последние трубки.
— Готово, что ли? — нетерпеливо спросил ротмистр и, не дожидаясь ответа, скомандовал: — По коням! Садись!
Звякнули о стремена сабли, заскрипела кожа седел.
— Шагом, а-арш! — снова раздалась команда ротмистра.
Шемберг вскарабкался на своего киргизского жеребца. Стремя ему почтительно придержал Агапыч. Пропустив вперед вьючных лошадей, чтобы в пути иметь их перед глазами, управитель занял свое место в колонне.
Агапыч крикнул вслед отъезжающим:
— Доброй путины! Счастливо добраться!
А затем с грохотом и скрипом захлопнулись тяжелые заведение ворота. Никто не ответил на пожелание доброго пути. Все угрюмо молчали.
Шемберг посмотрел на Баштым-гору. Зарево погасло. Лишь облака, лениво перелезавшие через гору, оставляя на ее вершине клочья своих подолов, розовели нежно по краям от еще тлевшего внизу пожарища.
В голове каравана ехал Петька Толоконников, с персидским ружьем через плечо. Рядом с Петькой ехал нарядный, тепло одетый ротмистр.
Обойдя завод по берегу Белой, Толоконников уверенно свернул в горы. Здесь отряду пришлось выстроиться гуськом. Две лошади рядом не прошли бы по узким горным тропам.
Поднялись на первый взлобок, миновали свежую вырубку, прошли угольные ямы, в которых обжигался уголь для заводских домен. Ямы еще дымили, чадя густой дегтярной копотью, а вокруг ни души. Жигари ушли все до одного в пугачевские отряды.
За землянками и балаганами жигарей начиналась густая девственная тайга. Шемберг остановил коня и оглянулся в последний раз на завод. Он лежал внизу тихий, безлюдный, испуганный. Ни одного дымка не вилось над его строениями. Обезлюдел и заводской поселок, лишь перебрехивались лениво голодные собаки. И оттуда бунт вымел людей, бросил их в горы, в пугачевские партизанские отряды.
Долго смотрел вниз Шемберг, но не видел он, как вслед за караваном, по его следам, прокрались два всадника на мохноногих низкорослых лошадках. На всадниках были пестрые халаты, рысьи шапки, вооружены они были луками и короткими копьями-дротиками.
Шемберг тронул коня и, догоняя отряд, поскакал в тайгу.
В лесу плавал зеленый утренний свет. Тихие стояли сосны, недвижимо распластав широкие лапы ветвей. Неутешно плачет жена, большой черный дятел, да шебаршат под копытами коней опавшие листья.
Но вот, вестником близкого солнца, зашумели по соснам верховые ветры, и величавая песня леса катилась медленной волной, перебираясь с вершины на вершину, затихая ненадолго в глубоких ущельях. И от этой дикой первобытной лесной песни тоска закрадывалась в сердце Шемберга, и ему хотелось повернуть коня к теплу, к людям, к живым человеческим голосам.
Когда поднялось солнце, яркое, но холодное, отряд шел уже Уршакбашевой тропой по глухой тайге. Ветви деревьев, нагие, похожие на оленьи рога, нависали над тропой, били путников по лицу. Шемберг вытирал кровь от царапин с гладко выбритых щек. Но молчал, терпел, любовно поглядывая на вьючные тюки: «Ради этого можно перенести и худшее. И мы еще вернемся в эти дикие дебри, вернемся, чтобы покорить и вырвать из их недр несметные богатства!»
Уршакбашева тропа извивалась ползущей змеей, сползала в ущелье, взбиралась на вершины, перекидывалась через ручьи и мелкие горные речушки. Тогда брались за топоры, валили поперек русла несколько деревьев и по этому зыбкому мосту переводили в поводу храпящих, перепуганных лошадей.
Спускаясь к подножиям гор, попадали в болота. Шли по полусгнившим бревенчатым сланям, а по обеим сторонам гати упруго качалась трясина, надувалась, дыбилась волной и лопалась смачно, выплевывая, как гной, вонючую грязь. На одном из этих качай-болот не было слани. Отыскивая путь, гусары срубили молоденькую саженную сосенку и ею прощупывали трясину. Сосна ушла целиком, от вершины до комля, а затем упругая мощная сила выперла ее с чавканьем снова наверх. Шемберг побледнел, вообразив медленную мучительную смерть в этой холодной вонючей бездне. Но по краешку, по кромке, обошли и эту трясину.
Белая не отставала от каравана. Она шумела неумолкаемо внизу, у подножия гор, словно билось где-то рядом огромное сердце, переполненное кровью. А затем река начала играть с путниками в прятки. То блестит серебром под самыми ногами, то нырнет в горную щель, чтобы через полчаса снова кинуться навстречу каравану. Свет и тени переплетались, сменяли друг друга на каждом шагу. От пестроты красок рябило в глазах.
Скалы, теснившие Белую, то вставали угрюмыми мрачными идолами, то сползали к реке хребтастыми доисторическими ящерами, то обрывались отвесной, словно человеческими руками обтесанной стеной.
Вот на противоположном берегу Белой, на светлой поверхности скалы зачернела мрачная пасть пещеры. Обернувшись к ехавшему сзади ротмистру и указывая на нее, Толоконников сказал:
— Ермакова пещера. Старики бают, клад там скрыт, золото и самоцветы[18].
— Иди ты к бесу с Ермаком! — раздраженно ответил ротмистр. — К печке бы поскорее, чтобы дрова постреливали, да пуншику бы горячего… А здесь вот мерзни, как собачий хвост в проруби!
— Когда бурлаки в коломенках мимо этой пещеры плывут, — не унимался Толоконников, — или лесорубы плоты гонят, они всегда «ура, Ермак!» кричат. Иначе доброго пути не будет. Или коломенки о камни убьются, или плот на перекатах размечет, а то и утонет кто. Надо и нам, ваше благородие, Ермаку «ура» крикнуть. Худа бы не было. Старинный обычай исполнять надо. Неровен час…
— Я те крикну! Огрею вдоль спины, не только «ура» — «караул» закричишь! — пригрозил ротмистр. — Нам дышать громко не след, потаенно, как тараканам, ползти надо, а он, дурень, «ура» кричать вздумал…
…В полдень сделали небольшой привал. Наскоро закусили и двинулись дальше. Торопил всех ротмистр. Необъяснимая тревога угнетала его. Он спешил пройти Иремельские горы, чтобы быть поближе к Чебаркульской крепости, из которой, наверное, делаются вылазки сильными воинскими отрядами. Если они встретятся с таким отрядом — они спасены. А пока надо спешить и спешить.
И они спешили. Но лошади, изранившие ноги об острые камни, ежеминутно спотыкались и, отупев от тяжелого пути, в ответ на удары шпор и нагаек лишь вздрагивали покорно, не прибавляя шага.
Тропинка по-прежнему юлила, обходя скалы, ныряла в таежную чащу и выбегала к низинам — болотам. А впереди, сзади, направо и налево, со всех сторон без конца, без края, словно синие грозные тучи, громоздились горы. Иногда тропа совершенно исчезала, но Толоконников уверенно шел вперед, руководствуясь какими-то ему одному известными приметами.
Все чаще и чаще начали встречаться звериные следы и сами звери. Под лошадиными копытами огненным комом перемахнула тропинку куница. Лисицы пускались наутек, подняв тугой пушистый хвост, и издали, из безопасности лаяли хрипло и тонко. А в одной из низин, густо заросшей орешником, услышали неуклюжую возню и треск валежника под чьими-то тяжелыми лапами. Лошади, прядая ушами, испуганно захрапели.
— «Хозяин» бродит! Берлогу выбирает, — заговорили возбужденно гусары, оглаживая испуганных коней и щупая курки карабинов.
— А може и не медведь, а он лютует, — сказал седой гусар и перекрестился. — Самое ему время.
— Кто это «он»? Какое «самое время», — крикнул, услышав разговор в рядах, секунд-ротмистр.
— На Ерофея-мученика леший бесится, ваше благородие, — ответил старик гусар. — Деревья ломает, зверей гоняет и проваливается в тартарары до весны. Не приведи господь с ним в такой день встретиться. Изломает и в болото сунет!
Гусары испуганно закрестились. А Повидла рассердился.
— Прекратить дурацкие разговоры! Не лешего опасайтесь, а…
Он разозлился еще больше и безжалостно пришпорил ни в чем не повинного коня.
Караван забрел в самые глухие дебри Урал-камня. Картины, полные сурового величия, открывались перед путниками на каждом шагу. Вот на юге рванулся к небу мощным взлетом горный кряж Маярдак и застыл окаменевшими волнами. Видна только передняя цепь его гор, а остальные слились в неясную полосу. На западе — другой неизвестный кряж, затянутый синей дымкой. Отдельные его вершины повисли в воздухе между небом и землей, плавая в туманном мареве.
Великаны-деревья все теснее и теснее обступали тропу. Ноздри людей ловили то сладкий запах лиственницы, то сухой смолистый аромат сосны. Тишина гнетущая, словно под сводами подвала, наваливалась на караван. Лишь стук дятла, изредка бормотанье падуна-водопада да детский плач кречета в небе тревожили эту вековую горную тишь.
Под вечер, когда красное мутное солнце начало скатываться за хребты, Петька остановился. Указывая на вставшую перед ними седловатую гору, сказал ротмистру:
— Вот ее перевалим и Акташ-гору увидим. А за Акташ-горой вскоре и Иремели начнутся. Там нашей тропе конец.
Ротмистр слез с коня, с удовольствием разминая затекшие от седла ноги. Удивленный Петька последовал его примеру.
В узкое ущелье, где остановились ротмистр и Петька Толоконников, начали втягиваться один за другим гусары. Потом показались вьючные лошади Шемберга, а за ними и он сам, с губами, посиневшими от холода, с расцарапанными щеками, но веселый и довольный.
— Почему остановка? Пример? — крикнул он ротмистру. — На ночлег остановимся?
— Пора бы, лошади еле бредут, — ответил Повидла и приказал вахмистру: — С коней долой! Лошадей не размундштучивать. Людям не расходиться. Ждать меня.
Затем повернулся к Петьке:
— А мы с тобой, давай-ка на эту гору слазим.
Сняв с себя все лишнее, они начали подниматься по голым гранитным утесам горы.
Вершина безлесная, голая была загромождена «россыпью», как называют на Урале обрушившиеся осколки скал и крупные камни. Восточная сторона горы обрывалась отвесной гладкой стеной. Внизу, у подножия ревела и металась среди порогов Белая. Реку в этом месте со всех сторон обступили крутые лесистые кряжи, казалось, зажали ее в каменное кольцо. Но она все-таки прорвалась. У подножия Чудь-горы Белая нашла щель и злая, стремительная, в седой пене, неслась, закручивая ошалело воронки водоворотов. Ротмистр подошел к краю стремнины, поглядел вниз. Заныло, заломило в ногах и сладко закружилась голова. Испуганно отшатнулся:
— Ну и пропастина! Так и затягивает.
— А вон, ваше благородие, глянь-кось, Золотые шишки видны, — сказал Толоконников.
Повидла посмотрел в указанном направлении и увидел гору, вершина которой причудливо изгрызенная ветрами, отливала на солнце золотом.
— А теперь на закат гляди. Самое матушку Яман-гору увидишь.
Ротмистр, приложив к глазу подзорную трубу, повернулся к западу. Яман-тау большую часть года бывает закрыта туманами и облаками, пряча в них белоснежную свою голову. Но ротмистру посчастливилось. На один только миг ветер отдернул облачный полог, обнажив мрачный массив горы. Ротмистр невольно вздрогнул при виде этой зловещей красоты. Яман-тау сейчас же укуталась в облака, но перед глазами Повидлы долго еще стоял хаос головокружительных черных круч, голых мертвых скал и глубоких извилистых ущелий.
Не отрывая трубы от глаза, повел вокруг, чуткими ее стеклами прощупывая окрестность. Острые вершины гор, изломанные спины хребтов спокойными могучими волнами уходили вдаль, в кипящее золото заката. Нигде ни признака человека: ни крыши, ни дымка, ни собачьего лая. Пустыня!
Опустил трубу и приказал Толоконникову:
— Беги вниз, передай от моего имени вахмистру, что мы здесь на ночлег остаемся. Скажи, чтоб лошадей не расседлывать, больших костров не разводить. И пусть двух часовых выставит: одного — у входа в ущелье, другого — к реке. Иди!
Петька, шурша осыпающимися из-под ног камнями, понесся под гору. Вскоре стих шум его шагов.
Белая буйно билась о берега, шумно вздыхала на порогах, где-то хрипло лаяла лиса, снизу, из ущелья доносились голоса людей и треск ломаемого на костры валежника. Недовольно поморщился:
— Эка разорались! На десяток верст слышно.
Еще раз вскинул к глазу трубу. Дыбятся темные горы. Чуть поблескивает река. На потемневшее небо высыпали первые звезды. Костры, разложенные гусарами на берегу, длинными огненными столбами отражались в воде. А кроме — ни луча, ни искры. Пустыня!
Спустившись в ущелье, в лагерь, приказал прекратить громкие разговоры, перенести костры от реки под гору в укрытое место, проверил часовых. Лишь после этого наскоро закусил и лег рядом с Шембергом, закутавшись в медвежью доху. Решил не спать до рассвета. Глядел на темный, загадочный силуэт Чудь-горы. Каменная ее громада вдруг заколыхалась, подпрыгнула к ярким звездам, затем начала медленно опускаться, а вместе с нею и ротмистр опустился в бездонные глубины сна.
Вскоре заснул весь лагерь. Не спали только часовые да дневальный у костра. Но они не видели, как двое всадников-башкир стороною, по тайге, объехали лагерь, выбрались снова на Уршакбашеву тропу и погнали своих мохноногих низкорослых коней в сторону Акташа, туда, куда на рассвете должен был двинуться караван.
ВСТРЕЧА
Сквозь теплую дремотную лень ротмистр уловил чьи-то негромкие, но тревожные голоса. А когда выпростал голову из теплого меха, услышал: говорили Петька и вахмистр.
— Бывает, что дым за сотни верст ветром наносит, — успокаивал вахмистра Толоконников. — Может, пал стороной идет, может, по другому берегу, за рекой. Нам от этого какая печаль?
— Может, и стороной. Может, и за рекой, — согласился вахмистр, — а все же я их благородие взбужу. Дыму без огня не бывает. Доложить надо.
— В чем дело, вахмистр? — спросил ротмистр, быстро сбросив доху, и почувствовал, как в ноздри его ударил едкий и горький запах. От него першило в горле, горечью наполняло рот.
Над ущельем, над лагерем удушливым туманом плавал молочный дым. Крепко пахло горящей хвоей.
— Ваше благородие, дымом в нашу сторону тянет, — сказал вахмистр. — Где-то лес горит, пал идет.
Ротмистр поднял голову к побледневшему предрассветному небу, посмотрел внимательно на облака. Они плыли с севера на юг, в направлении, обратном движению каравана.
— Ветер нам встречный, — встревожился вахмистр. — Пал по ветру идет. Ежели лес по нашему берегу горит, нам дальше пути нет. Придется обратно возвращаться.
— Бери коня! Поедем, разведаем, — приказал ротмистр Петьке. — А ты, вахмистр, за меня останешься.
Ротмистр и Толоконников выбрались из ущелья и поехали медленно по Уршакбашевой тропе.
— Отчего в тайге пожары бывают? — спросил ротмистр. — Я ведь ваши горы и леса плохо знаю. У нас, около крепости, степь голая.
— От разного бывают, — ответил Петька. — Иной раз от оплошки от людской. На полях или покосах жгут сучья и вершинник, глядишь, и в тайгу огонь запустят. Костры тоже многие разводят: пастухи, косари, ягодницы, вообще прохожий и проезжий люд. Уйдут с привала, огонь не зальют, не засыплют, не затопчут, опять тайга полыхает. Чего больше — охотник бумажным или паклевым пыжом выстрелит, ан ветошь[19] и загорелась. Чуть ветерок — и на деревья перешло. Всяко бывает! У нас тайга каждый год горит.
— Полей и покосов здесь поблизости нет, — проворчал ротмистр, — пастухам и ягодницам не время, охотники в такую даль не забредут. Значит, выходит, подожгли с умыслом. Но кто, для какой надобности? Стой-ка, слушай!
Они натянули поводья и, остановив коней, прислушались. Какой-то неясный шум, похожий на невнятный шорох дождя, наползал с севера. Но его заглушили тревожные, панические крики кедровок, торопливо перелетавших с дерева на дерево, от чего-то спасавшихся. Ротмистр внимательно посмотрел вслед птицам, покачал головой.
— А для людей таежный пожар опасен? — спросил он, трогая коня.
— Это смотря какой пожар. Таежный пал, он разный бывает. Когда к примеру, напольный, низовой пожар происходит, так тот беглым огнем палит. Только хвою, листья, сухой мох или ветошь подчищает. От такого пала где-нибудь в сырой низине, в мочажине отсидеться можно. А ежели он в верхний полог перешел, тогда беда! Тогда он начнет пластать каждую деревину от корней до макушки. Такой пал верховым или опальным зовется. От него и тайге, и человеку сущая гибель! От такого пожара во всю конскую прыть спасаться надо. А еще подземный пожар бывает, торфяной. После такого пожара по тайге с опаской ходи. В ином месте торф внутри выгорит, а сверху незаметно. Истинная западня получается! Ступишь на такое проклятое место и провалишься в горячую золу, а то и в горящий торф. Заживо спекешься!.. Гляди-ка, ваше благородие, что с птицей-то приключилось! — неожиданно оборвал свой рассказ Толоконников.
Мимо всадников пролетел ястреб. Он летел очень низко, отчаянно крича, пытался подняться выше и не мог, снова падал на землю.
— У него крылья обожжены, — сказал хмуро ротмистр. — Пожар где-то близко. Шевелись, погоняй!
Они помчались по тропке во всю прыть, рискуя поломать коням ноги и свернуть себе шею. На галопе перемахнули через ручей, проскочили болото и начали подниматься в гору. Ротмистров жеребец первым взлетел на вершину и вдруг, дико фыркнув, уперся передними ногами, задрожал. Знойно ударил навстречу сухой жар. Он налетел упругой волной, опаляя лицо. В воздухе кружили, будто черные галки, обгоревшие листья, мелкие, дымившиеся веточки, крупные хлопья пепла и сажи, прилетевшие сюда из самого пекла таежного пожара, может быть, за несколько верст. Ротмистр посмотрел на вершины замерших в страшном ожидании сосен и заорал:
— Нет нам вперед дороги! Назад!
Они скатились стремглав с горы и отдышались только в низине, в пади, обвеянной свежим болотным ветерком. Затем погнали коней обратно, к лагерю.
Здесь уже догадывались о надвигающемся лесном пожаре. Ущелье было полно дыма, так что трудно было дышать. Кони беспокойно храпели, бились, рвались с привязей. Шемберг, бледный от страха, с трясущимися губами, спросил безнадежно ротмистра:
— Ну? Что видели?
— Тайга горит. Огонь на нас надвигается. Подозреваю — с умыслом подожжено.
— Кто же поджег?
— «Их» рук дело, — ответил вахмистр. — Перехватили, значит, нас.
Все долго молчали, подавленные, особенно остро почувствовав свое одиночество среди горных дебрей, свое бессилие перед надвигающейся неотвратимо огненной стихией.
— А на тот берег? Вброд через Белую? — с проблеском надежды крикнул Шемберг.
Вахмистр посмотрел презрительно на управителя и непочтительно ответил:
— Ты что, барин, ослеп? Чай видишь, она свирепая, как дьявол!
Плечистый фланговый гусар, которому нечего было терять, крикнул бесшабашно:
— А ведь наше дело, ребята, чистый табак! Ей-богу!
— Что же делать? Неужели назад итти? К Хлопуше в лапы? — отчаянным плаксивым воплем вырвалось у Шемберга. И тогда закричал злобно ротмистр.
— Молчать! Разговоры прекратить! Сопли не распускать!
Последние слова относились явно к Шембергу, и он спрятался испуганно за спины гусар.
— Готовьте коней! — продолжал Повидла. — Поднимемся на вершину Чудь-горы. На ней нет леса, и огонь до вершины не доберется. Там переждем, пока пожар пройдет мимо.
— Стой! Не торопись, барин, голову сломаешь! — раздался совсем рядом твердый, чуть глуховатый голос.
Ротмистр удивленно оглянулся.
За скалой, в нескольких шагах от эскадрона, зашуршали камни и на открытое место вышел одинокий человек. На нем был красный казацкий чекмень и высокая, казацкая же, волчья шапка. Лицо завешено сеткой из конского волоса. В руках у него было два пистолета.
— Хлопуша! — испуганно прошептал Петька Толоконников и нырнул в ближние кусты.
— Ты кто таков? — скорее удивленно, чем испуганно спросил ротмистр.
— Повыше тебя чином, — Хлопуша недобро улыбнулся. — Полковник я царев, Хлопуша.
Гусары переглянулись. Им было известно имя славного пугачевского полковника. По Уралу неслась уже слава о его подвигах.
— Не полковник ты, а вор и каторжник беглый! Забыл, как тебя плетьми драли? Как лоб каленым железом прижгли? Полковник с рваными ноздрями! — Ротмистр брезгливо дернул бровью. — И царь твой такая же каторжная сволочь! Висеть вам рядом, на одной виселице.
— У тебя, твое благородие, видать, супонь лопнула. Аж в оглобли лягаешь. А песня твоя стара, — спокойно, ничуть не сердясь, откликнулся Хлопуша. — Пора бы тебе поновей петь. И запоешь, запляшешь под нашу песню, вспомни мое слово… Ну, ин ладно!.. Давай о деле говорить. Ты, твое благородие, без толку не ершись. Вперед вам ходу нет. В Чебаркульскую крепость тебе, барин, не прорваться. Мои разведчики-башкиры у вас на пути тайгу подожгли. Видишь, чай?
— Вижу! — сказал ротмистр. — Коли вперед нельзя, назад пойдем.
— Не пойдешь!
— Кто не позволит?
— А я, — просто ответил Хлопуша и встряхнул пистолетами. — Это у меня муж и жена. Муж промахнется, жена дело поправит!
Ротмистр оглянулся и, увидев, что весь эскадрон подтянулся к нему, обнажил саблю. Тронув коня, наехал на Хлопушу, закричал:
— Уйди с дороги, смерд! По кандалам соскучился!
Хлопуша не отступил, не пытался защищаться. Спокойно поднял пистолет и выстрелил в воздух. Звук выстрела улетел в тайгу и словно оживил заколдованную Чудь-гору. Из-за каждой скалы, из-под каждого камня, из каждого куста выросли люди и устремились бегом к Хлопуше. Их вел, по-видимому, Хлопушин есаул, беловолосый, широкоплечий, синеглазый парень в нарядном зеленом казачьем кафтане с откидными рукавами, завязанными на спине.
— Жженый! — Шемберг узнал в Хлопушином есауле своего работного и, скатившись поспешно с седла, нырнул в те же кусты, куда до него спрятался Петька Толоконников.
Хлопуша взмахнул рукой, и люди остановились в нескольких шагах от него. Ротмистр попятил коня ближе к эскадрону. Он попытался было подсчитать Хлопушиных людей, но, безнадежно вздохнув, отказался от этой мысли.
Здесь был, казалось, весь Урал-камень, взбудораженный манифестами Емельяна и речами Хлопуши. В первых рядах стояла уральская заводчика, работные людишки горных заводов. Были здесь и приписанные к Белореченскому заводу чердынские мужики, а также барские пахотные крестьяне из иных мест, в рваных зипунах, в дерюжных армяках, а некоторые в барских суконных кафтанах, сюртуках и даже женских салопах. Здесь были скуластые горные башкиры в остроконечных рысьих шапках, ватных кафтанах, на маленьких косматых лошадях и плосколицые киргизы в верблюжьих бешметах. Здесь были и косматые, оборвавшиеся от ползанья по камням горщики, разведчики недр, здесь была и просто голытьба, от барского моченого в соли кнута, от царской рекрутчины, от заводской кабалы бежавшая в уральскую тайгу и грабившая на Чусовой и Белой купеческие и казенные караваны. Здесь было то самое, таившееся до времени под пеплом пламя, из которого смелый донской казак раздул пожар восстания.
Ротмистр опытным глазом военного оценивал оружие Хлопушиного отряда.
Заводчина была вооружена самодельными копьями, медвежьими рогатинами, кузнечными молотами, дубинами с насаженным на конце чугунным ядром, просто тяжелыми безменами и пожарными крючьями. Жигари опирались на страшные свои топоры с длинными, в полсажени топорищами. Крестьяне были вооружены вилами, кольями с врезанными в конце серпами и косами, и лутошками, простыми липовыми палками с обожженной верхушкой, чтобы придать им вид копья. Башкиры и киргизы вышли в поход с деревянными и костяными луками, копьями, саблями и самым страшным в рукопашном бою своим оружием, сукмарами и шокпарами, дубинками, окованными железом или утыканными гвоздями. И только очень немногие из Хлопушиных людей имели огнестрельное оружие: пистолеты, фузеи, старинные мушкетоны и охотничьи дробовики.
«Ежели ударим дружно, размечем в прах это бродяжье скопище, — подумал ротмистр. — Жаль, непривычны мои гусары в этих проклятых горах действовать. Ладно, справимся! Я брошусь первым на Хлопушу. А остальная голота, когда их вожак свалится, от одного блеска наших сабель разбежится…»
Хлопуша, между тем, снова заговорил:
— Вот оно, барин, царево войско! Только рукой махну — все в реке будете!
И, не обращая уже внимания на ротмистра, обратился к гусарам:
— Ребятушки, неужель вам солдатчина бессрочная сладка? По себе знаю, харчи — помои, ноги портянками натерты. Неужель не надоело вам спины под офицерскую палку и плетку подставлять? Только баре государя нашего новоявленного не признают, а смерды, кость мужицкая, и даже всякие орды кочевые ему покорились. Сдавайтесь и вы, ребятушки. За это, от царева имени, милость и свободу вам обещаю. Освобожу вас от службы и в вольные казаки поверстаю. А ежели боитесь, что будет вам наказание за кровопролитие на заводе, то вы эту мысль бросьте. Знаю я, не своей охотой вы в работных стреляли. И пускай отныне между нами будет так: кто старое помянет, тому глаз вон! А у меня как сказано, так и сделано.
Гусары хмуро молчали. Ротмистр презрительно и самоуверенно улыбался: кто-кто, а уж его гусары государыне не изменники.
Тогда Хлопуша снова заговорил.
— И вот еще о чем подумайте, ребятушки. За плечами у вас таежный пал. Через час он здесь будет. Нужно нам сообща с огнем сражаться. Драку на свару нам затевать не след. Все тогда сгорим, как крысы в овине.
Гусары переглянулись и зашептались. Осторожный, приглушенный шепот пополз по их рядам от одного фланга до другого. Ротмистр не смог уловить, о чем сговариваются его люди, но чувствовал, что наступил момент, когда надо действовать быстро и решительно. Он взмахнул саблей, крикнул:
— Ребята, присяге не изменим!.. Сабли вон!.. За мной!..
Он тронул коня, но не услышал за спиной привычного топота мчащегося, эскадрона. Гусары не шелохнулись. А седой гусар серьезно и строго сказал:
— Неча махать саблей, ваше благородие. Сдавайся! Видишь, пришел конец вашей барской власти. Теперь мы над вами попануем.
Старик первый выехал из строя и бросил на землю саблю.
— Сдаемся, полковник, на твою милость. Мы государю преклонны. А проступки наши мы загладим. Послужим царю верой и правдой, ежели понадобится, и кровь за него прольем.
Гусары последовали его примеру. На землю полетели их сабли и мушкеты.
— Изменники!.. Клятвопреступники!.. Собачье племя!.. — закричал в бешенстве ротмистр и, пришпорив коня, бросился на Хлопушу.
Нападение было так неожиданно, что Хлопуша не успел подумать о защите. Он погиб бы, сабля ротмистра уже висела над его головой, если бы не Жженый. Павел прыгнул вперед, толчком плеча отшиб Хлопушу в сторону и выдернул из богатых, украшенных серебром ножен черкесскую, без крыжа, саблю. Ею он удачно отбил удар ротмистра.
Но Повидла, опытный рубака, тотчас же начал теснить Жженого. Ротмистрова сабля сверкала стальной молнией, нанося короткие и быстрые удары. Павлу казалось, что тысячи злых змеиных жал разом метят в него, стараясь укусить смертельно то в лицо, то в грудь, то в шею.
Хлопушины партизаны и гусары, затаив дыхание, следили за поединком. Никто из них не осмеливался помочь Жженому. Дерущиеся так бешено вертелись, так быстро менялись местами, что сабельный удар или пуля могли попасть вместо офицера в Павла.
Отбивая с трудом удары ротмистра, Павел томился запоздалым сожалением: «На кой ляд я с этой чертовой саблюкой связался? Сабля — дело барское. А мне бы чего-нибудь…»
И тут к ногам его упала отжимная кувалда, которой на заводах отжимают из крицы шлак и окалину. Кто-то из заводских, словно угадав мысли Павла, подкинул ему это пудовое оружие. Павел схватил кувалду, размахнулся так, что басовито взгудел воздух, и опустил на врага тяжкий удар. Павел метил в голову офицера и попал бы, если бы ротмистр вовремя не подставил парирующе свою саблю. Кувалда и сабля встретились. И победила кувалда. В руке Повидлы остался только эфес, а клинок разлетелся вдребезги.
Но все же удар Жженого потерял свое первоначальное направление и вместо головы офицера опустился на голову его коня. Жеребец грохнулся на землю. Повидла вылетел при падении из седла и уже не поднялся более.
— Спасибо, Павел! Не забуду! — сдержанно, но горячо сказал Хлопуша.
И, указывая гусарам на лежащего в беспамятстве ротмистра, добавил весело:
— Как очухается, всыпьте ему, ребятушки, каждый по пятку плетей. За то, что обозвал вас собачьим племенем. Дозволяю!.. А теперь всем скопом, дружно, будем от пожара отбиваться. Тащите сухой валежник, рвите больше ветоши. Шевелись, коли живьем сгореть не хотите!..
ПАЛ
Морщась от ноющей боли в голове, ушибленной при падении, ротмистр сидел у корней одинокого дуба и удивленно наблюдал работу, кипевшую вокруг него. Работные, крестьяне, гусары, башкиры, киргизы, дружески перемешавшись, заготовляли горючий материал. Саблями и топорами рубили щепы смолистых пней, косили ветошь, волокли охапки трескучего пересохшего валежника.
Работами распоряжался Хлопуша. Весь заготовленный горючий материал складывался по его приказанию в одно место. Это была наиболее узкая часть ущелья у подножия Чудь-горы. Вскоре эта каменная горловина была закупорена высоким валом из собранного и нарубленного горючего хлама. Тогда Хлопуша выслал в тайгу одного из казаков, разведать — как быстро идет пал и далеко ли еще огонь.
В ожидании его многие влезли на вал, вглядываясь тревожно в глубь тайги. Ветер, между тем, снова усилился. Он бежал теперь по горячечно шумящим вершинам непрерывным потоком. Но дул по-прежнему в сторону Чудь-горы. Крепче и гуще потянуло дымом. Люди на валу уже завязывали рот и нос платками, закрывали лицо снятыми шапками. Дым горький, царапавший горло, проникал, казалось, до сердца и сжимал его. И вдруг весь вал заулюлюкал, забил в ладоши, закричал, засвистел.
По тайге, спасаясь от огня, неслась бесчисленная стая зайцев. Подкидываемые на бегу зады, трепещущие, прижатые к спинам уши, сливались в безбрежную желто-белую реку. А над головами людей что-то, затрещало, посыпались сверху сучья, хвоя, и по вершинам деревьев понеслась с испуганным писком такая же бесконечная стая белок. Вместе с белками спасались от пожара птицы. Летели ястреба-тетеревятники и копчики, лесные жаворонки, дрозды, рябчики, красногрудые, раздувавшиеся на ветру снегири… Метались бестолково ослепшие от солнца совы, сычи, филины. Промелькнул в траве убегавший молодой тетеревенок с опаленными крыльями. Две собаки, приставшие к партизанскому отряду, жадно скулили при виде такого обилия дичи и, не утерпев, сорвались с вала, залились звонким лаем, бросились за тетеревенком. Но тотчас же с жалобным визгом, поджав хвосты, кинулись снова на вал, под ноги людей. Из тайги выскочили три толстогорлых и остромордых волка.
— Эх, матерущие какие! — сказал кто-то с сожалением. — Важная была бы яга[20].
— Сгорела твоя яга, — ответили ему со смехом. — На бок волчий гляди!
На боку одного из волков была большая подпалина. Запахло горелой шерстью.
За волками выбежал к хворостяному валу большой медведь. Увидав людей, он поднялся на дыбы, понюхал воздух и, снова опустившись на четвереньки, понесся в тайгу, удивительно легко и ловко поворачивая между деревьями свое громоздкое тело.
И, почти наступая медведю на пятки, вынесся из тайги казак-разведчик. Он подъехал к Хлопуше и сказал почему-то шепотом:
— Подходит! Близко уже! Птицей летит, как на крыльях.
— Все с вала долой! — крикнул повелительно Хлопуша. — Коней к реке отвести. Костер разложьте, проворы! Чтоб горящие головни наготове были!
Теперь на валу остался только Хлопуша. Он повернулся к пожару. Ветер нес густой дым прямо ему в лицо, мешая смотреть и слушать. Но это его, по-видимому, мало беспокоило. К удивлению ротмистра, зорко следившего за Хлопушей, пугачевский полковник вытащил из-за пазухи птичье крыло, выдрал из него легкую пушинку и подбросил ее в воздух. Ветер, тянувший со стороны пожара, понес пушинку к Чудь-горе. Хлопуша внимательно проследил ее полет, пока она не исчезла из глаз.
А в глубинах тайги родился новый жуткий звук. И все притихли, вслушиваясь в это зловещее шипенье и клокотанье. Точно масло шипит, шкворчит, пузырится на гигантской сковороде. Это был голос таежного пожара.
А затем показались и его передовые разведчики.
Пламени еще не было, а впереди начал уже темнеть мох, закорчилась трава. Воздух стал горячее, дым стал гуще, разъедал глаза. И вот в траве, во мху заиграли, забегали маленькие огоньки, а потом поползли языки и ленты бледного при дневном свете пламени. Шипенье и шкворчанье усилились, перешли в легкое потрескиванье.
— По воздуху передается! Как зараза! — с испугом подумал Повидла.
Это промчался первый огонь, опалив сухую мелочь. А центр, «матка» пожара была еще далеко. Но она приближалась.
Хлопуша надрал из крыла горсть перьев и бросил их в сторону пожара. Ветер снова вынес их назад, в сторону Чудь-горы.
Люди начали медленно отступать к Белой, к укрытым у реки лошадям. Пахнуло, как из раскрытого доменного колошника, опаляющим удушливым жаром. Вот видны уже горящие жарко костры — это кусты, обвешанные сушняком, вспыхивали весело и торопливо колеблющимся бледно-желтым пламенем. А Хлопуша, не обращая внимания на приближающийся огонь, стоял по-прежнему на хворостяном валу. Он прикрывался от зноя полой своего красного чекменя, меховая казачья его шапка уже дымилась, но он думал не о себе. Он думал о том, что если вал загорится раньше времени, то погибнут все эти люди, так доверчиво избравшие его своим вожаком.
Из тайги, из пламени прилетел густой низкий звук, ни с чем не сравнимый. Голос бездны, рев стихии.
— «Матка» ревет, — испуганно прошептал один из работных. — Это ее голос!
— Старые таежники говорят, — тоже шепотом откликнулся ему углежог, — тот человек, который слышал голос «матки», больше ничего уже на этом свете не услышит. Сожрет, спалит его «матка».
Действительно, это был ее голос, ее грозный бас.
И услышав его, Хлопуша поспешно бросил в воздух еще горсть перьев. Они исчезли моментально, так быстро втянул их в себя пожар.
— Батюшки, до чего же просто! — удивился тот же работный. — Пал свежего воздуха требует, вот он и тянет его из нашей пади. Теперь поджигай вал, огонь его в сторону тайги пойдет. Два огня сшибутся! Видать, дядя Хлопуша — старый таежник.
И действительно, Хлопуша, спрыгнув с вала, закричал отчаянно:
— Поджигай!.. Шевелись, проворы!
Десятки горящих головен полетели в пересохший, уже дымившийся вал. И он вспыхнул сразу, с яростью и силой взрыва. Огонь с ревом взметнулся к небу. Но, повинуясь тяге пожара, он наклонился, почти прильнул к земле и рванулся в тайгу, навстречу палу. Воздух долины стал быстро очищаться от дыма.
Когда поджигавшие вал работные и Хлопуша, добежав до реки, оглянулись, два огня уже сшиблись, свились в огненный смерч. Затем смерч рассыпался, и огненный поток ринулся в обратном направлении, не дойдя до пади.
Тайга пылала вся, от вершины до корней.
Это был верховой пал, и он не щадил ни одного дерева. Стреляя, пыхая дымом, горит зеленая сырая березка. Факелом, от корня до вершины, вспыхивает сосна. Огонь с воем крутится вокруг ствола вековой лиственницы, могучая колонна рушится, взметывая фонтаны искр. Горит, кажется, сама земля, горит воздух. В пламени что-то зловеще гудит, воет.
Люди отступали все ближе к реке. Некоторые вошли в ледяную воду.
Жар становился невыносимым. Кони начали беситься, рваться с привязей. Их ввели в реку и ежеминутно окатывали водой.
В это время из кустов, опаленных и обугленных, протянувшихся невдалеке от догоравшего вала, раздался подавленный крик боли. А затем из их чащи выскочили и побежали к реке двое людей. Это были Шемберг и Петька Толоконников.
Управитель бежал первым, держась обеими руками за дымившуюся шапку. На плечах и спине Петьки багрово тлела бекеша. Он сбросил ее, не уменьшая бега, но исподняя рубаха тоже дымилась. Он сбросил и ее. Он бежал голый по пояс до тех пор, пока не услышал совсем близко властное и жесткое:
— Стой!
Петька остановился как вкопанный и поднял глаза.
Перед ним стоял Хлопуша.
СУД
Твердые желваки задергались на скулах Хлопуши. Боясь распалить себя криком, заговорил наружно спокойно, но глухой, пришепетывающий его голос ломался от ярости.
— Ну вот, ты и попался, Петра. Не хотелось петуху на пир идти, да за хохолок притащили. Давай рассчитаемся, провора. Должок ведь за тобой есть.
— Погоди, Афоня, у меня с ним беседа будет! — звонко сказал кто-то, становясь рядом с Хлопушей.
Толоконников поднял голову и тотчас безнадежно опустил ее. Перед ним стоял Павел Жженый.
— Здравствуй, Петр, здравствуй! Что же глаза прячешь, как вор, иль вину чуешь за собой?
Толоконников молчал, так низко опустив голову, что подбородок его упирался в голую грудь.
— Кайся! — сказал сурово Жженый. — Семена-Хвата помнишь?
— Помню, — едва слышно прошептал побелевшими губами Петька.
— Ты его убил?
— Я.
— За что?
— Ненароком. В тебя метил.
— Кто меня убить наущал?
— Приказчик, Агапыч.
— Обещал за это сколь?
— Червонец да полушубок волчий.
— Дешевая моя голова, — Жженый скривил губы.
А Хлопуша делал последние усилия, чтобы сдержать ярость. Он дышал тяжело и прерывисто, с хрипом, словно только что вынырнул из воды. Дрожавшие его пальцы то сжимались в кулаки, то опять разжимались, как будто он уже тискал ими чье-то горло. Толоконников видел это, по лицу Хлопуши читал свой конец. И все же не мог ни лгать, ни запираться, ни даже умолять о пощаде. Спокойный голос Павла словно околдовал его, отнял волю и разум. Обессиленный, опустошенный, он покорно отвечал на все вопросы Жженого.
— Еще отвечай, — продолжал Павел. — Государевы письма, что Хлопуша тебе давал, вместо наших работных, кому относил?
— Агапычу, приказчику.
— В фортецию, солдат на завод вызывать, кто ездил? — вмешался Хлопуша.
— Я, — еле слышно прошептал Толоконников.
— За что же ты предавал своих братьев? За что погубил невинных людей?
— Агапыч обещал меня мастером плотинным поставить. Обнадежил крепко…
— Миропродавец!.. Пень ты гнилой, а не человек!
Стиснув кулаки, Хлопуша двинулся на Толоконникова. Тот медленно начал пятиться. Словно невидимая нить протянулась между этими двумя людьми. Толоконников в точности повторял движения Хлопуши, отступая на столько же шагов назад, на сколько тот двигался вперед.
И вдруг Петька, повернувшись рывком, побежал к выходу из ущелья. Павел, выхватив из ножен саблю, рванулся было за ним, но Хлопуша удержал его.
— Не тронь. Не убежит.
Толоконников в безумном беге пронесся через кусты, в которых прятался, перепрыгнул через догоравший вал и ворвался в горящую тайгу.
Он мчался во весь дух, хотя никто его не преследовал, по крутинам, по откосам, гребням и горящим стволам, размахивая растопыренными руками, как птица крыльями. Он нырял в расселины и ямы, пропадал из глаз и снова появлялся, приседал под падающими раскаленными ветвями, прыгал через пылающие кусты и снова мчался, забираясь все глубже в пламенные недра тайги.
Ярко пылающий густой ельник преградил ему путь. На миг он остановился перед этой огненной стеной, потом кинулся в пламя, выставив вперед руки и наклонив голову, словно ныряя в воду. Столб дыма и пепла поднялся высоко, и все исчезло.
Все, разом, вздохнули и отвели глаза.
И неожиданно почувствовали, что жар уменьшился. Теперь без труда можно было дышать.
— Сам, значит, себя казнил, — хмуро сказал Хлопуша. — Ну что ж, два раза прощают, на третий бьют.
И вдруг удивленно поднял руку к голове. Высокая казацкая шапка его сорвалась с головы и упала на землю в нескольких шагах за его спиной. Он не слышал слабого пистолетного выстрела и удивленно обернулся. Ротмистр, бледный, со стиснутыми зубами, придерживал левой рукой правую, повисшую безжизненно. Он нащупал случайно за пазухой один из пистолетов, подаренных ему Шембергом, и, не утерпев, выстрелил в Хлопушу, но стоявший рядом с ним работный вовремя ударил его по руке дубинкой и тем спас Хлопуше жизнь.
— Эх, ваше благородие, вот ты какой! — сказал без злобы, с легкой укоризной Хлопуша. — Прав наш батюшка царь, всех вас от прапорного до генерала вешать надо. Первеющие вы наши зловреды и мучители. Шакир, иди-ка сюда, приятель, работа есть.
Из рядов вышел приземистый башкир в желтом китайском халате, кожаных шароварах и старом облысевшем малахае.
— Подвесь-ка его благородие.
— Слухам, бачка, — Шакир поклонился и деловито огляделся.
Невдалеке стоял высокий дуб, вековой кряжистый уралец, широко раскинувший могучие ветви. Шакир направился к нему, распахнул халат, выдернул из штанов очкур. Затем, придерживая левой рукой спадающие без очкура штаны, полез на дуб. Выбрав сук, выкинувшийся далеко от ствола, привязал к нему очкур, сделал на конце петлю. Проверил ее, затянув на своей руке. Спустился на землю и, взяв своего коня, подвел его к дубу, поставил под петлей. Подошел к ротмистру:
— Пойдем, баранчук.
Ротмистр посмотрел на петлю — в ногах его заныло и закружилась голова так же, как вчера, когда он заглянул в пропасть с Чудь-горы. Он вскрикнул и начал рваться из рук Шакира.
— Ой, смешной! — удивился башкирин. — Нельзя, бачка, Хлопуша сказал — «подвесь». Зачем, как куян, умираешь? Как кашкыр[21] умирай, как храбрец. Ну же!
Шакир схватил ротмистра в охапку и потащил к дубу. Вырываясь, офицер кричал:
— Душегубы!.. Мучители!..
— По гостю и брага, барин. Вы нас многие века мучили, а мы молчали, — сказал Хлопуша и невесело засмеялся. — Ишь, что сын дворянский, что конь ногайский — умирают, так хоть ногами дрыгают. Кончай скорей, Шакирка, — махнул рукой и пошел медленно на Чудь-гору.
— Не тронь! Пусти, — сказал внезапно успокоившийся Повидла. — Сам пойду.
Шакир выпустил его из своих объятий, и он пошел к дубу, не глядя под ноги, торопливо, спотыкаясь о корни и камни. Он пробовал даже сам взобраться на Шакирова коня, но мешком свалился на землю. Башкирин снова взял его в охапку и, легко подняв, вскинул на седло. Сам прыгнул кошкой, сел сзади ротмистра на конский круп. Повидла больше не сопротивлялся, но нагнул низко голову, втянул ее в плечи и крепко прижал подбородок к груди. Шакир схватил его за волосы, оттянул голову назад, накинул на шею петлю. Спрыгнул с коня и огрел его плеткой. Конь рванулся, ротмистр повис.
Шемберг закрыл ладонями лицо и заверещал по-заячьи. Но чья-то плеть звучно шлепнулась об его спину, и он затих, лишь плечи испуганно вздрагивали…
Партизаны отхлынули от дуба. К Жженому подошел старший кричный Федор Чумак. Мощные, словно из чугуна отлитые, плечи его распирали ветхий сермяжный зипунишко, а по зипуну, через плечо, была пущена голубая орденская лента. Ноги Федора были обуты в разношенные лапти, а на голове, лихо заломленная на затылок, красовалась генеральская треуголка со страусовым плюмажем. Нетерпеливо поигрывая тяжелой, как лом, медвежьей рогатиной, Чумак спросил:
— До завтрева здесь стоять будем? На завод идти надо.
— Хлопушу спроси, — ответил Жженый.
— А где он, язви его в печенку?..
Невдалеке, на подъеме на Чудь-гору, около трех небольших лип, увидели они красный Хлопушин чекмень. Подошли торопливо и остановились удивленные. Хлопуша, стоя на коленях, загребал горстями палые липовые листья и, поднося их к рваным ноздрям, жадно нюхал.
— Чего ты, Афоня, листья-то нюхаешь? — удивленно спросил Жженый. — Иль табаком извелся?
Хлопуша поднялся с колен, не выпуская из горстей листья. Он был против обыкновения без накомарника и не поспешил, как обычно, закрыть лицо. Жженый и Чумак впервые как следует увидели лицо своего вожака.
Плоские, чуть рябоватые его щеки заливал ровный здоровый румянец. Пушистая рыжеватая борода курчавилась на подбородке и румяных щеках. Не будь ноздри его вырваны до хрящей, он был бы по-своему, мужественно и строго красив. Надолго запоминался косой, волчий, без поворота головы, взгляд его глаз — черных, с желтоватыми белками. В них горела яркая человеческая мысль, но где-то в глубине их затаились темный ужас и злоба зверя, гонимого и затравленного.
— Не угадал, провора, — тихо и грустно ответил Хлопуша. — Ни одна деревина меня за сердце так не скребет, как липа. Понюхаешь и вспомнишь… деревню свою… тверской ведь я… молодость… зазнобу-девку… У нас около изб тоже липы все.
Хлопуша понюхал листья и горько, невесело улыбнулся.
— Вот каторжник я отпетый, арестант и… убийца, а молодость забыть не могу. Ведь проходит жизнь-то. Она ведь, знаешь, какая большущая, в охапку ее не возьмешь. А что я в жизни видел?
Он сбросил с ладоней листья. Ветер подхватил их и понес вниз, в ущелье.
— И меня в жизни носило вот так же, как ветром жухлый лист… Крепостной я, из вотчины тверского архиерея. В солдаты отдали, бежал от унтерских и офицерских палок. Поймали вскорости. За бегство из полка шесть раз сквозь строй прогнали: кожу в клочья порвали, мясо до костей пробили, чуть в гроб не вколотили. Едва чуток оклемался — опять бежал. Только тесен нашему брату, холопу, белый свет. Опять поймали. За второй побег кнутом били, ноздри вырвали, на каторгу в Сибирь сослали. Работал там на заводских работах. Пробовал не раз бунты поднимать. За это еще раз кнутом били. Тогда бежал из Сибири тоже. С Илецкой соляной каторги тоже бежал. Десять годов, десять годов, пойми это, провора, — то острожничал, то бродяжил, то на каторге маялся. Изломали они жизнь мою, будь они прокляты до последнего колена!.. Ноздри вот вырвали, уродом сделали. Кому я нужен такой уродина, страшный, как бес, кому, скажи, кому?..
Федор и Павел молчали, потрясенные этим взрывом чувств оскорбленного, искалеченного человека.
Хлопуша надел шапку, провел медленно по лицу ладонью и словно разом стряхнул горечь и боль прожитого. Крикнул властно:
— Будя ныть и плакаться! На конь, ребятушки, в поход! К утру на заводе быть надобно. Пошевеливайся, проворы!
ШТУРМ
Когда выбрались с таежных троп на отпотевший, размякший проселок, Хлопуша, удивленный, натянул повод.
— Это кто ж такие? — спросил он. — Что за люди?
По обочинам дороги густо стояла толпа. Здесь было много женщин, еще больше детей всех возрастов, были и дряхлые старики. Они, судя по догоравшим кое-где кострам, стояли здесь давно, может быть, всю ночь.
— Это бабы и ребятня наша, с завода, — ответил Жженый. — Своих встречают. Чай, всю ноченьку не спали, гадали — как мы с гусарами справимся.
Завидев отряд, женщины заволновались, зашумели, заговорили все разом, и каждая старалась выдвинуться в передние ряды, чтобы лучше видеть лица проходивших. Ребятишки сбились отдельной стайкой. Здесь верховодили ребята-заслонщики, работавшие на заводе. Они пытались держать себя степенно, подражая взрослым, говорили сердито и басисто, но тотчас забывались, и голоса их звенели снова по-детски, восторженно и звонко.
Хлопуша отделился от своих есаулов и, подъехав к толпе, крикнул:
— Бабы, не сумлевайтесь! Мужики ваши вернулись по-здоровому. Ни побитых, ни пораненных нет. Царицыны солдаты перед нами оружие сложили. Только некоторые мужики в тайге бороды и усы попалили. Ну да, я чаю, целоваться-то и без усов можно.
Женщины ответили радостным смехом, счастливыми криками:
— Спасибо тебе, дядя Хлопуша!.. Спасибо, кормилец!..
Когда затихли крики женщин, дружно, хором закричали ребята:
— Дядя Хлопуша, возьми нас с собой. На войну!.. У нас уже и луки, и стрелы, и копья понаделаны… Дядь Хлопуша, возьми!..
Партизаны, услышав слова ребят, захохотали. Хохот гремел взрывами, катясь по колонне от головы к хвосту. Хохотали даже киргизы и башкиры, откидываясь в седлах далеко назад и восторженно хлопая ладонями по бедрам. Не смеялся только Хлопуша. Он покачивал тихо головой и странным, срывающимся голосом говорил, ни к кому не обращаясь:
— Ах, челяпига… Вот так челяпига… На войну их возьми…
Смущенные смехом партизан, ребята смолкли. Но один малыш, в огромной старой шапке, сползавшей ему на уши, все еще тоненько тянул:
— Дядь Хлопуша-а… Возьми…
Хлопуша подъехал к мальчонке и, быстро нагнувшись, поднял его к себе в седло. Мальчуган сначала испугался, оробел, а потом, когда Хлопуша необыкновенно ласково погладил его по острому худенькому плечику, заулыбался и засверкал карими глазенками.
Хлопуша смотрел на дорогу.
По проселку шел смешанный конный отряд, который был с Хлопушей в тайге. Вместе с ним валила и вся та сила, которую собрал Хлопуша по уральским заводам и селам. Передовыми прошли конники — казачий отряд, гусары, башкиры, киргизы. Над конниками развевались знамена — пугачевские из белой холстины с нашитыми и просто измалеванными дегтем раскольничьими восьмиконечными крестами и зеленые знамена башкир и киргизов.
За конницей прошла многочисленная пехота. Затем провезли на самодельных лафетах три полевые пушки. Пушкари, заводские работные, важно и сурово поглядывая на женщин, шагали рядом со своими орудиями. Они знали, что в конце концов участь боя решают они и их широкогорлые звери. Командовал пушкарями один из Хлопушиных есаулов — Федор Чумак.
В хвосте колонны, на многие версты растянулся обоз. Боевые припасы, фураж, провиант везли в повозках, телегах, барских рыдванах и колясках. Тащилась в обозе даже щегольская карета четверкой, с чумазым жигарем за форейтора. А в карете вместо пудреных бар и барынь ехали мешки с овсом. Телеги, рыдваны, коляски скрипели отчаянно и на разные голоса — многие и многие версты стерли деготь с их осей.
На одной из телег сидел связанный Шемберг. Женщины узнали его. Раздались озлобленные крики, полетели комья грязи, камни. Так, под градом угроз, оскорблений, комьев грязи и камней долго ехал недавно всесильный управитель. Он озирался по сторонам, как затравленный волк, но взгляда перед толпой не опускал, стараясь запомнить лица тех, кто кидал в него оскорблениями и грязью. Шемберг еще надеялся когда-нибудь отомстить.
Конные, пешие, пушки, повозки бесконечным потоком лились по проселку. А большеголовый мальчуган в огромной дырявой шапке с высоты седла смотрел на них серьезно и важно. И казалось, что он делает смотр этому войску восставших рабов.
Когда прошли последние бойцы, проскрипели последние подводы, Хлопуша повернул мальчугана к себе лицом и сказал медленно и серьезно, как взрослому:
— Видал, сколько войск у нашего мужицкого царя? Это только малая часть его. Найдется кому и без тебя биться с барами и заводчиками. Авось, мы для тебя, воробыш, счастливую долю завоюем. Иди, гуляй!
Хлопуша опустил его бережно на землю и, стегнув коня, помчался к голове колонны.
Проселок выбежал к тракту. Совсем рядом зачернели валы и частокол Белореченского завода. Жженый, ехавший рядом с Хлопушей, посмотрел из-под ладони на завод.
— Тихо. Спят, что ли? Покуда очухаются, мы на валах будем.
— А может, хитрят? — сказал Хлопуша. — Ты бы, провора, приказал все ж людишкам, чтоб не галдели так. Гамно очень, для заводских пушек верная примета.
И, словно подтверждая слова Хлопуши, с вала грохнула пушка. Ядро прогудело над их головами.
* * *
Этот выстрел и разбудил Агапыча.
Два дня после отъезда Шемберга и гусар прошли для него в хлопотах. Приказчик шнырял по комнатам господского дома, шептался таинственно с оставшимся на заводе управительским камердинером. Они вместе увязывали какие-то узлы, прятали. Затем Агапыч спустился в винный погреб. Отметил углем две сорокаведерные бочки с полугаром.
«Это гостям на угощенье. Пущай пьют за Агапыча здоровье. А гости скоро пожалуют. Мы на тракту, что на юру. Коль не Хлопуша, так другой из пугачевских атаманов завернет».
А бочонки с виноградными винами откатил подальше, в темные углы.
«Это им не по носу табак. Вкусу не понимают!»
Проходя двором, остановился около высокой поленницы, стоявшей против главных ворот. Дрова здесь были сложены еще по приказу ротмистра. Если бы мятежные шайки вломились на завод через главные ворота, они наткнулись бы на эту дровяную баррикаду, из-за которой их встретили бы выстрелами защитники завода. Агапыч подумал, что надо бы разбросать поленницу, не то, чего доброго, пугачевцы подумают, что она сложена здесь по его, Агапычеву, приказу. Но кто будет раскидывать?
Только под вечер завернул домой. Прилег на лавку отдохнуть минутку-другую и, вспомнил, что не успел переговорить с капралом, чтобы часовые, когда завидят пугачевцев, его бы, Агапыча, предупредили, да не вздумали бы — упаси бог — стрелять по Емелькиным людям. Поднялся с лавки, но тело сковала усталость, а ноги дрожали от беготни. Снова лег, решив: «Отдохну чуток, тогда к капралу наведаюсь».
С этой мыслью незаметно заснул. Спал неспокойно, метался, бредил. Спорил во сне с капралом о пугачевцах:
— А какая надобность их отражать? С ними в ладу надо жить.
— Нет! — Капрал стукнул кулаком по столу. Грохот этого удара болью отозвался в ушах.
Дернулся испуганно, свалился с лавки на пол и проснулся.
Сидя на полу, повел удивленно глазами:
— Батюшки, никак день уже?
Подбежал к окну. Над Белой клубился перламутровый морозный пар. Вершины дальних гор розовели. Над ними высоко стояло солнце.
— Заспался-то я как. Часовые, чай, попрятались, боятся, небось, шинели замочить. Проморгают как раз. Проведать надо…
В лихорадочном нетерпении зашарил по лавке, отыскивая шапку. И вдруг замер, открыв рот, судорожно ловя воздух, как рыба на берегу. Тяжелый, давящий грохот, подобный тому, который разбудил его, опять больно ударил в уши.
— Что? Господи Исусе?.. Никак? Ой, головушка моя разнесчастная!.. Так и есть — пушка! Палят!
Забыв о шапке и полушубке, в чем был, выскочил во двор. На земляном валу с высоким деревянным частоколом, которым завод был обнесен исстари от нападения башкир, Агапыч увидел старика капрала. Окутанный пороховым дымом, старик один копошился около большой пушки. Здесь же стоял ящик с ядрами и бочонок с порохом. Вбежав на вал, Агапыч крикнул:
— Что полошишь без толку, крыса старая?
Капрал обиделся и рассердился:
— Без толку? Слухай-ка!..
Агапыч затаил дыхание. Из ближнего к заводу сосняка по заре звонко разносились скрип телег, людские голоса, конское ржание и топот многочисленных копыт.
— Чуешь?.. — спросил капрал. — Это они в сосняке сейчас спрятались. А когда тракт переходили, видел я: тьма-темь, сила несусветная! Впереди конные ехали, за ними пехота валом валила, а потом обоз длиннющий…
— Почему без приказа пальбу открыл? — злобно спросил Агапыч.
Без малейшего намека на всегдашнюю почтительность, презрительно и высокомерно ответил приказчику капрал:
— Эх ты, мещанин — холстинная шуба. У тебя столь мух на носу не сидело, сколь я пуль в своем теле ношу, а ты меня воинскому артикулу учишь. А кто мне приказать может, коль выше меня чином командиров на заводе нет? О и, гляди-ка!
Из сосняка на опушку выплеснулась толпа конных и пеших, вперемешку. Над опушкой холодным и белым озером лежал густой туман. И казалось, что пугачевцы вброд переходят это озеро. Над волнами тумана видны были только головы и плечи пеших и безногие туловища коней с сидящими на них всадниками. Это было так необычно и страшно, что Агапыч побледнел и попятился. Часть пугачевцев, выйдя из тумана, поднялась на небольшой холм. Они тащили за собой пушку и начали устанавливать ее на вершине холма.
— Счас я их малость попужаю, — сказал без злобы капрал.
Он взялся обеими руками за прицельные стерженьки на лафете, но Агапыч закричал визгливо:
— Не смей!.. Тебе говорю, не смей!
— Без приказа от начальства не послушаюсь, — ответил независимо капрал.
— Да ты с меня живого голову снимаешь! — Агапыч лез на капрала с кулаками. — Брось, не то пришибу!
— Уйди с валу! — заорал капрал и, схватив банник[22], замахнулся на приказчика. — Здесь моя власть. Уйди, пока цел!
В этот момент с холма выстрелила пушка пугачевцев. Брандскугель, выплевывая огонь через три своих глазка, с воем пронесся над частоколом и шлепнулся в поленницу. Поленья брызгами взлетели высоко над землей.
Одновременно с пушечным выстрелом с холма раздались одиночные ружейные выстрелы. Над валом засвистели пули, заверещали башкирские стрелы. Капрал вздрогнул и поднял левую руку. С нее капала кровь, в ладони торчала стрела. Капрал переломил ее и вырвал из ладони медный многозубый наконечник с обломком стрелы.
— Опять тебя, капрал, война нашла, — проворчал он, приложил тлеющий фитиль к затравке и быстро отскочил назад. Его пушка горласто рявкнула. Дым облаком окутал капрала. У Агапыча от страха подкосились ноги. Шлепнулся на спину и съехал с крутого вала во двор.
Поднявшись на ноги, вытащил из кармана большой ключ и побежал к главным воротам. Но на полдороге остановился, подумал и повернул решительно к дому.
Агапыч вспомнил, что не захватил хлеб-соль, приготовленные для встречи дорогих гостей.
* * *
— Вот так спят! — засмеялся Хлопуша, когда выпущенное капралом первое ядро упало в лесу. — Ишь, встречают.
— Ништо! — беззаботно ответил Чумак. И, обернувшись назад, к своим пушкарям, крикнул: — А ну, ребята, давай-ка сюда тетку Дарью.
Хлестнув коня, Чумак поскакал вперед. Его пушкари, перебирая руками спицы, потащили за ним «тетку Дарью», широкогорлую полевую пушку. За пушкарями поскакали Хлопуша и Жженый.
По указанию Чумака «тетку Дарью» установили на невысоком холме. Чумак сам навел ее и приложил к затравке фитиль. «Тетка» кашлянула так, что разбудила в горах эхо.
— Перенесло, — сказал Жженый, не видя дыма.
Но Чумак, поймавший ухом разрыв брандскугеля, улыбнулся самодовольно.
— Балуешь! Николи этого не бывало. Наша тетка без промаху бьет. Слышь, на заводе разорвалась.
«Тетке» ответила с вала заводская пушка. Ядро легло недалеко, спугнуло кучку конников, но без вреда для них.
— Годи, молодцы, — крикнул пушкарям Жженый, все время внимательно приглядывавшийся к заводским валам. — Годи, не стреляй. Там всего-то один человек мельтешит. Что за оказия? А ну-ка, Федор, езжай за мной. Разрешишь, господин полковник, разведку сделать?
Хлопуша согласливо кивнул головой. Жженый и Чумак поскакали к заводу. Остановившись под валом и задрав голову, Жженый крикнул:
— Кто есть живая душа, выглянь!
В амбразуру рядом с пушечным стволом высунулась голова капрала.
— Чего надоть? Чего под нашими стенами трепака бьете?
— Это ты, дедка! — обрадовался знакомому Павел. — А ну, глянь на меня. Узнаешь?
Капрал долго из-под руки смотрел вниз. И вдруг заулыбался:
— Никак заводский наш, литейщик Павлушка Жженый.
— Я самый! Помнишь, на хуторах у жигарей меня ловил? Ловко я тогда тебя вокруг пальца окрутил?
— Был грех, — смущенно крякнул капрал. — Да ведь служба не дружба, не бабья ласка. Зачем кликал?
— Ты что там один, как неприкаянный, болтаешься? Сдавайся! Нечего зря порох травить.
— Без приказа не могу, — капрал упрямо затряс головой. — Ты парень, раздобудь мне какого ни на есть начальника, пущай прикажет, тогда и ворота настежь.
— Да ты, дедка, очумел! — захохотал Жженый. — Уж не самого ли хвельдмаршала Румянцева тебе раздобыть? Теперь наше, мужичье царство, и выше нас начальников нету.
— Болтай зря! — рассердился капрал. — Тебе смешки, а меня потом за измену присяге шпицрутенами расфитиляют. На кой ляд сдалась мне та присяга, а все ж шкуры своей и старых костей жаль. Не сладко, чай, и мне одному-то здесь. Все мои гарнизонные, верно, как крысы, разбежались. Один вот остался. И со всех сторон меня с валу тащат. То Василь Агапыч, а то вот ты.
— Агапыч? Приказчик? — удивился Жженый. — Вот продажная лиса, переметнулся. Ну, годи, не поздоровится ему! Довольно от одного стана к другому метаться. А ты, дедка, перестань дурить. Отворяй ворота! Навоевался, чай, на своем веку. Хватит!
Капрал долго молчал, глядя в землю, насупя ежом торчавшие седые брови. И сказал решительно:
— Все же без приказу я ни-ни!.. Отъехали бы вы, ребята, в сторонку. Я счас опять палить начну, не задеть бы случаем вас, — мирно и деловито закончил он.
— Вот старый грех! — обозлясь, выругался Чумак и потянул из седельной кобуры пистолет. — Помазали ему баре губы масленым блином, так он и крест забыл! Я его за послушание начальству в рай отправлю.
— Брось! — Жженый схватил его за руку. — Он не вредный дед, только упрямый шибко и службу строго блюдет. Не замай его, Чумак.
Повернувшись в сторону опушки, сложив руки трубой, Жженый крикнул:
— Ребятушки-и!.. Шту-у-урм! На слом!..
Лавина тел — конные, пешие оторвались от пушки и понеслись к заводу. Конница неслась прямо по полям, глубоко увязая в сырой еще земле и высоко подбрасывая копытами большие черные комья земли. Башкиры и киргизы скакали с саблями, поднятыми над головами, с ножами в зубах. Перед конной лавиной краснел Хлопушин чекмень. Хлопуша скакал, как истый степняк, поджимая ноги в стременах под брюхо своего горячего Орешка. Пешие побежали к заводу по тракту.
На крик Жженого ответили многоголосые крики, вопли, рев и отчаянные визги кочевников:
— На слом!.. Ура!.. Наша берет!.. Ал-ла!.. На слом!..
Хлопуша первым подскакал к воротам, скатился с седла и брякнул рукоятью сабли в дубовые, обитые железом доски:
— Отворяй!.. Именем государя!
Ответом было молчание. Лавина атакующих докатилась до ворот и тоже остановилась. Жженый, обернувшись, крикнул:
— Робя, вон то бревно тащите! Ворота бить.
Но заскрипели вдруг протяжно и жалобно воротные петли. Оба тяжелых полотнища распахнулись настежь. В открытых воротах стоял одиноко Агапыч, склонив голову в низком поклоне, с хлебом-солью на вытянутых руках.
— Добро пожаловать, гости дорогие, — сладенько и умильно пропел приказчик. — Давно вас ожидаем. Благословен грядый во имя господне!
Хлопуша шагнул в ворота и протянул руки к хлебу-соли. Но откуда-то сбоку вывернулся неожиданно Жженый и ударил из-под низу по подносу ногой. Коврига хлеба и солонка отлетели далеко в сторону, поднос брякнулся о камни. Хлопуша удивленно и гневно повернулся к Жженому.
— Да ведь это он, — сказал Павел, — приказчик, главный наш зловред!
А приказчик уже убегал в глубь двора, спотыкаясь о поленья, разбросанные пушечным выстрелом пугачевцев.
ПОБЕДА
Теснясь, переругиваясь, крича надрывно, вливались в заводские ворота еще не остывшие от боевого неизрасходованного пыла — работные, чердынцы, башкиры, киргизы.
С валов, празднуя победу, стреляли холостыми зарядами. В заводском поселке звонили жидко, но празднично, как на пасху, А в господском доме трещали двери, звенели разбитые стекла. Казацкие чекмени, азямы, гусарские венгерки, сермяжные зипуны, верблюжьи халаты теснились в дверях, подсаживая друг друга, лезли в окна.
Стреляли в зеркала, рубили на дрова дорогую мебель, в щепки размолотили клавикорды. Под ногами хрустел фарфор, путались затоптанные грязными ногами разорванные материи и меха. Тяжелые тюки бухарских и персидских ковров изрубили саблями в капусту.
Корысти не было. Было лишь желание разнести вдребезги чужую, враждебную жизнь, чтобы не возродилось, не вернулось ненавистное прошлое. Лишь когда добрались до охотничьих комнат графа — радостно зашумели. Торопливо растаскивали дорогие ружья, пистолеты, кинжалы, рогатины. Это нужно, это понадобится, на остальное — наплевать.
Сбросили с вышки подзорную трубу, вслед за ней отправили вниз прятавшегося там немца-камердинера:
— Колдун!.. Небо трубкой дырявишь!
Заводские работные разгромили контору, вытащили на двор конторские бумаги и книги и подожгли. Плясали хороводом вокруг костра и радостно кричали:
— Горят наши долги!.. Горят наши недоимки!..
— Завод бы не спалили, — забеспокоился Хлопуша.
— Не бойсь! Не тронут. — Жженый светло улыбнулся. — Глянь, они что колодники освобожденные радуются. Сбросили с себя извечные кандалы.
И вдруг ударил себя по лбу.
— Батюшки! А про колодников-то я и забыл. Ребятушки, кто со мной заводских арестантов освобождать?
Хлопуша и Жженый в сопровождении полсотни людей направились на «стегальный двор». Против большой, но древней избы, в которой жили заводские солдаты-инвалиды, посередине широкого двора был врыт в землю невысокий и толстый столб. К нему привязывали для порки провинившихся работных. Столб этот на высоте человеческой спины был покрыт зловещими ржавыми пятнами — запекшейся кровью.
В дальнем конце двора темнела «камора» — заводская тюрьма, большая почерневшая от древности землянка, с толстым потолком из бревен. Камнями сбили с дверей «каморы» пудовые замки. Остановились на краю глубокой ямы. Снизу несло пронзительной сыростью и тухлой вонью.
— Сибирным острогам не удаст, — хмуро усмехнувшись, сказал Хлопуша и покачал головой.
— В медвежьей берлоге веселее, — согласился Жженый.
Они спустились вниз по земляным стертым ступеням. Внизу было темно и мозгло, как в могиле. Ни одна щель не пропускала сюда ни луча дневного света, ни глотка свежего воздуха.
— Выходи, кто жив остался, — крикнул Хлопуша.
На сыром, загаженном нечистотами земляном полу кто-то завозился, вздохнул, но тотчас же все стихло. Лишь когда спустились вниз люди с факелами, с полу поднялись пятеро заключенных.
Двое из них были старики-засыпки, вместе с Жженым подававшие управителю жалобу. Они качались на подгибающихся ногах, как пьяные, и часто моргали слезящимися, отвыкшими от света глазами. Трое других были рудокопы, за отказ работать в руднике предназначенные к отправке на каторгу. Головы их были наполовину обриты «в посрамление и стыд». Все пятеро были закованы в «смыги», деревянные кандалы: левая нога была скована с правой рукой, а правая нога — с левой рукой.
Разглядев наконец красный Хлопушин чекмень и думая, что это сам Пугачев, заключенные упали ему в ноги:
— Батюшка-государь ты наш!.. За свободу спасибо!..
— Встаньте, ребятушки. Не государь я, а только слуга его верный, такой же холоп, как и вы, — ласково сказал Хлопуша, затем приказал: — Колодки с них немедля сбить! Одежу выдать какую получше, накормить и напоить.
Когда отошли от «каморы», у Жженого вырвалось горячо:
— Эх, приказчика бы отыскать. Я бы с ним за всех рассчитался!
— Нашли уж, — откликнулся Чумак. — В церкви под престолом прятался.
— Судить его и всех остальных будем всем миром, — сказал строго Хлопуша. — Прикажи, Чумак, чтобы всех виновных перед царем-батюшкой согнали на литейный двор. Там и будет суд.
На шихтплаце, около домны, поставили для Хлопуши раззолоченное штофное кресло, то самое, в котором нежился когда-то у печки ротмистр Повидла. За спиной Хлопуши встали его есаулы — Жженый, Чумак, башкирин Шакир. Невдалеке от кресла поставили плаху — сосновый обрубок с воткнутым в него большим топором. Около плахи приводили к присяге новому царю Петру III.
Заводской поп с широким, красно-лиловым от пьянства лицом, с прилизанными квасом волосами, в засаленном на брюхе подряснике и в лаптях, с перепугу держал в руках икону вниз головой. Работные, не замечая этого, кланялись Хлопуше, крестились, крепко прижимая пальцы ко лбу, и целовали перевернутую икону. В этом и заключалась присяга.
В очереди присягающих стояли заводские солдаты-инвалиды и верхнеяицкие гусары с распущенными по плечам пудреными волосами, в знак согласия стричься в казаки. Они сами пилили друг другу косы тесаками, хохоча и зубоскаля.
Лишь один старик капрал не распустил волос и, по-видимому, не желал присягать. Он стоял угрюмый и злой в стороне, а белая пудренная мукой косичка его нелепо торчала из-под надвинутой на лоб меховой шапки-ушанки.
— С него и начнем, — Хлопуша указал на капрала. — Эй, служба, подь-ка сюда поближе!
Капрал, с пробитою стрелой рукой на перевязи, подошел и встал против кресла, вытянувшись по-военному.
— Здорово, старый знакомец! — насмешливо поздоровался Хлопуша. — Ай не узнаешь?
— Не могу признать! — хрипло, но четко, словно рапортуя, ответил капрал.
— А помнишь, на тракту караванного приказчика с Источенского завода? Помнишь, когда ты мертвяков из Чердыни вез?
Капрал ответил покорно:
— Что ж, что мертвяков. Прикажут, и мертвяков повезешь. Солдат должен выполнять приказ начальства столь быстро и столь точно, сколь можно, — назидательно закончил он.
— Слышу это от тебя не впервой. А как ты смел, смерд, стрелять из пушки по цареву войску? Как ты смел противиться воле его царского величества?
— Поступил по воинскому артикулу! — твердо ответил капрал. — Без приказа начальства не имел права объявить капитуляцию. Душой к вам лепился, а по воинскому артикулу открыл пальбу.
— Нечистый тебя разберет! Несешь и с Дона, и с моря, — раздраженно буркнул Хлопуша.
Он долго и внимательно разглядывал капрала. Цыганские его глаза ощупывали старика с ног до головы. Капрал стаял спокойный, чуть грустный — каблуки вместе, носки врозь.
— Я тебя, старого хрыча, обучу воинскому артикулу! — крикнул вдруг Хлопуша, крепко стукнув ладонями по подлокотникам кресла, и вскочил. — Ложи голову на плаху. Ложи счас же.
Колени капрала дрогнули. Он поднял руку и зачем-то разгладил седые усы. Потом четким военным шагом подошел к плахе и рухнул перед ней на колени, положил голову рядом с торчащим топором.
Хлопуша подошел, выдернул топор, невысоко подкинул его, примеривая к руке, и ногтем попробовал — остер ли.
— Шапку сними, — сказал он капралу. — И на тот свет в шапке собрался идти?
Капрал спокойно снял шапку и, забыв ее в руке, снова положил голову на плаху.
Хлопуша поймал рукой кончик капраловой косы и потянул ее на себя, заставив капрала лечь щекой на плаху. Взблеснул топор и опустился с такой силой, что зазвенел, уйдя глубоко в дерево плахи.
Толпа ахнула тяжко, единой грудью.
Хлопуша медленно поднял левую руку. В ней зажата была отрубленная капралова коса.
По толпе прокатился радостный и веселый хохот:
— Обкарнали капрала!..
— Хвост под репицу обрубили!.. Куцый капрал стал!..
А капрал, не слыша хохота и криков, лежал головой на плахе.
— Встань! — приказал ему Хлопуша.
Старик поднялся, пепельный от испуга, но по-прежнему спокойный. Он еще чувствовал на затылке холодное прикосновение топора. Но разве мало раз смотрел старый капрал смерти в глаза? Он поднял руку к шее, ловя косу. Но ее не было. Коса была отрублена на удивление ловко — под самый затылок. И, поеживаясь от холода в непривычно голом затылке, старик вдруг засмеялся:
— Ловко сбрил! Ай да царский полковник! Рука у тебя верная и меткая, ничего не скажешь.
— Жалеешь, чай, свою косу?
— А чего ее жалеть? Букля не пуля, коса не штык.
— Наш батюшка-царь не любит долгих кос. Это бабам только носить. — Хлопуша бросил к ногам капрала его обрубленную косу. — И выходит, старый хрыч, что я сам тебя в вольные казаки поверстал. Отвечай, будешь царю верой-правдой служить?
Капрал посмотрел на косу, валявшуюся у его ног, отодвинул ее носком сапога и сказал весело, с молодым задором:
— Освободил ты меня от моей присяги. Расстриг из царицыных капралов. Ладно, коли так, куда мир, туда и я. Рад ему, государю, послужить!
— Служи верно и не пожалеешь. У нашего надежи-государя простому капралу не диво и до генерала, а то и хвельдмаршала дослужиться. Вот так-то! Ступай, служба.
Старик сделал лихо поворот налево и зашагал к иконе, принимать новую присягу.
Хлопуша снова сел в кресло и, указывая на Агапыча, сказал:
— Теперь давай того зловреда.
Державшие Агапыча работные дали ему тычок и шею, он побежал и повалился в ноги Хлопуши.
— Я тебе, сукин сын, не икона, чтоб на колени передо мной становиться, — бросил зло пугачевский полковник и заговорил медленно и тихо:
— Дознались мы от твоего пронырца и ушника Петьки Толоконникова, что ты, подлюга, против государева дела злоумышлял, письма мои управителю передавал, верного царева слугу, моего есаула Павлуху Жженого убить хотел и подбил управителя вытребовать солдат на завод. Правда, аль нет? Отвечай не мне, а всему миру!
Обычно глухой, чуть шепелявый голос Хлопуши сейчас гремел на весь шихтплац. Его слышали в самых последних рядах.
Агапыч молчал, опустив глаза в землю. Он тщательно вытирал красным платком пот, и на морозе ручьями катившийся по его заросшему седой щетиной сморщенному личику.
— Что, аль язык отсох? — Хлопуша наклонился низко к нему. — Ну, ухвостье барское, за дела свои какой награды ждешь?
Приказчик поднял голову. Колючие его глазки налились мутью, словно от внезапного хмеля. Он повел ими по толпе, вымаливая хоть одно слово участия, защиты, оправдания. Но люди угрюмо молчали, и в молчанье этом приказчик разгадал тяжелую и холодную злобу. Он снова опустил голову, хотел что-то сказать, но ставшие непослушными губы и язык не смогли сбросить ни слова.
Хлопуша откинулся на спинку кресла. Посучил задумчиво пальцами кончик бороды и вдруг решительно вскинул голову:
— В куль с камнями его, да в Белую! Водяному в гости!
Агапыч вскочил. Он вообразил черную, как деготь, ледяную зимнюю воду реки и, вскрикнув дико, побежал. Но тотчас запутался в долгополом своем кафтане и упал. Никто еще не притронулся к нему, а он уже закричал. Он сипло выл, рвал на себе волосы, катался по земле. Он был страшен, жалок и отвратителен. В рот ему сунули деревянный кляп и, подхватив под мышки, поволокли. Толпа расступилась и, снова сжавшись, встала живой стеной.
— Так-то, зловред, — Хлопуша засмеялся. — Ну, вечная тебе память, злодею! Тебе тлеть-гнить, а нам радоваться и жить!
Он повел ищуще глазами и, отыскав холеное лицо Шемберга, поманил его пальцем:
— Подь-ка сюда, баринок. Стань ближе. Твой черед.
Но управитель не шелохнулся. От страха он наполовину потерял сознание. Его вытолкнули кулаками в спину.
Вместе с Шембергом отделился от толпы молодой парень, ровщик. На нем была только длинная, ниже колен, посконная рубаха да остроконечный суконный колпак с собачьими отворотами.
Парень поклонился Хлопуше в пояс.
— Сударь полковник, дозволь с управителя полушубок снять. На управителя да на графа так робил, что в копи последние портки порвал. Холодно, чай, в одной-то рубахе. Дозволь, дядь Хлопуша, — запросто закончил рудокоп.
— Дозволяю, — Хлопуша улыбнулся. — Сдирай с него одежу, провора.
Парень рванул нетерпеливо за рукава, вытряхивая из полушубка непослушное, отяжелевшее тело управителя. Из-за пазухи его вывалился при этом сверток и с металлическим лязгом ударился о землю. Управитель вздрогнул всем телом не то от этого лязга, не то от холода, проползшего под кафтан.
— Что это? — Хлопуша потянулся к свертку.
Он развернул холстину, раздернул большую кожаную кису. Засверкали крупные золотые самородки, вкрадчиво зазвенели золотые монеты, ласково и тихо засияли камни-самоцветы. Хлопуша высыпал кису в свою казачью шапку и поднял ее высоко над головой. Он крикнул гулко и повелительно, словно скомандовал:
— Люди, смотрите и слушайте! Вот где ваши слезы, кровь и пот ваши! В управительской пазухе!
— Точно! — закричали в толпе. — Это наша казна, нашим горбом добыта!.. Возьми, полковник, и отвези батюшке-царю! Жертвуем на святое дело!
— Тут еще лошадь вьючная управительская есть, — сказал Хлопуше Жженый. — Во вьюках тоже добра нахапленного немало.
— Пори вьюки! Поглядим, что там, — приказал Хлопуша.
Вьюки, не снимая с лошади, полоснули ножами и на землю вывалились звериные шкурки. Горячим пламенем вспыхнула лиса-огневка, холодно забелели горностаи рядом с черными сереброспинными соболями и куницей-желтодушкой.
— Ох, и богат же ваш Урал-батюшка! — покачал ошеломленно головой Хлопуша.
— Ты вот куда гляди, полковник! Это ты видишь? — крикнул отчаянно старик литейщик и выдернул из вороха мехов шкурку бледно-голубую, как утренние тени в снежном лесу. Старик нежно погладил ее вздрагивающей рукой. — Белая лисица, князек! Целую деревню на ее купить можно.
— Так и бери ее себе, дед! Чай, заслужил сего князька за всю каторжну свою работу! — накинул Хлопуша шкурку на шею старика. Затем сгреб в охапку меха и швырнул их в толпу. — Это ваши кровные копейки! Держи! Дувань!
Когда смолк веселый шум дувана, Хлопуша встал рядом с управителем и снова закричал:
— Люди работные, слушайте!.. Не мне его судить, перед вами он обвиноватился. Отвечайте, пекся ли он об вас?
Громовыми взрывами то в одном конце двора, то в другом взметнулись крики:
— Пекся, неча сказать!.. Нам с ним не жизнь была, а беда-бедовенная!
— Для нас у него — дым да копоть, да нечего лопать!..
— Порол ли он вас? — продолжал Хлопуша.
— Порол нещадно!
— Опосля его дранья иных в бараньи шкуры завертывали, а то б сдохли!..
— На работе морил?
— Мором морил!..
— От тягот его многие руки на себя наложили!..
— Не только тело — душу сгубили!..
— Жалованье затаивал?
— Затаивал!.. Каждую заробленную копейку пополам ломал… Половину себе — половину нам!..
Хлопуша обернулся к Шембергу.
— Слышал? Не я, они тебя судили.
— В петлю его! — кричали работные, показывая на господское крыльцо, где из конских оборотей была уже приготовлена виселица.
— Нет, детушки, — Хлопуша покачал головой. — Я другое надумал.
Люди смолкли, с нетерпеливым ожиданием глядя на Хлопушу. А он сказал, улыбаясь в бороду:
— Надобно с завода его выгнать.
Передние недовольно нахмурились, а сзади поплыл озлобленный ропот, крики:
— Подь ты к чомору, надумал тоже!..
— Аль стакнулся с барином?..
— Чего немца выгораживаешь?..
— В петлю управителя!..
— В Белую его, пущай приказчика догоняет!..
Хлопуша, упершись кулаками в бока, беззаботно хохотал:
— Это я-то стакнулся с барином? Вы тоже хорошо надумали, детушки-проворы!
А затем голос Хлопуши резко, как кнутом, рассек нарастающий гул толпы:
— Досказать дайте! Не просто прогнать управителя — уходи, мол, куда хочешь, а собак на него натравить, собаками выгнать. Сам, как пес цепной, на людишек кидался, пущай теперь на своей шкуре собачьи зубы испытает. Коли уйдет от псов — его счастье, зато памятка на всю жизнь будет. А загрызут — нам печаль какая? Гоже ли, ребятушки?
— Гоже!.. Гоже!.. — дружно заголосила толпа.
И тотчас по двору разнеслись призывные свисты и крики людей, созывавших собак. Страшные «зверовые» псы башкиров и злые, худые «тазы» — овчарки киргизов, мужицкие сторожухи понеслись со всех ног к своим хозяевам.
— Беги, барин! — сказал Хлопуша управителю. — Коли жив быть хочешь — уноси ноги!
Шемберг вздохнул, подтянул штаны и побежал, лениво и тяжело, как сытый, разъевшийся бык. Хлопуша первый раз крикнул:
— Ату его!
И тотчас взвыл весь двор:
— Ату-у-!.. Бери-и-и!.. Втюзы-ы!..
Псы не понимали, чего от них хотят, на кого их натравливают, но они уже свирепели, яростно драли землю задними ногами, рычали захлебываясь. Первой кинулась злая хрипучая шавка. Она кубарем подкатилась под ноги управителя и вцепилась в толстую его икру. Шемберг взбрыкнул ногами и понесся с мальчишеской легкостью. Но тут навалилась вся стая.
Орава псов с яростным лаем закипела вокруг него, взвиваясь к самой голове, падая, на лету перевертываясь и снова кидаясь. Заплескалась разорванная пола кафтана, а бархат панталон висел клочьями. Собаки хрипло выли от злобы, а вслед воплем неслось еще более страшное, злобно-веселое:
— Ату-у-у! Бери-и-и!..
Почти у ворот Шемберг быстрым неуловимым движением, на бегу, поднял тяжелый камень и опустил его на голову особенно свирепого волкодава. Пес захрипел и в судорогах повалился на землю. Увидев это, стоявший у ворот работный огрел Шемберга по спине тяжелой дубиной. Управитель упал. Стая насела на него и прикрыла разношерстным клубком.
— Не сметь трогать! — закричал Хлопуша. — Рук об его не марать! Пущай псы разделываются!
Работный испугался, бросил дубину и убежал.
Собаки рычали, выли, наваливаясь друг на друга. Но вот в середине собачьего клубка что-то заворочалось. Видно было, как Шемберг встал на четвереньки, потом, качаясь под тяжестью прицепившихся собак, поднялся на ноги. Искусанный, в лохмотьях кафтана, прижавшись спиной к воротному стояку, он ногами отбивал яростные собачьи атаки. И вдруг увидел брошенную работным дубину. Метнулся к ней, стремительностью движения напугав собак, схватил, двумя ударами разорвал замкнувшийся круг животных и скрылся за воротами. Большинство собак отстало. Они сразу смолкли и деловито побежали назад.
— Ловок бес! Отобьется, видать, — сказал Хлопуша. — Да и собаки наши человека травить непривычны.
— Это только баре на людей собак натаскивают, — откликнулся хмуро Федор Чумак.
— Что, аль на своей шкуре испытал? — Хлопуша устало улыбнулся.
После Шемберга судили доменного мастера, того самого, который утром в день заворохи хотел избить на домне Жженого, заступившегося за покойного Семена Хвата. Жалобу на мастера подали Хлопуше доменные работные. Хлопуша сказал ему:
— Сам ты из работных вышел, а своего же брата бил, утеснял, в колодки сажал. Не нашего ты леса пенек, и нет тебе ни места, ни доли у нас.
Мастера отодрали плеткой-шестихвосткой на «стегальном дворе» и с позором, вымазав дегтем, вываляв в перьях, выгнали с завода. Богатый его дом в поселке был сожжен.
Когда было покончено и с мастером, Хлопуша обратился к своим есаулам:
— Ну, вишь, с крупными злодеями мы разделались. А с мелюзгой, с кровососами, рядчиками, взяточниками, конторщиками иль мордобойцами-уставщиками работные сами разделаются. А теперь, господа есаулы, должны мы сему заводу, подведенному под высокую руку царя Петра, дать власть крепкую и праведную.
Хлопуша взобрался на кресло с ногами и, поддерживаемый со всех сторон есаулами, обратился к толпе с короткой речью.
— Люди работные, и вы, приписанные к заводу пахотные мужики, еще в остатний раз слушайте меня!.. Изволением и милостью великого нашего государя анпиратора Петра Федоровича избавлены вы от вечной кабалы. Пресветлый наш батюшка-царь жалует вас землею, покосами, лесами, реками, озерами, а за работу на заводских фабриках жалует денежным жалованием и провиантом. А еще жалует он вас вечной волею и свободой! С сего дня и до окончания века, пока белый свет стоит, будете жить вы вольно, и никто у вас волю отнять не мочен!..
Терпеливо и благодарно молчавшая толпа разразилась ликующими бурными криками. Полетели кверху шапки. Казалось, бесчисленная стая ворон взмыла над литейным двором. Люди обнимались, целовались друг с другом. Хлопуша, с трудом удерживая равновесие на пружинящем кресле, размахивал руками, надрывался в криках, и сам при этом весело смеялся:
— Слушайте дале!.. Да тише вы, галманы!.. Вот чистые жеребцы! Взбесились от радости!
Есаулы кое-как восстановили тишину, и Хлопуша продолжал:
— Отныне будете вы жить вольно, по древнему казацкому обычаю. А посему, должны вы выбрать себе атамана и есаула. Кого прочите в заводские атаманы, а кого в есаулы? Отвечайте!
Толпа ответила дружно:
— Павлуху атаманом!.. Жженого!.. Есаулом Федьку Чумака, кричного!..
Хлопуша взмахнул отчаянно шапкой, закричал надрывно, из последних сил:
— Детушки, люб ли вам атаман Павлуха Жженый?.. Люб ли вам есаул Федька Чумак?..
— Любы!.. Оба любы!.. — загремела толпа.
Хлопуша спрыгнул с кресла и подтолкнул к нему Жженого. Поднявшись на штофное сиденье, Павел снял шапку и поклонился на все четыре стороны. Сказал негромко, волнуясь:
— Быть мне, братья, по вашему слову, в службе истинному мужицкому государю и в вашей службе. Атаманить буду по правде и по совести. Обещаюсь и клянусь — другу не дружить, недругу не мстить и с вами, братья, совет держать…
Кончить Павлу не дали. Снова взлетели шапки, загремели крики:
— Ура-а атаману! Любо!.. Любо!..
Павел спрыгнул с кресла и почувствовал на своем плече чью-то руку. Обернувшись, увидел Хлопушу. Он ласково и добро улыбался.
— Хорошо сказал, Павлуха! Как сказал, так и делай! А теперь, молодой атаман, пойдем-кось на вал. Там не людно. Слово к тебе есть…
* * *
Надтреснутый басок Хлопуши выводил с грустной удалью:
Черный ворон воду пил, Воду пил. Он испил, возмутил, Возмутил…Опершись о частокол, Жженый смотрел задумчиво вниз, на литейный двор.
Шихтплац походил на многолюдный и веселый базар. Он был тесно заставлен телегами, повозками, холщовыми палатками, рогожными навесами, киргизскими и башкирскими кошомными юртами. Ржали кони, мычали волы, ревели верблюды. И плыли оттуда мирные запахи сена, навоза, дегтя, дыма костров.
На кострах закипали котлы с кашей, щербой, с похлебками из баранины, воловины, конины. Из неясного гула людских голосов вырывались звонкие переборы балалайки, визг башкирского кобыза, тугие звоны киргизской домбры. Кочевничья песня тянулась, раскручивалась и снова тянулась все выше и выше, и качалась, как струйка дыма над степным костром. А выбитые окна господского дома выплеснули хоровую песню, старинную песню, в которой и жалоба, и смертная мужицкая тоска:
Эх, когда бы нам, братцы, Учинилась воля, Мы б себе не взяли Ни земли, ни поля.Хлопуша оборвал свою песню и глубоко вздохнул. Павел, не меняя позы, перевел на него взгляд.
— Я, провора, завтра двинусь дале, — заговорил Хлопуша. — Теперь прямо под Ренбург пойду, царевым полкам пушки и прочий снаряд повезу. А ты здесь, на заводе, пушки, мортиры, ядра лей и пересылай с оказией под Ренбург, в Берду, в главную нашу квартиру. Я тебе охрану оставлю, а ты, кроме того, огородись рогатками, частокол поднови, кулями с песком обложись. Держи ухо востро! Спи одним глазом! Не зевай — дураков-то и в церкви бьют.
— Дядя Хлопуша, дозволь сказать, — робко перебил его Жженый.
— Ну? — Хлопуша недовольно свел брови над переносьем. — Чего еще у тебя там?
— Без охотки я здесь остаюсь, — по-прежнему несмело сказал Павел. — В бой мне хочется. Дядя Хлопуша, возьми меня с собой. Крепко тебя прошу!
Хлопуша еще туже свел брови, засопел недовольно и вдруг засмеялся.
— Чего ты? — уныло удивился Жженый.
— Вспомнил я, — тихо и ласково продолжал Хлопуша, — вспомнил челяпигу, воробышка глупого, того, что на дороге. Тоже так вот просился — «дядь Хлопуша, возьми-и…»
Он обнял с застенчивой нежностью Павла за плечи.
— И мне, провора, с тобой неохота расставаться. Полюбил я тебя, ухарь-парень ты, и душа у тебя прямая. А для дела надо… На кого завод оставлю? Ну? На кого? От этого дела тебе не отпятиться. Поработай на мирской пай. Примай сей груз на свой хребет, авось не переломится.
Павел молчал. Хлопуша отошел от него и сел на пушечный лафет.
— Дале слушай! И запомни крепко! Работных людишек ты всячески береги. Пускай владеют они землями, лесами, сенокосами, рыбалками без покупки и без оброку. Башкирцев в их улусах тоже всячески защищай, николи их не обижай. Они первейшие наши друзья и помощники. Царицын хомут им тоже холку до крови растер, Им, иной раз, горше нашего достается.
Хлопуша помолчал и заговорил теперь строго и сурово.
— Вожжи, однако, не распускай! Нещадно тех наказывай, кто в самовольстве, озорстве и непослушании замечен будет. Дело, Павлуха, наше великое. Святое дело! Ежели бы собрать все слезы, что выплакал наш брат холоп, всколыхнется сине море и утонут в нем наши злодеи, утеснители, баре да заводчики. За такое дело ни поту, ни крови, ни даже жизни своей не жаль. Гляди, вон оно, наше мужицкое сермяжное воинство!..
Табор не уместился на литейном дворе, вышел за заводские валы. Бесчисленные костры опоясали завод огненным кольцом.
Костры горели, начиная с берегов реки, и поднимались все выше и выше по уступам гор до самых вершин.
У костров на берегу Белой можно было разглядеть черные тени людей, на склонах гор бушующее пламя освещало черные, как сажа, стволы деревьев. Выше, на горах, костры трепетали светлыми пятнами. Еще выше они тихо мерцали, почти сливаясь со звездами.
— Видишь, всколыхнулся холопский мир! Смерд восстал! И неужели мы Русь-матушку не обратаем, неужели Москву да Питер — гнездо царицыно — на слом не возьмем?.. А теперь, прощай, провора! Надолго прощай! Может быть… навсегда.
Хлопуша снова обнял Жженого за плечи и потянул к себе. Павел тоже крепко обнял его и поцеловал в сухие горячие губы.
БУРАН
Смеркалось.
Жженый стоял на заводском валу, на том месте, где он вчера прощался с Хлопушей. Смотрел грустно, как за гребнем Баштыма одна за другой исчезали телеги Хлопушиного обоза. Вот последние втягиваются на взлобок. Уже не слышно многоголосых криков, похожих на грай, стаи грачей.
Сзади Жженого, стуча мерзлыми валенками, переминался с ноги на ногу старик капрал. Нос его от холода стал сизым, и капрал то и дело тер его. Старик сдвинул на затылок шапку, и Жженый увидел, что волосы его по-казачьему подрублены в кружок и спущены до половины лба. Павел улыбнулся.
— Совсем, дедка, казаком заделался? Ну, послужим новому царю?
Старик подумал, вытащил тавлинку, зарядил нос и ответил готовно:
— Двум царицам да одному царю служил, а нашему мужицкому государю как же не потрудиться? Своя, сынок, ноша не тянет.
Павел повернулся и посмотрел на завод.
Дымили колошники домны, зарешеченные окна кузнечной фабрики багровели отсветами горнов. Жарко пылали все заводские горны и кричные печи, кузнецы-молотобойцы в соленых от пота рубахах, в прожженных кожаных фартуках и день и ночь били молотами в крицу, отковывая пушечные и ружейные стволы. Вымотав силы, валились вздремнуть здесь же на земляном полу, усыпанном шлаком и пеплом, и, вскочив, снова били молотами, били хакая, с оттяжкой, с веселой злостью, так что искры метелью взвивались под потолок. Никогда не работала заводчина с таким запалом, с такой яростью, как сейчас, полная уверенности в близкой победе.
Завод гремел, звякал, грохотал, визжал сверлильными станками, а на горы, на тайгу опускались сумеречное спокойствие и тишина. Звенящая от заморозков земля ждала крепкого, настоящего снега. И небольшое облако, наползавшее с востока, вдруг разрослось в пухлую снеговую тучу. Перетаскивая через сырты отвисшее свое брюхо, туча напоролась на острую вершину Баштыма и просыпалась снегом, сухим и мелким, как соль.
Пришел первый зимний буран.
Здесь, внизу, было еще тихо, лишь начала посвистывать, кидаться серебристой снежной пылью порывистая поземка. А на вершинах буран кипел, вскидывался белым дымом..
Туча сползла с Баштыма и повисла над заводом.
Тотчас побелели склоны гор, дороги, берега реки, только сама река, еще не застывшая, шла черная, как вар, и по ней плыли лебедями первые льдинки. Снег убелил и заводский поселок, гнилой и грязный.
И как всегда бывает после первого снега, земля казалась особенно чистой, свежей. И Павлу верилось, что пришедший буран очистит землю от гнили и грязи, страданий и горя.
А капрал, ежеминутно сморкаясь, шмыгая перезябшим носом, ворчал:
— Буран идет. Надо приказать в колокол звонить. В буран многие с пути сбиваются…
Пермское книжное издательство Библиотека путешествий и приключений
Вышли из печати:
Выпуск 1. А. Домнин. Дикарь. Цена 6 коп.
Выпуск 2. М. Заплатин. На гору каменных идолов. Цена 12 коп.
Выпуск 3. Н. Чернышев. Западня. Цена 8 коп.
Выпуск 4. А. Ромашов. Лесные всадники. Цена 11 коп.
Выпуск 5. Ю. Вылежнев. На лосях. Цена 13 коп.
Выпуск 6. А. Белоусов. Камень нерушимый. Цена 9 коп.
Выпуск 7. А. Соколов. Пламя над тайгой. Цена 6 коп.
Выпуск 8. А. Крашенинников. В лабиринтах страны Карст. Цена 6 коп.
Выпуск 9. Н. Чернышев. Находка беглого рудокопа. Цена 6 коп.
Выпуск 10. А. Граевский. На север! Цена 8 коп.
Выпуск 11. А. Ромашов. Золотой исток. Цена 10 коп.
Выпуск 12. В. Волосков. На перепутье. Цена 7 коп.
Выпуск 13. В. Занадворов. Медная гора. Цена 14 коп.
Выпуск 14. М. Заплатин. Вдоль Каменного пояса. Цена 17 коп.
Выпуск 15. Ю. Курочкин. Легенда о Золотой Бабе. Цена 29 коп.
Выпуск 16. А. Ромашов. Земля для всех. Цена 11 коп.
Выпуск 17. О. Селянкин. «Ваня Коммунист». Цена 11 коп.
Выпуск 18. Л. Фомин. Лесная повесть. Цена 8 коп.
Выпуск 19. А. Домнин. Поход на Югру. Цена 6 коп.
Выпуск 20. В. Матвеев. Золотой поезд. Цена 25 коп.
Выпуск 21. В. Волосков. Операция продолжается. Цена 33 коп.
Выпуск 22. Д. Мамин-Сибиряк. Бойцы. Цена 32 коп.
Выпуск 23. Г. Бабаков. Тигр наступает. Цена 23 коп.
Выпуск 24. Г. Солодников. Ледовый рейс. Цена 23 коп.
Выпуск 25. В. Оборин. Немые свидетели. Цена 22 коп.
Выходят из печати:
Выпуск 27. А. Граевский. Морской узел.
Выпуск 28. Л. Фомин. Мы идем на Кваркуш.
Выпуск 29. В. Соснин. Охота без выстрела.
Примечания
1
Шпионов.
(обратно)2
Первое мая по старому стилю.
(обратно)3
Генерал Рейнсдорп.
(обратно)4
Иванов день, спас, Параскева-пятница — церковные праздники в июне, августе и октябре.
(обратно)5
Восстание кыштымских и каслинских крепостных рабочих было в 1760 году, за тринадцать лет до описываемых в повести событий.
(обратно)6
Жигари, углежоги обжигали уголь для заводских домен.
(обратно)7
Помощь, выручка.
(обратно)8
Тогдашнее название — фабрика — соответствует теперешнему — цех.
(обратно)9
Виселица в виде буквы Г.
(обратно)10
Рудознатец — инженер-геолог.
(обратно)11
Куртаг — прием при дворе.
(обратно)12
Батырша — по национальности мещеряк, возглавлял в 1754 году последнее самостоятельно организованное восстание башкир против русских. В дальнейшем башкиры, да и все вообще народы Урала, примыкали уже к другим движениям, в том числе, конечно, и к пугачевскому.
(обратно)13
За год с небольшим до пугачевского восстания, в начале 1772 года восставшими казаками были убиты войсковой атаман и присланный из Петербурга для расследования генерал Траубенберг. Казаки сопротивлялись высланным против них войскам целый месяц.
(обратно)14
Дистанция — округ, район.
(обратно)15
Требование удовлетворения (извинений) за нанесенное оскорбление.
(обратно)16
Огневщики — пожарные дозоры в лесах. Огневщиков селили обычно на вершинах высоких гор.
(обратно)17
Горный кряж Большой Иремель.
(обратно)18
Это, конечно, неверно. Ермак шел на Сибирь одним путем — по реке Чусовой и ее притоку — Серебрянке. Но по всему Уралу многие пещеры, лога носят Ермаково имя и местными преданиями так или иначе связываются с его, якобы, пребыванием в этих местах. Прим. автора.
(обратно)19
Высохшая трава.
(обратно)20
Шуба, доха.
(обратно)21
Куян по-башкирски — заяц, кашкыр — волк.
(обратно)22
Щетка для чистки ствола пушки.
(обратно)
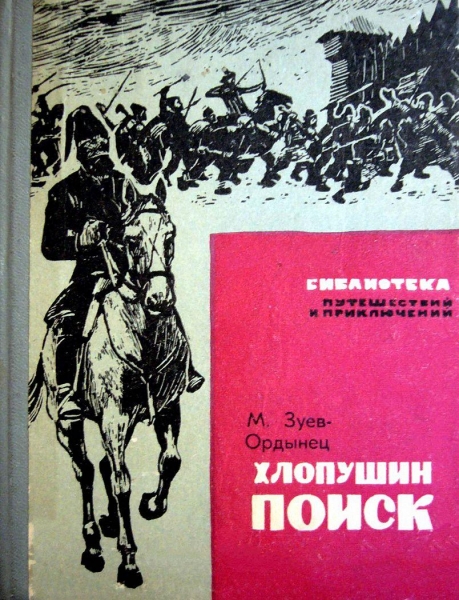

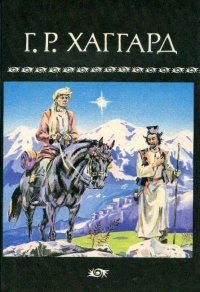

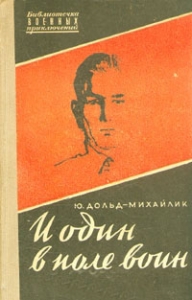

Комментарии к книге «Хлопушин поиск», Михаил Ефимович Зуев-Ордынец
Всего 0 комментариев