Призванный хранить
Наде и Нине
Крепость Тебриз на склоне священной горы Алу,
Центральный Кавказ, II мукхарам 780 г. Хиджры
В эту пору в низинах всегда цвели сады.
Множество селений, прилепившихся к склонам гор, утопали в причудливом соцветье чёрного (вспаханная земля — плодородная, способная превратить в живое дерево даже вкопанную оглоблю), белого (сады, целое море яблоневых садов в шапке густых дурманящих ароматов) и зелёного — яркая молодая трава, горячая, клейкая от солнца, по которой в детстве я так любил бегать босиком... Впрочем, вру: в детстве я ненавидел бегать без обуви — трава казалась слишком колкой и грубой для моих нежных ступней, к тому же она ассоциировалась у меня с летом, жарой и множеством насекомых, которых я тоже ненавидел и боялся. Даже безобидные муравьи вызывали у меня почти панический ужас — не говоря уж о пчёлах и медведках... Я всегда был неженкой. Однако никому даже в голову не приходило посмеяться надо мной.
Только ей...
Только ей я мог позволить и простить все, даже смех — впрочем, совсем необидный, ласковый и чуточку снисходительный. Ей — моей Женщине, единственной во всей Вселенной, Женщине, Которую Я Любил, Женщине моих грёз...
Помнится, мы сидели в саду на расстеленном на земле покрывале. Покрывало было нежного персикового оттенка с большими вышитыми цветами — его ткали мастерицы из Дербента, на весь мир славного своими тканями. Вокруг цвели яблони, белый цвет медленно осыпался нам под ноги, и низко гудели пчёлы. Одна вдруг села мне на палец — наверное, её привлёк запах мёда, налитого в глиняную пиалу. Я отшатнулся, и она, моя Женщина, успела заметить секундный страх, исказивший моё лицо. И рассмеялась. Я покраснел от стыда и разозлился. Она успокаивающе дотронулась до меня, капнула мёду себе на ладонь и протянула руку вверх. Тут же на неё села пчела (меня даже дрожь пробрала, когда я представил, как она скребёт по коже своими лапками), подползла к капельке мёда и погрузила в неё хоботок. Женщина не пошевелилась, позволяя пчеле насытиться. Потом пчела поднялась, сделала круг над её головой — я поклясться бы мог, она благодарила её! И — улетела. Я смотрел зачарованно. Меня восхищало в этой Женщине всё — каждая чёрточка её точёного лица, каждый волосок, каждая складочка одежды. Не удержавшись, я робко коснулся её, и меня словно поразило молнией. Жар ударил мне в голову — она перехватила мой взгляд и поняла...
Потом мы прогнали слуг и занялись любовью, прямо там, под цветущими яблонями. И каждый раз, бессчётное их число, я умирал, касаясь её, и возрождался, чтобы снова умереть, сгорая на высоком костре, падая в пропасть со скалы, окунаясь с головой в ледяную горную реку, чтобы никогда не вынырнуть... Я и сгорел бы ради неё, если бы только она приказала. И не испугался бы целого роя диких пчёл или тысячи вражеских стрел и мечей. Или гнева самого Аллаха — я бы сумел защитить её от всего. Я был уверен в этом, потому что был в ту пору молод и до глупости наивен.
Теперь от той щенячьей наивности не осталось и следа. На смену юности пришла нездоровая рыхлость в фигуре, одышка и артрит; каллиграфия моя была всё ещё безупречна, но каждый раз, берясь за камышовое перо для письма, я испытывал боль в искривлённых пальцах. Хотя я давно привык к боли, она стала для меня своего рода знаком: я ощущаю её — значит, ещё жив...
Человек, стоявший перед узким стрельчатым окном — не окном, а скорее, бойницей, пошевелился, и я поднял на него глаза. И подумал, что время сохранило его лучше, чем меня. Царь Грузии Гюрли и сейчас, в весьма зрелые годы, обладал великолепной фигурой и литыми мышцами (их не могла скрыть даже броня из позолоченных пластин, надетая поверх парчового кафтана). Я видел его чеканный профиль: гордо посаженная голова на широких плечах, хорошей лепки нос и раздвоенный, как жало змеи, подбородок. Ей-богу, будь я женщиной, я влюбился бы без оглядки — в этот подбородок нельзя было не влюбиться.
Таким он был — таким он останется в веках, правитель Грузии, поэт, красавец и воин, покоритель народов и непокорных женских сердец. Жизнь воина — жизнь в седле, в кровавых схватках, в постоянном, даже во сне, чувстве опасности, когда полагаться можно лишь на зоркость глаз, силу мышц и звериную реакцию — такая жизнь действует на мужчину подобно целительному бальзаму: может убить раньше времени, но если боги будут милостивы — долго не даст состариться. Я никогда не был таким: тренируя ум и память, я забывал о теле. И оно мстило мне исподтишка. Сейчас я почему-то сожалел об этом — в последнюю ночь нашей жизни. Ибо следующего заката мне не суждено будет увидеть.
Было почти светло: всюду, куда ни кинь взгляд, сверкали во тьме костры. Их было много: больше, чем звёзд на небе. Или песчинок на дне реки, или капель в дожде. Я попробовал сосчитать их, но бросил, сбившись на второй сотне. Кострами были расцвечены долина внизу и склоны окрестных гор, и там, насколько хватало глаз, ухало, ворочалось, кричало и лязгало железом исполинское существо, имя которому было — хан Тохтамыш. Верховный правитель Золотой Орды, посаженный на её трон своим великим покровителем и вечным недругом Хромым Тимуром...
Странные их связывали отношения — Тимура и Тохтамыша, двух монгольских ханов: они то воевали друг с другом, мановением руки бросая на алтарь своей вражды тысячи и тысячи жизней, то скакали на своих конях бок о бок, и их знамёна — чёрный бык и золотой сокол — реяли один подле другого, наводя ужас на народы Кавказа. Они клялись в вечной дружбе и подсылали друг к другу наёмных убийц, но эти убийцы не достигали цели, ибо их хозяева слишком хорошо знали один другого...
С одной стороны, удивляться тут было нечему, во все времена такие отношения между правителями были скорее правилом, чем исключением, а с другой...
С другой стороны, эти отношения были слишком сложны и запутаны, чтобы рассказать о них вот так, в двух словах. На это стоило бы отвести в моей повести целую главу. Или вообще посвятить этому отдельную книгу.
Иногда из общей какофонии слух извлекал отдельные звуки: конское ржание, рёв верблюда, чьи-то отрывистые команды, стук топоров и скрип колёс — это строились лестницы и подкатывались ближе к стенам осадные машины, которые Тимур привёз из Китайского похода. Пройдёт совсем немного времени, отступит ночь, и с первыми красками зари ударит в ворота крепости таранное бревно, полетят на крыши домов камни, одетые в горящий войлок, бросятся вперёд жаждущие крови монгольские сотни, которым несть числа, против которых бессильны даже каменные стены, вознесённые на вершину скалы — так высоко, что не долетит пущенная стрела...
А потом, когда падут последние преграды на их пути, я наконец обрету покой. Смерть уравняет нас: две головы — моя и моего врага царя Гюрли — будут торчать над разрушенной стеной на соседних кольях, ласково скалясь остатками зубов и глядя на мир пустыми глазницами. А наши тела... Тела, наверное, так никто и не найдёт.
...Я пробрался в Тебриз за несколько часов до его падения. Для этой цели я воспользовался тайным ходом, который нашёл сам, — найти его было легко, нужно было только знать заранее, что именно хочешь отыскать. Я прошёл весь город и почти достиг дворца Гюрли, когда меня схватили стражники. Поначалу они чуть не зарубили меня на месте, приняв за вражеского лазутчика, но вовремя остановились. Наверное, их удивило моё поведение: я не сопротивлялся и не делал попытки бежать. Кроме того, при мне не было никакого оружия... да и вообще ничего не было, кроме маленького закупоренного сосуда с чернилами, палочки для письма и свёрнутой в трубочку рукописи. Моей книги.
Это была книга, над которой я работал много лет — с тех пор как покинул свой родной город Седжаб на западе Ирана. Все эти годы я скрупулёзно переносил на бумагу то, что видел вокруг, о чём слышал от других людей и в чём мне довелось участвовать самому. Я никогда не считал себя бедным человеком: на родине, в Седжабе, я жил во дворце эмира Абу-Саида и занимал высокое положение главного визиря, имел гарем из пятидесяти жён и целый табун чистокровных лошадей. Мне доводилось много путешествовать по свету — я побывал во множестве городов и стран, я был влюблён в самую прекрасную женщину из всех живущих под этими небесами, и она отвечала мне взаимностью. У меня было всё, что только можно было пожелать...
Но в Тебриз я вошёл, не имея при себе даже мелкой медной монеты. Приди мне в голову мысль купить у торговца хотя бы чёрствую лепёшку — мне нечем было бы расплатиться. Я потерял всё. Всё, кроме моей рукописи — единственного моего богатства. Лишь она не предала меня, моя повесть, хотя кому, как не ей, знать, что вся жизнь представляет собой цепь потерь и предательств...
Я пришёл в Тебриз, зная, что погибну через несколько часов. Многие жители уже покинули город, и в раскрытых настежь домах лениво поигрывал ветер. Другие спешно готовились к обороне, но все — и первые, и вторые — понимали, что город обречён. Обречённая оборона — это словосочетание показалось мне забавным, и я улыбнулся.
Гюрли спросил с некоторым удивлением:
— Ты улыбаешься, Рашид ад-Эддин? Ты совсем не боишься смерти?
Странно было слышать подобный вопрос от человека, который впервые участвовал в воинском походе в шестилетнем возрасте. Я убрал с лица улыбку и проговорил:
— Всё живое боится смерти, царь.
— В таком случае зачем же ты пришёл?
— Ты держишь в руках мою рукопись, — сказал я. — Значит, ты знаешь ответ на свой вопрос.
Он нисколько не изменился в лице — я даже позавидовал его железной выдержке. Его губы не дрогнули, щёки остались такими же безмятежными, что и секунду назад, и ни малейшей складки не легло на высокий ясный лоб. Разве что глаза... Глаза вдруг застыли, словно вода, подернутая льдом. Он действительно знал ответ...
— Неужели твоя ненависть так велика? — медленно проговорил он, глядя мне в лицо. — Так велика, что ты согласился умереть, лишь бы самому присутствовать при моей гибели... Ведь ты мог остаться там, в ставке Тохтамыша, и наблюдать всё с безопасного расстояния...
— Наблюдать с безопасного расстояния означает ничего не увидеть, — отозвался я. — Твой крах, царь, — это слишком большое событие. Как я мог пропустить его?
Низкая дверь из толстых деревянных брусьев, окованных зеленоватой медью, отворилась, и в комнату вошёл начальник крепостного гарнизона Осман, высокий чернобородый человек в полукруглом шлеме и кожаной броне с металлическими заклёпками.
— Монголы готовятся к штурму, — мрачно доложил он.
— Вижу, — почти спокойно отозвался Гюрли. — Как думаешь, они решатся напасть до рассвета?
— Вряд ли. Лезть в темноте по отвесным скалам — это безумие даже для кингитов[1]. Но на всякий случай я отдал распоряжение нашим лучникам не спать, а рабочим — поддерживать кипение в котлах со смолой... — Осман помолчал. — Ещё не поздно уйти, мой господин. Подземный ход выведет к реке, на северный берег, там ждут верные люди с осёдланными лошадьми...
— И что потом? — горько хмыкнул Гюрли. — Всю жизнь прятаться в горах? Сделаться пастухом или монахом-отшельником? Всё равно найдут. Найдут, притащат на аркане, посадят в клетку и станут возить по улусам как диковинку... Сколько у нас осталось людей?
— Двести человек ополчения, но они не обучены и плохо вооружены, их быстро перебьют. Около сотни лучников и копейщиков на стенах. Здесь, в башне, — тридцать тяжёлых меченосцев твоей личной гвардии. Кое-кто из челяди и мастеровых — те, что не успели уйти из замка.
— Среди них есть каменщики?
— Да, мой повелитель, — без раздумий отозвался Осман. (Похоже, у него был ответ на любой вопрос — за исключением главного... В другое время я бы им восхитился).
— Отбери пятерых из них и ещё пятерых самых крепких носильщиков. Каменщики пусть ждут во внутреннем дворе, у колодца, а носильщиков тайно проведи к дверям моей сокровищницы. Я скоро буду там. А сейчас ступай.
— А что делать с этим? — Осман подбородком указал в мою сторону.
— Ничего, — ответил Гюрли. — Он не пленник. Пусть идёт куда хочет.
Лицо воеводы обиженно вытянулось. Более всего ему хотелось бы сейчас вынуть саблю из ножен и одним взмахом отрубить мою никчёмную голову. Или подвесить меня на дыбе, долго и сладострастно ломая рёбра. Или утопить меня в яме с нечистотами — это, пожалуй, примирило бы его даже с собственной смертью, когда атакующие монголы запрудят улицы города. Однако на этот раз цепной пёс не получил своей порции мяса.
— Но, повелитель...
— Он свободен, — повторил Гюрли.
Осман поклонился и вышел. Я заметил, что он хромает — видно, получил рану, обороняя свою крепостицу в ущелье Сенген, на подступах к Тебризу, и пробиваясь потом с десятком уцелевших к замку, чтобы принять здесь последний свой бой...
Они обречены.
Они — это и я в том числе, я думал и о себе, но как-то отстранённо, в третьем лице. Плюс двести ополченцев, которых можно не принимать в расчёт, плюс тридцать гвардейцев (эти продержатся часа два, прикрывая своими телами ворота в башню), плюс сотня лучников у бойниц — против двухсоттысячной армии Хромого Тимура, его таранов, метательных машин, греческого огня и новомодного китайского пороха...
У них (у нас) нет ни единого шанса.
Наверное, я произнёс последнюю фразу вслух: Гюрли оторвался от безрадостного пейзажа за окном (чёрная земля, вспаханная ногами и копытами, смрад и костры) и повернул голову.
— Ты ещё здесь? Я же сказал, ты волен уйти.
Плевать ему было, здесь я или нет. Я смиренно поклонился, отложив в сторону камышовое перо.
— Ты закончил свою летопись?
— Летописи никогда не кончаются, царь. Они лишь меняют автора. — Я с любовью посмотрел на пергаментные листки, по-прежнему лежавшие в руках у Гюрли. — Однако, думаю, эта повесть переживёт меня ненадолго. Скоро и она обратится в пепел...
— Этого не будет.
Я удивлённо поднял глаза.
— Я решил собрать все самое ценное в замке и замуровать в колодце во внутреннем дворе, затем и велел Осману привести каменщиков. Твою рукопись поместят в кожаный футляр, чтобы не разъела сырость, а футляр положат на дно одного из сундуков.
Это был щедрый подарок с его стороны — такого я не ожидал.
— Но кто-то из каменщиков может попасть в плен и проговориться под пыткой...
— Они уже не проговорятся, — тихо возразил Гюрли.
— А носильщики...
— И они тоже. Все, кто знает об этих сокровищах, должны умереть.
Я промолчал. Гюрли снова отвернулся к окну — он провёл здесь почти сутки, гордый в своей обречённости. И почти спокойный внешне — даже когда стало ясно, что войско аланов не придёт на помощь. (Как и ты, царь, не пришёл им на помощь десяток лет назад — вспомни об этом, когда какой-нибудь храбрый нойон в вонючей безрукавке будет старательно насаживать твою голову на копьё). Даже когда ему доложили, что его дочь Зенджи бросилась на камни из окна Девичьей башни, а его жена Митра выпила яд в бокале с вином, он лишь сухо кивнул, не оторвав взгляда от огней внизу.
— Я нарочно выбрал этот колодец, — тускло проговорил он (теперь он со спокойной душой мог доверить мне любую сокровенную тайну — как мертвец мертвецу). — Когда башня обрушится, она погребёт под собой внутренний двор — монголам и в голову не придёт расчищать его. Пройдёт много веков, и на колодец кто-нибудь наткнётся и раскопает... И тогда твоя рукопись снова увидит свет. Как ты сказал: летописи не кончаются, а лишь меняют автора?
— У тебя великолепная память, повелитель...
Стукнула дверь, бородатый начальник гарнизона появился в проёме (он не счёл нужным даже войти и поклониться — совсем плохой признак).
— Каменщики и носильщики ждут, — напомнил он. — Я взял на себя смелость снять с восточной стены десятерых лучников...
Гюрли кивнул. Дотронулся до меча, проверяя, легко ли тот ходит в ножнах. И пристально посмотрел на меня.
— Я много грешил в этой жизни, — проговорил он без выражения. — И надеяться мне, пожалуй, не на что: Господь являет чудо лишь праведникам, а я... Меня убивали сотни раз, и я убил стольких, что перестал считать. Ты не поверишь, но многие могли бы назвать меня коварным и жестоким. (Отчего же не поверить, повелитель, очень даже поверю). Но пойми, не может человек, обличённый властью, быть другим. Хоть он и будет стремиться править лишь добром и справедливостью... Жизнь заставит и карать, и миловать; драться лицом к лицу и бить в спину; нападать из-за угла; защищать и предавать. Мне не стыдно. Я совершил множество славных дел... Но люди — люди забудут их. Не смогут оценить... Они слишком мстительны и предвзяты. Поэтому я и решил сохранить твою рукопись. Пусть меня судят потомки, а не современники, — закончил он совсем тихо.
Так, будто просил у меня прощения.
Да, именно (меня вдруг поразило собственное открытие): Гюрли, царь Грузии, просил прощения у меня, Рашида ад-Эддина, летописца, звездочёта и прорицателя.
Потом дверь стукнула в последний раз — и я остался один.
Из противоположного окна был виден внутренний двор с каменным колодцем у подножия башни. Я подумал, что нужно бы посмотреть туда — но почему-то остался сидеть. Я знал, что вскорости должно произойти там, во дворе, — будто видел это собственными глазами.
Сейчас из ворот выйдет он, царь Гюрли, пока ещё правитель Грузии, чтобы самолично проследить за носильщиками. Те осторожно, стараясь не шуметь (хотя к чему?), вынесут из сокровищницы тяжёлые окованные сундуки, где под массивными крышками покоятся ослепительные алмазы, кроваво-красные рубины, зелёные изумруды, где тускло блестят драгоценные золотые чаши и кубки, жезлы, ожерелья и диадемы, сработанные лучшими мастерами Тифлиса и Хорасана. Одной такой диадемы хватило бы, чтобы целый год кормить десяток горных селений... Сундуки опустят в колодец, каменщики тщательно замуруют отверстие, следя, чтобы ни один выступ, ни одна шероховатость не выдала монголам его расположения. Они останутся на месте — наверное, хитрый Осман что-то пообещал им: щедро заплатить за труды, вывести подземным ходом на берег реки Сурхан...
Их грубые лица осветит сумасшедшая надежда на спасение — и они отойдут в лучший мир с этой надеждой, прямо там, возле замурованного колодца. Десять лучников, снятых начальником гарнизона с восточной стены, десять выпущенных стрел — по одной на человека. Никто не должен попасть в плен и проговориться под пыткой...
Начальник гарнизона погибнет позже, одним из последних, когда умрут все защитники на стенах и меченосцы личной охраны у дверей в центральную башню. Он и царь Гюрли будут лежать рядом, голова к голове, оба утыканные стрелами, точно два исполинских ежа, потому что никто так и не сможет одолеть их на мечах.
Но я этого уже не увижу. Принятый мною яд скоро начнёт действовать, но всё же не сразу: у меня ещё останется несколько минут — драгоценных, как драгоценное вино в бокале. Несколько минут, которые я, пусть лишь в мыслях, проведу с Ней, моей любимой Женщиной, в белом яблоневом саду перед её дворцом.
Там, где в глиняных пиалах тает свежий мёд, гудят пчёлы и легчайший белый цвет падает на расстеленное покрывало...
Приэльбрусье, Верхний Баксан, коней октября 1942 г.
Они шли цепочкой, след в след. Каждый — опираясь левой рукой на айсбаль, а правой протравливая в ладони страховочную верёвку. И наверняка думали сейчас об одном и том же, являя собой образцово-показательное единение мыслей солдат Третьего рейха.
Об этом чёртовом солнце.
Арик Вайзель, обер-лейтенант горной дивизии «Эдельвейс», шедший сейчас замыкающим в последней связке, мог бы голову дать на отсечение, что все они думают одинаково.
Когда-то он любил это солнце — давно, ещё до войны. И очень страдал от недостатка ультрафиолета: в городке Эммерихе, почти на границе с Нидерландами, где он появился на свет, солнце, бывало, не показывалось целое лето. Небо там всегда было низким и будто бы тяжёлым, словно крышка на кастрюле. Ветер гнал по небу целые стада туч с Северного моря... Вот почему лица у всех жителей по верховьям Рейна была бледно-землистого оттенка.
И оттого все знакомые девушки Арика Вайзеля — дочери добропорядочных бюргеров с Эйховина и Роттендапштрассе (а зачастую — и их почтенные жёнушки, чего греха таить) — мучительно краснели и покрывались гусиной кожей, когда он, широкоплечий, светловолосый, как древний воин-кельт, коричневый от загара, с громадным рюкзаком за спиной, появлялся в конце родной улицы. Они нарочно выбегали из домов и старались попасться ему на глаза, а потом долго смотрели вслед, подрагивая потными ресницами... Чёрт возьми, они готовы были отдаться ему прямо на каменной мостовой, под недовольное брюзжание отца или супруга, за один только этот коричневый загар, привезённый из Швейцарских Альп.
Там, в Альпах, всегда (ну или почти всегда) сияло солнце. Оно было великолепным, ярким, ослепительным, оно брызгало ультрафиолетом и кувыркалось в бездонной синеве, в бело-голубом мире, красочном, как рождественская открытка. Этот мир был населён снегом, юными лыжницами в алых шапочках и горными отелями, похожими на пряничные домики. И Арик, для которого самой высокой горой была куча песка, сваленного с баржи возле складов братьев Хейтвиц, влюбился в Альпы с первого взгляда.
На второй сезон он уже неплохо катался на лыжах. На четвёртый — впервые надел ботинки с триконями и совершил первое в жизни восхождение на пик Кижин под руководством швейцарца-инструктора. Кижин ему не понравился: гора, не дотянувшая в росточке даже до двух тысяч, оказалась нудной и пологой, к тому же в ледовом склоне были вырублены аккуратные ступени — не вершина, а скрипучая лестница на второй этаж дядюшкиного особняка.
— А ковровую дорожку не додумались постелить? — осведомился он у инструктора.
Тот понимающе улыбнулся.
— Вы недалёки от истины, герр Вайзель. В прошлом году один мой клиент сказал, что ступеньки не мешало бы посыпать солью, чтобы ноги не скользили... А вообще, если хотите увидеть настоящие, серьёзные горы, а не японский карликовый садик, то я бы посоветовал отправиться на Кавказ или Памир. Впрочем, Памир для вас ещё слишком сложен...
— А Кавказ? — заинтересованно спросил Арик. — Это же где-то в Польше?
— В России. Я мог бы за определённую плату составить вам протекцию: у меня остались друзья среди русских альпинистов. Несколько лет назад я поднимался на Эльбрус в связке с одной местной девушкой. Её звали Надя Киачели. Я три дня упражнялся произносить это имя без запинки.
...Он упросил-таки своего дядюшку отпустить его, хотя один Бог знает, скольких трудов это стоило. С отцом к тому времени отношения совсем разладились. Матушка в одну из промозглых зим умерла от чахотки — даже не умерла, а будто растаяла, словно дымок от сигареты. Она всегда была женщиной деликатной и чистоплотной и ни за что не позволила бы портить добропорядочный дом видом своего мёртвого тела в обеденном зале...
Дядюшка Фердинанд согласился с поездкой племянника и даже дал денег на дорогу, но долго ворчал, хаотично передвигаясь по гостиной и мешая сборам. В конце концов разозлённый Арик швырнул рюкзак на пол и выпрямился.
— Дядя, я, к вашему сведению, не новичок в горах. Вы боитесь, что я не сумею завязать какой-нибудь чёртов булинь[2] и навернусь со скалы?
— Самое опасное в любых горах — это люди, мой мальчик. А русские опасны особенно.
— Вот как? — Арик поднял рюкзак и, слегка успокоившись, принялся собирать его заново. — Надеюсь, они не каннибалы?
— Скоро узнаем... Когда наш фюрер сцепится с ними — так, что шерсть полетит из загривков.
— Но у нас с ними договор о ненападении!
— А Польша? — уныло напомнил дядя.
— А что Польша? Мы вместе воюем против неё, я сам видел фотографии: наши и русские офицеры в обнимку, возле новой границы...
— Херня! — В минуты душевного разлада дядюшка начинал выражаться просто, проще некуда. — Спектакль для дураков. А кончится всё тем, что русские казаки будут шляться по улицам Берлина и распевать частушки под балалайку... Этим варварам ни в коем случае нельзя доверять, запомни мои слова. Они коварны, как Чингисхан.
Арик вздохнул.
— Чингисхан не был русским, дядюшка.
Фердинанд-Эрих Вайзель философски пожал плечами.
— Кто знает...
Надо было послушаться и не ездить.
Нет. Нельзя, невозможно было отказаться от поездки — это была судьба. Рок. Воля богов. Он мог бы заболеть, поезд мог сойти с рельсов, самолёт — упасть в море, и тогда Арик не попал бы на Кавказ. Но тогда это был бы уже не Арик. Кто-то другой, похожий и непохожий, продолжал бы есть, пить, сводить с ума бледнокожих женщин города Эммериха, а Арик Вайзель всё равно стоял бы на узком выступе, привязанный к вбитому в скалу крюку, сжимал в руках страховочный фал и кричал своей партнёрше по связке Наденьке Киачели:
— Davai!!!
(Слово «Davai!», оказывается, имело множество значений — в зависимости от контекста).
И смотрел, глупо раскрыв рот, как она идёт по отвесной стене — легко и непринуждённо, будто по аллее парка... И злился на самого себя: со своим опытом, нажитым в уютных, почти домашних Альпах, рядом с Наденькой он ощущал себя махровым неумехой, впервые увидевшим рюкзак с ледорубом.
В этой русской не было «ничего особенного. Светлые, выгоревшие на солнце волосы, собранные сзади в хвост, ямочки на щеках, узкий подбородок и маленький рот. («На троечку», определил он при их первой встрече. И целоваться, поди, не умеет...) Вот только глаза были хороши: прозрачные, как горный ручей, и голубые, как небо над пиком Кезген-баши. А ещё у неё была странная способность вводить Арика в устойчивый ступор одним своим присутствием.
Это его-то, майн готт, всю жизнь имевшего неограниченный кредит у бесцветных дочек бюргеров из Эммериха и загорелых лыжниц из курортного Сант-Галлена, — те обожали фотографироваться с ним в обнимку на фоне Монблана, прежде чем тащить в гостиничный люкс («Ты была волшебна, детка, забыл, как тебя...»).
Он не мог даже коснуться её, хотя желал этого до дрожи в коленках. Он боялся наткнуться на её удивлённый взгляд. И на лёгкую иронию, спрятанную в уголках губ...
Однажды он всё-таки обнял её — это случилось, когда они забирались на этот чёртов Кезген-баши. Мела пурга, Арик совершенно окоченел, покрылся ледяной коркой и упустил в пропасть целую связку скальных крючьев.
— Может, вернёмся? — прокричала Наденька сквозь пронизывающий ветер. — Поднимешься в другой раз, когда погода наладится...
— Найн! — рявкнул он. — Давай! Вперёд!!!
Она улыбнулась.
— Ну, раз ты так хочешь...
И он полз вперёд, сцепив зубы и ругая на чём свет стоит русскую погоду, русские горы и собственное ослиное упрямство. Эта змея нарочно затащила меня сюда, думал он, залезая на очередной выступ. Чтобы я сдох или отморозил себе... Эх, нужно было послушаться дядюшку!
Несколько раз он собирался повернуть назад и уже открывал рот, чтобы крикнуть об этом, но — то ли ветер уносил звуки, то ли слова забывались... А когда он вспоминал их, становилось поздно: впереди стучал молоток, загоняя крюк в расщелину, верёвка натягивалась, и нужно было идти...
А потом ему вдруг открылась вершина.
Облака остались далеко внизу, у ног, точно стадо овечек, и вовсю сияло солнце.
— Ты победил, — сказала Надя.
Он обалдело кивнул. Он совсем не чувствовал себя победителем, да и вообще ничего не чувствовал, кроме предательской дрожи в ногах. Только один вопрос почему-то интересовал его совершенно некстати:
— Почему у тебя такая странная фамилия — Киачели? Ты разве не славянка?
— Славянка, — отозвалась она. — Коренная москвичка. Киачели я по мужу.
Это известие его огорчило.
— У тебя есть муж?
— Был. Он погиб три года назад при восхождении на Ушбу. А я осталась здесь.
— Вот как... — Арик помолчал и задал совсем уж никчёмный вопрос: — Ты любила его?
Она не ответила. Только поплотнее запахнула куртку, и он подумал, что ей, наверное, холодно. И несмело обнял, изрядно удивившись, что не получил отпор.
А ещё через несколько дней он не получил отпор, когда поцеловал её — прежде чем забраться в кузов грузовика, старенького «форда», который увозил его вниз, в долину. Оттуда ходил рейсовый автобус до Нальчика, потом — поезд до Москвы, потом...
Ему не хотелось думать об этом «потом». Слово «потом» означало для него дядюшкину контору в Беслау, грязный Рейн с его баржами и кожевенной фабрикой, пьяного отца (тот с кончиной матушки стал частенько «закладывать за воротник») и Швейцарские Альпы, скучные, как трактат о пользе добра. И — назойливых лыжниц в алых шапочках.
Он несмело, точно прыщавый юнец, чмокнул Наденьку в щёку и покраснел. Она улыбнулась и прошептала:
— Не так...
Притянула его к себе, поднялась на носочки и поцеловала в губы — крепко и томительно, до солёного привкуса...
— Я приеду, — сказал Арик, впервые не перепутав спряжение глагола. — Ich werde im nachsten Jahr ankommen. Я приеду на следующий сезон. Ты будешь ждать?
— Да.
— Обещаешь?
— Да, да...
Она долго махала ему вслед — пока он трясся в грузовике по горному серпантину, пока глядел в искривлённое дождём окно поезда, выводя указательным пальцем на стекле буквы её имени «Nad»... пока смолил папиросу в дымном тамбуре, разглядывая берёзовый пейзаж с полями и избами... Ему всюду виделось её лицо с милыми ямочками на щеках и серьёзными прозрачно-голубыми глазами. И едва заметными веснушками вокруг носа.
Я приеду, твердил он себе. Совсем скоро — всего через год. И оглянуться не успею.
Однако на следующий сезон Арик на Кавказ не поехал. Ему суждено было попасть туда только через три года — в мае сорок второго.
А ещё через полгода, в начале октября, Северная группа войск русских под командованием генерала Масленникова мощным ударом отбросила «эдельвейсов» за Главный Кавказский хребет. Основные силы группы армий «А» немецкому командованию удалось отвести через Тамань и Ростов, и здесь, в Приэльбрусье, остались бродить по русским тылам лишь несколько разрозненных частей, в одной из которых, бывшей под началом майора Ганса фон Курлаха, состоял он, обер-лейтенант Арик Вайзель.
...Они наткнулись на эту крепость случайно, утомлённые долгим дневным переходом через перевал Башиль-Азу. Она была мертва уже много веков — не крепость, а маловразумительные развалины, смутно напоминющие о былом величии. Восточная стена с мощным парапетом была разрушена: видимо, осаждавшие подтащили через ущелье таран, забросали ров и били в самую узкую часть укрепления, проделав брешь метров шесть или семь шириной. Цитадель продержалась дольше — пока не рухнула центральная башня, засыпав обломками внутренний двор.
То, что не доделали нападавшие (турки, монголы?.. чёрт их разберёт), завершили ветер, вода и перепады температур. А также (позже) шальной гаубичный снаряд из орудия, обстреливавшего дорогу в ущелье. Взрыв был сильный: остатки донжона разметало по сторонам, и в земле, у его подножия, неожиданно обнаружилась правильной формы дыра, замурованная когда-то древними строителями.
Радист Карл Ломбарт первым заглянул в пролом и удивлённо присвистнул.
— Господин майор!
Фон Курлах, расположившийся было на отдых, сплюнул с досады, посмотрел внутрь колодца и распорядился:
— Несите верёвки. Райнер, спустишься вниз. Будь осторожен: кто знает, может, это русская ловушка для идиотов вроде нас...
Однако с первого взгляда стало ясно: этих сундуков человеческая рука не касалась много столетий. Поэтому вытаскивали кофры на поверхность, сбивали запоры и открывали крышки уже без всякого опасения. И без всякого опасения, исполненные прямо-таки телячьего восторга, хватали золотые чаши, напяливали на себя украшения, брали пригоршнями и, дурачась, подбрасывали вверх драгоценные камни, которым не было числа, как булыжникам на дне реки. Типичная «золотая лихорадка», с усмешкой подумал Арик, читавший когда-то Стивенсона в дядюшкиной библиотеке. Если до утра не перегрызёмся и не перестреляем друг друга из-за лишней монетки, придётся таскать сокровища в корабельный трюм: работа (если опять же верить Стивенсону) не менее нудная, чем разгрузка вагонов с цементом.
Он в задумчивости обошёл вокруг остова башни и с уважением коснулся каменной кладки. Силища.
— Умели строить эти русские, — сказал кто-то.
— Не русские, а грузины, — автоматически поправил Арик. — Или хевсуры, или осетины. Или аланы.
— Откуда ты знаешь?
— А у него до войны была русская баба, — хихикнул Карл Ломбарт. — Наверняка делала минет и попутно выведывала стратегические военные планы, а, Вайзель?
На его груди, обтянутой камуфляжем, болтались бусы из янтаря, ожерелье из слегка потемневшего жемчуга и несколько серебряных браслетов — не отличавшийся тонким вкусом радист повесил их на себя, связав репшнуром.
— Заткнись, — беззлобно сказал Арик и тоже хихикнул. — Ты похож на педика. Только губы не накрашены.
— Заткнитесь оба, — раздражённо бросил фон Курлах. — Ломбарт, установи связь с базой, доложи о находке. Спроси, какие будут распоряжения. Остальным — вернуть побрякушки на место, все до единой. И нужно будет составить подробную опись.
— Но, господин майор, — удивился Райнер. — Это займёт не меньше суток...
— Значит, будем сидеть здесь сутки. — Курлах щелчком отшвырнул сигарету и с ненавистью посмотрел на груду сокровищ, тускло блестевшую в предвечернем солнце. — Кто ещё не понял, мальчики, — мы нашли на свою задницу массу приключений. Ломбарт свяжется с базой, база запросит Берлин, Берлин подумает и даст команду доставить ценности в рейх — не оставлять же большевикам. Самолёт здесь не сядет, да и не долетит сюда: зенитки собьют. Стало быть, придётся тащить это дерьмо на своём горбу. По тылам русских. — Он сплюнул с досады. — Ей-богу, лучше было бы снова закопать эти сундуки — там, где они лежали. Да поздно...
Они шли цепочкой, след в след, протравливая верёвку в ладонях и тяжело опираясь на ледорубы. Изредка кто-нибудь приподнимал голову, чтобы сквозь тёмные очки взглянуть на солнце. И мерил глазами собственную тень, которая с каждой минутой делалась всё короче, словно издеваясь над хозяином.
Они ненавидели солнце.
Они обрадовались бы сейчас любой, самой мерзкой непогоде: дождю, туману, ледяной крупе и мокрому снегу. Непогода укрыла бы их — надёжно, как пуховое одеяло в детстве укрывает от ночных кошмаров. И от страшных чудовищ, которые выползают из углов комнаты, стоит лишь погасить лампу. Подумать только: все они когда-то боялись темноты — почти так же сильно, как сейчас боялись света.
Только когда ледник внезапно упёрся в крутой, почти вертикальный жёлоб, зажатый меж двух тёмно-коричневых скал, они с облегчением вздохнули.
— Кажется, проскочили, — пробормотал майор. — Осталось подняться на седловину, найти спуск поприличнее, и — домой, к мамочке. Ломбарт, Кунц — в охранение, остальным — десять минут отдыха.
Арик привалился спиной к рюкзаку и с блаженством вытянул ноги. Напряжение последних суток спало: здесь, в районе Верхнего Баксана, была своего рода ничейная полоса, проходившая вдоль неширокой, метров пять, ледовой седловины. Дальше, за хребтом, километрах в трёх, начинались порядки 17-й армии генерал-майора Венца.
— Чудно, — сказал Райнер, ловко вскрывая ножом банку консервов. Протянул Арику — тот взглянул и поморщился: эрзац-свинина с витаминными добавками аппетита не вызывала. — У нас в мешках побрякушек на пару миллионов марок — впору чувствовать себя арабскими шейхами. А я чувствую себя как портовый носильщик.
— Не волнуйся, — лениво отозвался Арик.— Может, схлопочешь на грудь медальку... А лучше — отпуск домой (он вдруг с удивлением обнаружил, что хочет туда, в дождливый серый Эммерих: снега, скал и солнца он наелся до тошноты).
— Подъём! — рявкнул майор над самым ухом.
Они вскочили — настолько резво, насколько позволяли гудевшие ещё со вчерашнего дня ноги.
— Вайзель, говорят, ты большой специалист по Кавказу? Значит, пойдёшь первым, — распорядился Курлах. — Поднимешься слева от кулуара, там безопаснее, и скалы почти не разрушены. Выйдешь на гребень — осмотрись и закрепи перила. Слишком не высовывайся и не расслабляйся. Мало ли... — Он суеверно сплюнул через плечо. — Приказ ясен?
— Так точно, господин майор! — Арик поправил обвязку на груди и зачем-то подёргал страховочный карабин. Размял кисти рук и подошёл к основанию желоба, прикидывая, с какой точки начать подъём.
Лезть было несложно — почти как когда-то в Альпах, в далёкой прошлой жизни. Там, где осталось брызжущее радостью солнце, сговорчивые девочки из Сант-Галлена и швейцарец-инструктор, у которого половина русских альпинистов ходили в кунаках. Арик вышел на гребень возле острого, как драконий зуб, скального выступа. Он привязал верёвку, сбросил её конец вниз и махнул рукой: давай!
Кунц, стоявший внизу на страховке, поднял большой палец: понял, иду.
И медленно осел на снег. У него было абсолютно спокойное и чистое лицо — его портила только крошечная отметина над правой бровью, будто он слегка оцарапался, упав с велосипеда.
Никто из «эдельвейсов» даже не повернул головы. Они очнулись лишь через пару долгих секунд, когда из-за отрога скального островка метрах в пятидесяти от них раздался второй хлопок (радист Ломбарт, донимавший Арика расспросами о его русской подружке, вдруг ткнулся носом в ледяной наст, да так и остался лежать, нелепо вывернув правую руку), потом ещё один, и ещё — пули взрывали снег красивыми искрящимися на солнце фонтанами...
Самое опасное в горах — это люди, мой мальчик...
Грохотало уже все вокруг. Пули плотными роями летели из-за каждого валуна, из-за каждого выступа. Что-то орал майор Курлах, тщетно пытаясь наладить оборону. Арик лежал на гребне ни жив ни мёртв, вжавшись лицом в землю и на слух стараясь определить, откуда ведётся огонь. Мёртвый русский снайпер в простом ватнике и кирзовых сапогах с хрустом проехал мимо него на спине по каменной осыпи и остался лежать, разбросав руки, у самого края обрыва. Кто-то закричал снизу, с ледового плато. Райнер, понял Арик, и мысленно перекрестился: крик был тоскливый, тонкий, будто свинью резали, предсмертный...
С ледника стреляли теперь только три «шмайссера». Потом их осталось два. Потом — один, и очереди из него становились все короче: майор Курлах экономил патроны...
— Мамочка, — прошептал Арик посиневшими губами. — Мамочка, я не хочу умирать, не хочу!!!
Потихоньку, дюйм за дюймом он принялся подтаскивать к себе страховочную верёвку. В верёвке было его спасение: если бы удалось выбрать её и сбросить с другой стороны откоса, можно было бы спуститься с седловины и уйти незамеченным. Живым.
Господи, молил он, сделай так, чтобы я вернулся домой. Обещаю, что ни за что и никогда не уеду оттуда. Сожгу рюкзак и выброшу в Рейн ледоруб. И даже на гору песка, сваленную с баржи у складов, буду смотреть с отвращением...
А потом автомат майора замолчал. Повисла гулкая тишина — будто в пустой квартире, из которой вынесли мебель. Лишь чёрные тела лежали на подтаявшем снегу: смерть настигла «эдельвейсов» кого где — кого в горячке боя, кого в бестолковых попытках спастись... Но спастись не удалось никому: русские, укрытые склонами, били прицельно, на выбор, точно охотники на сафари.
Они не спешили показываться. Они выжидали: там, на плато, вполне мог затаиться кто-то опасный, живой, прикинувшийся мёртвым, — чтобы подпустить их поближе и срезать автоматной очередью. Или рвануть чеку из гранаты — чтобы не уходить в одиночку. И Арик немо подгонял их: ну, давайте, идите вниз! Суньте нос в рюкзак майора, или Райнера, или идиота Ломбарта — гарантирую, забудете обо всём на свете...
Русские, казалось, вняли его молитвам. Осторожно сужая кольцо, они вышли из своих укрытий и спустились на ледник — он видел, как один из них, высокий и слегка сутулый, перевернул немецкого радиста на живот, снял с него мешок и, издав возглас удивления, что-то крикнул остальным.
Пора. Арик, затаив дыхание, сбросил конец верёвки по другую, дальнюю от ледника, сторону откоса, привычно лёг на неё спиной и щёлкнул карабином. Оттолкнулся подошвами ботинок от гребня и заскользил вниз, ощущая восторженную пустоту в районе желудка. Спасён, пело все внутри него. Спасён, чёрт всех возьми!!!
Пуля клюнула его в шею. Он не почувствовал боли — только лёгкую досаду. Ноги вдруг перестали слушаться, и он беспомощно повис на страховочном фале, флегматично подумав, что надо, пожалуй, сбросить рюкзак — в конце концов плевать на сокровища, очень уж мешают...
На память почему-то пришёл подъём на Кезген-баши: там он точно так же сорвался со скалы и долго висел в пространстве, извиваясь, как червячок на леске. Он бы улетел в пропасть, если бы не Наденька: она вовремя, чуть ли не зубами, вцепилась в конец верёвки (майн готт, он ведь был почти вдвое тяжелее её!) и закричала:
— Не волнуйся, я держу тебя! Попробуй раскачаться и дотянуться до выступа!
В горле булькало что-то отвратительно липкое и горячее. Арик сплюнул кровью и увидел застрелившего его русского снайпера. Тот показался на гребне, постоял секунду и стал осторожно спускаться, держа винтовку под мышкой. На снайпере были традиционный ватник и сапоги (как они умудряются лазать в сапогах по скалам? Я и по ровному-то леднику не прошлёпал бы в них больше километра...).
Что-то неправильное было в фигуре русского. Тот как-то странно, очень уж плавно двигался и слишком узко ставил ноги — будто шёл по линеечке. Арик напряг зрение.
И вдруг понял, что перед ним женщина.
— Надя, — прошептал он.
Она спасёт меня. Вытащит, как вытащила три года назад на Кезгене. Худо только, что идёт без всякой страховки, дурочка, а склон-то опасный, скалы рыхлые, и снег подтаял на солнце...
Этот «эдельвейс» показался ей непонятно знакомым. Она прильнула к оптическому прицелу, стараясь рассмотреть его получше, но — эти его чёртовы защитные очки, и нашлёпка из марли на обгоревшем носу, и несуразная пятнистая кепка с длинным козырьком... Палец замер на спусковом крючке, но мозг уже дал команду, и она выстрелила. Немец дёрнулся и закачался на верёвке: Наденькина рука чуть дрогнула — впервые в жизни...
Секунду помедлив, она вышла из-за валуна, спустилась по откосу и встала на уступ, как раз напротив раненого. Держась одной рукой за трещину в скале, она попыталась другой поймать верёвку, на которой висел немец. Он почувствовал её приближение, повернул к ней лицо и что-то сказал...
Кажется, он назвал меня по имени.
Да ну, отмахнулась Наденька от собственных мыслей. Мистика. Быть того не может (кузов грузовика, робкий поцелуй — этот немец, оказывается, совсем не умел целоваться...). Она снова потянулась за верёвкой, и в этот момент камень, на котором она стояла, вдруг оторвался от склона.
Она ничего не поняла — не успела понять, все произошло слишком быстро. За спиной неожиданно образовалась пустота. Пустота приняла её, как свою, — будто ждала многие годы, терпеливо и преданно, как ждёт, наверное, только мама, каждый раз выбегая за ворота, когда раздаются шаги в конце улицы...
Арик хотел удержать её. Он бы удержал обязательно, если бы не темнота, вдруг окутавшая горы. Солнце как-то очень быстро и стыдливо закатилось за перевал, он перестал видеть и ощущать своё тело. Русская девушка со светлыми волосами и глазами цвета горного ручья медленно и долго летела в пропасть, а он тянул и тянул к ней руки...
Глава 1 АНТОН
Приэльбрусье, район хребта Светгар, лето 2001 г.
Каша подгорела.
Антон шумно втянул носом воздух и обречённо подумал, что ужин на сегодня, похоже, отменяется. Светочка Аникеева, при всех её несомненных секс-достоинствах, готовить абсолютно не умела. Видимо, справедливо полагая, что грядущий муж — глава нефтяного концерна, крупный продюсер, арабский шейх, отечественный владелец автостоянки — обеспечит её всем необходимым в жизни, включая штат поваров-итальянцев.
При мысли о спагетти Антону поплохело. Он почти наяву представил себе их — длинные макароны, свёрнутые аккуратной горкой и обильно политые кроваво-красным кетчупом... Кашеварила бы сейчас Динка Ульмиева — они ни за что не остались бы голодными. Дина, казалось, родилась на кухне и выросла при узбекском плове, украинском борще и среднерусской жареной картошке с яичницей. Ходить её наверняка учили половник с шумовкой, колыбельную пел вытяжной шкаф, а с буквами она знакомилась не по азбуке, как все нормальные дети, а по поваренной книге. Ещё она недурно шила (Светке, к примеру, из кусков голубого капрона сварганила ветровку, выглядевшую, словно эксклюзивный вечерний ансамбль), могла забить гвоздь в стену и имела первый разряд по скалолазанию. И украдкой писала стихи в потрёпанный блокнотик с Микки-Маусом на обложке. Все дурнушки в этом мире почему-то пишут стихи и хорошо готовят: наверное, потому, что им не светит арабский шейх. Впрочем, не всё так однозначно.
Светочка вызвалась дежурить (сама! добровольно!!!) после того, как красавец Казбек, старший в их группе, на предыдущем привале, отужинав восхитительной картофельной запеканкой по-сицилийски, проникновенно сказал Динке «спасибо» и даже поцеловал в розовое ушко. Динка скромно зарделась, а Светка следующим вечером, едва скинув рюкзак, нырнула в палатку и полтора часа посвятила макияжу. С первыми красками вечерней зари она королевской поступью вышла наружу.
Паша Климкин, самый молодой член группы, сдавленно икнул. По юношеской неопытности он пылал к Светке тихой всепоглощающей страстью: мыл за ней посуду, тайком подбрасывал цветы в её палатку, мечтал поскорее вырасти и вызвать счастливого соперника Казбека на поединок. И видимо, не подозревал, что к тому времени Светка благополучно выйдет замуж, родит двух детишек, потолстеет, обабится и будет страдать водянкой, а Казбек состарится и осядет на какой-нибудь горнолыжной базе — продавать билеты на подъёмник...
Но это будет потом, ещё не скоро. А пока — Светка вышла из палатки, оросила воздух Приэльбрусья ароматом дорогих духов и, демонстративно не замечая вероломного Казбека, предложила Диночке сменить её у примуса. Диночка удивлённо согласилась. А ещё через полчаса каша безвозвратно сгорела. Её ещё можно было, вооружившись ледорубом, отскрести от стенок котла, сложить в полиэтилен и закопать до худших времён, но употреблять в пищу...
Не будь Светка дамой — схлопотала бы сейчас подзатыльник, сердито подумал Антон и сплюнул в куст бузины. Наверное, остальных посетила та же мысль (разве что за исключением влюблённого Пашки: тот с радостью готов был простить своей Дульсинее любые мелкие прегрешения, включая собственную голодную смерть), потому что она на всякий случай сделала шаг назад и неуверенно произнесла:
— Ребята, ну что вы? Я же хотела как лучше...
— А получилось как всегда, — мрачно закончил Казбек цитату из классики. — Антон, тушёнка осталась?
— Валдайская, — так же безрадостно отозвался тот.
Тушёнку производства ТОО «Валдай» по неписаным законам гор всегда оставляли на самый чёрный день: она была жидкая и солёная, как Мёртвое море, и почему-то пахла солидолом.
— Ничего страшного, — великодушно сказала Дина. — Поужинаем чаем с бутербродами.
— Бутербродами сыт не будешь, — угрюмо возразил Казбек.
— А на ночь есть вообще вредно, — встрял Паша Климкин. — Кошмары будут сниться.
И взглянул на Светку, ожидая благодарности за поддержку. Однако та, не выходя из образа королевы в изгнании, высокомерно созерцала окрестный пейзаж. Да, была бы она другого пола — точно заработала бы подзатыльник. А не будь такой красивой — Антон нипочём не пошёл бы отмывать испоганенный ею котелок.
Но Светка была красивой до умопомрачения. Красивее мог быть только фейерверк в ночном небе или гол под перекладину на чемпионате мира по футболу. Сурская красавица выпуска 1999 года, третий курс журфака университета, неплохое перо (немного инфантильное — но это смотря на чей вкус), несколько статеек, одна из которых — социологический опрос среди тинейджеров на тему «Как вы относитесь к однополой любви?» — промелькнула даже в «Московском комсомольце». Вялое ухаживание преподавателя экономики капиталистических стран и пылкая страсть неуклонно увядающего замдекана, которая позволяла на раз-два получать зачёты автоматом. Высокая грудь, по-детски припухлые капризные губки и прямые платиновые волосы до середины спины («Неужто свои?» — наивно восхитился Антон в их первую встречу в университетском буфете. «Свои, — улыбнулась она. — Хочешь убедиться?» — «Не хочу, — сказал он, собрав волю в кулак. — Я слышал, ты коллекционируешь мужские скальпы». — «Ну и дурак», — загадочно бросила она через плечо).
Кто бы сомневался.
Антон ухватил котелок и пошёл вниз по склону, в сторону журчавшей метрах в пятидесяти речушки. Солнце как-то очень быстро и незаметно ушло с горизонта, только край западного ледника у отрога хребта Латардаш светился уютным розовым светом, точно торшер в интимно обставленной гостиной — там, где тихонько наигрывает рояль и кто-то ужинает при оплывающих свечах... Не думать об ужине, приказал себе Антон и опустил котелок в ледяную воду.
Чьи-то подошвы осторожно прошуршали по гальке за спиной. Кто-то мягко коснулся плеча. Светка, подумал Антон. Неужели совесть взыграла? Он обернулся и увидел Динку. Она секунду помедлила, присела рядышком и протянула нечто, завёрнутое в бумагу. Он молча взял — о чудо, настоящий бутерброд, с настоящей твёрдокопчёной колбасой! Корочка у хлеба слегка, самую малость зачерствела, но это сейчас интересовало его меньше всего. Антон с довольным урчанием вцепился в еду — никогда в жизни он не пробовал ничего вкуснее.
— Не торопись, — сказала Дина. — У меня есть ещё.
— Динара, — проговорил он с набитым ртом, неожиданно вспомнив её полное имя. — Динарка, ты самая лучшая на свете. Ты мой единственный настоящий друг.
Её волосы, собранные сзади в хвост, искрились под луной. Она провела по ним рукой и вздохнула с непонятной грустью:
— Друг, говоришь? Что ж, и на том спасибо.
Котелок был давно вымыт, а остатки злосчастной каши — трудолюбиво закопаны. По этим окрестностям проходила западная граница заповедника, и иногда её инспектировали егеря — они ездили вдоль неё на низкорослых флегматичных лошадёнках или на стареньком «газике». На туристов (всё равно каких: «диких», навьюченных неподъёмными «абалаковыми», или «организованных», путешествующих в сопровождении энергичной бабульки-экскурсоводши) егеря смотрели с лёгкой брезгливостью: так монгольские скотоводы-кочевники смотрят на снежного человека Алмасты. Тот, говорят, изредка ещё появляется возле юрт и выпрашивает еду. Антон егерей не опасался: Казбек ещё до выхода на маршрут затарился официальной бумагой, подтверждающей, что их группа имеет право находиться в этом районе и обязуется не оставлять мусор на стоянках. Это правило было нарушено лишь единожды, когда Светка, в очередной раз повздорив с Казбеком, швырнула в него пустой пластиковой бутылкой. Казбек увернулся, и бутылка улетела под откос.
Светка лезть за ней отказалась из боязни, а Казбек — из принципа.
— Все. — Антон, орудуя ножом, засыпал «могильник» и для верности утрамбовал сверху ногой. — Надеюсь, никто не найдёт и не отравится.
Динара молча сидела на камне, обхватив руками колени, и смотрела куда-то вдаль — туда, где в кустах бузины, дикой малины и барбариса терялся в густых сумерках противоположный берег. С чего я решил, что она дурнушка, подумал Антон, беззастенчиво разглядывая девушку. Вполне стройные ноги с узкими щиколотками, плоский живот и хорошей лепки руки. Нос, правда, великоват, а грудь, наоборот, маловата — рядом с рубенсовскими формами Светки явно проигрывает... Опять я о Светке, как вшивый о бане, — та уж, поди, завалилась в палатку с Казбеком, наплевав на чай и безнадёжно-унылого Пашу Климкина...
— Когда-то очень давно в этих местах обитало большое племя, — вдруг тихо произнесла Динара. — Они называли себя аланами. Все аланы были воинами — и мужчины, и женщины, и учились ездить верхом, владеть мечом и арканом едва ли не раньше, чем ходить. Многие современные народы на Кавказе считают себя потомками этого племени и спорят до хрипоты, кто из них истинный потомок, а кто нет.
— Вот как? — рассеянно спросил Антон. — Чем же они занимались?
— Кочевали, перегоняли скот с одних пастбищ на другие. Воевали с соседями, всерьёз угрожали Риму и Византии, ходили покорять Армению и Колхиду, участвовали в битвах с гуннами.
Она чуть отклонила голову назад и продекламировала нараспев:
— «Их диковинные стрелы и копья, невидимые в полёте, яростные длинноволосые всадники в чешуйчатых доспехах и сияющих шлемах, на чёрных звонконогих конях...» — так о них писал Плутарх. Красиво, правда?
— Правда, — согласился Антон, живо представив себе этих всадников — такой же ночью, под теми же небесами и яркой луной, но пятнадцатью веками ранее, в красных отсветах костров меж походных кибиток, с небольшими круглыми щитами, отороченными мехом, чтобы легче соскальзывали стрелы, и с длинными пиками, предназначенными для верхового боя. (Интересно, что значит «звонконогие кони»? Аргамаки? Ахалтекинцы? Какая-нибудь улучшенная прикаспийская порода?) Суровые лица медного оттенка и белые волосы, рассыпанные по плечам, — говорят, современные девушки из настоящих, исконных армянок и осетинок тоже светловолосы...
— Впрочем, аланы были кочевниками давно, ещё до нашей эры. Постепенно они перешли к оседлой жизни. Начали торговать со Средней Азией, хазарами, той же Византией, объединились с сарматами, построили крепости по всему Северному Кавказу... Самый большой их город назывался Меранга, и правила там царица Регенда. Она погибла во время монгольского нашествия. Аланы отчаянно сопротивлялись, но у Тохтамыша было больше воинов. Он взял город приступом, перебил жителей, а царицу повесил на воротах её дворца.
Она немного помолчала.
— В одной из летописей упоминается, что незадолго до штурма она послала гонца к соседнему племени с просьбой о помощи. Однако племя не прислало своего войска. То ли не захотело ссориться с Тохтамышем, то ли ему мешала Регенда, и оно решило избавиться от неё таким способом... Скажи, а ты пришёл бы ко мне на помощь? — вдруг спросила Дина, движимая непостижимой женской логикой. — Ну, если бы я позвала...
— Динка, — тепло проговорил Антон, неожиданно почувствовав ком в горле. Подошёл сзади, обнял за плечи и развернул к себе, задыхаясь от нежности. — Динка...
— Не надо, — тихо попросила она.
Он растерялся.
— Почему?
— Не надо. Это ведь не из-за меня... Это горы на тебя действуют. Горы и ночь. — Она грустно кивнула в сторону беспечно журчавшей речушки. — И вода на камнях.
Вот и пойми этих женщин. Ночь и горы. И ещё — странная уверенность самовлюблённого кретина, будто им восхищаются, думают о нём и роняют слёзы в подушку, глядя на тайком сделанную фотографию... Он потоптался на месте и, чтобы скрасить неловкость, спросил:
— И что было дальше? Я имею в виду с этими аланами...
— Потом они вдруг исчезли, — задумчиво отозвалась Динара. — Неизвестно, что произошло: истребили ли их монголы, или более могущественные соседние племена, или они сами ушли с Кавказа — так же таинственно, как и появились... Кое-кто даже утверждает, будто они живут в горах до сих пор — где-то очень высоко, за границей снегов. Или, наоборот, в подземных пещерах, куда не спускался ещё ни один спелеолог. Но это уже из области фантастики. Они не оставили после себя почти ничего: лишь пару могильников да несколько разрушенных крепостей на перевалах.
Она легко поднялась, вздохнув:
— Давай возвращаться в лагерь, а то нас и вправду заждались, — подхватила котелок и пошла, не оглядываясь, вверх по тропинке.
Антон задумчиво посмотрел ей вслед. На миг ему показалось, что девушка как-то странно одета: шорты (бывшие голубые джинсы) и бело-синяя олимпийка исчезли, появился светлый меховой плащ, перечёркнутый подвешенным за спиной колчаном и охотничьим луком из турьего рога, замшевые сапожки на ногах и тонкий металлический обруч на голове. Из тула торчало десятка полтора оперённых головок стрел. Антон зажмурил глаза, снова открыл — видение и не думало пропадать, наоборот, стало более отчётливым.
— Дина! — несмело окликнул он девушку.
Она обернулась — без удивления, словно ждала этого. Несколько секунд они смотрели друг на друга, пока Антон с мужественным сарказмом посмеивался над собой (завтра утром, коли ещё буду вменяем, попрошу Казбека вызвать мне вертолёт до ближайшей психушки) и подмечал детали: плащ не новый, весь в аккуратных заплатках, а вот рубашка чудо как хороша: вышитая по воротнику нарядным красным узором, перехваченная пояском с блестящей пряжкой, небольшой изящный кинжал у правого бедра... Тонкой работы мозаичные бусы на девичьей шее заинтересовали Антона сильнее всего: стоили они явно дорого (Александрия, всплыло в голове. А может, Египет...) и никак не вязались с остальным. Словно театральный костюмер слегка оплошал, подбирая наряд для главной героини... Хотя нет, театром тут и не пахло.
— Дина, — сказал он, указав на бусы. — Откуда это у тебя?
— Дина? — удивилась она.
Это была не Дина. Антон подошёл поближе: да, лицо очень похоже, но всё равно, отдельные черты, линия губ и выражение, застывшее в прозрачных глазах... Незнакомка походила на Динару, как сестра-близнец. Или (пришла на ум дурацкая мысль) — как иное воплощение того же человека, унесённое на бог знает сколько веков.
— Откуда у тебя эти бусы?
— От мамы, — спокойно ответила девушка. — Я почти её не помню. Мне было пять лет, когда она умерла. И отца я почти не помню. Меня вырастил и воспитал другой человек.
Сказано это было печально и просто, и Антон, несмотря на некоторую абсурдность ситуации, сразу поверил.
— Прости, — пробормотал он. — Я не знал.
Она перевела взгляд на Антона и коснулась его рукой. Почему-то Антон ожидал, что рука пройдёт насквозь, и он её не почувствует: девушка всё ещё казалась ему призраком. Однако ладонь была тёплой и вполне осязаемой.
— Мне кажется, я знала тебя раньше.
— Да? — глупо произнёс он.
— Я видела тебя во сне. Ты лежал во льду, внутри огромной прозрачной глыбы, а я пыталась разбить её, чтобы ты не замёрз.
Он криво улыбнулся.
— Ну и как, разбила?
Она грустно покачала головой.
— Не помню. Но если ты здесь, если я встретила тебя... Значит, всё это ещё должно случиться. Ты придёшь и спасёшь его.
— Кого я должен спасти?
Девушка немного удивилась.
— Царевича Баттхара Нади, сына Исавара, царя аланов. Разве ты не знал?
Антон с трудом сдержался, чтобы не фыркнуть. Я должен спасти царевича. Сына царя аланов, которые исчезли несколько веков назад (если верить Динке). Или не исчезли, а просто растворились в других народах, которые сейчас прилежно воюют друг с другом и с русскими, выполняя заветы отцов, или — до сих пор живут в затерянных каменных пещерах (сюжетец, достойный Стивена Кинга).
— А что с ним случилось? — спросил он, приняв твёрдое решение ни с кем не спорить и ничему не удивляться.
Однако так и не получил ответа на свой вопрос. Незнакомка вдруг очень ловко подсекла ему ноги и навалилась сверху всем телом.
— Эй, ты что? — возмутился он.
Девушка проворно зажала ему рот и прошептала:
— Тише...
Вдоль каменистого берега реки скакали лошади.
Он не мог разглядеть их как следует: луна светила всадникам в спины, и Антон, чуть приподняв голову от камней, видел лишь шесть или семь чёрных силуэтов — огромных, неправдоподобно чётких, словно вырезанных из бархатной бумаги (почему-то пришла на память Ялта, куда мама возила его в детстве лечиться от астмы: там на пляже под зонтиком с утра до вечера сидел древний старичок в белой панаме и делал портреты всем желающим, пользуясь лишь цветной бумагой и ножницами).
Передний, проскакав галопом у самой кромки воды, неожиданно натянул поводья, чуть не поставив лошадь на дыбы. В лунных серебряных бликах сверкнули металлические пластины на кожаном панцире и остроконечный шлем, увенчанный белым конским хвостом. Шлем был монгольский. Повинуясь безмолвному жесту, двое соскочили с седел и припали к самой земле, сразу став похожими на собак — не грозных бойцовых овчарок, а скорее ищеек: почудилось даже, будто они обнюхивают камни...
— Слушай, подруга, а вы здесь не кино ли снимаете? — вдруг осенило Антона. Впрочем, он тут же усомнился в своей догадке: а где тележка с камерой и оператором, где режиссёр со свитой помощников, где знаменитая девушка с хлопушкой? Да и всадники никак не походили на бутафорских: от них исходила такая мощная волна ледяной опасности, что Антон поёжился.
Незнакомка сердито шлёпнула его по затылку.
— Я же сказала: тише...
— Ладно, ладно. Только скажи: кто это?
Она пригляделась.
— Белые бунчуки на шлемах... Это нукеры Атар-хана. Говорят, он перешёл на службу к Тохтамышу.
— Зачем им мы с тобой?
— Не мы, — спокойно ответила девушка. — ТЫ.
Это была новость. Тем временем один из нукеров с радостным воплем поднял в руке некий предмет — небольшой, цилиндрической формы, на тонкой металлической дужке. Антон скрипнул зубами от досады.
Котелок...
Их главный, тот, что скакал первым, повертел котелок в руках, понюхал и зачем-то щёлкнул пальцем по закопчённой поверхности.
— Искать, — коротко приказал он. — Они недавно были здесь.
Всадники проворно ссыпались с лошадей, выстроились полукругом и осторожно двинулись вперёд, расширяя сектор поиска. Нечего было и думать скрыться от них незамеченными.
Девушка тихонько скользнула за валун у края тропы и потянула за собой Антона. Валун был прохладный и шершавый, покрытый мелкими дырочками-оспинками. В одной из оспинок, куда озорник-ветер занёс крупицу земли, торчала зелёная травинка. Эта травинка почему-то окончательно уверила Антона, что все вокруг — не сон (хотя копошилась на задворках сознания слабенькая надежда) и не горная болезнь, вызванная акклиматизацией. Воины неведомого Атар-хана медленно, но верно приближались, он уже ощущал запах немытых тел — ну да, они же вроде никогда не моются, чтобы не спугнуть удачу в бою, — слышал их хищное дыхание и нетерпеливое пофыркивание лошадей у кромки воды (под курганами давно и те лошади, и славный Атар-хан с его людьми, и грозный Тохтамыш, вознамерившийся встать над всей Золотой Ордой...). И девушка из давно исчезнувшего племени — вот она, можно дотронуться рукой до её светлых прядей...
— Уходи, — тихо сказала она. — Беги вверх по тропе, за откос. Я попробую их отвлечь.
— Вот ещё, — искренне обиделся Антон. — Гусары среди ночи дам не покидают...
Она явно не поняла его фразы. Но уточнять не стала. В её руке будто сам собой возник тугой лук, она потянулась за спину, достала стрелу и плавным сосредоточенным движением взвела тетиву. Антон невольно залюбовался ею: девушка была по-настоящему хороша... А в следующую секунду что-то вдруг цвенькнуло о камень, отскочило рикошетом и пребольно клюнуло его в предплечье. Антон испуганно ойкнул и отшатнулся. Кто-то из монголов победно заорал, потрясая луком, — девушка выстрелила мгновенно, почти не глядя, и вражеский лучник со стрелой в горле без звука опрокинулся на спину.
— Уходи! — крикнула она уже не таясь, в полный голос.
— Не уйду! — заорал Антон, окончательно рассвирепев. — У меня синий пояс по каратэ, как-никак. Отобьёмся!
(На самом деле до синего пояса он так и не дотянул, проиграв прошлой осенью силачу и здоровяку Димке Акундину из «Буревестника»: тот достал-таки его чистым йоко-гири на последних секундах раунда...)
Девушка чуть не плакала.
— Пожалуйста, прошу тебя, беги! Всеми богами заклинаю... Ты должен выполнить предначертанное!
— Кем предначертанное? — не понял он.
— Не важно... Ты спасёшь царевича Баттхара, и тогда Копьё Давида объединит кавказские племена в борьбе против монголов. Больше я ничего не знаю. Но это случится потом, сейчас ты ещё не готов, тебе надо возвращаться... Да беги же!!! — Она с отчаянием толкнула его в спину.
И Антон сдался. Пригибаясь, как солдат под обстрелом, он рванул вверх по склону — туда, где должен был находиться их лагерь (или ещё будет находиться — через долгих семь веков, когда исчезнут таинственные аланы, упокоится в могиле Хромой Тимур, так и не завершив свой китайский поход, и будет снова выкопан любознательными археологами прямо накануне войны, в июне сорок первого. Распадётся Союз Советских, парад суверенитетов закончится великой битвой народов, посыплются бомбы на Грозный, Ханкалу и Урус-Мартан, а мисс Сурская красавица выпуска 1999 года будет сидеть в палатке и наводить марафет...).
Склон оказался круче, чем он предполагал. Камни скользили и сыпались из-под ног, воздух перед лицом вдруг загустел — словно кто-то не желал выпускать Антона из одного мира в другой, уютный и привычный, как городская квартира. Теряя последние силы, он выбрался наверх, где было поровнее, упал на четвереньки. И вскрикнул, когда чьи-то пальцы впились ему в плечо.
Монгол был худой и жилистый, словно провяленный на солнце. Он завизжал что-то на своём языке, выкатив белые от злобы глаза, и взмахнул кривой саблей...
Каратэ, кажется, тут и впрямь было в диковинку. Антон примитивно лягнул нападавшего в живот — примерно с той скоростью, с которой футболист бьёт по мячу, и добавил ребром ладони по шее. Монгол выронил оружие, вскинул руки и пропал.
Где-то впереди, метрах в ста, блестел крошечный огонёк и виднелся край палатки. Какой-то человек на корточках сидел возле костра — то ли Казбек, то ли Паша Климкин. У Антона отлегло от сердца. Едва не завопив от радости, он сделал шаг вперёд...
Крик — короткий и жалобный — ударил в спину. Кричала девушка, которую он оставил у реки. Антон остановился и развернулся кругом. Дикая, ледяная ярость мгновенно разлилась по телу, пробежав мурашками вдоль позвоночника. Сказать по совести, было немного страшно. Бог миловал, он ещё ни разу не участвовал в настоящей, серьёзной драке (порхание в белоснежном кимоно по татами, где строгие правила и аж трое судей по углам, — не в счёт). Он опустил взгляд: рукав свитера, куда на излёте угодила стрела, был порван и медленно пропитывался кровью. Кровь была вполне настоящая.
Его кровь.
— Ну нет, — медленно проговорил Антон. — Гусары от дам среди ночи не уходят.
Бежать обратно было легко: воздух словно подталкивал в спину. Издав отчаянный вопль, он взвился над обрывом в великолепном высоком прыжке-полёте (эх, видела бы меня сейчас Светка... или Динара), приземлился на обе ноги, бешено крутнулся волчком и замер в низкой боевой стойке. Страха не было — только злость и древняя, как само человечество, жажда боя. Сейчас ему было наплевать, сколько перед ним врагов: два или двести...
...Кругом было пусто и тихо. Только речка с женским именем Чалалат несла свои воды с востока на запад, вдоль высившегося чуть подальше хребта. Антон выпрямился и огляделся с некоторой опаской: могли ведь, сволочи, связать пленницу, сунуть в рот кляп, чтобы не крикнула, и схорониться за валунами. Да нет здесь крупных валунов (тот единственный, за которым он недавно лежал сам, Антон обошёл кругом, чуть ли не обнюхал), и кусты вдоль берега не так высоки, лошадей не спрячешь... Он несмело подошёл к воде: ни одного следа, ни конского, ни человеческого (опять же неудивительно: камни не хранят следов). Лишь котелок лежал на боку, там, где его оставили, — единственный свидетель... Да ведь не скажет ничего. Антон поднял его, тоже понюхал, как тот монгол, с белым хвостом на шлеме. Хмыкнул про себя (мысли были сплошь невесёлые, связанные с собственным душевным здоровьем), зачерпнул воды и медленно побрёл в сторону лагеря.
Возле костра сидел Казбек, подложив под зад хозяйственную дощечку. Лицо его несло на себе печать мудрости и лёгкой грусти, как у старого даоса. Впечатление усиливала некая заунывная песня без слов, практически на одной длинной ноте, которую он старательно, не пропуская ни одного куплета, напевал под нос. Узрев Антона, он кивнул на котелок и с флегматичным интересом спросил:
— Водичка-то, поди, с Волги?
— Почему? — наивно удивился тот.
— Бегал далеко, однако. Полтора часа прошло. И руку вон умудрился поранить. Попроси Динару, пусть смажет тебе бактерицидной.
— Она здесь?
— Динка? В палатке. Светка спать завалилась, умаялась за день рюкзачок с косметичкой таскать. А Паша покакать пошёл — от переживаний.
— Ты бы не отпускал его далеко, — нервно заметил Антон. — Мало ли кто шляется по окрестностям... А по поводу чего переживания-то?
Казбек назидательно поднял указательный палец и лаконично, но со значением ответил:
— Любовь!
— Понятно, — кивнул Антон. — Лампа стояла на столе, но Света не давала.
Мудрый горец пожал плечами.
— Ну, типа того.
Антон присел на корточки перед костром. Костёр был невелик — не костёр, а костерок из трёх тощих жердинок, на котором, конечно, воду не вскипятишь и каши не сваришь. Однако у огня было хорошо и уютно: он казался живым добрым существом и притягивал взгляд, как красивая ёлочная игрушка.
— Скажи, ты когда-нибудь слышал об аланах? — непонятно зачем спросил он.
Казбек поковырял щепочкой в золе.
— Слышал. Жило такое племя в здешних местах — все сплошь воины на конях и с мечами. Теперь разные недоумки с пеной у рта доказывают, что аланы — их предки. Осетия так вообще переименовалась в Аланию, срам, да и только. — Он презрительно сплюнул. — Хотя все знают, что истинные потомки аланов — это мы, черкесы...
Глава 2 ПЕРЕВАЛ
Ледник издалека напоминал змеиный язык: длинный, узкий и разрезанный вдоль круглым скальным выступом, «бараньим лбом». Подниматься к нему пришлось по осыпи — средним и крупным камням, надоевшим хуже горькой редьки. Антон ненавидел осыпи: ступни на них ежесекундно оскальзывались и норовили вывернуться под неестественным углом. Чуть зазевался — и готово, койка в лечебнице (отнюдь не психиатрической) обеспечена. И по сторонам не поглядеть, и природой не полюбоваться... К тому же у самого носа всё время маячила Светкина спина, эротично обтянутая ярко-голубым капроном. Казбек с Динарой легко шагали впереди, вроде бы даже не замечая неровностей дороги. Где-то посередине плёлся унылый, точно Пьеро, Паша Климкин. А рюкзак-то ты, парень, укладывать так и не научился, подумал Антон с минутной жалостью, болтается мячиком, натирая спину, да ещё и подвешенные снаружи котелок и каска, которые громыхают при каждом шаге, вызывая мысль о коровьем стаде на пути к ферме.
Постепенно подъём стал круче. Ледник утратил сходство со змеиным языком — отсюда, с плато, речушка, которую они оставили внизу, казалась игрушечной. По другую её сторону, далеко-далеко, виднелись несколько домиков, каждый размером с булавочную головку. (Уж не местные ли решили меня разыграть, мелькнуло в голове. Так вроде не первое апреля. Да и сложновато для розыгрыша: наряжаться в кольчуги, махать мечами... И та стрела, кстати, была вполне настоящая: рана до сих пор побаливает).
Рану на предплечье заботливая Динара смазала бальзамом и наложила повязку. При этом внимательно посмотрела на Антона, будто хотела о чём-то спросить, но промолчала. Антона и самого подмывало поинтересоваться, не она ли была там, возле речки, в меховом плаще, в образе девушки-аланки, спасшейся из взятого монголами города... Может, и спросил бы, кабы не было свидетелей вокруг.
Вдоль «бараньего лба», с южной его стороны, в ледовой трещине, журчал ручеёк. Светка тут же присела возле него, зачерпнула воды и выпила одним изрядным глотком.
— Вкусная, — сообщила она, потянувшись за новой порцией. — Только холодная.
— Этой водой жажду не утолишь, — сказал Антон. — Только булькать начнёшь, как грелка. И горло заболит.
Светочка вздохнула.
— А пить-то хочется. А фляжку-то я на стоянке забыла.
Антон молча отстегнул от пояса свою — с остатками апельсинового сока — и протянул девушке. Та моментально опустошила её, потрясла вниз горлышком и огорчённо спросила:
— Это всё?
— Увы.
Путь на хребет был только один — по неширокому кулуару, обрамленному влажными скальными выступами. Солнечные зайчики задорно играли на их чёрных боках, и оттого скалы напоминали тюленей, высунувшихся из воды. По дну кулуара спускалась ледовая полоска метра полтора шириной. Казбек попробовал ступить на неё — и тут же съехал вниз вместе с целым пластом, отчаянно ругаясь и отплёвываясь. Лед основательно подтаял на солнце.
— Можно, конечно, обойти западнее, — задумчиво пробормотал Казбек, — но, во-первых, потеряем день-полтора, а во-вторых, здесь интереснее. Антон, вставай на страховку, я поднимусь слева по отрогу и провешу перила.
Антон кивнул, правда, без особого энтузиазма. Ему самому хотелось пойти первым (не век же плестись в хвосте, любуясь на Светкин рюкзачок-косметичку). Но — лучше Казбека в их группе никто не лазал по скалам. Даже Динара.
Динара...
Та девушка у реки была очень похожа на неё. Не одно лицо, но всё же... Она сказала мне нечто странное и важное, даже повторила несколько раз, чтобы я запомнил. Жаль, голова была занята не тем. И (Антон запоздало покраснел от стыда) как ни крути — а я её бросил. Можно сколько угодно оправдываться перед собой (это ваш мир, леди, я сюда не просился; а коли позвали в гости — так надо было, согласно обычаю, накормить, напоить, в баньке попарить, а не насылать орду басмачей и не пуляться из луков...), суть не меняется. Я струсил и сбежал. Что-то подумают там о нас, мужчинах двадцать первого столетия...
Верёвка в руках дёрнулась. Антон, очнувшись от дум, задрал голову: оказывается, Казбек успел добраться до гребня и провесить перила. Динара деловито щёлкнула жумаром о верёвку и пошла вверх — спокойно, легко и даже чуточку небрежно, заставив Антона в очередной раз вздохнуть с завистливым восхищением. Казбек взирал сверху равнодушно, как истинный небожитель: подумаешь, лезет девчонка по вертикальной стене, ну, не особо тошно на неё смотреть, эка невидаль...
Светка где-то на середине маршрута застряла намертво. Антон не видел, что произошло: скальный карниз закрывал обзор. Понял только, что она потеряла опору и никак не могла сдвинуть этот чёртов жумар с места. А самое главное — ничего не предпринимала, чтобы исправить ситуацию: она грациозно висела в пространстве (ярко-голубое пятно на голубом фоне) и не делала даже попытки дотянуться до ближайшего выступа, справедливо уверенная, что её и так спасут.
— Попробуй опереться на карниз, — посоветовала Динара. — У тебя должно получиться.
Светка попробовала и жалобно ойкнула.
— Не могу, тут что-то мешает. Верёвка какая-то...
— Ещё новость, — фыркнул Казбек. — Страховочная верёвка ей помешала, экстремалка чёртова...
— Не страховочная, — рассердилась Светка. — Тут рядом ещё одна — старая, лохматая. Не наша.
— Не выдумывай.
— Правда. Иди сюда, сам увидишь.
Казбек поворчал под нос. Смысл сводился к тому, что иметь в группе победительницу конкурса красоты — это как носить на голове шапку Мономаха: почётно, но хлопотно, и шейные мышцы быстро затекают.
Светка окончательно обиделась и встала, едва не уперев руки в боки — теперь уже из принципа.
— Ладно, — сдался Казбек. — Спускаюсь. Заодно и верёвку добуду: может, и в самом деле какие-нибудь лопухи забыли снять...
Светочка не ошиблась: чужая верёвка и впрямь имелась в наличии. Верхний её конец был закреплён на гребне, обмотанный вокруг скального выступа, нижний терялся в глубокой продольной трещине, прочно заблокированной когда-то рухнувшей сверху ледяной глыбой. Казбек присмотрелся повнимательнее и удивлённо присвистнул: там, за слоем льда, темнело Что-то большое, расплывчатое и почему-то жутковатое...
— Может, пойдём отсюда? — нервно предложила Света. — Ну её, эту верёвку.
Казбек молча пнул глыбу ногой. Потом с размаха, будто бы даже со злостью, ударил ледорубом. Один раз, другой, третий... После пятого удара глыба нехотя раскололась. Светка отшатнулась и оглушительно завизжала — так, что её вопль на секунду оглушил остальных. Динара и Паша Климкин проворно съехали вниз и встали рядышком, не говоря ни слова. Визг продолжался — в другое время на Светку цыкнули бы: в горах нельзя громко кричать. Горы — это тысячелетняя мудрость, это благородная седина, тишина и подлинное величие, это колоссальные массы снега, готовые сорваться вниз от любого неосторожного движения...
Видимо, Светочка в конце концов осознала это и замолчала, будто выключился некий механизм внутри.
В трещине висел человек.
От неожиданности Казбек тоже едва не вскрикнул и не выставил перед собой ледоруб, наподобие автомата. Однако через секунду понял, что человек мёртв — мёртв давно, наверняка не меньше полувека. В этих местах, где властвовали лишь камни и снег, не было разложения, и время превратило человека в обтянутый пергаментной кожей скелет. Если его не потревожить, он останется таким до Страшного суда, или пока на Землю не упадёт обещанный западным кинематографом гигантский астероид.
Казбек подошёл поближе. При жизни человек был альпинистом: грудь, прикрытую лохмотьями камуфляжа, стягивала обвязка, за плечами виднелся чёрный от времени рюкзак, а к поясу слева был пристегнут айсбаль старого образца, какими пользовались ещё в тридцатых годах. На шее висел облитый прозрачной ледяной коркой немецкий автомат. Антон сто раз видел такие в фильмах про войну.
— «Эдельвейс», — глухо сказал Казбек и сплюнул сквозь зубы. — Я слышал, в этих местах были бои в сорок втором...
— И он здесь с тех пор? — суеверно удивился Паша Климкин. — Что же его до нас никто не обнаружил?
Казбек в раздумье дотронулся до верёвки, на которой висел немец.
— Наверное, его подстрелили при спуске. Дул ветер, труп раскачало и занесло в трещину. Потом солнце пригрело и свалило сверху глыбу льда. Мы бы тоже прошли мимо, кабы не Светочка. Так что мои поздравления, красавица. Можешь назвать находку своим именем.
— Дурак, — с достоинством отозвалась Светочка.
Они были молоды — даже их отцы, выросшие в стремительные пятидесятые и ласковые шестидесятые, и то не все застали прошлую войну. Только деды — та небольшая часть из них, кто сумел выжить и вернуться... А что — деды? Антон, например, своего видел только на старенькой крупнозернистой фотографии, когда пару лет назад с вялым любопытством листал семейный альбом.
Так что генетическая память благополучно помалкивала, и немец-«эдельвейс» отнюдь не ассоциировался с врагом. Романтическая натура Светочка даже повлажнела глазами (правда, тем и ограничилась: берегла французскую тушь), раздумывая про себя, каким покойный был при жизни. Наверняка блондин с голубыми глазами. Наверняка высокий, с широкой безволосой грудью и восхитительно мужественным подбородком, раздвоенным, как ледник Сванетский Асмаши...
Они осторожно сняли его с верёвки и уложили на лёд, предварительно освободив от рюкзака и автомата. Тело было совсем лёгким — вряд ли оно весило больше, чем рюкзак. Они опасались даже, как бы оно не рассыпалось... Нет, не рассыпалось: лежало у ног смирно и тихо, сложив на грудной клетке высохшие кисти, похожие на птичьи лапки. Казбек пошарил у него в нагрудном кармане и извлёк на свет некий тёмный отсыревший комок. Положил себе на ладонь и бережно разгладил — комок постепенно превратился в плохо сохранившееся удостоверение с едва проступающим орлом на обложке. Орёл держал в лапах свастику.
Чернила внутри давно расплылись, лишь несколько букв с трудом, но ещё можно было разобрать.
— Обер... — пробормотал Казбек, вчитываясь в текст. — Обер... Не пойму. Видимо, лейтенант. Арик Вазен или Вейзен... Группа армий «А»... Zebensmittel... Ага, поставлен на пищевое довольствие... Дальше неразборчиво. А это, наверное, его невеста. Какая-нибудь Марта-Бригитта-Кэтрин-Клара. Идиот, кто же таскает фотографию своей девушки по вражеским тылам?
— Дай посмотреть, — живо заинтересовалась Светка, лет с десяти не терпевшая выпадать из центра всеобщего внимания. — Да, не хай-класс. Ротик маловат, лоб слишком выпуклый (глаза, правда, неплохи). Никогда не думала, что арийки выглядят точь-в-точь как наши девчонки из провинции. Вот руку на отсечение могла бы отдать, что она из русских!
— Перестань, — поморщился Антон. Ему вдруг стало неприятно. — Давай положим назад.
— Почему? — Светка немедленно надула губки.
— Да как-то... Будто в замочную скважину подглядываем.
Он отошёл к краю ледника, высматривая что-то у кромки скал — там, на границе льда, была неширокая полоска каменистой земли.
— Ты что? — спросил Казбек.
— Похоронить бы, — задумчиво отозвался Антон. — Вон там можно могилу выкопать. У тебя вроде была сапёрная лопатка?
— Вот ещё! — вдруг яростно встрял Паша Климкин. — Стану я возиться со всяким фашистом!
— Тебя никто и не просит, — отмахнулся Казбек и тут же с сомнением почесал затылок. — С одной стороны, Пашка прав: фриц — он и есть фриц. Мой дед, кстати, воевал с ними на Кавказе. А с другой — как-то не по-людски оставлять его здесь. Вроде не по-христиански... И потом, вряд ли этот парень эсэсовец: обычный солдатик, приказали — он и припёрся сюда, сам не зная зачем... Ладно, решено, я беру лопату. Антон, поможешь?
Могила получилась неглубокой, но глубокая здесь и не требовалась. Немца опустили на дно и молча постояли вокруг. Антон нагнулся и отцепил от обвязки «эдельвейса» страховочный карабин. Карабин, украшенный эмблемой фирмы «Капитан Крок», даже не заржавел и выглядел почти как новый. Антон вопросительно посмотрел на Казбека. Тот согласно кивнул.
— Возьми на память. В этих местах, говорят, кое-кто находил целые подземные склады — верёвки в специальных чехлах, обмундирование, ботинки с триконями, крючья, ледорубы — все целёхонькое, и качество получше, чем у современных фирм. Умели фрицы делать снаряжение, этого не отнимешь.
Он подобрал комок земли и бросил вниз.
— Надо бы мне тебя ненавидеть, — произнёс он медленно. — Ты ведь дрался тут, в Приэльбрусье, против моего деда — может быть, именно твоя пуля его и убила. Или наоборот, его пуля — тебя... Теперь уж не важно. Покойся с миром!
— Покойся с миром, — тихо сказала Дина.
— Чёрт с тобой, немчура, — нехотя повторил Паша Климкин. — Покойся с миром.
И вдруг хлопнул себя по лбу:
— А про рюкзак-то его мы забыли!
— Иди принеси. Кстати, посмотри, что в нём. Только ничего не бери.
— Это почему?
Казбек пожал плечами.
— Мы же не мародёры.
— «Не мародёры», — буркнул Пашка себе под нос. — Как Антону — так целый карабин, а как мне — так «ничего не трогай»...
Он подошёл к ни в чём не повинному рюкзаку «эдельвейса» и в сердцах пнул его ногой. (Повинному, повинному, злорадно подумал он. Нечего было таскаться у фашиста за спиной по нашим горам!) И — когда-то прочная, а ныне старая и ветхая ткань не выдержала и расползлась по шву...
— Ни хрена себе, — пробормотал Паша, присаживаясь на корточки.
Он вдруг ощутил непонятную слабость в коленках, будто после затяжного спуска (кто бывал в горах, тот знает: спуск изматывает гораздо сильнее подъёма).
Ни хрена же себе...
Больше никакие слова на ум не шли. Сидеть на корточках показалось неудобным — он опустился на задницу, не почувствовав холода, и вытянул ноги вперёд, бездумно перебирая вывалившиеся прямо на лёд драгоценные камни, золотые и серебряные украшения, богатые нательные кресты, старинные монеты неизвестных стран, браслеты и ожерелья. За этим занятием его и застали остальные, когда подбежали, обеспокоенные долгим его отсутствием.
Никто не произнёс ни звука. Слишком много впечатлений принёс сегодняшний день — всем хотелось просто стоять и смотреть на такую сказочную и такую банальную, даже обыденную груду сокровищ на грязном талом снегу...
Груду сокровищ, которой можно было безнаказанно коснуться носком ботинка, не опасаясь окрика музейной бабки-вахтёрши. («Дети, вы что, читать не умеете? Написано же: экспонаты трогать запрещается! Где ваш классный руководитель?») Можно было взять в ладони, спрятать в карман, или на самое дно своего рюкзака, или за щёку, чтобы никто не отобрал. (Впрочем, Буратино, помнится, тоже пытался сунуть в рот свои пять золотых — мало хорошего вышло...)
— Это что, все настоящее? — задала Светочка идиотский вопрос.
— Нет, это бижутерия с вьетнамского рынка, — выдал Казбек идиотский ответ. — А немчик-то был непростой... Где же он это надыбал? Неужто клад нашёл?
Динара подобрала с земли золотое украшение — наручный браслет, украшенный витым цветочным орнаментом. В орнамент было искусно вплетено изображение коня с крошечными глазами-рубинами. Конь казался живым: он нервно и грациозно перебирал ногами и картинно выгибал шею. Похоже, ему не терпелось сорваться в бешеную скачку по лугу, по изумрудно-зелёной траве, какая бывает лишь на высокогорных пастбищах. Что-то мешало ему — может быть, волосяной аркан, который неведомый мастер не стал изображать на браслете, а может быть, он просто сдерживал сам себя, чтобы потом острее ощутить наслаждение от бега...
— Красота какая, — шёпотом произнесла Светка.
Золото не блестело. Оно было цвета тёмного густого мёда и оттого казалось ещё более дорогим.
— Да, — зачарованно подтвердила Динара. — Похоже, действительно клад, тринадцатый или четырнадцатый век, не позже. И лежало явно не в могильном кургане: слишком хорошо сохранилось...
Казбек нахмурился.
— Откуда ты... Ах да, ты же у нас археолог.
— Да ну, — она смутилась. — Я только на третьем курсе.
— Всё равно. Как по-твоему, навскидку, сколько всё это может стоить?
Динара подумала.
— Если остальные вещи в таком же состоянии... Историческую ценность я даже не берусь определить. А денежную...
— А денежную мы определим потом. — У Светочки в приступе золотой лихорадки блуждали глаза, выступил пот на лбу и крупно дрожали руки. — Когда спустимся вниз... Ребятки, милые, это же теперь наше, верно? Мы нашли — мы и хозяева. Разделим поровну, а приедем домой — найдём покупателя, какого-нибудь частного коллекционера...
— А лучше — переплавим золото в слитки, чтобы удобнее было продать, — фыркнула Динара. — Светка, ты с ума сошла. Ты даже не представляешь...
— ...всей художественной и научной ценности, — подхватила та. — Где уж мне, деревенщине. Зато ты, я так поняла, предлагаешь подарить сокровища ближайшему краеведческому музею? И получить от них похвальную грамоту?
— Во-во, — поддакнул верный Паша Климкин. — И ещё приглашение на утренник с лекцией «Как я провела лето». Малыши будут зевать от скуки и шуршать обёртками от жвачки.
— Это будут старшеклассники, — со знанием дела возразила Светка.
— Тогда — не обёртками, а журналами «Плейбой». И разглядывать Динкины коленки из-под парты.
— Никто не говорит о музее, — с досадой сказала Динара. — Есть университет, Академия наук... В конце концов, тому, кто сдал клад государству, положено двадцать пять процентов от стоимости...
— Совсем дура, — со вздохом заключила Светка. И заорала, потрясая кулаками так, что все вздрогнули: — Какое, на хрен, государство? Где ты, к чертям собачьим, видела у нас государство?! Тебя обжулят, обдерут как липку, вычтут налоги, и ты ещё останешься должна по гроб жизни!
Она экспансивно рухнула на колени, зачерпнула пригоршню тёмно-красных рубинов — те мгновенно вспыхнули, превратившись в десятки маленьких солнц, очаровывая, околдовывая, лишая остатков воли...
— Динка, — прошептала она. — Ты с первого курса мечтала об экспедиции на Тибет. И говорила, что эта мечта никогда не сбудется. Вот он, твой Тибет. Можешь теперь кататься туда на выходные, как к себе домой. Можешь вообще прописаться там, в каком-нибудь буддистском монастыре, можешь даже постриг принять... Антошка поедет в Японию, к самому крутому ихнему сэнсэю, Пашенька купит казино в Лас-Вегасе, я выйду замуж за губернатора Мальвинских островов и съеду, наконец, из нашей общаги. Казбек построит себе дворец и заведёт гарем... Казик, мать твою, что ты молчишь как пень?
— Слушаю, — отозвался Казбек с олимпийским спокойствием. — Говорят, при штабе Суворова высказывались сначала нижние чины, чтобы верхние не давили авторитетом, а потом уж... Антон, ты у нас один остался неозвученным. Твоё мнение?
Ты ещё не готов, сказала ему девушка-аланка. (Они сидели рядышком за валуном, её волосы щекотали ему ноздри, губы манили и притягивали... Антон выругался про себя: оказался, блин, в чужом веке, басмачи того и гляди глотку перережут, а мысли всё равно сворачивают на избитую мужскую дорожку...) Беги, шепнула она, я попробую их отвлечь. И плавным движением натянула тетиву. У неё были красивые руки — небольшие, очень изящные, но сильные, привыкшие и к изысканным украшениям, и к боевому оружию...
— Не знаю, — нехотя сказал Антон. — Тревожно что-то.
— Почему?
— Ну, этот фриц... Он ведь тоже, поди, прыгал от радости, когда нашёл клад. И когда пёр его на себе по нашим тылам. А потом он умер. Вдруг и мы... — закончил он совсем тихо.
Солнце, до того момента игриво кувыркавшееся в небе, вдруг зашло за тучу, лёд и скалы разом потемнели, повеяло холодом. Почудилось даже, будто мёртвый «эдельвейс» в своей неглубокой могиле ухмыльнулся безгубым ртом и подмигнул...
Светка нервно рассмеялась.
— Ну уж дудки, — заявила она. — Я даже в пионерском лагере не боялась «страшилки» слушать про мертвецов. Девки, дуры, всей палатой страха на себя нагонят и сидят ночь напролёт под одеялами, зубами лязгают. А я — хоть бы хны. И кошмары не снились.
— «Не боялся я Флинта живого — не испугаюсь и мёртвого», — угрюмо процитировал Казбек любимого Стивенсона, наблюдая, как Сурская красавица-99 судорожно запихивает в карман сразу три жемчужных ожерелья. — Ладно, сделаем так. Сейчас распределим эту груду по рюкзакам, чтобы было приблизительно одинаково по весу (только прячьте поглубже). А доберёмся до турбазы — решим, как поступить дальше.
Он подошёл к Антону и положил ему руку на плечо.
— Может, ты и прав... Даже наверняка прав. И Бог нас накажет, как этого... Арика Вазена или Вейзена.
— Ты веришь в Бога? — буркнул Антон.
Казбек пожал плечами. И несколько бессвязно объяснил:
— Здесь горы. Другой мир, со своими законами. Здесь не захочешь, а поверишь, во что угодно. Знаешь, была б моя воля — я оставил бы сокровища тут. Пусть лежат как лежали.
— Что же мешает?
Казбек бесшабашно улыбнулся, показав белые зубы.
— Чёрт его разберёт. Понимаешь, можно сколько угодно себя уговаривать, что, мол, поступил правильно, что не поддался искушению... ну и так далее. А всё равно — сколько бы ты ещё ни прожил, будешь каждый день мучиться и вспоминать, что когда-то судьба дала тебе ШАНС. И другого больше никогда не будет.
Он отошёл к уже засыпанной могиле (маленький серый холмик баз опознавательных знаков) и шутливо отсалютовал ледорубом.
— Счастливо оставаться, Арик Вейзен или Вазен. Не ругайся, тебе эти побрякушки всё равно ни к чему. Да и не твои они — тоже, поди, украл у кого-то...
Среди найденных драгоценностей Антон обнаружил почерневший от времени круглый футляр из бычьей кожи, напоминавший тубус для чертежей. Футляр оказался на удивление крепким: наверное, кожа была пропитана особым составом. Антон подумал и сунул его к себе в рюкзак, решив ознакомиться с содержимым на следующем привале. (Если он будет у тебя, следующий привал, шепнул на ухо кто-то ехидный).
Он опять, как давеча, шёл замыкающим — не потому, что Казбек возложил на него эту обязанность, а просто — так хотелось. В том, что никто не топал и не сопел за спиной, была некая иллюзия уединённости, будто за ситцевой занавеской в густонаселённой квартире: хоть и крохотный уголочек, а свой. Рюкзак заметно потяжелел, да и на душе было тяжело и неспокойно, словно в преддверии чего-то необычного, неизвестного, чего и ждёшь каждой своей клеточкой, и боишься до дрожи в коленях.
Уже взойдя на гребень, Антон оглянулся. И, похоже, нисколько не удивился, обнаружив посреди ледника знакомую девушку. На ней были замшевые сапожки, вышитая узорчатая рубаха и меховой плащ, застёгнутый у горла серебряной пряжкой. Увидев, что Антон смотрит на неё, она приветственно подняла руку. Он механически ответил ей тем же. Повернулся и широко зашагал вниз по склону, догоняя своих.
Глава 3 ПЛАЩ И КОЛПАК
Окрестности Седжаба, меся и Шабан 765 г.
Я навсегда запомнил этот день. День, когда я начал своё повествование, которому спустя двадцать долгих лет дал название «Летопись Золотой Орды», — главное дело всей моей жизни, моё дитя, рождённое и взращённое в великих муках... Но — да простит Аллах мою гордыню — результат того стоил.
Великий и победоносный хан Тимур в те годы ещё не был великим и победоносным — это был просто отчаянный юнец из селения Ильгар, что расположено в окрестностях Шахрисябза. И всё его войско состояло из нескольких десятков таких же, как он сам, сорвиголов, только и способных что грабить купеческие обозы. Он ещё не был Тамерланом, или Хромым, — так прозовут его туркмены лишь спустя восемь лет, когда он, неосторожно ускакав на любимом своём жеребце Кохту от свиты телохранителей, попадёт в плен к Аглай-беку.
Кохту, чистокровный аргамак цвета безлунной прикаспийской ночи, был подарен Тимуру эмиром Хусаином в день, когда его старшая дочь Уджани переступила порог юрты Тимура и впервые поцеловала край его одежды[3]. Недобрый, видать, был тот подарок.
Среди коней, на которых ехали сто его телохранителей, не нашлось ни одного, кто сравнился бы в скачке с ханским жеребцом. Был он быстрее всех, но стрела, выпущенная из туркменского лука, оказалась ещё быстрее. Лишь только пронзённый в горло Кохту пал под седоком, воины Аглай-бека накинулись на Тимура и привели его, связанного и с мешком на голове, к своему господину.
Аглай-бек сидел в юрте на дорогом ковре из Самарканда в окружении своих военачальников и пил вино из большой серебряной чаши. Когда с головы Тимура содрали мешок, Аглай чуть не подпрыгнул от радости (лишь усилием воли он заставил своё лицо принять равнодушное выражение) и усмехнулся в седые усы, глядя на согнутого в три погибели пленника.
— Хорошо ли тебе у меня в гостях? — с издёвкой спросил он. — Не устал ли ты с долгой дороги, прилежно ли веселят тебя мои женщины и хмельно ли вино из моих бурдюков?
По правую руку от Аглай-бека находились два его брата, один из которых был здесь почётным гостем и послом от Ильяса Ходжи, изгнанного эмиром Хусаином из родного города. Когда-то Ильяс Ходжа, недовольный своим положением в Мавераннхаре, поднял мятеж против законного правителя, и обеспокоенный Хусаин попросил помощи у своего зятя Тимура. Тот не заставил себя ждать. В решающем сражении в долине Джанглой недалеко от Ташкента, когда всадники обеих сторон перемешались так, что пыль от копыт закрыла солнце, земля до самых недр пропиталась кровью и нельзя было разобрать, где враг, а где друг, двадцать тысяч «бешеных» под предводительством Тимур-хана, обойдя тумены Ильяса с тыла, ударили им в спину.
Удар был столь силён и внезапен, что мятежные войска рассеялись в мгновение ока и обратились в бегство, не помышляя о серьёзном сопротивлении. Самого Ильяса, целого и невредимого, привели к Хусаину с арканом на шее. Тимур советовал тестю казнить предателя, а тело бросить на съедение собакам. Однако Ильяс Ходжа, распростёршись на ковре, принялся целовать туфли эмира, плакать и бить себя по лицу. Он кричал, что его обманули мятежные визири и тьма опустилась на его глаза. Но теперь он прозрел и обещает никогда впредь... ни за что... ни под каким видом...
— Что скажешь» досточтимый Тимур? — спросил эмир Хусаин. — Я хочу знать твоё мнение.
— Моё мнение, — резко ответил тот, — таково, что лживый пёс никогда не станет орлом. И всегда будет со злобой коситься на палку, побившую его. И ждать момента, чтобы вновь укусить исподтишка.
Услышав такую речь, Ильяс Ходжа вновь отчаянно зарыдал, а эмир Хусаин рассмеялся и похлопал Тимура по плечу.
— Ты величайший и храбрейший из воинов во всех частях света, — сказал он. — Твоя сабля подобна молниям Аллаха, которые он мечет на головы неверных. Ты быстр, как ветер, и надёжен, как скала. Но ты плохой дипломат. Ты знаешь, что многие государства Европы, не говоря уже о восточных, шлют своих послов в Мавераннхар с предложениями дружбы. Сын индийского раджи просит руки моей младшей дочери, и я вовсе не хочу, чтобы он думал, будто совсем скоро станет зятем дремучего дикаря. Вот вам моё решение. Если Ильяс Ходжа именем своих предков поклянётся никогда больше не враждовать со мной и до захода солнца покинет наш славный город — я не трону его. Ты всё слышал, досточтимый Ильяс?
— Да, да, — обрадованно закивал тот, задом отползая к выходу из шатра. — Клянусь именами предков, я никогда, ни за что... ни под каким видом...
Но перед тем как исчезнуть, он на краткий миг встретился взглядом с Тимур-ханом. И Тимур, чья храбрость воистину не знала границ, вдруг почувствовал, как могильный холодок змеёй скользнул меж лопаток...
Сейчас в юрте Аглай-бека не было Ильяса Ходжи, зато был его верный человек, и связанный по рукам и ногам Тимур наверняка знал, что эта встреча будет последней в его жизни. Но он не боялся. Много чести им будет, если они увидят его страх.
— Теперь, — сказал довольный Аглай-бек, — мой конь и конь Ильяса Ходжи скачут по степи бок о бок. А вскоре так же бок о бок мы войдём в Мавераннхар и вырежем всех его жителей, если только хотя бы один из них будет со мной недостаточно почтителен. А перед этим я пришлю Хусаину твою голову. Думаю, это будет достойный подарок ему и его прекрасноликой дочери Уджани.
И улыбнулся, отбросив от себя пустую серебряную чашу — чтобы все видели, как мало он дорожит подобной безделицей.
— Придёт день — и я буду пить и есть только с золотой посуды, — заявил он. — И сменю походную юрту из войлока на белокаменный дворец.
Тимур-хан медленно выпрямился. Трое дюжих нукеров пытались склонить его голову к земле, но даже им это оказалось не под силу.
— Ты умрёшь, — спокойно и просто сказал он в полной тишине, как о чём-то само собой разумеющемся. — Я убью тебя, или это сделает эмир Хусаин, но лучше бы тебе попасть к нему, а не ко мне. Иначе твоя смерть не покажется тебе лёгкой и быстрой, клянусь Аллахом.
И ледяным холодом повеяло от его слов.
Сабля посла со свистом вылетела из ножен и сверкнула над головой Тимура. Тот не пошевелился и не изменился в лице.
— Подожди, Джебе, — сказал Аглай-бек. — Негоже тебе пачкать славное оружие. Для этой шелудивой собаки найдётся смерть похуже.
Тимура бросили в яму — настолько глубокую, что даже в полдень из неё можно было увидеть звёзды. Стены обмазали глиной, а верх забрали толстой и прочной решёткой. Ему не давали ни есть, ни пить, а во время дождя решётку накрывали пологом, чтобы вода не просочилась внутрь. Лишь глина на стенах в такие дни становилась слегка влажной, и Тимур приникал к ней языком, чтобы хоть немного облегчить страдания от жажды.
На седьмой день пленнику несказанно повезло: к нему в яму случайно свалилась змея, спасавшаяся от жары. Тимур убил её голыми руками, выпотрошил и съел, — потом на дне нашли её кожицу, похожую на скомканный чулок.
Сама же яма была пуста.
Я не стал описывать побег Тимура из плена, так как поклялся именем Аллаха, что в моей повести будет лишь то, о чём мне известно наверняка. Каким образом Тимур, не имея ни ножа, ни верёвки, выбрался из скользкой ямы, никто не может сказать и по сей день. Известно только то, что он сломал решётку, достиг коновязи и убил четверых, охранявших эту коновязь. Потом он взял коня и ускакал в горы. Во время побега он был дважды ранен — в бедро и в руку. Рука вскоре высохла, а нога перестала сгибаться в колене.
Так Тимур получил прозвище Хромой. Тамерлан.
Великий и страшный правитель, покоривший огромную территорию от Чёрного моря до Западной Индии. Восхищаюсь ли я им? Боюсь ли? Ненавижу? Трудно сказать. По крайней мере, я ничего не смог ответить человеку, который задал мне этот вопрос на шумном базаре в Седжабе в конце месяца Шабан 765 года.
Он носил колпак и плащ дервиша. Не знаю, почему я приметил его и выделил из разношёрстной толпы, говорливой, как мутная река в период разлива.
В ту благословенную пору я был ещё достаточно молод, чтобы мной владело честолюбие, и достаточно богат и знатен, чтобы не ценить этого. Я состоял на службе при дворе самого эмира Абу-Саида, имел шестерых жён, владел несколькими табунами лошадей и чалмой младшего визиря. Я изучал науки — для этого из просвещённой Бухары были выписаны лучшие учителя, и, по их льстивым отзывам, я весьма преуспел во многих областях... А впрочем, могли ли они сказать иное? Я ведь очень щедро оплачивал их труд — я мог себе это позволить...
Но вот чего я позволить себе не мог — это быть счастливым.
Сейчас, по прошествии времён, я оглядываюсь назад, на самого себя в неполные тридцать пять лет, силясь вспомнить, бывал ли я счастлив когда-нибудь? К примеру, когда Тхай-Кюль, прекрасная китаянка, младшая из моих жён, ласкала меня в нашей постели? Или когда эмир вручил мне Серебряный знак, и многие придворные, старше меня годами, но ниже по рангу, были вынуждены кланяться мне при встрече, скрежеща истёртыми зубами? Или когда моя рукопись «Тарих-азани Уджейлту» («История государства Уджейлов»), переписанная монахами в нескольких монастырях, была с одобрением принята в Хорезме, Мавераннхаре и Багдаде?
Был ли я счастлив? Наверное, тогда мне казалось, что да: ведь я сам, своим умом и усердием, достиг многого. А сейчас... Сейчас мне видится совсем другое.
Да, я был богат и удачлив. Однако совсем иная страсть — чёрная, словно грозовая ночь, густая и тягучая, словно болотная вода, — сжигала меня изнутри безжалостным огнём. С того самого дня, когда на базаре в Седжабе я повстречал дервиша...
Я ехал на коне вдоль рядов медной посуды: витые подсвечники, похожие на ветвистые деревья, тазы, блюда и кувшины, блистающие, как огонь, покрытые изящными узорами. (Кувшины своими формами напомнили мне Тхай-Кюль, и я невольно ощутил проснувшееся желание. И подумал, что сегодня ночью и ей, и мне вряд ли придётся уснуть надолго...) Вообще-то, по рангу мне полагался крытый паланкин, но мне было больше по душе ехать верхом и смотреть сверху вниз на толпу, которая кланяется и расступается передо мной с боязливым почтением. И перешёптывается у меня за спиной. Продавцы стремглав выбегали из лавок, едва не бросаясь под копыта коня, умоляли купить у них что-нибудь и на все лады расхваливали свой товар. Иногда я снисходительно кивал, и тогда мои слуги расплачивались с торговцем, забирая понравившуюся мне вещь. Я любил баловать подарками своих жён.
Однако вскоре подарки были куплены, и мне наскучили крикливые продавцы. Я тронул коня пятками и поехал дальше мимо рядов степенных оружейников (здесь я приобрёл дамасский кинжал и золотой браслет с застёжкой в виде лошади) по направлению к улице травников и целителей — там, где продавались розовые масла, бальзамы, иранская глина для удаления волос, сонные порошки и тёмные шарики гашиша, дарящие сладкие грёзы...
В самом конце улочки, в грязном тупике, раздавались полные ярости крики.
Несколько человек со злобой лупили ногами одного, скрючившегося на земле. Разгневанный продавец снадобий стоял рядом, потрясая кулаками, и орал так, что его было слышно, поди, и на городской площади:
— Вор, вор! Бейте его, он украл у меня...
— Что же он украл у тебя? — спросил я, подъехав ближе.
— Деньги! — задыхаясь, крикнул продавец. — Много денег, благородный господин! Всё, что я заработал за день.
— Прекратить, — негромко приказал я, и люди остановились. — Поднимите его.
Однако незнакомец поднялся сам — с таким достоинством и спокойствием, что я удивился. И строго спросил:
— Ты в самом деле вор?
— Нет, мой благородный господин, — ответил он, с трудом двигая разбитыми губами.
— Кто же ты?
— Я паломник (только теперь я заметил его плащ и колпак, украшенный белой ленточкой). Путешествую по святым местам, живу подаяниями и молитвой Всевышнему. И тем, что иногда предсказываю будущее.
Мне опять стало скучно. Уж чего-чего, а предсказателей будущего, прорицателей судьбы, индийских факиров и тибетских монахов, познавших секреты вечной молодости, абсолютного счастья и диет для быстрого избавления от излишнего жира, на базарных площадях в любой стране мира пруд пруди. И двенадцать на дюжину из них — воры и шарлатаны, вблизи которых каждому правоверному следует покрепче держаться за кошелёк. Однако что-то в нём было — то, что выделяло его среди прочих.
— Что привело тебя на эту улицу?
— Он нарочно заговорил со мной, он надеялся отвлечь моё внимание, — снова занудил торговец, но я жестом прервал его.
— Я повстречал на соседней улочке калеку, покрытого язвами, — сказал паломник. — Он был слишком беден, чтобы купить нужное лекарство. Моё сердце переполнилось жалостью к несчастному, и я решил потратить серебряный дирхем, дабы облегчить его страдания.
— Ага, — встрял торговец, — и ты пришёл в мою лавку в надежде обчистить меня до нитки...
— Я не брал твоих денег, почтенный, — возразил дервиш. — Настоящий вор побывал у тебя около получаса назад — если ты помнишь, он долго приценивался к персидской глине для удаления волос (для вида, разумеется). Думаю, ты ещё можешь догнать его, если расскажешь обо всём квартальным надзирателям.
На мгновение хозяин лавки растерялся. Потом хмыкнул и с непонятным ехидством произнёс:
— Вот как? Но ведь полчаса назад тебя тут не было, откуда тебе знать, кто приценивался к моей глине? Или ты видел всё собственными глазами?
Вокруг рассмеялись.
— Не обязательно быть зрячим, чтобы видеть истину, — спокойно сказал дервиш. — И не обязательно она открывается лишь тому, кто имеет глаза.
Я внимательно всмотрелся в его коричневое лицо. И вдруг понял, что дервиш слеп.
Некоторое время я размышлял, потом, отчего-то смутившись, спросил:
— Ты можешь дать нам приметы грабителя, паломник?
Приметы оказались весьма дельными. Мои слуги кликнули квартальных, те выслушали приказание и умчались выполнять его. Я почти не сомневался, что преступник вскоре будет схвачен.
— Мой господин, — плаксиво заговорил торговец. — Если вора поймают, мне отдадут мои деньги?
— Деньги пойдут в городскую казну, — равнодушно отозвался я. — А тебе, нечестивец, ещё и всыплют сорок ударов по пяткам за то, что ты поднял руку на дервиша.
...Он плакал и что-то кричал мне вслед, вырываясь из рук стражников, которые волокли его к месту наказания — деревянному помосту в центре рыночной площади. Я уже потерял интерес к этому. Повернувшись к дервишу и по-прежнему всматриваясь в его лицо, я спросил:
— Как зовут тебя, почтенный джихан[4]? И откуда ты родом?
Он оказался выходцем из Афганистана, из провинции Джали, что расположена на самом юге, — неудивительно, что цветом лица он напоминал лакированный глиняный кувшин. О своей родине он говорил неохотно — не потому, что не испытывал к ней особого почтения, а потому, что, похоже, мало о ней помнил. Родители его сгинули в одной из многочисленных войн мусульманских сект, когда ему было чуть больше двенадцати, и он нанялся в торговый караван погонщиком мулов. Караван на горной тропе накрыло снежной пургой — такой свирепой, что ничего не было видно в двух шагах. Поэтому никто даже не заметил, как парнишка провалился в трещину.
Его ждала неминуемая и ужасная смерть: он висел между небом и преисподней, зажатый в жёстких ледовых когтях, и уже не чувствовал боли. Сознание меркло, и даже прочесть последнюю молитву сил не оставалось. Как вдруг в ледяную усыпальницу вторглись голоса — они были радостны и слегка испуганы.
— Клянусь Аллахом, мальчишка-то, кажется, жив, — сказал кто-то.
— Не может быть, — возразили ему.
— Нет, нет, сердце бьётся...
— А ну, носилки сюда!
С того дня (или ночи?) его глаза перестали видеть свет. Он мог лишь различать голоса, и чаще других рядом с его ложем звучал сильный глубокий баритон, принадлежавший человеку, который вытащил его изо льда. Мальчик никогда не видел его, но почему-то точно знал, что тот был чернобород, худощав и высок, что звали его Счастливчик Кахбун и был он предводителем шайки разбойников, грабивших купеческие караваны на горных тропах.
Ещё он знал (хоть и не понимал откуда), что недавно Кахбун увидел свою сороковую зиму и что у него не было ни жены, ни детей: несколько лет назад в одной из стычек чужой кончар[5] располосовал ему оба бедра и начисто снёс мужское достоинство. После подобной раны не выживают, но Кахбун выжил, отлежался в какой-то норе и выкарабкался на свет. Никто в целом мире не догадывался о его беде (враг, доставший его мечом, давно пребывал на небесах). Знал лишь он, мальчик, которого Счастливчик вытащил из ледовой трещины.
— Значит, отняв у тебя глаза, Аллах наградил тебя умением видеть прошлое и будущее? — спросил я, затаив дыхание.
— Можно ли это назвать наградой, мой господин? — печально улыбнулся дервиш. — Скорее Всемилостивый Аллах наказал меня за мои грехи.
Я удивился.
— Разве это не прекрасно — знать будущее? Ты можешь избежать многих ошибок на своём пути...
Он покачал головой.
— Ошибки можно лишь предвидеть, мой господин. А вот избежать... — Он помолчал, поглаживая окладистую бороду. — Кахбун неплохо заботился обо мне. Наверное, он всегда мечтал о сыне, которого не мог иметь. Помню, как мы расположились в одном горном селении — тамошним жителям было щедро заплачено за наш постой. Рано утром (я едва успел проснуться) Кахбун пришёл ко мне весёлый и оживлённый сильнее обычного. На его поясе позвякивала дорогая сабля, украшенная самоцветами, и его конь уже стоял во дворе под седлом. «Ты уезжаешь?» — спросил я. «Уезжаю, — ответил он, — и через два дня я вернусь с подарком для тебя. Мы идём на вылазку: верные люди сообщили, что очень богатый купец везёт через перевал дары иранскому шаху. Говорят, тот купец родом из страны русов. Эта страна лежит далеко на севере, и вся покрыта непроходимыми дремучими лесами. И ещё там водятся медведи». «Медведи?» — переспросил я. Кахбун смутился: «Ну, это такие крылатые чудовища с рогами на голове, покрытые зелёной чешуёй». — «Нет, — возразил я. — Медведи коричневые, мохнатые и любят мёд диких пчёл». — «Откуда ты знаешь?» Я пожал плечами и вдруг горячо сказал: «Не уезжай!» — «Почему?» — удивился он. «Не знаю. Я чувствую: будет беда».
Кахбун рассмеялся и взлохматил мои волосы. «Не беспокойся. Меня недаром зовут Счастливчиком — а иначе я не нашёл бы тебя во льду. В этот раз мне тоже повезёт, и, как знать, возможно, я даже привезу тебе живого медведя, и мы проверим, что на нём растёт: чешуя или шерсть». Потом он вскочил на коня и умчался. А за ним — все его люди. Они очень торопились: им совсем не хотелось упускать богатую добычу...
Дервиш замолчал, перебирая чуткими пальцами ткань плаща. На ней было столько заплат, что, казалось, если сложить их вместе, хватило бы на довольно просторный шатёр. Он не притронулся к халве и шербету, что украшали собой столик в моей беседке посреди сада, лишь выпил пиалу золотистого чая. И всё время смотрел куда-то мимо меня, туда, где в предзакатных лучах стремился к небесам минарет, похожий на острие копья... Да нет, остановил я себя. Он же слепой, куда он может смотреть.
— Я смотрел им вслед, — тихо продолжал он. — Мои глаза видели лишь темноту, как и сейчас, но — будто сам Всевышний что-то нашёптывал мне на ухо. И я уже точно знал, что Кахбун не вернётся. Что его «верные люди», сообщившие о караване, на самом деле подкуплены, и вместо богатой добычи разбойников на перевале ждёт засада. Я точно знал, что все они умрут, только Кахбуна Счастливчика схватят живым. Его посадят в железную клетку и привезут в столицу, и палач на городской площади отрежет ему уши и вырвет ноздри. А потом его, ревущего от боли и ярости, разорвут четвёркой лошадей — клянусь, я видел это так ясно, словно сам стоял на той площади среди толпы. Весь город собрался там, забыв о самых неотложных делах: ещё бы, такое событие...
Дервиш вновь замолчал, а я, не выдержав, спросил:
— Ты всё знал заранее... Клянусь бородой пророка, Кахбун спас тебе жизнь, а ты... Ты не предупредил его?
— Я не мог. Наверное, всемогущий Аллах, дав мне возможность видеть то, что скрыто от других, наложил печать на мои уста. Я не могу предсказать судьбу того, с кем говорю.
— Значит, и мою судьбу тоже...
— Увы, мой господин, — сказал он, и я понял, что ни угрозы, ни посулы здесь не помогут.
— Но что мне мешает приказать кому-нибудь расспросить тебя обо мне, а затем...
Дервиш покачал головой.
— Нет. Этот человек переиначит мои слова или поймёт их не так, как следует. Находились люди, которые пробовали...
Я едва не ударил себя по лбу от бессилия. Только сейчас я осознал в полной мере, как хочется мне проникнуть в собственное будущее, прикоснуться к нему хотя бы кончиками пальцев, приподнять, хоть чуть-чуть, завесу тумана... Я ничего не пожалел бы ради этого.
Я обошёл столик кругом и опустился перед дервишем на колени. Да, да, я, Рашид Фазаллах ибн Али Хейр ад-Эддин, визирь при дворе эмира Абу-Саида, подполз к ногам простого паломника в оборванном плаще и поцеловал его стопу, покрытую дорожной пылью. И прошептал в экстазе:
— Научи меня видеть будущее, дервиш. Клянусь, ты будешь жить во дворце, лучшие кушанья украсят твой стол, лучшие женщины станут ласкать тебя, а музыканты ублажать твой слух. Я отдам тебе всё, что пожелаешь. Хочешь, я убью собственных родителей, чтобы стать сиротой, как ты? Или выколю себе глаза? Или пущусь странствовать? Только скажи!!!
Он улыбнулся — ласково и снисходительно, как мать улыбается любимому, но капризному ребёнку.
— Ты хочешь поменяться со мной местами, благородный господин? Со мной, бедным слепым странником, всё имущество которого — это плащ, кяшкуль[6], пыль дорог и небо над головой?
— Да, — сказал я чистую правду.
— Но это невозможно. Только Всевышний определяет место человека на земле. И я не в состоянии предсказать твою судьбу. Или — научить тебя этому. Даже если бы захотел.
Я вдруг почувствовал гнев. Гнев переполнил меня и выплеснулся наружу, как гной из созревшего нарыва. Я вскочил на ноги и заорал:
— Ты отказываешься? Ты издеваешься надо мной, плешивая собака? А ты знаешь, что стоит мне пошевелить пальцем, и тебя подвергнут таким страшным пыткам, что ты расскажешь всё, всё, всё!!! И не жди быстрой лёгкой смерти, как твой разбойник-спаситель! Тебя бросят в темницу, и ты сгниёшь заживо! Ты сдохнешь!!! Эй, стража!
Он не сопротивлялся, когда его уводили. Лицо его было спокойно и печально, но он жалел не себя — меня!
Великий Аллах, он жалел меня, катавшегося в припадке по персидскому ковру, что устилал пол моей беседки, он жалел меня, когда моё корчившееся тело подхватили слуги и унесли в спальню, под присмотр шестерых моих жён и лекаря. Я прогнал их всех, даже мою любимую младшую жену Тхай-Кюль, что так сладостно ласкала меня долгими жаркими ночами, я поклялся себе, что завтра же собственноручно казню их: ярость била во мне ключом, требуя выхода. Я умер бы, если бы не обагрил кровью мой меч — всё равно чьей...
Потом я множество раз приходил к дервишу. Он сидел в тёмном каменном мешке на куче гнилой соломы, всегда в одной и той же позе, не обращая внимания на копошившихся вокруг крыс. Крысы не трогали его. Его не трогали даже злые клещи, загрызавшие иных узником насмерть, и совсем не мучил голод. В конце концов я всё же велел принести ему еды, рассчитывая, что он с жадностью набросится на неё... Однако еда его не интересовала. И он ни разу не заговорил со мной, хотя я грозился, кричал, увещевал, плакал — и снова грозился.
Великий Аллах, с каким удовольствием я всадил бы ему в живот свой меч! С каким наслаждением я подвесил бы его на дыбу и развёл под ней огонь, чтобы поджарить ему пятки! Обливаясь слезами умиления, я бы сам, не доверяя никому, загонял ему под ногти бамбуковые иголки...
Но я не мог. Я всё ещё надеялся на чудо.
Однажды я пришёл к нему в темницу. Стражник на входе отворил мне дверь и с лязгом захлопнул её за мной, оставшись снаружи. Узник сидел, прислонившись спиной к холодной стене. Он не отреагировал на моё появление и не ответил, когда я заговорил, — впрочем, он делал так всегда, и я не удивился. Однако почему-то мне казалось, что именно сегодня он приоткроет мне свою тайну... И я говорил, говорил — наверное, сам Цицерон позавидовал бы моему красноречию. Мне даже почудилось, будто старик кивнул, когда я пообещал ему должность главного визиря во дворце Абу-Саида и Золотой Знак — я не собирался его обманывать, я действительно сделал бы для него это. Я вообще сделал бы всё, что бы он ни потребовал. Но он молчал. Он просто разочаровался во мне, как учитель машет рукой на совершенно бестолкового ученика. И это было стократ оскорбительнее.
Так и не дождавшись ответа, я вскочил и тронул его за плечо.
Оно было прохладным, сухим и очень тонким — впечатление такое, словно я нечаянно смял в руке крыло стрекозы. И — оно было мёртвым.
Не помню, сколько времени я просидел на соломе рядом с ним. Не помню, о чём я думал — вероятно, о том, что даже не знаю, когда дервиш умер. Он был точно так же неподвижен и равнодушен и вчера, и позавчера, и три дня назад — а я всё приходил сюда, в этот неприветливый каменный мешок, и говорил, говорил, говорил... Должно быть, он вдоволь повеселился, наблюдая за мною с небес...
Я стукнул в дверь темницы. Возник стражник, поклонился и замер. Я указал на узника и сказал ледяным голосом:
— Доставить сюда муллу. Устроить отпевание и похоронить с почестями.
Непонятно, кого я имел в виду: мёртвого дервиша или мёртвого себя самого.
Моё положение во дворце с того дня заметно пошатнулось. Всё реже Светлейший испрашивал моего совета, всё реже приглашал в тронный зал на официальные церемонии, и придворные, из тех, кто был ниже меня рангом, кланялись уже не с боязливым почтением, а с плохо скрытой насмешкой. Однако мне было всё равно. Я умер.
Дервиш пришёл ко мне глубокой ночью, когда я без сна ворочался на шёлковом покрывале, зарываясь лицом в подушку, набитую легчайшим лебединым пером. Я был один в тот момент — прошло больше месяца со дня его кончины, и столько же дней порога моих покоев не переступала женщина. Я не мог никого видеть.
Почему-то мы опять сидели в моей летней беседке, и был вечер: огромное красное солнце медленно опускалось за крыши домов и причудливо раскрашивало вытянутый к небесам минарет. Дервиш выглядел так же, как в нашу первую встречу. Плащ из грубой козьей шерсти был покрыт заплатами и перехвачен верёвкой, и с островерхого колпака свисала чистая белая ленточка. Он получил её в Мекке.
— Ты ведь знал, что тебя ждёт смерть, — глухо сказал я. — Почему ты ничего не предпринял?
— Я уже говорил тебе, мой господин, — мягко отозвался он. — Судьбу невозможно изменить. Ты действительно — я это чувствовал — готов был на все: убить собственных родителей, лишиться глаз, уйти из дворца и странствовать... Вместо этого ты предпочёл избавиться от меня — что ж, это было для тебя лучшим выходом.
Он снова замолчал. Что-то заставило меня повнимательнее всмотреться в его лицо — там, в моём сне, оно казалось помолодевшим: исчезли мелкие морщины вокруг глаз, и седые волосы из бороды, и...
И он видел.
Его глаза были живыми. Я вдруг вспомнил, что он лишился зрения в тринадцать лет — наверное, он и забыл, что это значит: видеть мир по-настоящему. Что ж, ничего удивительного: мёртвые многое могут себе позволить. Даже прозреть.
— Скажи что-нибудь, — взмолился я. — Ты ведь пришёл не просто так.
— Что ты хотел бы услышать? — мягко улыбнулся дервиш. — Сколько ты ещё проживёшь? Станешь ли главным визирем? Сколько у тебя родится сыновей или сколько золота будет в твоей сокровищнице?
— Нет, — хмуро ответил я.
Дервиш вздохнул.
— Да, это было бы слишком просто. Однако кое-что тебе всё же нужно знать. Если ты всмотришься в солнечный диск, то увидишь внутри него языки пламени (я послушно вгляделся и невольно вздрогнул: пламя было зловещее, похожее формой на извивающегося дракона). Это знак того, что в скором времени вас ждёт война. Большая война. Придёт человек, который перевернёт всю твою жизнь, к жизни ещё многих. Имя этого человека — Тимур.
— Тимур? — Я удивился и усмехнулся, ибо знал, о ком идёт речь. — Этот выскочка без роду, без племени, сын какого-то деревенского бая, выросший среди бахчи? Ты смеёшься надо мной, дервиш.
— Придёт время, — невозмутимо сказал он, — и повсюду, от Великого моря до берегов Каспия, запылает огонь. И имя Тимура будут произносить с тем же суеверным ужасом, с каким два века назад произносили имя Темучина. Но появится и другой, с которым судьба сведёт тебя через много лет. Он ещё не родился, и родится ещё не скоро, под иными звёздами, в совершенно другом мире, непохожем на наш. Этот человек должен помочь двум царям овладеть Копьём Давида (каким ещё копьём? — хотел спросить я, но промолчал) и объединить племена Кавказа в борьбе против монголов. Чем закончится эта борьба — мне не дано знать. Видимо, и мои возможности имеют предел. Но ты... — Дервиш в задумчивости пожевал губами. — Ты вспомнишь мои слова. Время наступит, и ты вспомнишь...
— Подожди, — закричал я. — Ты не сказал, что я должен буду сделать! Как мне быть дальше? Не уходи, дервиш! Не уходи!!!
— Ты кричал, мой господин, — прошептала Тхай-Кюль, низко наклоняясь надо мной. — Прости, что осмелилась войти к тебе без зова, но ты так кричал...
Крошечный язычок пламени, похожий на мотылька, подрагивал в масляном светильнике в изголовье моей постели. Я открыл глаза. Тхай-Кюль сидела подле меня, коленопреклонённая, роскошные чёрные волосы шёлковым занавесом ниспадали на маленькую грудь с твёрдыми сосками, рыжие огоньки плясали в зрачках, тончайший, легчайший запах индийских благовоний щекотал ноздри...
Она осторожно, едва сдерживая себя, касалась моего тела — тогда ещё молодого, сильного, способного желать...
— Хочешь, чтобы я ушла, мой господин?
— Нет, останься, — сказал я и властно прижал её к себе — она тут же отозвалась на ласку, прильнула ко мне и обмякла, распятая у меня на груди, как на кресте. — Скажи, ты никого не видела выходящим из моих покоев?
— Нет, — слегка удивлённо отозвалась она. — Может быть, следует спросить стражу?
— Не стоит, — сказал я, подумав, и бессвязно добавил: — Если уж ему послушно время, то и любые двери для него не препятствие.
— О чём ты говоришь, мой господин?
— Ни о чём, глупая. Не слушай меня. Лучше иди сюда...
Я ушёл из города рано утром, когда всё ещё спали, и моя Тхай-Кюль спала, свернувшись калачиком, и сладко улыбалась чему-то, положив ладонь под щёку, — она всегда спала так, моя младшая любимая жена, даже если подушка была мягче мягкого... Только стража лениво перекликалась на стенах.
Никто не знал, куда лежит мой путь, да я и сам не догадывался об этом. Я взял лишь самое необходимое: кое-что из еды и одежды и немного денег — так, чтобы хватило на первое время. Я вёл своего коня в поводу. Он шёл за мной безропотно, но глаза его были печальны: наверное, он понимал, что мы уходим из города навсегда. Сзади мелко семенил белый ослик, гружённый невеликой поклажей.
Говорят, белый ослик приносит удачу...
Глава 4 МЕЖДУ-МИР
«Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, я, смиренный слуга Его, собиратель мудрости, летописец Рашид Фазаллах ибн Али Хейр ад-Эддин, посвящаю главу своего повествования безвременной кончине царевича Баттхара Нади, сына царя Исавара — мудрого и справедливого правителя великого народа, название которому звучит как аланы, а турки и иранцы называют его сарматами или ариями.
Донесло до меня весть о том, что в лето 778 года Барана царь Грузии Гюрли решил заручиться дружбой царя Исавара, дабы, объединив усилия, вместе воспрепятствовать монгольскому нашествию на свои земли. Свою дружбу, чтобы продолжалась она во веки веков, они решили скрепить, устроив свадьбу своих детей: Баттхара Нади, сына Исавара, и Зенджи, младшей дочери Гюрли, царя Грузии.
В месяц Шабан[7] 778 года Исавар отправил своего сына, а вместе с ним большой отряд воинов, чтобы те охраняли его в пути, и караван с дарами в город Тебриз, где ждали его царь Гюрли и младшая его дочь, что готова была стать невестой.
Однако Всевышнему стало угодно, чтобы хан монголов Тохтамыш и его преданные эмиры вместе с многочисленным войском окружили караван на берегу полноводной реки Алазани и сказали: „Отдайте нам дары и выдайте своего царевича, и останетесь живы". Но воины Исавара, напитав сердца храбростью, ответили тем, что вынули сабли из ножен и пустили коней в галоп. И бились с врагом, и полегли на поле битвы все до единого, не попросив пощады. Царевич же Баттхар сражался в первых рядах, поражая своей доблестью, но конь его пал, а сабля сломалась, и его, связанного, доставили в шатёр Тохтамыша, что расположен был в долине Памбек, близ разрушенной столицы народа лазов.
Зная, что перед ним знатный пленник, Тохтамыш поселил его в богатой юрте, устланной коврами, и приставил слуг.
— Земли, которые я завоевал, велики, — сказал он сыну Исавара, — но чтобы удержать проживающие том народы в повиновении, мне нужен послушный наместник. Согласись править от моего имени и исполнять мои приказы — будешь жить в довольстве и ни один волос не упадёт с твоей головы. Если же ты откажешься — испытаешь на себе силу моего гнева.
Однако, видя, что его посулы не достигли сердца аланского царевича, хан разгневался и приказал бросить строптивого пленника в яму, забранную решёткой, и избивать палками, придавая гибкость его сердцу.
Месяц на небосклоне увеличился и снова изогнулся серпом, а царевич Баттхар, проявляя непреклонность, несмотря на побои, пел песни, прославляющие свой народ и царя Исавара, и встречал смехом своих палачей. Вскоре он отказался от пищи и скончался от ран и голода в осень 778 года...»
Листы древней бумаги были ломкие, тёмно-жёлтого, почти коричневого цвета, но — странное дело — казались Антону ближе и понятнее, чем документы почившего в Бозе немецкого альпиниста, хотя те были моложе лет на шестьсот.
Динара подошла, тихонько взглянула через плечо и удивлённо спросила:
— Ты читаешь по-арабски?
— Я читаю только по-русски, да и то со словарём, — ответил Антон. — Ты будешь смеяться, но я откуда-то знаю, что здесь написано. Хотя и не знаю, откуда. Исчерпывающее объяснение, да?
Она присела рядом, по давней привычке сцепив руки на коленях.
— Почему не выходим? — спросил он.
— Светка пятки натёрла.
— Казик, что ты молчишь? — Светкин голос, доносившийся из палатки, был испуган и плаксив.
— Что тебе сказать, дорогая? Мужайся, утешить тебя нечем. Ногу придётся ампутировать.
— Что?!
— Гм... Думаю, придётся резать чуть выше колена. Сантиметров на двадцать. Чтобы гангренозный процесс не затронул мягкие ткани.
Послышался судорожный всхлип.
— А может, подорожник приложить?
— Радость моя, где ты в этих местах видела подорожник? Нет, только ампутация. Паша, тащи всё, что полагается: кипяток, нож, спирт... Спирта побольше. И не забудь закуску!
— Трепло, — фыркнул Антон. — Дина, что ты знаешь о Тимуре?
— В контексте Аркадия Гайдара?
— В контексте хромого завоевателя.
Она задумалась.
— В общем, не так много... В четырнадцатом веке он подчинил себе все народы Кавказа. Одних вождей подкупил, других столкнул лбами, третьих уничтожил — короче, разделял и властвовал. Грозная была личность, почти мистическая. Шестьдесят лет назад профессор Герасимов раскопал его могилу в Узбекистане. Тамошнее духовенство было очень недовольно, поползли слухи о древнем проклятии Тимура тем, кто потревожит его прах... Однако Герасимову было не до мистики (а попробовал бы он в те времена думать по-другому). Он взял череп Тимура и привёз в Москву для исследования. Тем самым якобы распространив проклятие на всю страну.
— И что? — заворожённо спросил Антон.
— Ничего. Он выступил с докладом на Всесоюзной конференции, продемонстрировал выкопанные кости... А через два дня началась война. — Она улыбнулась, но как-то вымученно. — Вот и не верь потом во всякое. А почему тебя это заинтересовало?
— Да так, — пробормотал он.
«Ты должен выполнить предначертанное...»
Опять в памяти возник образ юной аланки: Антон уже отвык от мысли, что девушка ему лишь почудилась. Образ был слишком реальным — реальнее, чем окружающие горы и Светкины стоны внутри палатки (то ли красавец Казбек действительно решил отрезать ей ноги, то ли — что более вероятно...).
Они выбились из графика — тронулись в путь позже, чем рассчитывали. Облака, до того выглядевшие лёгкими и пушистыми, как кусочки ваты, неожиданно перестали быть облаками и превратились в тучи: они резко потемнели, набухли и потяжелели. И Казбек, шедший впереди, время от времени чертыхался и бубнил что-то под нос, глядя на небо.
— Что такое? — спросил Антон, догнав его на склоне.
Склон был — загляденье: не слишком крутой, покрытый плотно слежавшимся снегом, он напоминал собой ледовую арену в «Лужниках» (которую, впрочем, мэр Москвы отдал в аренду вещевому рынку).
— Не нравится мне тут, — сказал Казбек, сдвинув на лоб влажные очки. — Удрать бы скорее отсюда, да Светка, чёрт бы её побрал... Придётся устроить днёвку, как только найдём подходящее место.
Что именно не нравилось Казбеку, Антон не понял. Скалы как скалы, вполне приличная каменная гряда впереди (расстояние на глаз не определишь: может, пять километров, а может, все двадцать), твёрдый снежный наст под ногами...
— Твёрдый? — хмыкнул Казбек. — Ну-ка, воткни в него ледоруб. Сильнее, с размаха!
Антон послушно ударил остриём, как посохом. Потом ещё, и едва удержался на ногах: ледоруб, проткнув верхнюю корочку, ушёл в снег легко, как нож в подтаявшее масло.
— Чёрт ... — вылетело у него.
— То-то. — Казбек вытянул руку, указав на восточный склон.
Мрачноватая громада ледового языка заполняла пространство между двумя плоскими вершинами.
Снизу она была подточена талой водой, а верх нависал гигантским карнизом, обрамленный красновато-чёрными скальными зубьями. Отсюда хорошо просматривался обрыв, местами гладкий, местами разбитый трещинами... До него было сравнительно далеко, но он казался совсем близким — таким, что становилось неуютно.
— Всю прошлую неделю было тепло, — пояснил Казбек, — а ночью подморозило. Сверху на льду образовалась корка, а под ней — сам видел...
— Видел, — подтвердил Антон. — Ты прав: задерживаться здесь не стоит.
— Казик, скоро привал? — подала голос Светочка.
— Скоро, радость моя. Только уйдём с открытого места.
Пугать её невидимой, но грозной опасностью не стоило — неизвестно было, как она прореагирует: пустится вперёд быстрее лани или, наоборот, впадёт в устойчивый ступор.
— И поесть не мешало бы...
— Я сказал: скоро, — рявкнул Казбек и заорал на манер дубоватого корабельного боцмана: — А ну шевели задницами, дохлые клячи!!!
Призыв возымел действие: «дохлые клячи», издав тяжкий стон, нестройно, но затопали резвее.
А потом, поднявшись ещё на полсотни метров, они попали в облако. Точнее, в то, что в среде альпинистов называют «белой мглой» — эффект, возникающий при ярком, но рассеянном освещении. Антон и Паша Климкин впервые видели подобное. Впрочем, Динара тоже, несмотря на её немалый горный опыт. Это было красиво и запоминалось навсегда: мягкий свет, казавшийся почти божественным, пронзал невесомое облачко насквозь. Желтоватая, розовая и голубая акварель перемешалась, словно на полотнах Клода Моне (Динка, большая поклонница живописи, затащила её как-то в картинную галерею), и окружающие предметы вдруг волшебным образом потеряли тени и геометрические размеры. Будто неведомый горный дух Лха решил подшутить над людьми и на некоторое время упразднил закон перспективы. Ощущение было абсолютно нереальное, лишь заскорузлый Казбек, привыкший к подобным выходкам природы, хмуро произнёс:
— Идите осторожнее. И не дай бог кому забежать вперёд.
Помолчал и добавил:
— Прошлой зимой мы с одним приятелем чуть не навернулись со склона. Стояли на чистом снегу лицом к долине, вдруг я смотрю — под ногами спичечный коробок. Я приятелю говорю: не ты, мол, уронил? Ты же вроде не куришь. Он не поймёт, в чём дело. Я шагнул к коробку, чтобы поднять, — и полетел вниз. Хорошо, у приятеля реакция была что надо: успел вцепиться в верёвку и удержать. Потом оказалось, что никакого коробка не было: был трактор внизу, в долине. А мы стояли у самого обрыва и не догадывались об этом, два лопуха... Кстати, о лопухах. — Он встрепенулся. — Где Светка?
Все оглянулись вокруг. Светки не было.
— Антоха. — Казбек аж позеленел от волнения. — Ты шёл последним?
Тот виновато кивнул. Он действительно шёл замыкающим (появилась в последнее время такая привычка), только мысли вновь и вновь возвращались туда, к речке с именем Чалалат, где он оставил девушку в меховом плаще...
— Я сейчас, — сказал он, нехотя поворачивая назад.
Спускаться было трудно — пожалуй, труднее, чем подниматься. Мгла, до того момента вызывавшая душевный восторг своей необычностью, сейчас лишь раздражала. Камни сыпались из-под ног, лёд казался непрочным (каковым и был на самом деле), а рюкзак — чересчур тяжёлым. (Сокровища, шептал кто-то на ухо. Сокровища, погубившие на своём пути не одну человеческую душу. Скоро они придут и за тобой. Скоро, скоро...) Он стремительно оглянулся: почудилось, будто закутанная в облако, как в саван, фигура стоит за спиной — со «шмайссером» на шейных позвонках и с ледорубом в высохших птичьих лапках...
— Изыди, — негромко сказал Антон. Призрак ласково улыбнулся, как старому знакомому. — А Светку я всё-таки придушу, и, думаю, Господь меня поймёт и простит.
Сзади послышался шорох: Динара быстро спускалась следом.
— Один справлюсь, — буркнул Антон.
— Ладно тебе, — примиряюще сказала она. — Вдвоём легче. Хорошо, если Светка просто отстала. А вдруг ногу подвернула?
Светка сидела на камне.
Камень, могучий, тёмно-серый и приземистый, словно воинственный гном в тяжёлой кольчуге, намертво врос в лёд, и Светка сидела на нём, сняв ботинки и сосредоточенно разглядывая собственные пятки, заклеенные кусочками пластыря. Для этого ей приходилось старательно изгибаться сразу в двух направлениях: сверху вниз и вокруг своей оси. Её распущенные волосы свободно ниспадали на плечи и грудь, и оттого она напоминала некий современный вариант васнецовской «Алёнушки».
— Что, совсем плохо дело? — сочувственно спросила Динара.
«Алёнушка» трагически кивнула.
— До привала совсем немного. Казбек с Пашей уже и примус разогревают. Дойдёшь?
— Ох, не знаю...
— Надо дойти, — негромко сказал Антон. — На леднике лучше не оставаться. Как же тебя угораздило?
«Алёнушка» сердито посмотрела на собственные ботинки, так вероломно предавшие хозяйку. Ботинки были знатные: бежевого цвета, с изогнутой синей линией-молнией и надписью «Alphina» на заднике. Баксов сто пятьдесят, не меньше, с завистью подумал Антон, покупавший себе обувь для походов только в демократическом магазине «Турист».
— Они мне чуточку жали, — пожаловалась Светка. — А нужного размера на прилавке не было... Точнее, был, но другой расцветки.
Динара тактично промолчала. (А что тут скажешь?)
— Ох, дурочка, — вздохнул Антон. — Быстро обувайся — и пулей вверх. Рюкзак оставь, я донесу.
Кое-как Светка зашнуровалась и, охая и держась за подружку, побрела вверх по склону. Антон посмотрел им вслед — с печальной умудрённостью Штирлица, отправившего пастора Шлага в лыжный поход через швейцарскую границу.
Лямка у Светкиного рюкзака отстегнулась, как только он поднял его с земли. Антона это нисколько не удивило: Сурская красавица вполне заслуживала переходящее звание Мисс Неприятность. С извечным мужским цинизмом он подумал: вот кабы к Светкиной внешности, да Динкин характер... Впрочем, Дина и без того повадилась слишком часто посещать его мысли. Она, да ещё девушка-аланка в плаще с серебряной застёжкой...
Он поздно услышал крик. Динара со Светкой уже отошли на порядочное расстояние и превратились в две чёрные точки у кромки ледника.
— Антон!!! — вопили они обе, бешено махая руками.
Ну что там ещё, сердито подумал он. Светочка губную помаду потеряла?
Он выпрямился и махнул им в ответ: сейчас, мол, догоню. И услышал хлопок.
Хлопок был совсем нестрашным и несильным: будто открыли бутылку шампанского, но не рядом, а где-то в соседней комнате. Или — в доме через улицу. Антон перевёл взгляд вправо: там, над ближайшей к нему вершиной, появилось белое облачко, похожее на струйку дыма от сигареты. Облачко чуть приподнялось и остановилось в задумчивости: должно быть, размышляло, куда податься путешествовать. А может быть, оно поджидало, когда прилетит лёгкий ветерок: уж он-то наверняка подскажет дорогу...
А потом весь восточный склон горы вдруг поехал вниз. Сначала медленно, потом — всё быстрее, и наконец он помчался со скоростью поезда-экспресса, толкая перед собой шапку ослепительно белой воздушной пены. Как красиво, подумалось некстати. «Грохот лавины» — знакомый и избитый книжный штамп, кто его придумал, чёрт возьми?
Она спускалась бесшумно и величественно — величественнее, чем в былые времена Генеральный секретарь и четырежды Герой восходил на трибуну съезда. Снег — огромная стена из снега, гигантская стена, окружённая искрящимся инеем, почти не издавала звуков, лишь тихий шелест, с каким осенний ветерок перегоняет с места на место опавшие листья. Или лепечет телевизор за стенкой, боясь разбудить кого-нибудь.
— Антон, беги! — надрывался где-то, на пределе слышимости, истошный крик. — Антошенька, милый, беги-и-и!!!
«Беги, Саймон, беги» — был вроде бы фильм с таким названием... Саймон, кажется, так никуда и не убежал.
Почему-то до слёз было жалко древнюю рукопись, что покоилась на дне рюкзака. Наверное, Рашид ад-Эддин очень расстроился бы, узнав, что его труд, пролежав в сундуке шесть веков, снова уйдёт в небытие, так и не увидев света.
Рюкзак больно давил лямками на плечи. Сокровища, мать их... Прав был старина Стивенсон: никому они ещё не приносили ничего хорошего. Не погибнешь в схватке с пиратами (туземцами, каннибалами, инопланетянами) — значит, свои же друзья воткнут перо в бок, чтобы делить сумму на меньшее число пайщиков. Или нагруженный доверху корабль раздавит о рифы, или...
Или — сойдёт лавина.
Сначала она была высотой с трёхэтажный дом. Потом — с «каланчу» улучшенной планировки, что торчала напротив общежития факультета журналистики. Потом она заслонила небо, горы, весь мир — и тогда наконец-то раздался грохот. Будто захохотал чудовищный ледовый тролль, сожравший человека. Воздушная волна с силой ударила в лицо, оторвала от земли, закружила, словно малую соринку, — Антон сжался в комок, ожидая боли. Но боли не ощущалось. Лишь секундная вспышка белого, нестерпимого сияния, заставила зажмуриться, и наступил покой...
Покой ему понравился. Покой — и ощущение чего-то... да почти счастья. Не нужно было вскакивать ни свет ни заря, вылезать из спальника и стучать зубами от холода (ночи в горах были по-прежнему студёные), не нужно было, обдирая ногти, цепляться за крошечные трещины в камнях, никто не обязывал выслушивать Светкины стенания по поводу отсутствия на перевале автомата с кока-колой...
Под снегом было на удивление тепло и уютно, словно в детстве под пуховым одеялом, по которому были вышиты смешные вислоухие собачки, по странной прихоти художника, красного или зелёного цвета — через одну. Из-за этого одеяла ему когда-то очень нравилось болеть — не так, конечно, чтобы лежать в больнице, сносить уколы и капельницы (хотя однажды и такое случилось), а чтобы просто не пойти утром в школу и целый день валяться на диване, разглядывая картинки в книжке Медведева «Баранкин, будь человеком!». А после обеда можно было позвонить Наташе Кулагиной и узнать, что задали на дом. Дело было, конечно, не в задании: он сроду не относился к урокам с излишним трепетом. Дело было в самой Наташе: в её голосе, который он готов был слушать с утра до вечера, её милых и непокорных русых кудряшках, её ясных карих глазах и золотистых веснушках вокруг вздёрнутого носика — последних она отчего-то стеснялась. «Может, мне их совсем вывести? — однажды смущено спросила она. — Говорят, сейчас это запросто»... «Глупая, — искренне испугался он. — В них вся твоя красота!» — «Правда? — Она подумала и осторожно сказала: — А вот у Янки Соловьёвой веснушек вовсе нет». — «При чём здесь Янка?» — «Ну... Ты вчера помог ей перепрыгнуть через лужу...» — «Господи! А то бы она сама через эту лужу, да на своих коротеньких ножках...» — «А она сказала „Спасибо". И так на тебя посмотрела...»
О женщины! Нет, она должна была меня ранцем по башке звездануть.
А потом наступил бы вечер, и сделалось бы немножко тоскливо. Но тоска, если она ненадолго, — это ничего, это не страшно. Тем более если точно знаешь, что скоро придёт с работы мама, щекочуще поцелует тебя в кончик носа и спросит: «Ну как ты тут без меня, малыш?» А потом будет вкусный ужин, и почти настоящая берлога из одеяла со смешными собачками. И сказка на ночь, каждый раз рассказываемая по-разному, с придуманным на ходу сюжетом...
Видения, пришедшие из далёкого далёка, из мира детства, были так отчётливы и приятны, что Антон почти расстроился, когда в его сознание вторгся посторонний шорох.
Он делался всё громче и торопливее — словно кто-то настойчиво скрёбся в дверь. Потом в уютную и тёплую берлогу проникли холодный воздух и свет.
Свет был совсем неяркий: похоже, там, наверху, наступили сумерки. Однако Антон, привыкший к полной темноте, невольно зажмурился.
— Жив, — с истовым облегчением произнёс кто-то. — Копайте скорее, пока он не замёрз!
Сразу пять или шесть заступов стукнули в спрессованный снег. Прошла пара минут — и Антона подхватили на руки (он не чувствовал прикосновений: тело застыло, будто само было сделано изо льда и не гнулось). Сознание опять померкло, окружающий мир поплыл, и звёзды над головой превратились в тускло-белые полосы на тёмном небосклоне. Откуда тут звёзды, удивился Антон про себя. Разве ночь?
И — всё пропало.
Он пришёл в себя от нового запаха — в носу щекотало, он чихнул и попробовал открыть глаза. Вокруг по-прежнему была темнота, но темнота иная: красновато-жёлтая, потрескивающая и пахнущая жареным мясом. Преисподняя, обречённо подумал он. Значит, не врут о загробной жизни. Сейчас прибудет дежурная бригада чертей, меня сочувственно похлопают по плечу (не переживай, мол, старик: кто его знает, что там, в раю — небось скука смертная) и поволокут к котлам, где булькает сера...
Потом он уловил невнятный разговор возле себя и спросил первое, что пришло в голову:
— Вы случайно не спасатели?
Какой-то человек с короткой чёрной бородой и узкими глазами-щёлочками живо обернулся.
— Очнулся? Приподняться можешь?
Антон попробовал сесть. Голова слегка кружилась, но в целом он чувствовал себя неплохо — для человека, который вчера ещё спокойно шагал под рюкзаком в обществе таких же шалопаев, как и он сам, и всерьёз считал машину времени названием рок-группы Макаревича (узнать бы осторожненько, какой сейчас год или хотя бы век — нет, страшно, ещё примут за сумасшедшего...).
Мужчина говорил не по-русски, но Антон понимал его речь: тот, кто по неведомой прихоти послал его сюда, одарил щедрым подарком. Не то пришлось бы изображать глухонемого. Ему сунули в руку изрядный кусок жареной баранины, луковицу и ячменную лепёшку. Лепёшка оказалась жестковатой, но где было обращать внимания на такие мелочи. Есть хотелось ужасно — он впился зубами в мясо, и на некоторое время оно целиком завладело его вниманием. Лишь покончив с доброй его половиной, он стал исподтишка поглядывать на тех, кто спас его из-под лавины.
Странные это были люди. Тёмные лица с высокими скулами, длинные волосы, выбивающиеся из-под островерхих войлочных шапок, подпоясанные меховые куртки, будто нарочно вымазанные углём (чтобы хуже различались в темноте, вдруг понял Антон). Мягкие сапоги из войлока и толстой замши, как у той девушки-аланки, что повстречалась ему на берегу реки Чалалат. И главное — у них было оружие.
Он увидел его, но не сразу осознал то, что видит. А осознав, почувствовал, как желудок отвратительно-мерзким холодным комком скользнул куда-то вверх к горлу.
У двоих на боку висели изогнутые сабли в простых чёрных ножнах — оружие, сразу видно, не слишком дорогое, но добротное, настоящее, отнюдь не бутафорское. Этакий рабочий инструмент, словно топор у плотника. Или отвёртка у электрика... У третьего — того, кто говорил с ним, из-за спины выглядывала рукоять прямого меча-кончара. Ещё двое были вооружены луками с костяными накладками. Антону уже приходилось видеть похожий лук.
— Значит, не спасатели, — пробормотал он с ноткой обречённости.
Они сидели в каменной пещере, вокруг костерка, что теплился на дне неглубокой ямки. Пещера была крошечная: пятеро помещались здесь с трудом. Шестой, совсем молодой безусый парень, возраста примерно Паши Климкина, большую часть времени проводил снаружи, с лошадьми. Вход в пещеру был плотно завешен шкурой, чтобы никто сторонний не засек огонь. Дым от костра куда-то уходил — Антон видел, как он, достигнув низкого свода, сворачивался в змейку и исчезал: наверное, пещера имела и другой ход наружу. Всё правильно: слишком щедрым подарком было бы для врагов застать таких матёрых волков в норе с одним выходом... А это были волки — стоило взглянуть на них повнимательнее. И оценить вечно настороженные глаза, расслабленные и одновременно напружиненные позы, руки, едва ли не с младенчества приученные к оружию, да и само оружие, которое даже сейчас, на отдыхе, было рядом — только выхватить...
Антону вдруг сделалось неуютно и страшно. Сначала, оказавшись здесь, в Зазеркалье, страха он не испытывал — лишь ощущение чего-то нереального, чего быть не могло в принципе. Это как во сне: какие бы мерзкие чудовища ни одолевали, ты знаешь, что стоит повернуться на другой бок — и они тотчас исчезнут. Эти мрачные бородатые люди исчезать не собирались, можно было вертеться до посинения. И от осознания этого самая настоящая ледяная тоска сковала сердце.
— Удивительно, что ты выжил, — проговорил тот, с мечом за спиной. — Сказать по совести, надежды почти не было. Если у тебя и были спутники, им наверняка повезло меньше.
Антон едва не подпрыгнул на месте.
— Вы и их нашли?
— Нет. Только тебя. Сначала мы решили, что ты купец, чей караван угодил под лавину. Но при тебе не нашлось ни вещей, ни оружия. Вообще ничего.
На паломника ты тоже не похож... Кто ты? И как здесь оказался?
Антон вздохнул и отвёл глаза. Самому бы знать.
— А вы-то сами кто? Разбойники?
Они улыбнулись, но не засмеялись, глаза остались серьёзными. Только самый молодой, тот, что состоял при лошадях, расслышав вопрос, фыркнул, не сдержавшись.
— Нет, не разбойники. Мы кингиты, состоим на службе у харал-гаха[8] Османа.
— А кто это — Осман?
Кто-то толкнул парнишку в бок, предупреждая, чтобы не распускал язык. Тот смутился.
— Ты слишком много хочешь знать, незнакомец.
— Да, наверное. — Губы у Антона предательски дрогнули. — Но я... Я совсем чужой здесь.
Старший, с мечом за спиной, нагнулся и подбросил в костёр несколько сухих веток. Огонь, угасший было, снова всколыхнулся, отгоняя мрак, и Антон увидел настороженность в направленных на него глазах.
— Вижу, что чужой, — проговорил старший. — Судя по лицу, ты не хазарин, не монгол, не алан... Я бы решил, что ты из страны русов. Если так, то ты проделал долгое путешествие. И твоя одежда... — Он дотронулся до рукава синей ветровки, в которой Антон угодил под лавину. — Это ведь не шёлк? Хотя очень похоже...
— Это капрон, — буркнул Антон и жестоко прикусил язык. Видя, что его не понимают, он прошептал с горячей мольбой: — Не оставляйте меня здесь. Возьмите с собой, куда бы вы ни направлялись! Думаю, я смогу вам пригодиться.
Они снова переглянулись. Старший поколебался (сердце Антона в волнении пропустило пару ударов), потом поджал сухие губы и сказал:
— Нет. До утра можешь погреться у огня и выспаться. Если хочешь — мы дадим тебе еды в дорогу и тёплую одежду. Но с рассветом наши пути разойдутся.
Сказано было непреклонно — этот человек, похоже, не привык, чтобы ему перечили. Антон понял, что спорить ни к чему. В носу вдруг засвербило, он отвернулся и произнёс с нехорошей хрипотцой:
— Стоило тогда меня выкапывать. Оставили бы, где лежал.
Ему не ответили. Все отвернулись и с преувеличенным равнодушием занялись кто чем: кто осматривал оружие, не появился ли вдруг какой-нибудь изъян, кто вяло дожёвывал остатки ужина, кто налаживался спать, завернувшись в одеяло.
Он откинул полог и вышел из пещеры. Ночь окутала его — беззвёздная, хмурая, какой была тогда, в том мире, откуда его унесло лавиной. Возникла никчёмная мысль: Казбек наверняка уже вызвал спасателей, те нашли мой выпотрошенный рюкзак под снегом, пропахали склон вдоль и поперёк, с каждой минутой мрачнея лицами, вызвали вертолёт до базы, бросив с раздражением, почти с ненавистью: «Понесло вас, чертей...» Мрачный Казбек, тихонько рыдающие в обнимку Светка с Динарой, думать не думавшие, что их каникулы завершатся так ужасно. Мама с отцом — те вообще с ума сойдут... Подать бы им весточку, что жив, чтобы не убивались — да поди попробуй, добеги тут до ближайшего телеграфа...
Антон не удержался и всхлипнул. Мальчишка, чистивший коня у пещеры, бросил своё занятие, подошёл и тронул за плечо.
— Не обижайся на Заура, путник. Он правильно поступил. Лучше тебе не знать, куда мы идём. Знай только то, что встречать нас там будут не вином и не хлебом.
— Догадался уже, — буркнул Антон. — Можно хоть спросить, как тебя зовут?
— Лозой дома прозвали, — охотно откликнулся мальчишка. — А тебя? А то всё «путник» да «чужеземец».
— Антон. Антон Изварин.
— Странное имя. — Он подумал и осторожно спросил: — Так ты правда родом оттуда, с севера? Нет, можешь не отвечать, я не неволю...
— С севера, — вздохнул Антон. — Как это у вас называется... Из страны русов. Я бы тебе больше рассказал, тайны тут нет. Да боюсь, не поверишь.
Лоза понятливо кивнул: в самом деле, мало ли странного, чудного, волшебного, а иногда и страшного могло случиться с человеком, преодолевшим такой длинный путь, да ещё и в одиночку... Не хочет говорить — что ж, его право.
— Не держи зла на Заура, — повторил он. — Он уже пятый год мне вместо отца. С тех пор как воины Тохтамыша истребили наше селение.
Он помолчал, глядя перед собой сухими глазами.
— Они пришли утром, едва рассвело, и принялись ловить наших девушек за волосы. Отец выбежал из дома и зарубил троих монголов. Он бы убил и больше — он был очень сильным, мой отец... Они так и не сумели к нему подступиться — боялись его сабли. Саблю отец выковал сам, закалил её и сделал рукоять из турьего рога. Монгольские клинки рассыпались под его ударами. Поэтому они и не смогли одолеть его врукопашную — только когда подоспели их лучники...
Моя мама тоже умела владеть оружием — отец выучил. Это не по обычаю, не женское это дело — воевать. Но отец сказал: Господь послал нам смутные времена, и нужно быть готовыми ко всякому. Она подобрала саблю убитого монгола и встала перед дверью дома. Воины Тохтамыша засмеялись, увидев женщину с оружием. Но потом перестали смеяться. Никогда не прощу себе, что не был там.
Он отвернулся, чтобы Антон не заметил слезинку на его щеке, едва тронутой первым пушком.
— Я подошёл к мёртвому отцу и вынул клинок из его руки. Теперь я должен был мстить. Я и хотел мстить — сейчас, немедленно, пока монголы не ушли далеко. Я мог их догнать: кровь ещё не высохла и не ушла в землю. Один человек, что был там, не пустил. Он сказал: мало проку будет, если ты сразу погибнешь, не успев убить никого из врагов. Те только посмеются. Сначала нужно стать сильным. И я пришёл в крепость Сенген, к харал-гаху Осману.
— Это далеко отсюда? — спросил Антон.
— Далеко, — отозвался Лоза и махнул рукой в сторону хребта. — Много дней пути на юг и восток, к Севанскому озеру. А что твои родители? Они живы?
— Не знаю, — сказал Антон чистую правду.
Живы, если предположить, что существуют где-то рядом параллельные миры, точно огромные трёхмерные зеркала, вытянутые вдоль граней Великого Кристалла (Антону приходилось читать о подобной теории, бывшей модной в научных кругах лет десять назад, — само собой, официально она не признавалась, даже обсуждать её было опасно, можно было огрести массу неприятностей...). И тогда где-то совсем близко — только протянуть руку — гудят машины на улицах, продают эскимо возле метро «Пушкинская», народные избранники и заступники наперебой обещают всеобщее и немедленное процветание, стараясь перекричать друг друга с экранов телевизоров, и тётя Сара, что в незапамятные времена подрабатывала вахтёршей в школе, где учился Антон (дама была чрезвычайно чопорная и строгая, имела партийную кличку Вытирайте Ноги), бормочет что-то сердитое, глядя с высоты третьего этажа на пацанов, с упоением гоняющих на велосипедах... Но — ударила лавина, пробила нечаянную брешь между гранями, куда злая сила втянула Антона (оказался ты, парень, в плохом месте и в плохое время). И тогда — вдруг озарила надежда — можно попробовать вернуться обратно, стоит лишь отыскать снова эту дыру...
А возможно и другое. Время вдруг спятило, какие-то контакты перемкнуло, программа допустила сбой, и его в самом деле швырнуло в прошлое. И теперь его родителям только предстоит родиться (мрачноватый каламбурец) — через бесконечные шесть веков, чтобы оперировать в областном хирургическом отделении (папа) и сеять разумное, доброе, вечное в школе с английским уклоном: «Good morning, children!» — «Good morning, Alla Konstantinovna!» (мама). Они встретятся случайно на автобусной остановке, спасаясь от внезапно хлынувшего ливня, и папа (тогда ещё не папа) предложит маме (ещё не маме) свой зонтик... А ещё через пять лет появится на свет маленький Антошка, чтобы вырасти и пойти в горы в компании таких же, как он сам, лоботрясов, и Светка Аникеева будет сидеть на лавиноопасном склоне, бесшабашно разглядывая свои истёртые пятки...
Голова кругом.
Он прикрыл глаза, отчаявшись постичь мудрёные капризы природы, и вдруг различил в ночной тиши посторонний звук. Он никогда не услышал бы его, если бы прислушивался специально. Лоза собрался было спросить о чём-то, но Антон легонько шлёпнул его по затылку. А ещё через секунду оба замерли, увидев череду безмолвных зыбких теней, взбирающихся по склону...
Глава 5 КРЕЩЕНИЕ
...Они очень старались ступать тихо, но, похоже, были больше привычны к седлу и стременам: нет-нет да зашуршит камень под ногой, скрипнет кожаный панцирь, брякнет изогнутая сабля... Антон не поклялся бы, но ему почудилось, будто он узнал седоусого монгола, что крался впереди, — его шлем украшал белый бунчук.
Лоза, видно, не привык думать долго. В мгновение ока он сунул два пальца в рот и издал резкий свист — такой сильный, что Антон инстинктивно зажал уши. Те, в пещере, не могли не услышать. Настоящие воины, они были приучены сначала вскакивать и хвататься за оружие, а просыпаться уже потом, на бегу. Так получилось и в этот раз. Полог, закрывавший вход в пещеру, будто снесло тайфуном, и кто-то — похоже, Заур — оскалясь по-волчьи, взлетел в высоком прыжке над головами опешивших монголов, обрушивая на них свой страшный меч-кончар.
Тот, с белым бунчуком, однако, тоже был воином, родившимся с саблей в руках. Он ещё не видел напавшего, но массивное, почти квадратное тело само, без команды мозга, прянуло в сторону, и удар Заура пришёлся на второго монгола, который шёл следом. Тот упал сразу, так и не узнав, что уже умер. А Заур уже приземлился на согнутые ноги, и кончар в его руке блестящим полукругом полоснул следующего в не прикрытые доспехом бёдра...
Тишина словно взорвалась изнутри. Заржали, забились лошади, закричали дерущиеся, бешено зазвенела сталь о сталь... Антон, очутившийся внутри людского водоворота, совершенно растерялся. Он впервые видел настоящий бой...
Этот бой не был похож на киношные схватки из голливудских исторических боевиков (Антон обожал исторические боевики: всяких «Первых рыцарей», «Храбрые сердца», «Викингов» и «Гладиаторов» в его домашней коллекции скопилось столько, что она составила бы счастье любому видеопрокату). Тут было не до изящных поворотов и фехтовальных выпадов, которые он иногда тренировал на лесной поляне, скрывшись от посторонних глаз. Там-то, в лесу, наедине с собой, он был непобедим. А сейчас...
Вокруг визжало, рычало, заходилось воем в смертной тоске, каталось по земле многорукое злое чудовище, кровавый клубок из тел, выпученных глаз и оскаленных ртов. Счастлив тот, кто прожил жизнь, не увидев такого. Монголов было раза в два больше, но они растерялись в первые секунды, не ожидая такого яростного сопротивления. И успели потерять четверых: двоих зарубил Заур, ещё двоих прикончили его подоспевшие спутники.
Лоза, до того присматривавший за лошадьми, был безоружен. Его меч лежал в пещере, и при мальчишке был лишь широкий засапожный нож. Этого ему показалось достаточно. Антон видел, как Лоза, издав крик, бросился на врага, того, что находился ближе. Монгол резко развернулся, вскинул круглый щит, но опоздал. Клинок с натугой проткнул кольчугу и застрял в ней. Нукер, не устояв на ногах, опрокинулся на спину, и Лоза упал сверху, всем телом навалившись на рукоять. Нож, наконец, достал до живой плоти. Монгол выпучил глаза, страшно напрягся и выгнулся дугой, потянулся ударить в ответ... И не сумел, обмяк.
Лоза проорал что-то победное и обернулся к Антону. Тот невольно вздрогнул.
На него смотрело совсем чужое лицо. Оно никак не могло принадлежать тому безусому мальчишке, что пять минут назад чистил красавца аргамака, и улыбался, и говорил ему что-то нежное и тихое, словно ласкал любимую женщину... Да и успел ли он узнать, что это такое — ласкать женщину? Вряд ли...
Его ладони были измазаны кровью, и это была кровь поверженного врага. Возможно, и не того самого, что жёг дома в их селении и ловил девушек за длинные волосы, не его сабля лишила жизни отца и мать мальчишки, решившего мстить, — это было не важно. Лоза торжествующе поднял вверх свои ладони и засмеялся. Он был счастлив.
Антона схватка не тронула. Он находился в её центре, и на него упорно не обращали внимания — наверное, оттого, что в самом её начале ноги отказались ему служить и он упал на четвереньки, застыв в таком отнюдь не героическом положении. Да, в этом было всё дело: он был неподвижен, и его не замечали. Время от времени он силился приподняться, но чей-то настойчивый голос шептал в ухо: да что тебе до них? Они ВСЕ уже умерли — шестьсот лет прошло, и земля, опалённая солнцем, пропитанная дождями, успела без остатка растворить их кости и превратить их в траву, и та трава давно истлела, чтобы обернуться новой травой...
Сиди тихо — и тебя не тронут...
А потом он вдруг увидел, как двое подступили к Лозе с разных сторон. Один, высокий, худой, в выцветшей лисьей шапке и с полосатым волосяным арканом в руке, — он, видимо, понял, что мальчишка безоружен, и решил захватить его живьём, чтобы допросить... или просто помучить вдосталь, прежде чем перерезать горло. Второй, справа, был знаком: на его шлеме колыхался белый лошадиный хвост. Антон открыл рот, чтобы предупредить криком, но крик застрял в горле. Он не мог двинуться с места — и только смотрел...
В руках Лозы не было ничего, даже верного ножа — тот намертво застрял в панцире убитого монгола. Лоза попятился, поскользнулся на камнях и упал. Взгляд его стал растерянным и беспомощным — он затравленно посмотрел на своих спутников, но никто из них не успевал ему на выручку. Бой оттеснил их, отнёс в сторону — у каждого ныне ночью доставало собственных врагов. А тот, с белым бунчуком, уже поднял саблю над головой...
И тогда Антон встретил его сам.
Он даже не подумал, что, собственно, тоже безоружен — не до того было. Его будто взрывная волна взметнула с места. Ноги распрямились, точно две боевые пружины, и из горла сам собой рванулся не то всхлип, не то вопль, не то выдох:
— КИАЙ!!!
Седоусый успел лишь повернуть голову. И возможно, заметить распластанное в прыжке тело, а через секунду подошва туристского ботинка, сработанного в чужом, неведомом мире, на конвейере обувной фабрики «Скороход», с размаха впечаталась ему в переносицу.
От такого удара не существовало защиты. И никогда он не получался у Антона так чисто и красиво, ни на одной тренировке в спортзале (их тренер с раритетным именем Пётр Иванович, очень сухой, жилистый и подвижный, как ртуть, только сокрушённо качал головой, глядя на ухищрения ученика: «Эх, Изварин, Изварин...»).
Мёртвое тело седоусого ещё не коснулось земли, а Антон уже крутнулся на пятке, в развороте доставая второго, в лисьей шапке. И ещё, и ещё, вращаясь, словно юла. Или — как балерина в знаменитом фуэте...
Потом он подхватил оброненную кем-то саблю и дрался в самой гуще боя, забыв себя, словно бы искупая былую минутную слабость. Вряд ли он убил кого-нибудь: его удары были хоть и полны ярости, но неумелы... Множество раз — десять или сто — монгольский клинок готов был опуститься ему на голову (его убили бы обязательно: он ещё не умел как следует защититься), но всё время кто-то из его спутников оказывался рядом и прикрывал своим щитом. Или — своим телом.
И сам Антон закрывал кого-то собой, и бил вражеские тела, рубил, колол, по большей части бестолково промахиваясь, но иногда доставая-таки до чужой живой плоти, — и тогда привычный и безопасный, как домашний хомячок, цивилизованный мир проваливался в небытие, освобождая место другому — дикому, первобытному, старому...
Он даже не понял, что всё кончилось и убивать больше некого. Он ещё стоял посреди схватки, бешено вращая глазами, — один среди трупов, страшный, в повисшей лохмотьями ветровке, с погнутым окровавленным клинком в руке... И когда кто-то обхватил его сзади поперёк туловища, он не сразу понял, что это Заур.
Видя, что чужеземец не в себе, Заур покрепче сжал его локти и мягко отобрал оружие.
— Всё, — сказал он успокаивающе. — Всё кончено, слышишь?
Антон с трудом разжал пальцы, и сабля выпала, звякнув о камень.
Из врагов не ушёл ни один. Все они нашли свою смерть тут, возле маленькой пещеры, незнамо с каких времён появившейся в северном склоне бурой скалы, изрядно разрушенной ветром, водой и снегом. Может быть, когда-то, очень давно, здесь было капище языческих богов, живших ещё до Христа, — суровых, даже жестоких, требовавших кровавых жертвоприношений. Или горные гномы, ещё более древние, обитавшие в этих местах и ушедшие неизвестно куда и почему, добывали здесь руду, чтобы в подземных кузнях ковать волшебные мечи, с лёгкостью разрубавшие гранит, и кольчуги, от которых отскакивали даже боевые секиры...
Четырнадцать тел лежали вдоль склона, среди бурой травы и камней — неподвижные и почти неразличимые в темноте. Если не приглядываться специально, можно было подумать, что их и не было вовсе: только ночь, трели цикад, лёгкий ветерок... А бой — короткий и оттого ещё более жестокий — привиделся...
— Ты цел? — с тревогой спросил Лоза.
— Цел, — буркнул Антон, сделал шаг на деревянных ногах и вдруг опустился на корточки. Раскалённый железный обруч сдавил голову, жёлтые круги поплыли перед глазами, словно он неосторожно посмотрел на огонь электросварки...
— Что с тобой? — вскрикнул Лоза.
— О-о, — утробно откликнулся Антон, извергая из желудка недавний ужин.
Он обязательно ткнулся бы туда носом, если бы Заур заботливо не поддержал его за плечи. Его рвало ещё долго и безжалостно, до зеленоватой горечи. Тело превратилось в безвольную тряпку: хоть сворачивай и укладывай в мешок. Сейчас засмеют, подумал Антон. Но никто не засмеялся.
— Ничего, — пробормотал маленький седоволосый мужчина с невероятно широкой грудью и длинными руками, живо напоминавшими крабьи клешни. И весь он напоминал старого боевого краба, испещрённого шрамами, — захочешь поймать такого на мелководье — и останешься без пальцев... За спиной его висел огромный лук — Антон даже представить себе не мог, что бывают такие. — Ничего, со мной тоже было так... В первый раз.
— Скольких мы потеряли, Тор? — тихо спросил Заур.
— Двоих. Фаттаха и Тарэла Скорохода. Сандро ранен. — Лучник помолчал и отвёл глаза в сторону. — Боюсь, долго он не протянет.
Антон узнал Сандро, степенного абхазца с горбатым носом и круглыми глазами навыкате, делавшими его похожим на филина. Сандро был на редкость молчалив — Антон, кажется, так ни разу и не услышал его голоса. Тот ни о чём не спрашивал, даже вроде бы не поглядел лишний раз в его сторону — просто первым подумал, что чужеземец, которого они выкопали из-под снега, наверняка голоден, и сунул ему в руку кусок мяса с костра, луковицу и лепёшку. И снова отвернулся.
Сейчас он тоже молчал — ни стона, ни жалобы не сорвалось с его уст, только надувались и лопались розовые пузыри в уголках серых губ, и вздохи становились с каждым разом всё медленнее... Чужая сабля косо ударила его в шею, прорубила ключицу и глубоко вошла в грудь, не прикрытую кольчугой. Он не успел надеть её перед боем — только выхватил меч из ножен.
Три пары рук с осторожностью приподняли его и уложили на разостланный меховой плащ. Плащ немедленно потемнел, пропитываясь кровью. Заур живо скинул через голову посеченную кольчугу, рванул подол рубахи — перевязать рану. Сандро чуть шевельнул неповреждённой рукой, чтобы остановить, и прошептал:
— Ни к чему. Не трать время, уходи... Монголы могут... опять...
А ведь верно, подумал Антон, это наверняка был какой-нибудь передовой отряд, разведка, случайно наткнувшаяся на врага, а остальные (неизвестно, где они — может, совсем близко), заслышав шум, уже вытянули из ножен сабли и пустили коней в галоп...
Однако никто не двинулся с места. Трое неподвижно сидели возле раненого товарища и напряжённо молчали, словно отдавая каждый частицу собственной жизни, лишь бы хоть ненамного, на краткий миг поддержать другую, уже ускользающую... Антон, поколебавшись, подошёл и опустился рядом. Сандро приоткрыл глаза и коснулся пальцами его руки. Антон схватил холодеющую ладонь и прижал к груди, будто надеясь отогреть...
— Теперь ты... должен... — скорее понял он, чем расслышал. — Без тебя им не справиться...
— Да, — сказал он сквозь горловой спазм.
Раненый помолчал, справляясь с собой.
— Коня моего возьмёшь. И саблю. Она получше будет, чем твоя...
И замер.
Заур подождал немного, наклонился и со всей нежностью, на какую только был способен, поцеловал друга в пергаментный лоб. Закрыл ему глаза ладонью и тихонько, одними губами, прошептал молитву.
Антон с трудом поднялся с земли. Они с Сандро не были не то что дружны, а просто знакомы. Бородатое лицо, мелькнувшее в полутьме пещеры, в красных бликах костра, ячменная лепёшка и кусок мяса, сунутые в озябшую ладонь... И — странная, оголтелая боль, рванувшая сердце, от которой хочется выть по-волчьи, вскинув к луне оскаленную морду. Будто ушёл навсегда не малознакомый человек, а близкий друг, которого знал с детства, с которым дрались из-за игрушек и десять школьных лет сидели за одной партой, ухаживали за одной девчонкой, вместе сбегали с лекций и укрывались в походе одним одеялом...
— Нужно уходить, — глухо проговорил Заур. — Прав Сандро: они могут напасть снова.
Тор поднял узкие глаза-щёлочки.
— Думаешь, они наткнулись на нас не случайно?
Заур отрицательно покачал головой.
— Не дошли они ещё до того, чтобы ездить по ночам где заблагорассудится, вдали от горных троп. И их коней мы не услыхали — значит, добирались пешком. — Он помолчал, и в его глазах вдруг появилась глухая чёрная тоска. — Нет, они нашли нас, потому что искали. И им было известно, где искать. Кто-то предал нас, Тор Лучник.
Тор отшатнулся.
— Ты что? — хрипло прошептал он. — Кто мог предать? Кто ЗНАЛ, кроме харал-гаха Османа и нас шестерых?
Стало вдруг тихо — только слышно было, как слабый ветерок играет в серебристой траве. Тор опустился на камень, сгорбился, безвольно свесив жилистые руки ниже колен. Косматые волосы с густой проседью упали на лоб, он досадливым движением откинул их и пробормотал:
— Шестеро... То есть предатель — кто-то из нас шестерых? Фаттах, Тарэл Скороход и Сандро умерли — значит, остались мы втроём. Кого же из нас ты выберешь? Лозу или меня?
Он в ярости сжал пудовые кулаки. Тяжёлый взгляд описал дугу — и внезапно упёрся в Антона.
— Он, — вдруг с радостью произнёс он. И на его тёмных, будто обожжённых на солнце губах появилась довольная улыбка первооткрывателя. — Чужеземец... Заур, мы ведь даже не знаем его имени. При нём не было ничего — ни куска хлеба, ни миски для подаяний, ни даже ножа... Как можно ходить по горам, не имея ножа?! А его одежда? А сапоги — ты видел когда-нибудь такие странные сапоги?
Недоработка, укорил Антон того, кто послал его в этот мир — он уже привык разговаривать с ним запросто, как с обычным человеком. Надо было хоть снарядить меня в соответствии с эпохой, чтобы не вызывать ненужного любопытства...
Тор Лучник тем временем встал с камня и медленно направился в его сторону. Чёрные глаза-щёлочки стали злыми.
— Подумай сам: мы спасли его из-под лавины на закате, а уже ночью на нас напали. Не удивлюсь, если он служит Тохтамышу...
Кроме верного лука за спиной он был вооружён чеканом — топориком на длинной ручке, прикреплённым к поясу. Острое ухоженное лезвие было покрыто воронёным узором — магическими зубчатыми линиями, на которые были посажены круги разной величины. Надо думать, в руках (точнее, ручищах) Тора это было страшное оружие. И он весьма недвусмысленно потянул за ним руку...
Я служу Тохтамышу.
Я даже не знаю, кто такой Тохтамыш, подумал Антон. Кажется, был такой монгольский хан, претендовавший на трон Золотой Орды, но изгнанный более удачливыми соперниками. Ходил на Москву на исходе четырнадцатого века, но и оттуда повернул оглобли, испугавшись грома пушек, — именно тогда московский воевода Данила первым в истории применил огнестрельное оружие... Что ещё? Антон поднапряг память — но память молчала. Стыдно, молодой человек. Эх, Динару бы сюда...
Тор подходил мягко и осторожно, как большой хищный зверь, перекрывая Антону путь возможного бегства. Пожалуй, имея такие ручищи, он мог бы обойтись и без топорика — просто придушить или свернуть шею... Антон скосил взгляд на Лозу — мальчишка смотрел настороженно, исподлобья, явно решая про себя, верить или не верить тому, что сказал Тор. И кажется, склонялся поверить: на одной чаше весов был непонятный чужеземец в странной одежде, с которым не перекинулись и десятком слов (а я-то ему спас жизнь, вдруг кольнуло Антона...), а на другой — все его друзья, мёртвые и живые, с кем делил кров и пищу, кто принял его как равного, и научил владеть мечом, дав возможность мстить за убитых родичей...
Вот так, подумалось с обидой. Стоило лететь сквозь время, чтобы в первый же день умереть без славы, от рук своих же.
Надо было бы хоть попробовать защититься — не идти же на заклание безропотно, будто жертвенный ягнёнок... Но он не двинулся. И не поднял головы. Пусть убивают, ему стало безразлично.
— Не спеши, — сказал Заур, и Тор нехотя остановился, не убрав, однако, руку с топорика. — Ты забыл, что он спас Лозу. И свалил двоих, даже будучи безоружным.
— Это ничего не меняет, — угрюмо проговорил Лучник.
— Не меняет, — согласился Заур. — Но будь он монгольским разведчиком, они вряд ли сообразили бы нарочно закопать его в снег. Мы ведь могли спасти его, а могли пройти мимо. И прошли бы, если бы мой конь не заржал.
Тор хотел возразить, но спорить со старшим не стал — отвернулся и отошёл, бормоча что-то под нос. Лоза робко посмотрел на Заура и спросил:
— И что нам теперь делать?
Тот пожал плечами.
— Что собирались.
Тор нахмурил брови, подумал и осторожно заметил:
— Но нас там наверняка ждут.
— Может, и ждут, — спокойно отозвался Заур. — А может, и нет. Если волка обложили со всех сторон, ему один путь: вцепиться в горло охотнику. Но в общем ты прав: дело опасное. Так что можешь вернуться в крепость, я не обижусь.
Тора будто вражеская стрела подло уязвила в ягодицу. Он едва не подпрыгнул от ярости, готовый ответить на оскорбление. Но — заметил смешливые искорки в глазах товарища и расхохотался сам, хлопнув себя по бёдрам.
— Чёрт тебя возьми, Заур. Говорили мне, будто ты сумасшедший, но не упомянули насколько.
— Да ты и сам не лучше, — хмыкнул тот в ответ. Помолчал и добавил: — Как и все мы здесь.
Он подошёл к стоявшему в сторонке Антону и спросил:
— Ты, кажется, хотел идти с нами. Не передумал ещё?
— Не передумал, — твёрдо отозвался Антон.
— И даже не спрашиваешь, куда мы направляемся?
— Я и так знаю. — Он и вправду знал с некоторых пор: отдельные реплики и намёки, мелкие детали, которые не замечались раньше, — все они вдруг встали на свои места, будто камешки в детской мозаике. — Вы идёте в лагерь монголов, спасать из плена царевича Баттхара.
Все трое переглянулись. Тор Лучник опять потянулся к оружию. Заур жестом остановил его и коротко спросил:
— Откуда тебе известно?
— Известно вот, — буркнул Антон. И совсем уж тихо проговорил: — Ну что вы хотите от меня? Чтобы я привёл сюда Тохтамыша и он подтвердил, что я ему не служу?
— Да, — озадаченно протянул Заур. — Сплошная загадка ты для меня, чужеземец. И сплошная головная боль. Если бы не Сандро... — Он запнулся, и глаза словно подёрнулись дымкой. — Сандро хотел, чтобы ты взял его саблю и коня. Воля умершего священна. Так что — владей. И постарайся не осрамить.
Антон понятия не имел, как следует принимать боевое оружие. Припомнив сведения, почерпнутые из рыцарских романов, на всякий случай опустился на одно колено. Заур посмотрел озадаченно, фыркнул и махнул рукой.
— Ладно, бери так.
Антон осторожно извлёк саблю из ножен. Узкая полоска стали льдисто вспыхнула в лунном свете, рукоять легла в ладонь доверчиво, как живая... Он взмахнул несколько раз и счёл за лучшее убрать клинок назад.
— Правда, — сказал Заур, — мне показалось, что у тебя на родине больше привыкли махать ногами выше головы... Ну, да не дело это — хаять чужие обычаи. А мечом владеть я тебя научу, Бог даст. В седле-то хоть удержишься?
Антон с опаской поглядел на коня и нерешительно кивнул. Ему приходилось сидеть на лошади один раз в жизни, когда в студенчестве их курс гоняли в один из оставшихся после повального кризиса колхозов — помогать в сборе скудного урожая. Та лошадка — низенькая, пожилая и мудрая, как Махатма Вивекананда, откликалась на имя Просто Мария.
Она возила колхозную бочку на водокачку и обратно и понятия не имела о том, что в большом и противоречивом мире существуют иные пути и дороги. Как ни пытался Антон повернуть её влево-вправо, ускорить или, наоборот, замедлить темп движения, Просто Мария, словно трамвай, прилежно доплелась до водокачки, постояла немного (видимо, давая время наполнить бочку), после чего без команды развернулась и пошла обратно в деревню. К странному седоку, который зачем-то молотил её пятками по бокам, она отнеслась философски — как к досадной, но в общем-то необременительной помехе.
Конь, носивший Сандро, мало напоминал добрую Машеньку. Он был высок, мускулист и чёрен как смоль. Только такой и мог принадлежать настоящему воину. Антон мелкими шажками приблизился к нему и посмотрел снизу вверх. В кино часто показывали, как всадник взмывает в седло, не касаясь стремян, едва ли не на полном скаку. Это седло мерно покачивалось где-то чуть выше уровня глаз. Антон мысленно прикинул свои шансы и решил: ну уж на фиг. Чай, не Сергей Бубка. Поставил ногу в стремя, подтянулся, вцепившись в луку...
Конь иронично хмыкнул и переступил вправо. Ноги Антона разъехались в шпагат, и он чуть не рухнул на землю — лишь былые тренировки в спортзале помогли ему не сделать этого.
— Но, — неуверенно сказал он, — то есть, наоборот, тпру...
Густая краска залила щёки — он ясно чувствовал, как за ним наблюдают три пары глаз. Нет, четыре: этот гадкий конь тоже глядит на мои ухищрения и ухмыляется, скотина... Антон погладил коня по шелковистой морде и умоляюще произнёс:
— Ну, пожалуйста, не будь такой свиньёй. Люди же смотрят. Не позорь меня, дай хоть в седло залезть. Между прочим, твой хозяин так хотел...
Это подействовало. Конь вздохнул: ладно, мол, пользуйся, раз такое дело. Только не забывай, кто он был, мой хозяин, — и кто ты.
— Не забуду, — прошептал Антон и дотронулся до сабли, доставшейся ему от Сандро.
Сидеть в седле было высоко и страшновато. Заур оценивающе взглянул на пальцы чужеземца, судорожно вцепившиеся в повод, но от комментариев воздержался. Взлетел свечкой на своего аргамака и бросил через плечо:
— Держись за мной.
— Когда-то, — сказала Динара, — в этих местах обитало большое племя. Все они — и мужчины, и женщины, были воинами, и рано начинали учиться владеть оружием. Это были длинноволосые всадники в чешуйчатых доспехах, на звонконогих конях — так о них писал Плутарх...
Интересно, что означает выражение «звонконогие кони»?
Антон бездумно дотронулся до свитка с письменами, что поколись у него за пазухой, — вдруг почудилось, будто кожаный футляр, точно раскалённый на огне гвоздь, прожёг грудь едва ли не до кости.
«...и встречал он смехом своих палачей. А потом отказался от пищи и скончался в осень 788 года...»
— Подожди! — выкрикнул он, чуть не вывалившись из седла.
— Что ещё? — недовольно спросил Заур.
— Послушай, — запинаясь, проговорил Антон. — Вы не спасёте Баттхара. На самом деле он умер в плену... То есть умрёт. И племя аланов исчезнет, а учёные будут гадать, почему они исчезли — то ли их уничтожил Тимур, то ли... — Он запутался и умолк, поняв, что ему не верят. (А ты сам-то поверил бы, возникла мысль. Если бы тебе вот так, запросто, явился посланник из будущего? Что бы сделал? Правильно, позвонил бы в психушку...)
— Откуда ты всё знаешь, чужеземец? — тихо и тоскливо спросил Заур. — Откуда ты вообще взялся на нашу голову?
— Ты не веришь мне?
Заур вздохнул.
— В том-то и беда, что верю. Хотя и не понимаю, почему. Но им, — он кивнул в сторону своих спутников, — ничего не говори. Им знать незачем. Да и мне тоже. Без царевича Баттхара дороги в крепость нам всё равно нет.
И тронул пяткой коня. У него, как заметил Антон, была при себе плеть — красивая, собранная из разноцветных ремешков сыромятной кожи, с жёлтыми бусинками на узорчатой рукоятке... Заур ни разу не воспользовался ею — должно быть, она была просто чьим-то подарком, которым он очень дорожил. Конь и так слушался его не то что с полуслова — с полувзгляда. Может быть, и я когда-нибудь стану таким же наездником, подумал Антон с завистью. Если только не сломаю себе шею в ближайшие полчаса.
Ехали большей частью на рысях. Сколько это заняло времени, Антон не знал. Весь поход он носил на руке «Командирские» часы — подарок отца, но, видно, они слетели, когда ударила лавина. Или тот, кто послал Антона в этот мир, рассудил, что капроновая ветровка и туристские ботинки — ещё куда ни шло, а вот часы — это уже перебор... Знал только то, что продолжалась эта страшная экзекуция долго, целую вечность. Потому что, если конь идёт рысью, опытный всадник пружинит на ногах, привставая в такт движения, иначе растрясёт так, что организм потом придётся собирать по винтикам. Антону сказать об этом никто не удосужился, посчитав, видимо, глупым предупреждать о том, что и так всем известно. И когда Заур наконец поднял руку, приказывая остановиться, он кулём свалился с коня. Красавец аргамак понюхал распластанное у ног тело нового хозяина и красноречиво покачал головой.
— Что с тобой? — встревоженно спросил Лоза.
— Я в порядке, — простонал Антон и перевернулся на живот. — Только полежу немного...
— А ну, помолчите, — цыкнул Заур на обоих.
Ночь была на исходе. Луна ещё цеплялась за тёмный небесный свод, и бледный её свет скользил по пушистым еловым лапам, по скале вдалеке, окутывал мерцающей дымкой говорливую протоку, прыгающую с камня на камень, серебрил, словно инеем, крохотный — всего полметра высотой — водопадик, у которого оставили лошадей. Антон нехотя поднялся на ноги. Подниматься совсем не хотелось: колени мелко и противно дрожали, а в нижнюю часть спины словно кто-то день напролёт старательно лупил сапогом.
Слева от протоки, приблизительно в полукилометре, чеканно высился Сванетский хребет с горой Ходжали, похожей на понурого двугорбого верблюда. А ведь мы собирались туда на будущее лето, подумал Антон, и острая, как бритва, тоска полоснула по сердцу. Тоска по своему миру, привычному, тихому и доброму, несмотря на вечное безденежье, войну в Чечне, угоны самолётов, превратившиеся в традиционную народную забаву, и несданный зачёт по политэкономии за прошлый семестр. Мы даже наметили маршрут — вон через тот перевал, где у «верблюда» был «хвостик». Казбек говорил его название, да я не запомнил...
Антон тяжело вздохнул и, чтобы отвлечься от тягостных дум, перевёл взгляд влево. И вздрогнул от неожиданности, ибо то, что он вначале принял за скалу, оказалось башней, сложенной из гладкого чёрного камня.
Башня напоминала угрюмого великана, народ которого обитал когда-то в здешних местах. Это было давно, когда горы были ещё молодыми, землю сотрясали чудовищные молнии, а реки — бурные, злые, кипящие — прогрызали себе русло в твёрдом граните... Людей тогда ещё не было и в помине: люди просто не выжили бы в том суровом мире. Он был предназначен лишь для титанов — тех, что, смеясь, спорили с природой и воевали друг с другом.
Сейчас великан был мёртв. Его каменная грудь была испещрена глубокими шрамами, оставленными вражескими метательными снарядами. Один глаз-бойница был выбит прямым попаданием, и чёрные обугленные балки перекрытий торчали в ночное небо, словно уродливые обломки рёбер. Линия крепостной стены, ограждавшая некогда мощную цитадель, лежала в руинах — похоже, именно здесь враги нанесли свой главный удар и ворвались внутрь, поджигая дома, убивая и пьянея от пролитой крови. Должно быть, они уже праздновали победу, заливались вином из кожаных бурдюков, насиловали женщин и, забавляясь, ловили младенцев на копья, а каменный великан ещё сражался, один против всех, стоя по колено во вражеских трупах, огрызаясь стрелами, бросая вниз камни и плюясь из громадных котлов кипящей смолой... Наверное, он очень дорого продал свою жизнь.
— Ганджа, — сказал Заур. — Бывшая столица лазов.
— Кто же их так? — вполголоса спросил Антон. — Монголы?
Заур жёстко ухмыльнулся и произнёс непонятное:
— Нет. Другие лазы.
Там, за разрушенной стеной мёртвого города, виднелись огни. Много огней — будто колония светлячков облепила гнилушку. Вдоль подножия холма вкруг стояли походные юрты, похожие в темноте на гигантские тюбетейки. Или (первая ассоциация, возникшая в голове Антона) — на некий мрачноватый фестиваль цирков шапито. На вершине холма неким светлым пятном — более светлым, чем окружающее его пространство, — выделялся ханский шатёр со знаменем, на котором красовался золотой беркут и каменный жертвенник.
— Ставка Тохтамыша, — сказал Заур. — Перед его шатром в синих юртах — двести личных телохранителей-тургаудов. Сзади — коричневые юрты для жён и рабынь. Дальше от холма — жилища простых монголов.
— Почему же они не живут в домах? — удивился Антон. — Уж нашлась бы парочка уцелевших.
Заур пожал плечами.
— Наверное, не привыкли.
Тор Лучник, напряжённо обозревавший окрестности, изрыгнул невнятное ругательство и спросил:
— И где нам искать царевича?
— В яме, — механически отозвался Антон. — То есть в тюрьме.
Тор тяжело посмотрел на него.
— Признайся, кто тебе на ухо нашептал?
— Оставь его, — негромко произнёс Заур и спросил у Антона: — Тебе точно это известно? Где находится яма?
— Не знаю, — нехотя отозвался тот. (Сказать или не сказать им про рукопись? Он снова тихонько коснулся свитка: нет, пусть у меня останется хоть один козырь в рукаве. На всякий случай...) — Что же теперь делать?
Заур молчал долго. Его глаза, вытянувшиеся в щёлочки, высматривали что-то во вражеском стане. Смоляные брови сошлись на переносице, и Антон некстати вспомнил где-то вычитанное: «Бойся мужчин со сросшимися бровями, — говорила Матушка Гусыня. — Ибо таким мужчинам одна дорога: в лес по февральскому снегу. Сросшиеся брови — верный знак оборотня».
Пожалуй, Заур вполне мог сойти за оборотня — человека, который лунной ночью, такой, как эта, оборачивался матёрым волком: вот сейчас, на виду у всех, вдруг встанут торчком острые уши, стремительно обрастая чёрной шерстью, скрючатся пальцы, ладони превратятся в когтистые лапы, и широко расставленные глаза сверкнут в темноте дьявольским жёлтым огнём...
Действительно, волк, подумал Антон, ощутив внезапный холодок под ложечкой. Он вдруг заметил седину в волосах Заура — тонкие серебряные нити возле висков. Правда, их было немного, и белой, как лунь, его голова станет ещё нескоро. Если вообще станет: такие, как он, редко доживают до глубокой старости. И уж совсем редко умирают в собственной постели.
Заур молчал — молчали и остальные. Только Лоза, не выдержав, хотел спросить о чём-то, но жёсткосердный Тор легонько шлёпнул его по затылку: тихо, мол, не видишь — командир думает.
— Нужен пленник, — наконец произнёс Заур. — Лоза и ты, чужеземец, останетесь здесь. И ни шагу без моего разрешения, ясно?
— Послушай, почему он сказал так странно: «другие лазы»? Когда я спросил его, кто разрушил город...
Лоза посмотрел на Антона, вникая в суть вопроса.
— А, вот ты о чём... Да. Я слышал, что Ганджу и вправду разрушили лазы. Те, что переметнулись на сторону монголов.
Он помолчал.
— Тимур несколько раз пытался штурмовать город, но только терял своих воинов. Тогда он пришёл в селение лазов, которые остались в северных предгорьях, по ту сторону перевала. Уж не знаю, что он им пообещал: денег, пайцзу в знак милости... Только они в конце концов согласились. Одни — из страха, другие и вправду рассчитывали, что хан наградит их за службу... Они предали своих. Защитники, увидев, что против них воюют их соплеменники, растерялись. А потом монголы ворвались в город и принялись рубить всех подряд: и тех, кто помогал им, и тех, кто оборонял город. Царь Сафо, не желая попасть в плен, бросился на собственный меч... Так что Заур не соврал: лазы здесь действительно дрались против лазов. Верится с трудом, да?
Антон не ответил. Только подумал: ну почему же. Всё до боли знакомо: сосед убивает соседа, брат берёт обрез и стреляет в брата, сын заказывает богатого отца, который что-то зажился на свете — во все времена не было врагов непримиримее.
— Неужели целый народ исчез? — тихо спросил он.
Лоза пожал плечами.
— Ну, кое-кто уцелел. Кто-то не поверил Тимуру и спрятался в горах, кто-то ушёл к Великому морю, или к хазарам, или в другие крепости. В войске нашего харал-гаха Османа тоже есть трое из племени лазов. — Мальчишка презрительно сморщил нос. — Я их видел: воины из них никудышные. Будь я предводителем — выгнал бы таких взашей... Мы, кингиты, — другое дело. Мы становимся воинами с рождения. И никто из нас — ни один! — никогда не стал бы служить Тимуру.
— Так уж и ни один? — недоверчиво хмыкнул Антон.
И тут же пожалел об этом, потому что оскорблённый в лучших чувствах Лоза чуть не схватился за кинжал.
— Не веришь?!
— Верю, верю, — испуганно сказал Антон. — Успокойся. Тихо, кто-то идёт...
Юноша вгляделся в темноту и радостно выдохнул:
— Наши...
«Язык» был здоровенным — ростом, пожалуй, с Заура, которому совсем не маленький Антон доставал лишь до уха, и гораздо шире в плечах. Как только ухитрились завалить такого бугая?..
Голову пленника закрывал мешок, мощные руки в буграх мышц были стянуты верёвкой за спиной, у бедра издевательски покачивалась кривая сабля, спрятанная в ножны. Кажется, у японских самураев считалось высшим шиком пленить противника, оставив ему меч на поясе: таскай, мол, мне твоя железка не страшнее зубочистки. Здесь, видимо, придерживались похожих обычаев.
Заур непочтительно пнул монгола коленом под зад, тот сослепу ткнулся лбом в чахлую сосенку, взвыл и сполз на землю. Тор Лучник сдёрнул мешок с его головы и сплюнул сквозь выбитый передний зуб. И у него, и у Заура на лице была написана странная брезгливая ярость, словно не вражеского «языка» добыли, а случайно раздавили в ладони мокрицу. Антон посмотрел на пленника и вдруг сообразил, что перед ним — не монгол, хоть и одетый по-монгольски. Чертами лица, невысокими скулами, разрезом глаз и формой носа он скорее напоминал не степняка, а горца — грузина или абхазца. Или...
— Або, — тяжело произнёс Заур. — Не думал, что мы встретимся вот так.
Пленник взглянул снизу вверх, глаза его вдруг расширились, почти суеверный ужас заплескался в них, словно осеннее море... Он попятился, сидя на заду и судорожно перебирая ногами, и просипел:
— Заур, ты?!
Он отполз бы и дальше, но помешало деревце. Он упёрся в него спиной и выкрикнул:
— Я не хотел! Не хотел им служить, меня заставили! Ты не знаешь... Меня били плетьми, пока я не согласился...
— Били? — негромко спросил Заур. — А потом, значит, раскаялись и подарили шёлковый халат?
А откуда ожерелье у тебя на шее? Только лазы делают такие узоры на бусинах. Ты снял его с убитой, ведь так? Когда вы грабили город...
Пленник подавленно молчал. Ожерелье из нежных желтоватых бусин и вправду странно смотрелось на его мощной груди. Как он, поди, радовался изящной дорогой вещице, срывая её с мёртвой женщины, как любовался на себя, глядясь в маленькое бронзовое зеркальце... Теперь бусы безжалостно терзали его шею, точно злобные болотные пиявки. Або сделал движение, словно пытаясь прикрыть их ладонями, спрятать от посторонних глаз, но руки были связаны за спиной.
— Заур, — всхлипнув, прошептал он. — Мы ведь с тобой из одного селения, мой дом стоял справа от мельницы, возле ручья с плотиной... Я пил вино на твоей свадьбе, а моя сестра Этери была подружкой твоей невесты... Ты помнишь, Заур?
Заур с трудом разлепил спёкшиеся губы. И сказал без всякого выражения:
— Моя жена Гульнара погибла, когда отряд монголов напал на селение. И твоя сестра Этери тоже, я сам похоронил их рядом, в одной могиле. Я многих похоронил в тот день — к вечеру я уже не мог держать заступ в руках. Жаль, что ты не знал этого, Або.
И Або заплакал. Слёзы текли по его щекам, что тоже не вязалось с его обликом: у него было красивое мужественное лицо — резко очерченное и словно опалённое горным солнцем — и очень пропорциональное тело. Тело настоящего воина. Наверное, Лоза всегда глядел на него с восхищением и думал: вот когда я вырасту...
— Так он тоже кингит? — тихонько спросил Антон.
Лоза не ответил. Глаза его были пустыми. В них не было ни боли, ни обиды, ни ярости. Вообще ничего.
— Где царевич аланов? — сухо спросил Заур. — Он ещё жив?
— Жив, жив, — заторопился Або. — Его поселили в белой юрте, неподалёку от ханского куреня[9]. Я могу показать...
Тор Лучник нахмурился.
— Разве он не в яме? И его не бьют палками?
— Что вы! Хан обращается с ним как со знатным заложником и каждый вечер приказывает доставить его к себе в шатёр для чаепития и беседы...
— Кто его охраняет?
— Десять тургаудов из личной сотни Тохтамыша. Они сменяются дважды за ночь. — Або умоляюще посмотрел на Заура. — Отпусти меня. Я рассказал тебе правду, клянусь!
— Когда была последняя смена?
— В полночь.
— А следующая?
— На рассвете... Но вы не пройдёте мимо них без золотой пайцзы! Даже повар не может приблизиться к белой юрте — еду царевичу относит кто-то из стражников...
Заур повернулся к Тору и вполголоса произнёс:
— Полночь была давно. А рассвет близко.
Тор понятливо кивнул.
— Стража, конечно, не спит. Но она устала — руки не те, и глаза видят хуже. Ты прав, лучшего времени не будет. Вот только — справимся ли мы вдвоём?
— Втроём. — Лоза в волнении вскочил на ноги и стиснул рукоятку кинжала. — Вы должны... Вы обязаны взять меня с собой!
Заур промолчал. Тор крякнул и положил мальчишке руку на плечо.
— А кто присмотрит за лошадьми?
— Вот он. — Лоза кивнул на Антона.
— Нет, — резко возразил Заур. — Он чужеземец, и мы ничего о нём не знаем. Правда, он хорошо показал себя в бою, но... Этого недостаточно. Поэтому он будет присматривать за лошадьми, а ты — за ним.
Антон собрался было оскорбиться, но Тор исподтишка сунул кулак ему под нос.
— Но я... — начал Лоза.
— Ты воин, — сказал Заур. — И ты должен помнить об этом.
Он присел возле заплечного мешка, вынул оттуда глиняную чашку, перевязанную сверху тряпицей. В чашке оказалась сажа. Заур макнул туда указательный палец и принялся сосредоточенно рисовать на лице чёрные полосы. Тор несуетливо последовал его примеру. Ну чисто спецназ, восхитился Антон. И услышал робкий голос Або:
— Что вы сделаете со мной? Заур, ты ведь не сможешь меня убить? Вспомни, мы с тобой из одного селения...
— Я помню, — коротко отозвался тот.
Поднял голову и встретился взглядом с Тором.
Ни тот, ни другой не произнесли ни слова, но отлично поняли друг друга. Антону на секунду почудилось, будто Заур просил о чём-то своего товарища — молча, одними глазами. Тот сказал без выражения:
— Я не кингит. Мой отец был из абастов, а мать — из хазар... Да ты и сам знаешь.
Странно, подумалось Антону. С чего бы это Тору захотелось совершить экскурс в свою родословную? Или он оправдывается: я-де не имею с этим иудой ничего общего? Нет, непохоже...
И вдруг будто молния сверкнула в голове — видимо, подсказал тот, кто послал его в этот мир (Антону он представлялся в разное время по-разному: то белобородым стариком, этаким небожителем с предгорий Тибета, то резидентом неизвестной разведывательной сети с устало-благородным лицом Вячеслава Тихонова)...
У кингитов самым страшным и большим грехом считается убийство соплеменника.
А Тор не был кингитом.
Заур подошёл к пленнику сзади, вынул кинжал из ножен (Або испуганно отпрянул) и разрезал верёвку, стягивавшую его запястья.
Або изумлённо посмотрел на свои руки и прошептал, давясь слюной:
— Спасибо, брат...
— Не называй меня братом, — ровно сказал Заур.
— Да, да, прости... Ты вправду хочешь отпустить меня?
Заур покачал головой.
— Сейчас мы отправимся в лагерь монголов, чтобы спасти царевича Баттхара. Мы отвезём его в Тебриз, к царю Гюрли, и ты поедешь с нами. Там решат, как с тобой поступить.
И отвернулся. Равнодушно, даже беспечно. Чересчур беспечно, словно давая шанс...
Або нельзя было оставлять в живых — вот о чём говорил взгляд Заура, обращённый к Тору. Ничего нового и необычного в этом не было: при всех правителях, при любой общественно-экономической формации случайные свидетели — те, кто на беду свою коснулся секретной операции такого уровня, уничтожались без всякой жалости. Они натыкались на собственный нож во время эпилептического припадка, травились колбасой, погибали в автокатастрофе, падали с моста, с лошади, с велосипеда — суть от этого не менялась.
И Або прыгнул. Из немыслимого положения, оттолкнувшись одной ногой от земли, а другой — от дерева, метя основанием ладони в подбородок Заура.
Заур и не подумал защититься. Удар опрокинул его, и он упал спиной на камни, неловко (чересчур неловко) подвернув руку. Наверное, Або мог бы пустить в ход саблю — она до сих пор висела у него на поясе. Однако ему было не до того: он стремглав, как олень, уходящий от волков, рванулся прочь, к монгольскому лагерю. И в первый миг все застыли, не в силах помешать...
Вот он достиг протоки. Вот разбежался и прыгнул — увидел бы этот прыжок тренер олимпийской сборной по лёгкой атлетике — точно сдох бы от зависти. Або ведь почти перелетел через широкий ручей...
Скудного Антонова умения не хватило, чтобы заметить, как в руках Тора оказался лук. И как длинная стрела с орлиным оперением сорвалась в полёт с тугой тетивы. Только что-то свистнуло в воздухе — и Або вдруг с размаха ткнулся лбом в невидимую преграду. Он рухнул в воду посередине протоки, однако тут же вынырнул, ещё не веря в собственную смерть, потянулся к окровавленному наконечнику, навылет пробившему горло, но не сумел достать...
Тор молча опустил лук. Он знал, что правки не требовалось. Заур посмотрел на него и снова кивнул — на этот раз с благодарностью. Сегодня Господь был милостив к нему, не позволив убить соплеменника. Того, с кем жил в одном селении, кто гулял у него на свадьбе и с кем в день рождения первенца закопал в саду бочонок с вином. Он собирался выпить это вино через много лет, в тот день, когда его повзрослевший сын приведёт в дом молодую красавицу и скажет: «Это моя невеста, отец...»
Глава 6 БЕГ ПО КАМНЯМ
Они ушли перед рассветом.
Ни у кого из них, понятно, не было при себе часов — три века пройдёт, прежде чем человечество додумается до стрелок и циферблата. Поэтому Заур просто, без затей, глянул на небо и хлопнул Тора по плечу:
— Всё, пора.
Плечи Лозы дрожали, будто от холода. И губы тоже — он из последних сил старался скрыть это, но получалось плохо. Заур много лет был ему вместо отца.
— Ты ведь вернёшься, правда? — спросил юноша.
— Конечно, — отозвался Заур, как о чём-то само собой разумеющемся. — Выкрасть Баттхара — ещё не самое трудное. Вот идти потом с ним в крепость через три перевала — это будет посложнее, тут всякое может случиться.
Он взял парнишку за подбородок и пристально посмотрел ему в глаза. И Антон, наблюдавший эту сцену, подумал, что уверенность и спокойствие Заура — чуть-чуть напускные. Тот знал, что их предали — должно быть, ещё на взлёте, и Тохтамыш, которому был известен их маршрут (от кого, чёрт возьми?!), послал отряд им наперерез.
Хану не суждено было дождаться назад своего отряда. Лежат теперь его воины, да не под курганами в родной выжженной солнцем степи, а в чужих горах, под чужим небом. И никто не споёт над ними торжественной погребальной песни... Только, если вдуматься, это не имело особого значения. Давно пожелтевшая рукопись, которой ещё предстояло родиться на свет и которая сейчас покоилась у Антона на груди, обещала аланскому царевичу Баттхару доблестную смерть в монгольском плену. А это означало...
Странное чувство охватило его. Он смотрел на Заура, Лозу и Тора Лучника — таких же живых людей, как и он сам. Смотрел, как они кивнули друг другу (удачи, мол!) и двое бесшумно растворились в начинающей бледнеть тьме. Он точно знал, что видит их в последний раз: живые люди были уже, по сути, мертвы...
Интересно, что же будет дальше, думал Антон, искоса поглядывая на мальчишку — тот сидел на земле, обхватив руками колени, глядел туда, куда ушли его друзья, и до крови кусал губы. Что предпримут монголы, обнаружив и убив тех двоих? Видимо, прочешут местность, чтобы выяснить, нет ли поблизости кого-то ещё — да, на их месте он бы так и поступил. Сначала уничтожил бы диверсантов, а потом отправился на поиски их пристанища (благодаря западному кинематографу никогда не служивший в армии Антон был подкован в теории на четыре ноги). Они обыщут местность и неизбежно наткнутся на них с Лозой, причём Лоза не задумываясь ринется в схватку — ополчись на него хоть всё монгольское войско. Он не уйдёт ни за какие коврижки.
Сколько они продержатся? Минуту, от силы две. Потом Лозу убьют, и я останусь один.
Если вообще останусь.
Эта мысль (а что будет со мной?!) обожгла огнём. И родила другую, не менее «героическую»: надо бы двинуться поближе к лошадям. Пока монголы будут заниматься мальчишкой, можно успеть прыгнуть в седло и...
Он ощутил, как жаркая краска бросилась в лицо. Посланник из будущего, блин.
— Всё будет нормально, — как можно твёрже сказал он. — Они вернутся.
— Ты-то почём знаешь? — не оборачиваясь процедил Лоза.
— Знаю, — со значением ответил Антон. — Ведь недаром же вы спасли меня из-под лавины, верно?
— Верно, — пробормотал юноша, и его лицо немного смягчилось.
...Они оба вздрогнули, когда оттуда, из монгольского лагеря, донёсся полный ярости крик. Потом к нему присоединился другой, затем третий, заметались неясные тени меж юртами, дико заржали кони у коновязи...
— Началось, — сказал Лоза. — Живо, отвязывай лошадей!
Антон вскочил на ноги, а сердце, наоборот, камнем ухнуло вниз: он-то знал, что всё закончилось. Шум в ставке Тохтамыша мог означать одно: Заура и Тора Лучника обнаружили.
«Ты должен спасти царевича Баттхара, и тогда Копьё Давида объединит...»
Он горестно вздохнул. Прости меня, девочка, — похоже, я не оправдал твоих надежд...
— Вон они! — вдруг заорал Лоза уже в полный голос, не таясь.
Их было двое. Антон не верил собственным глазам, но ошибка исключалась: двое бежали через низину к протоке, прочь от монгольского лагеря. Один, повыше и поплотнее, бежал как-то странно скособочась и припадая на левую ногу — видимо, был серьёзно ранен, и не единожды. Второй, одетый в богатый меховой плащ, хоть и был цел и невредим, всё время отставал, и его приходилось чуть ли не волоком тащить за собой. Похоже, он был непривычен к бегу. И это был не Тор Лучник: того Антон узнал бы и в кромешной тьме. А теперь было почти светло: здесь, в горах, рассветы и закаты стремительны, и ночь перетекает в день быстро и незаметно, словно фокусник достаёт из шляпы белого кролика...
— Где же Тор, чёрт возьми? — напряжённо спросил Лоза.
Побледневший Антон молча вытянул руку, указывая направление. Там, слева из-за холма, из-за порушенной каменной башни-великана, наперерез беглецам летели галопом всадники. Заур оглянулся на бегу, смерил глазами расстояние...
— Не уйдут ведь, — в отчаянии прошептал Лоза.
Не уйдут, про себя согласился Антон. Через пару минут их догонят и окружат. И хорошо, если убьют сразу, не мучая. А я-то подумал было, что Господь сжалился и явил-таки чудо... Только давно уже всему миру известна нехитрая истина: нас много, а чудес — мало. На каждого и не хватит.
А потом они увидели Тора. Тот стоял на пути монголов, спокойный и неподвижный, даже царственный, напоминая обликом старый могучий дуб, выросший на просторе больше вширь, чем ввысь. Монголов был двадцать или тридцать — передние, издав гортанный вопль, уже взметнули сабли, привстав на стременах. Ещё миг — и сабли опустятся...
Тор хладнокровно поднял лук. И сильным движением, до правого плеча, натянул тетиву.
Антон, несмотря на опасность, забыл обо всём на свете. Лоза, кажется, тоже — оба они во все глаза смотрели на Тора, разинув рты в немом восхищении и ужасе: куда там было киношным Брюсу Уиллису вкупе со Шварценеггером... Там-то, перед камерами, легко палить из автоматов, зная, что патроны холостые, кровь бутафорская, что враги, согласно режиссёрскому замыслу, вовремя и красиво попадают, словно сбитые кегли, и встанут, едва прозвучит команда: «Стоп, снято!»
Здесь не было камер. Не было видно осветителей, не суетились ассистенты, не бегала вечно взволнованная девушка с хлопушкой, объявляющая дубль. Нельзя было перемотать плёнку назад — и передний монгол, на полном скаку вылетевший из седла со стрелой под сердцем, никогда больше не поднимется. И второй, вспахавший носом землю, и третий, застрявший ногой в стремени, — больше не встанут, не встанут, не встанут... Тор стрелял с размеренностью автомата Калашникова. И следующая стрела срывалась с тетивы прежде, чем предыдущая успевала найти цель (книжный штамп, в который Антон не верил, считая литературным преувеличением, а вот поди ж ты, довелось увидеть воочию и убедиться...).
Монголы летели вперёд, охватывая одинокого стрелка полукольцом. Шесть лошадей уже скакали по пожухлой траве без седоков, но остальные приближались с двух сторон, и даже мастерства Тора недоставало, чтобы успеть снова натянуть тетиву.
Он отшвырнул лук прочь и выхватил из-за пояса топор. Блестящее лезвие, покрытое чёрным узором, с шелестом описало круг, и ещё двое всадников с визгом рухнули на землю вместе с конями. Тор угрожающе оскалился, снова замахнулся... И тут на его голову обрушились сразу несколько страшных кривых сабель.
Опустились, ударили — и полетели дальше, не задержавшись.
Однако Тор продолжал стоять. Он не умер — он не мог позволить себе умереть прежде, чем Заур со своим спутником достигнут места, где их ждали Лоза и Антон. Кровь заливала его лицо, кто-то из монголов пустил стрелу на скаку, и она ударила Тора меж лопаток... Тот даже не обратил на это внимания. Сейчас его занимало лишь одно — и когда Заур наконец оказался в седле, Тор закричал.
Громко, победно, торжествующе... Так, что люди, кто находился по ту сторону гор, подняли головы, оторвавшись от своих мирных или немирных дел. И подумали: это отлетела душа великого воина. Того, о ком и через сто лет будут слагать легенды...
Тор упал лицом в траву, разбросав руки, словно собираясь обнять друга после долгой разлуки. Или — любимую женщину. Солнце над ним, не успев выйти на небосклон, вдруг, будто опечалившись чему-то, ушло за гору. И стало темно.
— Быстрее, — прохрипел Заур.
Он влез на коня с трудом: мешала глубокая рана в боку от чужого копья и рассечённое бедро. Правая рука бездействовала: в ней чуть ниже плеча — некогда выдернуть — торчал обломок стрелы.
Его новый спутник, великой ценой спасённый из монгольского плена, вскарабкался в седло не с большей сноровкой. Антон взглянул на него мельком и хмыкнул про себя: так вот ты каков, Баттхар Нади, сын Исавара, даря аланов.
Тот был молод. Почти до неприличия — и никак не ассоциировался с будущим правителем огромного народа-воина, где каждый чуть ли не с колыбели умеет скакать на коне и драться на мечах. Небольшой рост (фигуру было не разглядеть из-за расшитого узором аланского плаща), круглое лицо, ещё не лишённое детской припухлости, большие выразительные глаза, в данный момент расширенные от полноты свалившихся на голову впечатлений. Смоляные брови вразлёт — любая восточная (да и не только восточная) девушка гордилась бы такими бровями, ухаживала бы за ними, смазывала на ночь специальным гелем (если таковой существует в природе), а по утрам, закусив губу, выщипывала лишнее, сидя перед зеркалом в ванной... Такие же тонкие чёрные усики, словно приклеенные над верхней губой: а ведь девчонка получилась бы, кабы не эти усики, мелькнула несвоевременная мысль.
Мелькнула — и исчезла, некогда было размышлять.
И у Заура, которого прощальный крик Тора словно бритвой резал по сердцу, были сухие глаза и плотно сжатые губы. Не было времени даже вздохнуть о боевом друге, не то что прочитать молитву, как он того заслуживал.
Наверное, Заур впервые в жизни вытянул коня плетью — до сих пор он обходился лишь голосом и поводьями. Конь, ранее не знавший такого жестокого обращения, обиженно заржал и рванулся с места в бешеный галоп. Боже, как же летели они — четверо всадников — сквозь хлеставший по глазам зыбкий рассвет, как стучали копыта и коченели руки, державшиеся за раскалённые от скачки конские гривы! Только бы не выпасть из седла, твердил про себя Антон, как заклинание. Только бы не выпасть...
Расшитый узорами меховой плащ царевича маячил впереди. Баттхар тоже не слишком ловко держался в седле, но страх — оголтелый, нерассуждающий, суеверный — гнал его вперёд, заставляя бестолково колотить по крупу коня, который и без того вкладывал в скачку все силы.
А Заур отставал. Временами он, кажется, терял сознание и приникал к лошадиной шее, и только воинская выучка не позволяла ему упасть под копыта. Лоза сбавил темп, приблизился к нему, чтобы поддержать на скаку... Тот сердито, даже зло выкрикнул:
— Не смей! Слышишь, не смей думать обо мне! Сейчас главное — царевич!
По пыльным щекам Лозы протекли две влажные дорожки. То ли ветром высекло, то ли...
Антон оглянулся. Монголы медленно, но приближались — уже можно было рассмотреть грязный и местами порванный халат на нукере, что скакал впереди всех, его белые от ярости глаза и оскаленный рот... Они никогда не моются, сказала девушка-аланка, с которой Антон повстречался на берегу Чалалат, на перекрёстке двух сопредельных миров. Они боятся смыть с себя удачу в бою, боятся, как бы кровожадный бог Сульдэ не отвернул прочь свой лик...
В руках у нукера появился лук. Он прицелился и выстрелил на полном скаку, но стрела не долетела, зарылась в землю где-то позади беглецов. Жалко, Тор не видел этого выстрела, мелькнуло в голове Антона. Вот бы посмеялся...
— Влево! — крикнул Заур. — К скалам!
Цепочка зелёных холмов — предгорья Сванетии — окаймляла широкую равнину с запада. Пологие, удобные для лёгких пеших прогулок холмы, покрытые тисом, могучими соснами и пихтами, с противоположной стороны почти вертикально обрывались вниз, точно великан рубанул по живому громадным мечом. Знакомые места, отрешённо подумал Антон, поворачивая коня. В последний раз, помнится, мы приезжали сюда на автобусе из Лайлы — на тамошней турбазе был отличный бар с бильярдом и боулингом. Светка Аникеева обожала гонять шары — это позволяло ей демонстрировать окружающей публике свои ягодицы. Зимой база работала как горнолыжный курорт и была под завязку набита богатенькими нуворишами, поднявшимися на торговле фруктами, и их сучками-фотомоделями — все как один в обязательной упаковке из «фишеровских» карзинговых лыж, ярких, как куртки дорожных рабочих, спортивных костюмов и горных очков «Turbo-CAM» по сто пятьдесят баксов за пару. Летом же там было почти пусто: нувориши косяками отлетали на Канары, прихватив своих сучек-моделей, остальное население великой страны осёдлывало картофельные поля, грядки с капустой, морковкой и огурцами. Горный туризм в первоначальном виде — с рюкзаками и ледорубами — медленно приходил в упадок. Редкие группы альпинистов, мечтающих покорить Местию и Ходжали, забрасывал сюда, как в промежуточный лагерь, рейсовый автобус с вечно пьяным водителем, и на три-четыре дня долина вновь оживала, превращаясь в некий диковатый вещевой рынок: хитроглазые осетинки вываливали перед туристами свитера из козьей шерсти, носки, рейтузы и варежки ручной вязки, степенные горные мужчины тащили бутыли с чачей, сыр, виноград и почему-то запчасти к иномаркам. Странно, но где-то в глубине души Антон ожидал увидеть знакомое: главный корпус с подъездной аллеей, пустующий постамент, на коем, по утверждению старожилов, не так давно ещё красовался бюст отца народов, длинное, словно пулемётная лента, стеклянное здание столовой-бара-ресторана, финские домики для обслуги и подъёмник с уютными креслицами. И — штормовки, рюкзаки, спортивные шапочки... Былое вавилонское столпотворение.
Стрела пропела над самым ухом, возвращая в действительность. (Кой чёрт «действительность»?!) Вперёд пути не было: зелёная долина упиралась в скальную гряду, и забраться по ней можно было, лишь имея альпинистское снаряжение. Так же неприступно выглядела и западная стена — было полное впечатление, будто они с разгона влетели на дно гигантской кастрюли. Однако Заур, видимо, знал, как выбраться из неё, не угодив в суп. Меж двух рыжеватых скал, почти касающихся вершинами, открывалось ущелье — такое узкое, что заметно было лишь с определённой точки. Вдоль него круто вверх уходила каменистая тропа, похожая на серую гадюку. Нечего было и думать подняться по ней с лошадьми...
Заур соскочил с седла, жестоко припав на рассечённую ногу. На краткий миг он коснулся шеи своего коня — будто прощаясь с боевым товарищем. Да, наверное, так и было. Снял уздечку и шлёпнул коня по крупу, отгоняя от себя прочь. Лоза с Антоном, ни слова не говоря, последовали его примеру. Царевич Баттхар замешкался, но тут уж Антон, наплевав на классовые различия, чуть ли не за шкирку сбросил его с лошади и непочтительно подтолкнул в спину: шевелись, мол, фуникулёр ещё не изобрели...
Они едва успели юркнуть за камни и затаиться, вжавшись телами в землю. Царевич, похоже, впервые попавший в подобный переплёт, возбуждённо пытался то расспрашивать своих спасителей, кто они такие и почему не обеспечили должного комфорта при путешествии, то командовать — но тут донельзя раздражённый Заур взглянул на него с такой яростью, что Баттхар затих на полуслове. Монгольские всадники кружили под самыми скалами — так близко, что можно было легко добросить до них камень.
Их предводитель — рослый и болезненно худой, верхом на дымчато-сером иноходце, в дорогой броне и с длинным шрамом, пересекающим лицо, зло поигрывал плетью. Его буквально душила ярость, и он чуть не зарубил своего подручного, доложившего, что беглецы исчезли из-под носа. Лошадей их удалось поймать: те мирно паслись неподалёку и ещё не остыли от бега. С одним конём — чёрным как смоль аргамаком — пришлось повозиться: он никак не желал подпускать к себе чужих...
Может быть, они обернулись птицами и улетели, суеверно подумал предводитель. Для тех, кто сумел пробраться в хорошо охраняемый лагерь и украсть знатного пленника, нет почти ничего невозможного. Ему вспомнились бешеные глаза Тохтамыша, когда тот выскочил из своего шатра — полуголый, страшный, с окровавленной саблей в руках — он только что снёс головы двум тургаудам, стоявшим на страже у юрты аланского царевича... «Бери своих людей, Алак-нойон, — прошипел хан, брызгая слюной. — Бери сколько понадобится и скачи в погоню. Приведёшь мне беглецов живыми — будешь сидеть в моём шатре, по правую руку».
Должно быть, в глазах Алак-нойона мелькнуло удивление. Сидеть на пирах по правую руку хана и подливать вино ему в чашу имел право лишь его любимый эмир Уртун-Мелик — он был с Тохтамышем, когда тот ещё боролся за трон Золотой Орды и когда он бежал на Кавказ, преследуемый более удачливыми соперниками. Уртун-Мелик командовал его личной охраной, ему хан доверял закалывать тонкорунного барана, чтобы принести жертву богу Сульдэ, дарующему победу. Ему Тохтамыш отдал в жёны свою дочь, черноокую красавицу Бургунджи...
Тохтамыш уловил удивление своего подчинённого и поднял левую руку. В ней он держал за волосы мёртвую голову своего зятя.
— Вот он, досточтимый Уртун-Мелик, — спокойно сказал он. — Это его воины упустили ночью вражеских лазутчиков. Ты хорошо понял меня, Алак-нойон?
— Внимание и повиновение, — прошептал тот, касаясь лбом земли.
Без пленников возвращаться в лагерь не имело смысла. Легче было вытащить кинжал из ножен и чиркнуть им по горлу...
Нет, они не птицы, подумал он. Они не могли стать птицами...
— Обыскать всё кругом, — процедил он сквозь зубы. — Заглянуть под каждую травинку, каждый камень перевернуть. Да поживее, шакальи дети!
Заур тихо отлепился от скалы и показал глазами наверх: лезьте, мол.
Тропа поднималась всё круче и всё больше сужалась: вскоре по ней можно было идти лишь боком, упёршись спиной в одну стену, а грудью — в другую. Лоза двигался вперёд ловко и бесшумно, как кошка. (Ну да, вспомнил Антон, он же кингит, они приучены лазать по скалам с малолетства...) Баттхар почти не отставал — видимо, могучий инстинкт самосохранения делал своё дело. Заур шёл замыкающим, с обнажённым клинком в левой руке. Правая — та, в которой торчал обломок стрелы, висела плетью. Но Антон знал: если что — Заур встретит погоню один, дав остальным уйти. И хорошо будет той погоне, коли от неё уцелеет хоть половина.
Небо вдруг потемнело. Антон поднял голову: оказывается, две скалы так плотно подошли друг к другу, что верхушки их сомкнулись, образовав полукруглый свод. Это было уже не ущелье, а длинный горный туннель, уходивший куда-то во тьму. Оттуда веяло холодом и доносился невнятный то ли гул, то ли шёпот: такое же ощущение возникает, если приложить ухо к морской раковине.
При мысли, что сейчас придётся идти туда, Антон содрогнулся. Представились вдруг прикованные к стенам белые скелеты и радостно улыбающиеся черепа, обтянутые паутиной в палец толщиной. И наверняка под сводами прилепились летучие мыши — целые колонии мохнатых зубастых тварей. Впрочем, Антон тут же одёрнул себя: уж перед аланским царевичем свою нерешительность демонстрировать не следовало.
Он оглянулся на Заура. Тот шёл сзади по-прежнему легко, и рука по-прежнему крепко сжимала рукоять меча, только лицо было серого оттенка, и едкий пот капельками дрожал на висках.
— Тебе бы отдохнуть, — сказал Антон. — И рану перевязать. Свалишься ведь.
— Позже, — отрывисто отозвался Заур. — Скоро будет языческое капище...
— Чьё? — Антон не удержался от любопытства. — Чьё капище?
— Древних. Тех, кто жил тут до нас. Не спрашивай, сам увидишь.
Они шагнули в пасть горы, как в ледяную прорубь. Антон обернулся: вдруг остро, до боли, захотелось увидеть лучик света снаружи. Однако — странное дело — позади было темно, хотя они удалились от входа... ну, может, на десяток шагов.
Так темно, словно кто-то заботливо притворил за ними дверь.
Беглецы ушли сквозь расщелину — это стало понятно, когда кто-то из монголов обнаружил след под скалой. След выглядел странно: будто подошва сапога была изрезана ёлочным узором. Алак-нойон не встречал такого прежде. Но это его нимало не смутило — его ноздри крупно подрагивали в предвкушении запаха крови. Алак-нойон был хорошим охотником.
Вперёд он пустил двух самых низкорослых воинов, дав им самые большие щиты. Это было разумно: беглецы, обнаружив, что сами себя загнали в ловушку, наверняка устроят впереди засаду и будут стрелять из луков. Алак-нойон жаждал этих стрел, как подарка небес. Он подождёт, пока беглецы истратят весь свой невеликий запас, и возьмёт их живьём. Хан запретил трогать аланского царевича: знатный пленник, если он мёртв, стоит недорого. Но вот остальные... Их можно будет допросить, а потом, коли ничего не скажут (а и скажут — не всё ли равно...), — сварить в кипящей смоле. Или перепилить шеи тупой деревянной пилой. Или бросить в яму со змеями — да мало ли какая фантазия может прийти на ум. Одно он знал точно: быстрой и лёгкой смерти пленники не дождутся.
Ему понравилась эта мысль, и он рассмеялся. И резко оборвал смех, когда узкая тропа, по которой они пробирались наверх, внезапно упёрлась в глухую стену. Стена была абсолютно гладкой — словно горный дух многие тысячелетия шлифовал её. Подняться по ней не смог бы и очень ловкий человек.
Беглецы снова ушли — улетели, обернувшись птицами, на этот раз Алак-нойон оставил свои сомнения. Ему вдруг почудилось, будто горы презрительно хохочут над ним. Только этого хохота не было слышно...
Глава 7 ПЛАЩ И КОЛПАК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Сокол в небе бессилен без крыльев. Человек на земле немощен без коня. Тем более если он в горах. Конь-то у меня был, но я потерял его: он сломал ногу на перевале, спускаясь в долину реки Терек.
Помню, как я наклонился над ним и посмотрел в глаза. Они казались человеческими... Да нет, куда человеческим до них. В них плескалось целое море разных чувств: и сожаление коня, что он не в состоянии служить мне верой и правдой, как раньше, и безысходная тоскливая боль, и понимание, что вот он, конец... А потом вдруг я понял, что конь смотрит на меня не просто так: он просил... Просил о последней милости, о последнем драгоценном подарке. И я не смог отказать ему.
Я вынул кинжал из ножен — верный мой спутник, выкованный на моей далёкой родине, на западе Ирана, блеснул на солнце бесскверным лезвием и будто застыл в ладони, ожидая приказа. Я вложил в удар всё своё умение: мне очень хотелось, чтобы конь умер без мучений. И мне это удалось.
Дальше я шёл пешком. Мне было не привыкать: я и раньше нечасто садился в седло, предпочитая вести коня в поводу. А иногда он шёл сам, лишь изредка отвлекаясь на траву, что росла вдоль дороги. Или на непонятные мне препирательства с белым осликом, который нёс поклажу. Обычно ослик смирно семенил позади, но, бывало, шлея попадала ему под хвост, он начинал задираться, а получая сдачу — обиженно ревел и бежал ко мне жаловаться. Иначе говоря, бедные мои животные вели себя точь-в-точь как люди, сближенные долгим и трудным путешествием: ругались и мирились, кусали и лягали друг друга, чтобы в следующую минуту спокойно пощипывать травку морда к морде. Теперь же, лишившись товарища, ослик погрустнел, не оживляясь даже при виде морковки, которую я обычно припасал для него, и белая шёрстка, мягкая, будто сделанная из тончайшего бархата, вдруг словно попала из солнечного света в сырую тень, разом поблекнув и сделавшись похожей на старый-престарый коврик для ног.
Интересно, что сказал бы дервиш, которого я когда-то встретил на рынке в Седжабе? Какое пророчество он изрёк бы, погладив моего ослика между ушами? Тебя ждут суровые испытания, мой друг, сказал бы он мне. Впрочем, нет, это было бы слишком просто. Такое напророчить мог любой бродяга, промышляя медный дирхем в бедном квартале. Коли животное выглядит грустным, следовательно, оно нездорово и вскоре падёт, если не лечить. Отсюда и «суровые испытания»: кто же будет таскать мой мешок и время от времени — меня самого? Простая логика, без всякого озарения свыше.
Ты встретишь женщину, сказал бы мой дервиш, касаясь пальцами своей бороды (смешно, но я, неосознанно подражая ему во всём, тоже отрастил бороду, хотя она совсем не подходила к моему лицу: казалось, будто я сделал её из мочала и приклеил к подбородку). Ты полюбишь эту женщину, и она ответит тебе взаимностью — это будет очень короткая любовь, которая сгорит, подобно падающей звезде...
Наверное, я бы усмехнулся, услышав такую речь. И спросил бы: ну почему же короткая? Или моя женщина предпочтёт другого? Или меня самого перестанут волновать её ласки, и я покину её постель так же, как когда-то покинул дворец в Седжабе — тайно, на заре, пока стража спит? Ты что-то путаешь, дервиш, сказал бы я и рассмеялся. Было время, когда ты читал мысли Аллаха так же просто, как Священную книгу Масхари-Шериф[10]. Но с тех пор ты стал слеповат. Лежи себе у очага, грей старые кости да рассказывай сказки детишкам — на большее ты не способен.
Так я беседовал с ним довольно часто — когда не мог найти другого собеседника. Разве что ослик...
Но тот никогда не отвечал мне, и никогда не вступал в спор. А дервиш — отвечал. Иногда серьёзно, иногда — язвительно, и тогда я забывал, что его нет рядом, что я сам убил его много лет назад, бросив в каменный мешок. Жалко, что он покинул этот мир так некстати: он бы улыбнулся, узнав, что его пророчества понемногу начинают сбываться...
Я наблюдал это всюду, куда забрасывала меня судьба. С севера и запада, от побережья Великого моря, тысячами двигались люди. Они ехали на лошадях и в повозках, шли пешком, навьюченные поклажей, вели за руку плачущих перепуганных детей, гнали скот, оставляя за спиной брошенные деревни, поля и виноградники, погибающие без полива. Я встречал этих людей на пыльных дорогах Сванетии и заснеженных перевалах Скалистого хребта, на переполненных постоялых дворах, чьи хозяева, должно быть, воздавали хвалу Аллаху, подсчитывая дневную выручку (глупцы, они не подозревали, что вскоре сами будут вынуждены бежать, бросив нажитое, или — у кого хватит сил — браться за оружие...), и просто под открытым небом, если ночь заставала их вдали от селений. Они напоминали мне животных, спасающихся от лесного пожара. Гордый горбоносый грузин шёл рядом с плотным низкорослым абастом, привыкшим больше грести веслом или ловить парусом ветер, зажиточный винодел из народа лазов подозрительно поглядывал на верхового хазарина... Вековая вражда меж разными племенами заставляла сторониться соседа и ни ночью ни днём не расставаться с оружием. Оружие здесь чтили больше, чем еду, одежду и даже собственную жену. Разве что хороший конь мог сравниться с ним в цене. Или добротные сапоги, без которых путнику в горах грозит гибель.
Весть о нашествии Тимура неслась по горам быстрее самых быстрых гонцов. В аулах и кишлаках, на городских площадях и в пастушьих кошах шёпотом рассказывали о неисчислимом войске, сплошь состоящем из полудиких всадников на низкорослых мохнатых лошадях — эти всадники, передавалось из уст в уста, красят охрой гривы коней и собственные волосы, чтобы устрашать врагов. Они не знают человеческой речи и только рычат, брызгая слюной, а после битвы сжирают трупы своих врагов. Диковинные верблюды и быки тащат огромные стенобитные машины, против которых не смогли устоять даже стены Тифлиса и башни Мездры[11], что были сделаны не из кирпича, а вырублены в монолитной скале...
Рассказывали, будто Тимуру, однажды решившему устроить смотр войску, понадобилось три дня, чтобы проскакать вдоль его передней линии, хотя воины его стояли бок о бок. Не три, а все девять, возражал кто-то — разве можно за три дня преодолеть расстояние от Эльбруса до Кулзума[12]. При том, что хан наверняка останавливался, дабы дать отдых своему коню, или отведать в шатре жареного мяса, или насладиться красивой женщиной. Или наградить отличившихся воинов: ведь в его войске были те, кто сопровождал его в Китайском походе, кидался на стены Бухары и Самарканда, дрался с русами на берегах далёкой Итили и наматывал на копыта коней сады древней Колхиды... Как, должно быть, кричали они, поседевшие в великих битвах ветераны, приветствуя своего кагана, каким восторгом заходились их сердца, как ревели глотки, завывали трубы и били литавры, трепетало на ветру знамя с золотым барсом, и нервно, явно красуясь, пританцовывали боевые кони под седоками... Впечатляющее, наверное, было зрелище — жаль, я не видел этого.
И всё же лицо кагана не выражало должной радости. Знаменитый жеребец — золотисто-рыжий, с чёрным ремешком вдоль хребта, отлично, видимо, зная, что на него устремлены многие тысячи глаз, собранным галопом шёл вдоль бесконечных шеренг, послушный воле своего великого наездника, а мысли того были темнее пасмурного осеннего неба. Ибо много воинов полегло в последнем походе. Много больше, чем прислали в этот раз ханы Белой и Золотой Орды. Это было не по правилам.
Тимур хорошо помнил жаркое лето 750 года Крысы. Лето, когда горела степь и плавились солончаки, лошади падали от бескормицы и обезумевшие матери, чьи груди перестали давать молоко, в отчаянии бросались в огонь. Когда небо пряталось под чёрной пеленой дыма и ханы, заседавшие на курултаях, грызлись меж собой, точно голодные гиены из-за куска падали.
Сам каган сильно изменился за прошедшие годы. Трудно было узнать в нём — великом правителе великого государства — того дерзкого безродного мальчишку, сына берхасского бека, который в компании таких же безродных юных бандитов грабил купчишек победнее, у кого недоставало средств на надёжную охрану. Много воды утекло с тех пор. Множество раз зиму сменяло лето, а Хромой Тимур, проезжая вдоль грохочущего войска, ощущал, как слабеет его былое могущество.
Без малого полтора века улусы Белой и Золотой Орды давали всадников монгольскому войску. Десять тысяч воинов в год — и каждый должен был иметь при себе копьё, саблю и лук с запасом стрел, походную юрту и двух лошадей: верховую и заводную. Так давал воинов в войско Тимура предводитель Золотой Орды Арас-хан. Так давал воинов Батыю его дед, а Чингисхану — прадед. Так, верилось, будет и впредь, пока существуют земли, которые нужно завоевать.
Ныне Арас-хан изменил вековому обычаю. Страшное ли бедствие от пожаров было тому причиной, или он задумал это много раньше — бог весть. Гонец, прискакавший из орды, вошёл в шатёр Тимура и распростёрся ниц на ковре, где неизвестный мастер живо изобразил сцену охоты тигра на пугливую молоденькую лань. Тигр выглядел устрашающе: чёрные и жёлтые полосы делали его похожим на демона, вырвавшегося из ада, клыки напоминали лезвия мечей, и гонцу было страшно. Пожалуй, пострашнее, чем той несчастной лани.
— Смутно нынче в Орде, — запинаясь, доложил гонец. — Досточтимый Арас-хан, желая усмирить непокорных эмиров и напоить их сердца нектаром преданности...
— Короче, — перебил Тимур.
— Внимание и повиновение, — поклонился гонец. — Так вот, чтобы пресечь недовольство своих подданных, досточтимый Арас-хан созвал Курултай племён и провозгласил себя Верховным правителем Золотой и Белой Орды, объявив о своём намерении объединить оба улуса.
— Иначе говоря, этот наглец узурпировал власть, — почти спокойно произнёс Тимур. — А что же остальные ханы? Что же мои верные Мирза Омар-шейх, Хаджа Сейфур, Кунге-оглан, шейх Али-бек, которого я отправил на Русь своим наместником? Неужели все безропотно подчинились Арас-хану?
— Давно уже беседуют с Аллахом и Ходжа Сейфур, и шейх Али, — еле слышно отозвался гонец. — Досточтимого Мирзу, правителя Армении, нукеры Арас-хана разорвали четвёркой лошадей, а Кунге-оглана едва не утопили в выгребной яме — вытащили полузахлебнувшегося, когда тот согласился присягнуть новому кагану на верность.
— И что, присягнул? — так же, не повысив голоса, осведомился Тимур.
— Присягнул, — подтвердил гонец, чувствуя свою голову уже отделённой от туловища. Участь многих гонцов такова: умирать без вины виноватыми за принесённые хозяину дурные вести. Двое ханских слуг (судя по рожам, висельники и душегубы едва ли не от рождения) уже напряглись, ожидая команды своего господина...
Однако хана, кажется, заинтересовало иное.
— Кунге-оглан, — пробормотал он, перебирая чётки из зеленоватого нефрита. — У него ведь, кажется, был племянник...
— Твоя память, как и твои дела, достойны восхищения, Светлейший, — тут же сунулся вперёд один из советников. — Хан Тохтамыш, троюродный племянник досточтимого... — и осёкся, сообразив, что не стоило называть досточтимым предателя.
Но хан не заметил оплошности царедворца. Мановением руки он отослал всех прочь из шатра — лишь двое телохранителей застыли у входа, задёрнутого шёлковым пологом. На них приказ не распространялся.
Каган медленно прошёлся по ковру и в раздумье остановился у кучи старого тряпья, очевидно, по чьему-то недосмотру брошенного у очага. В шёлковом шатре, среди стен в дорогих коврах и дорогом оружии, собранном едва ли не со всего света, это тряпьё выглядело нелепо.
— Неужели Тохтамыш простит Арас-хану надругательство над родным дядей? — проговорил Тимур в пространство.
Тряпьё неожиданно шевельнулось, и из него выпростался длинный морщинистый нос, украшенный уродливой волосатой бородавкой.
— Может, и простит, — послышался резкий надтреснутый голос — точно ворона прокаркала посреди кладбища. — Если ты, великий каган, не напомнишь ему о древнем обычае кровной мести. На самого почтенного Кунге-оглана не стоит надеяться: он стар и раздавлен свалившимся на него бесчестием...
Хан величественно кивнул. Тряпьё снова зашевелилось и село, приняв смутные очертания тощей старухи. Лет ей было столько, что никто не помнил её молодой. Далее сам каган смотрел на неё с некоторым суеверным недоумением — как на мумию, зачем-то извлечённую из фамильного склепа. Длинный нос её упирался в тощую цыплячью грудь, давно выцветшие полуслепые глаза настороженно косили из-под никогда не мытых седых косм, но на сухих запястьях позвякивали массивные золотые браслеты. В особо важных вопросах — тех, что нельзя было доверить никому из приближённых, — хан предпочитал советоваться лишь с ней. Эта старая ведьма по имени Кюль-апа стоила того, чтобы кормить её, беззубую, с золотого блюда и держать подле себя в ханском шатре.
Тимур Хромой не был бы великим правителем великого государства, если бы не имел в улусе Арас-хана верных людей. И те сделали своё дело. Пролетело удушливое лето, отпылали пожары в прикаспийских степях, растаял дым, обнажая давно забытое небо, — и вместе с первым, ещё робким, как поцелуй девушки, снегом, тавачии[13] молодого хана Тохтамыша, оседлав быстроногих коней, отправились по кишлакам — собирать ополчение.
— Нет на земле места тому, кто творит бесчинства среди собственных подданных, — громовым голосом выкрикнул Тохтамыш, поднимая коня на дыбы перед многотысячным войском, над которым развевался на ветру стяг с ханским гербом — головой чёрного быка. — Я заставлю Арас-хана змеёй уползти в камни, серой мышью спрятаться в земляную нору, скользкой жабой прыгнуть в вонючее болото... Я верну вам былую славу, завещанную нашими предками. Я поведу вас в битву. И — дам вам победу!
От мощного боевого клича, казалось, содрогнулись небеса. Тридцать тысяч всадников разом взметнули вверх копья, и могучий бык на знамени Тохтамыша угрожающе склонил лобастую голову. Жаль, я не видел этого. Я был далеко.
...Это чувство нельзя было назвать банальной тягой к перемене мест. Нет, меня словно некая дьявольская сила толкала в путь даже против моего желания. Куда и зачем — про то ведомо было лишь Аллаху. Я исходил морской болезнью на палубе русской торговой лодьи, и вместе с племенем муттхабанов дрессировал рабочих слонов в Западной Индии, поднимался на заснеженные кручи Тибета и изучал свитки f древними священными текстами в буддистском монастыре, вырубленном в толще безжизненной скалы, умирал от тоски и одиночества посреди пустыни и вертелся в людском водовороте на многоголосых азиатских базарах. Мой ослик, верный и единственный друг, сопровождал меня всюду — вряд ли найдётся под небесами другое доброе животное, повидавшее столько же или хотя бы половину. Он заметно постарел за время странствий: стёрлись копыта и зубы, поблекла бархатистая шёрстка, бывшая когда-то белее снега, — уж не счесть, сколько раз встречные купцы и путешественники предлагали мне за него весьма неплохую цену, соблазнившись редкой расцветкой... Я лишь качал головой. Ослик был моим волшебным талисманом, хранившим удачу в пути. Вот только я не знал, в чём она заключается, моя удача.
Города и страны менялись — где-то меня привечали (нескольким богатым правителям весьма пригодились некоторые мои услуги, и при желании я мог бы сделаться главным визирем при чьём-нибудь дворе), откуда-то мне приходилось уносить ноги — тайно, под покровом ночи, чтобы с рассветом не лишиться головы... Однако я не стал описывать эти приключения в моей рукописи. Они не стоили бумаги и драгоценных чернил, на которые я и так тратил уйму денег.
Я не видел, как ранней весной 772 года Барана полноводный Сарум вышел из берегов. И как в его низине, в одночасье превратившейся в топь, грудь в грудь сшиблись синий беркут и чёрный бык. Правитель Золотой Орды Арас-хан и мятежные войска Тохтамыша...
Страшная, говорят, была битва. Вязли в грязи конские копыта, падали и захлёбывались в чёрной жиже раненые, визжали дерущиеся, и не было видно земли из-под тел мёртвых.
У Тохтамыша было тридцать тысяч воинов — против восемнадцати тысяч, которыми командовал Арас-хан. И Тохтамыш бежал после двухчасового боя — позорно, тайно, переодевшись простым пастухом, бросив своё знамя и потеряв три четверти войска, которому обещал скорую победу. Верные люди — уже не знаю, чьи: его собственные или служившие Тимуру — спрятали его в бедном кишлаке посреди степи, а затем переправили на Кавказ, где Тамерлан готовился к очередной войне.
Рассказывали, будто Тамерлан принял его как близкого и дорогого родственника. Усадил в шатре возле себя и чуть ли не поил вином из золотой чаши, к месту и не к месту вспоминая деяния славного Кунге-оглана, умершего от болезни в том же году. Конечно, славный Кунге нарочно согласился служить Арас-хану, говорил Тимур, чтобы втереться к тому в доверие и ударить изнутри в нужный момент. Не его вина в том, что он не успел осуществить задуманное. Сокол сложил крылья, но остался его птенец...
И, наблюдая, как раздуваются ноздри его гостя, Тимур тайком усмехнулся. Пиррова победа — вот как это называлось. Молодого и не в меру горячего Тохтамыша не нужно было подталкивать, он летел в битву сам, забыв (или, наоборот, слишком хорошо помня) недавнее поражение. Он жаждал реванша. А многомудрому Тимуру было всё равно, кто в конце концов одержит верх. И так, и этак Арас-хан потеряет достаточно воинов. Затяжная война обескровит и измотает его — и тогда он свалится от одного-единственного удара. Нужно лишь выждать, а уж ждать Тимур умел как никто другой.
Он выбрал момент безошибочно — так волк выбирает момент для броска, чтобы наверняка перерезать горло своей жертве. Настала весна, и нукеры Арас-хана начали осторожно интересоваться у своего предводителя: когда же придёт пора новых победных походов? Скоро ли окрестные племена затрепещут при виде монгольской сабли, скоро ли наши красавицы жены дождутся дорогих подарков и новых рабов? Мы хотим крови, великий хан, сказали они ему. Наши кони застоялись без скачки, и оружие скучает в ножнах...
Арас-хан угрюмо молчал. Сейчас ему было не до завоевательных походов. Слишком многих верных людей не досчитался он после минувшей войны, слишком много погребальных курганов выросло за последний год в прикаспийских степях. Войска роптали, оглядываясь на более удачливых соседей, эмиры, совсем недавно присягавшие на верность своему кагану, так и норовили воткнуть нож в спину, по окраинам государства катилась волна восстаний — их жестоко подавляли, вырезая целые народности, но они вспыхивали в новых местах и с новой силой.
И когда у южных границ Орды снова заколыхалось знамя с головой чёрного быка, Арас-хану удалось выставить против него всего лишь восемь туменов.
Восемь — против пятидесяти...
Рассказывают, будто, увидев величайшее в истории вражеское войско — от края и до края горизонта, Арас-хан снял с себя броню из золотых пластин и отшвырнул прочь кованый щит.
— Сегодня я не нуждаюсь в защите, — сказал он. — Я вижу врага, и в моих руках верная сабля, доставшаяся мне от моих славных предков рода Чингизидов[14]. Я намерен убивать.
Он проговорил это тихо, едва ли не шёпотом, но слова его волной прокатились по рядам, передаваемые из уст в уста.
Сегодня я намерен убивать.
А потом он бросил коня в галоп, и за ним последовали все его восемь туменов — те, что сохранили верность своему господину.
Хромой Тимур расположил в центре своей армии воинов Тохтамыша — видно, ему удалось убедить молодого полководца, что это место — самое почётное. Они встретили таранный удар Арас-хана первыми и вскоре не выдержали и повернули коней. Нукеры Арас-хана воспрянули духом, забыв в пылу схватки, что такова обычная монгольская тактика: броситься в бегство, показав врагу спину, чтобы увлечь его в засаду. И засада сработала: там, позади лучников Тохтамыша, стояли пять тысяч тяжёлых копейщиков, одетых в непробиваемую генуэзскую броню. Воины Арас-хана ударились в эту стену с налёта. И — закружилась битва.
Бешено ржали кони, сверкали сабли над головами, и сталкивались в полёте стрелы. Утро перешло в день, день — в вечер, и ни одна из сторон не могла взять верх. А Тимур ждал. Он не пускал в бой свои главные силы, и взгляд его, обращённый с холма на атакующие и отступающие войска, был равнодушен. Пусть Арас-хан и славный Тохта истребят друг друга. Это будет лучшим исходом.
И снова он дождался момента. Воины Арас-хана, увлечённые схваткой, не заметили, как Тимур махнул рукой, дав сигнал. Затрубил над полем одинокий рог, и с флангов, охватывая врагов в кольцо, с лязгом и грохотом покатилась тяжёлая конница...
Удар её был силён и ошеломляющ. Ещё сопротивлялись некоторое время окружённые, ещё полоскался в небе сине-золотой беркут, но исход сражения был предрешён. В отчаянии Арас-хан бросился в гущу боя и пал, пронзённый десятком стрел, точно исполинский ёж. Часть его нукеров без колебаний последовала за своим предводителем, часть бросила оружие и упала на колени, моля о пощаде.
— Эти шакалы чуть не утопили моего дядю в дерьме, — сквозь зубы сказал Тохтамыш, когда ему доложили, что враги сдаются. — Вот вам мой приказ: всех, кто предпочёл плен, — разоружить, раздеть догола, согнать в большую яму посреди степи и засыпать живьём, не оставив даже маленького холмика. И да будет на то воля Аллаха.
Повернулся и скрылся в юрте, украшенной знаменем Тимура. Юрта стояла в центре высокого холма и была украшена пятьюдесятью белыми бунчуками — по числу туменов в войске. Собственному шатру Тохтамыша было уготовано место ниже, у подножия, и стяг с головой чёрного быка выглядел так, будто некто нёс его в гору, да не донёс — то ли силы оставили, то ли из лени. Воткнул, где было удобнее, и пошёл по своим делам. Знающему человеку это обстоятельство сказало бы о многом. Дервиш, дервиш, почему ты не дожил до этого дня?
Разные люди по-разному рассказывали о той битве. Кто-то со страхом шептал о дьявольской военной прозорливости Тимура, не проигравшего в своей жизни ни одного сражения, кто-то думал о Тохтамыше, отомстившем за поруганного родственника — великое и страшное дело, доступное немногим. Кто-то вздыхал о погибшем Арас-хане как о герое, имя которого будут помнить в веках... Не удивлюсь, если придёт время — и станут уверять, что он спасся, ускакал в степь и теперь скрывается, чтобы собрать новую армию. И нужно только набраться терпения и подождать, когда...
Аллах им судья. Что касается меня, то я точно знал, что Арас-хан мёртв, и не испытывал к нему ничего, кроме лёгкой брезгливой жалости. Герой, но не боец — его ума хватило лишь на то, чтобы умереть красиво: без брони и щита, впереди войска, с обнажённой саблей в руке. Мало толку было от такого геройства. Частенько я размышлял, как бы сам поступил на его месте. Уж во всяком случае, не стал бы лезть очертя голову в заведомо проигранную схватку.
Я бы лгал, юлил и изворачивался, я бы раздавал клятвы и тут же нарушал их без малейших угрызений совести: войну выигрывают те, кто имеет мозги и не имеет принципов, это я усвоил едва ли не с младенчества. Я наверняка попытался бы столкнуть лбами двух союзников — Тимура и Тохтамыша, используя болезненную подозрительность первого и щенячье честолюбие второго.
Испытывает ли гордость храбрейший Тохта от того, что его воины первыми приняли удар врага и полегли едва ли не все, в то время как Тимур держался позади и потерял лишь три из пятидесяти туменов? И отчего, во имя Всевышнего, тот не спешил на выручку Кунге-оглану, чуть не позволив ему захлебнуться дерьмом в выгребной яме? Таким ли уж верным союзником показал себя Тимур, каким ты представляешь его себе, храбрый Тохтамыш? Не заставляют ли тебя примитивно таскать из огня каштаны?
А ты, многомудрый Тамерлан? Неужели от тебя укрылось, что растущее могущество твоего государства так же раздражает Тохтамыша, как совсем недавно раздражал Арас-хан? И не приложил ли любящий племянник руку к гибели родного дяди (якобы от грудной жабы — но поди проверь!), чтобы иметь повод развязать войну? А самое главное: станет ли он и дальше присылать воинов из Золотой Орды, дабы пополнить твою армию? Или, напротив, постарается улучить момент и ужалить тебя стрелой в спину?
Так бы сказал я им (не лично, конечно, а через верных людей, которых всегда можно найти... или купить, если знаешь расценки) и стал бы ждать. Вряд ли мне бы удалось превратить их в непримиримых врагов (хотя и такое возможно), но уж заставить их коситься друг на друга с подозрением... Клянусь Аллахом, если бы оба не начали надевать под халат броню, собираясь на совместный пир, и тайком выливать поднесённое вино, опасаясь отравления, я остриг бы бороду и перестал называть себя Рашидом ад-Эддином из Ирана...
Однако — это были лишь праздные мысли, редкие цветы на пыльной обочине дороги, которыми я любовался в минуты одиночества. Я был всего лишь странником, которого волею ветров несёт по всем пяти сторонам света. На сей раз путь мой лежал по северным предгорьям Кавказа, где находились земли племени аланов — большого и древнего народа, ведущего свою историю с времён Искандера Двурогого[15]. Восточные их территории, те, что граничили с хазарами, ещё не были охвачены пламенем войны. Здесь ещё жили по законам мирного времени — по крайней мере, так мне казалось...
Ноги принесли меня на окраину маленького кингитского селения в горах. Кингиты вообще предпочитали селиться в труднодоступных местах — похоже, они не очень-то доверяют равнинам.
Узкая извилистая тропа вела наверх, мимо двух холмов, покрытых бурой травой. Холмы своими очертаниями напоминали суровых стражников, охранявших аул, — десятка полтора глинобитных домиков, спрятанных за каменными оградами. Я заметил кузницу и водяную мельницу у запруды с большим деревянным колесом. На массивной оси колеса какой-то умелец пристроил двух деревянных куколок: смешную толстую бабу с глазами-пуговками и худого носатого мужчину в крошечной, но вполне настоящей меховой шапке. Колесо вращалось, и куколки забавно подпрыгивали.
— Похоже, в этом селении живут добрые и небедные люди, — сказал я своему ослику. — Скоро ты получишь отдых и полную торбу овса.
Однако ослик, обычно покладистый, вдруг замотал головой и мертво встал посреди тропы. И даже заревел, когда я попытался принудить его к движению. У меня хватило ума оставить его в покое: за время долгого путешествия мы привыкли доверять друг другу. Сам же я пошёл вперёд, исполненный неясных пока и неприятных предчувствий. Предчувствиям своим я тоже привык доверять.
Вокруг стояла тишина. Несмотря на светлый день, никто не попался мне навстречу. Никто не пас овец на окрестных склонах, не хлопотали по хозяйству женщины, не играли дети и не стучал молоток в кузнице. Только надсадно гудели толстые мухи — их тут было великое множество...
Людей я увидел спустя миг. Двое — скорее всего, муж и жена — лежали во дворе сожжённого дома, голова к голове. Оба, судя по ранам, умерли в бою — такие вещи я различал с первого взгляда. Мужчина недёшево продал свою жизнь. Его не смогли взять на мечах — только когда подоспели лучники, и нападавшие расступились, чтобы не угодить под свои же стрелы. Я вытащил одну стрелу из тела кингита и осмотрел широкий наконечник, похожий на лопасть весла. Стрела была монгольской.
Чуть поодаль лежал труп девочки лет тринадцати, в страшно изорванной одежде, с кровавым месивом меж обнажённых ног. Мне не потребовалось отводить взгляд. Я много повидал за свои странствия. Больше, наверное, чем полагается добропорядочному правоверному. Я просто одёрнул на ней подол платья и пошёл дальше, заглядывая во все дворы по очереди. И везде глаза натыкались на одно и то же. Монголы напали на селение внезапно (как они сумели это сделать — вопрос: то ли сторожа были беспечны, то ли предал кто-то...), и никому из жителей не удалось уйти в горы. Все они остались здесь — во дворах, на узких улочках, под обломками домов... Понятно, почему мой мудрый ослик отказался идти в этот город мёртвых.
Я настолько уверился в том, что здесь не осталось живых, что не на шутку испугался, услышав голос.
Голос был слабый, и я не мог сообразить, откуда он доносится. Я понял это, только пройдя весь аул в обратном направлении, к тому дому, что встретил меня первым. Встретил гробовым молчанием и полчищем нагло разжиревших мух.
— Папочка, — тихо и монотонно произносил кто-то. — Папочка, пожалуйста, не пугай меня... Я всегда буду слушаться, обещаю! Если хочешь — можешь высечь меня, я не пикну. Это ведь я разбил тот кувшин с молоком, а свалил на сестрёнку... Открой глаза, пожалуйста...
Я заглянул во двор. Возле убитого мужчины, прямо на земле, стоял на коленях очень худой мальчик лет десяти и монотонно раскачивался из стороны в сторону. Почему-то он тоже казался неживым: странно было видеть живого среди этого царства мёртвых. Однако едва я вошёл, он вдруг дико завизжал и бросился на меня — столь стремительно, что я едва успел уклониться. В его руке сверкнул совсем не игрушечный нож: окажись я менее проворным — лежать бы мне сейчас рядом с его отцом и матерью. Я перехватил руку на замахе, зажал мальчишке рот (волчонок едва не цапнул меня за ладонь) и успокаивающе проговорил:
— Тихо, тихо... Я не монгол, клянусь. Можешь сам убедиться.
Мальчишка зыркнул на меня заплаканными глазами. Вряд ли по моему лицу или одежде можно было распознать, к какому племени я принадлежу: к горцам ли, к монголам, к русским... Наверное, его убедило лишь то, что при мне не было оружия.
— Как же ты выжил? — спросил я. — Как получилось, что враги тебя не заметили?
Он шмыгнул носом и покосился на тела родителей.
— Меня не было дома. Я... Я убежал к пастухам, на холмы. Папочка не пускал меня, я ушёл без спроса... Наверное, он был очень сердит. Зачем я не послушал его!
Я притянул мальчика к себе и погладил по голове — у него были непослушные волосы, жёсткие, с седой прядью у виска. Видно, эта прядь появилась у него сегодня утром...
— Я уверен, твой отец на тебя не в обиде, — сказал я вслух. — И сейчас улыбается, глядя с небес. Он воспитал достойного сына.
Глаза мальчишки в мгновение высохли. Он снова потянулся к ножу и выпалил:
— Я буду мстить, — и оглянулся, будто в поисках затаившегося врага. — Эти шакалы не могли уйти далеко!
— Тебя убьют, — сказал я.
— Пусть!
Я покачал головой.
— Старая восточная мудрость гласит: месть — это блюдо, которое подают к столу холодным. Запомни это.
Он озадачился.
— Что это означает?
— Тебе нужно научиться быть терпеливым. Нужно научиться искусству ждать — ждать, чтобы убить врага в тот момент, когда он не сможет защититься. Чтобы ударить его с той стороны, откуда он не ожидает удара. Только так можно победить.
— Но месть — это честный бой! — запальчиво возразил он.
— А разве твоего отца убили в честном бою? На него напали впятером... Или вдесятером, и застрелили издалека, из луков. Так поступают трусы.
Мальчик посмотрел на меня с сомнением. Здесь, совсем рядом, в двух шагах, лежали его непогребённые родители и сестрёнка, над которой надругались мужчины чужого племени. Те воины — в этом он был прав, — нагруженные награбленным, опьянённые кровью и лёгкой победой, двигались медленно. Их можно было догнать... А я — я всего лишь пришелец, которому неведомы законы чести.
Так он думал — его мысли легко читались на смуглом лице. И я всерьёз опасался, что он в самом деле рванёт туда, куда ушёл монгольский отряд. Один, со смешным ножом наперевес... Смог бы я его удержать?
— Как же мне быть? — наконец неуверенно спросил он.
И я понял, что победил.
— Когда ты ел в последний раз?
Он рассеянно дёрнул худым плечом.
— Не помню.
Я осуждающе покачал головой.
— Плохо. Воевать, конечно, лучше на пустой желудок — больше шансов выжить, если ударят копьём в живот. Но жить и учиться нужно сытым. Пойдём, я накормлю тебя. И заодно познакомлю со своим другом.
Мальчишка удивился.
— Другом?
Я улыбнулся. Ему была странно, что с таким, как я, кто-то может дружить.
— Он тебе понравится. Правда, у него четыре ноги, и Аллах не наградил его должным красноречием, но он понимает всё не хуже нас с тобой...
Глава 8 КАПИЩЕ
Чёрный тоннель, уходящий далеко вглубь горы, постепенно становился серым — будто где-то впереди осторожно занимался рассвет. Конечно, никакого рассвета увидеть отсюда было нельзя — просто глаза Антона понемногу привыкли к темноте. А потом Заур достал из котомки факел и запалил его — к серым краскам тут же примешались оранжевые разводы, и стало почти светло. Или — так казалось.
Антон с любопытством огляделся вокруг и вдруг подумал, что тоннель явно рукотворный. Слишком гладкими выглядели стены, а упорно наводил на мысль о метрополитене. Слишком правильно, по всем законам золотого сечения, восходил кверху сводчатый потолок и слишком аккуратные ниши попадались по бокам коридора с достойной уважения периодичностью. Природа не могла создать такое — её бурная фантазия не терпит периодичности и прямых линий. Почудилось даже, будто сейчас из тьмы возникнут две ослепительные фары, раздастся гул поезда, и вполне современный перрон с мраморными колоннами и световым табло заполнится вполне современным электоратом, закалённым в классовых боях за свободное место. Даст Бог вернуться домой, подумал Антон, расцелую в обе щеки первого же хама, который оттолкнёт меня от дверей. И бомжихе в переходе подарю двадцать баксов. И паду на колени, как блудный сын (пусть примут за алкаша и заберут в околоток), посреди самой обычной мостовой, пахнущей бензином и нагретым асфальтом, — чёрт возьми, как я соскучился по запаху бензина...
Лоза с Баттхаром теперь двигались сзади, Заур и Антон — впереди, на всякий случай с оружием наизготовку. Хотя — Антон был уверен — путь был свободен. Последние жрецы неведомого культа — страшного, кровавого или, наоборот, вполне безобидного — давно канули в небытие.
— Откуда тебе известно об этом капище? — спросил Антон.
— Мы однажды укрывались здесь, — равнодушно отозвался Заур.
— От монголов?
Он покачал головой.
— От аджарцев. У нас была война. Давно, десять лет назад. Они объявили нас неверными и вырезали наши селения по северную сторону хребта. — Заур помолчал, собираясь с силами. — Если бы враги пришли извне — с моря или из степи, наши мужчины успели бы увести жён и детей в горы, а сами защищали свой аул... Но аджарцы знали эти места как свои пять пальцев. — Он жёстко усмехнулся. — Можно сказать, мы жили по соседству... Нет врага опаснее, чем сосед.
— А что же вы? — нерешительно спросил Антон, боясь разбередить старую рану. — Отомстили?
— Отомстили, — нехотя сказал Заур. — Но потеряли при этом много воинов. Больше половины. Таков обычай: если мужчина не сумеет отомстить за себя и своих родных — это должен сделать его сын. А не отомстит сын — долг перейдёт к внуку. И так далее, на несколько поколений. Бывало, что и причина вражды забывалась, а потомки тех, обиженных, дерутся меж собой до сих пор. И никто не помнит из-за чего. Кабы не это — может, Хромой Тимур и не завоевал бы Кавказ так легко... А что, у вас принято по-другому?
— Да нет, — поразмыслив, честно ответил Антон. — В принципе, так же...
Подземные коридоры множились и ветвились, забирая то влево, то вправо, то спускаясь глубоко под землю, то взмывая вверх так круто, что временами приходилось превращаться в скалолазов. Кое-где попадались самые настоящие «шкуродёры» — узкие лазы, о которых Антон слышал от спелеологов (самому, правда, до этого видеть не приходилось, о чём он ни капли не сожалел). Знакомые ребята рассказывали однажды о парне, заблудившемся и застрявшем в одном из таких «шкуродёров». Парня нашли и вытащили спустя двое суток, он был жив и даже не успел особенно похудеть, вот только, приехав домой, стал частенько выбираться через чердак на крышу и подолгу гулять там — приходилось спускать его вниз едва ли не силком, соблюдая строжайшие меры безопасности. Он возненавидел комнаты и всё, что с ними связано, а увидев перед собой стену, вообще начинал дрожать от ужаса. В минуты коротких просветлений он, мечтательно воздевая очи к небу, рассказывал соседям по палате о своей встрече с Белым Спелеологом — пещерным духом, который когда-то давно был обычным человеком, но после предательства друга и собственной гибели обратился в некое подобие фамильного привидения из старинного замка. С тех пор иногда он является своим бывшим коллегам — «подземным туристам». С какой целью — это уж кому как повезёт. Кому-то он предвещал скорую гибель, кому-то, наоборот, спасал жизнь, указывая путь из-под завала или подсказывая спасателям, где искать очередного бедолагу, заблудившегося в подземных лабиринтах. Только в случае с тем самым парнем Белый Спелеолог поступил как-то половинчато: жизнь спас, а рассудок отобрал. То ли наградил бесценным подарком, то ли наказал за какой-то грех — да так, как не всякий накажет...
Они долго плутали в переплетениях подземных ходов — так долго, что Антон перестал воспринимать это понятие: «долго». Какое время суток было снаружи, какое время года, какой век?.. Втайне он надеялся, что в конце концов они выйдут к какой-нибудь станции метро — вот уж он посмеялся бы, глядя на растерянные физиономии спутников...
В особо трудных местах, где приходилось лезть, цепляясь за крошечные выступы, Заур вполголоса спрашивал у Антона: «Пройдёшь?» Тот кивал, благодаря судьбу за свой прошлый (или будущий?) альпинистский опыт. И глядя, как спутник кошкой взбирается по вертикальной стене, с ревнивой ноткой думал: «С двумя-то руками я могу не хуже. Но вот с одной...»
Баттхар на некоторых откосах — тех, что были не слишком трудны, — шёл сам, не особенно ловко, но в целом сносно. Только на одном — тоже, в принципе, преодолимом, но затяжном и изматывающем — всё же застрял где-то посередине.
— Ты что? — нетерпеливо спросил Лоза, уткнувшись лицом в подошвы его сапог. Сапоги были предназначены для верховой езды, но никак не для скальных восхождений.
Царевич отчаянно замотал головой.
— Дальше я не пойду. Я вам не самоубийца!
Мальчишка уже открыл рот, чтобы высказать всё, что думает о несносном нраве царёва отпрыска, но Заур тронул его за рукав.
— Оставь. Ему и вправду здесь не подняться. Возьми верёвку у меня в мешке. Свяжи со своей и протяни сквозь трещину наверху.
Лоза понятливо кивнул, прицепил к поясу канат из воловьих жил и полез по стене, стараясь не глядеть вниз. До скальных крючьев здесь, похоже, ещё не додумались. Однако и наблюдать, как совсем молодой парень, в кровь сбивая кончики пальцев, балансирует на грани срыва, тоже не было сил. Одно неверное движение, и...
— Подожди, — сказал Антон.
Ухватился за кончик верёвки, пропустив его за спиной, пошире расставил ноги и скомандовал:
— Закладывай верёвку в трещины по пути. Если сорвёшься — её заклинит, и я тебя удержу.
Он не сомневался, что удержит Лозу: тот выглядел совсем лёгким. А хоть бы и не лёгким...
Заур, искоса поглядывая на Антоновы приготовления, оценил нововведение по достоинству. Задумчиво поцокав языком, он тихонько проговорил:
— Хотел бы я знать, из каких ты мест, чужеземец. И кто научил тебя подобным трюкам.
— Обычная нижняя страховка, — рассеянно буркнул тот. Помолчал и спросил, не сдержав любопытства: — Ты говорил, что впереди языческое капище. Как же жрецы добирались до него? Неужто тоже лезли по скалам?
— Нет. Здесь был другой путь — он вёл прямо к берегу подземного озера и древнему захоронению.
Там могла пройти даже повозка, запряжённая лошадьми. Он обрушился, когда его нашли грабители.
Антон кивнул. Он когда-то читал о подобном: строители египетских пирамид, помнится, устраивали непрошеным гостям сюрпризы и покруче — вплоть до газов-галлюциногенов, которые вырывались на волю при вскрытии гробницы...
— Как же ты сумел найти новый проход?
Заур пожал плечами.
— Жить хотел — вот и нашёл.
— Готово! — крикнул сверху Лоза.
Антон поймал сброшенный конец верёвки и плотно обвязал им царевича. А парень-то совсем худенький, подумалось вдруг с какой-то бабьей жалостью. Просто чапан и расшитый плащ придавали его фигуре некоторый объём, а так — тростинка тростинкой. Что же папаша своё любимое чадо в чёрном теле держит?
Баттхар вздохнул несколько раз, поморщился от боли в туго стянутых рёбрах (до седельной обвязки конструкторская мысль кингитов тоже, кажется, не дошла — подобно красноярским «столбистам» они признавали необходимость страховочной верёвки лишь в крайних случаях) и пробурчал под нос:
— Удушите — отец вам головы отвернёт.
— Как далеко ты смотришь в будущее, — с притворным восхищением сказал Антон. — Дуй до горы, ваша светлость.
Баттхар фыркнул, но на этот раз промолчал. Подумал, видимо, что рановато плевать в колодец — до дома-то ещё ой как далеко... И устремился вверх. Теперь это получалось у него гораздо увереннее.
Свет был совсем не яркий — скорее тусклый, каким он бывает в непогожее осеннее утро, когда небо, серое и тяжёлое, лежит на крышах домов, точно исполинский кит-астматик, и несколько суток подряд на асфальтовые улицы валит мокрый снег...
Свет был неяркий, но он совершенно ослепил беглецов, за несколько часов — или дней, или лет — привыкших к мраку. Инстинктивно они прянули друг к другу и выставили вперёд клинки, будто ожидая нападения. Но нападать здесь было некому. Узкий лаз, по которому они пробирались, внезапно вывел в большой, даже огромный зал, идеально круглый в плане, с потолком настолько высоким, что свод терялся из глаз. Антон, как только его зрачки привыкли к свету, задрал голову и в очередной раз подумал, что зал этот создали человеческие руки. Или, что ещё вернее, пещеру-то создала природа (течение подземных вод, летние ливни и весеннее таяние снегов, тектонические возмущения — да мало ли), но завершили дело люди. Многие поколения древних строителей, ползали под потолком, словно мухи, а сколькие из них сорвались и погибли...
Столб серовато-голубого света торчал посреди помещения, словно сильно вытянутый конус. Его верхушка упиралась в узкое отверстие в потолке, а основание утопало в подземном озере, занимавшем две трети зала. Озеро тоже светилось. Идеально гладкая вода, которую с момента рождения пещеры не тревожила даже рябь, испускала ровное мертвенное сияние, озарявшее стены капища. Казалось, над поверхностью стелется лёгкий призрачный туман...
Вода лежала сантиметров на тридцать ниже уровня пола. Зеленоватые стены в белых прожилках поднимались из озера длинными отвесными складками — самый талантливый зодчий не смог бы воссоздать это природное произведение искусства. Вот только красота его отчего-то производила немного удручающее впечатление — слишком совершенной она казалась, слишком неземной, нездешней... И вызывала у Антона мысли не о храме (вопреки логической цепочке: капище — культ — божество — храм), а скорее о подземной стартовой площадке для ракет.
Вдоль стен «стартовой площадки» на равном расстоянии друг от друга высились каменные статуи, около десятка. Они казались довольно грубыми — точно массивные кривоногие бабы, что стояли посреди половецких степей (вспомнилась фотография из школьного учебника), но — странное дело — чем дольше Антон смотрел на них, тем тоньше и выразительнее становились черты лиц, естественнее — позы, проступали из небытия детали одежды... Одна из статуй привлекла его внимание больше остальных. Это была фигура женщины, и занимала она особое место: неведомые строители вознесли её на постамент чёрного камня, украшенный множеством мелких изображений. Здесь были скачущие по полю лошади с седоками и без седоков, мохнатые гороподобные медведи и сказочные крылатые драконы (а может, и не совсем сказочные — просто вымершие много столетий назад), круторогие туры и вовсе уж неведомые существа вроде живых распустившихся цветов с громадными и на редкость выразительными фасеточными глазами...
Сама женщина была как-то особенно стройна и величественна. Её одежда напоминала хитон: высеченные из камня тяжёлые складки спускались вниз, прикрывая ступни и оставляя обнажёнными округлые плечи и изящные кисти, воздетые вверх, словно женщина пыталась удержать небо над головой.
— Тенгри, — подтвердил Заур мысли Антона. — Мать-Небо, главная языческая богиня. Когда-то ей поклонялись наши предки — правда, с тех пор прошло много веков.
Большие глаза женщины казались живыми, озарённые внутренним сиянием. (Всего лишь отражение озера, сообразил Антон, но всё равно красиво. Потрясающе красиво...)
По правую руку от женщины стоял воин в массивном шлеме, закрывающем верхнюю часть лица. Обеими ладонями он сжимал рукоять длинного меча, воткнутого остриём в землю у ног. Легендарный король Гесер, вспомнилось вдруг непонятно откуда. Сын богини и земного мужчины-охотника.
Давно, когда люди жили в дикости, носили шкуры вокруг бёдер и не знали огня, этот охотник выслеживал лань у водопоя. Лань оказалась слишком осторожной, и охотника постигла неудача. Он потерял своё копьё, остался без добычи и не мог вернуться домой, потому что там его ждали голодные сородичи. Богиня Тенгри сжалилась над человеком и подарила его племени горного тура, но взамен охотник должен был подняться на небо и поселиться в её заоблачном чертоге.
— Я не могу бросить мать и сестёр на произвол судьбы, — сказал тот. — Я должен заботиться о них, это всё, что у меня есть...
Тенгри хотела рассердиться, потому что не имеет права человек спорить с богиней, но передумала.
— Я не хочу принуждать тебя силой, — сказала она, — хотя могла бы — и ты остался бы со мной, сколько я пожелаю. Я прошу, чтобы ты подарил мне только одну ночь. Потом можешь вернуться на землю, если захочешь. Или остаться — если не сможешь уйти.
И от их любви родился мальчик, ставший потом первым земным правителем. Мальчика назвали Гёсером, и он правил долго и мудро, научив людей многим полезным вещам. А когда нападали враги, он садился на своего крылатого коня Ээна, Хозяина Гор, поднимал над головой золотой меч, и враги бежали. Или падали на колени, моля о пощаде...
Статуи казались живыми. Антон заворожённо шёл вдоль них, вглядываясь в черты лиц и безошибочно угадывая имена. (Он знал почти всех — видимо, тот, кто послал его сюда, счёл эти сведения полезными. Кто знает, возможно, так и было...) Но тут более прагматичный царевич подал капризный голос:
— И как мы будем выбираться отсюда? Здесь холодно, и я есть хочу.
Заур молча пошарил в мешке, извлёк оттуда лепёшку, кусок козьего сыра и протянул Баттхару. Тот лишь презрительно сморщился: не пристало, мол, питаться сыну царя так, словно он попрошайка с обочины дороги. А в рукописи сказано, будто парня держали в яме, закованного в кандалы, и кормили палками вместо люля-кебаба, отрешённо подумал Антон. Пургу гонишь, гражданин летописец. Или тебя самого обманули. А вернее всего, ты просто писал по чьему-то заказу, как во времена оные писались передовицы в «Правде». Как знать, может, Баттхар, сын Исавара, и выживет во всей этой кутерьме, женится на дочери грузинского царя, объединит местные племена согласно предписанию и станет в конце концов первым генсеком освобождённого Кавказа. А тот факт, что когда-то он сиживал с Тохтамышем в одном шатре и играл с ним в шахматы (шашки, преферанс, «чапаевцев»), из истории можно потихоньку вычеркнуть... Если бы не одно «но».
В документе было сказано, что Баттхар геройски погиб в плену.
Между тем «геройски погибший» прожевал-таки часть лепёшки и с достоинством произнёс:
— Я ещё не поблагодарил вас за то, что спасли меня из неволи. Обещаю, мой отец щедро наградит вас, когда мы выберемся отсюда. Здесь ведь есть второй выход?
Он обвёл взглядом своих спутников, и его лицо стало медленно вытягиваться. Криво улыбнувшись, он неуверенно спросил:
— Вы... Вы хотите сказать...
— Второго выхода нет, — спокойно произнёс Заур. — По крайней мере мне о нём ничего не известно.
Под сводами пещеры воцарилась нехорошая вязкая тишина. Воздух загустел, словно перед грозой, и стало жарко: Антон почувствовал, как пот тонкой струйкой скользнул меж лопаток.
— Не известно?! — шёпотом заорал царевич. — Вы что, затащили меня в этот мешок и не позаботились о том, как выбраться из него?! Вы, сборище недоумков!!!
Задохнувшись от ярости, он с размаха швырнул остатки лепёшки в воду (отдал бы лучше мне, подумал Антон, с трудом припомнив, когда сам ел в последний раз. Выходило, что больше двух суток назад). Озеро благосклонно приняло подношение. Внятно булькнуло, лепёшку повернуло несколько раз, словно дух воды оценивал подарок, и утянуло на дно. Это было непростительное расточительство, если учесть, что запас еды был сильно ограничен. Вряд ли Заур с Лозой несли на себе большой рацион — максимум дня на три.
На двух человек вместо четырёх.
— Нет, — исходил слюной царевич, бегая по периметру вокруг озера и потрясая кулаками. — И этим остолопам я доверил свою жизнь! Зачем вы вообще вытащили меня из лагеря монголов? Кто вас просил? Там, между прочим, было не так уж плохо — по крайней мере в шатре горел очаг, и ханские слуги приносили кушанья. И даже приводили девушек, которые играли на сямисенах... Правда, я и носа не мог высунуть наружу — у входа стояла стража с копьями. Но всё равно, отец рано или поздно меня бы выкупил! А теперь?
Антон опустился на землю рядом с Зауром. Мозг отстранённо, словно бездушный калькулятор, подсчитывал шансы. Шансы были невелики. Еду можно было растянуть на неделю. Потом, скорее всего, они дружно и тихонько спятят, даже если раньше не окочурятся от голода и жажды. Правда, воды целое озеро, но кто скажет, пригодна ли она для питья? Слишком уж мертвенно выглядела её поверхность, и слишком подозрительные испарения плавали над нею. А монголы будут ждать у входа в пещеру. Ждать сколько придётся — у них уйма времени. Они поставят вокруг походные юрты, запалят костры и будут готовить на них плов в закопчённых казанах. А чтобы они не слишком скучали, придут женщины и станут играть на сямисенах тихими лунными вечерами. Аланский царевич по достоинству оценил бы их игру...
— Может, в самом деле отдать его назад? — негромко спросил Антон. — Погостит у Тохтамыша ещё недельку, с монголочками пообщается, плов покушает. Потом папаша выкуп заплатит, и всё будет в порядке...
— Его не выкупят, — нехотя отозвался Заур, осматривая рану на плече. Рана выглядела плохо — даже Антон, мало сведущий в медицине, понял это с первого взгляда. — То есть, конечно, попытаются, но Тохтамыш не согласится. Этот юноша для него — ключ ко всем богатствам Кавказа.
«Ключ к богатствам Кавказа» продолжал что-то вопить, насылать хулу и болезни на головы своих спасителей и бегать взапуски вокруг озера.
«...Проявил непреклонность и скончался от ран и голода...»
Антон с сомнением посмотрел на Баттхара, опять вспомнив о лепёшке и сыре. И приказал себе: о еде не думать!
Я и не думаю, возразил он своему альтер-эго. Вернее, думаю, конечно, но не в контексте насыщения организма. Что-то иное было связано с этой лепёшкой, что-то... Антон прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Царевича это окончательно вывело из себя, и он завопил:
— Вы что, посрамление своего рода, издеваться вздумали? Спать собрались? Да я вас... Да мой отец, когда узнает...
— А ну цыц! — рявкнул Лоза так, что Баттхар в испуге шарахнулся к стене. Глядя царевичу прямо в глаза, он проговорил по слогам: — Никто не спит. Никто над тобой не издевается. Мы ищем выход.
И мы обязательно найдём его, только веди себя как подобает сыну царя аланов, а не как истеричная девица. Ты меня понял?!
Кажется, это возымело действие. Баттхар пробурчал что-то недовольное и отвернулся, оскорблённо скрестив руки на груди.
Сыр.
Какие ассоциации вызывает у меня сыр? Басня дедушки Крылова о вороне и лисице... Нет, холодно. (Антон сжал ладонями виски.) Ещё? Сыр в мышеловке. Это теплее — по крайней мере это чёртово капище с этими чёртовыми идолами удивительно напоминает мышеловку, мрачноватую, но по-своему изысканную (он взъерошил волосы).
«Тут нет второго выхода — по крайней мере мне о нём ничего не известно...» Холодно. Действительно, для чего здесь второй выход — это ведь не тайное убежище, не звериная нора — это жилище богов. И чья-то таинственная усыпальница — кого-то очень важного, кто после смерти удостоился соседством с верховной языческой богиней Тенгри...
«Ия доверил свою жизнь таким остолопам!» — это он о нас. О Зауре, у которого не было времени позаботиться о своих ранах и который вёл нас, точно слепых котят, по подземным каменным лабиринтам, уберегая от озверевших врагов, — вёл, сжимая верный кончар в левой руке, потому что правая, перебитая монгольской стрелой, висела плетью... О Сандро (теперь ты, прошептал он, лёжа на разостланном плаще, и плащ медленно краснел от крови, теперь ты...) О Торе Лучнике (Тор, похожий на могучий дуб, стоит на пути летящих галопом монгольских всадников, и с завораживающей быстротой кидает очередную стрелу на туго натянутую тетиву...)»
Антон скрипнул зубами. Он не виноват, этот царевич, веско сказал он себе. Царевич и должен быть свиньёй по определению — загляни в любую народную сказку.
Баттхар в ярости швыряет лепёшку в пасть озера. Лепёшка вращается в воде (а с чего бы ей вращаться?!) и тонет — слишком быстро, словно кто-то хватает её, увлекая на глубину...
— Это не стоячая вода! — вырвалось у Антона.
Все воззрились на него с любопытством. Антон вскочил, лёг животом на край водоёма и опустил туда руку. И тут же ощутил, как в ладонь толкнулась ледяная струя. Вода в озере была проточной. Она откуда-то вливалась в озеро и куда-то выливалась. А это означало...
Лоза с ходу подхватил мысль. Он живо присел на корточки, осторожно попробовал температуру и огорчённо сказал:
— Не пойдёт. Мы не знаем, сколько придётся плыть под водой. Замёрзнем или захлебнёмся.
— Ну, может, у нашего спасителя есть жабры, как у рыбы, — с великолепным ироничным простодушием предположил Баттхар, поглядывая на Антона.
Тот опустил глаза — возразить было нечего. Только вспомнил, что пару лет назад (не по этому, а тому летосчислению) знакомые ребята-спелеологи пригласили его в поход по Крымским пещерам. Он отказался: сессия на носу, зачёт по праву... Похоже, отказался зря.
— Попробуем, — коротко сказал Заур и принялся стаскивать с себя одежду.
— У тебя рука ранена, — дёрнулся Лоза.
— Знаю. — Заур помолчал. — Но другого выхода всё равно нет. Надо только вытащить стрелу. Дай-ка свой нож. И запали факел.
Запалили сразу три факела, сложив их в кучу, — это были последние оставшиеся. Теперь, уйди они из пещеры снова во тьму — дорогу пришлось бы искать ощупью. Но никто не пожалел об этом. Они отдали бы и большее.
— Накали лезвие, — спокойно сказал Заур. — И приготовь чистую тряпицу.
Лоза кивнул, побледнев. Он знал, что сейчас будет происходить. Однажды его самого ужалила вражеская стрела — она попала в бедро, уже на излёте. Рядом с ним тогда не было Заура — другой воин, уже в летах, придавил мальчишку коленом к земле, чтобы не дёрнулся, взял кинжал и сказал: сейчас буду вынимать. Это больно, так что терпи...
Конечно, Лоза не вытерпел — тихое поскуливание само вырвалось из горла, помимо воли. ...А потом совсем не героически заорал, когда наконечник вылез из тела. Он ждал, что воин, вынимавший стрелу, посмеётся, но тот посмотрел с уважением и сказал: «А неплохо...»
Заур вытащил обломок из своего плеча, как вынимают занозу — спокойно, даже равнодушно, не изменившись в лице. Ну разве что слегка побледнев. Дальше рану следовало прижечь. Заур взял накалённый на огне нож и сказал:
— Вы бы приглядели за царевичем. Не то ещё увидит кровь — и в обморок...
...День был солнечный, но не жаркий: исход лета, ласковый август в маленьком провинциальном городке Старохолмске. Как легко догадаться, городок был обязан своим названием холмам, на которых когда-то был возведён, а самый высокий из них, в свою очередь, носил имя Крепостной, потому что когда-то, ещё в допетровские времена, на нём стояла крепость, как раз на перекрёстке торговых путей. В крепости помещался гарнизон — проезжим купцам за соответствующую мзду предоставлялся проводник и охрана от злодеев (ибо путей-дорог в окрестностях было пруд пруди, и все небезопасные). Тем городок и жил, и жил неплохо.
Без малого четыре века минуло, не счесть, сколько больших и малых войн пронеслось над деревянными, а потом — над каменными стенами и башнями, оставив лишь полузасыпанный ров по границам холма, изрядно разрушенный бастион и ушедший в землю пушечный лафет, который сначала хотели перенести на площадь перед краеведческим музеем, но как ни старались, не смогли сдвинуть с места. Десятилетний Антон, в ту пору своей жизни бредивший археологией, торчал в музее целыми днями, пока не выгоняла грозная усатая вахтёрша.
Музей был доверху набит сокровищами. В специальных ящиках за стеклянными крышками лежали осколки пушечного ядра, форменные пуговицы от стрелецкого кафтана, полуистлевшая казацкая серьга (Емельян Пугачёв, говорят, со своим мятежным войском добирался до этих мест, две недели стоял под стенами крепости, но на штурм так и не решился). Были здесь и более ранние свидетельства непростой и полной опасностей жизни наших далёких предков: несколько сплетённых колец от кольчуги, фрагмент круглого щита, в котором намертво застрял заржавленный наконечник стрелы, позеленевший нательный крестик с обрывком цепочки. Должно быть, рано поседевшая матушка когда-то надела его на шею сыну — уже у ворот дома, провожая на битву с врагом и шепча вслед молитву... В отдельной витрине на пурпурном шёлке покоилась почерневшая от времени сабля с истлевшей рукоятью — совсем некрасивая, похожая больше на кривую кочергу, но оттого ещё более привлекательная, настоящая, без обмана. Над ней висела табличка: «Экспонат найден при вспашке зяби и передан музею трактористом совхоза „Сталинский рассвет" П. Ф. Огурцовым, 1932 г.». Жаль, нельзя было подержать эту саблю в руках, взмахнуть ею над головой, почувствовать каждой жилочкой... И подумать, что далёкий прапрапрадед прожил жизнь, не уронив чести.
— Мальчик, мы закрываемся, — проскрипела вахтёрша. — Стоит тут незнамо зачем, каникулы на дворе, а он стоит, того и гляди сопрёт что-нибудь...
— Я же ничего не трогаю.
— Иди, иди. Родители, наверное, заждались.
Антон оторвался от витрины с саблей и посмотрел в окно. За окном темнело.
— Родители в Москве, — буркнул он. — Я тут у тёти с дядей на каникулах.
Домой и вправду следовало торопиться. Дядя Андрей, брат отца и тоже хирург, ночью дежурил в клинике, а вот его жена, тётя Таня, точно ждала. И вполне могла угостить лёгким подзатыльником, чтобы племянничек следил за временем.
И всё же Антон задержался ещё ненадолго. Он всегда, хоть на минуту, останавливался перед картиной, что висела в вестибюле музея — гулком и большом, как зал консерватории. Это был своего рода ритуал, раз заведённый и соблюдаемый неизменно, будто президентская инаугурация. Картина тоже была большой, едва ли не во всю стену. Она была написана маслом, и смотреть на неё лучше было издали — тогда отдельные мазки сливались, и — Антон поклясться бы мог — сама картина вдруг волшебным образом оживала, превращалась в некое подобие телевизора с огромным экраном.
На ней было изображено поле. Поле, уходящее за горизонт, тёмно-зелёное, слегка неровное и заросшее разнотравьем. На переднем плане, выписанном более тщательно, чем всё остальное, на тонком стебле покачивалась ромашка. Вверху по бледному небу плыло невесомое облако, похожее на корабль — фрегат или бригантину, с надутыми ветром парусами.
На поле стояло войско. В небо были устремлены наконечники копий, и тёмно-красная стена продолговатых щитов тянулась от края до края полотна: войско готовилось к битве.
Впереди него стояли двое: бородатый мужчина лет сорока, с суровым лицом воина, в высоком остроконечном шлеме и походном плаще поверх кольчуги, и юноша лет четырнадцати, не старше, но тоже в боевом доспехе и с мечом в руке. Этот мальчишка и привлекал внимание Антона.
Он был очень живой, этот мальчишка. И похожий сразу на всех Антоновых друзей — тех, кто остался дома, в Москве, с кем он играл в футбол во дворе и гонял на велосипедах, распугивая зазевавшихся кошек, с кем он ходил в школу и бегал с уроков, чтобы увидеть ледоход...
У юноши на картине были льняные волосы, успевшие за неполное лето выгореть на солнце, большие светлые глаза и маленькие оспинки на щеках. Глаза смотрели вперёд серьёзно и сосредоточенно... Наверное, слишком сосредоточенно, и поэтому можно было догадаться, что для парнишки этот бой — первый в жизни. И он, если сказать по совести, немножко боится. Совсем чуточку. Но он никому не покажет этого страха. Тем более что ладонь мужчины — может, отца или наставника — лежала у него на плече. И не то чтобы успокаивала, но — вселяла уверенность.
— Привет, — шёпотом сказал Антон.
И ему показалось, что мальчишка с мечом еле заметно кивнул в ответ.
Улица, на которой находился их дом, носила громкое и ничем не подкреплённое название Космонавтов. Всё лето она утопала в тёплой пыли, подорожниках и диком укропе. С одной её стороны тянулась белая обшарпанная стена собеса, чьей-то злой волей перенесённого на окраину города, с другой — заборы в зарослях лопухов, запертые мастерские и угол кирпичного склада. Вдоль заборов важно прогуливались пёстрые куры. Пастораль, одним словом. Антону, привыкшему к широким московским проспектам, нескончаемому потоку машин на Садовом кольце и людским толпам на станции метро «Краснопресненская», улица Космонавтов казалась маленькой, сонной и почти неприлично патриархальной. И всё равно — это был целый мир, со своими прелестями и своими нешуточными опасностями.
Об опасностях забывать никогда не следовало...
Антон вспомнил о них, лишь уткнувшись словно в стену с разбега. Поднял глаза — и увидел нехорошо ухмыляющегося Севку Горюнова по прозвищу Севрюга — грозу района, шпанистого парня лет четырнадцати, про которого тётя Таня говорила, что по нему «милиция плачет». Рядом с ним пританцовывал от нетерпения Домка Лисицын, верный Севрюгин адъютант. И ещё двое, незнакомых, но тоже с ухмылочками на бандитских рожах. У Домки под правым глазом, переливаясь разными оттенками синего цвета — от густо-фиолетового до нежно-голубого, — горел фингал. Фингал был вчерашний, и его авторство принадлежало ему, Антону Изварину. И причина была серьёзной: трагическая гибель линкора «Ястреб».
Линкор соорудили двое соседских ребят — шестилетние Петька с Маратом. Корабль, вообще-то, получился так себе: неумело выструганная дощечка, гвоздь вместо мачты, и парус из листочка в клетку, на котором красным карандашом было изображено слегка кривоватое солнце с длинными лучами-спицами. Однако для двух дошкольников-несмышленышей и такое нехитрое строительство было серьёзным достижением.
Испытать корабль было решено позади дома, где по пустырю протекала речушка метра в четыре шириной и глубиной по грудь взрослому мужчине. Речушка впадала в маленькое озерцо, поросшее по берегам камышом и осокой. В жаркие дни здесь бывало, пожалуй, не менее людно, чем на пляжах Акапулько или Майами. Или — в долине реки Ганг в Священный день омовения. Ганг, говорят, в эту пору выходит из берегов от обилия в воде человеческих тел...
Сейчас было нежарко и озеро пустовало. Петька с Маратом спустили «Ястреба» в речку и шли рядом по берегу, гадая, когда их линкор доберётся до озера. Линкор был неказист, но крепок, как и подобает настоящему боевому кораблю. Он обязательно доплыл бы хоть до озера, хоть до ближайшего океана (тут между кораблестроителями возник горячий спор, который из океанов ближе: Тихий, Атлантический или Ледовитый. Выходило, что все три одинаково далеки...). Но тут в борт «Ястреба» врезался камень.
Камень обладал приличной скоростью и весом. Кораблик печально булькнул и перевернулся вниз мачтой. Он не утонул (дерево не тонет), но мачта зацепилась за что-то в воде, и «Ястреб» намертво застрял посередине реки.
На берегу, широко расставив ноги, стоял Домка Лисицын и удовлетворённо разглядывал свою рогатку. Такие рогатки окрестные мальчишки плодили во множестве. Домка выстругал свою сегодня утром и теперь тоже проводил испытания на предмет прицельной дальности. Петьку с Маратом он нисколько не опасался. Он был старше их на целых три года. И выше почти на голову.
— Видал класс? — сказал он Антону. — С семи метров точно в цель. С первого выстрела!
Антон подошёл, оглядел с берега перевернувшийся корабль и хмуро проговорил:
— Лезь доставай.
— Чего? — опешил Домка.
— Что слышал. Они его, между прочим, два дня строили.
Домка насмешливо прищурился.
— А, так ты этой малышне в няньки заделался. Сопли вытирать. Ну-ну.
И пренебрежительно отвернулся.
— Говнюк, — сказал Антон. — А ещё... — и добавил слово, означавшее... в общем, некоторое отклонение оппонента в сексуальном мировосприятии.
Домке вряд ли был знаком этот термин, но интуитивно он понял, что молодцом его не назвали. И отреагировал адекватно: то есть развернулся и молча схватил Антона за грудки — так, что рубашка затрещала по шву. Антон размахнулся и стукнул Домку в глаз.
Результат вышел круче, чем ожидалось. Домка поднёс ладонь к лицу, сел на корточки и заскулил — тонко и протяжно, точно побитая собачонка:
— И-и-ы...
Антон безжалостно дёрнул его за шиворот и указал пальцем в сторону реки.
— Лезь доставай.
И Домка полез. По-прежнему подвывая, расшнуровал кеды, скинул штаны, оставшись в одних широченных сатиновых трусах, и осторожно засеменил по илистому дну.
— Я маме пожалуюсь! — выкрикнул он с середины реки. — И Севке тоже пожалуюсь! Он тебе шею намылит!!!
— Здорово ты его, — уважительно проговорил Марат. Невиданное зрелище примирило его даже с потерей линкора. — Ты каратист, да?
Антон небрежно кивнул. Каратэ он видел целых два раза — в боевике «Одинокий волк» с Чаком Норрисом, что крутили в заплёванном частном видеозальчике на соседней улице.
— А какой у тебя пояс? — спросил Петька.
Антон замялся.
— Это, понимаешь ли, военная тайна.
— Понял? — шёпотом сказал Петька Марату. — Военная тайна!
Антон стоял на берегу, засунув руки в карманы, точь-в-точь как техасский рейнджер в финале фильма, когда поверженного главаря банды Красавчика Смита заталкивают головой вперёд в полицейскую машину и надевают наручники. «Я ещё доберусь до тебя», — сквозь зубы цедит Красавчик Смит. «Буду ждать», — лаконично отвечает рейнджер, касаясь пальцами своей знаменитой шляпы...
Неизвестно, дождался ли своего заклятого противника Чак Норрис, но что касается Антона...
Его обступили со всех сторон. Севрюга, самый старший и здоровый в их компании, подошёл к Антону вплотную и лениво двинул в ухо. В голове тотчас зазвенело, коленки ослабли, а пятки, наоборот, сделались тяжёлыми, словно туда и впрямь ухнуло сердце.
— Что будем с ним делать? — так же лениво спросил Севка у своих дружков. — Предлагаю камень на шею, и — в озеро. Нипочём не найдут.
— А вдруг отцепится да выплывет? — засомневался кто-то.
— А мы ему руки за спиной свяжем, чтобы не дотянулся. Ага?
Они обсуждали участь Антона спокойно и деловито, словно его здесь и не было. И от этого сделалось по-настоящему жутко. Кажется, он даже не сопротивлялся, когда его схватили за руки за ноги и поволокли за дом, на пустырь.
Говорят, будто в последние минуты перед человеком проплывает вся его жизнь, словно кадры старого фильма. Замелькают в голове события, о которых уж и думать забыл, чьи-то дни рождения и чужие свадьбы, школьные друзья, мама с отцом и дом, в котором родился. Тётя Таня, наверное, будет сердиться, что Антоша опять опоздал к ужину. Потом забеспокоится, выглянет на улицу и побежит искать...
Однако вместо всего этого перед глазами почему-то снова возникла картина, висевшая в вестибюле музея. Только на этот раз картина была живая: дунул ветер, взлохматил волосы мальчишке, стоявшему впереди войска, он чуть повернул голову и вдруг встретился взглядом с Антоном. И еле заметно улыбнулся, словно желая подбодрить.
Нельзя сдаваться без боя, говорили его глаза. Не всякий бой можно выиграть, но невозможно победить человека до тех пор, пока он сам не признает себя побеждённым. Не опускай свой меч, заклинали глаза.
Не опускай свой меч.
И Антон рванулся. Да так, что те, кто держал его за ноги, не потеряли равновесия и отлетели прочь. Антон тут же извернулся и изо всех сил лягнул Севрюгу в живот. Потом вмазал Домке Лисицыну кулаком в ухо. Потом зажмурил глаза и кинулся на своих обидчиков...
Да, это был бой! Он царапался, кусался, бил куда-то, иногда попадая, иногда промахиваясь и крепко сцепив разбитые губы. Боли почти не чувствовалось, хоть и доставалось ему крепко. Наверное, Антон мог бы вырваться и убежать. Или закричать — вдруг кто-нибудь из прохожих услышит и придёт на помощь...
Но он не сделал ни того ни другого. Потому что мальчишка на картине — тот, что стоял впереди войска, тоже не побежал бы. Умер бы, как стоял — с мечом в руке, серьёзный и отчаянный, тонкорукий и чуточку нескладный, как все подростки... И Антон не мог его предать.
Конечно, он не победил. Всё-таки враги были старше и сильнее. И их было четверо. Кто-то из них изловчился и дал Антону под коленки. А когда тот ткнулся носом в пыль — насел сверху и стянул руки за спиной.
— Ну что, каратист сраный, — сопя от ярости, сказал Севрюга. — Больше ногами не дрыгаешь? Сука, прямо в живот мне засадил, а меня только вчера понос прошиб... Ничего, сейчас охладишься. Тащите его в озеро!
— Ага, — радостно встрял Домка, у которого вместо одного фингала теперь сияли сразу два. — Окунем с головкой и проведём эксперимент: могут у человека вырасти жабры или не могут.
Вода обожгла. Всё же был конец августа, и на улицу без рубашки с длинными рукавами соваться не стоило. А на берёзках, что росли у ворот школы, потихоньку, исподволь, стали появляться застенчивые жёлтые листочки, напоминая, что вот уже скоро кончатся каникулы...
Его оттащили в самое глубокое место. Длинному, как жердь, Севрюге, там было по шею, а Антон ушёл с головой. Чтобы он не вздумал вынырнуть, Севка крепко взял его за волосы на макушке и деловито сообщил дружкам:
— Как задёргается — так и быть, отпущу. Дам воздуха глотнуть, и назад.
Не буду я дёргаться, сердито подумал Антон. Не хватало ещё, чтобы эти козлы позабавились...
Он сидел на дне, как батискаф. Было совсем не страшно, только холодно поначалу — пока не привык к воде. Потом и холод отступил. И — странное дело — перестало хотеться дышать, словно и впрямь выросли жабры.
А скоро он вдруг очутился, как по волшебству, посреди того самого поля. Он точно помнил, что был одет в изрядно помятые брюки из вельвета, рубашку с погончиками (тётя Таня купила в «Военторге») и старые, но очень удобные кеды. В этих кедах он щеголял уже второе лето, а они всё ещё были как новые, разве что из бежевых превратились в серые, а потом — коричневые, но от этого нисколько не утратили прелести. Однако сейчас на нём была длинная, до колен, холщовая рубаха, подпоясанная широким ремнём, а поверх неё — кольчуга из плотно сплетённых колец. Кольчуга была немного великовата, не по размеру, но это было хорошо: тяжёлая броня лучше защитит. От копья, правда, не спасёт, а от стрелы — в самый раз. И от вражеского меча, если он ударит по касательной...
Он стоял впереди войска, рядом с уже знакомым мальчишкой — тот нервно покусывал губы, глядя вперёд, на линию вражеских стрелков. Потом заметил Антона, повернул голову и слегка улыбнулся. Не дрейфь, мол.
А потом над полем громко и протяжно прозвучала одинокая труба. Взмыл в небо испуганный жаворонок, подул ветер, нагоняя тучу... Стена воинов позади Антона зашевелилась и грозно опустила копья. И медленно двинулась вперёд.
Вражеские стрелки одновременно вскинули луки. Командовал ими сухопарый высокий человек с лицом, обезображенным сабельным шрамом. Он был в остроконечном шлеме и меховом плаще и оттого издали напоминал какую-то хищную птицу, ястреба или грифона. Было видно, как он резко махнул рукой — и множество стрел, целая туча, разом сорвалась в полёт по наклонной дуге. Антон вскинул щит. Стрела ударила в него и засела под самой верхней кромкой. Воин, который шёл слева, вдруг упал, без сил хватаясь за окровавленное древко, торчащее из горла. Рухнул ещё один, и ещё — стрелы падали густо, как горох, и не всякий раз кольчуга или щит успевали спасти. Но войско, в котором был Антон, уже преодолело короткое расстояние до передовой вражеской линии. Стрелки попробовали было снова натянуть луки, но поняли, что не успеют. Антон на бегу выхватил саблю из ножен и взмахнул ею над головой. Он узнал эту саблю. Та почерневшая «кочерга», которую подцепил плугом тракторист П. Ф. Огурцов в далёком 1932 году, мало напоминала этот сверкнувший на солнце клинок, но всё равно — это была она. Рукоять с готовностью легла в ладонь, и это было похоже на рукопожатие. Словно встретились близкие друзья, не видевшиеся чёрт знает сколько времени.
Две армии неслись навстречу друг другу. Между ними пока ещё лежала полоска земли, не тронутая сапогами и копытами, не усыпанная телами и не залитая кровью. Но эта полоска быстро таяла. Она была уже всего-то в десяток шагов ширины.
Потом — в пять.
В три.
В один...
Чьи-то сильные руки вдруг потащили Антона из глубины. Ему не хотелось вылезать на свет: под водой было прохладно и спокойно. И — Антону очень важно было узнать, чем закончилась та битва с неизвестным врагом. (С монголами? Хазарами? Варягами? Или своими же, русскими — теми, кто служил другому князю?) Однако руки были упорными.
— Что же вы делаете, сволочи? — услышал он чей-то голос, будто сквозь слой ваты. — Ребёнка решили утопить?!
— А чего он? — Это, кажется, Севка, зарёванный и красный, как помидор. — Он первый начал...
— А ну пошли отсюда! Иначе...
Руки бережно вынесли Антона на берег, и он поёжился: на воздухе было холоднее. Его опустили на траву и зачем-то несколько раз с силой надавили на грудь. Мутная илистая жижа хлынула изо рта и из ноздрей — будто из пожарного шланга. Антон зашёлся в жестоком кашле и с усилием разлепил глаза. И услышал радостно-облегчённое:
— Живой...
Глава 9 СТЕНА
— Он дрожит, — сообщил кто-то. Голос был смутно знакомым, только Антон никак не мог определить, кому он принадлежал.
— Дрожит — значит, жив, — отозвался другой, тоже знакомый. — Разотрите его как следует и оденьте в сухое.
— А...
— Потом расспросим, когда в себя придёт. Долго он пробыл под водой?
— Долго, — в первом голосе почувствовалось уважение. — Я уж и считать устал.
— Подумаешь, — внятно сказал третий голос, пренебрежительный и слегка уязвлённый тем, что выпал из центра всеобщего внимания. — Я мог бы и дольше...
— Вот сейчас и докажешь.
— Лоза, — хмуро осадил его второй голос. — Он никуда не пойдёт. Мы не можем рисковать.
— А вот возьму и пойду! Я сын царя, мне никто не имеет права приказывать!
Лоза... Антон напряг память. Ах, ну да, юноша из племени кингитов. Капище в толще горы, подземное озеро, статуи из чёрного камня — кой чёрт заставил меня вляпаться в это дерьмо...
— Тебе никто не имеет права приказать, — терпеливо произнёс Заур. — Но пока ты здесь, пока мы не достигли Тебриза, ты будешь слушаться меня беспрекословно. Как и остальные.
Антон ждал, что вздорный царевич возмутится и опять начнёт бегать вокруг озера, но тот внезапно притих — то ли совесть начала просыпаться, то ли он сообразил, что лезть в холодную воду и искать на дне какой-то вшивый слив — себе дороже. На то есть холопы, смерды и крепостные крестьяне — числом аж три души.
Лоза споро скинул одежду, готовясь к очередному погружению. Баттхар сосредоточенно проследил за ним и вдруг несмело тронул за руку.
— Позволь всё же мне...
Тон его был непривычно смиренен. Таким тоном разве что выпрашивать у старшего брата поиграть — всего минуту! — его пожарной машиной. Или плюшевым медвежонком с оторванной передней лапой.
— Ты разве умеешь нырять? — сварливо спросил Лоза.
— Умею, — обрадованно сказал Баттхар. — Отец много раз брал меня с собой к Великому морю и заставлял нырять со скалы. Правда, та скала была невысокой...
Заур думал долго — целую минуту, в течение которой царевич совершенно извёлся. А Антону вдруг пришло в голову, что, может быть, Баттхар, сын Исавара, не такая уж скотина, какой иногда кажется. Просто вся его предыдущая жизнь была таковой: суровой, конечно, без всяких телевизоров, компьютеров, игровых приставок и джипа, подаренного папой ко дню ангела. Зато с личным дворцом, войском, табунами чистокровных лошадей и всенародной любовью — тоже немало...
— Обвяжи его, — наконец велел Заур Антону. — Будешь страховать. Досчитаешь до тридцати ударов сердца — и тащи наверх.
— Я могу и дольше, — подал голос Баттхар.
— Я сказал: до тридцати.
— Ладно, — покладисто отозвался царевич и подхватил с земли конец верёвки. Антон взялся было помочь — Баттхар отмахнулся: «У меня и самого пока руки не отсохли».
...Он и вправду неплохо нырял, этот аланский царевич. Трудно сказать, насколько простиралась в высоту та скала на берегу Великого моря, где он тренировался, но войти в воду он сумел почти без всплеска — у Антона это получалось намного хуже.
Нырнул, дёрнул пятками — и ушёл на глубину, скрывшись из глаз (это тоже была одна из загадок озера: вода там была прозрачной и чистой, словно хрусталь, но дно не просматривалось, терялось в непонятных и неподвижных завихрениях, похожих на звёздные туманности). Только верёвка, плавно скользящая сквозь пальцы, говорила о том, что Баттхар погружается всё глубже.
— Странно, — пробормотал Лоза, будто подслушав Антоновы мысли. — Плавает как рыба, а на коне ездит — как мешок с опилками...
— Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, — считал Антон, шевеля губами.
Пора. Он потянул верёвку, давая понять, что нужно возвращаться. И — от неожиданности едва не сел на копчик. Верёвка подалась легко и невесомо, напрочь лишённая груза. Выплыла — и закачалась в толще воды, у самой поверхности.
Верёвка была — а Баттхара на её конце не было.
Их словно пронзил удар током — всех троих. Даже Заур вскочил с места, забыв о своих ранах. Яростно выдернул верёвку из рук остолбеневшего Антона, осмотрел её и смачно плюнул себе под ноги.
— Он отцепился, — наконец вынес он вердикт. — Сам. То-то не хотел, чтобы ему помогли привязаться...
— Я за ним! — дёрнулся было Лоза.
— Стой, — резко сказал Заур. — Подождём ещё. Не мог же он в самом деле...
«Месяц на небосклоне увеличился и снова прогнулся серпом, а сын Исавара, несмотря на жестокие побои, пел песни, прославляющие свой народ, и встречал смехом своих палачей...»
Если эта падла ушла через подводный тоннель, если этот хренов двоякодышащий всё-таки не вынырнет передо мной в ближайшие полминуты, я сам стану его палачом, со злостью подумал Антон. Уж у меня-то он песенки не попоёт. Я ему песни устрою...
А потом в голову ни с того ни сего вдруг пришла мысль, показавшаяся абсурдной. Однако чем дольше он обдумывал её, тем ярче и объёмнее она становилась. И — тем сильнее походила на, мать её, правду. Мысль звучала так:
А что, если это было задумано с самого начала?
— Что ты бормочешь? — напряжённо спросил Лоза.
— Хотел узнать, — медленно отозвался Антон. — Ты знал раньше Баттхара в лицо?
Лоза озадаченно наморщил лоб.
— Откуда? Он всё-таки царевич, а я кто?
— Ну, может, видел его на портрете или где-то ещё?
— На портрете?
Антон вздохнул. Лоза пристально вгляделся в его лицо и вдруг сделался очень серьёзным.
— К чему ты об этом спрашиваешь?
— Да так... Пришло в голову. Если никто из вас раньше не видел Баттхара, то почему вы решили, что это именно Баттхар?
Брови Лозы взметнулись вверх и приобрели форму домика. Совсем как у Светочки Аникеевой, когда Антон перед зачётом по инглишу пытался объяснить ей инфинитивную форму глагола.
— Что за глупости ты несёшь?
— А ты подумай. Вдруг настоящий царевич на самом деле умер в плену? Сначала отказывался от еды, пел песни и смеялся, а потом окочурился — всё в соответствии с рукописью...
— Какой рукописью?
— Не важно... Представь себя на месте Тимура. Для него этот парень — ключ ко всем богатствам Кавказа (выражение Заура). И вдруг этот «ключ» умирает (ломается, теряется...). Что делает хозяин в таком случае? Идёт к слесарю и заказывает дубликат.
Мысль, искрой мелькнувшая в сознании, в соответствии с известной теорией поднапряглась и раздула небольшой пожар. И в игривых язычках пламени вдруг заплясали недавно виденные картинки: Баттхар верхом на лошади. («Как мешок с опилками» — это сын своего народа! Где все, от мала до велика, воины в чешуйчатой броне, на звонконогих конях!) Возмущённый Баттхар, наматывающий круги вдоль озера: «У монголов было, кстати, не так уж плохо...» Знамо дело, неплохо, если на тебя возлагают такие большие надежды — и кушанья будут подносить, и в туалет водить под ручку, и девушек приводить совершенно бесплатно...
Ах, как всё логично. До ужаса, до смеха логично. Коли знатный заложник умер — необходим другой. Не обязательно алан — парня наверняка взяли из какого-нибудь дружественного племени, что обитает в приморье («Отец заставлял меня нырять со скалы» — ха-ха-ха. Пожалуй, заставишь тебя!). И всё остаётся по-прежнему. Царя Исавара можно шантажировать, как и раньше, чтобы не лелеял мечты об объединении с Грузией. И лишь Заур со своими «спецназовцами» портит всю малину и крадёт лжецаревича из охраняемого лагеря. Впрочем, этот вариант тоже предусмотрен: «царевич» заманивает своих спасителей в мышеловку (чем древнее капище не мышеловка?) и исчезает под водой. Исчезает, чтобы никогда не появиться. Можно считать хоть до миллиона.
Антон даже улыбнулся самому себе — своей идиотской проницательности. Или проницательному идиотизму. И в следующую секунду вдруг увидел, как на поверхности озера всплыл и лопнул большой пузырь.
А ещё через секунду, двести восьмую по счёту, всплыл Баттхар Нади.
Он дышал громко и жадно. Так жадно, что глаза совершенно вылезли из орбит. Он с трудом держался на воде, и мокрая рубашка, облепившая тело, безжалостно тянула назад, на дно. Сейчас его всё тянуло на дно — даже собственная кожа. Даже одеревеневшие мышцы и кости. Даже желудок и сведённые судорогой лёгкие. Это было видно.
Антон с Лозой, не сговариваясь, бултыхнулись в воду, в два мощных гребка достигли царевича и потянули его к берегу.
— Уйдите, — слабо просипел Баттхар синими губами. — Я сам в состоянии...
— Заткнись, — ласково сказал Лоза. — Чёрт, я уже думал, что ты утонул!
Царевич хмыкнул:
— Размечтался...
Они трудом вытащили его на сушу. Его тело, лёгкое вначале, казалось теперь тяжёлым, как изваяние богини Тенгри. И ледяным, как Антарктида. Как сразу сто Антарктид. Недаром туман стоял над водой, под которой Баттхар провёл двести восемь секунд...
Лоза бросился было растирать, но вздорный царевич резко, даже, почудилось, зло отбросил его руку.
— Я ж сказал, оставь!
— Красна девица, — сквозь зубы пробормотал Заур. И вдруг рявкнул: — А ну, марш вокруг озера! Бегом!
Баттхар безучастно сделал пару шагов и снова сел. Двигаться ему совсем не хотелось. Антону уже было известно это состояние, когда даже холод перестаёт ощущаться, а самое сокровенное желание, предел всех мечтаний, выражается одной короткой фразой: «Да пошли вы все...»
Заур подошёл и безжалостно вытянул царевича по спине верёвкой.
— Встать, волчий выкормыш! Сын жабы, ослиный помёт, навозный червяк... Бегом, я сказал!!!
И царевич побежал. Вернее, сначала побрёл. Затем пошёл. И наконец побежал — да так, что Заур, пристроившийся сзади и лупцевавший спину Баттхара верёвкой, постепенно отстал, следя лишь за тем, чтобы его подопечный не сбавлял темпа.
Царевич пробежал десяток кругов и остановился, переводя дыхание. Щёки его порозовели, глаза приобрели утраченный блеск, и он снова стал похож на девчонку (кабы не мужские шаровары и чёрные усики над верхней губой).
— Какого чёрта ты отцепил верёвку? — спросил Антон.
— Сам виноват, — устало огрызнулся Баттхар. — Я почти донырнул до слива, а ты дёргаешь, как сумасшедший.
— Ты нашёл выход?!
Баттхар сразу погрустнел и покачал головой.
— Вода и вправду проточная, ты не ошибся. Она уходит сквозь дыру у самого дна. Только эта дыра забрана решёткой. Толстой — прутья в два пальца толщиной, не сломать.
— Решётка? — вырвалось у Антона. — Но как её сумели установить?
— Это же жрецы, — со значением ответил Заур. — Для них нет невозможного.
Антон горестно кивнул. Действительно, чего проще: собрались мужики, надели водолазные костюмы, прихватили аппарат для подводной сварки (наплевать, что на дворе четырнадцатый век), поставили решётку на дне, пошли отдыхать. Зачем нужна решётка? А чтобы не лазал кто ни попадя.
Они сидели молча, подавленно, сбившись в кучу, но стараясь не глядеть друг на друга, — будто каждый считал себя виновным в неудаче. Будто именно он украл у остальных последний шанс на спасение.
— Остаётся одно, — задумчиво сказал Баттхар. — Выходить и драться. По-моему, это лучше, чем сдохнуть тут от голода.
— Ты ещё можешь сдаться, — равнодушно проговорил Лоза. — Тебя наверняка пощадят — тем более что ты, возможно, вовсе и не Баттхар...
— Не Баттхар? — вежливо удивился Баттхар. — А кто же я?
— Почём я знаю. Вон спроси у него. — Лоза кивнул на Антона.
Антон ждал, что царевич снова разозлится и начнёт стращать своим могущественным папашей (ау, где же ты, могущественный папаша, прилетел бы сюда на голубом вертолёте, вытащил бы непутёвых чад, всыпал бы их обидчикам от души...). Однако царевич посмотрел в глаза Антону и чрезвычайно серьёзно сказал:
— Я — Баттхар Нади, сын Исавара, царя аланов. И пусть навеки погаснет мой очаг, если я лгу тебе, чужеземец.
— Да я что... — Антон вдруг почувствовал смущение. — Я верю...
— Он действительно сын Исавара, — подал голос Заур. — Я бывал в их дворце в Сенхоране три года назад.
— Вот как? — удивился Баттхар. — А я тебя не запомнил...
Заур усмехнулся.
— Меня трудно было запомнить. Я был лишь одним из телохранителей грузинского посла, князя Гаука, — и без всякого перехода добавил: — У нас есть ещё одна возможность выбраться отсюда.
И указал глазами наверх.
Туда, где в сводчатом потолке, метрах в пятнадцати от пола, виднелось круглое отверстие. Откуда точно в середину набившего оскомину озера стекал прозрачный луч света, теряясь в облачке тумана над его поверхностью. И куда озеро, словно гигантский прожектор, посылало ответный луч — где-то посередине, на уровне головы богини Тенгри, эти два луча сливались друг с другом, точно обезумевшие от страсти любовники.
Лоза, Антон и Баттхар Нади разом задрали головы. И кто-то из них неуверенно пробормотал:
— Невозможно...
Невозможно, согласился Антон. Так же невозможно, как и близко, всего пятнадцать шагов. Несколько секунд — если бы эта чёртова стена легла горизонтально. Или — все они, все четверо, вдруг превратились бы в птиц. Или в летучих мышей, которых Антон никогда не встречал, но которых заочно боялся. Он согласился бы превратиться сейчас в любую летучую тварь — лишь бы выбраться из этого бутылочного горлышка...
Он придирчиво осмотрел стену и зачем-то погладил её ладонью. Стена была даже не шершавой. Она была абсолютно, восхитительно гладкой. По её поверхности, словно застывшая рябь на воде, сбегали вертикальные складки. Нечего было и думать уцепиться за них.
Что ни говори, они были мастерами, эти древние строители. Даже если бы какие-нибудь придурковатые воры и забрались бы сюда, не погибнув под обвалом, они не смогли бы найти дорогу назад.
— Вон те две складки позади статуи, — сказал Заур, — выступают вперёд чуть сильнее остальных.
Можно поставить руки и ноги враспор. Эти складки тянутся до самого верха.
Глаза Лозы загорелись.
— Я попробую!
— Он разобьётся, — тихо сказал Антон Зауру. — Даже верёвка не поможет.
Заур шагнул к мальчишке. Видно было, что он слабеет с каждой минутой — слишком много крови потерял и продолжал терять, несмотря на тугие повязки.
— Я учил тебя этому, — негромко проговорил он. — И у тебя получалось.
Лоза улыбнулся.
— Ты говорил другое. Ты говорил, что я неуклюж и ленив, как медведь. И что толку от меня...
— Я врал, — ответил Заур. — Я просто раззадоривал тебя и не позволял, чтобы ты слишком задирал нос. На самом деле ты всегда был лучшим из всех, у кого я когда-либо был наставником.
— Правда? — несмело спросил Лоза.
— Правда. — Заур помолчал. — Когда почувствуешь, что вот-вот сорвёшься, хорошенько оттолкнись ногами от стены. Тогда полетишь в воду, а не на камни. Крепко запомни это, потому что падать тебе придётся, чувствую, не раз и не два...
...Они следили за Лозой не отрываясь — так, что плечи, руки, кончики пальцев сами собой ходили в такт движениям скалолаза. Тот карабкался вверх медленно, по миллиметру, и видно было, как от напряжения подрагивают его ноги, разведённые в шпагат — иначе меж двух складок было не удержаться. Никто не издавал ни звука — малейшее колебание воздуха, казалось, было способно сбросить Лозу со стены.
Коварной стены. Гладкой и скользкой, словно застывший водопад. И всё же мальчишка полз по ней, там, где и муха, поди, сорвалась бы.
Он тоже сорвался. Он успел одолеть где-то четверть пути — это было очень много. Оттолкнулся ногами, как учил наставник, и рухнул в озеро, подняв тучу брызг. Вынырнул, отплёвываясь, доплыл до берега...
Сразу пять рук (по две у Баттхара и Антона, одна — у Заура) подхватили его, быстро растёрли, накинули одежду на худенькое тело... И опять никто не сказал ни слова. Любые слова казались сейчас пустыми и только раздражали. Лоза посидел несколько минут, давая себе отдых, и полез снова.
Во второй раз он слетел, пройдя больше на пару сантиметров. И всё пошло по кругу: падение в воду, краткий отдых, путь наверх — безнадёжный и беспросветный. Когда Лоза совершенно выдохся, настала очередь Антона. Потом его сменил Баттхар...
— Я кое-что видел под водой, — сказал царевич, когда выпал его черёд отдыхать. — Это было похоже на склеп... Сверху лежала плита из зелёного камня, а на ней были высечены письмена, только я их не понял. И знак: сидящий лев с человеческой головой. А на голове — венок из лавровых листьев.
— Ты не ошибся? — спросил Заур.
— Думаю, нет. Я попробовал приподнять плиту — вдруг под ней скрывается ход... Но понял, что мне это не по силам. И даже всем нам четверым.
Заур поджал губы и после паузы произнёс:
— Что ж, поздравляю. Возможно, ты отыскал могилу царя Давида.
— Как, — не поверил Баттхар. — Того самого?!
Царь Давид, подумал Антон (ноги враспор... босые ступни немеют и уже ничегошеньки не чувствуют, не ступни, а арестантские колодки...).
В прошлый раз он слетел где-то с середины: захотел рывком преодолеть лишние сантиметры, но рывок обошёлся дорого: чуткая стена мгновенно обиделась и сбросила «восходителя» в ледяную воду. У Антона даже рассердиться не хватило сил.
Он равнодушно подплыл к берегу, растёрся докрасна, до малинового свечения, и растянулся на рваной рогожке, которая нашлась в мешке у Заура.
Давид. Знакомая личность. Сколь знакомая — столь и таинственная: не с твоей ли подачи, дружок, меня занесло в этот «мир за околицей»[16]?
— Как же получилось, что его копьём завладел царь Гюрли? — спросил он с видом знатока.
— Копьё Давида наш народ хранил много веков. Гюрли получил его от своего деда, а тот — от своего деда, а тот в свою очередь — от отца, когда ещё был молодым и ходил в поход против абастов. Абасты в те времена жили на берегу Великого моря и слали свои боевые корабли на Византию.
Говорят, будто Самфий, их царь, брал каждую ночь новую жену, а предыдущую душил своими руками, потому что кто-то сказал ему, что таким способом можно сохранить мужскую силу до глубокой старости. Не знаю, так ли оно было, но хитрости и коварства ему было не занимать.
В ту пору в этих горах жил один большой народ, и правил им царь Давид. Государство его было столь могущественно, что ни один враг не смел даже близко подойти к его границам. Однажды к Давиду прибыли послы от абастов и сказали: «Мы пришли к тебе не с доброй вестью. Византийские полчища готовы напасть на нас, и наш господин Самфий смиренно просит у тебя помощи. И клянётся быть тебе верным союзником до могильного кургана».
Давид поверил послам. Он оставил трон на попечение старшего сына, а сам с сотней воинов отправился в столицу абастов, чтобы скрепить дружбу с их царём. Войдя к Самфию, он сказал: «Вот тебе моё копьё и моё слово: позовёшь, и я приду, а со мной — весь мой народ. Будем драться спина к спине. Ты клялся быть мне вечным союзником. Я клянусь тебе в том же».
— А потом Самфий убил царя Давида и завладел его копьём, — утвердительно проговорил Антон.
Заур посмотрел исподлобья.
— Тебе и это известно?
Антон покачал головой.
— Нет... Просто предположил. У нас, там, где я живу... То есть буду жить... Такое тоже случается сплошь и рядом. А предок царя Гюрли, видимо, напал на абастов и отобрал копьё назад?
— Так говорит древнее сказание, — задумчиво отозвался Заур. — Была великая битва между грузинскими племенами и абастами. Разбитый Самфий пытался бежать, но его конь утонул при переправе, а его самого схватили на берегу. И наверное, он пожалел, что не ушёл на дно вместе с конём... С тех пор Копьём Давида владеет род Гюрли и передаёт его от отца к сыну. Хромой Тимур очень хотел бы заполучить его. Произойди это — и весь Кавказ склонит перед ним голову.
— А почему ты сказал, будто я, возможно, нашёл могилу Давида? — спросил Баттхар. — Разве не известно точно, где он был похоронен?
— Это ещё одна тайна. Когда Давид умер, в стране началась смута. Когда-то единый народ распался на отдельные княжества, вожди рассорились меж собой, вспомнив давние обиды, внешние враги вторглись в границы... Поэтому жрецы храма богини Тенгри решили похоронить Давида тайно, чтобы никто не надругался над его останками. Они построили несколько внешне одинаковых захоронений в разных местах. Сколько существует таких мест и в каком из них покоится Давид — не знает никто. Жрецы убили рабочих, строивших склепы, а потом — сами себя, чтобы никто не мог проговориться. Похоже, что ты наткнулся на одно из таких захоронений. Скорее всего, оно пусто, а может быть...
Царевич помолчал, обдумывая услышанное. Потом сказал:
— Когда-нибудь я вернусь сюда и велю осушить озеро. И узнаю, пуста ли эта могила.
— Зачем? — спросил Заур.
Баттхар своенравно дёрнул плечом.
— Не люблю, когда от меня что-то скрывают.
...Антон чуть не отдёрнул руку.
Потому что его ладонь, вытянутая вверх, наткнулась на что-то острое и ранящее, как бутылочный осколок. Помня о сволочном нраве стены, он очень осторожно поднял голову и едва не заорал — не от боли, а от радости. Да что там от радости — от самого натурального счастья. Ибо то, за что он ухватился, было кромкой отверстия в своде пещеры.
Окоченевшие ноги потеряли опору, и Антон повис на руках, приблизительно на высоте пятиэтажного дома. Свались он отсюда — не спасла бы и вода... Однако он не упал. Глупо было упасть, уже добравшись до цели. Лоза внизу буквально взвыл от ревности: стена покорилась не ему... И — от радости, что пришло наконец неожиданное спасение.
Антон зарычал от натуги и отчаянным рывком перевалил себя через край пролома наружу, на пронизывающий ветер и свет. И без сил распластался на припорошённых снегом камнях.
Однако разлёживаться было ещё рано. Следовало найти опору понадёжнее, закрепить верёвку, которую он принёс с собой, и помочь выбраться остальным. И пока Антон отыскивал подходящий валун, пока вязал узлы, налаживая страховку, холод донял его окончательно. Голая спина совершенно одеревенела, посиневшие пальцы отказались слушаться, будто принадлежали кому-то постороннему. Отчаявшись удержать верёвку в руках, он обвязал её несколько раз вокруг пояса и лёг на землю, упёршись ступнями в валун. Ступни тоже давно потеряли чувствительность, но сейчас это было не важно. Уж в таком-то положении он удержит и Лозу, и царевича. А Заура они потом вытянут втроём. Если тот, конечно, позволит им это сделать, подумал Антон. А не то сам выскочит наверх впереди остальных.
Первым, однако, над кромкой пролома показался Лоза. Его почти не пришлось вытаскивать: ловкий, как обезьяна, мальчишка вылез сам, и его губы подрагивали в самодовольной улыбке — видал, мол, и мы можем не хуже!
Вынув из заплечного мешка ветровку, свитер и брюки Антона, Лоза бросил их ему и усмехнулся:
— Одевайся. Ишь, разжарило его...
Антона не хватило, чтобы ответить на подначку. Он влез непослушными ногами в штанины, натянул грубый шерстяной свитер прямо на голое тело и почувствовал блаженство, которого не испытывал никогда в жизни. Тепло — колючее, как муравейник или как целое стадо сердитых ежей, коснулось омертвевшей кожи, защекотало издалека, будто поддразнивая, заставляя бездумно потянуться навстречу... Антон мечтательно улыбнулся, но тут же, устыдившись, снова схватился за верёвку.
— Давай, — скомандовал Лоза. — Насчёт «три»...
Тянуть царевича было сложнее. Он постоянно срывался, пытаясь при этом раскачаться и снова зацепиться за стену, но только мешал. Наконец его макушка показалась над землёй, Лоза и Антон одновременно крякнули от натуги, и Баттхар упал рядом с ними, пробормотав:
— Знал бы я, что меня будут спасать таким варварским способом, руки бы на себя наложил, а в плен не пошёл.
— Ещё не поздно, — успокоил его Лоза. — До Тебриза ещё ой-ой сколько. И не по ровной дороге. И монголы вряд ли оставят нас в покое.
— Не накаркай, — сердито сказал Антон и сбросил в пролом конец верёвки. — Твоя очередь, Заур!
Заур ловко завязал узел левой рукой, подёргал верёвку, проверяя её на прочность и предупредил:
— Тяжело вам будет меня тащить. Я постараюсь помочь, но на многое не рассчитывайте.
Они находились высоко, на границе снегов. Как они ухитрились попасть сюда, было для Антона загадкой. Они никак не могли преодолеть такой длинный путь внутри горы — по самым смелым подсчётам они поднялись на сотню-полторы метров. Надо будет спросить об этом Заура, решил он. Хотя — что тот ответит? Жрецы, — и вся недолга. Как можно постичь деяния жрецов?..
— Как у вас принято спускаться по крутому склону? — осведомился Антон.
Лоза красноречиво шлёпнул себя по мягкому месту. Что ж, вздохнул про себя Антон, не самый плохой способ. Он оглянулся кругом в поисках подходящего пути вниз — и это спасло ему жизнь.
Длинная стрела с чёрным оперением на ладонь разминулась с его грудью и звонко стукнулась головкой о камень. Накаркал-таки Лоза, равнодушно подумал Антон. Он не боялся: наверное, отучился бояться за несколько суток, проведённых в чужом мире — страшноватом, но по-своему притягательном, словно... Он запнулся, отыскивая подходящее сравнение.
Словно боевой нож.
Да, точно. Словно боевой нож, которым никогда не режут хлеб.
Господи, неслышно взмолился он, ну почему Я? Почему ТЫ не послал в этот мир какого-нибудь крутого спецназовца с опытом войны в Афгане, Чечне и народной республике Никарагуа? Почему не увешал его с ног до головы всеми видами оружия — от стреляющей авторучки до переносной баллистической ракеты? Уж он-то натворил бы здесь дел — не мне чета. И царевича бы спас, и Хромого Тимура разгромил вместе с его туменами, кошунами и китайскими осадными машинами, а походя завоевал бы любовь прекрасной дамы — воинственной аланки на звонконогом коне или утончённо-луноликой монголки с этим, мать её, сямисеном...
Монголы меж тем карабкались по склону, оставив лошадей внизу. Их было множество — не менее полусотни. Их предводитель — тот самый, со шрамом через всё лицо, что-то прокричал, указывая на беглецов. То ли «взять живьём», то ли, наоборот, «пленных не брать»...
— Тяни!!! — заорал Лоза, вцепившись в верёвку.
Они тянули изо всех сил и понимали, что им не успеть. Если бы Заур не был тяжело ранен — он сейчас бы, наверное, сам вытаскивал из пещеры-ловушки своих спутников, всех троих враз, намотав верёвку на одну руку, а другой — отбиваясь от монголов.
Если бы жизнь не утекала из его мощного тела — потихоньку, по-воровски, унося из разграбленного и подожжённого дома последние медные копейки... Он вкладывал в это чёртово восхождение всё своё мастерство, до которого было далеко даже Динаре и Казбеку, и ухитрялся подтягиваться на одной руке, потому что вторая была перебита в кости.
Не успеть.
По ним уже не стреляли — видно, тот, со шрамом, приказал своим псам сохранить беглецов для допроса. И для казни пострашнее. Что ж, тем лучше.
Антон выпустил верёвку, мельком оглянувшись на Лозу с Баттхаром — ничего, справятся, — и медленно выпрямился навстречу врагам, сжимая в руке саблю. Жаль, Заур так и не сдержал обещания научить Антона владеть ею как подобает. Ну да ладно: тропа тут узкая, все скопом монголы не накинутся. Значит, сколько-нибудь он продержится, прежде чем его убьют.
— Эй чужеземец! — вдруг услышал он за спиной.
Антон отступил на шаг и заглянул в пролом. Заур ещё держался на стене. Голова его была запрокинута, и Антон увидел его глаза — пустые, уже подернутые белёсой дымкой...
— На юг и восток отсюда, в полудне пути, вы увидите реку, — торопливо заговорил Заур. — Она быстрая, но неглубокая, её можно перейти вброд. За ней меж двух холмов будет стоять старая мечеть, а чуть подальше, возле седловины — хижина, сложенная из камней. Там живёт мой брат, его зовут Аккер. Вы легко его узнаете.
— Как? — помимо воли вырвалось у Антона.
Заур внизу слабо улыбнулся.
— Он... Он очень похож на меня. В детстве мама различала нас с трудом. Ты должен рассказать ему всё, что произошло. И покажи ему уздечку, которую я снял со своего коня, — я спрятал её к тебе в котомку. Торопитесь!
Голова его безвольно качнулась вбок.
— Не смей! — закричал Антон в ужасе. — Не смей, слышишь? Мы тебя вытащим!
Заур не ответил. Рука его потянулась к поясу, и в следующую секунду в ней возник широкий нож. Тот самый, которым хозяин никогда не прикасается к хлебу. Острое лезвие скользнуло по верёвке — и она вдруг сделалась бездумно лёгкой. И покорной, словно дохлая змея.
Антон не видел, как тело Заура упало в воду, только услышал громкий всплеск, в котором явственно почудилось довольное урчание: дух озера благосклонно принял подарок.
Всё произошло быстро. Быстрее, чем это можно было описать. И гораздо быстрее, чем дошла до вмиг одеревеневшего сознания простая и ясная мысль: что Заура больше нет.
И что они остались одни.
Антон не чувствовал скорби — для скорби нужно время, которого тоже не было. Недоставало времени скорбеть и о Сандро, и о Торе Лучнике — абсолютно чужих, в общем-то, людях... И всё же Антон знал, что потом обязательно вспомнит их — когда закончится эта сумасшедшая гонка по горам, и возложенная на него миссия наконец будет выполнена. Где он окажется в тот момент — возле костра в пещере, возле очага в средневековом замке, примостившемся на верхушке скалы, в своей квартире перед телевизором — неизвестно. Но он вспомнит. И почувствует, как сердце вдруг пропустило удар...
Потом. А сейчас — он вздёрнул за шиворот зазевавшегося царевича, толкнул окаменевшего Лозу и страшно рявкнул:
— А ну, вниз по склону! Пулей!!!
Крутой склон разверзся перед ним во всей своей суровой красе, и он, отчаянно зажмурившись, бросился туда, как в пасть тигра, ногами вперёд.
Он тут же потерял из вида обоих своих спутников, лишь по шороху тел и сдавленным воплям догадываясь, что они где-то рядом. Склон летел навстречу, сливаясь в грязно-белую массу, больно колотя по спине камнями и рождая ощущение, будто кто-то недобрый сунул Антона в стиральную машину. Одно радовало: скорость у его преследователей была в этот миг намного ниже. Те ещё, должно быть, взбирались наверх с противоположной стороны. Пройдёт пять или десять минут — и они увидят на вершине горы пролом. Они обязательно заглянут в него, не могут не заглянуть. Они увидят там расставленных в круг языческих богов, которым уже много веков никто не приносит жертву, и чёрную гладь озера, скрытую в дымке испарений. И станут гадать, не туда ли спрыгнули беглецы. Конечно, это означало бы верную смерть, но, может быть, они предпочли смерть плену?
Потом кто-нибудь из монголов заметит следы на противоположном склоне, и они догадаются... Но это будет потом, через несколько минут. Ох, как нужны они были сейчас, эти минуты...
Глава 10 ПЕРЕКРЁСТОК ПУТЕЙ
— Что ты делаешь каждый раз, едва мы останавливаемся на отдых? — однажды спросил он меня.
— Пишу книгу, — ответил я и с гордостью продемонстрировал своему спутнику уже исписанные страницы.
Их было множество, этих страниц, несколько сотен, и всё равно я знал, что моя книга ещё в самом начале. Не единожды осень сменит весну, и выпадет первый снег, робкий, словно фата невесты, и вновь растает, обратясь в полноводные ручьи, и яблоневые сады, очнувшись от зачарованного сна, покроются дурманящим белым цветом, прежде чем моё повествование достигнет хотя бы середины. Как знать, возможно, оно окажется длиннее, чем вся моя жизнь, и тогда его завершит кто-то другой, к кому эти записи попадут после моей кончины. И кто возьмёт на себя труд описать всё то, что он видит вокруг: города и народы, так похожие и непохожие друг на друга; людей, ныне живущих и уже отошедших в лучший мир, оставивших в веках свой след, точно глубокую борозду от лемеха, или ушедших тихо и незаметно, без скрипа притворив дверь за собой... Все они рано или поздно внесут посильную лепту в мою повесть. Я постараюсь показать их самих и их деяния без прикрас, как они есть. Изящные, словно изразцы на мечетях, литературные обороты я оставлю придворным поэтам, чьё ремесло — услаждать чужой слух...
А я не поэт. Я всего лишь путешественник волею Аллаха, который упорно ищет крупицы мудрости — несмотря на то что наверняка она прячется где-то очень далеко, на другом конце земли. И крупицы истины, которой наверняка нет вообще...
— И всё это здесь? — зачарованно спрашивает мальчик, с почтением дотрагиваясь до бумаги. Бумага изрядно потрёпана по краям и пожелтела от солнечных лучей, я не смог уберечь её как подобает. — Вот в этих чёрных значках — судьбы людей?
— Можно сказать и так.
— И ты можешь переписать их заново, и тогда судьба человека изменится?
Я покачал головой.
— Вряд ли. Судьбу человека может творить лишь Аллах. Я же только стараюсь поведать о ней другим.
— Обо всех, обо всех? И обо мне тоже?
— И о тебе, — подтвердил я. — Ты ведь тоже часть этого мира. А для меня — очень большая его часть.
Несколько минут он размышлял над этим, наблюдая за собственными босыми ступнями, перемешивающими дорожную пыль. На его плече болтались связанные верёвочкой сапоги — совсем неплохие сапоги, с мягким замшевым голенищем и исключительно крепкой подошвой, как раз по ноге — в таких не набьёшь мозоли даже на очень острых камнях. Я приобрёл их для него у одного знакомого купца-осетина, чей караван мы повстречали на пути в Мерангу. Обувь мальчишке понравилась (я видел это по его разгоревшимся глазам), но он так ни разу и не надел её: сберегал для особо торжественных случаев. Правда, я не раз и не два заверял его, что он мог бы иметь дюжину таких пар про запас, стоило лишь пожелать, но мальчишка только упрямо наклонял голову.
— Скажи, дада[17], — осторожно спросил он. — Так рассказывать о других людях, как это делаешь ты, с помощью значков на бумаге... Это доступно только великим мудрецам вроде тебя?
Я слегка смутился.
— Ну почему же. Это может каждый, если он только знает буквы и умеет складывать их в слова.
— А ты научишь меня этому искусству? — спросил он меня ещё осторожнее, даже, кажется, перестав дышать.
— Научу, — пообещал я. (Почему бы и нет, в конце концов? Разве я не мечтал о последователе?) — Что же ты собираешься поведать людям?
На этот раз мальчишка думал недолго.
— Я расскажу им о своей мести. Убийцы моих родителей пока ещё не наказаны, и мне придётся это исправить. Но уж это я сумею: ты ведь научил меня владеть мечом! Смотри!
Он подхватил с земли прут, гикнул и ринулся в кусты чертополоха, что безвинно росли у дороги. Я и глазом не успел моргнуть, как кусты оказались повержены и изрублены в мелкую кашу. Мой ослик, глядя на это безобразие несчастными глазами, чуть не расплакался: он нацеливался на этот куст уже добрых полминуты...
Я окликнул своего спутника. Он вылез обратно на дорогу, обобрал с себя репьи и хмуро пробормотал:
— Я знаю, что ты сейчас скажешь. Что мне надо набраться терпения, что придётся подождать, пока я подрасту... — Он с сожалением посмотрел на собственную тень, будто умоляя её вытянуться побыстрее и понимая, что вытягиваться в угоду своему хозяину та и не подумает. — Знаешь, дада, что бы я сделал, если бы был мудрецом, как ты? Я бы изобрёл напиток, позволяющий маленькому и слабому человеку вырасти и стать сильным за одну ночь. Я бы выпил его, даже если бы он был очень горький. И тогда, клянусь, мои враги пожалели бы, что родились на свет!
Он резво припустился с места вперёд, размахивая прутиком, — только пыль столбом из-под босых пяток. Видно, жалел, что убийцы его родителей сейчас далеко. Вскоре, однако, когда запал иссяк, вернулся назад, потоптался рядом и спросил:
— Почему ты не хочешь изобрести такой волшебный напиток, дада? Ты ведь можешь, я знаю.
Я улыбнулся и взлохматил мальчишке волосы.
— Наверное, не такой уж я мудрец, каким ты меня себе представляешь.
— Ну нет, — с ходу отмёл он этот тезис. — Я сам видел, как тот господин, хозяин торгового каравана, которого мы повстречали, благодарил тебя и кланялся в пояс. А ещё он назвал тебя мудрейшим из мудрых — и я не думаю, что он соврал.
Я и впрямь знал того купца — Аллаху было угодно скрестить наши дороги много дней назад, по пути в Мерангу. Собственно, тогда ещё купцов было двое: они были компаньонами, и каждый имел в общем караване свою долю. Они собирались идти в Мерангу через перевал, получивший название Трёх Сестёр — в честь молельни, построенной там ещё во времена ранних христиан. Этот путь был короче остальных, но я отсоветовал пользоваться им: в горах вот-вот должен был наступить сезон дождей. Компаньоны спорили меж собой всю ночь (я слышал их перепалку, лёжа под толстым верблюжьим одеялом и безуспешно пытаясь заснуть), но так и не пришли к единому мнению. Наутро они разделили караван: один купец повёл свою часть горной дорогой, как и планировалось, второй пошёл более длинным путём, пересекавшим равнину с востока на запад.
— Я подожду тебя в Меранге, — сказал первый, усмехнувшись в чёрную окладистую бороду. — Думаю, я продам больше товара и по более выгодной цене, потому что приду первым. Но не рассчитывай, что я поделюсь с тобой прибылью.
Его товарищ буркнул что-то в ответ, а потом очень сухо попрощался со мной. Он выглядел сердитым и расстроенным — наверное, жалел о своём решении идти равниной: это стоило ему лишних пяти дней пути...
Мы снова встретились, когда он уже возвращался из города. Он прождал своего компаньона неделю, и в конце концов ушёл, подумав, что товарищ просто бросил его, не пожелав иметь дело с трусом. Он заподозрил плохое, а случилось самое плохое: на перевале Трёх Сестёр караван его компаньона смыло сошедшим с гор селевым потоком.
Завидев нас, купец остановился, сошёл с коня и поклонился до земли, велев всем своим людям сделать то же самое.
— Ты подарил мне жизнь, — сказал он, выпрямившись. — Я продал почти все товары и везу теперь много вырученных за них денег. Думаю, будет справедливо, если ты возьмёшь триста... нет, пятьсот золотых дирхемов. И хорошего коня, а то ты, прости мою дерзость, наверное, сбил ноги, путешествуя пешком.
Я отрицательно покачал головой.
— Ну, хочешь — возьми двух коней, — испугался купец, — и тысячу дирхемов в придачу.
Я опять отказался. Денег на всякие дорожные нужды у меня было в достатке, а к иному я был равнодушен.
— Восстанови лучше молельню на перевале, — посоветовал я ему. — Пусть это будет памятью твоему погибшему товарищу. Он был достойным человеком.
— Да будет так, — согласился купец и вдруг заметил моего спутника. — О, да у тебя появился воспитанник! Воистину счастье выпало на его долю — путешествовать бок о бок с величайшим мудрецом из всех живущих под этими небесами. Плохо только, что он ходит босым... Эй, — крикнул он своим людям. — Живо, сапоги для мальчика! Самые лучшие! Да смотрите, бездельники, чтобы пришлись точно впору, иначе высеку!
Он был добрым человеком, этот купец. И умел быть благодарным. Вот только не знаю, хорошо ли это, ведь успеха в жизни чаще добивается тот, кто умеет лгать с честными глазами и бить в спину без промедления. Может быть, я и ошибаюсь, но вряд ли меня кто-нибудь переубедит.
— Ты истинный мудрец, — упрямо проговорил мальчик. — Ты ведь спас этого купца от верной гибели в горах. Наверное, ты можешь предрекать будущее, я прав?
Я покачал головой.
— Чтобы предвидеть оползень, совершенно не обязательно быть провидцем.
— Да? — Он запнулся. — А ты... Ты встречал когда-нибудь человека, который на самом деле мог заглядывать в будущее?
Я долго не мог ответить. Я смотрел вперёд, на изумрудно-зелёные холмы, где паслись отары овец и роились многочисленные селения под защитой каменных крепостей, взлетевших, подобно орлам, на скальные кручи, но глаза мои видели другое...
Тёмный сырой подвал с крысами и клопами-кровососами, бледный тонкий луч света сверху, из-за прутьев решётки, и узник, одиноко и неподвижно сидящий на куче гнилой соломы, перед нетронутой миской со скудной тюремной едой. Впрочем, насчёт еды — вру. Надеясь завоевать его доверие, я приносил в камеру кушанья, приготовленные лучшими придворными поварами, я ставил перед ним золочёные подносы с ароматным пловом и люля-кебабом, игристыми хмельными напитками (я таскал их из кладовой самого эмира — они стоили баснословно дорого, даже для меня) и тонкими восточными сладостями. А потом, видя, что это не производит на узника ни малейшего впечатления, впадал в другую крайность и целыми неделями морил его голодом. Знал бы мой юный спутник об этом — вряд ли смотрел бы сейчас на меня с таким обожанием...
— Встречал, — нехотя ответил я на его вопрос. — И даже просил обучить меня его искусству. Ибо больше всего на свете мне хотелось именно этого: уметь видеть будущее.
— И он научил тебя? — с восторгом спросил мальчишка.
— Нет. Он отказал.
— Но почему?
Я подумал и ответил чистую правду:
— Наверное, потому, что он слишком любил меня. И не хотел делать несчастным.
...Мы увидели перед собой стены Меранги, второго по величине города Алании после столицы, в месяц Джумади 775 года Хиджры[18].
Город произвёл на моего спутника трудноописуемое впечатление. За тот неполный год, что мы провели вместе, ему пришлось побывать во многих местах и повидать множество диковинных вещей — так много, что ему, наверное, надоело удивляться. Бывали мы и в больших городах (правда, нигде не задерживаясь надолго): в просвещённой Бухаре и в городе мастеров Дамаске, в шумном, как при строительстве Вавилонской башни, Самарканде и в чересчур, просто-таки до тошноты роскошном Хорезме...
Меранга разительно отличалась от всего, что мы видели раньше. Она ничем не напоминала похожие на воздушный лукум города Персии и Ирана, наводнённые пышными, словно женская грудь, летними резиденциями их правителей, копьеобразными минаретами и крикливыми грязными базарами. Она отвергала всякое знакомство с грузинскими и абхазскими крепостями из чёрного камня, суровыми и немногословными, точно монахи-отшельники, она никогда не претендовала на добродушную снисходительность мощных русских городов, вымахавших вширь, как дуб-великан на просторе, и уж совсем мало было в её облике от приморских селений лазов, авастиев и ромеев, пропахших смолой, виноградом и рыбой.
И в то же время (странно, но это так!) она диковинным образом соединяла в себе всё вышеперечисленное. Осетин, проезжая на коне мимо какого-нибудь богатого дома, отделанного по фасаду розоватым необработанным туфом, немедленно вспоминал свой горный аул; странствующий имам, совершающий хадж и много лет не видевший родной Басры или Гурганджа, тихонько вздыхал при виде говорливой стайки студентов медресе; быстроглазый еврей жадно втягивал длинным носом до боли знакомый запахи из рыбной лавки — точной копии той, что он когда-то оставил на попечение старшего сына. (Где он теперь, мой Арон, хорош ли его улов, женился ли он, как хотел, на соседской девушке Ребекке и дождалась ли старая Дебора внуков? Или давным-давно уж нет на свете ни Деборы, ни рыбной лавки, пропитанной пряными запахами, а Арон, как и его не наживший ума папаша, скитается по свету в поисках лучшей жизни?.. Сколько почтенная хозяйка просит за эту селёдку? Что вы говорите? Это не селёдка, а копчёный угорь? Вы разве никогда в жизни не держали в руках копчёного угря? Не знаю, как у вас, а в моём родной Остюфе постеснялись бы назвать угрём ту селёдку, которую вы...)
Лично у меня Меранга ассоциировалась прочнее всего с девушкой-воином. Одной из тех, чьим прекрасным рукам не чужды ни изысканные золотые украшения, ни боевое оружие — не палица или грубая дубинка, больше приличествующая мужчине-бойцу, а что-то вроде китайского меча-цянь. Моя любимая, моя младшая жена Тхай-Кюль очень неплохо владела этим оружием, называя своё искусство пышным именем «Полёт белого журавля». Она даже утверждала, будто это было традицией её семьи на протяжении многих поколений... Непонятно только, почему при всех её боевых навыках она так легко сделалась военной добычей моих соотечественников, с лёту овладевших её родным городом Жэнь-Дао лет десять назад...
Впрочем, ни утончённое боевое искусство, ни искусство дарить ни с чем не сравнимое наслаждение в любви, ни иные её достоинства не заставили меня воскресить в памяти мою Тхай-Кюль более чем на две секунды. А потом — потом меня захватило зрелище аланского города. Второго по величине после их столицы Сенхорана.
Город дышал полной грудью — это ощущалось уже здесь, на дальних подступах к нему, среди множества больших и малых селений, сгрудившихся под защитой высоких башен и стен. Некоторое время мы — я и мой спутник — разглядывали картину, открывшуюся нам с холма: домики с плоскими крышами среди белых акаций и тутовых деревьев, чёрные квадраты пашен и ползущие по дорогам торговые караваны. Встречались двухколёсные повозки, запряжённые волами, пешие путники вроде нас и нарядные всадники на разукрашенных конях...
— Пойдём, дада, — сказал мальчик и потянул меня за рукав.
Он не понимал, почему я остановился. Ему жуть как хотелось побыстрее попасть в город, он прямо-таки жаждал новых впечатлений. А я стоял — и не мог двинуться с места. Может быть, именно в тот момент мне и пришла на ум моя Тхай-Кюль. Или слепой дервиш, так и не открывший мне своего секрета. Помнится, в последний раз, явившись мне во сне, он обещал мне встречу с прекрасной незнакомкой. Как знать, вдруг он имел в виду не конкретную женщину (их я и так перевидал во множестве, и не только перевидал), а этот похожий на женщину город...
Стражники, с рассветом открывшие ворота, лениво разговаривали, перебрасываясь шутками. Пока ощущался утренний холодок, они грелись на солнышке. Начнёт припекать — спрячутся в тень. Мой спутник смотрел на них, разинув рот в восхищении. Наверное, они казались ему настоящими непобедимыми воинами-великанами: широкогрудые, высокие, в панцирях из медных пластин, начищенных так, что резало глаза, с круглыми коваными щитами, длинными копьями, при тугих боевых луках, с волосяными арканами и изогнутыми саблями у бедра — таким было традиционное снаряжение аланского воина, и конного, и пешего. Выглядели они оба слегка картинно, хоть портрет пиши, но это и понятно: ворота и стража у ворот — это в какой-то степени лицо города.
Я отдал старшему из них положенный серебряный дирхем и сказал:
— Я Рашид ад-Эддин из Ирана, волею Аллаха странствующий учёный и псалмопевец. Вот уже много лет я составляю книгу о различных странах и народах и надеюсь найти в вашем благословенном городе те сведения, которых мне недостаёт. А это мой юный воспитанник. Он сирота, лишённый родителей.
Глаза стражника — светлые и широко расставленные, как у большинства аланов, — цепко, но без враждебности, вмиг подметили и оценили каждую мелочь, начиная с моего шрама на щеке, заработанного полгода назад в схватке с шайкой разбойников (те разбойники, видно, были не слишком удачливы, если позарились даже на мои скромные пожитки), и заканчивая нашей одеждой — не богатой, но и не бедной. Это хорошо — читалось на его лице — значит, не станут попрошайничать и резать кошельки на рынке.
— Ты и твой воспитанник путешествуете налегке? — осведомился он. — Кажется, ваш ослик не слишком нагружен поклажей. Или вас ограбили в дороге?
— Тот, кто собирает крупицы мудрости, вряд ли наживёт богатство, — ответил я. — А от плохих людей Аллах до сих пор хранил меня.
Стражник кивнул.
— Я вижу, при тебе нет оружия, чужеземец. Значит, мне нет нужды предупреждать, чтобы ты не пускал его в ход. В нашем городе на этот счёт строгие законы.
— Поверь, благородный человек, я не собираюсь нарушать их, — заверил я его. — Не поможешь ли ты советом, где мы могли бы найти приют на ночь и немного еды за хорошую плату?
— Ступай прямо по улице, — махнул рукой стражник. — Увидишь корчму с прибитой над входом подковой. Корчма так и называется: «Серебряная подкова». Думаю, её хозяин не откажет вам в постое.
Я поблагодарил, мысленно улыбнувшись: в любом населённом людьми месте обязательно сыщется корчма или постоялый двор с таким названием.
Улица — широкая и прямая как стрела, — была заполнена пёстрой толпой. И то ли моё безоблачное настроение было тому виной, то ли так было на самом деле, но все встречные лица казались добрыми и открытыми. И я подумал, что воистину велик тот правитель (точнее, правительница), чьи подданные, выходя утром из дома, улыбаются и приветствуют друг друга просто так, из добрых побуждений, а не из нужды или расчёта.
Какая-то миловидная женщина — горожанка средней руки, судя по виду, в серо-голубой просторной одежде и шафрановом платке — кивнула мне, как старому знакомому, взглянула на серьёзную мордочку моего осла и, не удержавшись, прыснула в кулачок: ослик показался ей забавным. Потом она вполголоса сказала что-то сопровождающей её служанке, и обе переключились на грека-зеленщика, чьи товары лежали тут же, прямо под открытым небом. Мой юный друг увлёк меня в противоположную сторону, в оружейную лавку.
Чувствовалось, что оружейник был не в пример богаче своего собрата-зеленщика. Его прилавок, украшенный миниатюрами настоящей бухарской чеканки, пестрел самыми разнообразными изделиями, а за спиной продавца, на самаркандском ковре, были во множестве развешаны узкие татарские сабли и широкие, причудливо изогнутые индийские клинки, вызывавшие в воображении мускулистую фигуру палача в красном фартуке и устрашающей маске; длинные пики; покрытые серебряной насечкой боевые секиры; хищные, как жало кобры, кинжалы разной длины и формы и даже пара прямых мечей из северных стран. Любопытства ради я подержал в руке один из них: меч показался мне неудобным для стремительного конного боя. Впрочем, я тут же вспомнил, что северяне — русы и скандинавы — предпочитали сражаться пешими или на палубах боевых кораблей...
Неудивительно, что мой спутник сразу и намертво прилип к прилавку. Это был настоящий пир оружия — сколь отталкивающий, столь же и притягательный...
— Благородный господин желает что-нибудь приобрести? — с готовностью спросил продавец. В его голосе я уловил лёгкий южный акцент, показавшийся знакомым, но я поленился подумать над этим: мысль родилась и пропала. — Прости мою дерзость, но по твоему виду я заключил, что ты много времени проводишь в странствиях, а значит, добрый клинок тебе необходим...
Я отрицательно покачал головой, возвращая меч хозяину.
— Я мирный человек, да и, признаться, не владею оружием.
Последнее было не совсем правдой, и мой спутник взглянул на меня с некоторым удивлением, но дисциплинированно промолчал. Только по-ребячьи вздохнул, поглаживая рукоять кинжала, что среди прочих лежал на прилавке.
Кинжал был красив. Большинство из тех, что мне доводилось держать в руках, имели прямое сужающееся к концу лезвие. Этому же неведомый мастер придал лёгкий изгиб посередине, отчего кинжал формой стал напоминать женское тело, вытянувшееся стрункой в любовном экстазе. Неширокая гарда и шишечка на конце рукояти были искусно отделаны сердоликом.
Хитрый торговец сразу же заметил интерес мальчика. И принялся изо всех сил разжигать его. Схватив кинжал с прилавка, он сделал несколько угрожающих выпадов в пустоту, стараясь, чтобы лезвие побольше сверкало на солнце, ловко рассёк надвое подброшенную шёлковую ленточку и в довершении продемонстрировал нам ножны с тонкой серебряной инкрустацией. Он умел подать свой товар лицом.
Я поторговался для вида и расплатился, вызвав у мальчишки бурю восторга. Для себя же, поколебавшись, приобрёл золотой браслет хакасской работы и застёжкой в виде миниатюрного коня, готового сорваться в галоп. Слишком уж хорош был конь: с пышным хвостом, гривой до земли, вовсе уж крохотным глазом-рубином и тонкими нервными ногами. Торговец, обрадованный прибытком, ловко сгрёб деньги и спрятал их в кошель за пазухой. И по этому незамысловатому движению я вдруг узнал его.
Далеко отсюда — далеко и по времени, и по расстоянию — у него тоже была лавка, в самом конце длинной узкой улочки, берущей начало на рыночной площади в моём родном Седжабе. Только продавал он тогда не оружие, а мыльный порошок, якобы «целебный для дёсен и для желудка» (гнуснейшая, надо признать, смесь), зелёную персидскую глину, розовое масло сомнительного качества и гашиш, вовсе уж непонятно, где и из чего произведённый на свет. Это его слуги били ногами лежавшего на земле слепого дервиша. И, могло статься, убили бы совсем, если бы я не проезжал мимо...
Вряд ли он вспомнил меня: я сильно изменился за прошедшие годы. Щёки давно утратили юношескую припухлость, кожа стала жёсткой и смуглой, и в волосах отнюдь не убавилось седины, которую я не в пример иным молодящимся старцам и не подумал закрасить. А то, что он внимательно и с подозрением посмотрел мне вслед — мало ли какие могли быть тому причины...
— Почему ты не купил себе меч или саблю, да-да? — спросил мальчик, когда мы вышли из лавки.
— Потому что оружие — это принадлежность воина, — ответил я. — Мы же не носим с собой счёты или мотыгу: мы не счетоводы и не земледельцы. Да и потом, много ли навоюешь саблей?
— А чем же ещё воевать? — удивился мальчишка.
— Вот этим. — Я постучал себе по лбу согнутым пальцем.
Мальчик озадаченно посмотрел на меня, потом огорчённо признался:
— Я не понимаю, дада.
— Когда-нибудь поймёшь. А пока — просто прими к сведению.
Зачем я заглянул в этот грязный сырой переулочек? Дорога к корчме «Серебряная подкова» лежала совсем в другом направлении...
Переулок был узкий, даже ослик с поклажей вряд ли бы протиснулся меж домами. Непонятно, что привлекло мой взгляд, и уж совсем не объяснить, зачем я вдруг свернул туда, бросив через плечо своему спутнику: «Подожди здесь». Скорым шагом я прошёл мимо старого арыка под глинобитной стеной и такой же старой покосившейся калитки из почерневшего карагача, возле которой прямо на земле сидел крайне неопрятного вида нищий в лохмотьях, с рожей отъявленного висельника. Неудивительно, что его плошка для подаяний была почти пуста... Он недобро покосился на меня, но ничего не сказал, лишь лениво поднялся на ноги за моей спиной, как бы невзначай перекрыв мне обратный путь. Я же, обогнув дом, вдруг увидел знакомую женщину в шафрановом платке — ту самую, что улыбнулась мне возле лавки зеленщика. А через секунду я понял, что женщина и её служанки находятся в довольно плачевном положении.
Трое бандитов — самого гнусного вида, босые и полуголые, но с хорошими ножами в руках — окружили их и прижали к стене, а четвёртый, по всему видно, вожак, уже развязывал отобранный кошель с деньгами. Служанка, сильно побледневшая, кажется, готова была лишиться чувств. С её хозяйки один из бандитов сорвал платок, и я невольно (и совершенно некстати, надо признать) засмотрелся на неё, ибо женщина была по-настоящему красива.
У неё была очень нежная кожа, цвет которой трудно было передать словами. От кожи пахло мёдом и жасмином, альпийскими травами и (я на миг выбросил из головы романтический лепет) — розовым маслом, но не тем, из грошовой лавчонки в Седжабе, а настоящим, из чего я заключил, что женщина была весьма состоятельная (что опять-таки не слишком вязалось с её простой одеждой). Что ещё? Классической формы нос с еле заметной горбинкой, очаровательно приподнятая верхняя губа и тонкая стройная шея. И что особенно меня поразило: глаза и волосы одного оттенка, светло-коричневые, с золотистым отливом. Сейчас эти глаза источали пламя: она, похоже, совсем не была испугана и даже пыталась вырваться, но держали её крепко. Вот она повернула голову и увидела меня. Тонкие брови приподнялись, во взгляде мелькнуло удивление, потом оно сменилось гневом: видимо, прекрасная незнакомка приняла меня за сообщника бандитов. Щёчки её запунцовели, пухлые губы ещё ярче заалели... Я с трудом удержался, чтобы не поцокать языком: женщина была чудо как хороша. Спеша рассеять её заблуждение на мой счёт, я шагнул вперёд и резко произнёс:
— Остановитесь!
Они остановились. Не от страха — их ведь было четверо, — а от некоторой растерянности: кто ещё смеет тут командовать? Нож главаря с похвальной быстротой метнулся вперёд и слегка оцарапал мне кадык. Я не отдёрнул головы. Я давно отучился бояться таких пустяков.
Главарь прошёлся взглядом по моей фигуре сверху вниз и удивлённо спросил:
— Это ещё кто такой?
Я небрежно отстранил нож ладонью, подошёл к женщине и учтиво помог ей подняться.
— Ты не пострадала, всемилостивая госпожа?
Она покачала головой. Довольно замысловатая причёска обрушилась, волосы упали вниз, доверчиво коснувшись моей руки — нежнейший оттенок сандалового дерева, только светлее, большая редкость даже для этих мест... Но, несомненно, женщина была чистокровной аланкой. Я повернулся к главарю и с расстановкой произнёс первое, что пришло на ум:
— Ты хоть знаешь, посрамление своего рода, на кого ты поднял руку? Знаешь ли ты, что перед тобой — сама правительница города царица Регенда?
Женщина была, кажется, удивлена не меньше своих мучителей. Она даже во сне не могла представить, что когда-нибудь её вот так беззастенчиво станут выдавать за царицу. Однако иного выхода я не видел: при мне ведь в самом деле не было ни меча, ни кинжала. И я вполне мог из спасителя превратиться в ещё одну жертву.
Главарь бандитов замер на мгновение, потом расхохотался так, что слёзы выступили на глазах.
— Эта... Эта замарашка — царица? — еле выговорил он сквозь смех (женщина отнюдь не выглядела замарашкой, но я не стал возражать). Остальные загоготали вслед за ним.
Он резко оборвал смех и угрожающе приблизился ко мне. Дохнуло неприятным запахом: пота, давно не мытого тела и почему-то протухшей рыбой.
— Я бы убил тебя, чужеземец, но ты развлёк меня своей глупостью. Пожалуй, я тебя отпущу, так и быть. Только возьму твой кошель на память.
Его лапа потянулась к моему поясу. Это вызвало у меня настоящий приступ бешенства, я шагнул ему навстречу, пребольно ткнул пальцем ему в грудь и прошипел:
— Да будет тебе известно, что царица Регенда время от времени путешествует инкогнито по своим владениям, одетая простой горожанкой, крестьянкой или монахиней, чтобы узнать, мирно ли и в благочестии живут её подданные. Сегодня ты прогневал её, нечестивец. Если ты уберёшься отсюда — немедленно и с извинениями, я, так и быть, уговорю её забыть о тебе, как о досадном недоразумении. Если же ты промедлишь — к вечеру тебя вздёрнут на городской площади. А теперь исчезни. — Я презрительно оттолкнул его. — И не забудь поблагодарить меня за то, что спас твою никчёмную жизнь.
Мы стояли близко, лицом к лицу. Остриё ножа по-прежнему касалось моего горла: и оно в любой миг могло проткнуть меня одним движением. Кто знает, когда моё тело обнаружили бы: стражники, надо полагать, заходили сюда нечасто. И моя книга о странах и народах, их населяющих, главный труд моей жизни, останется незавершённым: я ведь так и не успел научить своего юного спутника грамоте...
Вот только думалось мне почему-то совсем о другом: не о возможной близкой смерти, не о недописанной повести и даже не о судьбе мальчика, которого я подобрал в разорённом селении. Я думал о женщине, что доверчиво прижалась к моему плечу: сейчас я был для неё единственным защитником.
Я думал о лёгком щекочущем прикосновении её волос, о пленительных губах, стройной грациозной шее и об очаровательной ямочке на подбородке. О том, как хорошо было бы подхватить её на руки, внести через порог спальни и нежно опустить на прохладное атласное покрывало, чтобы потом всю ночь напролёт дарить ей любовь.
И о том, с какой позы она предпочтёт начать...
Уж не знаю, какие мысли в тот момент витали в убогой голове бандитского вожака, но его нож, помедлив немного, вдруг убрался от моего кадыка. А ещё через мгновение вся шайка, точно стая воробьёв, взметнулась с места и исчезла, будто её и не было, растворившись в каменных трущобах. Я стремглав бросился за угол — не для того, чтобы задержать кого-то (уговор есть уговор), а просто посмотреть...
Пусто. Даже там, у кривой калитки, никого не было. И войди я сейчас в любую лачугу и задай вопрос — меня встретило бы лишь полное непонимание: разбойники? Грабители? У нас в переулке? Вы наверное, шутите, благородный господин, мы люди мирные, бедняки, что с нас взять, не найдётся ли у вас медной монетки, благородный господин, деток нечем кормить... Поэтому, я уверен, квартальная стража и не наведывается сюда: одна головная боль и никакого толка...
Лишь теперь я перевёл дух, запоздало подумав, что все могло закончиться и по-другому. И вернулся к женщинам. Те уже вполне оправились от потрясения. Они, к счастью, не пострадали, и даже кошель с деньгами остался нетронутым. Правда, зелень, купленная у заезжего грека, безвозвратно погибла, но это была невеликая утрата.
— Как нам отблагодарить тебя, добрый человек? — спросила та, у которой были светло-коричневые волосы. — Ты спас нам жизнь... Кстати, как тебе пришло в голову выдать меня за царицу?
— Надо же было что-то сказать, — пожал я плечами. — Иначе, боюсь, этих нечестивцев не остановили бы ни мои седины, ни твоя несравненная красота. Позволь спросить, что заставило тебя и твою спутницу зайти в это неподобающее место?
— Предупреждала я... — начала было служанка.
— Виной всему моя любовь к коврам. Я хотела купить один для своего дома, но не смогла выбрать в лавке подходящего. И тогда какой-то человек, проходя мимо, сказал, что у него есть то, что могло бы мне понравиться. Он представился купцом из Бухары и...
— И добавил, что поставляет товары только очень богатым вельможам, но один из них... к примеру, арабский шейх Исмаил, отказался от своего заказа, и теперь он готов уступить вам редкий ковёр за полцены, — закончил я за неё.
— Откуда ты знаешь? — удивилась она. — Ты ясновидящий?
— Увы, нет, моя госпожа. Я лишь странствующий учёный, собиратель мудрости. Если позволишь, я провожу тебя до дома, чтобы никто не обидел в дороге...
Она согласилась. Однако, едва мы вышли из переулка на центральную улицу, обе вдруг поспешно распрощались со мной, извинившись и ещё раз поблагодарив за чудесное спасение, и, не успел я моргнуть глазом, быстро растворились в толпе. Меня кольнуло мимолётное сожаление: она ведь даже не назвала своего имени, моя прекрасная незнакомка...
— Почему тебя так долго не было, дада? — нетерпеливо спросил мальчик. — Я боялся, что ты ушёл насовсем...
Хозяин «Серебряной подковы» был выходцем из Средней Азии — Бухары, Нессы или Хорезма. Я определил это сразу, ещё до того, как увидел его в лицо. И ему, наверное, в отличие от меня, была знакома тоска по давно оставленной родине. А иначе, думается, его корчма выглядела бы совсем по-иному. И даже на корчму она была мало похожа — скорее на маленькую изысканную чайхану, обставленную в восточном стиле. И подавали здесь к обеду не баранину на вертеле с жёсткими ячменными лепёшками, а кебаб, варёную лапшу, дыни и мёд — то, к чему я привык во дворце в Седжабе. Правда, с тех пор как я покинул его, минуло много времени... Горцы устраивали подобные заведения с присущими им суровой простотой и аскетизмом: длинное помещение с каменными сводами, дубовые столы и лавки вдоль стен, массивные столбы посередине, поддерживающие крышу, и нарочно закопчённые балки перекрытия.
Здесь же чёрный цвет отсутствовал напрочь. Пол был выложен изразцовым кирпичом с восточным орнаментом, на стенах висели ковры, привезённые из мастерских, расположенных где-нибудь в окрестностях Джейхона, на изящных полках и в нишах стояли медные кувшины и глиняные иранские вазы. Купол комнаты, составленный из переплетённых раскрашенных балок, имел в середине отверстие для дыма. Под отверстием на полу, в углублении, чадила медная жаровня. Я втянул носом острые пряные запахи и почувствовал, что голоден.
Мальчик-прислужник в длинном полосатом халате и голубой чалме ловко накрыл для нас скатерть и принёс еду. Мой спутник сел, поджав под себя ноги, и с жадностью набросился на угощение. Он вообще, как я заметил, отличался хорошим аппетитом, вызывающим у меня лёгкую зависть: я-то давно потерял способность радоваться изысканным блюдам. А значит, ещё на одну радость в жизни у меня было меньше.
У жаровни в центре комнаты сидел пожилой тучный человек с гладко выбритыми щеками и круглым лицом. Как я успел узнать, это был Абу-Джафар, хозяин приютившего нас заведения. То ли он сразу угадал во мне соотечественника, то ли просто проснулось любопытство при виде новых лиц, но он тут же отослал слугу, подхватил поднос с новой порцией плова (ибо прежнюю мой спутник уничтожил в мгновение ока) и с поклоном присел рядом с нами.
— Да будет Аллах милостив к вам, добрые люди, — сказал он на моём родном языке.
— И тебе да ниспошлёт он многие блага, — ответил я. — Правильно ли я определил, что ты родом из Нессы[19]?
Хозяин степенно кивнул.
— Я узнал в тебе единоверца, едва ты переступил порог. И ещё мне думается, что ты давно не был в родных местах. Что же выгнало тебя из дома и заставило пуститься в дорогу?
Слово за слово — мы разговорились, и я рассказал ему все. Ну, не совсем все — почтенному Джафару незачем было знать о слепом дервише, чьё проклятие я носил в себе всё это время. Умолчал я также о своей жизни во дворце эмира Абу-Саида — я предстал перед ним обычным паломником (белая ленточка, полученная мною в Мекке, подтвердила мои слова) из тех, кого ветер странствий носит из конца в конец Вселенной. Зато уж мои рассказы о палящем солнце Индии, снегах Тянь-Шаня, тибетских монастырях и Великой Китайской стене он слушал, раскрыв рот и качая бритой головой от изумления. А потом, когда я выложил деньги — задаток за постой, — в возмущении замахал руками.
— И не думай! Ты мой гость, и будь я проклят, если не отведу тебе и твоему спутнику лучшие комнаты. Живите сколько хотите.
Он помолчал и вдруг сказал о том, о чём, наверное, не хотел говорить секунду назад:
— Только, думаю, вряд ли вы задержитесь здесь надолго. Не в добрый час судьба занесла вас в наш город.
— Вот как? — удивился я. — А мне он показался весьма процветающим...
— Наш город живёт мирно и благочинно, — согласился Джафар. — Но до нас давно доходят тревожные вести о вражеских войсках, поработивших уже половину Кавказа. Скоро эта волна докатится и до наших мест. Да что я рассказываю — ты и сам исходил немало дорог...
— Ну, вам, кажется, нечего опасаться. Стены Меранги крепки и высоки.
Он вздохнул и ещё тише пробормотал:
— Стены сильны единством воинов, которые их защищают.
В его словах угадывался какой-то скрытый смысл. Я подумал и осторожно спросил:
— Неужели может найтись нечестивец, который открыл бы ворота монголам?
— Всякое может случиться, — флегматично отозвался он. — Времена нынче неспокойные, а наша правительница, да продлит Аллах её дни, слишком мягкосердечна, чтобы выдрать ростки зла с корнем, без всякой жалости. Ты, верно, слышал, что её сводный брат недавно стал правителем Сенхорана? И в народе поговаривают, что он совсем не прочь заполучить трон Алании.
— И что, у него найдётся достаточное количество сторонников? — с сомнением спросил я.
— Нет. Даже в Сенхоране от вряд ли получит поддержку. Если только...
— Что?
Почтенный Джафар помолчал.
— Если только он не договорится с Хромым Тимуром. А Тимуру вовсе не помешает наместник, послушный его воле.
Он окинул горестным взглядом стены своего заведения и признался:
— Надо бы мне радоваться и возносить молитвы Аллаху за то, что подарил мне безбедность и процветание, но иногда я, забыв о благодарности, думаю: надолго ли это? Не придётся ли уже завтра оставить все нажитое честным трудом и бежать в страхе за свою жизнь?
— Ничто в этом мире не бывает вечным, — произнёс я слова, которые обычно утешали меня, когда это было необходимо. Но в этот раз моя душа почему-то не откликнулась на них...
Ночью мне приснился странный сон.
Видимо, душа моя, освободившись на время от телесных оков, перенеслась в те годы, когда Меранга ещё только строилась. Я оказался на улице, ведшей ко дворцу правительницы. Сейчас улица была полна каменщиков, мостивших дорогу. Отовсюду была слышна разноплеменная речь, скрип грузовых телег и стук молотков. И моя душа переполнялась тревогой.
Я подбежал к человеку, руководившему строительством. Он отдавал какие-то распоряжения своим подчинённым, но я прервал его, бесцеремонно схватив за рукав, и принялся горячо убеждать, что не годится улицу, которая ведёт к покоям царицы, делать такой прямой и широкой. То есть с точки зрения красоты и величия улица была что надо — иноземные гости только вздыхали бы в восхищении... Но с точки зрения обороны она решительно никуда не годилась. Разбей враги ворота и попади внутрь города, их должны встретить не широкие, удобные для конницы дороги, а лабиринты запутанных улочек и переулков, перегороженных баррикадами, глинобитные стены и дома с плоскими крышами, откуда так удобно разить неприятеля стрелами и копьями, кидать камни и лить кипящую смолу...
Строители, однако, были глухи к моим доводам. Их глава посмотрел на меня с недоумением и брезгливостью, как на буйного помешанного, и уже махнул рукой, подзывая стражников. Надо было бы мне уйти, но я продолжал кричать даже тогда, когда мои руки оказались крепко стянутыми за спиной. Я узнал стражников: это были те, кто стоял у городских ворот.
— Я ведь предупреждал тебя, чужеземец, — сказал один из них, — что у нас строгие законы. В нашем городе никто и не подумал бы морить святого дервиша голодом, как это сделал ты. Побудь-ка теперь в его шкуре, чужеземец, может быть, тебе понравится...
А потом я увидел стены тюрьмы. И меня обуял настоящий ужас, ибо тюрьму я тоже узнал. Именно туда по моему приказу когда-то был брошен дервиш, и там он умер без капли вины. Меня ждала та же участь — это читалось на каждом встречном лице: женщины и мужчины смотрели на меня с презрением, дети бросали камни, и даже мой белый ослик, мой верный товарищ, отвернул от меня свою мудрую мордочку...
Я проснулся, потому что кто-то тряс меня за плечо. Возле меня стоял донельзя встревоженный хозяин «Серебряной подковы».
— Прости, что осмелился нарушить твой отдых, — торопливо проговорил он, — но тебя хочет видеть посланец самой царицы.
Посланец был высок и красив, с прямыми плечами и очень узкий в талии. На его поясе висел серебряный кинжал тифлисской работы. Кинжал был явно дорогой: тому, что я купил для моего спутника, пожалуй, было далеко до него.
— Ты Рашид ад-Эддин из Ирана, странствующий учёный и псалмопевец, прибывший в наш город вчера на рассвете? — спросил он.
Я молча поклонился в ответ.
— Царица Регенда, правительница благословенной Меранги, повелела сказать тебе, что желает видеть тебя в своём дворце. Конь ждёт тебя снаружи. Поторопись.
И вышел, не дожидаясь ответа.
Проснувшийся мальчик испуганно таращил на меня глаза.
— Дада, — прошептал он. — Нас везут в тюрьму?
Я улыбнулся.
— Что за глупая мысль пришла тебе в голову? Просто здешняя правительница узнала о нас и захотела увидеть воочию.
— Я боюсь, дада, — признался он.
— Ты мужчина, — сказал я. — А мужчина не должен показывать свой страх никому.
И всё же, садясь на коня, я волновался. Я не представлял, чем закончится мой визит к аланской царице — ну не посмотреть же она решила в самом деле на таинственного чужестранца — этих чужестранцев тут...
Утешало лишь то, что Абу-Джафар в случае чего приглядит за мальчишкой и не позволит ему пропасть. Он обещал мне это...
Парадный вход во дворец был виден издалека — арка, вытесанная дербентскими мастерами и украшенная цветными изразцами, была поднята на высоту примерно в два человеческих роста и покоилась на двух каменных колоннах, покрытых древними письменами. Возле колонн стояла вооружённая стража. Жаль, мой юный спутник, которого я оставил в «Серебряной подкове», не видел этих стражников: они, наверное, затмили бы даже тех, что охраняли городские ворота.
У нас приняли коней. Мы спешились и вошли в просторный внутренний двор, а оттуда — через стрельчатый портал, по длинной лестнице, украшенной чашами из зелёного нефрита, через базилику и высокую галерею — в небольшой садик позади ротонды. Это меня слегка удивило: я ожидал, что царица примет меня в тронном зале...
Однако нельзя сказать, что я расстроился по этому поводу: садик был уютен и как-то очень мило одомашнен. Зелёная трава, мягко стелющаяся под ноги, чёрные стволы яблонь, прозрачный ручеёк, явно рукотворный, весело прыгающая с камня на камень вода, одинокая белая беседка в глубине сада, обвитая старым прошлогодним плющом...
Позже, много позже, я исходил этот садик вдоль и поперёк. Я исследовал каждую тропинку в его недрах и узнал, на что похож белый цвет осыпающихся яблонь, как гудят шмели в пору медового сбора и как шелестят капли дождя на шершавой поверхности камней у крохотного водопадика, как падает на землю шафрановый платок цвета нежнейшей майской розы — медленно и невесомо, точно золотая рыбка на дне рукотворного пруда, и как клейкие от солнца травинки щекочут обнажённую спину, когда я бывал распят на этой траве, или на бархатном покрывале, которое приносил кто-то из слуг, или прямо на земле, на белых яблоневых цветах... Именно эти цветы почему-то сильнее всего врезались мне в память.
Но всё это будет потом, а пока мой провожатый, доставивший меня из «Серебряной подковы», прошёл со мной к беседке и с почтением поклонился, ожидая приказаний.
Возле беседки, на дорожке, выложенной белым кирпичом, стояли три женщины. Одна, полная, пожилая, с чёрным пушком над верхней губой, больше всего походила на старую няню при богатом воспитаннике (или воспитаннице). Внимательные глаза зыркнули в мою сторону из-под косматых бровей — ну точно: и преданный телохранитель, и строгая наставница, и добрая тётушка, которой можно доверить самые сокровенный девичьи тайны — все в одном лице. Двух других я узнал: ещё вчера мне посчастливилось спасти их из лап разбойников. Та, которую я принял за служанку, была чуть поодаль, а ближе ко мне стояла её госпожа, женщина, так поразившая меня своей почти неземной красотой. Сейчас на ней было длинное платье из шёлковой ткани, голубое, с нежно-розовой отделкой по рукавам и воротничку, расшитые бисером башмачки из оленьей кожи, тяжёлые серьги в ушах и филигранный золотой обруч на голове, стягивающий парею — традиционный аланский головной убор, отдалённо напоминающий убор гречанок с Золотого берега. Светло-карие глаза, широко распахнутые, вспыхнули огнём, как давеча, окатив меня испепеляющим жаром... Дервиш, дервиш, подумал я, ты и на этот раз не солгал в своих пророчествах...
— Светлейшая госпожа, — с почтением проговорил мой провожатый. — Рашид Фазаллах ибн Али Хейр ад-Эддин, странствующий учёный из Ирана...
— Спасибо, Фархад, ты можешь идти, — сказала женщина и приветливо улыбнулась мне. — А тебя, почтенный Рашид ад-Эддин, я прошу быть гостем у меня во дворце. Я — Регенда, правительница Меранги и царица народа аланов.
— Да не оставит Всевышний своей милостью тебя и твой благословенный народ, царица, — ответил я, сгибаясь в поклоне.
Глава 11 ВСАДНИК
Было почти светло и очень зябко: сюда, в пояс альпийских трав, тепло приходит лишь к полудню, а до того разреженный воздух заставляет поплотнее запахнуть на груди меховую куртку. Трое беглецов медленно, держась друг за друга, двигались в указанном Зауром направлении — на юго-восток, в сторону синевшего вдали Сванетского хребта, кое-где сглаженного, кое-где состоящего из такого нагромождения острых зубьев, что в воображении невольно возникал образ пасти давно вымершего гигантского дракона. Одежда на путниках была основательно изодрана, будто побывала в собачьих зубах, локти и колени разбиты в кровь, а спины у всех троих имели такой вид, словно кто-то недобрый прошёлся по ним крупным наждаком.
Меж горных склонов петляла узкая пастушья тропа, и они опустошённо брели по ней, хотя это было, пожалуй, неразумно: по-хорошему сейчас следовало бы сторониться хоженых путей... Но у них просто сил не было подниматься вверх, шлёпать, пригибаясь на всякий случай, по скользкой траве, сбивая и без того сбитые ноги на камнях. Да и туман опустился на тропу, будто вдруг сжалившись над беглецами — плотный, серый, в неровных рваных проплешинах, похожий на подтаявший снег в конце марта...
— Ничего себе «полдня пути», — проворчал Баттхар. Удивительно, но он меньше всех пострадал при недавнем спуске кувырком — всего-то пара синяков и царапин, не особенно серьёзных. Зато уж кряхтел, стонал и жаловался на судьбу — за всех троих. — Целую ночь неслись сломя голову. Спасители, вашу мать. И брода-то вашего что-то не видно. Может, Заур напутал?
Лоза дёрнулся, но, совершив христианский подвиг смирения, промолчал.
— Мы не бежали, — устало проговорил Антон. — Мы шли, и довольно медленно. И дважды останавливались, потому что тебе, видите ли, надо было отдохнуть.
Ночь, можно сказать, спасла их: опустилась и укутала чёрным покрывалом, как обычно бывает в горах, неожиданно и быстро, словно выключили свет в квартире. Они слышали, как перекликались монголы, прочёсывая окрестности с факелами в руках, видели, как они сбились в кучу на вершине горы, у пролома, как спустили одного, самого лёгкого, на верёвке внутрь пещеры. Как взвизгнул от злости их предводитель и, кажется, рубанул кого-то из подчинённых саблей, вымещая ярость. Вот так и на тебе выместит ярость твой славный каган, злорадно подумал Антон, осторожно наблюдая за монголами из щели меж валунов. Непременно выместит, если посмеешь вернуться без добычи. И вряд ли ты умрёшь от сабли — тебе перепилят шею деревянной пилой или сбросят в яму с гадюками...
Потом Антон выскользнул из своего укрытия, сделал знак спутникам, и они втроём кинулись прочь. Как они ухитрились не свернуть себе шеи, мчась, как антилопы, по сильно пересечённой незнакомой местности, да в кромешной тьме (ночь выдалась ненастная, с тучами и нудным моросящим дождиком), осталось для Антона загадкой.
С рассветом они уже не бежали — плелись, еле переставляя ноги. Антон крепко сжимал саблю, что оставил ему Сандро. Правда, она представляла собой грозную силу лишь в умелых руках — ну да ничего. Он уж постарается подороже продать свою жизнь.
Что-то изменилось в нём с гибелью Заура. Он особо не прислушивался к себе, но чувствовал: прежнего Антона Изварина больше нет. Того Антона — вроде бы достаточно взрослого и самостоятельного (однако время от времени стрелявшего у родителей десятку до стипендии), в меру неглупого, в меру спортивного (то есть, по его собственным понятиям, не хлюпика), но не совершившего в жизни ни одного значительного поступка и никогда не отвечавшего ни за кого, кроме себя. Да и за себя, если вдуматься...
Вместо него появился на свет иной человек, никогда не видевший метро и не пробовавший хот-дог с кока-колой. Понятия не имеющий, что такое спасательная служба, и руководствующийся в жизни одной нехитрой дилеммой: убей — или умри сам.
Этот мир наконец-то узнал его. И принял как равного.
Река, о которой упоминал Заур, звалась Ингури.
Рассказывают, что много веков назад, когда мир был другим, в этих местах было большое селение. И жила в этом селении юная девушка по имени Ингури. Многие мечтали назвать её своей женой, ибо Ингури была так красива и стройна, что месяц по ночам спускался с небес, чтобы полюбоваться на неё. Любая работа спорилась в её руках, она лучше всех умела и убрать урожай с поля, и подкрасться к дикому зверю на охоте. И в воинских упражнениях ей не было равных даже среди парней, а это было немаловажно: времена были суровые, и коли нападал враг — некогда было разбирать, кому браться за оружие и защищать свой дом.
Пришла пора — и Ингури полюбила. Всем был хорош её избранник: и пригож собой, и силен, и ласков со своей нареченной, лишь мать девушки почему-то относилась к нему с настороженностью, а почему — не сказывала. Да Ингури и не послушала бы её. Свадьбу сыграли, как и положено, в месяц медового сбора. Построили молодые дом на берегу реки и стали жить душа в душу.
Однажды отправились молодые супруги в лес по берегу вдоль реки, вверх по течению. Вдруг видят: идут враги на их селение. Много врагов — целое войско. Ингури и её муж спрятались в высокой траве, скрыла их трава.
— Надо бежать в селение, — сказала Ингури, — предупредить, чтобы брались за оружие. Но супруг её неожиданно затрясся от страха и возразил:
— Нет, врагов много, и кони у них свежие. Нас догонят и убьют. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, — это лежать тихо, и тогда нас не заметят.
Ингури смотрела на мужа с удивлением. И даже засомневалась: а не ошиблась ли она, не злые ли духи, приняв обличье любимого, навязались к ней в попутчики, а другой, настоящий её супруг в это время мечется в поисках суженой? Да нет. Вот он, рядом, можно дотронуться рукой. То же мужественное и красивое лицо, буйные волосы цвета густого мёда, то же тело, знакомое до каждого изгиба, до последней родинки и всё ещё волнующее, заставляющее её сердце биться быстрее. Вот только глаза...
Глаза были другие, потому что в них жил страх. И — странное дело — почти ненависть к ней, Ингури.
— Но ведь они убьют всех, — прошептала она. — Неужели ты...
— Убьют — значит, такова их судьба, — отрезал он. — А если кто и выживет — мы скажем, что враги прошли мимо нас стороной и мы их не заметили. Никто не сможет нас осудить. И не думай ослушаться меня, иначе...
Он вынул нож и приставил к горлу девушки. Она не испугалась. Наверное, она всё ещё любила его, своего мужа...
— Не бойся, — сказала она. — Спрячься получше, а я постараюсь отвлечь врагов на себя.
И — побежала.
Она слышала, как закричали в ярости враги за её спиной. И ей почудилось, будто её возлюбленный указывает им в её сторону. Она не остановилась, даже когда они пустили стрелы, и две или три из них вонзились ей в спину. Поняла Ингури, что сейчас умрёт, и бросилась в реку. Не затем, чтобы спастись, а чтобы её кровь окрасила воду. Тогда, думала она, люди из селения увидят, что река изменила цвет, и, может быть, поймут...
Так и случилось. Сельчане заметили посланный им знак и вовремя взялись за оружие. И прогнали врагов.
Много лет минуло с тех пор. Так много, что история постепенно превратилась в красивую сказку: никто не знает, где именно стояло то селение, и стояло ли вообще, что за народ жил там и что стало с предателем, оценившим свою жизнь выше чести. Ничего этого людская память не сохранила. Лишь имя девушки, которое стало потом именем быстрой и полноводной реки...
Вода в которой (Антон присмотрелся) и вправду имела розоватый оттенок. Наверное, где-то соприкасалась с медным месторождением.
— Нипочём не переправиться, — задумчиво сказал практичный Лоза, глядя на тот берег. — Снесёт.
— Говорил я: наврал ваш Заур или перепутал, — недовольно буркнул Баттхар, и Антон в очередной раз пожалел, что имеет дело с царским сыном (в морду не заедешь — мало ли как к этому отнесётся ихнее консульство...)» — да и двух холмов с мечетью что-то не видно — только ледник...
— Значит, идём вверх по реке, — сказал Антон. — Мы должны найти брод.
Туман медленно рассеивался, вызывая у Антона глухое раздражение. Погода обещала быть ясной, и сейчас он ненавидел её всей душой. Лучше бы опять пошёл дождь — нет, ливень с градом и снегом, и чтобы снова опустилась непроглядная серая мгла, в которой можно так славно раствориться, едва заслышав где-то в стороне топот копыт, стать невидимкой...
Он шёл впереди — оба его спутника как-то сами собой признали за ним старшинство, и не только по возрасту. Это обстоятельство нисколько не грело его честолюбие — наоборот, рождало нервную дрожь: а справлюсь ли? И где, в самом деле, этот чёртов брод? Спросить бы, да не у кого. Ни указателя, ни туристской схемы, ничего. Дикари, мать их...
Под ногами скрипели камни — не особенно крупные, но противные, с острыми краями. А потом Антон случайно наподдал ботинком какой-то предмет: предмет звенькнул с радостной готовностью, описал в воздухе дугу и снова упал на землю. Антон поднял его и повертел в руках. Это оказался кусок проволоки, толщиной примерно с карандаш, изогнутый в виде скобки с носиком посередине и крючками по краям. Несколько секунд Антон озадаченно разглядывал находку, прежде чем мозг наткнулся на правильную аналогию.
Ручка от походного котелка.
Причём — он поклясться бы мог — от котелка, купленного за российские рубли, в магазине спортивного и туристского снаряжения, в самом начале далёкого теперь XXI столетия.
«Этого не может быть, — твёрдо сказал он себе. — Этого не может быть, потому что не...
А, собственно, почему нет?
Ведь перенёсся же я сюда, в это захолустье, по чьей-то злой воле... Так, может быть, этот кто-то наконец наигрался и решил отпустить меня домой? Антон даже зажмурился от подобной мысли.
Домой... Сейчас я открою глаза и увижу нашу палатку. А возле неё — Светку, Динару и Пашу Климкина. А Казбек с ехидным спокойствием поинтересуется, не на Волгу ли я бегал за водичкой. Нет, отвечу я, на Баренцево море, чтоб попрохладнее.
А потом первым делом я выгребу из рюкзака мою долю сокровищ (ну их в хвост, эти сокровища!) — пусть забирает себе, кому надо. И заявлю, что остальные как хотят, а я еду домой. Немедленно. И горы отныне буду видеть только по телевизору. А уж исторические романы на книжных развалах стану обходить десятой дорогой.
Он открыл глаза — и увидел перед собой девушку.
Девушка была ему знакома: в последний (первый) раз, помнится, они тоже встретились на каменистом берегу реки, только с другим названием, и если Антон что-нибудь смыслил в здешней географии — немного севернее, где-то в районе Приэльбрусья. В остальном же все совпадало. Вплоть до деталей одежды: тот же светлый меховой плащ — не новый, но очень аккуратно зашитый (ага, вон и маленькая заплатка возле левого бока — Антон помнил эту заплатку), та же вышитая по воротничку длинная рубашка, те же дорогие бусы на груди. («Откуда это у тебя?» — «От мамы. Её убили монголы. Давно, мне было пять лет»). Тот же тугой лук с накладками из турьего рога и колчан со стрелами за спиной. Она посмотрела на слегка растерянного Антона и сказала:
— Я уже заждалась.
— Меня? — глупо спросил он.
— Тебя. И твоих спутников.
— Ты знала, что мы придём? Откуда?
Она пожала плечами.
— Я не знала. Просто ждала.
Антона вдруг словно прорвало. Радостная нежность нахлынула, сердце забилось сильно, до головокружения, до внутреннего жара — он шагнул вперёд, протянул руку и коснулся лица девушки, её густых волос, перехваченных обручем...
— Я тебя искал, — признался он. — Я потом вернулся — туда, на берег... Но ты исчезла.
Она покачала головой.
— Ты не должен был этого делать. Ты не имел права рисковать собой.
— А ты — имела? — резко спросил он.
— Не сердись, — примиряюще сказала она. — Просто я знала, что смогу спастись. Я выросла в этих местах.
— В этих местах... — Антон опустил взгляд и обнаружил, что всё ещё держит в руке найденную в камнях штуковину. И, запинаясь, спросил с мукой в голосе: — Скажи в конце концов, где я нахожусь? В этом мире или...
— Ты думаешь, у меня есть ответы на все-все вопросы? — с мягким укором произнесла она. Потом заметила предмет, который был в руках у собеседника, и нахмурилась. — Нужно уходить отсюда. Немедленно.
— Заур сказал, есть брод. Ты знаешь где?
— Знаю. Быстрее!
Лоза с Баттхаром сидели на берегу, на гладких валунах. Баттхар, вывернув ногу стопой вверх, сосредоточенно разглядывал натёртую пятку и глухо ворчал. Однако, едва завидев Антона, тут же вскочил и вытянулся во фрунт, будто солдат-первогодок при виде сержанта. Лоза подозрительно взглянул на девушку и сварливо поинтересовался:
— Это кто? Твоя знакомая?
— Можно и так сказать, — не стал уточнять Антон. — Поднимайтесь живо.
Посмотрел мельком на тот берег и удивился про себя: да как же мы мимо-то проскочили? Вон же они — два холма, вон мечеть, ещё дальше, посреди склона — бугорок, очертаниями похожий на хижину... Всё, как говорил Заур.
— Они были здесь, господин. Я снова обнаружил тот след... А рядом — другой, поменьше. Я думаю, с ними женщина.
— Короче, — перебил Алак-Нойон. Даже сквозь загар было видно, что его лицо пылает от злости. — Куда они направились?
— Не знаю, господин. Прикажи обыскать все кругом. Я уверен, этот след не единственный...
Алак-нойон повелительно кивнул головой. Его подручные тут же рассыпались по сторонам, приникнув к земле. Глядя на них с седла, он рассердился ещё сильнее. Ему не нравилась эта охота, длившаяся уже больше двух суток. Охота, которая унесла жизни семерых воинов. Кого-то убили стрелы, двое сломали ноги на камнях, ещё один погиб при спуске вниз, в пещеру: сорвался с верёвки, дико заорал, падая, и исчез в густом тумане — Алак-нойон слышал громкий всплеск и довольное урчание. Страшный неведомый зверь, обитавший в толще горы, получил свой ужин. Все затряслись, суеверно оглядываясь по сторонам, отпрянули от пролома, и кто-то прошептал: «Они умерли, мой господин. Они наверняка упали в озеро, и чудовище сожрало их! Мы не пойдём дальше!»
Алак-нойон вытянул его плетью по лицу. И спросил:
— Ты видел мёртвые тела?
— Нет, но...
— Тогда не смей мне перечить, шакал!
Он оглядел остальных и рявкнул:
— Ни один из вас не вернётся назад без пленников — живых или мёртвых. А ослушаетесь — клянусь, я не стану дожидаться суда кагана. Я сам расправлюсь с отступником. Ну, есть ещё недовольные?
Они все были испуганы. Они не ждали ничего хорошего от беглецов, которые, даже окружённые со всех сторон, вдруг исчезали, как по волшебству, словно сами горы помогали им.
Они боялись. И Алак-нойон с волчьей ухмылкой на лице ждал, который из страхов возьмёт верх: страх перед гневом кагана или другой — первобытный, старый, страх перед тем, чего не может охватить разум...
— Внимание и повиновение, — произнесли они нестройным хором и согнули спины.
Он зорко следил, не опоздает ли кто хоть на миг — он уже держал руку на рукояти сабли... Нет, никто не замешкался.
А потом один из воинов вдруг издал торжествующий вопль и поднял с земли странный предмет — чёрную, будто обожжённую на огне изогнутую проволоку.
— Я говорил, мой господин, говорил, что след найдётся! — заверещал следопыт.
— Эти ублюдки где-то здесь, — сказал Алак-нойон. И крикнул, вздёрнув коня на дыбы:
— За мной!
Лошади летели по самой кромке воды, в туче пены и ледяных брызг. Склонясь к взмыленной шее своего иноходца, Алак-нойон вгляделся вдаль и тут же увидел за изгибом русла четыре человеческие фигуры. Но и те заметили погоню: один вдруг указал рукой в сторону всадников, и все четверо бросились бежать прямо через бурлящий поток, пытаясь, наверное, отыскать брод. Алак-нойон расхохотался, вытягивая саблю из ножен: глупцы, надеются уйти пешком от всадников...
Нечем было дышать.
Этот воздух был явно непригоден для дыхания — он был смешан с тысячами, миллионами мельчайших водяных брызг и лез в горло, ноздри, уши... На уровне груди поток становился плотным, как стена, — и эта стена со скоростью и силой гоночного автомобиля таранила истерзанное тело, стараясь свались с ног. Брод, с ненавистью подумал Антон. Если это называется бродом, то я — будущая законная супруга аланского царевича...
Он окинул взором берег, от которого удалялся, и попробовал сосчитать преследователей. Десять. Или двенадцать. Свою спутницу он потерял из виду. Вражеские кони тем временем достигли воды и захрапели, пятясь назад. Однако седоки безжалостно вытянули их плетьми — и лошади в конце концов подчинились. Бурная река по имени Ингури приняла их. Одного всадника вместе с конём тут же завертело и увлекло течением. Лицо его исказило ужасом, он разинул рот, но грохот воды похоронил крик. Остальные, с трудом удерживаясь в сёдлах, двинулись поперёк русла, выстроившись цепочкой. Антон оценил их скорость и в бессилии скрипнул зубами. Слишком мало было расстояние до них, и слишком стремительно оно сокращалось. Может быть, Лоза с царевичем ещё успеют выбраться на противоположный берег, на каменистую осыпь, круто уходящую вверх, к подножию холмов. Может быть, им и удастся скрыться, но ему, Антону, человеку из другого мира, осталось одно, последнее.
Упереться ногами в дно и встать получше, чтобы не снесло течением. Взять поудобнее саблю, подаренную умершим Сандро. И подождать, пока враги приблизятся...
Почувствовав шевеление сбоку, он повернул голову и увидел девушку-аланку. Та и не думала убегать. Она стояла рядом — мокрая насквозь рубашка, прилипшая к телу, повторяющая каждый его изгиб, обрисовывающая изящную грудь и узкие бёдра. Мокрые волосы, прилипшие к щекам, высокий влажный лоб и влажные глаза — он никогда ещё не видел её такой красивой.
— Уходи, — хрипло проорал Антон, перекрывая шум воды. — Один раз я тебя уже чуть не потерял... Больше я этого не допущу!
Она повела взором.
— Ты даже не знаешь моего имени.
— Это не важно, — возразил он.
И понял вдруг, что это и вправду не важно. И ещё — что он, оказывается, думал о ней всё это время, не переставая. Не о своём «задании» (на кой хрен мне все эти царские отпрыски, вместе взятые?!), не о Лозе и даже не о погибшем Зауре, погибшем Сандро, погибшем Торе Лучнике...
Он думал о девушке, имя которой так и не удосужился спросить. О той, которой — одной — удалось примирить его с этим странным, жутковатым миром, — если бы не она, Антон точно тихо спятил бы от тоски...
Инстинктивным движением он оттолкнул её себе за спину (хотя, если вдуматься, что это за защита — его спина?) и взметнул вверх саблю. Монгольский всадник вынырнул прямо перед ним, в радужной туче брызг, точно ожившая скала из третьеразрядного видеоужастика — Антон полоснул клинком справа налево, метя в лошадиное брюхо и передние ноги. Конь рухнул вместе с седоком, живо напомнив обвалившийся дом. Антон тоже не удержал равновесие — вода сбила его с ног, опрокинула и повлекла по дну, больно сдирая кожу о камни.
Брод, мать его...
Но он всё-таки поднялся. Собрал все силы и выскочил на поверхность — только убедиться, что Баттхар с Лозой успели достичь берега. Потом мокрая одежда опять потащила его на дно. Он почти не сопротивлялся — он знал, что скоро все закончится. Стоит только зажмуриться, глотнуть воздуха и уйти под воду — теперь уже навсегда...
— Аккер! — услышал он вдруг крик девушки. — Аккер, мы здесь!!!
В её голосе было столько радости, что в притупившемся сознании Антона мелькнула искорка здорового любопытства. Он вынырнул — и увидел всадника.
Всадник, казалось, спустился прямо с небес, подобно ангелу (на самом деле всего лишь преодолел крутой обрыв — единым великолепным прыжком, пролетев всю прибрежную полосу). Могучий конь, чёрный, как порох, как студёная зимняя ночь, коснулся копытами воды и снова взлетел, неся на спине рослого, под стать самому себе, воина в чёрном чекмене, меховой бурке и высокой бараньей шапке. Лица его Антон не разглядел — да и вряд ли перед ним был просто человек. Скорее — некий космический сгусток энергии, чёрный ангел, сошедший на землю, чтобы карать грешников; крылатая ракета с ядерной боеголовкой...
В руках у всадника была тяжёлая секира на длинном древке. Антон никогда не считал себя знатоком холодного оружия, но полагал, что секира не слишком подходит для стремительного конного боя. Теперь он понял, что ошибался.
Монголы не замедлили бега. Думается, они просто не осознали, что перед ними вдруг выросло препятствие. Двое передних умерли разом, вылетев из седел и не успев коснуться воды. Остальные проскочили мимо, развернули коней и вновь с диким криком пустились в галоп — похоже, участь товарищей не послужила им уроком...
Секира бьёт наподобие молнии: второй удар редко бывает надобен. И чёрный всадник не тратил на очередного врага больше одного взмаха. Он и не думал драться — он просто стоял посередине реки, точно мощный угрюмый ледокол или гранитный утёс, блестя гладкими боками, и убивал всякого, кто рисковал приблизиться к нему на длину древка. В этом было истинное мастерство — не грех было полюбоваться...
Однако полюбоваться Антону не дали. Он едва успел выползти на мелководье, как кто-то размытой тенью прыгнул на него сбоку. Антон, повинуясь когда-то, в другой жизни, отработанному рефлексу, крутнулся волчком, нанося удар пяткой под подбородок противника. Кажется, он совсем забыл о сабле, которую всё ещё держал в руках.
Алак-нойон холодно наблюдал, как один за другим гибнут его воины. Он не испытывал ни малейшего сожаления по этому поводу: удел воина — смерть, и не так уж важно, кого она постигнет первым — тебя или твоего врага. К тому и другому готовым нужно быть одинаково.
Их было уже не двенадцать, а всего лишь шестеро. Двое, кое-как дотащившись до берега, накинулись на какого-то странно одетого чужеземца, словенина, судя по лицу. Алак-нойон мельком взглянул на обувь незнакомца — чудные невысокие сапоги на толстой подошве, зачем-то перевитые шнурками. Он уже знал, как выглядит след от этих сапог. И дерётся-то этот воин странно, подумал он. Одними ногами. Ноги даны Аллахом, чтобы ходить по земле или сжимать лошадиные бока, а не махать ими выше головы...
Остальные четверо окружили чёрного всадника, вооружённого секирой. Вперёд уже никто не лез: знали, что напавший первым — первым и умрёт. Тяжёлое лезвие, изогнутое наподобие полумесяца, не знало, что такое пощада. Пусть, решил Алак-нойон. Он уже понял, что, несмотря на всю свою мощь и боевое мастерство, этот воин — не главный здесь. Главным был тот чужеземец, что дрался ногами, пренебрегая саблей. Это его люди выкрали аланского царевича из охраняемого лагеря. И укрывали его несколько суток в толще горы, куда много веков не смели сунуться даже самые отважные, и вышли оттуда живыми и невредимыми (жаль, нельзя снести голову Коран-баю, сказавшему, будто подземное озеро сожрало беглецов — вон он, почтенный Коран-бай, плавает в толще воды с взрезанным брюхом, у самого дна...).
Коня Алак-нойона унесло течением. Сам он сумел вовремя выпрыгнуть из седла и вплавь достичь берега. Схватка теперь гремела чуть в стороне, и его не замечали ни свои, ни чужие. Это было хорошо.
Саблю он потерял, когда боролся с рекой. У него остался лишь засапожный нож — он взял его в зубы и змеёй пополз вперёд, укрываясь за камнями. Он видел перед собой только спину чужеземца, обтянутую странной, нездешней голубой тканью, на которой искрились капли воды. Эта ткань, оказывается, не пропускает воду... Двое монголов лежали на земле, выпучив стеклянные глаза, и им не суждено было подняться. Чужеземец был великим воином — что ж, тем более ценным пленником он будет.
Алак-нойон прыгнул. Взвился коршуном, завизжав что-то дикое, нечленораздельное, и вцепился сзади в горло чужеземцу, запрокидывая его назад. Тот задёргался, вырываясь, попробовал ткнуть назад локтем... Алак-нойон рассмеялся. Что теперь с того, что его нукеры — все двенадцать — нашли свою смерть на этих камнях, отполированных ветром и ледяной водой. Он вернётся в лагерь кагана с богатой добычей — пожалуй, побогаче, чем даже аланский царевич...
Стрела, пущенная почти в упор, ударила в правый бок, пробив кожаный панцирь, и безжалостно швырнула на землю. Сгоряча он схватился за неё, пытаясь выдернуть, но стрела засела глубоко — она была тяжёлой, как таранное бревно, которым прошибают городские ворота, и раскалённая, как гвоздь, побывавший в огне. Руки неожиданно ослабли. Алак-нойон попробовал приподняться, но его тело находилось уже не здесь и не сейчас: перед угасающим взором вдруг раскинулась родная прикаспийская степь, ровная, как стол, вся в колышущемся ковыле, огромный красный диск солнца, и давно умерший отец — в остроконечном шлеме и броне из медных пластин, как живой, возле шёлкового походного шатра... Только очень богатые и знатные воины имели такие шатры.
Девушка-аланка спокойно опустила лук. Антон посмотрел на неё — голова закружилась, земля норовила уйти из-под ног, но он устоял. И сказал с хрипотцой:
— Спасибо.
Она не услышала. Ойкнула вдруг, отбросила ненужное теперь оружие и со всех ног кинулась к чёрному всаднику — тот как раз разделался с последним врагом, выехал на берег и гибко соскочил с коня. Бараньей шапки на нём уже не было — сбил чей-то удар, по виску и щеке текла кровь, пачкая длинные волосы с сединой, но для него это была не рана — лишь царапина. Похоже, он даже не особенно устал.
— Больно? — чуть не плача спросила девушка. — Дай перевяжу.
Он ласково улыбнулся ей.
— Потом, дома. — Он вдруг заметил Антона и поинтересовался: — Кто эти люди?
Глава 12 ХИЖИНА НА ХОЛМЕ
«Знай же, достойный господин, читающий эти строки, что я основал свою книгу на крепких опорах свидетельств людей, чьи очи и разум на замутнены глупостью, а язык чист от коросты лжи. По мере сил я стремился к истине, искал помощи людей разумных и просил Аллаха хранить меня от возможной предвзятости и ошибок.
Спешу сообщить тебе, благородный читатель, что в месяц Шабан 778 года Хиджры, царь аланов Исавар отправил своего сына Баттхара Нади в город Тебриз, где ожидали его царь Гюрли со своей младшей дочерью. И было угодно Всевышнему, чтобы возле реки Алазани войско монгольского хана Тохтамыша окружило царевича и после упорной битвы взяло его в плен.
Узнав о том, что жениха его дочери, ясноокой Зенджи, постигла такая страшная участь, царь Гюрли приказал вождю племени кингитов, что обитают высоко в горах, отрядить самых сильных и ловких воинов с тем, чтобы они скрытно пробрались в ставку неверных, выкрали благородного Баттхара Нади и спасли его от неминуемой страшной гибели.
И случилось так. В одну из тёмных ночей, когда свирепствовал ветер с ледяных вершин Абстургана[20] и луна скрыла за тучами свой лик, горстка храбрецов, вознеся молитвы Всемилостивому, пробралась в лагерь монголов в долине реки Памбек и освободила пленника, явив при этом чудеса доблести. И послали за ними погоню на свирепых конях, но беглецы ушли от погони, скрывшись в горных пещерах. Затем же, преодолев долгий путь и обманув монголов, добрались до Тебриза в конце месяца Зул-у-Хаджа[21] 778 года...»
Антон рассеянно повертел в руках документ и отметил про себя, что бумага, чёрт побери, была та же самая. То есть, конечно, не вдаваясь в подробный анализ — по-прежнему жёлтая и слегка обтрёпанная по краям. Видно было, что документ тщательно оберегали, но время и долгие странствия сделали своё дело.
Он вытащил его из кожаного футляра, едва они добрались до хижины на холме. Ноги и руки болели адски, живот сводило от голода, но странная тревога за рукопись (какое мне дело до чьей-то рукописи?) взяла верх.
Антон открыл футляр с замиранием сердца, ожидая увидеть внутри тёмные сырые комочки с безнадёжно расплывшимися чернилами... Но нет, бумага была целёхонька и даже не отсырела. Умеют делать, мелькнула бессвязная мысль, хоть и дикари. А впрочем, почему же дикари? Просвещённый XIV век, век развития арабской письменности и построения одной из самых сильных и грандиозных государственный машин (что бы там ни говорили советские исследователи о Хромом Тимуре как об угнетателе народных масс, деспоте и тиране), век Нико Пиромани и его росписи храма в Кинцвели, математического трактата Гияса ал-Арапши, мавзолея Шахи-Зинда в Самарканде и астрономической обсерватории Аттари в Бухаре. Век бесконечной племенной вражды и голов, насаженных на копья над крепостными стенами... Тебе ещё повезло, хмыкнул Антон про себя, а то могли бы заслать куда-нибудь в поздний неолит, выяснять, какой из двух кланов — Чёрного Зубра или Горбатого Скорпиона — первым провертел дыру в камне.
Он придирчиво осмотрел буквы на бумаге — уже знакомые, изящные и ровные, точно образцовая рота солдат на параде. Кто бы ни был автор документа — его каллиграфия была безупречна. Во времена Антона он мог бы, пожалуй, сделать карьеру художника-оформителя. Те же самые чернила — слегка выцветшие, но вполне чёткие. Всё это он уже видел.
Всё — кроме текста.
Текст был другим. В нём аланский царевич Баттхар Нади, сын Исавара, и не думал умирать в плену. Он был спасён «горсткой храбрецов» (и мною в том числе, подумал Антон с законной гордостью) и доставлен в Тебриз — в полном соответствии с действительностью.
Мысли бестолково толклись в черепной коробке, точно частички пыльцы при броуновском движении. Или — слегка разомлевшие пчёлы в улье. Одна мысль была настойчивее прочих: документ подменили.
Не сходи с ума, возразил кто-то внутри. Где подменили, кто, когда, с какой целью?
Ну, насчёт «где» и «когда» — не такая уж проблема для ловкого человека. К примеру, пока меня выкапывали из-под лавины. Или пока я спал в пещере, укрытый меховой курткой кого-то из Зауровых «спецназовцев». Или нырял в озеро — нырял-то я, естественно, без одежды. Или лез по отвесной стене (одежда была внизу, в мешке). Отомкнуть кожаный чехол, удивительно напоминающий тубус для чертежей, вынуть одну бумагу, положить другую, заранее припасённую, — дело нескольких секунд.
«Кто?» — тоже вопрос для первоклассника. Если подменили сразу же, ещё до первого ночного боя с монголами — значит, кто-то из людей Заура: Сандро, Тарэл Скороход, Тор Лучник, Лоза, сам Заур. Если позже, в капище древних богов — круг подозреваемых сужается до двух человек: Лоза и Заур. Или — что как раз вернее всего — оба вместе.
Остаётся последний, самый важный и трудноразрешимый вопрос: цель. Антон прикрыл глаза и попытался сосредоточиться... Ничего не выходило. Слишком мало информации, слишком мало я знаю о здешних нравах, обычаях, политических интригах и тому подобном.
Ну, кое-что мне всё же известно. Попробуем систематизировать... Итак, правители двух больших народов — Гюрли и Исавар — решают устроить свадьбу своих детей (мотивы, понятно, чисто политические, как и положено у сильных мира сего: детишки ещё и в глаза друг друга не видели). Неожиданно царевич Баттхар попадает в плен к Тохтамышу и (да простит мне Господь такую фантазию) действительно умирает, не выдержав побоев и голода. Страшная весть неминуемо доходит до Исавара. Отцовское горе велико, но долг перед народом превыше всего. Свадьба обязана состояться любой ценой — и на сцене появляется другой, «подставной» царевич. Оба отца в курсе и будут молчать, а прекрасноокая Зенджи так и не узнает, с кем разделила супружеское ложе... И единственное препятствие этому хитроумному плану — какой-то идиот, решивший увековечить эти события в своей повести. Но и тут выход находится: Гюрли приказывает изготовить фальшивую рукопись, и Заур или Лоза (или оба вместе) подкладывают мне её, предварительно уничтожив оригинал.
Нет. Не сходится (Антон в отчаянии стукнул себя по лбу). Не сходится — хотя бы потому, что для этого многие вещи нужно было знать заранее. Нужно было предусмотреть, что спустя шесть веков какой-то недобитый фриц с автоматом, шатаясь по Кавказу, наткнётся на древний документ и возьмёт его себе в качестве сувенира (то есть не выбросит и не пустит на самокрутки). Что ещё через полсотни лет я найду эту рукопись и положу её себе в рюкзак. Что я каким-то необъяснимым образом окажусь с ней в её родном XIV столетии, и при этом не замёрзну под лавиной и не попаду в лапы монголов.
А главное — мысли совершили круг почёта и опять упёрлись в исходную точку — совершенно непонятна цель всей этой дьявольской комбинации. Зачем нужно было переносить меня сюда и на моих глазах устраивать похищение царевича (или не-царевича) из плена? Зачем изготавливать поддельный документ — уничтожил настоящий, и вся недолга? Зачем столь изощрённо обманывать меня, коли я не играю в этом спектакле никакой роли?
Или всё-таки играю? Антон задумался. Понятно: большую роль мне не доверили бы. А вот маленькую, но важную... Пришла на ум его первая ночь в этом негостеприимном мире — ночь возле крохотной пещерки с занавешенным шкурой входом — чтобы никто снаружи не заметил разведённый внутри огонь.
Мне было душно и неуютно, я чувствовал... Чёрт знает, что я чувствовал — в конце концов, я не писатель, чтобы описывать всё это в красках. Я вылез из пещеры и увидел возле коней молодого парнишку, юношу, который назвался Лозой. Мы поговорили пару минут, и я неожиданно заметил монголов, взбирающихся вверх по склону. Заметил и дал знать остальным, а иначе, возможно, отряд Заура был бы уничтожен, и Баттхара никто не спас бы из плена... Вот она, «маленькая, но важная роль». Антон горько усмехнулся. Стоило переться из-за неё в этакую даль.
— Эй, чужеземец, — вдруг окликнул его мужской голос. — Пойдём в дом, не сиди на пороге.
Антон обернулся и увидел Аккера. И вспомнил, как принял его за Заура — тогда, в первый миг... Ничего удивительного: даже будь я их матушкой, я различал бы их с трудом до конца дней.
Братья были не просто похожи, они были совершенно на одно лицо. Стоило лишь постричь Аккеру бороду покороче, убрать морщины вокруг серовато-зелёных глаз и успевший побелеть шрам у правого виска... Антон попытался прикинуть возраст своего спасителя: едва за сорок, период расцвета для мужчины.
— Заур был среди вас младшим? — спросил он.
Аккер сухо кивнул.
— Он просил передать кое-что...
— Позже, — сказал Аккер. — А сейчас проходи в дом.
Жилище — довольно большое и суровое с виду, под стать хозяину, — было наполовину врезано в склон холма у его подножия. Вторая, внешняя половина, состояла из плотно пригнанных необработанных камней, почерневших от времени. Камни были положены друг на друга без раствора, но так тщательно пригнаны, что между ними не было видно ни малейшего просвета. Плоская крыша, присыпанная дёрном, покоилась на четырёх массивных деревянных столбах — собственно, это и были деревья, поставленные вниз комлем. Антон потрогал рукой строение и уважительно покачал головой. Силища. Сто лет простоит, а может, и больше, если не разрушит землетрясение. Но землетрясений тут не помнили даже старожилы. Так строили из века в век и абхазцы, и осетины, и аланы. И даже абасты, которых злая судьба согнала с обжитых мест на пустынные берега Мёртвого моря, и те продолжали возводить жилища, следуя заветам пращуров. Дверь была низкой — Антону пришлось согнуться, чтобы не удариться головой о притолоку. Зато внутри оказалось довольно просторно и уютно — стараниями девушки, надо полагать. На земляном полу лежал деревянный настил и симпатичный коврик ручной работы. Аккер почтительно снял сапоги, прежде чем ступить на него.
Ещё два коврика украшали стены, и достаточно было взгляда на них, чтобы понять, что за человек обитает здесь. На левом коврике, ближе к двери, висел прямой меч-кончар в дорогих атласных ножнах и два кинжала, купленные, судя по форме и отделке, на торгу в Тифлисе. Здесь же были два лука в колчанах, со снятыми тетивами — маленький охотничий и большой боевой. Взглянув на один из них, Антон не смог сдержать улыбки: в туле со стрелами, меж оперённых головок, желтел маленький букетик цветов, сорванных, видимо, где-то неподалёку, на альпийском лугу. Вряд ли Аккер с его суровой душой додумался бы до такого: значит, девушка...
Девушка меж тем принесла деревянное блюдо с обычным для этих мест угощением: ячменными лепёшками, козьим сыром, жареной рыбой (вот уж не подумал бы, что в здешней реке водится рыба, удивился Антон) и мёдом.
— Откуда здесь мёд? — спросил Антон, за обе щеки уплетая еду.
— Вниз по реке стоит аул, — пояснил Аккер. — Там живёт мой знакомый бортник. Господь не дал ему сыновей, и он приютил у себя странствующего монаха. А тот решил восстановить молельню на холме. Так что мне не нужно даже ходить в селение — монах сам приносит мне все необходимое. Ну а я помогаю ему, чем могу. — Аккер усмехнулся в бороду. — Странный человек. Всегда в глухом клобуке, так что лица его я так ни разу и не видел.
— А он не может быть... — Антон запнулся, но Аккер понял и покачал головой.
— Тайным соглядатаем? Не думаю. За кем здесь следить? Меня и так все знают — среди сельчан я слыву отшельником и слегка чокнутым, — для наглядности постучал пальцем себя по лбу. — Но так иногда даже удобнее.
По чести сказать, Антон слушал его вполуха. Его не занимал ни незнакомый бортник в незнакомом селении (уж не том ли, где жила когда-то храбрая Ингури?), ни славное угощение, ни даже таинственный священник, зачем-то прячущий лицо. Да и рукопись, способная в зависимости от ситуации менять своё содержание, отошла куда-то на второй план.
Нет, не на второй — на десятый. На сотый, на тысячный, потому что первые девятьсот девяносто девять планов занимала теперь для него девушка-аланка. Её большие выразительные глаза, смуглая нежная кожа на высоких скулах — нежная, несмотря на тяжёлую жизнь в хижине высоко в горах. Её шелковистые волосы, которые она моет, поди, где-нибудь в чистом, как слеза, горном озере — ни один жалкий французский шампунь и бальзам-ополаскиватель не способны дать такой эффект...
Справившись со спазмом в горле, он сказал:
— Мы так и не познакомились. Меня зовут Антон.
Она склонила голову набок, словно прислушиваясь к новому звуку.
— Красивое имя. Хотя и немного непривычное.
— Ничего удивительного. Я родился очень далеко отсюда. А как зовут тебя?
— Асмик.
— Ты аланка?
Она кивнула. Антон вдруг сообразил, что она совсем юна — лет шестнадцати, не больше. В его родном столетии ей бы ещё не дали аттестат зрелости. Интересно, кем она приходится Аккеру? Женой? Любовницей? Между ними лет двадцать с небольшим разницы, но, может, здешние обычаи допускают...
Эта мысль его неприятно взволновала, и он глухо спросил:
— Аккер — твой муж?
— Что ты, — удивилась она. — Он мой отец. Точнее, приёмный отец. Я была совсем маленькой, когда он нашёл меня в горах.
У Антона заметно отлегло от сердца. Он искоса взглянул на Аккерову секиру — вон она, возле каменной лежанки, покрытой коричневой шкурой, в специальном чехле с красивой костяной застёжкой... Да, подумалось, мне с ним не тягаться. Хотя случись что — за эту девушку-аланку Антон встал бы грудью против кого угодно. И Аккер бы не испугал...
Аккер долго разглядывал уздечку — пожалуй, несколько минут. Его широкие ладони, шириной едва ли не с лопату, бережно приняли её, он с непривычной нежностью погладил выделанную кожу со вшитыми цветными бисеринками словно священную реликвию — уздечка была дорогая. Заур, как и все мужчины-горцы, не скупился, когда речь шла о коне, сбруе и оружии. Остальное, даже самое необходимое, всегда могло подождать.
— Где это случилось? — спросил Аккер.
Антон рассказал, постаравшись быть лаконичным. Аккер выслушал и бесстрастно кивнул.
— Мне известно об этом капище. И о том, что вход в него завален давным-давно. Я не знал только, что Заур отыскал новый.
— Перед смертью он сказал мне, как найти тебя. И ещё — что ты сможешь помочь нам добраться до Тебриза.
Что-то такое мелькнуло в глазах Аккера — что-то, похожее на давнюю обиду, которую Антон на беду свою всколыхнул.
— Тебе так хочется поскорее подставить башку под чей-то меч? — хмыкнул горец. — Или тебя наняли аланскому царевичу в телохранители? Сколько же золота тебе обещали?
— Нисколько, — признался Антон, помолчав. — Просто у меня есть маленькая глупая надежда, что, когда Баттхар окажется в Тебризе, меня отпустят домой. Я чертовски давно не был дома.
— Отпустят? — насмешливо удивился Аккер. — Кто же тебя держит?
— А кто держит тебя здесь? — вспылил Антон. — Кто велел тебе окопаться в этой волчьей норе? Так, что даже в ближайшей деревне тебя считают чокнутым... Добро ещё, если бы ты был один. Но Асмик! Она-то чем провинилась?
— Я хочу, чтобы она прожила долгую жизнь, — спокойно отозвался Аккер. — Я нашёл её пятилетней девочкой возле Шоанинского монастыря... Вернее, возле того, что осталось от монастыря. Она бродила среди трупов монахов, и даже не плакала: сорвала голос. Несколько дней она ничего не ела — я мог бы поднять её на одной ладони. Потом я еле выходил её, и один Господь знает, чего мне это стоило. И я сделал это не для того, чтобы однажды, когда меня не окажется рядом, её изнасиловала шайка разбойников. Или изрубили на куски монголы.
— Чего ты боишься? — напрямую спросил Антон. — Я ведь видел тебя в деле: ты запросто одолел в одиночку двенадцать человек, и даже не вспотел.
— Девятерых, — нехотя поправил Аккер. — Ты немного помог мне, чужеземец.
— Всё равно. Никогда не поверю, что хоть что-то способно тебя испугать. — Антон помолчал и искренне добавил: — Ты великий воин. Нет, величайший! То, что ты делал... Я никогда не видел ничего подобного.
Аккер грустно усмехнулся. И вяло махнул рукой.
— Кому они нужны, великие воины. Мужчина должен любить жену, воспитывать сыновей. Растить хлеб и виноград, а не шататься по горам с мечом наизготовку.
Странно было слышать от Аккера такие речи. Антон озадаченно помолчал, потом, переварив информацию, осторожно произнёс:
— Говоришь, любить жену, растить детей... Но ведь сам-то ты...
— Я никогда не мечтал сражаться. Мне нравилось пасти овец на холмах и стричь с них шерсть. Я с радостью мял ногами виноград и подвязывал лозу. Больше всего мне нравилось ухаживать за мцване — наша матушка говорила, что мцване — король среди винограда. Я привёз его из Грузии. Никто не верил, что он приживётся на наших камнях, а он прижился...
Он неловко двинул правой рукой и поморщился, как от неожиданной боли. Не зацепило ли его, с беспокойством подумал Антон. Одну-то рану на виске я видел, Асмик перевязала, а сколько других, которые Аккер не захотел показывать? Поколебавшись, он спросил об этом — Аккер лишь пренебрежительно фыркнул: не твоя, мол, печаль, чужеземец.
— Как же выпало тебе стать воином?
Горец флегматично пожал плечами.
— Не всегда мы делаем в жизни то, что хотим. Вот Заур — тот с детства готовил себя к сражениям. Отец часто ставил мне его в пример. Посмотри на младшего брата, говорил он. Посмотри, как ловко он рубит лозу на полном скаку, как стреляет из лука, борется на поясах, лазает по скалам — там, где ногу негде поставить, только кончики пальцев...
Заур, бывало, целыми днями бегал вверх-вниз по горам, чтобы развить силу ног, ворочал тяжёлые камни, купался в ледяном ручье и всегда защищал меня в уличных стычках, хотя я, а не он был старшим. Отец учил его драться на мечах. Он учил и меня, но я только и ждал, когда же урок закончится, чтобы убежать на виноградник, или к овцам, или на мельницу, где зерно превращается в муку. В конце концов отец махнул на меня рукой. Думается, он немного стеснялся меня, словно я был не его сын. Хотя сейчас, будь он жив, он, наверное, был бы мною доволен...
— У тебя была своя семья? — тихо спросил Антон.
— У меня было все, — сказал Аккер. — Все, чего я мог пожелать. Любимая жена, две дочери и богатый дом. В то время я всерьёз надеялся прожить жизнь без войны. Оказалось, зря.
— Что же произошло?
— На нас напали люди Чёрного Тамро — был такой бандит в тамошних местах. Он был из аджарцев, а аджарцы — гнусный народ. Заура тяжело ранило, и мы с ним укрылись в древнем языческом капище. Мы бежали по коридору... Вернее, бежал я, а Заур висел у меня на плечах. Он заметил, что одна из плит пола впереди была чуть выше остальных. Мы перескочили через неё, а кто-то из людей Тамро наступил. И их завалило камнями. Эта плита приводила в действие ловушку. Древние жрецы были большими мастерами на такие хитрости.
— Я знаю, — кивнул Антон. — Заур рассказывал.
— Мы провели в капище двое суток. И ещё сутки искали другой выход. А когда вернулись в селение, то увидели, что бандиты сожгли мой дом. И убили всех. Теперь ты понимаешь меня, чужеземец? Мы с братом отсиживались в пещере, глядя на рожи каких-то давно умерших богов, а в это время бандиты убивали мою семью!
— Ты не виноват, — тихо сказал Антон. — Ты не мог этого предугадать.
— Я должен был их защитить, — мрачно возразил Аккер. — И не защитил. А теперь я лишился и брата.
Они были вдвоём посреди длинного и узкого, как удав, каменистого склона — должно быть, когда-то по этим камням весело сбегал с гор полноводный ручей, переливаясь и играя на солнце ледяными брызгами, но то ли высох источник, то ли вода нашла другой, более удобный путь, но ручей исчез. Только камни, отполированные течением до идеально круглой формы, перекатывались под ногами. С седловины дул ветер — дул постоянно, с завидным упорством, не усиливаясь и не ослабевая, рождая мысль о спрятанном где-то гигантском вентиляторе. Антон поплотнее запахнул на себе куртку, подаренную Аккером. Куртка была сшита из целой волчьей шкуры — в таких когда-то, лет пятьсот назад, щеголяли скандинавские берсерки, наводя ужас на прибрежные народы. Шкура с передних лап волка образовывала рукава, а с головы — нечто наподобие капюшона. Прежнюю Антонову ветровку Аккер решительно забраковал как непригодную к употреблению. Перед этим, однако, он тщательно осмотрел её и уважительно поцокал языком: «Красивая ткань. Ты, верно, у себя на родине был знатным царедворцем?»
— И с тех пор ты поселился здесь? — спросил Антон. — И не завёл себе новой семьи?
Аккер покачал головой.
— Не с тех пор. Позже. Сначала мне нужно было выходить Заура — он был серьёзно ранен. Потом, едва он поднялся на ноги, я ушёл с ним в крепость Сенген.
Антон остановился, чтобы перевести дух. Они с Анкером свернули с высохшего русла на тропу, которая все круче взбиралась вверх к каменистому гребню. Кого другого такое лазанье по горам давно бы утомило донельзя. Только не Антонова спутника. Тот дышал ровно и спокойно, словно степенно гулял по парковой аллее. Наверное, он хотел бы устать, выдохнуться и выплеснуть тем самым эмоции — а не получалось.
Наконец тропа закончилась. Склон впереди круто обрывался вниз, в ущелье. Чуть подальше, возле кромки низкорослого леса, виднелось селение, о котором упоминал Аккер: с десяток домиков с плоскими крышами, деревянная смотровая вышка и глинобитные стены вокруг — защита от возможного нападения. Горец оттолкнулся ногой от земли и взмыл на большой плоский камень у самого края карниза. Антону с ужасом почудилось, что камень чуть шевельнулся, но Аккер и не подумал уйти. Он стоял неподвижно и невидяще глядел куда-то вдаль...
— Нынешний воевода Осман был тогда моложе, и я был у него на хорошем счету. — Аккер помолчал. — Говоря честно, я надеялся, что меня убьют в бою. Дважды чуть не убили — Заур заслонял собой. Можешь смеяться, чужеземец, но я почти ненавидел его за это. А через три года меня изгнали из крепости. Меня ждали суд и казнь, но Осман заступился, хотя я его не просил.
Антон с трудом сглотнул слюну.
— Какое же преступление ты совершил?
— Я убил соплеменника, — ответил Аккер. — По нашим законам, это самое страшное, что может совершить человек. Что, ты всё ещё хочешь просить у меня помощи?
Антон не ответил. Оба они молчали, стоя над обрывом и думая каждый о своём. Неизвестно, о чём думал Аккер — должно быть, вспоминал дом и жену. И двух дочерей, которых он никогда не выдаст замуж и от которых не дождётся внуков. Величайшее счастье для мужчины и величайшая, если поразмыслить, доблесть: прожить долгую многотрудную жизнь, а почувствовав, что устал от земных забот, умереть спокойно, с тихой улыбкой на устах, и чтобы у постели стояли скорбящие внуки и правнуки, сами уже убелённые сединами. Наверное, именно об этом мечтал когда-то Аккер — да что теперь толку от той мечты...
А Антон думал о том, каким замысловатым вывертам подвержена иногда судьба — куда там мексиканским сериалам. И как много лет один брат винил другого в гибели своей семьи, а потом возненавидел за то, что не дал умереть самому: конечно, Заур понял, чего больше всего на свете желал Аккер. И страшной клятвой поклялся себе не допустить этого.
А ещё Антон подумал вдруг, что Аккер ему не помощник. И что он опоздал лет этак на десять — двенадцать: тогда, когда Аккер ещё не встретил Асмик, он пошёл бы куда угодно, и тем охотнее, чем больше шансов было умереть в бою от меча или стрелы. Теперь же всё изменилось. Эта девочка примирила его с внешним миром и наделила его жизнь смыслом. Оставить её здесь означало подвергнуть нешуточной опасности. Взять с собой — тем более: что с того, что девчонка выучилась неплохо стрелять из лука...
Всё это Антон прочитал даже не по лицу Аккера, а по его спине. И глухо проговорил:
— Позволь по крайней мере остаться у тебя до утра. И укажи нам путь на Тебриз. Обещаю: с рассветом мы уйдём.
Аккер будто не услышал. Антон развернулся кругом и начал спускаться обратно по тропе, по направлению к хижине. Нужно было предупредить спутников, чтобы собирались в дорогу. Дорога обещала быть нелёгкой...
Возле высохшего ручья он увидел Асмик. Она шла, почти бежала ему навстречу — наверное, обеспокоилась долгим его отсутствием. Антон прошёл мимо, стараясь не глядеть в её сторону. Завтра они расстанутся — и скорее всего, навсегда. Антону вдруг стало горько: уходить не хотелось. И причиной тому была не боязнь неизвестного пути — в конце концов, не дураком был тот, кто послал его сюда. Тоже ведь на что-то надеялся...
Нет, причина крылась в ней, аланской девушке со светлыми глазами, которая так здорово умеет стрелять из лука. Это из-за неё ему хотелось остаться здесь, в хижине высоко в горах. Остаться, чтобы колоть дрова и пасти овец. Ловить рыбу в реке и восстанавливать молельню на перевале. И каждый день видеть, как из симпатичной девушки Асмик превращается в красивую женщину. А потом — как будут расти их дети. А потом, в конце жизни, — как появится первая седина у их внуков. Кажется, именно это Аккер называл счастьем...
Она подошла к приёмному отцу и что-то сказала ему — ветер отнёс их слова от Антона. Он только услышал шаги у себя за спиной, но не обернулся. Аккер нагнал его, схватил за плечо и резко развернул к себе.
— Ты такой же, как мой брат, — обвиняюще сказал он. — Глупость почитаешь за доблесть. И норовишь поскорее сунуть голову в петлю.
— Твоя-то какая печаль? — огрызнулся Антон. — Тебя, кажется, никто не нанимал нам в охранники. Живи себе спокойно...
И вдруг полетел спиной на камни. Аккер толкнул его в грудь — вроде бы совсем легонько, одним пальцем, но Антона будто ураганом снесло. Асмик ахнула, метнулась было встать между ними, но Аккер жестом остановил её.
— Ты спятил? — с яростью спросил Антон, порываясь встать. Было не слишком больно, только обидно до ужаса.
— Нет, не спятил, — спокойно сообщил Аккер. — Я просто оскорбил тебя. И теперь ты обязан ответить.
Если ты, конечно, считаешь себя мужчиной. И в штанах у тебя...
Антон молча взвился с места. Аккер хотел драться — что ж, ради бога. Кажется, каратэ тут ещё было в диковинку, значит, найдётся, чем их удивить...
Он нанёс удар по всем правилам: с жёсткой фиксацией, подкруткой кулака и доработкой бёдер. Достигни он цели — лежать бы сейчас самодовольному горцу на земле и судорожно пытаться вздохнуть.
Его умения не хватило, чтобы понять, что сделал Аккер в ответ. Вроде бы чуть развернулся на пятке, пропуская атаку, присел и развёл руки в стороны — только и всего. Однако Антона вдруг жестоко согнуло пополам и крутнуло через голову. Окружающий мир размылся и вытянулся в белёсую полосу, словно неразумный художник, осердясь на своё неумение, плеснул на незаконченную акварель целое ведро воды. Теперь Антон ударился сильнее, чем в прошлый раз, и отдыхать ему пришлось дольше — пока небо и окрестные горы не встали на нужные места.
— Не простудись, — участливо сказал Аккер. — Камни-то холодные...
Ах мать твою, со злостью подумал Антон. Ледяная боевая ярость ударила в голову, наполнила тело и вырвалась наружу, словно полноводный фонтан. Его напряжённая нога со свистом пронеслась по дуге, метя Аккеру в скулу. Этот удар был его гордостью, его «коронкой»: мало кто в их секции выполнял его так же мощно и молниеносно. И здесь, сейчас он вышел на славу. Не покалечить бы, подумалось мимоходом. Остановить эдак эффектно, по всем канонам, в сантиметре от цели, чтобы этот боров не считал себя круче варёного яйца...
Цели, однако, на месте почему-то не оказалось. Аккер изящно ушёл куда-то вниз и просто поставил свою пятку рядом с опорной ногой Антона, даже не коснувшись. Но в голеностопе что-то противно хрустнуло, Антон взмахнул руками, стараясь удержать равновесие... Не удержал, конечно: ткнулся в землю с разгона, на сей раз носом. Спасло от позора лишь то, что успел выставить руки перед собой — полезная привычка, выработанная когда-то на тренировках.
— Что-то ты всё время падаешь, — проговорил Аккер непередаваемо заботливым тоном — ни дать ни взять добрый доктор. — Вот возьми, может, этим будет сподручнее?
И бросил Антону суковатую палку. На лице его по-прежнему играла поощрительная улыбка: давай, мол, не тушуйся!
На этот раз Антон действовал осторожнее. Он припал к земле и прочертил концом палки широкий круг, будто метя по ногам, но в последний момент вдруг довернул ладонь, и палка взлетела круто вверх, в подбородок. Это было опасное движение. Опасное в первую очередь своей непредсказуемостью. От удара в ноги обычно уходят в высоком прыжке, поджав под себя колени. На это Антон и рассчитывал, втайне уже сдерживая победный крик...
Аккер не стал прыгать: много чести, мол. Просто шагнул вперёд, даже не особенно быстро, и поставил сапог возле руки Антона. Тот успел отшатнуться и упасть на копчик, спасая вывернутую кисть от перелома. И сесть, непонимающе моргая глазами. Аккер походя отобрал оружие и несильно, но чувствительно мазнул соперника в ухо. В ухе немедленно зазвенело, да так, что Антон едва удержался, чтобы не взвыть.
Аккер задумчиво оглядел дело рук своих, флегматично пожевал губами и произнёс:
— До Тебриза, чтобы ты знал, много дней пути по занятым врагом землям. В одиночку я бы прошёл, но с тремя сопляками на шее — увольте. — Он вздохнул, будто принимая решение. И решение это было нелёгким. — Я не пущу тебя, чужеземец. А надумаешь удрать — догоню и скручу, как ягнёнка, на глазах у Асмик. И самолюбия твоего не пощажу. Ты веришь мне?
Антон подавленно промолчал. Аккер безжалостно тряхнул его за шиворот и повторил:
— Веришь?
— Верю, — угрюмо отозвался Антон. — Но царевича всё равно необходимо доставить в крепость. Что же теперь нам делать?
— Учиться, — услышал он ответ. — Тебе и твоим друзьям. Без отдыха, день и ночь. И до тех пор пока каждый из вас не одолеет меня один на один, я и с места не сдвинусь. И вам не позволю.
Не сдвинусь, с неудовольствием подумал Антон, потирая ушибленный бок. Это точно, этого, пожалуй, хрен сдвинешь. И его сердце вдруг забилось сильнее, непонятно отчего: то ли от огорчения, что путешествие в Тебриз откладывается на неопределённый срок (а значит, и домой, в своё столетие, он вернётся теперь не скоро), то ли, наоборот, от неожиданной радости: он будет видеть Асмик каждый день. Говорить с ней. Прикасаться, будто невзначай, к её руке. На большее он не рассчитывал.
— Ты сказал, что не сдвинешься места, пока мы не научимся всему, — пробормотал он и испытующе поглядел на горца. — А потом? Неужели ты всё-таки решил идти с нами? Почему ты передумал?
Аккер помедлил с ответом. Затем поджал губы, отвернулся и произнёс в пространство:
— Когда-то, когда я был молодым дураком, мы с Зауром поспорили, кто из нас умрёт мужественнее. Если всё, что ты рассказал, правда, значит, Заур выиграл. И мне придётся отдавать ему долг.
Глава 13 ТИХИЕ РАДОСТИ
Это было длинное лето. Пожалуй, самое длинное в моей жизни (так представлялось мне — страннику, давно привыкшему к перемене мест и к тому, что сопутствует этому: корчмам и постоялым дворам, похожим у всех народов, как горошины из одного стручка, чужим торговым караванам и бесконечным лентам дорог — пыльным или слякотным; узким и петляющим, как змея меж камней, или широким и ровным, как стол; флегматично ползущим по равнине или нависающим над заснеженной пропастью на страшной высоте...).
Я на удивление быстро отвык от дорог. Будто никогда и не знал их. И дело было не в моих прошлых жизнях, которые я успел позабыть. Дело было в ней — моей Женщине. Я всегда, даже в мыслях, называл её только так: с большой буквы.
На шестой день пребывания в Меранге мы съехали из «Серебряной подковы». Гостеприимный её хозяин, почтенный Абу-Джафар, сам проводил нас до дверей и лично проследил, чтобы слуги бережно обошлись с моими вещами. Это было легко: вещей у меня было не много. Ровно столько, сколько мог унести мой ослик.
Брови Джафара были насуплены, глаза смотрели куда-то в пол, и даже бритая голова, сверкающая на солнце, словно медный котёл, казалось, потускнела и покрылась сосредоточенными морщинами.
— Ты будто провожаешь меня в темницу, а не во дворец, — заметил я. — Что тебя так опечалило?
Он только вымученно улыбнулся в ответ, словно знал что-то такое, что было скрыто от меня.
Мой юный спутник впервые ехал во дворец, и теперь, сидя на большом «взрослом» коне, вовсю вертел головой, рискуя вывалиться из седла. Впрочем, он был наездником, несмотря на возраст. Дети народа кингитов становятся наездниками и скалолазами едва ли не с рождения.
Предыдущие дни я провёл в замке у правительницы, лишь изредка возвращаясь в корчму, чтобы взглянуть, все ли в порядке с мальчишкой. Я и не заметил, как привязался к нему, хотя мне это и не нравилось. Жизнь научила меня тому, что привязанности редко доводят до добра.
Регенда не желала отпускать меня от себя надолго. Чем-то я привлёк её — своей экзотической внешностью, надо полагать, или рассказами о странствиях, которыми я её щедро потчевал. Я не приукрашивал свои рассказы — скорее, наоборот, умышленно обеднял их, чтобы она не посчитала меня отъявленным лгуном. Мы проводили вечера в беседах посреди сада (его создал, как выяснилось, один древний как мир китаец, чьи предки попали на Кавказ вместе с туменами Чингисхана), или объезжали окрестности, или забавлялись соколиной охотой, а иногда — даже встречая знатных гостей. Один Аллах знает, как я относился к этому — я не мог отказать ей ни в чём. Только иногда в мозг закрадывалась назойливая мысль: а кто я для неё? Очередная игрушка? Своеобразная наперсница мужского пола? (Наперсница, впрочем, у неё уже была: служанка, которая вместе с госпожой попала в тот день в лапы бандитов, — довольно миловидная девушка из абхазок, с нежным певучим голосом и прозрачно-чёрными очами). Некое подобие телохранителя?
— Я не держу телохранителей, — с милой улыбкой призналась она. — В них мало толку.
— Это неразумно, моя госпожа, — осторожно возразил я. — Я знаю, как любит тебя твой народ, однако в каждом стаде найдётся паршивая овца.
Наши лошади — чёрная как смоль, которую оседлал для меня придворный конюх, и жемчужно-белая под аланской царицей — шли рядышком по тропе через сверкающую после дождя пихтовую рощу, приправленную кое-где ясенем и ярко-зелёным самшитом. С юга и запада рощу окаймляли крутые, поросшие разнотравьем холмы, похожие очертаниями на древние боевые корабли. Когда-то, веков пять назад, на их вершинах стояли две крепости, охранявшие дорогу в долину. Время стёрло из людской памяти названия этих крепостей и имена тех, кто их защищал. Давно обрушились и поросли травой стены, принявшие на себя удар сельджуков, перед которыми не устояли ни Багдад, ни Манцикерт с Иерусалимом, обвалились подмытые весенними водами рвы, только камни раскрошившегося фундамента кое-где торчали из земли...
Регенда проследила за моим взглядом и сказала:
— Мой отец, когда был молод, хотел построить здесь свои заставы, чтобы защищаться от хазар. Его отравили во время пира. Наёмные убийцы подсыпали яд в вино. — Она помолчала, без нужды теребя повод своей лошади, и с грустью добавила: — Видно, наша династия чем-то не угодна богам. Все мои предки умирали молодыми. И все — не своей смертью.
— Тем более тебе просто необходимы телохранители, милостивая госпожа.
— Не называй меня госпожой, — вдруг попросила она. — Близкие друзья зовут меня Регендой. Правда, их очень немного, близких друзей. А что касается телохранителей... В последний раз, прошлой зимой, на меня покушался именно телохранитель. Тот, что стоял на страже у дверей моей спальни.
Она посмотрела на меня, как показалось, испытующе. Будто в очередной раз задавшись вопросом: а не игра ли всё это. По зрелом размышлении, я ведь вполне мог нанять бродяг за пару медных монет, чтобы они разыграли сцену ограбления, и втереться таким образом в доверие к царице...
Честное слово, на её месте я подумал бы именно так. А ещё с горечью вспомнил бы, что тот охранник, поди, тоже звал свою госпожу по имени. Немногие во дворце удостаивались такой чести.
— Я могу оставить твой гостеприимный дом, когда пожелаешь, — сказал я, заметив, как она вспыхнула до корней волос. И собралась что-то ответить, но не успела: впереди из-за деревьев показался рослый всадник на кауром жеребце. Я инстинктивно прянул вперёд — заслонить на всякий случай, но тут же узнал Фархада, доверенного человека Регенды. Он эффектно остановил коня на полном скаку, стрельнул в меня ревнивым взглядом и поклонился царице:
— Прости, что осмелился нарушить твоё уединение, госпожа. Только что в замок прибыл правитель славного Сенхорана со свитой.
Лицо Регенды осветилось улыбкой. Она пришпорила лошадь и крикнула мне через плечо:
— Брат приехал!
У него были длинные чёрные усы. И волосы, цветом напоминающие золу на углях остывающего очага. Он рано поседел, правитель Исавар. И рано — уже годам к тридцати — его лицо покрыла сеть морщин, похожих на мелкие шрамы. Однако глаза — такие же светло-коричневые, как у сестры (сводной сестры, вспомнилось мне), — принадлежали, несомненно, достаточно молодому мужчине. И опытному воину — вон и изогнутая сабля в сафьяновых ножнах у бедра, и кинжал с рукоятью из перламутра на широком поясе, богато украшенном золотыми накладками. И охрана позади, двадцать всадников в бордово-чёрных чекменях и традиционных островерхих шлемах — все как на подбор, рослые, с прямыми плечами и настороженностью во взглядах. И каждый вооружён до зубов.
Исавар остановил лошадь и поклонился по обычаю, не сходя с седла:
— Приветствую тебя, царица.
— Здравствуй, Исавар, — отозвалась Регенда. — Хорошо ли доехал?
— Благодарение Богу. Правда, недалеко от Чёрной заставы какие-то идиоты напали на заезжего купца, пришлось выручать.
— Ты не ранен? — встревожилась она.
Он усмехнулся в усы.
— Не беспокойся, сестра, обошлось. Кстати, я посоветовал ему пойти со мной в Мерангу, и он охотно согласился. Так что приготовься принимать подарки.
Попробовал бы он отказаться, внутренне улыбнулся я: только что разбойники чуть не разграбили караван дочиста, да и самому, поди, голову едва не снесли, а тут вдруг спасение, словно ангелы с неба... Не захочешь, а выполнишь любое их желание: и пойдёшь куда угодно, и товары раздашь едва ли не даром. Что ж, урок на будущее: пускаясь в дальний путь, не скупись на надёжную охрану. У купца она была, похоже, так себе.
Исавар тем временем скользнул по мне равнодушным взглядом и вдруг нахмурился.
— Это твой гость?
— Этот добрый человек спас меня от грабителей, — сказала Регенда. — Те, представь, польстились на мой кошелёк, когда я ходила по базару.
— Вон оно что, — проговорил Исавар и вдруг рассмеялся. — Бьюсь об заклад, сестрица, ты опять путешествовала, переодевшись простолюдинкой!
Странные у них были отношения. Они казались весьма добрыми: я видел неподдельную радость в глазах Регенды. И в то же время она словно чего-то опасалась. Резкого слова или насмешливого взгляда — и я почему-то догадывался, что причиной тому было моё присутствие. Хотя... Кто я, и кто она...
Я ждал, что она отошлёт меня прочь. Три против одного, что отошлёт, заключил я пари с самим собой. Нет, пять против одного.
И продулся в прах. Потому что Регенда улыбнулась и сказала:
— Ты, верно, хочешь отдохнуть с дороги, Исавар. Едем в замок, — и оглянулась на меня: — Ты не откажешься сопровождать меня, Рашид?
— Как тебе будет угодно, госпожа, — ответил я.
Нас ждал пир.
Не самый роскошный, не самый шумный и изысканный — видал я пиры, устраиваемые при дворце Абу-Саида (сколько же лет прошло, как я покинул его славный город? Десять? Двадцать?). Помню, как мы степенно входили в прохладные покои, обрамленные вместо стен чередой тонких белых колонн, и как я, согласно высочайшей привилегии, наливал эмиру вино в золотой кубок, украшенный сапфирами. Абу-Саид, одетый в бледно-зелёный тюрбан с серебряной нитью и малиновый парчовый халат, принимал кубок из моих рук, кивал в знак благодарности — и я видел бешеную, бессильную ненависть на лицах царедворцев. С каким бы наслаждением они всадили мне нож в спину или разорвали четвёркой лошадей на городской площади...
Помнил я обилие блюд, даже сосчитать которые было трудно, не говоря о том, чтобы испробовать каждое. Помнил седобородых дервишей в высоких колпаках и длинных, до пола, одеяниях, исполнявших танец Чёрной шапки под заунывные звуки цимбал и уханье барабанов-даценов, и совсем юных девушек, исполнявших танец живота, — они сладострастно извивались наподобие змей и, казалось, совсем были лишены позвоночника... Сколько раз, отяжелев от съеденного и выпитого, я хлопал в ладоши, и слуги — два высоченных чернокожих магриба с золотыми кольцами в носу — уводили понравившуюся мне танцовщицу в мои покои. Кто-то из девушек задерживался там надолго: к примеру, моя младшая, моя любимая жена Тхай-Кюль. Других я ещё до рассвета отсылал из спальни и тут же забывал о них. Я многое мог позволить себе в те годы.
Здесь, в горах, и образ жизни, и людские нравы и обычаи были куда проще и лаконичнее. В большом зале, куда нас привели, было почти темно, несмотря на обилие факелов, торчавших в стенных нишах, — наверное, потому, что сами стены были выложены из тёмного камня, покрытого такой же тёмной штукатуркой с изображениями охотничьих сцен, а окна, выходившие частью во внутренний двор, а частью — к Шоанском предгорью, больше напоминали не окна, а бойницы. Так строили грузинские, абхазские и аланские вожди на протяжении столетий. Так строил дед Регенды царь Аккарен, при котором был воздвигнут этот замок.
Исавар, сидя на почётном месте, под тяжёлым бархатным балдахином, беззаботно наслаждался угощением. Пил вино (сновавшие сзади слуги едва успевали наполнять кубок), много и громко говорил, шутил и сам смеялся своим шуткам. Он производил впечатление простодушного увальня, особенно сейчас, без шлема, кольчуги и нагрудного панциря (а может, и был панцирь — там, под темно-красным чекменём с золотой ниткой, кто знает). И надо признать, прикидывался он довольно искусно. Наверное, он обманул бы и меня, кабы я не заметил его охрану — умелую и крайне неприметную, что говорило о её качестве. Сидят себе люди на скамьях, едят мясо с чёрствых лепёшек, заменяющих блюда (один из здешних обычаев, к которому я привык с трудом), исподтишка пощипывают молоденьких смазливых служанок, слушают музыкантов и хохочут над проделками шутов... Лишь глаза выдают — слишком трезвые и цепкие, несмотря на количество выпитого, слишком плавны и выверены движения, уж я-то понимал в этом толк...
А ещё я увидел подле Исавара странного человека — странного, потому что я никак не мог понять, кто же он. Совершенно обычное лицо, не молод и не стар, одет неброско, но добротно. И явно не воин и не телохранитель. Вот только ест и пьёт... Я чуть не хлопнул себя по лбу, сообразив, что зацепило моё внимание: он ел и пил то, что подавали Исавару. Точнее, сначала все пробовал он, этот человек, проверяя, не подсыпан ли яд в угощение. Да, дорого бы я дал, чтобы узнать, всегда ли так осторожен правитель Сенхорана, или он опасается чего-то конкретного, целенаправленного...
— Ты, как я посмотрю, совсем ничего не ешь, чужестранец, — вдруг услышал я рядом с собой. — Боишься за свой желудок?
Фархад, мой старый знакомый, смотрел на меня не вполне трезво и слегка насмешливо.
— Ты прав, дорогой друг, — миролюбиво ответил я. — Здешняя пища кажется мне непривычной... Хотя, признаться, я много путешествовал по свету и многое успел увидеть.
Он недобро усмехнулся. Выпитого вина в нём было как раз столько, чтобы во всех, кто окружает, видеть врагов.
— Что же за нечистая принесла тебя в Мерангу?
— Нечистая? — безмятежно удивился я. — Я-то полагал, что в вашем городе рады гостям.
Глаза Фархада и без того небольшие, совсем вытянулись в щёлочки. Он сделал попытку схватить меня за рукав, но промахнулся и оттого разозлился ещё сильнее.
— Я не верю тебе, чужестранец. Всего семь дней, как ты появился в нашем городе — и вот ты здесь, на пиру, во дворце правительницы. Я удостоился такой чести далеко не сразу, а ведь мой отец был военачальником у царя Аккарена...
— Но ведь это он был военачальником, не ты, — резонно заметил я.
Фархад не обратил внимания на мою реплику — иначе, наверное, схватился бы за кинжал. А так лишь расплескал вино на скатерть.
— И эта твоя сказочка, будто ты спас царицу от грабителей... Признайся, ты подстроил все сам? Или просто сочинил?
— Правительницу вашего славного города охраняет сам Всевышний, — сказал я. — Я лишь послужил скромным орудием в его руках.
— Бред, — процедил Фархад сквозь зубы. И в который раз за вечер повторил главную свою мысль, главный постулат, за который держался, должно быть, точно пиявка за чью-нибудь ягодицу: — Я тебе не верю. И, клянусь, отныне не спущу с тебя глаз. Если с госпожой что-нибудь случится...
— Мне кажется, ты выпил лишнего.
— А... Это уж моё дело, верно?
— Верно. Только если ты так предан царице, то не роняй себя в её глазах.
Он хотел ответить что-нибудь язвительное, но наткнулся на взгляд Регенды. Вряд ли она прислушивалась к нашему разговору — не пристало ей внимать словам тех, кто сидел у её подножия: слуга да заезжий чужеземец без роду без племени... Но, наверное, поняла, что те слова были отнюдь не мирными, и строго сдвинула брови. И Фархад вдруг сник и съёжился, будто став меньше ростом. Даже, кажется, протрезвел — и мне неожиданно пришло в голову, что его сжигает изнутри самая обычная ревность. Причём не ревность обойдённого царедворца, а ревность мужчины, который узнал, что объектом его вожделения завладел другой... Бедный, вздохнул я про себя, как ты, должно быть, рвал на себе волосы, когда Регенда сказала мне: «Не называй меня госпожой...» Такие муки испытывает, наверное, только чесоточный больной, которому лекарь запретил чесаться.
— Ты, помнится, обещал привести нам купца, которого ты защитил от грабителей, — сказала Регенда, обращаясь к брату.
Исавар отставил опорожнённый кубок и хлопнул в ладоши. Слуги тотчас распахнули двери, и в зал вкатился толстенький коротконогий человечек в длинном, не по росту, шёлковом халате и с высоким тюрбаном на голове. Путешествовал он, понятно, в другой одежде, но, идя сюда, на пир к самой аланской царице, облачился в лучший свой наряд. Я попытался прикинуть, откуда он родом. Не горец — не осетин, не черкес и не армянин. И не выходец из Средней Азии — скорее всего, его родина лежала где-то очень далеко за Абескунским морем[22]. Я бы сказал точнее, но купец стоял ко мне спиной и лицом к столу, за которым восседали Регенда и Исавар.
— Его уже привязали к дереву, когда подоспели мои воины, — пояснил правитель Сенхорана. — Бедняга трясся как осиновый лист и едва ворочал языком, так что я только успел узнать, что он из народа адыгов и зовут его Ханафи. Он водит свой караван по Шёлковому пути.
Торговец мелко закивал, словно китайский болванчик, потом сделал знак слугам, и те стали вносить в зал большие открытые коробы с образцами товаров.
Товары были хороши — видно, купец изрядно попутешествовал по свету. И не забывал оставлять щедрые подарки в храмах, что попадались на его пути. Были здесь изделия айнских и персидских чеканщиков (я узнал на богато украшенных медных блюдах традиционные изображения священного быка Байнаба, на котором порок Мухаммед бежал в Меддину, когда слуги халифа изгнали его из Мекки) и покрытое тонким узором дорогое оружие с позолоченными рукоятями, шкатулки из слоновой кости с серебряной инкрустацией, украшения из драгоценных камней, бобровые и чернобурые лисьи шкурки и соболиные меха, и — ткани самых разных расцветок и назначений, от толстого прочного холста до тончайшего китайского шёлка... Да, это был караван богатого и удачливого торговца. Правда, разбойники, которые чуть было не ограбили его у какой-то Чёрной заставы, выбивались из построенного мною логического ряда. Или их шайка была многочисленной и хорошо обученной, или охрана у купца никуда не годилась...
Впрочем, мысли мои в тот день вовсе не были такими стройными, какими я описываю их. Наверное, обильная трапеза и вино были тому причиной. Я просто сидел за столом, слегка отяжелев от хмельного, и с улыбкой наблюдал за Регендой, которая с видимым удовольствие разглядывала товары, что-то выбирала, справляясь о цене (торговец только махал руками: ни слова об уплате, царица, высшая награда для меня будет, если ты примешь все понравившееся тебе в подарок), и удивительно напоминала мне маленькую девочку, которую накануне праздника привели в лавку с лакомствами и игрушками и сказали: выбирай что хочешь.
Изредка она тайком бросала на меня вопросительные взгляды: как, мол, думаешь, мне это подойдёт? Я так же незаметно кивал в ответ. Или, поддерживая игру, отрицательно качал головой, и она тут же отдавала обновку обратно купцу. Это меня изрядно удивляло: она не спорила и не надувала губки, как иногда делала моя младшая жена Тхай-Кюль (что, дескать, мужчина понимает в женских нарядах — мне нравится, и этого достаточно, а твоё дело — платить). Она словно доверяла мне во всём — с готовностью и безоговорочно. При этом, отдавая приказы своим приближённым, она вовсе не выглядела излишне мягкой и податливой. В такие моменты — я не раз убеждался в этом — она была истинной царицей большого и могущественного народа. И горе было тому, кто посмел бы её ослушаться. Я тоже старался не возражать ей без крайней необходимости — мне, вышколенному царедворцу (пусть и бывшему), не стоило преподавать азы придворного этикета. Однако временами мне казалось, что больше всего она жаждет от меня именно этого: чтобы ей возразили. Сильная и властная (а иной царица и не имеет права быть) — как она, наверное, устала быть сильной...
Так я рассуждал сам с собой, с извечным мужским цинизмом наблюдая, как Регенда берёт из рук помощника купца длинное платье из драгоценного бархата — тёмно-синее, почти чёрное, с искусной вышивкой на груди серебряными нитями, и прикладывает его к плечам... Восторженные возгласы сотрясают зал, гости наперебой выражают восхищение, но она снова смотрит на меня, ожидая совета... Наверное, она очень удивилась, не дождавшись от меня реакции, ибо в тот момент я смотрел не на платье.
Я смотрел на купца.
Точнее — на его сапоги. Крепкие сапоги из верблюжьей кожи с отделкой из коричневой замши — столь же красивые, сколь и удобные, в таких можно прошагать несколько дней кряду, и нога не устанет и не сотрётся. И наверное, не дешёвые: тот торговец, которому я когда-то отсоветовал вести свои товары через перевал Трёх Сестёр, не поскупился на подарок — не для меня, а для моего юного спутника. Мальчишка всё никак не желал надевать их в дороге — берёг для торжественного случая. Наверное, почтенный Ханафи поступил так же, ибо и его халат, расшитый бактским узором, и тюрбан, и сапоги были новыми, не потускневшими от солнца и дорожной пыли: наверное, тоже хранились где-то на дне сундука...
Он что-то почувствовал: возможно, я выдал себя неосторожным взглядом или возгласом. Он повернул голову — и тут же узнал меня. А я узнал его. Я ожидал увидеть купца, которого убедил идти более длинной, но безопасной равнинной дорогой и который безутешно горевал о гибели в горах своего компаньона... Однако я ошибся. Это бы тот, второй — кто по всем законам должен был покоиться на дне ущелья, смытый гигантским оползнем. Такие оползни вовсе не редки в сезон дождей...
Я вдруг посмотрел на него другими глазами: он уже не казался мне толстым и неуклюжим. Наоборот, в его облике проступило нечто хищное и беспощадное, как у тигра перед прыжком. Стоило лишь мысленно убрать нарочно длинный халат и привязанную к животу подушку.
Стоило отсечь всё лишнее...
Неверно думают, будто Аллах создал время незыблемым. Время способно растягиваться, как резина, и сжиматься подобно камню. И даже сворачиваться в кольцо подобно горной гадюке. Моё время растянулось в бесконечность. Я видел неподвижные изумлённые лица, испуганно воздетые руки и застывшую в воздухе чашу с вином, выскользнувшую из чьих-то пальцев. И само вино, так и не пролившееся на стол. А главное — руку почтенного Ханафи и зажатый в ней узкий длинный стилет. Почему-то я точно знал, что остриё стилета смазано ядом: идеальное оружие для убийцы-фанатика.
Я пролетел через зал, распластавшись над полом — мне некогда было отталкиваться ногами от грешной земли. И толкнул Регенду в плечо в тот миг, когда ткань платья — того самого, которое она примеряла, аккуратно разошлась под острым, острее бритвы, лезвием. Я сшиб царицу с ног и упал сам, пребольно ударившись затылком об угол стола.
Лицо Ханафи исказило удивление. Через секунду оно сменилось дикой злобой. Он выкрикнул какую-то гортанную команду, и все его люди выхватили оружие из-под одежд. Тот, что стоял ближе ко мне, взмахнул надо мной мечом. В моих глазах плавали разноцветные круги, и я не успевал ни защититься, ни даже прочитать молитву Всевышнему. Спас меня один из воинов Исавара: плеснул в лицо противнику горячей подливой, а когда тот вскинул руки — полоснул саблей по незащищённому животу. Я хотел поблагодарить своего избавителя, но опять не успел: кто-то весьма чувствительно пнул меня коленом в живот, а когда я согнулся пополам — заломил мне руку за спину и жестоко опрокинул носом в пол. Так, что я почувствовал солёный привкус крови на губах.
— Лежи смирно, сука, — прохрипел он мне в ухо. Голос был весьма убедительным, и я молча повиновался.
Остальное произошло быстро — гораздо быстрее, чем это можно описать. Видимо, не зря Исавар держал подле себя охрану, не расставаясь с ней даже на пирушке. Пока в глазах у меня развиднелось, бой уже завершился. Троих «слуг» Ханафи зарубили на месте, ещё одного обезоружили, вывернули локти и ткнули мордой в пол рядом со мной. Грохот и лязг оружия прекратился, смолкли испуганные крики. Исавар, легко перескочив через стол, бросился к сестре, обнял с замиранием сердца...
— Ты не ранена? — выкрикнул он.
— Всё в порядке, — спокойно сказала она. Ну, может быть, чуточку глуше обычного.
И выпрямилась, снова став истинной царицей. Ей даже не понадобилось опереться на руку брата. Или на чью-нибудь другую, таких рук возле неё было в достатке. Один из гостей предложил ей бокал вина. Регенда отрицательно покачала головой, бросила взгляд на трупы, потом — на обезвреженных врагов, и вдруг ахнула:
— Вы с ума сошли! Отпустите его немедленно!
Я сообразил, что это относится ко мне, лишь когда ощутил свободу: наконец-то я смог пошевелить руками и подняться с пола. Двое Исаваровых людей заботливо помогли мне, заодно быстро и незаметно обыскав на предмет оружия. В носу явственно хлюпало.
— Это он напал на тебя? — спросил Исавар.
— Что ты, — взволнованно прошептала Регенда. Только сейчас ей изменила выдержка.
Она подошла ко мне и заглянула в глаза — я отчётливо увидел, как дрожат её ресницы. Потом протянула руку назад. Кто-то, догадавшись, вложил в неё платок, и Регенда медленно и осторожно коснулась им моего лица. Я опустил взгляд. Темно-алые пятна неправильной формы — то ли диковинные цветы, то ли пятна от чернил — на белом батисте: картина, исполненная тонкого, истинно восточного эстетизма. Жаль, мой слепой дервиш не видит этого — он бы оценил... Он и сам был эстетом, каких поискать: достаточно вспомнить, как он обставил собственный уход из жизни. Сырые камни, куча соломы и одинокая безразличная ко всему фигура — он выглядел так естественно, что я несколько дней подряд обращался к нему, как идиот, не подозревая, что разговариваю с мертвецом. И злился, что он не отвечал мне...
— Я уже дважды обязана тебе жизнью, — сказала Регенда. — Смогу ли я когда-нибудь вернуть тебе долг?
— Я рад, что ты не пострадала, госпожа, — произнёс я.
И услышал:
— Пожалуйста, не называй меня госпожой.
Телохранитель Исавара нагнулся над лежавшим пленником, вынул кинжал и одним точным движением распорол ему рукав. Пленник дёрнулся, посмотрел — не на телохранителя, а на меня! — и я, клянусь Аллахом, едва не вздрогнул. Ибо этот взгляд принадлежал явно не человеку. На его смуглом плече чернело клеймо, наподобие того, каким скотоводы метят своих овец. Клеймо изображало какое-то жутковатое существо: голова жабы, посаженная на рыхлое женское тело с обвислой до земли грудью. Глаза у жабы-женщины были очень живые и грустные, и это почему-то усиливало отвращение.
— Исмаилиты, — сказал телохранитель без выражения. — Наёмные убийцы. Этот знак они получают при посвящении в тайную секту.
— Я сам допрошу его, — с угрозой произнёс Исавар. — Он расскажет, кто подослал его, клянусь Богом.
И вдруг взревел с яростью:
— Где Ханафи?!!
...Просторный халат и тюрбан нашли в одном из дворцовых коридоров — должно быть, «купец» скинул их, прежде чем спуститься по верёвке из окна. Рядом на каменных плитах лежала подушечка, с помощью которой (я опять угадал) он легко превращался в забавного толстяка.
— У него наверняка был сообщник здесь, в Меранге, — сквозь зубы проговорил Исавар. — А может быть, и во дворце. Ничего, сестра, мы найдём гниду.
— Во дворце? — В глазах Регенды снова появилась тревога. — Среди моих слуг... Нет, не верю!
— Однако это правда, госпожа, — тихо произнёс я. — Кто-то умело направлял действия убийц. Вспомни охранника, который напал на тебя зимой.
— Жаль, никто не догадался посмотреть, было ли клеймо у него на плече, — подал голос Фархад. И я в который раз подумал, что заимел в его лице врага. Непримиримого, жестокого и счастливо избавленного от всяких представлений о рыцарских правилах боя. Лишь отвергнутый мужчина способен нести в себе все эти качества...
Он широким шагом подошёл к Исавару (видно, поняв, что с самой Регендой каши не сваришь) и указал в мою сторону.
— Господин, молю тебя, прикажи схватить этого человека! Я уверен, он состоит в сговоре с убийцами!
Глаза Регенды вспыхнули гневом.
— Замолчи, — холодно приказала она, но Фархад впервые в жизни не послушался.
— Неужели ты не видишь, что он околдовал тебя, госпожа? Он прибыл в наш город всего несколько дней назад, а тебя уже дважды пытались убить. И наверняка оба покушения устроил он сам, чтобы втереться к тебе в доверие. Иначе как он мог угадать в тебе царицу — ведь ты была одета простолюдинкой? И каким дьявольским образом он заподозрил в Ханафи наёмного убийцу?
— Замолчи, — повторила Регенда.
И я неожиданно заметил, что мы очутились в кольце. Мы вдвоём, в центре некоего круга, будто в государственной измене обвиняли не только меня, но и аланскую царицу.
Да, именно так: здесь, в её собственном замке, вершился самый настоящий и скорый суд. И главным лицом на этом суде была отнюдь не Регенда — её брат Исавар, правитель славного Сенхорана, стоял сейчас в небрежной и строгой позе судьи, и все вокруг ждали ЕГО решения. Стоит ему мигнуть...
Что ж, если мой неведомый противник рассчитал именно такой исход дела — мне остаётся только склонить голову в немом восхищении.
— Что же ты молчишь, чужестранец? — почти весело спросил Исавар. — Или тебе нечего ответить на обвинение?
Вряд ли он успел так сильно возненавидеть меня — да и я не успел сделать ему ничего плохого. Наверное, я даже вызывал у него лёгкую симпатию — так знатный патриций вполне искренне сочувствует истекающему кровью гладиатору на арене. Что не мешает этому патрицию в решающий момент опустить вниз большой палец.
Я молча шагнул вперёд, расстегнул ворот одежды и обнажил плечо. На нём не было клейма, но я прекрасно понимал, что этот факт ни о чём не говорит...
— И ты поверила ему, госпожа? — в голосе служанки (подруги, наперсницы — возможно, единственного близкого человека во дворце) сквозили восхищение и лукавый испуг. — Но он так страшен лицом! Эта чёрная борода, и эти морщины...
— Что-то ты не слишком боялась его, когда он прогнал грабителей в подворотне, — со смехом отозвался второй голос, который я узнал бы из тысяч других.
Две женщины на дорожке посреди сада, возле белой ажурной беседки — они не замечали меня, увлёкшись разговором, хотя мне и в голову не приходило прятаться специально. Густая листва и кустарник, разросшийся за неполное лето позади скамейки, скрыли меня, по обыкновению размышлявшего в утренние часы над своей повестью. Её страницы лежали у меня на коленях, и я задумчиво покусывал кончик тростниковой палочки для письма, размышляя, в каких словах лучше рассказать о минувших событиях. Я так увлёкся, что не сразу расслышал голоса. А когда расслышал — было уже поздно.
— Лично мне больше по душе Фархад, — откровенничала служанка. — И красив, и обходителен, и благороден...
— Бери себе.
— Ох, не лукавь, госпожа. «Бери себе...» Он ведь с тебя глаз не сводит.
— Неужели ты вообразила, что я польщусь...
— Нет, что ты! — смешливый испуг. — Ты достойна гораздо большего. Но этот чужестранец...
— Знаешь, — задумчиво произнесла Регенда после паузы. — Только рядом с ним я чувствую себя женщиной. Не царицей, не правительницей, а женщиной. В нём есть что-то... настоящее, ты не находишь?
— Может быть. Но всё равно я его побаиваюсь.
— А я — нет. Кажется, наоборот, я впервые перестала бояться. Подумать только: вчера меня чуть не убили — а я всю ночь проспала, как ребёнок. И проснулась утром счастливая.
Я не видел этого, но ясно представил, как служанка притворно-сокрушённо покачала головой.
— Какой ужас... Смотри, госпожа, как бы тебе всерьёз не влюбиться в этого чужестранца.
Аланская царица так же сокрушённо (но совершенно серьёзно) вздохнула в ответ.
— Уже.
Снова смех и голоса, перебивающие друг друга. Вскоре они удалились и стихли, а я продолжал сидеть неподвижно, вяло думая, что сегодня вряд ли напишу хоть строчку.
А потом — может быть, через минуту или через час — я услышал шелест листвы недалеко от себя. Я живо поднялся на ноги — и увидел Регенду. Она стояла прямо передо мной и смотрела мне в глаза. Я подумал, что она сердится, — может быть, решила, что я нарочно шпионил за ней. Но нет, в её взгляде не было ни гнева, ни смущения. Только ожидание. И я, вдруг смутившись сам, неловко проговорил, демонстрируя чистый лист:
— Моя рукопись... Я, видишь ли, работал над рукописью...
— Ты всё слышал? — спросила она.
Я кивнул. А она сказала с некоторым облегчением:
— Что ж, тем лучше. Я совсем не была уверена, что смогу произнести это внятно, стоя перед тобой.
Иногда мне в голову приходит кощунственная мысль, что всемогущий Аллах отвёл мне слишком долгую жизнь. Про иного говорят: «Несчастный человек! Умер в расцвете сил и в зените славы — а ведь многое ещё мог совершить...» Глупцы, откуда им знать, что ожидает человека в будущем. Возможно — великие дела, о которых через много веков сложат легенды. Возможно — нечто иное, о чём будут говорить шёпотом и с отвращением. Одно известно наверняка: коли Всевышний уготовил человеку долгий путь — в конце его ожидает болезнь, уродство и смерть. Только смерть жалеет стариков, жизнь к ним беспощадна. Я чувствую это на себе: моя собственная жизнь уходит быстро, осталось всего ничего — часть ночи и зыбкий рассвет, наполненный крошечными огнями где-то далеко, на склонах гор. Там, где раскинулся лагерем Хромой Тимур, осадивший город Тебриз.
Что скажут обо мне потомки, доверь я своей повести всю правду, всю подноготную о моих тайных и явных помыслах, не проклянут ли? Как бы сложилась сама История, если бы тот день в саду стал для меня последним?
Я часто вспоминаю его. Раскладываю по камешкам, словно мозаику, и собираю опять, каждый раз с горечью замечая, что очередного камешка не хватает. Возраст делает меня забывчивым. Постепенно стирались детали, угасли в дымке прошлого люди, которые были мне дороги, — страшно сказать, я пытался вспомнить лицо Регенды — и не смог... А вот что осталось — это старые яблони в медовом запахе и расстеленное на земле покрывало нежного персикового цвета. И мёд в глиняной пиале, над которой жужжат пчёлы. Одна из них села на меня, и я отшатнулся, покраснев.
— Ты не любишь пчёл? — спросила Регенда.
Я признался, что попросту боюсь их: мне было восемь лет, когда во время прогулки в парке на меня напал целый рой. Помнится, я бестолково размахивал руками, потом упал на землю и заревел — моих сил не хватило, даже чтобы убежать. На крик прибежали слуги отца. Они живо завернули меня в одеяло и унесли в дом. Прибывшие в тот же день лекари осмотрели меня и успокоили отца, заверив, что моё здоровье вне опасности. «Следы укусов сойдут без последствий, — сказали они, — если выполнять несложные рекомендации по лечению». Через положенное время укусы действительно сошли, а вот последствия остались. С тех пор пчёлы вызывают у меня панический ужас.
— Ты разочарована во мне? — спросил я.
— Наоборот, — сказала Регенда. — Мне было бы трудно полюбить человека без слабостей.
Она улыбнулась и аккуратно капнула мёду себе на ладонь. И подняла её перед глазами. Я увидел, как на ладонь села пчела. Она была ярко-полосатая, словно тигр, с длинными торчащими вверх усиками и хоботком впереди. И острым жалом в лохматой заднице — я даже вздрогнул, представив, как это жало вонзается в руку Регенды.
Однако — не вонзилось. Пчела замерла было в нерешительности, но через секунду просеменила вперёд и вежливо опустила хоботок в капельку мёда. Затем, насытившись, взлетела и описала круг над головой царицы — я именем Аллаха поклялся бы, что она благодарила за угощение...
— Знаешь, — сказала вдруг Регенда. — Я повстречала человека. Здесь, в саду, несколько минут назад.
— Кого именно? — Я не на шутку встревожился — не удивительно, особенно в духе последних событий.
— Мне показалось...
— Что?
— У моего брата Исавара есть маленький сын, его зовут Баттхар Нади. Я видела его совсем младенцем, а сейчас в саду он словно явился ко мне из будущего. — Она помолчала и поёжилась, будто от холода. — Он сказал, что мне угрожает опасность.
— Ты испугана после вчерашнего покушения, — мягко сказал я. — Немудрено. А что касается опасности... Кто бы ни желал тебе зла — клянусь, пусть он сначала переступит через меня.
— Иди сюда, — тихо произнесла Регенда.
Я опустился рядом. Как та пчела, — а ведь, наверное, могла бы облюбовать себе какой-нибудь цветок, полный нектара, или спелое яблоко, упавшее с ветки, или глиняную пиалу на персиковом покрывале — соблазнов вокруг было множество. Но Регенда и не думала никого соблазнять. Или искушать. Или брать силой. И тем более просить.
Она просто поднимала руку ладонью вверх.
Я ощутил её губы — впервые, словно сделал важное географическое открытие. Да что там географическое — я открывал для себя саму жизнь, мимолётно удивляясь, почему мне понадобилось исходить для этого столько дорог. Все дороги были здесь, под моей ладонью. Все виденные мною красоты мира, которые не шли ни в какое сравнение с высокой изящной грудью и влажной впадинкой посередине, где матово поблескивало ожерелье, привезённое откуда-нибудь из Александрии или Египта. Все сундуки с золотом и алмазами в шахских сокровищницах не стоили и кончика её шелковистых волос, сады Семирамиды безжалостно блекли перед её раскрывшимся лоном, и роскошный двухсоткомнатный дворец Абу-Саида в моём родном городе выглядел рядом с заманчивым изгибом её бёдер, как ветхий покосившийся хлев. И даже мой слепой дервиш, моё всевидящее око, мой судья и палач, раб и господин, исчез ненадолго из моих дум.
Мы выпили всё вино и фруктовую воду, мы разбили несчастную пиалу с мёдом, и меня ужалили две пчелы, которых я, вероятно, нечаянно придавил. Нашу кожу покрыли лепестки опадающих яблонь, трава и комочки земли. А наша одежда пришла в полную негодность. И я подумал вдруг, как хорошо было бы остаться здесь навечно — не рассчитывая каждый свой шаг и не проигрывая в уме каждую реакцию мимических мышц. Забыв о Копье Давида (как оно было близко в тот момент — только протянуть руку!) и о страшном клейме на плече наёмного убийцы, — если бы Регенда знала, кто был его нанимателем!
Макха Пуан, вспомнил я. Полужаба-полуженщина, шиитская богиня подземного царства...
Нужно было прямо там, во дворце, заставить всех обнажить свои плечи. И заставить не только гостей — всех стражников на башнях, всех поваров на кухне, слуг и служанок, шутов и певцов, летучих мышей под крышей и привидений, безнадзорно разгуливающих по подвалам. Никому нельзя было верить на слово.
— Ты что? — шёпотом спросила Регенда, с чуткостью влюблённой женщины ощутив моё секундное напряжение. — Что-то не так?
— Всё хорошо, — улыбнулся я и поцеловал её — в тысячный, наверное, раз за сегодня. — Всё хорошо...
Глава 14 ПРАВИЛА БОЯ
— Плохо, — сказал Аккер, спокойно наблюдая, как Антон в очередной раз поднимается на ноги и отряхивается от пыли. — Думается, твой наставник был хорошим мастером, если сумел кое-что вдолбить в тебя. Жаль, ты оказался нерадивым учеником.
Антон потёр ушибленное плечо и с завистью поглядел на Лозу и Баттхара, с упоением рубившихся лёгкими деревянными саблями. Выходило у обоих не слишком ловко — пожалуй, даже похуже, чем у него самого. Однако именно Антону доставалось от сурового учителя чаще и больше других. И посмеивался над ним Аккер обиднее, чем над остальными, и чаще валял в грязи, и реже сдерживал удар, даже зная наперёд, что Антон не сумеет защититься.
— Бей, — велел горец.
Антон подхватил с земли палку, изображавшую саблю, и, резко выдохнув, нанёс удар. Удар, по его мнению, вышел неплохим: мощный и молниеносный, как принято в одном из разделов каратэ. Подобное движение трудно даже заметить, не то что блокировать... Он ощутил, как палка вздрогнула в руках, и замер в низкой боевой стойке. И тут же получил шлепок по затылку.
— Плохо, — равнодушно повторил Аккер. — Вернее, сам-то по себе удар хорош — если у тебя один противник и дерётся он честно, лицом к лицу. И если ты попал. А вдруг промахнулся?
— Тогда я ударю снова, — мрачно сказал Антон.
— Если доживёшь, — усмехнулся горец.
Показалось, он вдруг потерял интерес и к занятиям, и к ученику. Отошёл немного в сторону — туда, где кривоватая сосенка оседлала небольшой бугорок, и сел на склон, поджав ноги по-турецки. Антон подумал, пожал плечами и присел рядом.
А в следующую секунду палка вдруг вылетела из его рук. Аккер сделал какое-то движение — не слишком хитрое и не слишком быстрое, но заметить что-либо Антонова умения не хватило.
— Подними, — сказал наставник.
Антон послушно нагнулся за оружием и тут же получил удар меж лопаток. Охнул от боли и распрямился, глядя на горца почти с ненавистью.
— Опасно отводить взгляд от врага, — назидательно проговорил тот. И опять указал на палку. — Подними.
Антон медленно опустил не голову — только глаза. И вдруг стремглав рванулся в сторону, зацепив палку носком ботинка. Чтобы поймать её, взлетевшую в воздух, ему пришлось совершить гигантский прыжок — будто он забирал баскетбольный мяч из-под кольца. Он с великим трудом удержался на ногах и победно обернулся к Аккеру: что, мол, достал?
Тот стоял в сторонке, с совершенно каменным выражением лица наблюдая за Антоновыми ухищрениями. Опять будет смеяться, угрюмо подумал Антон, но горец совершенно серьёзно сказал:
— Ну вот. По крайней мере ты больше не прёшь на рожон. Теперь смотри, как сделать ещё лучше...
Так он говорил каждый день. Или — десять раз на дню, заставляя своих подопечных — троих враз или каждого по очереди — делать нечто совсем простое, вроде бы и не имеющее отношения к воинской науке. Поднять палку с земли. Бросить в дерево камешек. Повернуть голову на звук. Сделать шаг в сторону. Отвести руку за спину. Упасть на землю и встать с земли.
Обычно, глядя на них, он лишь сокрушённо вздыхал, после чего принимался учить. Перекраивать движения на новый лад, исправляя неуклюжесть и излишнюю резкость. Чёрт знает, что они, все трое, испытывали во время уроков: иногда — недоумение. (Чёрт возьми, сколькими способами можно обернуться, услышав за спиной хруст ветки? По мнению Антона, только одним, однако премудрый горец тут же показывал ещё десяток, добавив вскользь: «А то, как делаешь ты, — забудь. Иначе можешь умереть молодым»). Иногда — раздражение. («Издевается он, что ли? — ворчал покрытый синяками Баттхар, с трудом пристраиваясь на жёстком ложе. — Это не так, то не эдак... Я думал, мы будем учиться сражаться, а мы учимся, как поднести лепёшку ко рту и не уронить. Я ему кто — аланский царевич или придворный шут?»).
Но постепенно, изо дня в день, в них просыпался неподдельный интерес. Ибо они чувствовали: за мелкими деталями, за каждым вновь выученным движением, за странными придирками их наставника кроется нечто очень большое, ёмкое, могучее и древнее, как сами горы вокруг. То, что нельзя купить или украсть, выманить хитростью или отобрать силой.
Иногда за их занятиями наблюдала Асмик. Освободившись от хлопот по хозяйству, она, бывало, приходила и стояла в сторонке, глядя, как суровый Аккер бросает своих учеников через голову. (Наверное, Аккер и её учил разным премудростям: стрелять из лука, скакать на лошади и драться на мечах. Антон ещё тогда, в их первую встречу, понял, что девушка — воин, без всяких скидок). Вот и сейчас она исподтишка смотрела на него, отставив на камень кувшин с водой. Заходящее солнце — большое, оранжевое, как спелый апельсин, — светило ей в спину, рождая такое же оранжевое сияние вокруг головы. Антон как раз уронил аланского царевича эффектным приёмом и гордо встал, выпятив грудь. И, как водится, моментально пропустил обидный пинок пониже спины. Взвыл, обернулся и увидел Аккера.
— Твоё счастье, что это всего лишь тренировка, — спокойно сказал тот. — Отвлечёшься в бою — другую цену заплатишь.
— Хай, сэнсэй, — устало отозвался Антон, вытирая пот с разгорячённого лба. Обижаться на наставника он давно и благополучно отучился.
Аккер, скорее всего, не понял последней фразы, но не переспросил: не хватало ещё обращать внимание на всякие иноземные прибабахи.
— Ну-ка, бегом за мной, — бросил он через плечо и резво побежал вверх по склону. — И не вздумайте отдыхать по дороге!
— Опять, — простонал Баттхар. — Точно горные козлы, ей-богу. Как только ещё рога не проросли...
Бежать — это тоже была наука. В былые времена Антон был убеждён, опираясь в основном на книжный опыт («Ашик-Кериб», «Кавказский пленник» и Бюль-Бюль Оглы в классике советского кинематографа «Не бойся, я с тобой!»), что горцы в своих передвижениях целиком полагаются на коня. Это было красиво и романтично: так и виделись крутые склоны, подсвеченные солнцем, всадники в чёрных чекменях, с закрытыми платком лицами, топот копыт и гортанные выкрики. Теперь, глядя в удаляющуюся спину Аккера, Антон понял, что ошибался. Тот и на своих двоих вряд ли уступил бы хорошей скаковой лошади. Тем более если заставить её носиться не по ровной дорожке ипподрома, а вверх-вниз по крутым каменистым склонам.
Когда наставник впервые предложил ему пробежаться («Прогуляться», — так иезуитски он выразился), Антон отстал от него через двадцать минут. Через сорок — потерял его из виду и, плюнув с досады, рухнул на ближайший камень — отдышаться. Их хижина осталась где-то далеко внизу, и Антон совсем не поручился бы, что сумеет отыскать к ней дорогу. Пришлось стиснуть зубы покрепче и двигаться вперёд.
Аккер ждал его по другую сторону откоса, где в распадке зеленел аккуратный лужок и торчало одинокое дерево, вымахавшее на просторе больше вширь, чем ввысь, и напоминавшее собой слегка потрёпанный балдахин. Горец лежал под этим деревцем, вытянувшись во весь рост и надвинув шапку на глаза, чтобы не мешало солнце. И кажется, сладко похрапывал. При приближении Антона он лениво открыл один глаз и проговорил:
— Ты уже здесь? По правде, я не ждал тебя так скоро.
Антон плюхнулся рядом и сердито спросил:
— Ты когда-нибудь устаёшь?
— Устаю, — признался Аккер. — От тебя и твоих друзей. Ты видел, как я бежал?
Антон чуточку подумал.
— Видел. Ты переваливался с ноги на ногу, точно утка. Или медведь.
— Вот! — Аккер воздел вверх указательный палец. — Поэтому я не выдохся. Согласен, это не очень красиво со стороны, но это умнее. Когда мы побежим обратно, ты попробуешь. А сейчас бери в руки вон тот камень и приседай, нечего рассиживаться.
Антон взглянул на камень и обошёл его кругом. Валун, чёрный, монолитный, в прожилках беловатого известняка, был размером, пожалуй, с чемодан. А весил, наверное, как целый холодильник.
— Ты с ума сошёл, — искренне сказал он. — Я и так с ног валюсь.
— Вообще-то да, — неожиданно легко согласился горец. — Глупо приседать с ним здесь, если это можно сделать возле хижины. Придётся тебе тащить его вниз.
— Но...
— И не спорь. Мы и так уже потеряли много времени даром.
Чтобы водрузить камень на плечи, Антону понадобилось ещё минут десять. Согнувшись в три погибели, он посмотрел исподлобья на своего мучителя и мечтательно произнёс:
— Когда-нибудь я убью тебя, Аккер.
— Что ж, — философски отозвался тот. — Тогда, наконец, я перестану за тебя беспокоиться.
— За что они тебя так? — спросил незнакомец.
Антошка скосил на него глаза и промолчал. Было до того горько на душе, что не осталось даже уголочка для благодарности за спасение. Да и что было толку — не станешь же все каникулы гулять по улице со взрослым дядей за ручку, засмеют. А выйдешь завтра один из дома — и все повторится. Снова подвалят Севрюга с Домкой Лисицыным и вся их банда... Хоть совсем из города беги и возвращайся в Москву. Так и скажу тете Тане, решил он про себя. Пусть только даст денег на билет.
Огорчать её не хотелось. Она была невредная: никогда не придиралась по мелочам — вроде оторванной пуговицы или перепачканных кедов. Понимала, что в этом возрасте мальчишку не заставишь чинно гулять по бульвару. Её муж, дядя Андрей, тот вообще мало занимался воспитанием племянника. Не оттого, конечно, что не любил его, — просто с утра до вечера был занят в своей клинике. Когда он приходил домой — поздно вечером, голодный и уставший до черноты под глазами, тётя Таня, живо накрывая на стол, ворчала:
— У всех работа как работа, с восьми до пяти, а у тебя что? Или, кроме тебя, других врачей нет?
— Есть, конечно, — нехотя отзывался дядя Андрей, откидываясь на спинку дивана и прикрывая глаза. Ему было не до споров. — Просто, когда сам, чувствуешь себя спокойнее.
— «Спокойнее»... В отпуск тебе надо, Андрюшенька (так она называла его, взрослого бородатого мужчину: «Андрюшенька». И это вовсе не выглядело смешно). Когда мы с тобой отдыхали в последний раз?
— Да вроде недавно. В позапрошлом году...
— Не в позапрошлом, а три года назад.
— Ой, ладно тебе. Лучше дай пожевать что-нибудь...
— Дикость какая-то, — продолжал меж тем незнакомец. — Четверо на одного, да ещё на самого младшего... В мои годы такого свинства не было. Нет, дрались, конечно, но честно, один на один, до первой крови. А уж лежачего и подавно никогда не трогали.
Антон потихоньку фыркнул. Он уже знал, что взрослые любят приукрасить времена своего детства: мы, дескать, были совсем другими, много читали, с радостью бежали в школу, со счастливыми лицами делали прививки и с восторгом стаканами глушили рыбий жир. Ну и само собой, если и дрались, то по-мушкетёрски: «Защищайтесь, милорд. Я имею честь напасть на вас...»
Наверное, незнакомец почувствовал его усмешку и слегка смутился.
— Вообще-то, ты прав. Всякое бывало. Ты, кстати, не ответил: что не поделили-то?
— Буду я с ними что-то делить. — Дёрнул Антон плечом.
— Ты был один? Без друзей?
— Ну почему. Были друзья — Петька с Маратом. Только они ещё малявки, их самих защищать надо.
— Это точно, — согласился незнакомец. — Мужчина должен уметь быть защитником, иначе нельзя. Их, стало быть, обижали, а ты заступился, да?
Антон вспомнил о геройски погибшем крейсере «Ястреб» и хмуро кивнул.
— Жалко, этот Севрюга был со своими прихвостнями, а то я показал бы ему пару приёмчиков...
Незнакомец взглянул с интересом.
— Ты что же, борьбой увлекаешься?
Увлекаюсь, хотел сказать Антон, но постеснялся соврать.
— В кино видел про каратэ.
— А, — протянул незнакомец, — понятно.
Тихонько, исподволь надвигались сумерки — безветренные, но прохладные, совсем по-осеннему. Ещё там, на берегу речки, незнакомец почти насильно, не слушая протестов, раздел Антона, растёр его докрасна и закутал в свою куртку. Куртка была лёгкая, без подкладки, но сухая — в этом было её неоспоримое преимущество. Сам он остался в брюках цвета хаки и полосатой майке. Антон бросил на него беспокойный взгляд и спросил:
— А как же вы? Не замёрзнете?
Тот рассмеялся.
— Постараюсь. Твой дом далеко?
— Близко. На Космонавтов. Я у дяди с тётей на каникулах.
— Вот как. А родители где?
— В Москве.
Незнакомец обрадовался.
— Надо же, земляка встретил. Я ведь тоже москвич. Здесь проездом: хотел друга навестить, да не застал.
Он шагал широко и чётко, и в то же время в его движениях была странная вкрадчивость, будто тигр крался по джунглям. Антон еле поспевал следом. По дороге он все пытался определить, кого судьба дала ему в попутчики. Точно, что военный. Короткий ёжик волос, хорошие мышцы (эх, мне бы такие!) и походка... Какой род войск? Уж всяко не стройбат. Антон вспомнил про тельняшку в голубую полоску и тихо присвистнул: десант, как же я не догадался!
Голубые береты, краса и гордость армии, ниндзя, мастера первого броска... Чёрт возьми, у него даже дыхание перехватило от восторга и зависти (вот уж кто одной левой раскидает взвод таких, как несчастный Севрюга). И от мимолётной грусти: вот сейчас, совсем скоро, они дойдут до Антошкиного дома и расстанутся навсегда. Незнакомец, наверное, кивнёт на прощание, скажет: «Ну, бывай, братишка!» — и растворится в сиреневом вечере. Вряд ли они встретятся ещё: Старохолмск хоть и не Москва, а всё равно большой. От этой мысли Антону опять стало грустно.
Однако, похоже, этот день словно задался целью преподнести ему как можно больше сюрпризов. Потому что незнакомец вдруг спросил совершенно невероятное:
— А ты хотел бы заниматься каратэ на самом деле?
Антон остановился, поковырял носком асфальт и осторожно, боясь спугнуть удачу, сказал:
— Так ведь не возьмут.
— Почему?
— Мышцы слабые. И гибкости никакой.
— Мышцы и гибкость — дело наживное, — возразил незнакомец. — У меня есть знакомый тренер в Москве. Мы когда-то служили вместе, а потом вместе демобилизовались. Если желаешь, я могу замолвить словечко... Ого, кажется, пришли. Кстати, мы ещё не познакомились. Меня зовут Костей.
— Антон.
Ладонь у Кости была шершавая и широкая, как лопата. И вся покрыта твёрдыми, как камень, мозолями — ох, непросто достаются такие мозоли... Антон уважительно пожал её и сказал то, что давно вертелось на языке:
— Костя... То есть Константин... Почему вы всё это делаете для меня? Из речки вытащили, теперь тренера за меня будете просить...
В карих глазах собеседника вспыхнули весёлые искры.
— На Востоке говорят: если ты спас человеку жизнь — значит, ты у него в долгу.
— Да? — Антон озадачился. — А мне казалось, что наоборот. Кого спасли, тот и должен...
— Нет.
— Но почему?
Костя подумал и пожал плечами.
— Не знаю. Но на Востоке живут очень мудрые люди. Если они что-то говорят — значит, так и есть.
...Белое кимоно вскоре становится серым. И тяжёлым, как мокрая простыня на верёвке. При каждом движении оно хлопает и липнет к телу, точно листья берёзового веника в парной. Впрочем, неудивительно: здесь почти так же жарко, даже когда холодно снаружи. И так же пахнет потом. Правда, на этом сходство с парной и заканчивается. Это место кажется вообще самым неповторимым в мире. Антон уже знал, что оно называется додзё.
Зал для занятий боевыми искусствами. Кто никогда не переступал его порога — тому не понять.
Поначалу Антон чувствовал себя здесь неуютно. Он пришёл позже других и долгое время отставал от программы. Да и особых данных для быстрого прогресса не было, если сказать по чести. Тренер Пётр Иванович — небольшого роста, вроде бы даже щуплый, но удивительно сильный и подвижный, поглядел на «новобранца» с изрядным сомнением, заставил несколько раз отжаться от пола, присесть и развести ноги в шпагат. Шпагат всегда был для Антона несбыточной мечтой — он и руками-то до земли доставал с трудом. В общем, получилось у него из рук вон плохо. Он покраснел, увидел скептически поджатые губы тренера и понял, что ему хотят отказать. И даже развернулся, чтобы уйти в раздевалку, но Костя сказал: «Подожди». Потом он о чём-то вполголоса спорил с тренером, и Антон расслышал:
— Ты вспомни себя в его возрасте. Вспомни, каким ты пришёл к Йон Нолу — тот ведь тоже не хотел тебя брать в ученики, говорил, мол, толку не будет. А сейчас — какой у тебя дан? Четвёртый?
— Пятый, — буркнул Пётр Иванович. — Присвоили в прошлом году. Ладно, убедил... Эй, парень, поди сюда!
Антон подошёл на негнущихся ногах.
— Десять рублей в месяц, — сказал тренер. — Спортивную форму. Тренировки четыре раза в неделю, с шести до девяти. Переодевайся — и марш в строй.
...Он уставал. Нет, он умирал от усталости. А однажды даже плакал в раздевалке, когда Шурка Пимин разбил ему нос в спарринге. Шурка был младше на полтора года, но гораздо дольше занимался и имел жёлтый пояс. Он был резкий и быстрый, как чёрт , и какой-то совершенно нечувствительный к боли. От него Антону доставалось больше всего. Несколько раз тому приходила в голову мысль бросить тренировки к чёртовой матери: не ниндзя я и не шаолиньский монах, в конце концов, чтобы надрываться тут за собственные деньги... Однако что-то не давало этой мысли осуществиться. Антон знал, что именно.
Картина, висевшая на стене в вестибюле краеведческого музея, в небольшом городке Старохолмске. Там, где посреди поля стоял впереди войска светловолосый мальчишка в простой холщовой рубахе и смотрел вперёд, чуть заметно покусывая нижнюю губу.
А ещё — мерзкая ухмылка на морде Севрюги, когда тот макал Антошку с головой в мутную воду, отдающую устойчивым запахом болота. Антон живо представлял себе, как следующим летом приедет на каникулы и встретит Севрюгу на улице. А лучше — всю его банду, всех четверых. Он пройдёт сквозь них, как нож сквозь масло. Как арктический ледокол — сквозь льды. Как боевая машина — через линию вражеских окопов. И уцелеет лишь тот, кто сообразит вовремя убраться с дороги: прыгнуть через забор, к примеру. Или залезть в собачью будку. Он пройдёт сквозь них и оглянется через плечо. И скажет что-нибудь...
Нет, лучше просто посмотрит со спокойной усмешкой, как Чак Норрис в фильме «Одинокий волк»...
— Бегом, бегом! Легли, отжались на кулаках... Встать! Пятьдесят ударов «Мае гири»... Не спать, Изварин, не спать!
Зловредному Шурке в тот раз достался другой партнёр. Шурке это явно не понравилось: больше всего он любил издеваться именно над Антоном, оттачивая на нём самые болезненные приёмы. Однако с тренером не поспоришь. Поэтому Шурка ограничился тем, что время от времени бросал на Антона многообещающие взгляды: я здесь, мол, я о тебе помню... И у того резко портилось настроение. Следовало ожидать какой-нибудь гадости, а на гадости Шурка Пимин был мастер. И непонятно было, чем он, Антошка Изварин, не угодил ему. Хотя, по зрелом размышлении, тут и не требовалось объяснять. Встречаются люди, к которым сразу, с первого взгляда, чувствуешь симпатию. Из симпатии потом вырастает дружба — самая настоящая, мужская, мушкетёрская. На всю жизнь. А бывает — наоборот. И люди становятся врагами, даже не понимая причины этого...
В раздевалку Антон вошёл хмурый. Скинул промокшую насквозь форму, поплескался под душем, вытерся и натянул костюм. Сунул руку под скамейку, достать ботинки. Однако ботинок не было. Антон озадаченно обошёл раздевалку кругом, зашёл в туалет, рассеянно взглянул на ведро с грязной водой — и чуть не завыл, потому что ботинки обнаружились там, на дне ведра. Один каблук торчал наружу, словно маленький чёрный айсберг.
Он услышал за спиной сдавленное хихиканье. Обернулся и увидел Шурку Пимина. А рядом с ним — других ребят: те подталкивали друг друга локтями и показывали подбородками на Антона.
— Как же это тебя угораздило? — с притворным сочувствием проговорил Шурка. — Теперь сушить придётся.
— Придётся, — вздохнул Антон.
— И от мамы влетит...
— Наверняка влетит, — удручённо подтвердил Антон.
И ударил.
Шурка пропустил удар вчистую, даже не попытавшись поставить защиту. Только произнёс непонятное «Эп!», прежде чем врезаться спиной в стену. Не давая ему встать, Антон живо насел сверху, от души награждая обидчика уже без всякого каратэ, яростно и бестолково. (И слава богу, подумалось после, не то мог бы и убить...) Шурка поначалу сопротивлялся, но как-то неуверенно, вмиг подрастеряв свои боевые навыки. А потом и вовсе позорно заревел в голос.
Вдруг Антон почувствовал, что его схватили за ремень и подняли в воздух, как хозяйственную сумку. То же самое через секунду произошло и с Шуркой. Пётр Иванович подержал обоих поединщиков над полом, критически осмотрел их и сказал без выражения:
— Так. Ну что ж, пошли.
В зале было пусто, и поэтому он казался непривычно большим и гулким, будто покинутый людьми вокзал. Висели, чуть раскачиваясь, тяжёлые кожаные мешки на цепях, лежали в углу скакалки и измочаленные от ударов боксёрские «лапы». Тренер поставил Шурку и Антона на землю — те стояли, понуро опустив головы и не глядя друг на друга. У Антона под глазом горел фингал, у Шурки капала из носа кровь.
— Наша школа, — медленно и внятно произнёс тренер, — существует для того, чтобы помочь вам стать мужчинами. В старину идеалом мужчины был воин. Настоящий воин, который никогда не дерётся по пустякам и не срывает злость на других, потому что это — признак слабости. Воин, который умеет любить и прощать. Жить, а не отнимать жизнь. Этому я стараюсь научить вас здесь... Хотя это очень трудно — научить жить. Сейчас вы этого не понимаете, но, надеюсь, поймёте потом. А пока — просто запомните. Вам ясно?
— Ясно, — нестройно ответили они.
И получили по лёгкому подзатыльнику.
— Надо говорить: «Хай, сэнсэй». Это означает «Да, учитель».
— Да, учитель, — тихо сказал Антон.
Утро выдалось ясным и погожим. Небо — высокое и ярко-синее, до рези в глазах, встало над горами, и горы засверкали, как оконные стёкла после ленинского субботника. Антон потянулся, зевнул и втянул носом воздух. Пахло дымом (Асмик уже разожгла очаг и готовила нехитрый завтрак), овечьей шерстью и почему-то мёдом. Антон скинул одеяло, резко поднялся и крякнул от боли: на бедре красовался здоровенный, в ладонь, синяк. И безжалостно, точно больной зуб, ныла спина. Аккер намял вчера, когда учил бороться.
Что это была за борьба — Антон не мог определить. То ли самбо, то ли вольная, то ли айкидо — впрочем, до появления каждого из них должно было пройти ещё без малого шесть веков. На расспросы по этому поводу Аккер отвечал неохотно и недоумённо: тебе-то, мол, что за дело? Ты на ногах, враг лежит и не встаёт — это главное. Однако иногда расщедривался на пояснения: вот чидаоба (броски, отдалённо напоминающие самбистские), салдасти (кулачный бой, один против многих), сатитени (использование боевого кольца, наподобие японских сюрикенов), парикаоба (владение саблей и мечом-кончаром в круговом бою). И ещё — увёртки, ухватки, изгибы, нырки, пластания — всего не упомнишь.
Однажды Аккер взял Лозу за руку и легонько подтолкнул:
— Встань к стене.
Тот безропотно подчинился. Аккер совершенно спокойно поднял лук, прицелился в онемевшего враз мальчишку и натянул тетиву. Тот успел только икнуть, когда стрела с глухим стуком вошла в стену в сантиметре от шеи. Лоза сильно побледнел и спросил одними губами:
— Ты чего?
— Ничего, — сказал Аккер, доставая из тула вторую стрелу. — Имей в виду, я целюсь тебе в ногу.
Кость постараюсь не задеть, но... Я бы на твоём месте попробовал защититься.
— Да как? — взвизгнул Лоза. — У меня и щита-то нет!
— Как «нет»? — удивился Аккер. — А корчага рядом с тобой?
Лоза взял большое глиняное блюдо и повертел в руках.
— На что оно мне?
— Ты же хотел щит. Только не подставляй плашмя, толку будет немного. А вот если под углом... — И горец отпустил тетиву.
Лоза не сумел поставить оборону. Стрела ударила его в бедро, он испуганно заорал, но через секунду сообразил, что стрела была тупая, без наконечника: рану такой не нанесёшь, разве что поставишь синяк. А жёсткосердный наставник уже доставал следующую и укладывал на тетиву.
— Если не хочешь умереть молодым, — сказал он, — всегда держи оружие так, чтобы можно было дотянуться. Если при тебе нет ни копья, ни кинжала, ни сабли — преврати в оружие то, что лежит рядом. Чашей или блюдом можно отклонить стрелу. Кувшином — ударить по голове. Воду — плеснуть в лицо: этим, конечно, не убьёшь, но мгновение выиграешь. Мгновение иногда очень дорого стоит...
Лоза получил ещё пять синяков в разных местах, прежде чем шестая стрела, скользнув по глиняной корчаге как надо, срикошетила и улетела в открытую дверь.
— Для первого раза сойдёт, — одобрил Аккер и кивнул аланскому царевичу. — Теперь твоя очередь...
— Проснулся? — приветливо сказала Асмик, вороша палочкой в красных угольках.
Сейчас её волосы были убраны под простенький тёмно-синий платок. Одна прядь непослушно выбилась наружу и свернулась в колечко, щекоча висок. Асмик дотронулась до неё свободной рукой, оставив крохотную полоску сажи на щеке. Антон, приподнявшись на локте, залюбовался этой полоской, будто неким произведением искусства. И усмехнулся про себя: э, да ты влюблён, брат...
— Почему ты так смотришь?
Он смутился.
— Просто...
Она взглянула на него с сочувствием.
— Болит?
— Откуда ты знаешь?
— Ну, у тебя лицо такое... Всклокоченное.
— Ерунда, — махнул рукой Антон и серьёзно добавил: — Зато ты у нас красивая за двоих.
— Подожди. — Она гибко встала, на минуту скрылась за перегородкой и вернулась с маленьким горшочком, перевязанным чистой тряпицей. — Это снадобье от ушибов и ран. Повернись спиной.
— Да ладно, и так зарастёт.
— Повернись, повернись.
Антон послушно приподнял рубашку, подставил спину и с замиранием сердца ощутил нежное прикосновение. Прикосновение было тёплым, почти горячим: видно, ладони девушки нагрелись у очага. Чуткие пальцы пробежали по позвонкам, как по клавишам пианино. Антон блаженно прикрыл глаза, чувствуя, как растворяется тупая ноющая боль и на смену ей приходит жар и внутренняя дрожь. Когда пальцы Асмик спустились ниже, чуть задев копчик, дрожь переросла в вибрацию. А что, подумалось сквозь раскалённый туман, времена нынче куда как патриархальные. Может, эта девочка только того и ждёт, чтобы я... А я веду себя как первоклассник.
Он резко обернулся к ней, чувствуя сердце где-то под подбородком, сильно, почти грубо схватил за плечи и опрокинул на спину. Намятые вчера бока тут же напомнили о себе... А, наплевать. Он снял с неё дурацкий платок, до отвращения похожий на монашеский, — прелестные густые волосы рассыпались и засверкали оплавленной медью в отсветах гаснущего очага...
Она смотрела на него снизу вверх... даже не передать как. Без гнева, без ожидания, без испуга. Спокойно и чуть-чуть удивлённо. И самую малость печально, будто он по неосторожности нарушил некое хрупкое равновесие. Разбил фарфоровую чашку или сшиб воробья из рогатки. И Антон вдруг покраснел. Словно кто-то взял его за макушку и с размаха окунул лицом в кипяток. Он не мог, хоть режь его, поступить так с этой девушкой.
Он сел и мучительно отвёл взгляд. И, поколебавшись, сухо проговорил:
— Я тебе не нравлюсь.
Асмик промолчала.
— Или... — Антон нахмурился. — Ты кому-то обещана? Баттхар, да? Всё дело в нём?
— Баттхар? — Она удивилась.
— Ну, вы вчера с ним возле реки... То есть, я хочу сказать, долго стояли вместе. Я не слышал, о чём вы говорили, просто подумал... — Он окончательно запутался и смолк.
Асмик надела платок, поправила сбившуюся одежду и покачала головой.
— Баттхар... Несчастный мальчик. Мне его жалко.
— Вот как?
— Он ведь сын царя. А вынужден скрываться на собственной земле, как вор.
Такой взгляд на вещи не приходил Антону в голову.
— Ничего, — буркнул он, пряча досаду. — Доставим его в Тебриз, женится он на своей дуре-царевне, два народа объединятся и выгонят Тимура взашей. (А выгонят ли, мелькнула мысль. Насколько я помню историю, он будет властвовать на Кавказе ещё три десятка лет, вплоть до своей смерти. Неужели и мне ждать так долго?)
— Ты поможешь Баттхару? — вдруг тихо спросила девушка. — Правда, поможешь?
— Куда ж я денусь, — вздохнул Антон.
Аккер умывался недалеко от хижины: по его голому торсу стекала вода. Антон бросил взгляд на тонкую ледяную корку в кожаном ведёрке и мысленно прикинул температуру «за бортом». Неслабо.
— Что сегодня будем делать? — спросил он.
— Пришёл монах из нижнего селения, — сказал горец. — Он восстанавливает молельню на перевале. Я обещал помочь ему.
Монах, вспомнил Антон. Понятно теперь, откуда мёд.
Молельня оказалась не молельней, а настоящим маленьким храмом — древние строители, жившие в когда-то существовавшей здесь несторианской колонии, возвели его на специально отрытой в склоне горы площадке. Крутой склон переходил в узкую седловину меж двух каменных вершин-великанов: Восходным Сентимом и Заходным. Оттуда, с седловины, если верить Аккеру, лет десять назад и сошёл мощный селевый поток, сметя на своём пути несколько глинобитных домиков, начисто уничтожив караванную тропу и задев этот храм, который, однако, выстоял перед стихией, хоть и изрядно пострадал: крыша обрушилась внутрь, и правый придел вместе с частью стены будто срезало гигантским ножом. Но даже сейчас, израненный, без купола и со стыдливо обнажённым нутром, храм был красив: гордый, величественный и словно невесомый, как будто неизвестный зодчий колдовским приёмом заставил кирпичную кладку парить над землёй.
Тропа поднималась мимо каменных гробниц, увенчанных тяжёлыми известняковыми плитами. Некоторые плиты были сдвинуты с места, некоторые — расколоты; то ли сель постарался, то ли грабители...
— Грабители, — нехотя подтвердил Аккер. — Однажды я поймал одного — он был так увлечён, что не услышал, как я подошёл.
— И ты его... — ахнул Антон, уже знакомый с суровым нравом горда.
Тот хмыкнул:
— Нет, не убил. Правую кисть отрезал — теперь по могилам лазать охота пропадёт.
Лоза с царевичем убежали далеко вперёд. За время путешествия они сблизились, и если и подначивали друг друга, но необидно, вполне по-дружески. Впрочем, чему удивляться: они же приблизительно одного возраста. Тинейджеры, как сказали бы в родном столетии Антона. Сам-то он чувствовал себя рядом с ними почти стариком...
Он в задумчивости побродил меж могил. Видно было, что хоронили здесь на протяжении многих веков и по обычаям разных народов. Он отнюдь не был специалистом в археологии (вот была бы тут Динара — наверняка выдала бы целую лекцию экспромтом), но, наверное, тот, кто послал его сюда, позаботился вложить в голову некоторую сумму знаний. Захоронения хевсуров и абхазцев — в виде квадратных ящиков из известняковых плит — соседствовали с картвельскими земляными курганами, по краям которых торчали обломки давно сгнивших копий, а христианские распятия — с выбитыми на камне изображениями угрюмого Барастура, осетинского владыки загробного мира... Динара как-то раз упоминала, что на втором курсе ездила на раскопки куда-то в этот район...
— Я думал, здесь деревенское кладбище, — вполголоса заметил он.
— В этой стороне — деревенское, — подтвердил Аккер, — а в той — караванщики, что погибли под обвалами или лавинами. Этот перевал коварен, каждый год забирает по десятку человек.
— И всё равно здесь ходят? — удивился Антон.
— А куда деваться? Самый короткий путь в долину... Поторопись, чужеземец, нас уже ждут.
Антон присмотрелся. Впереди, возле храма, стоял монах в тёмно-коричневой хламиде, подпоясанной кручёной верёвкой. Лицо его скрывал длинный куколь, надвинутый на самые глаза.
— Не говори с ним, — предупредил Аккер. — Он то ли немой, то ли связан обетом молчания. А может, просто не понимает нашего языка. Мы объясняемся знаками.
Глава 15 ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
Храм внутри казался больше, чем снаружи. Антон вошёл в дверной проём, едва не споткнувшись о какую-то железку, увидел лик на уцелевшей стене, возле каменного алтаря... Рука сама собой поднялась осенить себя крестом — вроде бы никогда не отличался особой набожностью, да и родители, с одинаковой мягкой иронией относившиеся и к Богу, и к партии (не говоря уж о всяческих новомодных демократических течениях), благополучно опустили этот момент воспитания. А вот поди ж ты...
Фреску писал, безусловно, истинный мастер, каких мало. Да и на фреску в обычном понимании это было не похоже: тонкая игра света и тени рождала у Антона ощущение, что перед ним — раскрытое настежь окно в какой-то зачарованный сад. Казалось, можно было почувствовать слабый ветерок из сопредельного мира. А протяни руку — и рука не встретит преграды.
Оттуда, из окна, мудро и немного печально смотрела женщина. Время и стихия изрядно попортили роспись: десяток лет сквозь обрушенный купол хлестала вода, валил снег и жарило безжалостное горное солнце. Краски выцвели, штукатурка местами обвалилась, оставляя серые выбоины, похожие на следы артобстрела... И всё равно — женщина была прекрасна.
Сентинская[23] Богоматерь, всплыло откуда-то название. Большие выразительные глаза под тонкими, полумесяцем, бровями, воздетые вверх ладони — будто подставленные ветру или солнечным лучам. Или — защищая кого-то.
— Помогай, — вывел его из задумчивости голос Аккера. И Антон стал помогать.
Сперва было тяжело — пока тело не вработалось. Каждая жилочка со вчерашнего дня ныла, и неотступно преследовала мысль об Асмик. О её глазах, глянувших в упор, будто окативших волной с ног до головы — то ли льдом, то ли крутым кипятком... О её губах, которые неожиданно стали бледными, почти белыми, словно Антон не обнял её, а ударил вдруг ножом в живот.
«Дикарка»! Он криво усмехнулся. Кем же она меня-то посчитала...
Чтобы отделаться от назойливой мысли, он, нарушив запрет, подошёл к монаху и почти грубо спросил:
— Что надо делать-то?
Кирпичи, а точнее, обтёсанные камни лежали аккуратной стопкой. На некоторых ещё сохранилась штукатурка — видно, раньше они составляли со стеной единое целое. Монах, нисколько не удивившись, показал жестом: мешай, мол, раствор. Камни здесь клали, как и сто, и пятьсот лет назад, «вживую», без связующего материала, а раствор использовали, чтобы заделать щели в углах. Антон хмуро кивнул, подвёртывая рукава и приноравливаясь к массивной кежлеге[24]. И подумав мимоходом: а монах-то, выходит, из местных, раз понимает язык. А потом ему стало не до монаха. Мешать раствор — занятие тяжёлое. Зато позволяющее отвлечься от неприятных дум.
Лоза с Баттхаром о чём-то переговаривались вполголоса — Аккер послал их собирать камни на склоне. Сель разрушил стену и разметал её по округе, но не далеко: легче было собрать старые камни вместе, чем вытёсывать заново. Антон посмотрел вслед аланскому царевичу и подумал: а парнишка-то окреп. Плечи раздались вширь, а бёдра, наоборот, вроде как стали уже, мышцы явственно обозначились на руках... Вот бы сюда этих культуристов из навороченных «качалок», валуны весом в полцентнера да крутые горные тропы — это вам не загнивающий буржуйский «Кеттлер»...
Да был ли Баттхар когда-нибудь таким уж хлюпиком? Вспомнить хотя бы, как он рыбкой, без всплеска, нырял в ледяное подземное озеро — и донырнул-таки до дна, до той самой решётки, установленной древними жрецами... А потом — совсем неплохо лез по отвесной гладкой стене. Потом — рвался драться с монгольскими конниками на переправе через реку... Нет, парень никогда не был трусом. На язык невоздержан — а кто без греха? Грузинская царевна, пожалуй, ещё и благодарна будет, что мы доставили ей не мальчика, но мужа.
Странное дело, однако, что он вроде и не особо стремится поскорее продолжить путь. Не мечтает вслух о скорой свадьбе, не тоскует в разлуке со своей прекрасноокой невестой. (А с чего я взял, что она прекрасноокая? Может, наоборот, страшна как смерть... Впрочем, если верить Алле Борисовне, короли по любви не женятся). Не таскает её фотографию в нагрудном кармане — вообще не упоминает о ней, а по идее, должен бы...
Странно также, что и Аккер не торопится: до сих пор ни монголы, ни кто-либо иной не покушались на его жилище, а ведь он убил десятерых... Что мешает Тохтамышу, не дождавшись своих нукеров, отрядить других по их следам? Самое разумное в этом случае — уйти поскорее, не рискуя ни собой, ни приёмной дочерью, ни царевичем, ради которого все и затевалось. Но горец не спешил. Каждый день бродил по горам, дрался на деревянных саблях, захаживал в нижнее селение (строго-настрого запретив, однако, своим подопечным делать то же самое), восстанавливал храм на склоне горы... Будто ждал чего-то, какого-то важного события.
Но самое странное, самое загадочное, завораживающее, возбуждающее и мучительное — это Асмик. Девушка из давно исчезнувшего племени аланов, одинаково свободно управляющаяся и с поварёшкой, и с боевым луком. Её светлые глаза и шелковистые волосы, мечта всех режиссёров, снимающих рекламу шампуней и бальзамов-ополаскивателей, её простой меховой плащ в аккуратных заплатках и дорогое ожерелье на стройной шее — очень дорогое, даже Антон, профан в этой области, сразу обратил внимание... Её неожиданные слова о царевиче («бедный мальчик...») и способность свободно путешествовать меж сопредельных миров, будто из комнаты в комнату в собственной квартире...
«Уж не по её ли воле, — обожгла вдруг шальная мысль, — меня забросило в чужое столетие? Нет, не хочется так думать. Не получается представить Асмик в опасной роли вершителя судеб...»
Антон чуть не сломал ручку у лопаты. И обнаружил вдруг, что злится по-настоящему. Все они здесь — все до единого — играют какие-то свои роли. Только моя роль мне непонятна, словно написана на другом языке. Или её выдрали с мясом из другой пьесы...
Подошёл Аккер, присел на корточки, придирчиво оглядел Антонову работу и кивнул:
— Тащи внутрь.
Вот так, подумалось Антону. Не «спасибо», не «молодец» — тащи, мол, и все.
Монах был в молельне. Подвернув рукава рясы, он примерял на место подходящий по размеру кирпич. На Антона он даже не взглянул. Того так и подмывало подкрасться сзади и стянуть капюшон с головы. Да ну, крик поднимется... Он шагнул дальше, к алтарю, мимо массивного каменного синтона. Через разрушенный купол светило солнце, лаская лучами лик Богоматери. Антон поднял голову — и слегка удивился... Ему показалось, что он узнал эту женщину.
— Аккер, — тихо позвал он. — Скажи, кто расписывал этот храм?
Горец немного подумал.
— Говорят, будто лет триста назад сюда через Клухорский перевал пришли византийские монахи-миссионеры. Они построили церковь и принялись обращать окрестные племена в христианскую веру. Горцы не захотели поклоняться чужому богу. И когда аланский царь Аббас возложил на себя крест, его народ восстал. Миссионеров перебили, но храм уцелел. И простоял ещё сто лет, пока монахи, посланные царём ромеев, снова не пришли. Наверное, один из них и был тем мастером. Жаль, имени его не сохранилось.
— А женщина... Ну, с которой он писал Богородицу — кто она была?
Аккер махнул рукой.
— Там, за перевалом, когда-то стоял большой город. Им правила царица Регенда. Византийский живописец, приглашённый в её дворец, восхитился её красотой и перенёс на свою фреску. Правда, это только предание, но — кто знает. Она погибла через несколько лет после постройки храма. Монголы осадили город, взяли его штурмом, перебили жителей, а Регенду повесили на воротах. — Аккер помолчал. — Я слышал, дело не обошлось без предательства, но подробностей не знаю. Да, наверное, и никто не знает.
— Неужели никто не уцелел? — спросил потрясённый Антон.
— Нет, — неожиданно резко ответил горец. Антону показалось, будто он пожалел, что разоткровенничался с чужеземцем. Однако любопытство и — ощущение близкой разгадки, почти озарения — взяло верх, и Антон крикнул в удаляющуюся спину:
— А когда это произошло?
— Десять лет назад, — услышал он ответ. — Оставил бы ты это, чужеземец. Тебе никто не говорил, что прошлое ворошить опасно?
Антону приснился большой город. По всем признакам — тот самый, о котором упоминал Аккер. Высокие стены с башнями, посады купцов и ремесленников, харчевни и лавки со множеством товаров, рыночная площадь, заполненная пёстрой толпой, и широкая мощёная улица, ведущая к замку правительницы. И он сам, Антон Изварин, в длинной одежде странника и художника. За плечом, в холщовой сумке, вместе с нехитрой едой на дорогу — кисти, краски, куски холста и кусочки древесного угля для наброска эскизов.
Ноги в стоптанных башмаках ощутимо гудели от долгой ходьбы — ну, да к ходьбе ему было не привыкать. Новые лица и новые впечатления манили вперёд, сердце стучало учащённо, в предвкушении чего-то важного — надо думать, встречи с царицей. Говорят, она очень красива, эта аланская царица, а слава о её мудрости достигает побережий обеих великих морей на Западе и Востоке...
Чудно, но город был ему знаком. То есть, согласно сюжету, он попал сюда впервые, но эта площадь, и эта оружейная лавка (Антон заметил перед ней двух покупателей: чернобородого смуглого мужчину, одетого, как для длительного путешествия, и мальчика — босого, но несущего через плечо связанные бечёвкой хорошие сапоги), и широкая дорога, упирающаяся в подъёмный мост пред воротами замка, — всё это Антон легко узнавал. Потом его осенило: рукопись. Он читал об этом городе в рукописи, той, что оказалась в рюкзаке убитого «эдельвейса». Даже имя автора всплыло в памяти: Рашид ад-Эддин, летописец, прорицатель и бывший визирь при дворце какого-то там то ли шаха, то ли эмира.
Бородатый путешественник купил мальчику тифлисский кинжал, а себе — золотой браслет с застёжкой в виде коня. Потом оба направились к корчме с серебряной подковой на вывеске. За ними по пятам брёл белый ослик с трогательной умной мордочкой. Ослик был старый: шёрстка местами свалялась, а местами вовсе вылезла, оставив тёмно-розовые проплешины, и шёл он медленно, осторожно щупая мостовую стёртыми копытами.
Антон бездумно шагал вслед за ними, вертел головой по сторонам, кого-то случайно толкал, кто-то толкал его. Пару раз у него чуть не срезали сумку с плеча — как дома, восхитился он, где-нибудь в районе Казанского вокзала...
Ноги привели его к корчме — той, с подковой на вывеске. Судя по антуражу, хозяин её был выходцем из Средней Азии. Прямо на полу, на расстеленной скатерти, стояли блюда с пловом, мелко нарубленным мясом и сладостями, здесь ели и пили, смеялись, беседовали и ругались (однако вполне пристойно, без рукоприкладства), совершали и расторгали сделки. Антона никто не заметил: то ли все были слишком заняты собой, то ли он и в самом деле путешествовал невидимкой — во сне и не такое бывает. Его недавний знакомец, чернобородый мужчина, о чём-то разговаривал с хозяином. Тот все подливал гостю зелёного чая и подкладывал яств из чеканных блюд. Картина выглядела вполне мирно, почти по-домашнему, но Антону почему-то стало не по себе. Словно по соседству поставили клетку с гремучей змеёй: знаешь, что из клетки ей не сбежать, а всё равно...
Главного он не понял: откуда исходит угроза. И для кого. Мне-то бояться нечего, рассудил он, дальше фронта всё равно не пошлют. А потом вдруг увидел сам. Только был он уже в другом месте: в саду, где чернели стволы старых яблонь и густо летел на землю белый цвет. Возле ажурной беседки в глубине сада стояла женщина. Длинные волосы, уложенные в замысловатую причёску, скрывали её лицо, но вот она повернулась, в светло-карих глазах вспыхнули искорки, и она в упор посмотрела на Антона. Да, это точно была она — женщина с фрески в полуразрушенном храме на склоне горы. Брови её удивлённо приподнялись, и она спросила непонятное:
— Баттхар?
Он неуверенно покачал головой.
— Нет, меня зовут Антон.
— Правда? — Она казалась разочарованной. — А я была уверена... Ты очень похож на своего отца, царя Исавара. Как ты вошёл сюда, минуя стражу? Хотя, что я спрашиваю...
— Послушайте, — горячо заговорил Антон. — Вам грозит опасность. Не знаю, какая именно, я просто чувствую...
— Нам? — она обернулась. — Почему ты так говоришь, будто меня здесь много?
Прокол, с неудовольствием подумал Антон. И нешуточный...
— Мне кажется, твой брат хочет убить тебя, — твёрдо сказал он. — Думаю, это он нанял убийцу, который напал на тебя во время пира. Ведь никто не знает, действительно ли он спас купца Ханафи от разбойников — всё это могло быть подстроено...
— Я не боюсь, — с улыбкой произнесла Регенда. — Господь послал мне человека, рядом с которым я чувствую себя защищённой. Я верю, он не предаст меня, что бы ни случилось.
Антон открыл глаза. Было темно, и стояла тишина, лишь едва потрескивал очаг. Он автоматически бросил взгляд на запястье — чёрт, часов нет, таможенный контроль изъял при досмотре... Ясно одно: ночь. Время тайных страстей и неожиданных разоблачений.
Разговаривали снаружи. Тихо, почти шёпотом, но Антон услышал.
— На нас напали, как только мы выкопали его из-под лавины. Он был одет не по-нашему и не знал самых простых вещей...
— Ты подозреваешь, что он монгольский разведчик? Но он сражался против них на переправе и не дал схватить нас, когда мы выбирались из капища. Как ты это объяснишь?
Сердитый вздох.
— Почём я знаю. Может быть, это лишь хитрый план. И важен им вовсе не ты — они просто хотят иметь шпиона в замке грузинского царя.
В голосе Баттхара послышалась ревность.
— Вот как? А я, значит, только приманка, да?
Вот шкура, подумал Антон, лёжа под одеялом.
А я-то его, козла, полдороги на себе тащил...
— Почему ты не сказал Аккеру о своих подозрениях? Он бы наверняка что-нибудь придумал.
И тут притихший Антон услыхал неожиданное:
— А ты уверен, что Аккер — это Аккер?
— То есть? — озадаченно спросил царевич.
— А ты послушай. Когда возле реки мы впервые увидели его, то приняли за Заура. Антон даже проговорился по ошибке.
— Немудрено. Они братья.
— Но Заур никогда не упоминал, что они близнецы!
Повисла тишина — нехорошая, вязкая, пропитанная взаимным недоверием, точно змеиным ядом. После паузы, в течение которой Антон извёлся, Баттхар медленно проговорил:
— А возможно, ты и прав. О гибели Заура нам известно только со слов Антона. Он заглянул в пролом на вершине горы и увидел... Но что именно он увидел? Что, если Заур жив? У него конь, он выбрался из пещеры и прискакал сюда раньше нас. Переоделся, приклеил бороду, сделал шрам... Кстати, ты заметил, что Аккер бережёт руку?
«Верно, — вдруг вспомнил Антон, — я тоже обратил внимание, только не осознал... Ай да царевич, ай да сукин сын».
— Может быть, Аккер (или Заур — кто их разберёт?!) служит кому-то ещё? — проговорил Баттхар, ни к кому вроде бы не обращаясь. — Не Тохтамышу, не Хромому Тимуру и не моему отцу?
Лоза отчётливо скрипнул зубами.
— Мы с Зауром жили в одном селении. Жив он или нет — он не предатель, запомни.
— Я и не говорю, что он предатель. Просто... Странно всё это. Антон, к примеру, считает меня самозванцем. Мы с тобой считаем, что Аккер и Заур — один и тот же человек. Так и с ума сойти недолго.
— Знаешь, — тихо сказал Лоза (Антон весь обратился в слух и, кажется, вовсе перестал дышать). — Если уж кого подозревать — так это его, чужеземца.
— А Асмик?
— Асмик — девчонка, что она понимает.
— Вот ещё, — живо возразил царевич. — Нет уж, подозревать — так всех. По-моему, они действуют заодно. Они что-то замышляют.
— Что?
Баттхар вздохнул.
— Если бы я знал.
Аккер не зря называл Чёрного Тамро самым свирепым разбойником в округе. И едва ли не самым удачливым — ибо для того, чтобы полтора десятка лет безнаказанно грабить проезжих купцов и обкладывать данью селения, которые побогаче, мало быть свирепым: в горах крутым норовом редко кого удивишь. Тут нужно большее: хитрость и изворотливость, умение, прикинувшись другом, улучить мо мент и ударить в спину, держать в повиновении строптивых и приближать к себе самых строптивых, чтобы, приблизив их на расстояние вытянутой руки, одним махом перерезать глотку... Да мало ли что ещё нужно, чтобы при своей опасной профессии дожить до пятидесяти. Редкий случай.
Бывало, удача поворачивалась к нему спиной. Его окружали, как застигнутого в овраге волка, прижимали спиной к осклизлому склону и, смеясь, спорили, чья стрела первой продырявит его шкуру. Его нору обкладывали хворостом и поджигали, готовя копья и пьянея от предвкушения запаха палёной шерсти — он и сам поступал так не раз, он-то знал, что эти запахи — крови и палёной шерсти — возбуждают так, как не способна возбудить ни одна женщина...
Но он всегда уходил. Зубами и когтями прорывал новый лаз, прикидывался мёртвым и без зазрения совести продавал соплеменников — лишь бы на миг отвести погоню от себя самого. Его пытались убить много раз. Столько, что он и считать перестал.
У него никогда не было отца. Вернее, отец-то был, но мать ничего не рассказывала о нём. Она всегда была одна, сама по себе.
— Одному труднее выжить, — поучала она маленького сына, — зато никто не предаст. А предают в конце концов все.
— И ты? — наивно спросил он, когда ему было пять или шесть лет. И съёжился, ожидая подзатыльника. Но мать спокойно, не прерывая хозяйственных хлопот, ответила:
— И я. Так что если хочешь дожить до старости, не доверяй никому. Это первое правило, которое тебе надо усвоить.
Она была из абхазцев: смуглая, широкоскулая и очень сильная — такой она осталась в памяти Тамро. Сам он рос болезненным и слабым и часто не мог подняться с постели из-за назойливого кашля. Однажды кто-то из сверстников со смехом сказал ему, что его мать была рабыней — поэтому, дескать, Тамро и не знает своего отца. И все остальные, кто был рядом, посмеялись вслед. Тамро промолчал. Он смекнул, что лезть на обидчиков с кулаками — только добавлять себе позора. Они были сильнее и старше. И их было много. Он проглотил оскорбление, и все приняли это как должное. И мальчик обрадовался: он понял, случись что — его никто не заподозрит. Но всё равно он ждал несколько месяцев...
Как-то ночью, пока все спали, он потихоньку отыскал сапоги одного из своих обидчиков и сунул туда горную гадюку (как ему удалось поймать её — одному Богу известно). Наутро обидчик натянул сапог — и умер. Вокруг погоревали, но такое случалось и раньше. Особенно в то лето, когда гадюки, говорят, расплодились вдвое больше обычного. Наверное, только мать Тамро догадывалась о чём-то... Однако допытываться не стала. Прошёл ещё год — и в их ауле погиб ещё один юноша: вроде бы переходил вброд ручей, поскользнулся и ударился головой о камень. Никто не видел, как это произошло и был ли тот парень один. И снова мать Тамро ни о чём не спросила сына.
Только ещё через несколько лет тот узнал, что она действительно была рабыней. Узколицый, прокалённый солнцем сотник Аглай-бек уволок её на аркане из разорённого селения, забавлялся с ней несколько ночей под войлочной крышей походной юрты, а когда забава прискучила — избил до полусмерти и бросил умирать в выгребную яму. Тамро родился через девять месяцев после того случая.
Он рос болезненно-слабым. Кроме того, его лицо было изуродовано огромным, во всю щёку, тёмно-фиолетовым пятном — с детства ему доставалось из-за этого пятна. Много раз, прибегая домой в слезах, он с яростью, до крови, царапал лицо ногтями. Он ненавидел пятно даже больше, чем своих сверстников, которые издевались над ним.
Потом он перестал его ненавидеть. И даже начал гордиться им — когда через двадцать лет, будучи предводителем бандитской шайки, получил прозвище Чёрный. Чёрный Тамро — уже не звучало обидно. Это имя наводило ужас.
Только однажды кто-то из приближённых, будучи навеселе, посмеялся над своим главарём. «Наверное, тебе приходится много платить девушкам, которые ублажают тебя в постели, — громко сказал он, и все услышали. — Иначе они испугались бы твоей отметины и удрали — только лови...»
Тамро посмеялся вместе с шутником и дружески похлопал его по плечу. Не будь тот столь молод и наивен — он бы знал, что означает это похлопывание...
...В тот день Тамро чуть не погиб. Воевода Осман из Сенгенской крепости со своей дружиной налетел неожиданно, словно вихрь, и после короткого боя обратил бандитов в бегство. Тамро, по обыкновению, отступил: он всегда отступал, когда чувствовал, что противник превосходит силой. Он благополучно ушёл и на этот раз, и даже чуть не захватил в плен двух Османовых воинов: те, увлёкшись погоней, слишком далеко оторвались от основного отряда. Одного удалось ранить, но второй вынес его на себе, и оба скрылись в маленькой пещере на каменном уступе. Когда бандиты ворвались следом, они обнаружили пещеру пустой. Беглецы скрылись узким коридором, ведущим в толщу горы. Коридор был явно рукотворным. «Я слышал, будто этот лаз ведёт к языческому капищу, — шепнул Тамро один из его людей — тот самый, что когда-то посмеялся над его лицом. — Теперь они сдохнут, потому что из капища нет другого выхода».
— Много ли мне проку от двух покойников, — хмыкнул Тамро. — Вот если бы захватить их в плен — можно будет потребовать с Османа выкуп. Обещаю: доставишь мне этих ублюдков живыми — половина золота твоя.
У разбойника разгорелись глаза. Тамро посмотрел на него с некоторой грустью и подумал, что расправиться с врагом, который жаден и глуп — подвиг невеликий. Это было легко, почти скучно.
Бандит выхватил саблю из ножен и огромными скачками понёсся по коридору. Кто-то бросился следом, но Тамро удержал: нечего из-за одного идиота погибать другим. Прошло несколько секунд — и впереди раздался грохот. Видимо, «шутник» наступил на что-то в полу, и сработала скрытая ловушка. Говорят, древние жрецы были мастерами на такие ловушки.
— Кто-нибудь знает тех, кто укрылся в капище? — спросил Тамро у своих людей.
— Кажется, один жил раньше в соседнем ауле, — ответили ему. — Может быть, у него даже есть семья...
Главарь в раздумье почесал обезображенную щёку.
— Семья — это хорошо, — медленно проговорил он.
...Женщина испустила дух, после того как они изнасиловали её в очередь. Младшую девочку зарубили на месте, а старшая сама ринулась в пылающий дом и сгорела — её не смогли достать. Жителей в селении было всего ничего, и почти сплошь старики и старухи. Их поставили на колени, тыкая в спину саблями, и Тамро, сидя верхом на любимом жеребце вороной масти, сказал им:
— Когда вернутся ваши мужчины — те, что отсиживаются в толще горы, поведайте им о том, что здесь произошло. Да смотрите, чтобы ваш рассказ был забавным, а то слушатели заскучают.
Ожёг коня плетью и ускакал в горы. А за ним и все его люди. Он был удачлив, Чёрный Тамро. Хотя бы потому, что был жив, и голову его покрывала седина. Только щека осталась тёмно-фиолетовой, как и раньше.
Утро выдалось ненастным. Северный ветер, поднатужившись и перелетев через Большой Хребет, принёс с собой холод и дождь. Снежные шапки на дальних вершинах потемнели и набрякли, местами слившись по цвету с низкими тучами, и трава в узких долинах смиренно легла под хлеставшими её ледяными брызгами... Беда неосмотрительному путнику, кого такая непогода застала в дороге, вдалеке от жилья. Ещё большая беда — если он оказался в горах или на перевале: есть риск замёрзнуть или сломать ноги коню, а себе — шею.
Чёрный Тамро терпеть не мог дождь. Даже если лежал под крышей, под тёплым меховым одеялом, по соседству с раскалённой жаровней — всё равно горло начинал надрывать кашель и косточки все до одной ныли, будто побывав в медвежьих объятиях. Не помогали ни вино, ни настои трав, которыми его потчевала старуха Зидда, бывшая когда-то подругой его матери... Единственной, пожалуй, подругой — все остальные женщины в их селении сторонились её, будто она была злой колдуньей, посылавшей болезни коровам и овцам. Его мать была таким же изгоем, как и он сам, — и это их объединяло.
Сейчас его настроение было и подавно хуже некуда, потому что он не лежал под одеялом и не грел кости у очага, а трясся в седле в полудне пути от своего становища. Сзади и по бокам ехали разбойники из его шайки, а впереди — двое ближайших телохранителей. Они были хорошими бойцами, эти двое, и готовы были разорвать любого, кто посягнёт на жизнь их хозяина. Только им он в какой-то степени доверял. Во всяком случае, чуть больше, чем остальным.
Холод и дождь пробирали нутро. Тамро съёжился под дорожным плащом и, казалось, дремал, однако тут же натянул повод, когда один из телохранителей вдруг остановил коня и предостерегающе поднял руку.
Впереди, на скользкой обочине, лежал человек.
Он лежал ничком, посреди глубокой грязной лужи, издалека напоминая камень, вывороченный из склона потоком воды, или груду брошенного старого тряпья. Он казался мёртвым — по крайней мере, он не пошевелился, когда кто-то ткнул его копьём. Один из людей Тамро соскочил с коня и осторожно приблизился.
— Это монгол, — через минуту сообщил он. — Броня монгольская, и пустые ножны от сабли. Его ранило стрелой в бок, но он её вытащил, прежде чем сдохнуть.
— А где же те, с кем он дрался? — спросил Тамро.
— Нигде не видно... Может, его оттащили и бросили здесь?
Тамро поколебался и слез с седла. На мёртвого монгола следовало взглянуть самому. Жаль, рядом не было других трупов — нечем было поживиться, но хороший монгольский панцирь, и кинжал на поясе, и дорогие сапоги... А может, и кошель за пазухой, и золотая пайцза, полученная из рук кагана... Словом, взглянуть не мешало.
Тамро наклонился над убитым и перевернул его на спину. И тут же почувствовал холодную сталь возле своего горла. Остриё кинжала мягко коснулось его кадыка, мертвец внезапно ожил и гортанно произнёс:
— Вели своим шакалам отойти. И пусть держат руки на виду, подальше от оружия.
Стараясь не шевелить головой, Тамро махнул рукой, приказывая свите отодвинуться. И сдавленно спросил:
— Что тебе надо?
— Для начала — твоего коня, — сказал Алак-нойон, кривясь от боли в пробитом боку. — Я ранен, мне нужна помощь. И ещё: постарайся сделать так, чтобы мне не пришлось тебя убивать.
Эту нору никто не смог бы найти — даже пройдя в двух шагах от неё. Подход к ней закрывала известняковая скала, изрядно разрушенная ветрами и поросшая буровато-зелёным лишайником. Только стоя в определённом месте и в определённое время, когда лучи солнца падали на скалу под нужным углом, можно было заметить узкую щель меж камней. Ни дать ни взять — пещера из сказки об Али-Бабе. Жаль, Чёрный Тамро никогда не читал сказок — он бы оценил сравнение...
Дальше за скалой проход расширялся и выводил в ущелье, по дну которого пролегала тропа. Та приводила к убежищу бандитов — длинному узкому дому, похожему на корабельный сарай. Сейчас в одной, большей его половине пировали разбойники, сидя за длинным дощатым столом. В меньшей и дальней от дверей части прямо на полу перед очагом сидел Тамро, пытался согреть озябшие ладони и недобро поглядывал на раненого, который занял его постель. Как тот выжил — было для Тамро загадкой. По всем признакам он провёл в горах в одиночку много дней — сам вынул стрелу, лечился какими-то травами, чем-то питался и как-то поддерживал силы... Временами монгол впадал в забытье, но стоило Тамро подойти — тут же открывал глаза и стискивал рукоять кинжала, с которым не расставался. Живуч, собака, подумал Тамро и усмехнулся уголком рта.
— Думаешь, я для того тащил тебя сюда, чтобы прикончить? Я ещё надеюсь получить от хана выкуп за твою жизнь.
— У солнцеподобного кагана много воинов,— сказал Алак-нойон. — И если ему что-то нужно — он не торгуется. Он берёт силой.
— Тогда что же ты хочешь от меня?
Узкие, словно щёлочки, глаза монгола вспыхнули и погасли.
— У меня есть враг. Я с удовольствием перерезал бы ему глотку, но мой хан желает видеть его живым у себя в ставке. Я получил повеление схватить его и почти схватил, но мои воины погибли, а самого меня ранило стрелой. Тот, кто это сделал, скрывается сейчас где-то высоко в горах.
Интересно, подумал Тамро и спросил:
— И ты предлагаешь мне рыскать по...
— Тебе не придётся, — перебил его Алак-нойон. — Внизу, в долине, в трёх конных переходах отсюда, есть селение на берегу реки. Напади на него. И тот, кто мне нужен, придёт сам.
Тамро оглянулся на дверь — не подслушивает ли кто. Но нет, оттуда доносился лишь шум, который обычно означает большую попойку: крики, хохот и внятное бульканье жидкости в бочонках и кружках. Кто-то наверняка уже лез к кому-то со слюнявыми поцелуями, клянясь в вечной любви, кто-то втихую совал другу нож под ребро, кто-то храпел, уткнувшись мордой в объедки, — нормальная обстановка, привычная, как дождь или радуга.
— А мне-то что за корысть от всего этого? — спросил он, глядя на раненого.
— Если я выполню приказ, — услышал он ответ, — великий хан наградит меня золотом, а я, так и быть, поделюсь с тобой.
— И много ли золота я получу?
Алак-нойон усмехнулся.
— Так много, что сможешь забыть о своём собачьем ремесле до конца дней.
Моё ремесло ничем не хуже твоего, зло подумал Тамро и спросил вслух:
— Неужели ты пойдёшь со мной? Ты и голову с подушки поднять не сумеешь.
— Сумею, — невозмутимо возразил раненый.
И встал с постели. Не так быстро, но встал. И даже не покачнулся. Обнажённый по пояс, он походил теперь на скелет, обтянутый синевато-белой кожей. Длинное лицо ещё больше вытянулось, щёки впали, оставив лишь тёмные полосы под глазами. Но всё равно — это был зверь. Матёрый волк, который остаётся волком даже с окровавленной лапой в капкане. И Чёрный Тамро с неудовольствием подумал: этот и вправду пойдёт, куда ему будет нужно. А случись нужда — доберётся до его, Тамро, горла, и никто не сумеет остановить.
— Ладно, — буркнул он, пряча глаза. — Будь пока здесь, а я пошлю своих людей на разведку.
Глава 16 ВОЗВРАЩЁННЫЕ ДОЛГИ
Весть о том, что враги вломились в селение, принесла девочка. Маленькая, лет шести-семи, худенькая и испачканная в грязи с ног до головы — видно, не раз и не два спотыкалась, пока бежала. Кто-то из сельчан торопливо показал ей дорогу и подтолкнул в спину: поспешай, мол, а затем, перехватив топор поудобнее, поднялся навстречу бандитам.
Аккер как раз обтёсывал очередной камень, чтобы уложить в стену молельни, когда послышался частый топоток и отчаянный рёв. А уж потом, через несколько секунд, показалась бегущая из последних сил девочка. На ней было домотканое платьице с изорванным подолом и донельзя грязные опорки на ногах. Левая коленка была разбита в кровь, но вряд ли девочка сейчас чувствовала боль. Она слегка промахнулась в направлении и выбежала на откос, справа от молельни. Откос был крутой. Девочка увидела внизу людей, закричала и замахала руками. Ей следовало бы обойти крутизну более удобной тропой, но она посчитала это тратой времени. Или уже не могла соображать, поэтому попросту ухнула вниз с разбега. Она наверняка расшиблась бы, если бы Аккер не подхватил.
Все выпрямились и бросили работу. Антон, Лоза, Баттхар и монах, так и не показавший своего лида, — никто не произнёс ни слова, только Аккер, присев и взяв ребёнка за плечи, коротко спросил:
— Что?
Потребовалось время, чтобы разобрать слова среди плача и связать их воедино. Девочку колотило от пережитого ужаса: видимо, она успела побывать в лапах бандитов, вырвавшись каким-то чудом.
— Кто их главарь? — спросил Аккер. — Ты видела главаря?
Девочка сглотнула слёзы и кивнула.
— Как он выглядел?
— Бледный... Кашляет всё время. И щека страшная. Вот такая. — Она растопырила ладошку и прижала к лицу. — Они мою маму саблей... И сестрёнку...
Монах, отвернувшись, глухо застонал. Антон поднял голову — и встретился взглядом с Аккером. Лучше было бы ему не видеть этих глаз. Они были чёрные и бездонные, как два колодца в степи. Как две чёрные дыры, миллиарды лет подряд втягивающие в себя космическое вещество — планеты, звёзды и целые галактики... Давний кошмар снова возвращался из прошлой жизни. Антон знал, как выглядит этот кошмар. Да нет, одёрнул он себя, откуда мне... Только понаслышке, но и этого хватило. Молодая красивая жена, любимая до беспамятства, единственная на всей земле, — изуродованное мёртвое лицо, которое нельзя было даже опознать. Младшая дочь, насквозь проткнутая копьём. И старшая, бросившаяся в огонь...
Девочка что-то лопотала, дрожа всем телом. Аккер поднял её, на миг прижал к себе, успокаивая... И вдруг сказал Антону:
— Держи. Отведёшь к нам в хижину и останешься там. За девочку отвечаешь головой.
Антон принял её (та доверчиво обняла его шею ручонками и затихла) и растерянно спросил:
— Как «останешься»? А вы?
Но проклятый горец уже не слушал. Он огромными скачками нёсся вниз по склону, без тропы, и остальные едва поспевали за ним. На бегу он оглянулся и рявкнул:
— Ни шагу из дома, чужеземец! Ни шагу, понял?!
Антон заметался. Первым его порывом было бежать следом, но — девочка на руках... У него защипало в носу от обиды. Предстояла нешуточная драка, и Аккер решил не подвергать Антона опасности. Да почему меня-то, в раздражении подумал он, почему он не отправил назад царевича — ведь это было бы логичнее всего...
До хижины, по его подсчётам, было около километра. Семь-восемь минут бега — если по ровной дороге. Однако что такое ровная дорога, тут, похоже, и не догадывались. Ничего, с яростью подумал Антон. Я успею.
Девочка на руках сидела тихо как мышка: видно, догадывалась, что сейчас является помехой. Я успею, стучало в голове. Он летел не чуя ног и изо всех сил сдерживал себя: ему предстоял ещё обратный путь до селения. Два шага — вдох, три — выдох, два — вдох, три — выдох...
Последнюю горку он преодолел в лоб, не обходя крутизны, и с облегчением увидел хижину внизу, где сероватый язык ледника обрывался в длинное высохшее русло. Он остановился и поставил девочку на ноги. Присел на корточки и проникновенно сказал:
— Видишь тот домик с плоской крышей? Сейчас ты пойдёшь туда одна. Там живёт... гм... тётя Асмик. Не бойся её, она добрая. Она накормит тебя и расскажет сказку. Слушайся её во всём, поняла?
— Да, добрый господин, — пискнула девочка. — А как же ты?
Антон нетерпеливо махнул рукой в обратном направлении.
— Доброму господину нужно туда... Он должен помочь другим добрым господам. Ну, иди скорее!
Обратный путь он преодолел в мгновение ока. Только подумал как о чём-то неважном, что, собственно, безоружен: сабля Сандро осталась в хижине. Учил тебя Аккер, бестолкового: оружие всегда должно лежать под рукой, чтобы можно было схватить в любой момент... Ладно, разберёмся на месте. Мелькнул знакомый распадок и недостроенная молельня. (Почудилось, будто Богоматерь пристально посмотрела в спину — то ли с укором, то ли благословляя...) Внизу открылась прибрежная долина и несколько глинобитных хижин. Над двумя или тремя уже клубился чёрный дым, и какие-то люди верхом на лошадях по-хозяйски разъезжали вокруг. Другие, пешие, суетливо сновали туда-сюда, таская награбленное.
Аккер взорвал это благолепие, точно проткнувший атмосферу метеорит. Неразлучная секира размытой серебристой полосой взлетела и опустилась — и душа первого бандита, на беду свою оказавшегося поблизости, мигом ухнула в преисподнюю. Монах, не сбавляя хода, экономным взмахом сабли уложил второго, заполошно рванувшегося из разорённой хижины. Кто-то пустил в него стрелу — монах очень профессионально перекатился, уйдя от выстрела, заплёл ошалевшему стрелку ноги и одним движением полоснул клинком по незащищённой шее. Антон мимолётно восхитился: ангельское смирение, однако, демонстрирует добрый христианин... Интересно, в каком спецназе он прошёл подготовочку?
Местные жители, те, кто уцелел, увидели поддержку и воспряли духом. Бойцы из них, правда, были никудышные, но мужества и стойкости им было не занимать. Где-то рядом с упоением рубились Лоза и Баттхар, встав спиной к спине. Баттхар был уже ранен: вышитая аланская рубашка с одного бока висела клоком и набухала кровью. У Антона защемило сердце. Ладно, Аккер, зло подумал он, потом поговорим. И, клянусь, ты мне объяснишь...
Разбойник в чёрной облезлой шапке и меховой безрукавке вылетел из-за угла дома, заорал что-то неразборчивое и взмахнул саблей, целясь Антону в голову. Благодарное за науку тело сделало всё само: придержало атакующую кисть, мягко упало на спину и выставило перед собой колено. Бандит, не удержав равновесия, перелетел рыбкой, пропахав носом борозду в земле, и Антон, не вставая, полоснул отобранным клинком по шее, справа налево. И даже не отвернулся, когда чужая кровь взметнулась бурым фонтаном, обрызгав лицо. Наверное, следовало бы ужаснуться: ведь только сейчас, своими руками, убил человека (пусть неизвестно какого по счёту, пусть бандита, но — человека, рождённого матерью...). Однако душа дисциплинированно молчала. Только шевельнулось нечто похожее на удовлетворение от хорошо проделанной работы.
Он поискал глазами Аккера. Тот широко шагал вдоль кривой улочки меж домов и с методичностью автомата на конвейере взмахивал порыжевшей секирой. На него налетали втроём-вчетвером и тут же с воем отскакивали. Или оставались лежать неподвижно, медленно стекленея глазами. Антон мимолётно посочувствовал бандитам: уж лучше бы сразу бежали к реке и кидались в воду. Может, кто-нибудь и спасся бы, хоть один из десятка...
В центре селения ещё шёл бой, а на окраине таскали мешки с награбленным и ругались из-за добычи. Какой-то человек — болезненно бледный, со страшным родимым пятном во всю щёку, пытался отдавать команды, но его не слушали.
Чужой клинок свистнул над ухом. Антон отшатнулся, вскидывая саблю, толкнул в грудь свободной рукой — противник спиной вперёд влетел в дверь хижины, через порог, и там затих. Антон шагнул следом. И едва не споткнулся о мёртвую женщину.
При жизни она была настоящей красавицей. Уголком сознания Антон заметил тонкие черты лица, нос с едва заметной горбинкой и длинные волосы — чёрные, с сизым отливом, словно воронье крыло. Только широкая резаная рана через все горло портила дело — будто жутковатая усмешка... И изодранная одежда, которую кто-то явно пытался сорвать, да, видно, времени не хватило. Он с усилием оторвал взгляд от женщины и посмотрел на бандита — тот сидел возле дальней стены и старался сделать вид, что его тут нет вовсе.
— Это не я, клянусь, — прошептал разбойник. — Я только держал...
Раскалённый кровавый туман рогатым копьём ткнул в макушку. Дикий, звериный крик вырвался из глотки — яростный и обнажённый, словно человек, с которого содрали кожу...
— КИАЙ!!!
Проведи Антон подобный удар на татами — быть бы ему чемпионом мира. А скорее — пожизненно дисквалифицированным, с последующим осуждением по одной из строгих статей УК, и самый крутой адвокат не отмазал бы. Бандит умер сразу, не мучаясь. И наверное, не осознав, что умер, — по крайней мере это было милосерднее, чем перерезанное горло той женщины. Теперь оно будет сниться мне по ночам, подумал Антон. И тихо улыбаться, заставляя вскакивать в холодном поту...
В хижину вошёл Аккер, держа в руке секиру. На рукаве чернела запёкшаяся кровь — то ли своя, то ли чужая.
— Я где велел тебе находиться? — рявкнул он.
— А иди ты, — устало огрызнулся Антон. — Баттхара ты и не подумал отослать. А если бы его убили?
Горец, против ожидания, ничего не ответил. Пригнув голову, вошёл через порог, присел над мёртвой и прикрыл ладонью её глаза. Потом перевёл взгляд на труп разбойника и спросил:
— Чем это ты его?
— Рукой, — нехотя отозвался Антон. — Так уж получилось.
Аккер покачал головой.
— Надо же. Удивительный ты человек, чужеземец.
Бой ещё тёк. Разбойники были растеряны: они, хоть и не чуждые драке, привыкли к неумелому и малочисленному сопротивлению. А тут коса неожиданно нашла на камень. Точнее — на гранитную скалу. Большинство, похватав награбленное, спешили к лошадям — убраться восвояси. Аккер поискал глазами их главаря, всмотрелся пристальнее, будто не веря себе, и с радостным удивлением сказал:
— Тамро!
И рассмеялся — словно там, на каменистом берегу, стоял его старый друг, с которым когда-то, много лет назад, с упоением резался в морской бой на уроке геометрии. А потом пошёл к Тамро — через всё селение, нетерпеливо расшвыривая тех, кто оказался на дороге. То же самое вдруг сделал и монах, вращавший мечом-кончаром не хуже послушника из монастыря Шаолинь.
Они оба мощно и ходко двигались параллельными курсами к одной точке, будто два ледокола. И не находилось ещё силы, способной не то чтобы остановить их, а хотя бы сбить с шага. Интересно, мелькнула у Антона мысль, кто придёт раньше? Шансы у обоих примерно равны — впору было делать ставки, как на тотализаторе...
Но тут Аккер, безбожно нарушив правила соревнования, крикнул, срывая горло:
— Не трожь! Он мой!!!
И, странное дело, монах подчинился, хоть и с видимой неохотой.
Чёрный Тамро медленно зеленел от злости. Его люди, наплевав на дисциплину, торопились набить мешки абы чем, а чёртов монгол, обещавший за жизни беглецов груду золота, куда-то сгинул, как только начался бой. Тамро уже сообразил, что его, считавшего себя всяко не глупее других, элементарно ткнули башкой в мясорубку.
— Нам бы только выманить кое-кого из норы, — говорил он перед налётом. — А как вылезет — связать и надеть мешок на голову. Но — аккуратно, за мертвеца золота никто не даст.
— Так что, его и пальцем нельзя тронуть? — с неудовольствием спросил кто-то.
Тамро подумал.
— Ну, если только слегка. Но не калечить, шею сверну.
Монголу он решил перерезать глотку, как только приведут пленников. Поторговаться с великим ханом можно было и самому, без посредника. А ещё больше жгла обида за недавнее: угрожающий клинок у горла и сиплый властный голос: «Вели своим шакалам отойти». Всю оставшуюся дорогу до логова монгол мерно покачивался в седле, а он, Чёрный Тамро, шёл рядом пешком, как последний оборванец.
...Он орал и топал ногами, наблюдая, как гибнут его люди один за другим. Огромного роста воин — без брони, в простой чёрной рубахе, шёл к нему, поигрывая страшной секирой. С секиры густо капала кровь, будто в плохом сне...
Тамро узнал этого воина. Много лет назад — они оба были тогда моложе — Тамро загнал его в пещеру, откуда тайный ход вёл в чрево горы, в древнее языческое капище. Тамро не стал преследовать его — он поступил умнее. Он пришёл в дом к его жене и детям. Две девочки — одна помладше, другая постарше — завизжали от ужаса, а женщина, схватив нож для разделки мяса, бросилась на их защиту. Она была настоящей горянкой, эта женщина. Она ранила одного из разбойников, а самому Тамро прокусила руку, когда он пытался сорвать с неё одежду. Его рука до сих пор хранила эту отметину.
— Убейте его! — крикнул он своим телохранителям, и те, словно псы, разом бросились вперёд, с двух сторон.
И умерли тоже вместе, одновременно. Один, кажется, ещё успел замахнуться саблей... А потом они, наконец, встали лицом к лицу — Чёрный Тамро и страшный воин с секирой, лишившийся когда-то своей семьи.
— Нет, — прошептал Тамро, пятясь к реке. — Не надо... Это он велел напасть на деревню, чтобы выманить тебя... Я не виноват!
Аккер молчал. Он шёл спокойно, опустив секиру к бедру, — он знал, что она не понадобится. Не было бы её совсем — Тамро всё равно побежал бы. Так и произошло: Тамро пятился, и горная река вскорости схватила его за сапоги. А потом — перелилась за пояс и добралась до груди.
— Нет, — взвыл он, когда железные пальцы Аккера сомкнулись на его горле.
И оборвал крик, уйдя с головой в ледяной поток. Аккер долго держал руки внизу, под водой. Затем с усилием разжал их и не спеша вышел на берег.
Уже один.
Жителей в селении осталось не много: пожалуй, половина. Уцелевшие осторожно выбирались из своих укрытий — неуверенно, будто заново учились ходить. Одни бессвязно благодарили, падая на колени, другие с пронзительным криком бросались к убитым — сегодня у всех будет траурный день...
Девочку, что принесла весть о несчастье, приняли к себе соседи. У них из шестерых уцелели лишь трое. Ну а где трое, там и четверо.
Домой вернулись затемно. К еде никто не притронулся, даже Баттхар, с его фантастической прожорливостью. Все чувствовали себя будто осквернёнными — давила на душу пролитая кровь, своя и чужая. Более или менее серьёзная рана оказалась только у царевича, и ему, несмотря на протесты, наложили повязку на рёбра. Впрочем, его протесты происходили не из-за боязни новой боли (к ней он постепенно научился относиться стойко, даже с некоторым щегольским презрением), а от некоторой сконфуженности — он ждал, что Аккер укорит или усмехнётся, по обыкновению: учишь, мол, тебя учишь, а толку...
Аккер, однако, не сделал ни того, ни другого. Когда совсем стемнело, он встал, ни на кого не глядя, и вышел вон из хижины. Вид у него был такой, что встревоженный Лоза рванулся было следом, но Антон удержал.
— Не надо. Ему бы сейчас одному побыть.
Все молча сгрудились у очага, глядя на потрескивающее пламя. Время от времени кто-нибудь привставал и подкармливал огонь сухим деревом (что было, кстати, непростительным расточительством). Никто не ложился, и от мысли, что очаг вдруг может потухнуть, становилось не по себе. Точно малые дети, у которых родители допоздна задержались на работе, невесело усмехнулся Антон. Днём можно радоваться привалившей вдруг свободе: хочешь — носись по двору, хочешь — пой во всё горло... Но ближе к ночи все желания почему-то гаснут, освобождая место тревоге (да где же их черти носят?) и щемящей тоске.
Вот так же сидел я возле мерно журчащей реки, и был вечер — прохладный, но ласковый, я мыл котелок и исподтишка посматривал на девушку. Она стояла возле меня, и при свете луны волосы её казались сделанными из драгоценного серебра...
Она была удивительно похожа на Асмик. То есть чертами лица не очень, но нечто общее проступало явственно — они были точно две сестры... Или вовсе один и тот же человек, разнесённый (можно так выразиться?) на шесть с лишним веков. Кольнула неожиданная мысль: а может, и я?..
Может быть, там, в современной Москве, живёт сейчас другой Антон Изварин, благополучно вернувшийся из Приэльбрусья, хвастается перед друзьями коричневым загаром и кодаковскими фотографиями, ходит на лекции в университет и сосёт пиво в «стекляшке» напротив...
Другой.
Антон вдруг почувствовал, что в носу защипало, и поспешно отвернулся от света. Вот так: днём, когда вокруг шёл бой, когда ты без «самокопаний и самоуглублений» отнимал чужую жизнь, чтобы не отняли твою, ты ощущал себя своим в этом мире. А стоило опуститься ночи — и все прежние тревоги, страхи, сомнения повылезали из тёмных углов, чтобы грызть душу. И вспомнился дом.
Под утро он не выдержал. Ноги сами принесли его в храм на склоне горы.
Всё вокруг только-только начинало пробуждаться. Пейзаж казался прозрачным, словно кусок хрусталя, и странно хрупким: хотелось даже идти на цыпочках, чтобы не нарушить гармонии ни дыханием, ни неосторожным движением.
Антон постоял перед входом (угол надо бы законопатить, мелькнула мысль, иначе сквозняк будет гулять) и вошёл внутрь. Перед ликом Богоматери, на маленькой деревянной подставке, горела свеча. Кто-то зажёг её совсем недавно — она ещё не успела оплыть. И сквозняк не погасил её — свеча горела ровно и чисто, даже пламя не трепетало.
Антон подошёл поближе — медленно, словно робея. Вытянул руку и коснулся лица Богоматери кончиками пальцев. И, почудилось, женщина отозвалась. Краски вдруг потеплели и на миг превратились в живую человеческую плоть, даже проступил лёгкий румянец на скулах. Глаза вспыхнули, как в их первую встречу, и спокойная полуулыбка тронула уголки губ... Антону вдруг отчаянно захотелось помолиться. Преклонить колени, низко-низко опустить голову и попросить прощения. А потом почувствовать нежное прикосновение к своим волосам — так делала мама, когда он в детстве заболел воспалением лёгких. Помнится, он метался в раскалённом, как пустыня Сахара, бреду, на границе бытия, и все пытался провалиться в тёмную бездонную пропасть, он так страстно хотел этого... И лишь мамина ладонь удерживала его на поверхности — она несколько суток подряд сидела у его постели, поила лекарствами и бульонами, делала уколы и капала парафин на его ключицы. И гладила по голове — наверное, это и заставило болезнь отступить.
Он не знал наизусть ни одной молитвы. Его хватило только на то, чтобы осенить себя крестом. И прошептать:
— Пожалуйста... Подскажи, что мне делать?
Женщина не ответила. Все правильно: чудо является лишь праведникам. Тем, кто растит хлеб и виноград, а не шатается по горам с мечом и убивает людей.
Женщина промолчала. Но тонкий лучик солнца, рождённый в небесах, вдруг пробился сквозь серовато-розовые тучи, протёк вниз и коснулся Антона, даря если не надежду, то её отблеск...
— ...Он знает?
Антон вздрогнул. Голоса были вполне реальными, и доносились они снаружи.
— Ещё нет. Только спросил, почему я отправил девочку с Антоном. (Уже Антон, подумал Антон, а то все «чужеземец» да «чужеземец»...)
— Нужно было отослать всех, — прошелестел один из голосов. — С бандой Тамро мы бы справились и вдвоём.
Первым желанием Антона было подобраться к дверному проёму и выглянуть наружу — ночь давно отступила, и он разглядел бы говоривших... Однако один из них был Аккер, а чёртов горец учуял бы его сразу, стоило только сделать шаг. И Антон не двинулся с места, лишь опустился на корточки, изо всех сил желая, чтобы никому не пришла в голову мысль заглянуть в молельню.
— Вам пора уходить, — сказал собеседник Аккера. — Вы и так порядочно задержались.
— Монголы не должны потерять наш след, — возразил тот. — Нужно дождаться, пока они надёжно вцепятся. Знаешь, я уверен: кое-кто здорово помогает им в этом...
— Помогает... — В голосе собеседника послышалось сомнение. — Ты думаешь, этот человек служит Тохтамышу?
— Не знаю, — честно ответил Аккер. — Вчера я нарочно дал возможность взять Баттхара живым (понятно, я всё время был рядом и вмешался бы). Но бандиты этой возможностью не воспользовались... Такое впечатление, что они вообще плохо представляли, с кем имеют дело. Чёрный Тамро сказал перед смертью: «Он велел нам выманить тебя из норы...»
Его собеседник вздохнул.
— Жаль, ты не выяснил, кто этот «он».
Горец помолчал. Затем сказал без выражения:
— Тамро убил мою семью.
Антон сидел на корточках, скрытый каменным синтоном, и чувствовал, как немилосердно затекают ноги.
— Куда вы отправитесь?
— В Тифлис, — ответил Аккер. — В Тифлисе у меня есть верный человек. Надеюсь, он поможет. Всё должно решиться там.
Последние слова горца прозвучали холодно, почти зловеще. И собеседник не выдержал.
— Тебе не жаль парня?
— Он сам выбрал себе судьбу, — отозвался Аккер прежним тоном.
Голоса снова стихли. Зашуршал камень под чьей-то ногой — двое разошлись, не попрощавшись и не пожелав друг другу удачи. Антон сидел, съёжившись, обхватив руками колени и чувствуя, как ходит сердце — острыми болезненными толчками. Значит, скоро в Тифлис, «всё должно решиться там». Парень сам выбрал себе судьбу... Он имел в виду меня? Это я служу Тохтамышу?
Впрочем, вполне логично: чужеземец, появившийся непонятно откуда, точно из воздуха, и тут же накликавший беду, чужой среди чужих... И даже Лоза, которому я, между прочим, однажды спас жизнь, мне не заступник: он до сих пор винит меня в смерти Заура. Аккер, как выяснилось, подозревает меня в предательстве, Баттхар подозревает в том же всех скопом: Аккера, Асмик, меня... Насчёт меня они демонстрируют завидное единодушие. «Тебе не жаль парня?» А чего меня жалеть.
Собравшись с духом, он тихонько распрямился. Свеча горела по-прежнему ярко и ровно, и бесплотные тени скользили где-то в сопредельном мире, словно укоряя за что-то... Он прокрался к двери храма и осторожно выглянул наружу. Было тихо и пусто, только по дну распадка плавали клочки утреннего тумана. Антон сделал шаг вперёд — и вдруг словно бомба взорвалась у него в затылке. И земля стремительно полетела навстречу.
Былая наука не прошла даром: он успел выставить руки перед собой и перекатиться на спину — только лишь затем, чтобы принять смерть в лицо.
Огромная чёрная фигура наклонилась над ним и глухо произнесла:
— Вынюхиваешь?
Алак-нойон, шатаясь, добрел до реки. Сунул руку в воду, пошарил по дну, потянул за что-то и выругался, длинно и от души. Ибо то, что он держал в руке, оказалось сапогом Чёрного Тамро. Река по имени Ингури во второй раз одарила его с неслыханной щедростью. Что ж, одну службу Тамро сослужил: теперь Алак-нойон знал путь, по которому ушли те, кто убил разбойников. Вверх вдоль восточного склона к распадку, где стоит храм Матери Белого Бога...
Между берегом реки и крайней хижиной, примыкавшей к глинобитной ограде, он наткнулся на лежащего на спине разбойника. Странно, но жизнь ещё не покинула несчастного, несмотря на длинную резаную рану, тянувшуюся через всё тело, от ключицы до противоположного бедра. Тошнотворного вида внутренности неприлично вываливались наружу. Алак-нойон одобрительно поцокал языком: хорошая рана. Только воистину великий боец способен нанести такую. При его приближении разбойник завозился и что-то умоляюще прохрипел сквозь булькающую в горле кровь: то ли просил перевязать, то ли, наоборот, добить, избавив от мучений. Алак-нойон не стал тратить время ни на то, ни на другое. Лишь поднял валявшийся рядом лук и рванул пальцами тетиву, проверяя на прочность. Сгодится. Он подобрал несколько стрел, придирчиво осмотрев наконечники, и медленно пошёл вверх по склону, удаляясь от селения.
Уже под утро, с первыми лучами зари, он добрел до жилища Белого Бога. Близко подходить он не решился: мало ли как тот отреагирует на чужое присутствие. Он слышал от других, будто тот Бог когда-то был простым человеком и звали его Исса. И что он проповедовал добро и всепрощение — оттого, дескать, его изображали в длинных белых одеждах, символизирующих чистоту. Алак-нойон не верил этим рассказам. Настоящий бог не станет прощать врагов. Настоящий бог покровительствует лишь воинам и одевается в броню из золотых пластин и золотой шлем, горящий нестерпимым огнём. Его обагрённый кровью меч пронзает небеса, а путь отмечен трупами и дымом пожарищ. Только за таким богом можно идти.
Чуть выше, в стороне от седловины, он отыскал подходящее место для засады: гладкий валун с расколотым краем наполовину врос в землю, не закрывая стрелку обзор, а самого его пряча от посторонних глаз. Алак-нойон привалился спиной к камню и прикрыл глаза, стараясь отдышаться. Рана в боку снова открылась, напоив кровью несвежую повязку. Но он давно отучился обращать внимание на такие мелочи.
Боль... Бывало, отец нарочно наносил ему, ещё мальчишке, лёгкие порезы — довольно ощутимые, но не приносящие вреда. Потом прижигал их раскалённым железом и велел: «Терпи». И смеялся, если сын начинал корчиться и вопить. Это было давно.
Когда на тропе, ведущей к храму, показалась неясная фигура, Алак-нойон улыбнулся, как улыбается охотник в предвкушении добычи. Поднял лук и сильно, до правого плеча, натянул тетиву.
Аккер в этот раз был без своей обожаемой секиры, но при воинском поясе, на котором висела сабля в тёмно-серых кожаных ножнах. Горец не спешил вынимать её — видно, был уверен, что обойдётся и так.
— Почему ты так торопишься умереть, чужеземец? — спросил он со вздохом. — Ты уже раз сто мог погибнуть и не дойти до Тебриза.
— Тебе-то что за дело? — буркнул Антон, поднимаясь с земли. — Ты ведь, кажется, подозреваешь меня в измене. Не отпирайся, я слышал.
Горец хмыкнул.
— Что ты слышал?
И равнодушно отвернулся. Хоть ножом бей в спину, хоть камнем по затылку... Только расхотелось.
— Зачем ты отправил девочку со мной? — спросил Антон. — Разве я хуже всех дерусь на мечах?
— Лучше, — нехотя ответил горец. — Я даже удивляюсь твоим способностям. Правда, эта твоя странная манера махать ногами...
— Почему ты бережёшь меня, а не Баттхара? — настойчиво повторил Антон. — Почему мы застряли здесь, в этой дыре, чего ждём? Что за верный человек ожидает нас в Тифлисе? Кто такой этот «глухонемой» монах, с которым ты только что беседовал? Кто поставил свечку перед Богоматерью? Почему ты как две капли воды похож на Заура? Как, чёрт возьми, получилось, что ты даже в руку был ранен в точности, как он? Или... — Он зажмурился. — Или на самом деле нет никаких братьев, а есть только один человек, который...
— Ну, ну, — поморщился Аккер. — Сколько вопросов сразу.
— Так ответь, — тихо попросил Антон. И горестно добавил: — Я ведь к вам не просился. Меня, можно сказать, приволокли на аркане, ничего не объяснив.
Горец задумчиво поглядел куда-то вдаль. И медленно изрёк:
— Когда-то, много лет назад, жил один мудрец. Говорят, что он был выходцем из Афганистана. А может, врут. Господь дал этому мудрецу способность заглядывать в будущее. И тому открылось, что большая беда движется на Кавказ. Хромой завоеватель с многотысячной армией прокатится по этой земле, словно исполинский дракон, поработив одних и без следа уничтожив других. Некоторые племена будут сопротивляться — и падут. Целые народы перестанут существовать, в том числе и самый большой народ в этих горах — аланы.
Что-то подобное я уже слышал, подумал Антон. Их диковинные стрелы, невидимые в полёте, яростные длинноволосые всадники в чешуйчатой броне...
— Теперь этот народ должен погибнуть. Так решил Хромой Тимур. И так предсказал мудрец-провидец. Если только...
— Если только царевич Баттхар не женится на дочери царя Гюрли, — закончил Антон. — И копьё... Как там дальше?
— И власть Копья Давида не объединит племена Кавказа для отпора завоевателю.
— Боже мой. — Антон покачал головой. — Но ведь он ещё мальчишка...
— Это горы, — сказал Аккер. — Здесь мальчишки рано становятся мужчинами.
Наплевав на условности, Антон сел прямо на землю, поджав под себя ноги, и ожесточённо потёр виски ладонями. И с глухим отчаянием подумал: «Не сходится. То есть, конечно, с точки зрения Аккера, все логично. Но я-то... Я, который не просто видит будущее (в конце концов, будущее многовариантно, как утверждают писатели-фантасты), а сам пришёл из него. Я-то абсолютно точно знаю, что Тимур будет властвовать на Кавказе ещё три десятка лет и никакое копьё не сможет помешать ему. Каждый удельный князь, каждый задрипанный вождёк будет тянуть одеяло в свою сторону, только и мечтая о том, как бы половчее продать соседа. Исчезнут аланы — то ли сами уйдут с Кавказа, то ли растворятся в других народностях, то ли погибнут в схватке с многочисленными, как саранча, туменами Тамерлана...
Но это, в свою очередь, означает, что моя миссия останется невыполненной, и царевич, скорее всего, так и не доедет до Тебриза. Да, но рукопись...»
— Когда мы выходим? — спросил Антон.
Горец что-то прикинул в уме.
— Думаю, завтра на рассвете.
Завтра. Целые сутки пройдут, и ещё неизвестно, что принесут с собой.
— Нет, — горячо сказал Антон. — Нет, нужно сейчас, сегодня!
К его удивлению, Аккер не стал спорить.
— Сегодня так сегодня. — И двинулся вверх по тропе.
Он ни разу не оглянулся, но по его спине было понятно: Аккер принял важное для себя решение. И снова это решение было не из простых. Антон немного поразмыслил и пошёл следом.
И, услышав крик, подумал с замиранием сердца: поздно.
Вернее, так подумали они оба, и оба одновременно рванулись с места, чувствуя внезапный звон в ушах.
На этот раз Антон обогнал своего наставника. Он первым влетел в распадок, перескочил через груду камней, приготовленных для строительства, обогнул стену храма — и увидел коленопреклонённую Асмик. И растерянно мечущегося Лозу — бледного до синевы, с дико перекошенным лицом. А ещё — неподвижное, пугающее тело, распростёртое ничком на земле. Знакомый расшитый плащ, раскинутые руки, неестественно вывернутые ступни ног... Стрела с чёрным оперением, торчащая где-то в районе левой лопатки, и совсем немножко крови вокруг, маленькое, почти идеально круглое пятно...
Баттхар.
— Кто стрелял? — задыхаясь, спросил Антон.
Пальцы судорожно сжали рукоять сабли — так, что побелели костяшки. Горы, вдруг сделавшиеся холодными и враждебными, нависли над головой, рождая приступ клаустрофобии, он по-звериному огляделся и заорал:
— КТО?!
Сзади налетел Аккер, отшвырнул его, словно тряпичную куклу, пал на колени, приложил палец к сонной артерии... Он держал его долго, целую вечность: за это время все вокруг успели несколько раз умереть и возродиться вновь. Потом вдруг сказал, не веря себе:
— Он дышит! А ну, взяли...
Царевич был тяжёл. Однако никогда они ещё не бегали так быстро. Антону показалось, что весь путь до хижины они проделали меж двух ударов сердца. Может быть. Перед глазами настойчиво маячило тошнотворное древко стрелы — рука так и тянулась выдернуть, но Аккер запретил. Сейчас нельзя, сказал он на бегу. Позже.
Аккер, бешено стучало где-то в макушке. У него было сколько угодно времени — как знать, может быть, пока он спокойно беседовал возле храма с кем-то невидимым, царевич уже медленно холодел на земле...
Асмик — мастерица стрелять из лука.
Лоза, самозабвенно сражавшийся в селении рядом с Баттхаром, спина к спине.
Чёртов монах в глухом капюшоне, подозрительно напоминающий повадками спецназовца из элитного подразделения...
Каждый из них мог оказаться тем, кто пустил стрелу в аланского царевича. Вот только — КТО?
Глава 17 НА ПОРОГЕ
Шёл снег.
Месяц Саффар, самый разгар зимы, дарил лёгкий приятный морозец, который раньше, помнится, казался мне лютым. Конечно, зима случалась и у меня на родине, и стояли холода, при которых без тёплого стёганого халата и шапки на голове из дома не выйдешь, а иногда, раз в три-четыре года, с серых небес падал на землю настоящий снег, заставляя вспоминать и о сапогах на меху. Теперь-то, побродив по свету, я понял, что то был не снег — так, отдельные снежинки, большая часть которых так и не успевала достичь земли. Отец мой, чью бороду в те годы уже убелила седина, мучился суставными болями, но благодаря терпению и молитвам держался с большим достоинством. Только в сырую погоду, когда боли обострялись, он ложился в постель и говорил своей жене, моей матери: «Воистину велик наш Аллах! Полюбуйся, как он скрутил меня!» И мать, подняв на ноги всех слуг в доме, сразу посылала за придворными лекарями. Это были учёнейшие мужи, лучшие во всей Азии, и пользовали они лишь эмира и нескольких старших визирей, в том числе и моего отца. Он был очень могуществен в ту пору, мой отец, несмотря на свои телесные недуги. Там, у себя на родине, я не любил зиму.
Здесь же всё было по-другому. Здесь снег не успокаивался, пока не заметал все хоженые и езженые пути, не погружал в сугробы окрестные селения и не запирал реки — из тех, что не отличались быстрым течением. Даже сама жизнь, казалось, замирала, и дворовые собаки, жалобно поскуливая, просились в дом, в тепло, и хозяева их не гнали. Однако стоило снегопаду прекратиться, и люди выходили на улицу — расчищать дороги, сбрасывать сугробы с крыш, выводить лошадей из конюшен, чтобы те привыкали, принюхивались к снегу. Вытаскивали припрятанные лыжи, заново подбивая их мехом и смазывая гусиным жиром. У меня на родине лыж не знали, и за годы странствия я так их и не освоил. (Хотя спускался однажды с горы на тащи — натянутой на обруч сыромятной бычьей шкуре, которую следовало подкладывать под зад. Надо сказать, ощущение при спуске было не из приятных). Прошлой зимой Регенда показывала мне премудрости лыжного хода — как правильно держать спину и колени и как отталкиваться длинным шестом, наподобие копья без втулки. Но, видимо, я показал себя нерадивым учеником. А на следующий год и сама Регенда не притронулась к лыжам.
— Я беременна, — прошептала она, отвечая на мой незаданный вопрос.
Нельзя сказать, что это явилось для меня полной неожиданностью. Я подозревал это. И ждал — со страхом и надеждой. Я даже видел его во сне — маленький розовый орущий комочек... Почему-то я точно знал, что родится дочь. У неё будут такие же прозрачные глаза с золотыми искорками, что и у её матери, милая ямочка на подбородке и чуть приподнятая верхняя губа — словно в ожидании ответа на какой-то вопрос... А вот нос и брови ей, наверное, достанутся от меня. Хотя и не поручусь.
— Ты повстречаешь на своём пути женщину, — однажды сказал мне давно умерший дервиш. А может, я сам вложил эти слова в его уста, прежде чем доверить их моей рукописи, и на самом деле дервиш сказал иное — то, чего я не доверил бы никому, даже Всевышнему... Ему — в особенности.
— Копьё Давида, — шептал он мне в каком-то непривычном сладострастии. (Может, лгал? Зачем? Чтобы поиздеваться?) — Ты мечтал о власти над будущим, но она бесполезна без власти над настоящим. Копьё Давида даст тебе эту власть, если только не помешает человек, пришедший из другого мира и из иных времён.
— Но есть лишь один человек, способный мне помешать, — возразил я. — Это Хромой Тимур. Это его ты называешь человеком из иного мира?
Дервиш покачал головой и улыбнулся. У него была мудрая и снисходительная улыбка, которая всегда бесила меня.
— Тамерлан — великий завоеватель, — сказал он мне. — Его имя оставит в истории след, подобный сабельному шраму на теле воина. Ты не сможешь ему противостоять — у вас слишком разные цели в жизни. Он словно король на шахматной доске. (Тебе известна эта индийская забава?) Он создаёт и рушит государства, двигает в битву войска, покоряет одних и стравливает других — тех, кого не может покорить. Однако он неинтересен тебе. Ты должен ждать того, кто сидит за доской. Помни об этом.
— Но кто он? — выкрикнул я второпях: я знал его сволочную привычку исчезать в самый неподходящий момент. — Я встречусь с ним? Скажи мне, дервиш!
— Встретишься, — пообещал тот. — Но прежде судьба подарит тебе встречу в женщиной. И, как знать, вдруг ты поймёшь, что в мире есть вещи поважнее власти и богатства. Впрочем, к богатству ты всегда относился с презрением. А будущее... Над ним властен лишь Аллах.
Аланская царица счастливо улыбнулась мне. Говорят, будто материнство способно украсить любую женщину. Не знаю. Я видел иных красавиц, которые в беременности превращались в нечто желтолицее и отёкшее, вечно больное, стонущее и озабоченное — не столько будущим ребёнком, сколько собой в новой роли страдалицы и чуть ли не героини. Были такие, но Регенда к ним не относилась. Сейчас она была подобна розе, только что распустившей, наконец, свои драгоценные лепестки. Роза не думает о своей красоте — она просто красива.
— Это будет девочка, — сказала она, подтвердив мои мысли. — И я хочу, чтобы ты придумал ей имя.
Я немного растерялся. Если на моей родине рождался ребёнок, то родители тут же бежали к астрологу и прорицателю, чтобы тот подобрал имя, которое более всего соответствовало бы дню появления на свет и состояло в гармонии с планетами на небесном своде. В этих местах, я знал, имена было принято давать в память об усопших предках. Своих мне вспоминать не хотелось: я расстался со своими корнями по собственной воле, и это было давно.
— Назови сама, — предложил я.
Регенда подумала.
— Я дам ей имя в честь моей бабки. Она была дочерью армянского правителя Гагика. Мой дед, царь Аккарен, полюбил её с первого взгляда и трижды просил стать его женой. И трижды получал отказ. Потом он украл её и тайно увёз к себе в крепость. Гагик послал войско, но было поздно: молодые обвенчались. Бабка призналась, что тоже полюбила Аккарена сразу же, как только увидела, но ей хотелось испытать своего избранника. И её отцу ничего не оставалось, как отступить.
— Как же звали твою бабку? — спросил я.
— Её звали Асмик, — ответила Регенда.
Иногда мне на ум приходит мысль: сколько загадок я оставлю после своей смерти? Как будущие пытливые исследователи — те, чьим родителям ещё только предстояло появиться на свет, — будут разбирать по косточкам мою рукопись, заходиться в жарких спорах, строить и рушить гипотезы, пытаясь понять, каким я был.
Кем я был: зверем или ангелом. Гениальным провидцем или рыночным шарлатаном. И неизвестно, к какому выводу ещё придут.
Я любил Регенду. На тысяче и одном Коране я поклялся бы в этом: она по-прежнему волновала меня, как не волновала до этого ни одна женщина. Я любил мою ещё не родившуюся дочь, на долю которой — и это я тоже знал наверняка — выпадет множество испытаний. Однако я, не задумываясь, переступил бы через них ради одной-единственной цели, моего вечного кошмара, моей страсти, сжигающей нутро не хуже погребального пламени...
И, мне кажется, она подозревала нечто подобное. Не Регенда, нет — её глаза застила любовь.
...Псевдокупца Ханафи, наёмного убийцу из тайного ордена исмаилитов, я убил сам на следующий вечер после покушения на Регенду. Мне не пришлось его выслеживать — я доподлинно знал, что он предпримет после того, как его план провалился, и куда он направит свои стопы. Об этом я тем же вечером поведал Фархаду, доверенному человеку аланской царицы.
Это известие, однако, нисколько не смягчило его сердце.
— Я не верю тебе, чужестранец, — сказал он. — И хочу предупредить: я глаз с тебя не спущу.
— Вот и хорошо, — заверил я. — Я даже настаиваю на том, чтобы ты следил за мной. Более того, я прошу тебя о помощи.
— Вот как? — Он усмехнулся. — И о какой же помощи ты говоришь?
— Я намерен схватить убийцу. И прошу, чтобы ты сопровождал меня. Одному мне не справиться.
Он задумался — кажется, впервые мне удалось пробить брешь в его панцире недоверия.
— Думаю, надо будет привести стражу.
— Стражники только испортят дело, — возразил я. — Они тяжелы и неповоротливы, и будут громко топать по мостовой. А нам придётся вести долгую слежку. — Видя, что Фархада одолевают сомнения, я добавил: — Ты был абсолютно справедлив: у Ханафи наверняка есть сообщник в городе, поэтому хорошо было бы взять и его. Это принесёт пользу нам обоим.
— Вот как? — повторил он.
— Ты поднимешь себя в глазах своей госпожи. А я... Я докажу тебе наконец, что я не враг.
...Мы шли за ним через весь город, держась на достаточном расстоянии, иначе Ханафи сразу засек бы слежку. Пустые в этот поздний час улицы облегчали задачу: не особо напрягаясь, я мог различить его торопливые шаги впереди. Мы избегали освещённых участков, прижимаясь к стенам домов, хоронясь за колодцами, ныряя в переулки, перепрыгивая через сточные канавы... Ночь была нашей союзницей, она родила и вскормила нас обоих: меня и Ханафи, не делая никаких различий.
Я знал, что ему во что бы это ни стало нужно уйти из города. А ещё — что он не сможет это сделать без посторонней помощи.
И когда Ханафи, оглянувшись по сторонам, коротко стукнул в дверь корчмы «Серебряная подкова», я чуть не рассмеялся. Я знал, что так будет.
Дверь отворилась сразу же. Почтенный хозяин Абу-Джафар в небрежно накинутом халате и со свечой в руках возник на пороге, и из своего укрытия, из-за угла дома, я различил капельки пота на его бритом черепе. Ханафи начал что-то сбивчиво объяснять, но Джафар проворно схватил его за шиворот и втянул внутрь корчмы. Мы с Фархадом подобрались поближе.
— Что случилось? — услышали мы требовательный голос хозяина.
— Не знаю, — истерично отозвался «купец». — Мне помешали в последний момент.
— Что?! — взревел Джафар, забыв об осторожности. — Царица жива?
— Жива, — подтвердил Ханафи — Меня ищут, и все выходы из города перекрыты. Кто-то нас предал...
— Заткнись. — Джафар помолчал, обдумывая ситуацию. — Но если ты не врёшь... Тогда предать нас мог только один человек.
Я не позволил развить ему эту мысль. Всё должно было решиться здесь и сейчас, и я хлопнул своего спутника по плечу: пора.
Фархада не пришлось подгонять. Он стремительно выскочил из засады и с налёта вышиб дверь плечом. И я в очередной раз подумал, как предсказуем мужчина, чьи глаза ослеплены страстью. Я рассчитал верно. Так верно, что в душу закралась самодовольная мысль: а не сообщил ли мне слепой дервиш хотя бы малой толики своего дара — видеть будущее? Ведь недаром же он принял безропотную смерть в глухом каменном мешке, где по стенам струилась вода и крысы шуршали в куче гнилой соломы, недаром он приходил ко мне в моих снах, и садился на краешек моей постели, и держал мою ладонь в своей... Он ничего не делал просто так, мой слепой дервиш.
Я вошёл в корчму не торопясь, уже зная, что Фархад мёртв. Я знал даже, куда ему вошла стрела — в горло, чуть выше вздетой под чекмень кольчуги. У меня была всего пара секунд.
Ханафи успел только открыть рот — мой нож скользнул по его шее, и крик захлебнулся, не родившись. Я перешагнул через упавшее тело и встал перед Абу-Джафаром.
— Ты... — растерянно начал он.
И в этот момент по моему сигналу в корчму ворвались стражники. Я опустил глаза и посмотрел в мёртвые зрачки Фархада. Я обманул его, сказав, что мы обойдёмся вдвоём, без посторонней помощи. И что стражники будут топать по мостовой: накануне я строго-настрого предупредил их, чтобы надели сапоги на мягкой подошве. И лично проверил каждого, не гремит ли его оружие при ходьбе.
Я не видел, что происходило вокруг — мне было уже неинтересно. Это был мой сценарий, мой кукольный театр, где я знал наперёд каждое движение актёров и каждую реплику. И даже то, что почтенный Абу-Джафар не пожелает сдаться живым — он проглотит яд, прежде чем ему заломят руки за спину.
— Сдох, — сквозь зубы сказал один из стражников. — Прости, господин, мы не успели ему помешать. Жаль, он не успел сказать, кто его нанял.
— Вот он, — произнёс я, указывая на мёртвого Фархада. — Я давно подозревал его, но не мог поверить...
— Но у него нет клейма, — возразил стражник, осматривая плечо бывшего царедворца.
— Неудивительно, — сказал я. — Клеймо носят лишь члены тайного ордена убийц, но не те, кто их нанимает.
В комнате повисла тишина. Но мне вдруг почудилось, будто я слышу тихий смешок, словно кто-то прыснул, не сдержавшись, и тут же прикрыл рот ладошкой. Так смеялся надо мной слепой дервиш, когда я в разговоре с ним изрекал очередную глупость.
— Пойдём со мной, — сказала Регенда. — Я хочу показать тебе кое-что.
Я, по обыкновению, трудился над рукописью. За пять с лишним лет моего пребывания в Меранге книга моя потолстела так, что было трудно удерживать её на коленях. Хотя и нужды в этом больше не возникало: теперь в моём распоряжении была специальная комната в замке, по соседству с библиотекой. Я сам выбрал её и обставил по собственному вкусу. Устелил пол толстым иранским ковром, положил сверху подушечки для сидения и велел поставить низкий столик напротив окна. Когда-то, в далёкой теперь прошлой жизни, у меня была похожая комната во дворце эмира Абу-Саида. Там я занимался решением порученных мне государственных дел и принимал посетителей. Правда, тот зал был побольше размером, отделан побогаче, и за столом сидел не я, а мой писарь и секретарь. Впрочем, это было давно.
Косые солнечные лучи падали на столешницу, покрытую изысканным чёрным лаком. Я склонился над своей работой и не слышал, как вошла Регенда. Она подождала, пока я подниму взгляд, взяла меня за руку и сказала:
— Пойдём со мной.
Крутая винтовая лестница вела вниз, в подземелье. Царица шла впереди легко и уверенно — наверно, ещё малышкой бегала здесь не раз и не два. А её дед, царь Аккарен, тогда ещё крепкий и совсем не старый, поддерживал её за локоток и преувеличенно сердито говорил: «Осторожнее, егоза ты такая. Споткнёшься ведь, а мне отвечай». Двое стражников в тяжёлой броне скрестили перед нами копья, но, тут же узнав, сделали шаг в сторону. Один завозился с ключами, отворил массивную дверь, обитую зеленоватой медью, и мы вошли внутрь.
Это была сокровищница.
Окон здесь не было: просторное помещение освещали масляные факелы вдоль стен. Сундуки с золотыми украшениями, драгоценные камни, ювелирные изделия лучших мастеров, собранные со всего мира, дорогое старинное оружие, покрытое давно минувшей, но не увядшей славой... Нет нужды тратить чернила на описание всего этого великолепия. Я бывал в царских сокровищницах, и я знал, что Регенда это знает.
Она взяла в руку светильник и, мягко ступая по ковру, прошла к дальней стене, занавешенной старинным гобеленом с изображением фамильного герба: венок из лавровых листьев на тёмно-синем фоне, надетый на голову странного существа — полульва-получеловека. Наверное, даже царь Аккарен не мог сказать точно, с каких времён существует этот герб.
Не успел я насладиться зрелищем, как Регенда протянула руку и отодвинула гобелен в сторону. И лишь тогда я понял, ради чего она привела меня сюда. И зачем я сам пришёл в этот город, а перед этим тайно, среди ночи, бежал из дворца эмира Абу-Саида, оставив в постели недоумевающую Тхай-Кюль, мою любимую младшую жену. Зачем отверг блестящую карьеру главного визиря и ради чего убил слепого дервиша. Зачем долгие годы скитался в горах, надев колпак с белой ленточкой, мёрз на перевалах и простирался ниц перед Священным Камнем, что покоится в храме в далёкой Мекке... И почему ни разу не пожалел о своей судьбе.
— Это Копьё Давида, — сказала аланская царица и подняла факел повыше, чтобы я мог рассмотреть.
Я подошёл. Вытянул руку вперёд — и ощутил пальцами прикосновение почерневшего древка. И подумал, что, наверное, оно очень тяжёлое, даже для меня. Потому что в те времена, когда жил царь Давид и Кавказ населял один большой народ, пришедший неизвестно откуда, люди были другими, не чета нам, сегодняшним. Не знаю, были ли они мудрее и благороднее (вряд ли, по моему глубокому убеждению, ибо человеческую природу не переделаешь), но точно — сильнее и мужественнее. А потом... Потом однажды они решили, что им дозволено все, и они встали с богами на одну ступень. И боги наказали их за это.
Много веков прошло с тех пор. Десять, а может, все сто. Видимо, древко копья было покрыто каким-то особым составом — иначе давно истлело бы. Только золотой наконечник тускло блестел в багровом отсвете пламени. Он был очень старый — наверняка старше, чем этот замок и этот город.
В сокровищнице стояла тишина, но мне чудились голоса медных труб, ревущих у меня в голове.
Копьё Давида. Символ абсолютной власти, созданный то ли богом, то ли его извечным противником — поди разберись.
— Ты могла бы стать великой царицей, — тихо промолвил я. — Сотни племён, целые государства... Весь Кавказ лежал бы у твоих ног. А ты... Кому-нибудь известно, что Копьё хранится здесь, у тебя?
Регенда покачала головой.
— Нет. Никому.
— Почему?
Она довольно долго молчала, прежде чем ответить.
— Мой дед рассказывал, что Давид был основателем нашего рода. А его далёкий предок будто бы произошёл от брака небесного бога с земной женщиной. Не знаю, можно ли верить этому... Когда Да вид погиб, его государство распалось на отдельные княжества. И каждый, кто хоть ненадолго овладевал Копьём, умирал молодым и не своей смертью. В том числе и мой дед, и отец... Я говорила тебе о них. Мой брат Исавар многое бы отдал, чтобы получить Копьё в свои руки. Думаю, он догадывается, что я что-то знаю о нём.
— Тогда, возможно, он и подослал к тебе убийц, — осторожно предположил я.
— Что ты, — немедленно вспыхнула Регенда. — Он любит меня. И я люблю его. Я не хочу, чтобы он тоже погиб молодым.
Она опустила глаза. Она старалась казаться спокойной, но я видел, что это спокойствие даётся ей с великим трудом.
— Если Исавар получит Копьё, он завоюет власть на Кавказе. Объединит племена под своим началом, искоренит недовольных и создаст могучую армию. Как знать, может быть, он даже прогонит Тимура. И сам станет этим Тимуром.
Так вот что тебя беспокоит, подумал я и улыбнулся. А ведь, пожалуй, она права: Исавар мог бы... Я вспомнил его жёлтые волчьи глаза и хищно искривлённые губы, и умелую, совершенно незаметную со стороны охрану... Этот своего не упустит.
— Раньше меня часто охватывал ужас, — произнесла Регенда и зябко повела плечом. — Я сидела по ночам в спальне, закутавшись с головой в одеяло, и не находила сил задуть свет: тут же начинали мерещиться тени по углам. Мне чудилось, что я окружена врагами в собственном дворце. Если уж Фархад оказался предателем — что говорить об остальных...
— Ты и теперь боишься? — спросил я.
Она доверчиво прижалась к моей груди.
— Нет. Теперь у меня есть ты. И наша Асмик.
— Где она сейчас?
— Не спрашивай, — прошептала царица. — Знай лишь, что она у хороших людей...
И в эту секунду где-то наверху, на центральной башне замка, гулко ударил колокол.
Сюда, в подземную сокровищницу, звук долетел слабый, едва слышный, но мы оба вздрогнули и посмотрели друг на друга. Мелькнула мысль: меня разоблачили. Я чего-то не учёл, выстраивая свою линию: Фархад остался жив, Абу-Джафар, хозяин корчмы «Серебряная подкова», обманул меня и выпил простую воду вместо яда, царь Исавар, догадавшись о моих истинных намерениях, послал стражников, чтобы арестовать меня и бросить в камеру пыток... Или — сейчас откроется дверь, и сюда войдёт мой слепой дервиш. Я почти всерьёз подумал об этом: бывает, что время бежит вспять и мертвецы поднимаются из могил.
Дверь отворилась, и на пороге возник пожилой воевода, начальник дворцовой стражи. Я не помнил его имени.
— Беда, госпожа, — тяжело произнёс он. — Монгольское войско идёт на город. Оно в трёх конных переходах отсюда.
Столбы чёрного дыма стояли над снежной равниной, раскинувшейся между двумя великими реками: Тереком и Баксаном. Горели селения. Их жители, не успев уйти в горы или под защиту крепостных стен, не сумев вовремя увести скот и унести на себе домашний скарб, погибали под саблями или попадали в плен. Кое-кто пробовал сопротивляться, но тяжёлая монгольская конница сметала смельчаков, словно лавина, сорвавшаяся с горного склона. От неё не было спасения.
Это и была лавина — несмотря на то что она могла течь по ровному месту и имела чёрный цвет. Она была столь огромной, что казалась бесконечной. И Хромой Тимур, сидя, как влитой, на своём любимом гнедом жеребце, горделиво думал, что войско великого завоевателя Вселенной Чингисхана, пожалуй, было лишь ненамного больше. Когда его тумены шли через горы по узким тропам, пролегающим по дну ущелий, то превращались в длинный полноводный поток, и течь этому потоку через ущелье приходилось не дни, а недели. Когда же войска Тимура выходили на равнину, то напоминали собой громадный движущийся город.
Вдоль окраин этого города на низкорослых мохнатых лошадях носились разведчики-хабарги, вооружённые луками и волосяными арканами. Их набирали из полудиких закаспийских племён — Тимур даже не был уверен, что они умеют говорить. Это было хорошо: сам великий бог войны Сульдэ радовался бы таким слугам — ловким, бездумным и беспощадным. И напрочь лишённым страха смерти.
За разведкой плотной стеной шли ополченцы-менгены из семей бедняков. Этих было больше всего: их ряды нескончаемо тянулись в авангарде войска и с обоих его флангов, и казалось, что они ещё многочисленнее, потому что каждый, даже самый бедный всадник, не имеющий брони и сабли, вёл под уздцы вторую лошадь, на которой, кроме навьюченного скарба, сидело соломенное чучело в шлеме и стёганом халате.
Ближе к центру двигались наёмники в кожаных панцирях с металлическими заклёпками, пешие воины и конница, основное ядро знаменитого на весь мир таранного удара. Когда-то, два столетия назад, славный Чингисхан сокрушал такими ударами стены Гурганджа и Дербента, Самарканда и Бухары, обращал в бегство аль-арсиев турецкого шаха Амирани и боевых слонов правителя Хорезма Мухаммеда...
За спиной авангарда мерно колыхались тумены личной гвардии кагана — тяжеловооружённые всадники в дорогой броне, каждый — при копье и двух кривых мечах, в высоком шлеме, украшенном бунчуком из конских хвостов, краса и гордость полководца, знаменитые «непобедимые», при одном виде которых даже самый храбрый враг падал на колени и складывал оружие.
В самом центре, под защитой пятисот телохранителей-уйгуров, в окружении подчинённых ему эмиров, ехал сам Тимур. За ним бережно, в поводу, вели белого, как свежий снег, коня. Это был особый конь. Его спину украшало высокое роскошное седло с золотыми стременами. Ни один всадник никогда не касался этих стремян, потому что в седле незримо ехал великий Сульдэ, кровавый бог войны. И до тех пор пока конь под ним был здоров, весел и игрив — войско Тимура не знало слова «поражение».
Позади ханской свиты надсадно скрипели огромные многометровые полозья, на которых стоял расшитый золотом шатёр. Над шатром развевалось знамя Тимура, увенчанное девятью чёрными бунчунами — знаком Сатурна, указывающим, что войска кагана готовятся к битве. Пятьдесят лошадей из породы тяжеловозов были впряжены в повозку, и их копыта при движении продавливали снег до самой земли. Другие лошади тащили за собой катапульты, тараны и передвижные башни, построенные китайскими инженерами. Ни одни, даже самые крепкие стены, до сих пор не выдерживали их натиска.
Хан Тохтамыш ехал чуть впереди Тимура — на полкорпуса коня. Он очень старался, чтобы это выглядело как случайность, но чтобы все вокруг могли это заметить. Временами он исподтишка поглядывал назад, за спину, но — странное дело — всякий раз с удивлением обнаруживал, что безнадёжно отстал. И натыкался на неприкрытую иронию в глазах Тимура. Вечно второй, как вечный меньший брат рядом с большим братом, — с тех пор как предводитель Золотой Орды Арас-хан разметал войско Тохтамыша, словно сухую траву. И лишь снисходительная помощь Тамерлана спасла его от позорного поражения.
Как, наверное, веселился сейчас на небесах досточтимый Арас-хан, глядя на живого, но униженного врага. И на знамя Тохтамыша с головой чёрного быка, над которым в высокой синеве гордо и величественно реет стяг Тамерлана...
Далеко впереди на снегу мелькнуло несколько чёрных точек — легковооружённых всадников. Мелькнули, сорвались в галоп и исчезли, будто их и не было. Преодолев приступ злобы, Тохтамыш выкрикнул:
— Смотри, великий каган, как бегут от нас аланские войска. Словно заяц при виде матерого волка.
— Это не войска, — спокойно возразил Тимур. — Это лишь разведка. Основные силы, я думаю, скрываются за стенами. И наверняка правительница их города послала гонцов за помощью. Неплохо было бы отловить этих гонцов.
Тохтамыш рассмеялся, обнажив жёлтые резцы.
— А по мне — пусть они доскачут, куда хотели. И пусть здесь встанет и Исавар со своим войском, и грузинский коназ. То-то будет воронам пожива!
— Ты желаешь испытать храбрость своих нукеров? — спросил Тимур.
— Да. Боюсь, что сабли начали ржаветь в их ножнах. Я хочу, чтобы они шли впереди, великий хан. И первыми ворвались в город.
Стены Меранги высились впереди, всего в нескольких полётах стрелы. Тимур прищурил глаза, вглядываясь. Он мысленно оценил высоту этих стен и толщину забрал по углам. Крепость подъёмного моста на громадных цепях и ширину рва, в дно которого были заботливо вбиты острые колья, словно в волчьей ловушке. Пожалуй, воинов храброго Тохтамыша достанет, чтобы заполнить телами этот ров.
— Иди, — коротко сказал он. — И да не оставит тебя удача в бою.
Глава 18 МЫ УХОДИМ
Насколько серьёзна рана у царевича, Антон не знал, но догадывался, что отнюдь не царапина. Счастье, что стрела ударила на излёте, изрядно потеряв силу, — потом они с Аккером, побродив по окрестностям, нашли лежбище стрелка: земля меж двух валунов на склоне, в стороне от распадка, была утоптана, а к колючей ветке рядом прицепился обрывок бурой от крови тряпицы.
— А сапоги-то монгольские, — пробормотал Аккер, рассматривая отпечаток подошвы. — Странно, я не видел среди бандитов ни одного монгола. Сплошь лазы или абхазцы...
И вдруг заорал, схватив Антона за грудки:
— Кто тебе разрешил оставить Баттхара одного, чужеземец? Почему, когда нужно, тебя никогда нет на месте? Чем ты занимался в храме этим утром, отвечай! Неужто молился? Что-то не заметил я в тебе особого благочестия.
Слова были справедливы. Антон опустил голову и из чистого упрямства сказал:
— А ты сам? Ты ведь так и не рассказал, с кем встречался тут, неподалёку. И о чём вы говорили.
Аккер отвернулся, пробормотав в пространство фразу на непонятном языке — по интонации Антон догадался, что это была отнюдь не цитата из Евангелия.
— Я видел уздечку, которую передал Заур, — холодно произнёс горец. — Мой брат просил, чтобы я помог тебе... Уж не знаю, с каких пирогов я взялся за это, но раз взялся... Однако каким образом я буду это делать — не твоя печаль. Не лезь, куда не зовут.
Я и не лезу, угрюмо подумал Антон. Я меньше всего в жизни мечтал бегать по горам с саблей наизготовку и сносить врагам головы. Я бы расплакался от счастья, окажись я сейчас в унылой серой Москве, в своей скучной квартире... Да кто ж пустит.
— Мы все виноваты, — тихо и горько сказал Лоза, и Антону вдруг стало стыдно за свою вспышку. — Теперь уж не поправишь.
— Рано петь панихиду, — решительно сказал горец. — Баттхар должен встать на ноги. Ты сегодня же отправишься за лекарем в соседний аул. Это недалеко, через перевал. Заодно купишь там лошадей.
Баттхар казался совсем маленьким и тщедушным под толстым меховым одеялом. Лицо осунулось, и кожа на скулах заметно пожелтела, а тонкие усики выглядели будто приклеенные. Плечо стягивала тугая повязка, которую наложила Асмик. С той секунды, как Аккер с Антоном нашли царевича раненым, она не отходила от него. Поила травами и жидким ячменным киселём (ничего другого больной не принимал), перевязывала, шептала что-то, заговаривая боль, а когда царевич засыпал — просто сидела рядом. Мне, что ли, заболеть, с некоторой завистью подумал Антон. А то едва кивнула мне при встрече, словно кондуктору в автобусе, и снова отвернулась. Знамо дело: мы люди простые, не царских кровей... Подумал — и тут же остановил себя: при чём тут царская кровь. По моей вине человек был на волосок от смерти: попади стрела чуть ниже и правее... Страшно представить.
Лекарь появился на следующий день к вечеру — он приехал в сопровождении Лозы на ладной каурой кобылке. Ещё двух лошадей вели в поводу. Антон подумал, что Аккер заплатил за них немалые деньги: в горах только лошади имеют цену. Лошади, оружие и хорошая обувь.
Сильнее всего лекарь походил на епископа. Или архимандрита, или на самого Папу Римского Григория Третьего — столь он имел гордый и внушительный облик. Высокий, седобородый, с большими проницательными глазами и длинными сухими руками, он держался исключительно прямо, что заставило Антона заподозрить у него радикулит. Он неспешно слез с седла, кинул сумку Лозе и, не поздоровавшись, буркнул:
— Показывайте.
Баттхар дышал тяжело, через раз. И боялся лишний раз пошевелиться: плечо жестоко казнило при малейшем движении.
— Развяжи, — приказал лекарь Асмик.
Та присела рядом с царевичем и осторожно, как могла, освободила рану.
— Какими травами пользуешь? — грозно спросил старец.
— Сок давлю из пихтовых иголок, — ответила девушка. — Смешиваю с борец-травой...
Старик кивнул.
— Правильно. Главное — стрела была, кажется, не отравлена. Встанет твой больной, никуда не денется, — и вдруг усмехнулся почти по-доброму: — Кто же тебя, красавица, выучил обращаться с борец-корнем? Злое зелье.
— Аккер, — тихо сказала Асмик, глядя в сторону.
— Ну-ну, — лекарь с кряхтением разогнулся и вышел за порог. Поманил Аккера сухим пальцем, а когда тот подошёл — вполголоса проговорил:
— Всё неймётся тебе? Подвигов ищешь?
— О чём ты? — не понял горец.
Глаза старца грозно вспыхнули из-под насупленных бровей.
— О мальчишке. Где ты его подобрал?
— В селении, что внизу по реке. Вчера там Чёрный Тамро побывал — слыхал о таком?
— И что?
— Повздорили, — исчерпывающе объяснил Аккер. — Помер Тамро. Купался в речке — и утонул.
— А юноша, стало быть, оттуда, из селения?
Горец кивнул. Лекарь пристально посмотрел на него, хотел было рассердиться, но передумал. Пожевал бескровными губами и изрёк:
— Нос ещё не дорос мне врать. Я твоего отца младенцем помню. И тебя с братом, когда вы под стол пешком ходили. Мальчик-то, похоже, из аланов? Рубашка на нём точно аланская. И живёт он у тебя долго — может, седмицу, а может, две. Я подозреваю, ты прячешь его от кого-то. Да, видно, плохо прячешь, если парень налетел на стрелу. Я прав?
— Рана у него серьёзная? — резко спросил Аккер.
— Ты воин, — хмыкнул лекарь. — Тебе ли не знать о ранах. Да и твоя девочка тоже кое-что смыслит. Зачем меня звал?
Горец промолчал, и старец ответил сам себе:
— Затем, что ты боялся. Вдруг та стрела оказалась бы с ядом? Вдруг ты сам проглядел бы болезнь или девочка что-нибудь напутала, готовя зелье? Тебе было страшно лечить его самому, вот ты и позвал старого Чохори. И после всего ты снова скажешь, что у тебя в хижине лежит простой сын пастуха или крестьянина из деревни? — Он вздохнул. — Ладно. Сегодня уеду, делать мне здесь нечего. Через три дня пришлю ученика. Он посмотрит, что и как.
— Остался бы, Чохори, — предложил Аккер. — Ночь на дворе, а путь неблизкий.
— Ночь, — невесело усмехнулся старец. — Пусть уж лучше ночь застанет меня в дороге, чем в твоей хижине, когда её подпалят с четырёх сторон... Я прожил долгую жизнь. И, уж прости, хотел бы умереть в своей постели.
Он крякнул от натуги, залезая в седло, тронул коня пятками и убыл, не попрощавшись, даже не оглянувшись. Аккер долго глядел ему вслед. Антон подошёл, постоял рядом и обеспокоенно спросил:
— А он нас не выдаст?
— Не знаю, — ответил горец.
Ученик грозного старца прибыл, как и было обещано, через три дня. Он был молод и, похоже, очень стеснялся своей молодости, поэтому разговаривал нарочитым басом и старался ступать медленно и важно. И при каждом удобном случае поглаживал едва проклевывающиеся усики. Завидев Асмик, он буквально раздулся (не хватало лишь павлиньего хвоста) и начальственно отдал Антону холщовую сумку.
— Я привёз кое-какие травы. Будешь готовить отвар, как укажу. Да гляди, не перепутай!
И шёпотом добавил:
— Красивая девочка. Твоя?
Антон молча отвернулся. Ученик лекаря понял это по-своему, хитро подмигнул и протиснулся в хижину, где возле постели Баттхара сидела Асмик. Через полминуты они уже ворковали о чём-то — вернее, ворковал ученичок, доверительно положив лапу на плечо девушки (ни дать ни взять проспиртованный врач из районного морга — перед млеющей от смущения медсестричкой). Сейчас телефончик попросит, сердито подумал Антон и поднялся на ноги.
— Ты куда? — бдительно спросил Лоза.
Антон буркнул, не оборачиваясь:
— Пойду пройдусь.
— За день не набегался? — притворно-участливо осведомился мальчишка.
Антон не ответил.
Знакомый храм остался позади. Антон прошёл мимо него не задерживаясь, что было (он уже потом сообразил) безрассудством в высшей степени: тот лучник, что подстрелил Баттхара, мог опять залечь на излюбленное место, и никто не говорил, что та стрела была у него единственной. Но на этот раз обошлось. Селение на берегу реки Антон тоже обошёл стороной. Он видел копошившихся возле домов людей (некоторые поднимали головы, смотрели ему вслед, но никто не окликнул — у всех был полон рот забот), слышал мычание коров, блеяние овец и стук топоров: жизнь в разорённом селении снова мало-помалу входила в колею. Мелькнула где-то на задворках сознания мысль: а что, если войти сейчас в любой дом, сесть за стол, потребовать себе чугунок каши с мясом, вино и постель? И хозяйскую дочку под бочок? Интересно, вспомнят, что «желание гостя — закон», или драться полезут? Хорошо бы полезли драться: кулаки у Антона так и чесались. На душе было гадко — он пробовал уговаривать себя. (На что мне эта девчонка-замарашка? В любой студенческой общаге таких пруд пруди. А уж со Светочкой Аникеевой они вовсе рядом не стояли). Однако самопальный аутотренинг помогал неважно.
Он не заметил, как отдалился от реки. Теперь она шумела где-то в стороне, за соснами — не корабельными, конечно, но вполне приличными. Солнце рассеянно поглядывало сверху, сквозь кроны, и мягко стелился под ноги ковёр из прошлогодних иголок. Можно было запросто представить себя дома, где-нибудь в средней полосе, в пионерском лагере, куда родители отправляли на лето. Среди коричневых стволов выделялся один, зацепивший внимание своим угольно-чёрным цветом и тускло блестящей поверхностью. Это был врытый в землю столб-менгир — то ли место поклонения древним богам, жившим задолго до Христа, то ли памятник кому-то, то ли просто дорожный указатель. Антон читал о таких, но видел впервые.
Он забрал ещё вправо — и вскоре деревья расступились, открыв небольшую поляну на краю откоса. Внизу, метрах в двадцати, лежало неподвижное озеро с серовато-зелёной водой. К озеру вела узкая тропинка, прикрытая сверху смыкающимися кронами, — ни дать ни взять дорожка в таинственный между-мир, в сказку, рассказанную на ночь и придуманную едва ли не на ходу... Антон сбежал по тропе вниз и вышел на берег. Было пусто и тихо. (А ты что ожидал увидеть, хмыкнул он про себя. Толпу отдыхающих с детьми, собаками и китайскими термосами?)
На всякий случай он внимательно осмотрелся. Но здешнее озеро выглядело мирно и неопасно: ни лягушек, ни змей, ни даже высокого камыша, где могла бы залечь засада. Прямо-таки Женева, усмехнулся Антон, скидывая одежду.
...Он плыл на спине, лениво загребая руками, точно колёсный пароход, стараясь держаться поближе к берегу, где бил из-под воды тёплый ключ. Кровь постепенно отливала от головы, сделалось легко и бездумно. Интересно, водится ли здесь рыба? Он знал, что в быстрых горных реках живёт только «царская рыба» форель — та, что, говорят, умеет подниматься даже по порогам против течения. Здесь, в озере, наверное, тоже... Однако форель хитра, профану в руки не пойдёт...
Когда-нибудь я буду вспоминать это озеро, подумал он. Я буду трястись в переполненном автобусе, или скучать на лекции, или валяться дома на диване перед телевизором... Всё в этом мире рано или поздно заканчивается — и это моё странное путешествие в том числе. (Ох, хотелось бы верить!) Только память останется — о тех, кто был мне дорог. Кто заслонял меня собой и кого заслонял я. И об аланской девушке со светло-карими глазами — мастерице стрелять из лука...
Наплававшись вдосталь, он повернул к берегу. Нащупал ногами каменистое дно, поднял голову. И увидел Асмик.
На ней было вышитое платье ниже коленей и ожерелье, доставшееся от матери, — только теперь до Антона дошло, почему они были так похожи — Асмик и та женщина с фрески.
Они молча и неотрывно смотрели друг на друга: девушка, стоя на берегу, словно юная языческая богиня, подсвеченная со спины предвечерним солнцем, и Антон, стоя в воде и ощущая, как лицо покрывается пурпурной краской. Прошла, наверное, минута. А может, полчаса. Наконец Антон с усилием разлепил губы и глупо спросил:
— А где этот... лекарский ученик?
— Недавно уехал, — равнодушно ответила она.
Антон замолчал. Он абсолютно не представлял себе, что делать дальше. И о чём говорить, то есть на языке вертелась добрая дюжина вопросов, самым банальным из которых был: «Он что, приставал к тебе?» Однако язык почему-то отказывался служить.
А потом все мысли разом пропали. Асмик плавно завела руки за голову, ожерелье на её шее вдруг вытянулось в сверкающую разноцветную нить и упало к её ногам. Потом туда же, на траву, медленно и невесомо упало платье — словно подстреленный охотниками лебедь. Асмик переступила через него и спокойно, без всплеска, вошла в воду.
Она шла к нему долго. А может быть, не шла совсем — просто дно этого озера послушно повернулось под её ступнями. И окружающий лес повернулся вместе с озером. И река Ингури заодно с Приэльбрусьем, обоими Великими морями и Главным Кавказским хребтом. И сам Антон незаметно для себя — он не заметил бы сейчас и всю армию Тимура, явись она вдруг сюда в полном составе, волоча за собой катапульты, шлюх и маркитанток.
Его зрение отныне служило только ей. Её стройным бёдрам и маленьким грудям с затвердевшими сосками. Её нежно приоткрытым губам и ослепительно красивому шраму возле правого бока (то ли медведь достал когтями, то ли вражеский меч — в горах полно опасностей). Его слух улавливал только шорох водяных кругов, что расходились от её ног... Потом — от её живота. Потом — от её груди: девушка едва доставала ему до подбородка, и когда она наконец подошла к Антону вплотную, над водой оказалась только её голова и плечи с трогательными острыми ключицами. На краткий миг на поверхность легли её волосы, распустившись пышной рыжеватой медузой, — и втянулись внутрь, к самому дну. И Антон, уже теряя сознание, почувствовал прикосновение к своему паху — нежное, острое, требовательное... Наверное, он закричал (впрочем, он не поручился бы). Или закричало озеро, в котором стремительно закипала вода, и солнце опрокинулось в широко распахнутых глазах...
Уже темнело, когда они возвращались домой. Знакомая тропинка вилась впереди, огибая селение и всё больше удаляясь от реки. Горы, высившиеся вокруг серыми громадами, казались милыми и по-домашнему уютными, рождая мысль о слонах в зоопарке, которых маленький Антошка кормил конфетами сквозь заградительную решётку. И сейчас, когда Асмик шла рядом, он умиротворённо думал, что жизнь, в сущности, не такая уж плохая штука. За раненого царевича волноваться не следовало, коли старик лекарь обещал, что тот скоро встанет на ноги, и даже предстоящее путешествие не пугало: кого ему бояться за спиной у Аккера?
Он даже не обратил внимания поначалу, когда где-то в стороне отчётливо фыркнула лошадь. Только спустя ещё полных пять шагов в сознание вломились приглушённые голоса и еле различимый перестук копыт, явно замотанных мешковиной. Пока Антон размышлял, тело само рухнуло на землю и распласталось, слившись с сумерками. Асмик, умница, без слов сделала то же самое. На этот раз при ней не было лука, а при Антоне — сабли: только два ножа на двоих. Как тебе до сих пор не снесли башку, чужеземец, подумалось невесело. Оружия не взял, по сторонам не смотришь — готовый кандидат в покойники...
Некий ломающийся басок, донельзя взволнованный и срывающийся в петушиную трель, говорил:
— Они здесь, господин. Все пятеро, я сам видел. Вы обещали заплатить мне, господин...
— Заткнись, — коротко бросил кто-то.
Все пятеро, подумал Антон. Аланский царевич, Аккер, Лоза, Асмик и я сам. Ингури, Ингури, даже кровью своей не оросить твои воды, потому что хижина — выше по течению. Только и преимущества, что сгущающаяся мгла: крошечный шанс ускользнуть...
Когда твой дом подпалят с четырёх сторон...
Антон уже слышал этот голос — не далее как сегодня утром. И сейчас он прилипчивой песенкой звучал в голове: «Я тут кое-какие травы привёз. Будешь готовить отвар, как я укажу...»
Мразь. Антон скрипнул зубами в бессильной ярости. В финале фильма про войну предателя и пособника врага всегда настигает справедливая кара: либо немцы шлепнут при отступлении, либо партизаны повесят на площади освобождённого города. А тут... Получится ли поквитаться когда-нибудь? Эх, лук бы сейчас с доброй стрелой. Или снайперскую винтовку...
Анкер все понял без слов. Он сидел перед хижиной, скрестив ноги по-турецки, напевая под нос нечто заунывное и помешивая ложкой в котелке над костром. Тихо пофыркивали лошади в загоне, было тепло и тихо. Аккер поднял голову, увидел задыхающегося Антона, грязную полосу на щеке и полные отчаяния глаза. Сплюнул сквозь зубы, точным ударом ноги опрокинул котелок в зашипевшие угли (пропал ужин, мать твою...) и вошёл в дом.
Вышел он оттуда уже полностью оружный: секира в чехле у одного бедра, сабля у другого, боевой лук за спиной. Антон однажды пробовал натянуть этот лук: его сил едва хватило до половины.
— Мы не удержимся, — сказал он. — Их там больше сотни.
— Что же делать с царевичем? — ахнул Лоза.
Аккер собрался было ответить, но не успел. Баттхар появился в дверях собственной персоной. Он почти не шатался, и один Бог знает, каких трудов ему это стоило. Даже в густых сумерках была заметна его бледность. И крупные капли пота на лбу. И проступающее на повязке красное пятно. Антон искоса взглянул на него и снова подумал, что зря придирался к парню всю дорогу. Да и придирки его были какие-то несерьёзные, происходящие, вероятно, от его собственного желания казаться не хуже других. Он и был не хуже: дрался на мечах, нырял в ледяную воду и лежал за камнями, в двух шагах от монгольского лагеря. Он делал всё, что от него требовалось. А Баттхар...
Баттхар просто всегда оказывался рядом в нужный момент. И подставлял плечо. Мелькнула мысль: «А ну как не царевича, а меня ударила бы стрела под лопатку? Сумел бы я так же встать, как он, без единого стона? И так же оттолкнуть руку Асмик, чтобы самому, без помощи, сесть в седло?»
— Дай-ка свой плащ, — сказал Аккер. — Я попробую увести монголов за собой.
— Подожди, — вдруг подал голос Лоза.
— Не время спорить, — процедил горец.
— Вот и не спорь. — Лоза решительно вклинился между Аккером и царевичем, снял с Баттхара расшитый плащ и надел на себя. — Я больше похож на него со спины. Мне и отвлекать.
Аккер побледнел лицом — пожалуй, сейчас он выглядел ненамного лучше царевича. Он понимал, что Лоза прав, и теперь сдирал с себя кожу. На секунду он прижал парня к себе и севшим голосом проговорил:
— Постарайся уцелеть. Сделай так, чтобы монголы увязались за тобой, и скачи, не мешкай. Встретимся в Тифлисе, в церкви Александра Афонского.
— Хай, сэнсэй, — весело отозвался Лоза и ударил лошадь по крупу.
Мальчишка, с неудовольствием подумал Антон. Все бы ему в солдатиков играть...
— Скачите и вы, — вдруг сказал горец. — И смотрите мне. Головой за царевича отвечаете.
— А ты? — прошептала Асмик.
— Справитесь, — лаконично бросил Аккер, снимая со спины свой великанский лук. — И запомните: церковь Александра Афонского в Тифлисе...
— Я тебя не брошу! — решительно сказал Антон. — Ты как хочешь, но...
Он не закончил мысль. Аккер, переменившись в лице, схватил его за грудки и прошипел:
— Ты сейчас же уедешь отсюда, понял меня? Побежишь быстрее лошади, потому что у тебя одна цель: довезти царевича до Тебриза. Ради этого отдал жизнь мой брат. И Тор Лучник, и Сандро. Сделай так, чтобы их гибель оказалась не напрасной, чужеземец.
Он помолчал и усмехнулся:
— И не хорони меня раньше времени.
Глава 19 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ...
В ночи огонь виден за много миль. Антона всё время тянуло оглянуться — и всякий раз горящая хижина, словно маяк, светилась во тьме. И ему казалось, что он различает крики и звон оружия, хотя это, конечно, был обман воображения. Слишком далеко.
Слишком далеко, чтобы услышать...
Баттхар крепился изо всех сил, вцепившись в гриву лошади, но всё чаще поникал вниз, чудом удерживаясь где-то на границе яви и не-яви. И тогда его приходилось поддерживать с двух сторон — так они с Лозой поддерживали раненого Заура.
Они так и не смогли попрощаться по-настоящему. И Антон вдруг поймал себя на мысли, что не может вспомнить лицо Заура. Он мог бы назвать каждую заплатку на его одежде, без запинки воспроизвести каждое слово, по минутам рассказать, где они были и что делали... Но лицо стёрлось из памяти, оставив белое пятно, словно на засвеченной фотоплёнке. И это было обидно. Обидно, что он так и не помолился за отлетевшую душу Сандро, чья сабля висела сейчас у него на бедре. И не закрыл глаза Тору Лучнику...
Не было времени.
Одежду им пришлось сменить: Антон украл её в одном из горных селений, оставив взамен свою. Кто-то утром обрадуется и возблагодарит Бога, когда увидит хорошую меховую куртку вместо своих обносков... От лошадей тоже отказались: они были слишком заметны. Их продали на постоялом дворе, получив взамен целый мешок всякой снеди и двух низкорослых осликов ушгульской породы. Ослики, вопреки расхожей формулировке, были прямо-таки по-цирковому послушны, а за свежую морковку разве что не танцевали на задних ногах. При ближайшем рассмотрении один из них, повыше и потемнее шкуркой, оказался самцом, а другой, пониже и посветлее, — самочкой. Антон, ярый фанат сериала «Секретные материалы», нарёк их Малдером и Скалли. Скалли везла на спине невеликую дорожную поклажу, а Малдер — попеременно то Асмик, то Баттхара.
Баттхара приходилось чуть ли не силой сажать в седло. Они брели по ущелью Алазани вдоль реки, всё выше поднимаясь к её истокам, чтобы пересечь Местийский хребет. Панорама внизу, под ногами, открывалась сказочная: извивающаяся лента реки бежала в ступенчатых бортах каньона, покрытого глыбами лавы, когда-то, пару тысяч лет назад, вырвавшейся из жерла вулкана. Своим обликом каньон напоминал сильно увеличенную скульптуру, созданную весьма талантливым художником-абстракционистом.
Малдер и Скалли поднимались по узкой тропе вдоль скального склона, осторожно перебирая копытами и синхронно покачивая головами. Рядом мерно шагал аланский царевич, придерживаясь за ослиный бок. Больше всего он напоминал паломника: Антон обрядил его в сильно поношенный чапан и меховые штаны. Асмик нарядили мальчиком, забрав волосы под старую облысевшую баранью шапку. Но даже в таком виде — облачённая в бесформенную куртку размера на два больше нужного, Асмик выглядела очень мило и женственно. Так, что рождалась тревожная мысль: да какой из неё, к чёрт у, паломник? Достаточно одного внимательного взгляда, чтобы обман раскрылся. Впрочем, глядеть было особо некому: места вокруг тянулись холодные, безлюдные, дикие — такими они были и сто лет назад, и две тысячи, когда раскалённый вулкан плевался лавой в дымные небеса. Даже пастухи с овечьими отарами и одинокие охотники редко забредали сюда, и ни один из них не встретился по дороге. Словно вся планета вымерла в одночасье...
Асмик шла впереди, давая Малдеру отдых. Антон рассеянно поглядывал вокруг, но больше для порядка: нужно было быть совсем уж параноиком, чтобы ожидать здесь нападения. Думалось о доме. Причём — странное дело — думалось гораздо острее, чем тогда, в первый день, когда Антона откопали из-под лавины. Наверное, тогда мозг не успел вполне осознать происшедшее, а потом стало не до этого: пришлось многое познать и испытать на ходу — проходить этакий ускоренный курс молодого бойца. Зато теперь...
Теперь дом снился каждую ночь. Мама с отцом — молодые, загорелые, смеющиеся, на фоне качелей-«лодочек» в Измайловском парке. Студенческие толпы на лестнице в родном универе. Лязгающий на стыках вагон метро, старая афишная тумба на углу улиц Расплетина и Народного Ополчения. Любимое кафе напротив памятника Горькому, где не раз сидели со Светочкой Аникеевой, удрав с лекции... Такие вот думы и сны шлют боги-хранители. Кого — хлестнуть по рукам, отшибая охоту к злодейству. Кого — предупредить об опасности, кого — усовестить за совершённый грех... Хотя — какой грех я совершил? Жил вроде как все — под крылышком у родителей, ссужавших ненаглядному чаду десятки и двадцатки, в тепле и относительной сытости, равнодушно проходя мимо чужой беды, даже отворачиваясь от нищих в подземном переходе.
Не хуже других. Не хуже — кого? Сандро? Заура? Аланского царевича?
Он вздрогнул и испугался до икоты, неожиданно осознав, что не видит Баттхара. Оглянулся и заорал:
— Стой!!!
И сломя голову ринулся вниз по тропе.
Баттхар лежал ничком шагах в двадцати. Он ни разу не пожаловался на усталость и боль в ране. Просто вдруг упал, потеряв сознание.
— Мать твою, — прорычал Антон, лихорадочно приводя царевича в чувство. — Что ж ты молчал? На тот свет решил смыться, да? А мне тут вешайся на осине?
— На какой осине? — вяло поинтересовался Баттхар.
Антон с шумом вдохнул воздух.
— Ну-ка, живо садись на Малдера. Слезешь — прибью собственноручно.
— Ну и вешайся потом, как обещал, — сказал царевич, покорно залезая в седло.
На перевале их застал ливень. Тропу, кое-где пролегающую через ледяные островки, размыло в тёмно-коричневую жижу, и эта жижа медленно стекала вниз, норовя утащить за собой и обоих осликов, и их хозяев.
Те уже не пытались укрыться. Вся одежда промокла в мгновение ока, жестокие струи хлестали, казалось, отовсюду, и чудилось, будто откуда-то — то ли из чрева горы, то ли с серо-сизых небес — раздаётся издевательский хохот. Так духи перевала смеются над самонадеянными путешественниками, что отважились бросить им вызов.
Малдер и Скалли ревели в два голоса и упрямо норовили повернуть назад. Пришлось завязать им морды и вести в поводу — хотя, честно признаться, Антон и с открытыми глазами почти не разбирал дороги. Баттхара на этот раз поставили впереди, и он яростно и упорно, до крови закусив губу, продирался сквозь шторм. Антон шёл чуть сзади, за правым плечом, чтобы царевичу всё время казалось, будто его вот-вот обгонят. Он видел, с каким трудом Баттхару даётся каждый шаг. Болезнь ломала его, и он то и дело вытирал слезящиеся глаза. Да и самого Антона так и подмывало остановиться. Сесть на корточки, свернуться клубочком и замереть в блаженной неподвижности, наплевав на холод и дождь.
Один человек, опытный альпинист, истоптавший весь Кавказ и Тянь-Шань и успевший наследить даже на Памире, в международном лагере у подножия пика Коммунизма, рассказывал, что однажды чуть не замёрз на плёвом, в общем-то, восхождении. Была страшная непогода, вершину затянула серая мгла, а он стоял на страховке, на крошечном скальном выступе, и отчаянно зяб, сжимая в мокрых рукавицах твёрдую, как лом, верёвку. Зубы стучали так, что он всерьёз опасался сломать их. А потом, видимо, наступил какой-то предел: дрожь незаметно исчезла, и стало тепло. Прекратил дуть ветер и валить снег, и он увидел перед собой пальмы и море. Он лежал на оранжевом песочке, а рядом сидела обольстительная женщина в ярком открытом купальнике. Он знал эту женщину: давно, когда он учился классе в четвёртом, она работала у них старшей пионервожатой. Он был тихо влюблён в неё и молча млел при одном её появлении.
— Пойдём купаться, — предложила она, и он безропотно поднялся с песка.
Она взяла его за руку, и они побежали к морю, к белым волнам, ласково наползающим на берег... А через секунду он очнулся, обнаружив, что болтается над пропастью, привязанный (слава Богу!) репшнуром к крюку, вбитому в трещину.
Хорошо бы и мне очутиться под пальмами, вяло подумал Антон. Да чёрт с ними, с пальмами — хотя бы в своей гостиной, возле батареи, и учуять носом аромат из кухни: мама оладьи печёт...
Однако вместо этого он ощутил, как участок тропы у него под ногами вдруг поехал. Он оглянулся, увидел искажённые лица Асмик и Баттхара и услышал дикий крик, перекрывавший шторм:
— Берегись!
Но, видно, холод сделал своё дело. Антон опоздал. Целое мгновение прошло, прежде чем он разглядел внизу, у ног, глубокую трещину, вдруг появившуюся посреди тропы. Она росла на глазах и, расширяясь, обваливалась мокрыми рыхлыми комьями. Он сползал туда, в бездну, — медленно, по сантиметру, но неотвратимо.
Баттхар бросился вперёд. Он успел упасть плашмя на осклизлые камни и ухватить Антона за край одежды. Бездна раскрылась под ними во всей красе — почему-то она казалась прозрачной и полной холодного голубого огня, но это был обман зрения: на самом деле далеко внизу хлестал чёрно-бурый селевый поток, и больше всего этот поток походил на вонючий ручей, стекающий в слив канализации. Баттхар не мог удержать — они по-прежнему медленно сползали вниз, но уже вдвоём.
— Брось, — крикнул Антон.
Царевич отрицательно покачал головой. Пропадём оба, мелькнула мысль. И не полоснёшь ножом по верёвке, как это сделал Заур. С огромным усилием Антон поднял голову и увидел над собой лица своих спутников. Асмик и Баттхар, оба мокрые, грязные и измученные до последней степени, тащили его наверх, на тропу, в четыре руки...
Странно, но им удалось. Со стороны это, наверное, выглядело невозможным: три крошечные человеческие фигурки на размытом горном склоне, посреди разбушевавшейся стихии...
А потом Антон почувствовал животом твёрдый край откоса. Он с блаженством лёг на него, стараясь отдышаться. Его продолжали тянуть, он разлепил посиневшие губы и сказал: «Хватит уже».
Или ему почудилось, что сказал. Гроза грохотала вовсю, вселенская тьма сменялась ослепительными вспышками, и во время одной из них Баттхар вдруг протянул руку и равнодушно сказал:
— Пещера.
Они наверняка бы замёрзли. У них была крыша над головой, но не было ни щепки дров и ни одной сухой нитки. Выручили ослики. Их заставили лечь и прижались с их тёплым бокам, как к печке. И тут же уснули, словно кто-то выключил свет в комнате.
А утром небо очистилось. Солнце играло бликами на вершинах скал, заглядывало в пещеру и, забавляясь, срывало капельки с длинных сосулек. Антон проснулся и, поёживаясь, осторожно выполз наружу. И с изумлением огляделся кругом, поняв, что они попали не в пещеру, а в целый пещерный город. Весь левый берег каньона, вдоль которого они вчера шли, был испещрён полукруглыми входами, высеченными когда-то, несколько тысяч лет назад, в туфовых пластах.
Город тянулся на много километров. Ни одно здание, ни одна стена не была сложена из отдельных камней: всё было высечено в единой монолитной скале — надо думать, адским трудом многих поколений строителей. Никак не верилось, что эти дома, залы, соединённые крытыми галереями, кладовые, храмы, библиотеки и сторожевые башни сделаны людьми. Нет, зачарованно подумал Антон, медленно обходя постройки. Нет, это не могли сделать люди. А если и люди — то очень большие и сильные. И обладающие какой-то совершенно фантастической техникой.
— Вардзани, — хрипло проговорил Баттхар, выбравшись на улицу и встав рядом с Антоном. — Город каменных богов.
— Ты знал о нём? — спросил Антон.
— Слышал от отца. Но никогда не думал, что увижу собственными глазами.
Они долго бродили по нему, все трое: зачарованные и очарованные его величием — настолько древним, суровым, загадочным, что мороз пробегал по коже.
Город был пуст. Его обитатели или умерли, или ушли отсюда много тысячелетий назад. Наверняка когда-то те гулкие комнаты, в которые заходили путешественники, поражали изысканным убранством. Библиотеки были полны редчайших книг на многих языках, и величественная роспись украшала стены храмов. Здесь, в этом городе, бурлила жизнь. Здесь торговали и создавали произведения искусства, любили и ненавидели, решали государственные дела и наблюдали за звёздами, пили вино и возносили молитвы богам. Каким — этого никому из ныне живущих знать было не дано.
Самый большой зал находился в центре города. Он сохранился лучше других: здесь на каменных стенах кое-где были видны следы фресок. Антон постоял немного, оглядывая высокий, метров в десять, свод, и шагнул внутрь.
Помещений было несколько, и все они поражали размерами. То, куда они попали вначале, представляло собой, видимо, тронный зал. Изысканные в своей простоте и строгости каменные скамьи вдоль стен, остатки мозаики на полу и два громадных трона в центре — там, где пересекались падающие из окон солнечные лучи. Здесь сидели когда-то царь и царица, слушая доклады приближённых. Преодолевая робость, Антон подошёл поближе и удивлённо присвистнул. Трудно было сказать, что за человек восседал тут и насколько мудрым и справедливым правителем он был. Любили ли его подданные или втайне мечтали увидеть его голову, насаженную на копьё над городскими воротами. Стар он был или молод, красив или уродлив, но одно было ясно: при жизни этот человек был великаном. Где-то метра два с половиной роста, прикинул Антон. А то и все три...
— Хоть бы дров нам оставили или еды, — проворчал Баттхар и чихнул, подняв облачко пыли. — Камни и камни. Если хотим засветло спуститься в долину, надо поспешить. Аккер с Лозой уже, поди, ждут.
Антон отвёл взгляд от некогда великолепного трона и с горечью и надеждой подумал: «Если бы так.
Если бы мы снова встретились там, где говорил Аккер: в Тифлисе, в той самой церкви. Все пятеро — пусть раненые, пусть усталые, но живые». Многое он отдал бы за это...
Видимо, он неосторожно дотронулся до чего-то рукой. Или наступил на плиту, приводящую в действие некий скрытый механизм, который не испортился и не рассыпался в прах за несколько тысячелетий. Асмик ахнула от неожиданности, а Антон с царевичем синхронно схватились за оружие, ибо что хорошего можно ждать от комнаты, где высеченные из единого камня кресла поворачиваются сами собой.
Плита в полу сдвинулась без единого шороха. Осторожно, едва ли не на четвереньках, Антон приблизился к открывшемуся отверстию и заглянул внутрь. Он ожидал уловить запах плесени, затхлости и холода — будто из погреба под заброшенным домом. Однако оттуда, из подземелья, не пахло ничем. Воздух был неподвижен и, казалось, стерилен, как в операционной. Длинная винтовая лестница уходила далеко вниз и терялась во мраке.
— Может, уйдём? — неуверенно предложил Антон. — Ну их к шуту, эти загадки, нам ещё топать и топать...
Царевич посмотрел на него укоризненно: сам-то, мол, веришь в то, что говоришь?
Пару факелов соорудили из той части одежды, что пришла в негодность, облив её маслом. Баттхар чиркнул кресалом, высекая огонь, и они двинулись — медленно и сторожко, прикрывая один другого. Асмик хотела пойти следом, но её не пустили: «Не хватало ещё пропадать всем троим из-за двух придурков».
Спускались долго. Времени здесь как бы не существовало — лишь сбегали вниз идеально подогнанные каменные ступени и потрескивал импровизированный факел, освещая такие же идеально гладкие стены, испещрённые причудливыми рисунками и надписями: то ли «Добро пожаловать!», то ли «Не влезай — убьёт!».
Иногда Антон поднимал голову и осматривал потолок, втайне ожидая увидеть переплетения паутины в палец толщиной и жирных безобразных пауков размером с кошку. Наверное, тогда ему было бы легче. Однако здесь не было ни следа чего-нибудь органического. Холод и камень без единой шероховатости. И ощущение чего-то старого, первобытного, не умещающегося в сознании...
Ступени закончились неожиданно. Перед ними лежал подземный зал, вырубленный в толще горы. Настолько большой, что свет от факела не доставал ни до стен, ни до потолка. Лишь угадывались в полумраке статуи в глубоких нишах: Антон узнал короля Гесера в огромном шлеме, Мать-Небо Тенгри и седобородого старца Эрклинга, правителя подземного мира. По одному из ликов змеилась трещина: видимо, даже чёрный гранит не устоял перед грузом времени. А может, причиной было землетрясение, случившееся невесть когда. Антон поднял факел над головой, чтобы рассмотреть получше. И замер, вмиг позабыв и о статуях, и о самом городе, что высился наверху, над ними. Сзади на него налетел царевич, но даже это не вывело Антона из оцепенения.
Посреди зала, на широком возвышении, стояла каменная усыпальница. Давнее землетрясение раскололо крышку гробницы: одна её половина лежала на полу — то ли упала сама, то ли сбросили чьи-то недобрые руки. Антон посветил факелом внутрь пролома — и невольно отпрянул. Потому что в усыпальнице лежал человек.
Удивительно, но время почти не тронуло его и не превратило в скелет. Одежды не было видно — её скрывала нижняя, уцелевшая половина крышки, но лицо, и шея, и кисти рук...
— Ты не можешь быть человеком, — прошептал Баттхар, глядя в лицо незнакомца, умершего много тысячелетий назад. Кожа не истлела — то ли была покрыта особым составом, то ли просто не поддавалась тлению по своей природе. Она лишь стала тонкой до прозрачности, и под ней угадывались мышцы и сухожилия. Однако это нисколько не отталкивало — наоборот, на незнакомца в усыпальнице хотелось смотреть до бесконечности.
— Смотри-ка, — вдруг подал голос царевич. — Знак. Я видел такой, когда нырял в озеро. Помнишь, я рассказывал...
— Да, — тихо отозвался Антон, разглядывая рисунок на плите в изголовье. Правильный треугольник, внутри которого гордо сидел сказочный (или не сказочный) зверь — лев с мощным мускулистым телом и человеческой головой. На голове покоился венок из лавровых листьев. Или то, что они принимали за венок: разум, как всегда, удачно цеплялся за земную аналогию.
— Похоже, не придётся тебе осушать то озеро в древнем капище, — заметил Антон.
Баттхар поднял на него глаза.
— Ты думаешь, это...
— Царь Давид. — Антон сделал паузу. — Или — его предок. Знаешь, надо бы положить крышку на место. Нехорошо оставлять могилу открытой.
...Крышка оказалась тяжёлой, но они справились. И долго потом стояли возле, молчаливые и торжественные, словно отдавая некую дань... Факелы давно догорели, но то ли их глаза привыкли к темноте, то ли сюда, в подземелье, откуда-то просачивался свет, делая видимыми контуры предметов. Следовало бы что-то сказать, но слова не рождались в голове. Слишком много было эмоций и впечатлений — так много, что они перешли некую критическую отметку. Только подумалось: ведь не поверят, если рассказать... Да и кому рассказывать.
Они постояли ещё немного и молча двинулись к выходу. У Антона мелькнула вдруг мысль: а не устроили ли древние ловушку в коридоре, наподобие той, что обрушила тоннель в капище, — помнится, один из людей Чёрного Тамро сложил там свою дурную голову... Потом посмотрел на спокойно идущего впереди Баттхара — и мысль исчезла. В самом деле: не станет же прапрапрадед чинить зло собственному прапраправнуку. А в том, что там, в подземной усыпальнице, лежит далёкий предок царевича Баттхара, Антон нисколько не сомневался.
Они достигли Тифлиса через пять дней. И сидели здесь безвылазно, на грязном постоялом дворе, уже третью неделю. И третью неделю подряд Антон, едва наступало утро, приходил к воротам церкви Александра Афонского, словно Штирлиц — в кинотеатр в Берлине, где ждал связника из центра. Штирлиц ненавидел этот кинотеатр и фильм, который там крутили. Антон с той же яростной силой ненавидел эту ни в чём не повинную церковь. И прилегающий к ней квартал с древней крепостью Нарикала. И Мцхетскую цитадель на противоположном берегу, откуда, согласно преданию, город брал своё начало.
Когда-то, гласило предание, царь Вахтанг охотился со своей свитой в этих местах, которые тогда покрывал густой лес. Преследуя дичь, царь потерял из виду остальных охотников и понял, что заблудился. Быстро темнело, и его охватили тревога и голод. Внезапно из кустов вылетел фазан, и царь поразил его меткой стрелой. Когда же, спешившись, он хотел подобрать добычу, то обнаружил, что фазан упал в горячий источник и сварился. Отставшая свита нашла своего повелителя в глубоком раздумье, склонённого над бьющим из-под земли ключом. И царь Вахтанг приказал заложить в этом месте город...
Все эти сведения Антон почерпнул из рассказа словоохотливого хозяина постоялого двора, старика Сагура. Должно быть, его заведение не пользовалось большой популярностью, потому что новым постояльцам, пусть и небогатым, он обрадовался, словно родным племянникам. Ещё приветливее он сделался после того, как Антон выпроводил со двора двух подвыпивших джигитов, которые затеяли выяснять отношения у всех на виду. Оба джигита были вооружены саблями и всерьёз намеревались пустить их в ход. Антон походя отобрал оружие, надавал по шее обоим соискателям славы и пинками отправил их за ворота, пробормотав что-то насчёт речки, мостика и двух баранов. Этим подвигом он заслужил бесплатный обед для себя и своих спутников, предложение наняться в вышибалы (а что, вяло подумал он, может, и придётся: профессия вполне уважаемая и денежная...) и преклонение Сагурова внука — чумазого сорванца восьми лет от роду. Мальчишка ходил за ним по пятам, уважительно трогал его ладони, отполированные до твёрдости дубовой доски, и разглядывал кинжал на поясе, который Антон так ни разу и не вынул из ножен.
— Ну что тебе? — наконец не выдержал Антон.
Мальчишка сверкнул агатовыми глазёнками и выпалил:
— Научи меня так сражаться!
— Зачем?
Он удивился.
— Как зачем? Я вырасту, стану великим воином и срублю голову тому шакалу, который живёт в соседнем дворе и дразнит меня каждый день.
Ещё один готовый чеченский террорист, вздохнул Антон и взлохматил мальчишке непослушные волосы.
Кому они нужны, великие воины, сказал когда-то Аккер. Настоящий мужчина должен растить хлеб и виноград. Воспитывать детей. И любить жену.
Аккер...
Аккер верхом на чёрном, как порох, коне, среди тучи брызг, с секирой в руке — один против десяти. Аккер, в задумчивости сидящий возле костра, жёсткое лицо в красных отсветах кажется высеченным из гранита. «Почему ты согласился нам помочь?» — спросил Антон, ещё не веря своему счастью. «Однажды я поспорил с Зауром, кто из нас умрёт мужественнее, — ответил горец. — И если ты не соврал мне, чужеземец, то мне придётся отдавать ему долг». Аккер с маленькой заплаканной девочкой на руках — и лицо у него совсем другое, мягкое, почти нежное... Аккер в последнюю секунду перед их расставанием: «Не спеши хоронить меня, чужеземец. Мы ещё встретимся. И запомни: церковь Александра Афонского...»
Черт бы побрал эту церковь.
Черт бы побрал этот город («Тёплый ключ» в переводе с грузинского), где преобладают два цвета: красный и чёрный. Где вдоль узких извилистых улочек тянулся лавочки и мастерские, в которых изготавливают и тут же продают одежду и обувь, еду и оружие, посуду и украшения...
Где можно встретить колоритного местного кинто в высокой бараньей шапке и широченных шароварах, иранского купца в длинном халате и белой чалме, почтенную грузинскую матрону в сопровождении слуги-грека, держащего над своей госпожой зонтик от загара... Белое лицо для женщины — предмет гордости и заботы, знак её красоты и принадлежности к высшим слоям.
Первые дни Антон ходил по городу как зачарованный, с трудом сознавая, что своими глазами видит саму Историю — не музейную экспозицию, снабжённую табличкой «Руками не трогать!», не современную реконструкцию. Что все здесь — от домов-башен и людей на улицах до последнего камешка — подлинное, настоящее, тутошнее...
Однако потом чувство новизны притупилось. Он приходил к воротам церкви неизвестно в который раз и не ощущал ничего, кроме усталости и раздражения. Ни Аккер, ни Лоза не появлялись, и надежда, что они встретятся, таяла с каждым днём.
Малдер и Скалли — мудрые существа — похоже, чувствовали настроение хозяев и сами потихоньку впадали в уныние. Их уже не радовало ни вкусное сено, ни даже свежая морковка. Они растолстели, обрюзгли и стали частенько задирать друг друга.
...Антон вошёл в храм через небольшой вытянутый в длину притвор и оказался перед высоким алтарём, в сумеречной гулкой глубине, меж четырёх мощных столбов, подпирающих изнутри купол. В этот час в церкви было пусто и тихо, лишь потрескивали свечи перед образами. Он постоял немного возле одной из икон: седобородый старец, с очень живым и добрым лицом, приветливо и совсем не грозно взирал со стены, протягивая вперёд открытую ладонь — будто ободряя Антона. И желая ему удачи. «Спасибо, — неслышно проговорил тот в ответ, — удача мне бы не помешала».
Он всегда останавливался здесь, словно исполняя некий придуманный им же ритуал: ставил свечу, кланялся и неумело крестился, отчего-то стесняясь себя самого. Потом медленно шёл дальше.
Лики святых смотрели на него, бредущего вдоль каменных возвышений, поднимающегося по заходным полатям наверх, в центральную галерею, украшенную изысканным византийским орнаментом — строгими полосами белого, синего и чёрного цветов в обрамлении узора из трилистников. Помнится, попав сюда впервые, Антон был восхищен и очарован и даже подавлен величественной красотой храма — и мастерством тех, кто расписывал центральный купол, выкладывал мозаику и тщательно продумывал игру света на ней... Он не знал, что станет с храмом в будущем — разрушат ли его войска Тимура, погибнет ли он во времена церковного раскола, превратится ли в картофельный склад (это уже в наш просвещённый век), и вспомнят ли о нём потом, когда станет нужно «раскрутить» богатого спонсора на предмет реставрации... Бог весть. Не хотелось сейчас думать об этом.
Какая-то тень вдруг мелькнула в правом приделе и тут же растворилась. И вроде (Антон напрягся) не прихожанин, а будто служитель. Ряса, подпоясанная кручёной верёвкой, глухой капюшон... Кто же будет бродить по храму в капюшоне? Может, просто почудилось? Вообще-то, после всего, что выпало пережить, — неудивительно... Антон перевёл дух, обернулся...
И увидел перед собой Анкера.
Горец стоял посреди галереи, спокойно глядя на Антона, и у того перехватило дыхание от прямо-таки щенячьей радости.
— Аккер! — завопил он и кинулся навстречу. Был бы у него хвостик — он бы завилял им. Хотелось заорать что-то победное, стиснуть горца в объятиях, забросать вопросами: как же ты спасся? Почему не объявлялся так долго? Уцелел ли Лоза? Эх, обрадовать бы своих поскорее — то-то подпрыгнут до потолка...
Он рванулся вперёд со всех ног, чтобы прыгнуть с разбега и обнять... И вдруг остановился, налетев на ледяной взгляд, как на стену.
— Аккер, — слегка растерянно сказал Антон.
Горец смотрел холодно, застыв, словно прицеливаясь. Потом сделал движение — и в руках у него оказался лук. Тот самый, что украшал собой стену в его хижине. Страшная потаённая сила жила в этом луке — в его мощных, в обхват, плечах, покрытых берестяной оплёткой и серовато-жёлтыми костяными накладками. Знатное оружие, и подчиняется только воину себе под стать. Длинная оперённая стрела мягко, с невыразимой нежностью, легла на тетиву. Антон непроизвольно сделал шаг назад и жалобно сказал:
— Аккер, ты что?
Пусто и звонко сделалось в голове. Вспомнилось вдруг странное: их необъяснимые задержки в пути, будто они нарочно приманивали погоню, как они оказались в древнем капище — фактически мышеловке с единственным выходом, приглушённый голос Сандро: «Нас предали, Заур, разве не видишь? Предали с самого начала!» И — разговор Аккера с невидимым собеседником возле молельни на перевале Трёх Сестёр: «Тебе не жаль парня?» Нисколько не жаль, с горечью подумал Антон. А чего меня жалеть.
Вот я и нашёл предателя. И заодно ответы на мучившие меня вопросы. Он увидел, как Аккер медленно натягивает тетиву и подумал, что надо бы что-то сделать: уклониться вправо, уйти в кувырок (учили ведь тебя, дурня), в сдвоенный удар ногами... Конечно, горца на такое фу-фу не купишь, но хоть бы выиграть пару секунд, сдохнуть красиво, в борьбе, пусть и безнадёжной...
Но он остался на месте. И даже не шелохнулся, услышав за спиной невнятный шорох — а не все ли равно. Антон и так знал, кто стоит там: конечно, тот монах без лица, с повадками майора спецназа. Какая разница, откуда ждать смерти: от стрелы в грудь с пяти шагов или от удара по затылку. (Что там у него в руках? Топор, сабля, бошевская кофеварка?) Антон мужественно усмехнулся в лицо врагу: я умру достойно, паршивец, можешь не сомневаться. Как-никак твой ученик...
— Пригнись, — вдруг сказал Аккер без выражения.
Антон бездумно выполнил команду. Звонко щёлкнула тетива, и сзади послышался короткий удивлённый вскрик.
Удивлённый и обиженный — так кричит человек, не ожидающий удара. Тем более если этот удар — роковой, смертельный, подлый — наносит тот, кого до последней секунды считал близким другом...
Прошла, наверное, целая минута, прежде чем Антон, приложив титаническое усилие, заставил собственную спину разогнуться. Он повернул голову — и безжалостно, словно гоночный автомобиль в бетонную стену, врезался взглядом в стеклянные глаза распростёртого на полу человека, одетого в до ужаса, до озноба знакомый расшитый узором аланский плащ.
Человек был мёртв — об этом говорили скрюченные пальцы на руках и сведённый судорогой рот, неестественно вывернутые ступни и стрела, торчащая из худой шеи с выпирающим кадыком.
Глава 20 ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ АД
Я был один.
Я был единственным живым существом в этом царстве мёртвых — я мог бы пройти всю землю из конца в конец, от Великого моря до Абескунского, и стереть железные сапоги о горы, застилающие горизонт... Я мог бы получить в подарок вечную жизнь и положить её на поиски людей — и потратил бы её впустую.
Потому что людей здесь не осталось. Ни одного живого.
Улицы некогда красивого, цветущего города были усеяны трупами. Они вповалку лежали на мостовых — проткнутые копьями и мечами и утыканные стрелами, на порогах домов и во дворах... Кто-то ещё сжимал в заледеневших руках оружие, кто-то перед смертью оружие бросил, надеясь на пощаду, — но пощады не получал никто. Нукеры хана Тохтамыша, озверев после трёхдневной осады, убивали всякого, кто попадался на пути. И долго ещё глумились над мёртвыми телами: срывали украшения с женщин и отрезали уши у мужчин, чтобы было чем похвастаться ночью у костра...
Я видел это собственными глазами. Я был на стене, возле бойницы, и наблюдал, как монголы лезли по приставным лестницам и как защитники Меранги сбрасывали их оттуда, но те лезли снова, и не было им числа. Под одним из нападавших лестница обломилась, он успел ухватиться за каменный парапет и повиснуть на руках, дико вопя что-то на своём языке. К нему подскочил аланский воин, полоснул саблей по запястьям — и монгол полетел вниз, оставив на стене отрубленные кисти. Эти кисти ещё шевелились несколько секунд. А потом этот воин полетел вслед за своим врагом — пущенная снаружи монгольская стрела прорвала звенья кольчуги и впилась под сердце... Он упал на труп поверженного им монгола — теперь они будут лежать вместе, смёрзшись, до Страшного суда, чтобы подняться потом рука об руку, сверкая мёртвыми улыбками. Но это будет ещё не скоро.
Обмотанные паклей камни и горшки с греческим огнём густо, как горох, осыпали крыши домов, в ворота бил окованный железом таран, и нельзя было выглянуть из бойницы: монгольские всадники, выстроившись каруселью, скакали по полю и на ходу пускали в каждое окно по десятку стрел.
— Почему не идёт подмога? — время от времени шептала Регенда. — Я уже трижды посылала гонцов к Исавару и грузинскому царю. Почему они медлят?
Её гибкое, ладное тело — тело, известное мне до последнего изгиба, до последней родинки, было облачено в кольчугу, перехваченную широким воинским поясом. Из-под шлема выбивались длинные густые пряди, свободно падая на спину, — она была обворожительна, моя царица, и напоминала амазонку греческих мифов. Или сказочную валькирию из скандинавских саг — те северные поморы, с которыми мне доводилось встречаться, говорили, будто эти девы-воительницы наделены властью дарить победу или гибель в бою и сопровождать павших героев в Вальхаллу, на вечный небесный пир... Она до боли сжала мою руку, словно ища поддержки, и в который раз проговорила:
— Они придут. Обязательно придут.
— Сомневаюсь, — тихо сказал я.
Она пристально посмотрела мне в лицо, и её глаза вспыхнули знакомым огнём — так она смотрела, когда хотела мне возразить. Или подластиться. Или заняться любовью.
— Нет. Не мог же мой собственный брат предать меня. И царь Гюрли клялся мне в вечной дружбе...
— Ничего нет вечного под этими небесами, — мягко сказал я. — Тем более недолговечны человеческие клятвы — я много раз убеждался в этом.
— Они не могли... — упрямо сказала Регенда. Но она знала, что я прав, — я видел это по её напряжённой, вытянутой в струнку спине и сухим глазам. Она уже ничего не ждала.
Мы были в центральной башне замка, самого высокого сооружения в окрестностях, и отсюда, из окна, открывался некогда великолепный вид на город. Я любил подолгу стоять перед этим окном, размышляя над своей книгой, и строки сами ложились на бумагу, словно им становилось тесно у меня в голове.
Теперь на город нельзя было смотреть без содрогания. Он был окутан чёрным зловонным дымом, наполнен злобным ржанием лошадей, людскими криками и звоном оружия. Оставшиеся в живых защитники спешно заваливали проходы меж домов, но в это время монголы прорывались в десятке других мест и били в спину. Они упорно, с яростными воплями лезли на баррикады, срывались, и скатывались вниз, и лезли опять. Или — оставались лежать на камнях, и бой для них уже не гремел...
Меранга была обречена. На окраинах уже вовсю грабили опустевшие дома и ссорились из-за добычи. Ближе к центру ещё звенели сабли и били в упор стрелы. Однако монголы неотвратимо приближались к воротам замка — последнему оплоту осаждённых, последней надежде...
Стукнула дверь в комнату. Вошёл воевода — он двигался с трудом, потому что был дважды ранен: в бедро и левую руку.
— Они прорвались, госпожа, — коротко сказал он. — Мы продержимся до полудня, не больше.
— Я поняла, — спокойно сказала Регенда.
Воевода помолчал.
— Тебе нужно уходить, госпожа. Остальные уже покинули город подземным ходом, как ты приказала.
— Хорошо, — произнесла она. — А теперь оставь нас.
— Но, госпожа...
— Оставь, — тихо повторила Регенда. Подошла, встала на цыпочки и поцеловала воеводу в щёку. — Ступай и ты. Незачем тебе умирать. Это мой приказ.
Мы снова остались одни. Бой, судя по звукам, перетёк во двор — там, сцепившись в клубок, бились прорвавшиеся враги и последние защитники города. Красновато-чёрные клубы дыма просачивались в окно, и всюду звенело, трещало, заходилось истошным криком — счастлив тот, кто не знает подобного.
— Нам в самом деле нужно идти, — сказал я. — Ты должка вынести из города Копьё Давида. Пока Тохтамыш не захватил его — ничто не потеряно.
— Копьё Давида уже далеко, — ответила царица.
Я остановился, словно поражённый громом.
— Что... Что ты сказала?
— Я отправила его в Тебриз с одним из гонцов.
Я не осознал её слов. Что-то сместилось в моей голове, я застонал, как от непереносимой боли и схватил Регенду за плечи.
— Как ты могла?!
— Это было единственное условие грузинского царя, — ответила она. — И единственная надежда спасти город.
Не знаю, что на меня нашло. Мои пальцы помимо воли сомкнулись на её горле — ещё чуть-чуть, и я задушил бы её. Кажется, она была и не особенно против.
Парадокс: я должен был её возненавидеть. Но — полюбил вдруг так, как не любил никогда раньше. Она стояла спиной к окну, и багровые отсветы пламени плясали на её серебристых доспехах. Широко распахнутые глаза смотрели на меня с ужасом и непонятной надеждой — словно на бога, сошедшего с небес. Я спасу тебя, поклялся я самому себе. Пусть мне придётся нести тебя на руках из этого пылающего города, пусть вся монгольская армия встанет у меня на пути — я пройду сквозь неё, как нож сквозь масло. И только презрительно улыбнусь, почувствовав, как чужой клинок вонзается в спину меж лопаток...
Я сделаю это — не ради какого-то Копья Давида, я не ведал, что это такое. Не ради своей несбывшейся мечты подчинить себе будущее (да и возможно ли это?), и даже не ради слепого дервиша (сейчас я почти не сожалел о том, что убил его).
Ради неё, Моей Женщины. И ради нашей маленькой дочери, которая жила теперь где-то далеко (я знал где!), под присмотром чужих, но надёжных людей.
В последний раз, когда мы навещали её — тайно, разумеется, — Регенда сняла ожерелье со своей груди и надела его на Асмик. Девочка на секунду замерла от восторга, потрогала пальчиком переливающиеся бусины и осторожно, даже, кажется, перестав дышать, спросила:
— Это мне? Насовсем или поносить?
Регенда ласково улыбнулась.
— Насовсем, милая. Оно будет напоминать тебе обо мне... О нас.
Она помолчала, ещё раз коснулась ожерелья и серьёзно проговорила:
— Я его спрячу, чтобы не потерялось. — И убежала куда-то, словно боялась, что кто-нибудь подсмотрит.
Огромного роста мужчина появился в дверях. Постоял у порога, вошёл и поклонился Регенде.
— Здравствуй, пресветлая госпожа.
Регенда кивнула.
— И ты здравствуй, Аккер.
Крики дерущихся доносились из внутреннего двора. Оттуда, где некогда был сад с маленькой белой беседкой — я помнил, как вошёл туда впервые и возле ручья увидел женщину, которую перед тем спас от грабителей. Это было давно — мои глаза были зорче в ту пору, и меньше было седины в волосах.
Я взял со стола рукопись и сунул её за пазуху: пожалуй, это была единственная моя вещь, которая заслуживала того, чтобы её сохранили.
— Пойдём, — сказал я Регенде и протянул ей руку.
Она доверчиво взяла её, сделала шаг — и вдруг остановилась. И мягко, почти невесомо опустилась вниз, так, что я едва успел подхватить её. Длинная монгольская стрела, влетев в раскрытое окно, ударила её точно меж лопаток. Я увидел торчавшее из спины древко с чёрным оперением и крошечную, совсем несерьёзную капельку крови на разорванном кольчужном звене.
Я взял Регенду на руки. Она была очень лёгкой — я без труда донёс бы её хоть до дворца эмира Абу-Саида в моём родном Седжабе, если бы у меня возникла мысль вернуться туда. Если бы только это потребовалось...
Она была ещё жива. Глаза её, уже подернутые белёсой дымкой, приоткрылись, и она прошептала:
— Асмик... Не оставь её.
— Не беспокойся, моя госпожа, — сказал я, потому что больше ничего сделать не мог.
Регенда чуть заметно, в последний раз, улыбнулась.
— Не называй меня госпожой.
Я долго стоял с ней на руках. Так долго, что Хромой Тимур вкупе со своим зятем Тохтамышем, пожалуй, успели бы захватить не только Мерангу, но и весь Кавказ вместе со Средней Азией, и даже дойти до Западной Индии, куда так стремились.
Очень осторожно, словно боясь причинить ей боль, я опустил женщину на ковёр. И закрыл ей глаза. Взял со стены саблю, обнажил бесскверный клинок и отбросил прочь ножны — вряд ли они ещё мне понадобятся. Мелькнуло секундное сожаление, что моя рукопись всё-таки погибнет в огне. Впрочем, и это скоро перестанет волновать меня — когда я предстану перед престолом Всевышнего. Я посмотрел в лицо Регенды — такое неподвижное, спокойное и невыразимо прекрасное — и стал спускаться по лестнице навстречу звукам боя.
Какая-то смутная фигура почудилась мне впереди. Человек стоял спокойно и нападать не думал. Что ж, его счастье.
— Торопишься умереть? — участливо спросил он, и я узнал слепого дервиша.
Он нисколько не изменился. На нём был тот же островерхий колпак с белой ленточкой и подпоясанный верёвкой плащ, состоявший, казалось, из одних заплат. Я помнил этот плащ: он был на дервише и тогда, в нашу первую встречу в Седжабе, когда я спас его от побоев разъярённой толпы. Спас, чтобы убить.
— Достойное решение, — проговорил он и рассмеялся трескучим смехом. — Скольких врагов ты намерен утащить с собой в могилу? Пятерых, десятерых? Что ж, у великого хана много воинов. Правда, твоя женщина так и не будет отомщена, и твоя дочь пропадёт в безвестности. И тот человек, с которым ты мечтал встретиться, пройдёт мимо, не оглянувшись. Но ведь тебе это не важно, верно? Тебе хочется одного: оросить кровью твою никчёмную саблю, увидеть, как слетит голова с какого-нибудь оборванца, прежде чем другой оборванец снесёт твою... Но тогда ради чего ты заморил меня голодом? Ради какой великой цели променял халат царедворца на грубый плащ паломника? Ответь мне, Рашид ад-Эддин из Ирана!
Он говорил мне что-то ещё, но я не отвечал. Бессмысленно разговаривать с человеком, который умер. Тем более что и сам я был наполовину мёртв — о чём могут беседовать два мертвеца? Я прошёл мимо него, не сбавляя шага, — даже не мимо, а сквозь него. И вдруг кто-то схватил меня за рукав.
— Дада!
Я обернулся. Мой спутник, с которым я когда-то пришёл в этот город, стоял передо мной навытяжку и отчётливо хлюпал носом. Но глаза его были сухими.
— Почему ты до сих пор здесь? — строго спросил я.
— Я не оставлю тебя, отец, — сказал он и опустил голову. — Хочешь — можешь убить меня прямо здесь. Только не прогоняй, не бесчести.
— Глупый, — пробормотал я. — Кто же тебя бесчестит?
Я присел перед ним на корточки, заглянул в его решительное лицо и подумал: а мальчишка-то вырос. Я и не заметил, старый дуралей. Впрочем, неудивительно: на войне мальчишки быстро превращаются в мужчин.
— Сейчас нам нужно будет расстаться, — сказал я. — Возможно, надолго. Но мы встретимся, это я обещаю.
— Встретимся? — он нашёл в себе силы криво улыбнуться. — На небесах?
Я улыбнулся в ответ.
— Думаю, гораздо раньше. Придёт время — и я найду тебя, где бы ты ни был. И тогда я попрошу тебя об услуге. Ты согласишься выполнить её?
— Всё, что ты скажешь, дада.
— В самом деле? — Я внимательно посмотрел на него, и мальчишка не отвёл глаз. — А если я велю тебе солгать или совершить подлость? Или убить лучшего друга?
— Всё, что ты скажешь, — твёрдо ответил он.
Я не обернулся, хотя знал наверняка, что он пристально смотрит мне вслед. Так было легче — и мне, и ему.
Я шёл медленно, стараясь, чтобы ноги не скользили в подтаявшем снегу и месиве из человеческих внутренностей. Всюду лежали трупы — сначала я отворачивался, но потом, устыдившись, заставил себя смотреть прямо, не пряча глаза. В разорённом городе хозяйничали монголы. Странно, но они не обращали на меня внимания: я брёл посередине улицы, и никто не трогал меня, словно я был зачумлён.
Над воротами замка, в петле из полосатого монгольского аркана, висело полностью обнажённое женское тело. Длинные волосы цвета потемневшего золота — волосы, которые так поразили меня при первой нашей встрече, волосы, в которые я любил зарываться лицом, и задыхаться от наслаждения, и умирать, чтобы воскреснуть вновь, — совершенно скрывали лицо женщины, и это было удачей: иначе, боюсь, я бы не выдержал.
Настанет время — и моя рукопись пополнится новой главой, описывающей то, что я видел сейчас. Погибший город. Погибший дворец с погибшим садиком, где почерневшие, обугленные яблони в беззвучном крике тянули к небесам оголённые ветви. Я мимолётно порадовался за Регенду: она умерла легко и быстро, и душа её была уже на пути к Аллаху, когда монголы истязали её мёртвое тело. Ей всё-таки удалось ускользнуть от них — эта мысль вызвала у меня торжествующую улыбку. В этот миг дуновение ветра отбросило волосы от её лица. Я поднял голову, и мы в последний раз посмотрели друг на друга. Моё сердце билось ровно. Так бьётся сердце человека, который всё обдумал и принял решение...
Остриё копья больно ткнулось мне в грудь. Я опустил глаза и увидел перед собой монгольского воина. Воин был явно из бедных: вытертая меховая безрукавка криво сидела поверх тонкого, не для зимы, халата, и лисья шапка на голове имела такой вид, будто он носил её в те времена, когда был ребёнком. Даже сабли не было на боку — только кривоватое копьё в руке да лук за спиной с полупустым колчаном. Зато на тощей грязной шее в три ряда болтались женские бусы, и оба мизинца не гнулись от нанизанных перстней.
Он улыбнулся и медленно отвёл руку для удара. Наверное, он ждал, что я отшатнусь или паду на колени, вымаливая пощаду. А не то попробую защититься (тоже развлечение), хотя оружия при мне не было: я оставил саблю в пылающем замке.
Однако я не двигался, и это его обескуражило.
— Мне нужно видеть кагана, — сказал я.
Вокруг довольно захохотали. Кто-то даже согнулся пополам, выронив копьё, кто-то хлопал себя ладонями по коленям, а тот, что стоял передо мной, издевательски поинтересовался:
— Желаешь видеть кагана? А может, ты хочешь, чтобы тебя утопили в яме с нечистотами? Соглашайся, собака, для тебя это хорошая смерть.
Я не ответил. Просто стоял и ждал, пока стихнет смех.
Золотой шатёр, взятый как военный трофей в одном из китайских походов, поражал обилием ковров. Даже меня, привыкшего к коврам у себя на родине. Искусно подобранные по цвету, привезённые из Самарканда и Отрара, Ирана и Индии, они покрывали собой пол и стены, и даже были пришиты к потолку, окаймляя круглое отверстие для дыма.
Мои руки были крепко стянуты за спиной, а меж лопаток время от времени ощущался наконечник копья, подгоняя и показывая дорогу. Хотя последнее и не требовалось: золотой ханский шатёр, поднятый на рукотворный холм, был виден издалека. Меня обыскали трижды, с ног до головы, и я усмехнулся такой предосторожности: всё равно я и пальцем не мог пошевелить. Шея тоже была перетянута верёвкой, конец которой держали сзади: одно подозрительное движение — и меня не оборонил бы сам Всевышний. У самого входа мне грубо наклонили голову и сильным пинком отправили внутрь — я буквально влетел в шатёр и ткнулся носом в пол у подножия ханского трона.
Я медленно поднял глаза. Людей в юрте было немного: десяток телохранителей-тургаудов вдоль стены, трое военачальников из подчинённых монголам эмиров и два великих хана, чьи кони скакали по Кавказу бок о бок. Хромой Тимур и Тохтамыш, золотой сокол на ярко-голубом фоне и чёрный бык с налитыми кровью глазами[25]. Все смеялись надо мной, лишь сам Тимур не раздвинул губ. Наверное, ещё живо было в его памяти время, когда он так же стоял на коленях перед троном своего вечного врага Аглай-бека, и тот, издеваясь, предлагал ему богатый выбор: четвертование лошадьми, тупая бамбуковая пила или яма с ядовитыми змеями. Где он сейчас, славный Аглай-бек? Высится ли над ним могильный курган, или дожди омывают его так и не погребённые кости?
— Кто ты? — без выражения спросил Тимур.
— Меня зовут Рашид ад-Эддин, солнцеподобный хан, — сказал я. — Я родом из Ирана, но многие годы прожил в Меранге и служил правительнице города, царице Регенде.
— Вот как? — медленно проговорил каган. — И что же ты делал возле царицы? Мыл ей ноги по утрам или выгребал навоз из её конюшен?
— Иногда я давал ей советы в государственных делах, — ответил я. — И бывало, царица находила в моих советах крупицы мудрости.
Он пристально посмотрел на меня, и, клянусь, мне потребовалось немалое мужество, чтобы выдержать этот взгляд. Думаю, не много найдётся людей под этими небесами, которые могли бы похвастаться тем же.
Только теперь я разглядел его как следует. И удивился, обнаружив, что он совсем не походил на монгола. Если бы не ковры и шёлковые подушки, что его окружали, не роскошный халат оранжевозолотистой расцветки и не островерхая шапочка, украшенная драгоценными камнями, его можно было бы принять за европейца. Луноликий и плосконосый Тохта-хан выглядел рядом с ним точно простой пастух из бедного куреня. И Тохта-хану это явно не нравилось. Он отбросил от себя золочёный кубок, расплескав вино, вскочил на короткие ноги и ткнул в меня концом плети.
— Много чести тебе, собака, чтобы мы выслушивали твой бред. Эй, привяжите-ка его к дохлому жеребцу, обложите хворостом да подпалите, чтобы наши воины позабавились!
— Не спеши, — негромко проговорил Тимур. И ни один из тургаудов не двинулся с места, отлично понимая, кто отдаёт здесь приказы. — Чем же ты докажешь, Рашид ад-Эддин из Ирана, что служил советником у местной правительницы?
— Твои воины, великий хан, наверняка обыскали дворец сверху донизу, — сказал я. — Но вряд ли нашли вход в сокровищницу, ибо перед смертью царица Регенда приказала завалить его камнями. Я могу указать тебе, где следует искать...
В узких глазах Тохтамыша сверкнул алчный огонь — в сущности, он так и остался сыном небогатого бая, странной прихотью Аллаха вознесённого над великой страной. Дай ему волю — он побежал бы впереди своих нукеров, чтобы самому первому взломать сундук с драгоценностями. Я лишь молил Бога, чтобы Тимур оказался прозорливее. И он оправдал мои надежды.
— Иногда случается, — медленно проговорил он, — что моя армия, отягощённая трофеями, не может двигаться вперёд. Лошади и верблюды падают под грузом добычи, а быки отказываются тянуть повозки. Тогда я приказываю вырыть глубокую яму, светить туда часть золота и драгоценностей и закопать. И даже не всегда ставлю сверху камень, чтобы запомнить место. Неужели ты думаешь, что я оставлю тебе твою никчёмную жизнь, прельстившись лишней горсткой монет? Должно быть, глупа была аланская царица, если держала тебя советником.
— Я далёк от мысли, великий хан, что даже гора золота размером с Эльбрус способна смутить твой взор, — ответил я. — Но в сокровищнице царицы Регенды ты найдёшь то, что сможет заинтересовать тебя. А если нет — прикажи отрубить мне голову на городской площади.
Тимур склонил голову набок. В его широко расставленных глазах я не заметил ни проблеска интереса — они были по-прежнему неподвижны, как два ледника высоко в горах. Но моя жизнь, хоть и висевшая на волоске, до сих пор принадлежала мне, и это обнадёживало.
— Возле дальней стены, — продолжал я, — твои воины увидят старый гобелен с изображённым на нём сказочным львом с человеческий головой. За гобеленом скрывается ниша в каменной кладке...
— Ты хочешь сказать, что там... — начал Тимур, нахмурившись.
Я перебил его, что было страшной дерзостью. Но и это сошло мне с рук.
— Ниша пуста, великий хан. Аланская царица, предвидя свою гибель, позаботилась о том, чтобы содержимое ниши не попало в твои руки. Но я могу помочь тебе получить его.
— О чём он бормочет? — с презрением спросил Тохтамыш, но Тимур предостерегающе поднял руку. И славный Тохта-хан снова умолк, позеленев от унижения. Видит Бог, не хотел бы я оказаться на его месте...
— Чего ты хочешь? — спросил Хромой Тимур.
Я предвидел этот вопрос. Я был готов к нему и проговорил, опустив взор долу:
— Выжить. Только выжить, и ничего больше, клянусь Аллахом.
Каган усмехнулся.
— Смотри, собака. Если ты обманул — твоя смерть будет страшной и долгой. Гораздо дольше, чем жизнь.
Он выпростал из-под халата алый сафьяновый сапог, расшитый золотыми нитями. И я поцеловал этот сапог, даже не почувствовав отвращения. Словно другой, не знакомый мне человек распростёрся ниц перед ханским троном, а я, холодный и отрешённый, наблюдал со стороны.
Они умрут. Хан Тохтамыш, чьи воины повесили любимую мною женщину на дворцовых воротах. Аланский царь Исавар, что не пришёл ей на помощь. Грузинский царь Гюрли, решивший отсидеться в своей крепости. Они умрут все, один за другим. А если нет — значит, Аллаху не угодна моя месть. Как и моя жизнь.
Отчего бы не вспомнить теперь те сны, что снились мне под старыми яблонями, в красивом и богатом городе Меранге, отчего не вспомнить, о чём я мечтал в те годы и какие надежды владели моим умом? Смешно, но я был уверен, что мои мечты сбудутся... Возможно, мои сны говорили об обратном, я не замечал. Слишком это легко — искать в прошлом предостережения, которым не внял.
«Ты встретишь женщину, — сказал однажды слепой дервиш, — и эта встреча перевернёт всю твою жизнь...» Разве он был не прав? Я, Рашид ад-Эддин, бывший главный визирь при дворце эмира Абу-Саида, бывший паломник, путешественник и собиратель мудрости, бывший советник аланской царицы, её возлюбленный и отец её дочери, — я ехал на низкорослой мохнатой лошадёнке в свите самого Тамерлана, Великого завоевателя Вселенной, и Аллах не посылал молнии мне на голову, потому что ему было жалко тратить на меня свои молнии...
Я был советником Тимура. Я завоевал его доверие, и никто не может подсчитать, скольких людей я предал ради этого. Скольких я убил во имя своей цели — не важно, своими или чужими руками.
Я собственными глазами видел труп правителя Дербента Ширан-шаха — он заколол себя мечом, когда монгольские войска подступили к его дворцу. Перед этим я убедил его послать городских старейшин на переговоры с каганом. А когда старейшины прибыли в монгольскую ставку, их схватили и подвергли страшным пыткам. Многие из них умерли достойно, не раскрыв рта, но нашлись и такие, что согласились показать тайный путь к Дербенту через ущелье, купив тем самым лёгкую и быструю смерть. Я не осуждаю их. Я сам за свои годы успел пасть так низко, что меня, наверное, не приняли бы даже в аду.
Через несколько месяцев, осенью 783 года Хиджры, монгольские войска подступили к Самарканду. Никто не сомневался, что город сдастся без боя: высшая знать и духовенство готовы были вынести Тимуру и Тохтамышу ключи от ворот. Однако случилось иное. В Самарканде вспыхнуло восстание «сербаданов» — крестьян, ремесленников, мелких торговцев и землевладельцев. Вряд ли славный Тохта-хан воспринял всерьёз это известие, когда его нукеры лезли на городские стены. Трудно было предположить, что невеликая армия, собранная на три четверти из городской бедноты, сумеет трижды отбить монгольский штурм. А потом, сделав ночную вылазку, дотла сжечь знаменитые китайские катапульты, от которых, как говорили, не существовало защиты...
— Они умрут! — орал Тохтамыш, захлёбываясь слюной и топча ногами ковёр в своей походной юрте. — Они умрут все до единого, и я сравняю этот город с землёй — пусть даже мне придётся положить всю мою армию под его стенами!
И я знал, что отнюдь не сокровища непокорённого Самарканда были виной его ярости. Ему опять, как и десять лет подряд, виделся в страшном сне стяг Хромого Тимура над золотым шатром — гордо парящий в лазурной синеве золотой сокол. И его, Тохтамыша, чёрный бык, судьба которого — лишь рыться в земле и месить копытами навоз...
Я пришёл в Самарканд под видом небогатого купца с караваном всего в десять верблюдов. Я быстро продал своё имущество — оно было невелико, и продавал я по самым бросовым ценам, лишь бы хоть как-то избежать долговой ямы. Но и после этого я не ушёл из города, потому что примкнул к сербаданам.
«Не могу похвастаться, что вырученные мною деньги за товары очень велики, — сказал я их предводителю Ходже Маулану, — но пусть они пойдут на то угодное Аллаху дело, которому вы служите». И Ходжа Маулан обнял меня, едва не прослезившись, потому что деньги ему были необходимы, чтобы вооружить свою армию.
Думаю, он вовсе не был глупцом, этот человек, но недавние победы над монголами вскружили ему голову, подобно молодому вину. Однажды, спустя несколько недель, я сказал ему, что городская знать готова поддержать его в борьбе против Тимура. Он долго колебался, но в конце концов поверил. Люди, как я заметил, вообще очень легко верят в осуществление своих надежд — иначе откуда бы на земле развелось столько шарлатанов, обещающих кто исцеление, кто процветание, кто избавление от врагов...
Он тоже поверил, досточтимый Ходжа, предводитель сербаданов, сын простого ткача шёлка из квартала городской бедноты. И пришёл на совет, куда его пригласили приближённые эмира. Богатейшие и достойнейшие люди Самарканда приняли его, как равного, усадили за стол, ломившийся от еды и напитков, хлопали по плечу, говорили тосты в его честь и подливали вина в серебряный кубок, зорко следя, чтобы тот не пустел.
Ходжа быстро опьянел — не от вина, в которое был добавлен сильный яд, а от льстивых речей, что лились в тот день полноводной рекой. Он умер в самый разгар пира, прямо за столом. Восстание сербаданов было обезглавлено, и правитель Самарканда эмир Низа Шами вынес Тимуру ключи от городских ворот.
После этого случая я получил из рук кагана золотую пайцзу — знак высшего своего доверия. Помню, как я разглядывал её, сидя в шатре, на шёлковых подушках. Красивые молоденькие китаянки, все как одна похожие на мою жену Тхай-Кюль, пытались развлечь меня, танцуя и играя на музыкальных инструментах. Однако мысли мои были далеко.
Я подумал вдруг, что будет, если моей мести так и не суждено будет осуществиться. Если мои тайные помыслы будут раскрыты или я умру от старости, так и не выполнив задуманного? Кем же посчитают меня далёкие потомки? Одним из многих советников Тимура, его шпионом и просто профессиональным предателем? Или же История вовсе не сохранит упоминаний обо мне — слишком много их было во все времена, профессиональных предателей, стоит ли помнить о каждом...
И всё же я дождался своего часа.
Я хорошо запомнил тот день: хмурый, ненастный, с холодным ливнем и тяжёлыми серыми тучами по всему горизонту. Я сидел в своей юрте позади ханского куреня и слышал, как по размокшей глине прочавкали копыта. Вернулся разведчик.
Собственно, это было обычным делом: возле ставки Тимура жизнь не прекращалась ни на мгновение. Уходила и возвращалась разведка, скакали во все стороны гонцы с поручениями, и четырежды в сутки менялись дозоры. Но того всадника моё внимание выделило среди прочих — уж не знаю почему. И сердце вдруг заколотилось быстрее.
А ещё через некоторое время полог моей юрты отворился, впустив внутрь холод и сырость, и рослый нукер в блестящем от дождя кожаном панцире сказал:
— Поспеши. Великий хан ждёт.
Я удивился, увидев, что Тимур был один в шатре — не считая двух ближайших телохранителей, немых от рождения, и какой-то зловонной старухи, которую каган никогда не отпускал от себя далеко. Не знаю, кем она ему приходилась: старой няней, ходившей за ним ещё в младенчестве, наперсницей и советчицей, шпионкой... Я ни разу не слышал её голоса.
— Сегодня мои воины захватили в плен сына аланского царя Исавара, — вместо приветствия произнёс каган. И замолчал, перебирая в руках нефритовые чётки. Я стоял перед ним на коленях, согнутый в глубоком поклоне, и ждал продолжения. И, не дождавшись, спросил, не отрывая бороды от ковра:
— Разрешено ли мне узнать подробности, светлейший?
— Он ехал в Тебриз, — сказал Тимур. — Его люди сражались храбро, но мои нукеры отбили его и привезли ко мне в ставку. С ним обращаются как с высоким гостем (однако охрана не выпускает его из шатра), но один из его людей сдался в плен и рассказал, что Исавар и грузинский царь Гюрли задумали заключить политический союз, а для этого — устроить брак своих детей.
Разумное решение, подумал я. Что с того, что царевич Баттхар и дочь грузинского царя никогда не видели друг друга в глаза. Таков удел сильных мира сего.
— Можешь встать, — разрешил Тимур, и я медленно разогнул затёкшую спину. — Мой зять Тохтамыш советует мне убить царевича и послать голову его отцу, чтобы прибавить тому смирения. Что ты думаешь по этому поводу?
— Солнцеподобный Тохтамыш — великий хан, избранник Аллаха. Смею ли я, ничтожнейший из смертных, обсуждать его слова и поступки?
— Ты смеешь делать то, что я прикажу. И не заставляй меня повторять дважды.
Я помедлил ровно секунду — большего мне не требовалось.
— Если Исавар лишится сына, а Гюрли — зятя, то их общее горе и общий гнев будут направлены против тебя, славный Тимур. Никто не сомневается, что твоя армия, осенённая покровительством бога Сульдэ, и на этот раз принесёт тебе победу, но трижды славна будет эта победа, если достанется не только силой, но умом и величайшей прозорливостью её полководца...
— Короче, — перебил каган.
Я снова помедлил и решительно сказал:
— Думаю, они попытаются отбить Баттхара. И пошлют на это лучших своих людей.
Тимур стоял, развёрнутый ко мне в профиль, и я видел улыбку на его устах. Улыбку можно было бы назвать довольной: наверное, мои доводы совпадали с его собственными. Что ж, я был вправе поздравить себя: моя голова останется при мне по крайней мере ещё на одну ночь.
— Значит, вскоре следует ждать гостей. — Тимур усмехнулся. — Когда, где, сколько их будет? Сможешь ли ты ответить мне, Рашид ад-Эддин из Ирана? Про тебя болтают, будто ты умеешь отгадывать будущее.
— Да будет на всё твоя воля, великий хан, — сказал я, снова согнувшись в поклоне. — Ты получишь ответы на свои вопросы, если только соблаговолишь дать мне немного времени. И ещё — мне придётся просить тебя об одной услуге...
— Говори, — приказал он.
— Пусть твои храбрые воины разыщут и приведут сюда одного юношу. Он из племени кингитов...
Пленника привезли спустя пятеро суток. Наверное, воинам великого хана пришлось немало потрудиться, дабы проявить такую быстроту: их кони были взмылены, а сами они были черны лицами и едва держались в сёдлах от усталости.
Их было трое. Юноша сидел на четвёртой лошади, на голову его был надет мешок, а кисти рук стянуты прочной верёвкой. Рубаха была порвана: видимо, парнишка не сдался без боя. Его сбросили с крупа, словно куль с песком, и сдёрнули мешок с головы.
Воистину досталось ему крепко. Молодое безусое лицо покрывали ссадины, один глаз заплыл, и багровый кровоподтёк уродовал кожу на щеке. Но — надо было видеть, каким яростным огнём полыхнул его взгляд, когда он с достоинством поднялся на ноги и посмотрел на своих врагов! Клянусь Аллахом, они едва удержались, чтобы не попятиться от него — связанного и безоружного. И в моём сердце шевельнулось нечто похожее на гордость: всё-таки не зря я воспитывал мальчишку...
Но вот он увидел меня — и его густые брови взметнулись вверх от изумления: он явно не ожидал встретиться со мной здесь, в монгольском лагере. На секунду он, должно быть, вообразил, будто я, как и он сам, попал в плен... Но нет, я стоял спокойно и свободно и не пытался ни драться, ни бежать. И это было непонятно.
— Дада? — негромко спросил он, ещё не веря себе.
— Разве я не обещал, что найду тебя? — улыбнулся я и приказал: — Развяжите его. И принесите горячую воду, еду и одежду.
Мы пристально смотрели друг на друга. Оба молчали: он судорожно пытался найти объяснение увиденному, а я давал ему время прийти в себя. Потом он спросил:
— Почему ты здесь, дада? Тебя держат силой?
Я покачал головой. И проговорил:
— Однажды в Меранге, когда войска Тохтамыша штурмовали дворец царицы, ты сказал, что сделаешь всё, что я прикажу. Ты помнишь?
— Но, дада...
— Ты помнишь? — с нажимом повторил я.
— Помню, — ответил он после долгой паузы.
— Даже если я велю тебе совершить подлость. Или убить лучшего друга...
— Всё, что ты скажешь, дада, — твёрдо ответил он.
— Хорошо.
Я обнял его за плечи и провёл в свою юрту. Его буквально распирало от вопросов, которыми он засыпал бы меня, дай ему волю. Я находился среди врагов. И при этом меня не пытали, не удерживали силой и даже слушались моих распоряжений. Не знаю, мелькала ли в его голове мысль о моём предательстве — наверное, мелькала... Но по его лицу это не было заметно, и я снова почувствовал гордость: всё же я был неплохим учителем. Он должен был поверить мне, как и прежде.
— Тебе известно, что сын аланского царя Исавара захвачен в плен? — спросил я.
— Известно, дада.
— Тогда слушай внимательно. Вскоре воевода Осман, которому ты сейчас служишь, соберёт отряд из лучших воинов, чтобы выкрасть царевича из монгольского лагеря. Тебе нужно будет попасть в этот отряд.
Он усмехнулся разбитыми губами.
— Разве это возможно? Мне придётся убежать отсюда, а что тогда сделают с тобой?
Вошёл слуга, быстро поставил на ковёр поднос с едой, пиалу с кумысом, пузатый бухарский кувшинчик с горячей водой и, поклонившись, исчез. Парнишке надо было промыть раны — слава Всевышнему, что ни одна из них не оказалась сколь-нибудь серьёзной.
Я смочил чистую тряпицу и осторожно коснулся ею шрама на щеке юноши. Тот, не двигаясь и не мигая, смотрел на меня, ожидая ответа. Я снова отрицательно покачал головой: я не мог бы ему объяснить сейчас всего, даже если бы хотел. И если бы не боялся, что нас подслушивают.
— Со мной ничего не случится, я обещаю. А сейчас — не задавай вопросов. Просто сделай то, что я прошу.
— Я слушаю, — сказал он. — Говори.
— Нет. Попозже. — Я ободряюще улыбнулся и потрепал юношу по плечу. — А теперь отдыхай, Лоза. Отдыхай и набирайся сил.
Глава 21 ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ
— Зачем? — тихо спросил Антон.
И подумал: «Вот нас и стало четверо. Четверо — вместо пятерых, и именно сейчас, в двух шагах от финишной прямой. Впрочем, и то было наверняка ненадолго: в колчане горца отыщется стрела и для меня. А не отыщется — тоже невелика проблема, Аккер задушит меня голыми руками. А потом сбросит вниз, через невысокие перила. Или подвесит на верёвке от церковного колокола. „Труп, подвешенный на верёвке от колокола" — был, кажется, такой фильм-ужастик...
Потом он придёт на постоялый двор и завершит дело, убив Асмик и Баттхара, — тут недалеко, всего сорок минут ходьбы. Но ведь я не говорил ему, где они прячутся... Да не будь дураком, он давно выследил нас всех и потихоньку потешался, поди, над нашими поисками и метаниями. Хотя, Асмик он, может быть, и пощадит: всё же приёмная дочь...»
— Сколько же тебе отвалили монголы? — глухо спросил Антон, глядя горцу в глаза и не находя в них ничего: ни раскаяния, ни торжества, ни насмешки — вообще никаких эмоций. Профессиональным убийцам чужды эмоции: они мешают им эффективно выполнять свою работу. — Каково же было твоё задание, Заур? Убить нас всех?
Некоторое время тот молчал. Потом спросил без интереса:
— Почему ты назвал меня Зауром?
Антон указал на мёртвого Лозу.
— Потому что он с самого начала подозревал нечто подобное. Ваше внешнее сходство, твоя поразительная осведомлённость обо всём, что происходит, так сказать, во внешнем мире — откуда бы? Ты ведь жил отшельником! Даже твоя рана на руке — точь-в-точь такая же, как у Заура... Поэтому тебе пришлось избавиться от Лозы — он не поверил твоей сказочке о двух близнецах и мог выдать... — Он усмехнулся. — Классика жанра. Убийца, чтобы обеспечить себе алиби, сам имитирует собственное убийство: кто же станет подозревать мертвеца?
— Значит, ты не поверил в смерть Заура? — спросил горец без улыбки.
Антон издевательски усмехнулся.
— Заур... Заур — ловкий, сильный, тренированный, с раннего детства готовивший себя к воинской службе — срывается с верёвки (!) и тонет в озере (!!!) Даже не смешно.
Антон презрительно отвернулся: надо ему — пусть бьёт в спину, чести немного. Потом наклонился над Лозой и прикрыл ему веки. Расшитый аланский плащ — плащ, ранее принадлежавший Баттхару, накрыл мальчишку, словно саван, оберегая от проникавших сверху солнечных лучей. Да и сам он выглядел не мёртвым, а будто уснувшим: лицо вытянулось и успокоилось, и сведённые судорогой губы смягчились, словно он видел во сне давно почивших родителей... И с ним я тоже не простился, как подобает, мелькнула никчёмная мысль. «Ни один кингит не станет предателем и не перейдёт на службу монголам». Он верил в это до последней секунды...
— Вот только не пойму, знала ли обо всём Асмик. Если нет — то как ты умудрился скрыть от неё? А если да — как заставил помогать тебе? Ведь ты служишь человеку, который убил её мать.
Сдерживаться более не хватило сил, он вскочил на ноги и выкрикнул в лицо Аккера (или Заура):
— Ну что молчишь? Подтверди мои слова или опровергни... Скажи хоть что-нибудь — я имею право знать, чёрт возьми! Давай, не стесняйся, порази меня красотой замысла!
Проклятый горец не изменился в лице. И не двинулся с места — только спросил, вроде бы даже без издёвки:
— Если я служу монголам, то почему не убил царевича раньше? Зачем нужно было отпускать его с тобой в Тифлис?
Антон рассмеялся. Ещё одна догадка пришла на ум — легко, будто давно уже топталась за дверью, ожидая очереди на приём... Ему вообще все давалось сегодня легко: последний день жизни и должен быть простым и самым удачным, чтобы не было мучительно больно потом, в лучшем из миров...
— Затем, что тебе обязательно нужно было убить Баттхара на территории Грузии. Тогда все надежды на союз двух народов будут утрачены на долгое время — возможно, на несколько веков. Ты ведь сам рассказывал о ваших обычаях кровной вражды — из поколения в поколение, когда уж никто и не помнит, из-за чего она возникла. Умно, ничего не скажешь.
Запал вдруг иссяк, уступив место тупому равнодушию. Умно, действительно умно. Тебя можно поздравить, чужеземец, ты наконец-то нашёл ответы на мучившие тебя вопросы. Жаль, слишком поздно, не будет времени как следует насладиться собственной догадливостью.
— Вот только объяснил бы ты мне, зачем я здесь? За каким чёртом меня выкрали из моего столетия, спасали из-под лавины, спасали от монголов, учили сражаться, снова спасали... Какой смысл? Ответь, не дай сдохнуть невеждой.
— Ты ошибаешься, — вдруг услышал он голос за спиной. Голос был спокойный и немного усталый — так не говорят, если собираются нападать. Нервы у Антона были напряжены и бренчали, как расстроенная гитара, но он заставил себя обернуться медленно.
И увидел Баттхара и Асмик.
— Ты ошибаешься, — эхом повторил горец. — Хотя... Удивительно, но ты почти всё отгадал верно.
— Почти? — с иронией спросил Антон.
— Почти. Потому что я не Заур. А Заур — вот он, перед тобой.
Он сделал шаг в сторону, и Антона затошнило от собственной тупости. Пришлось сделать пару глубоких вдохов, чтобы в голове прояснилось. Приложив определённое усилие, он сконцентрировал взгляд — и увидел старого своего знакомого, «глухонемого» монаха, давшего странный обет не открывать лица. Сегодня, похоже, настал момент нарушить этот обет: монах поднял правую руку и сдёрнул с головы капюшон.
Несколько долгих секунд они молча смотрели друг на друга. Потом Антон медленно подошёл, уже ничего не опасаясь (хотели бы убить — давно бы убили) и проговорил, отчаянно волнуясь:
— А ведь мы тебя оплакивали.
— Так было нужно, чужеземец, — тихо сказал Заур. (Голос... Тот же голос, что и в то утро, возле молельни на перевале Трёх Сестёр. Ещё тогда он показался ему знакомым, надо было сделать последнее усилие, чтобы найти истину...)
— Стоило превратиться в «мертвеца», чтобы получить возможность наблюдать со стороны. И — найти предателя.
— Лоза, — совсем тихо прошептал Антон.
— Лоза, — подтвердил Заур и отвернулся, чтобы никто не видел его лица.
Он молчал довольно долго, потом, справившись с собой, сказал в пространство:
— Надо бы что-то сделать. Не оставлять же его так.
— Монахи скоро придут, — отозвался Аккер. — Они позаботятся обо всём. А подробности им знать не обязательно.
Антон понял, что он имел в виду, говоря о «подробностях». Лозу похоронят как героя. Пусть он не имел на это права, но это право имел Аккер, учивший Лозу воинской науке. И сам Антон, который укрывался с ним одним плащом и страховал его, когда тот полз по отвесной стене. И спорил с ним, как могут спорить только лучшие, проверенные друзья. И прикрывал собой в бою.
Они имели на это право.
Уже за воротами, выйдя из церкви, Аккер обернулся и медленно опустился на колени. Несколько минут он стоял неподвижно, воздев взор к высокому, словно плывущему в небе кресту на куполе, и шептал что-то, неслышное другим. Будто просил прощения и не надеялся на него. Потом тяжело поднялся, отряхнул колени и произнёс:
— Иногда я ненавижу тебя, чужеземец. И даже жалею, что спас однажды. Когда-то я совершил страшный грех, убив соплеменника. Сегодня по твоей вине я совершил второй грех, ещё более тяжкий. Я убил соплеменника в стенах храма. Если так пойдёт дальше... Боюсь даже подумать, что со мной станет.
Крепость Сенген, где стоял с гарнизоном воевода Осман, была возведена в узком ущелье между Зангузинским и Карабским хребтами. Оба были не слишком высоки, но вид имели холодный и неприступный, будто кто-то могущественный нарочно обтесал их громадным зубилом, чтобы прикрыть крепость с востока и северо-запада.
Дорога, по которой ехали путники, огибала озеро Севан и взбиралась вверх вдоль склона горы Шахдаг. (Антон оглядел скальную вершину, мысленно оценив сложность: как раз то, что надо. Ледовый скос на высоте около двух тысяч, крупная каменная осыпь и монолитный «зуб», где понадобились бы несколько крючьев и пара верёвок. Приехать бы сюда как-нибудь вместе с Динарой и Казбеком, родилась мимолётная мысль. Потом, когда все закончится). Затем полого, почти незаметно, спускалась вниз, в ущелье, откуда виднелись сложенные из туфа крепостные стены, донжон и две высокие башни, охраняющие подъёмный мост.
Вот и все, подумалось вдруг. Кажется, конец путешествию. Сдам царевича тестю с невестушкой с рук на руки, под подпись в амбарной книге, спрошу, где тут поблизости «звёздные врата», прикрывающие дырку во времени (должны быть, не тащиться же назад через всю Грузию, Аланию и Осетию), и — прямиком до хаты...
И непонятно, если сказать по совести, чего больше было в этой мысли: радости от предстоящей встречи с домом или подспудной грусти, в которой не хотелось признаваться. Грусти, ещё не оформившейся, призрачной и прозрачной, какая возникает в берёзовом лесу ранней осенью при взгляде на хрупкие белые стволы и горящие золотом листья в яркой, до рези в глазах, синеве...
Малдера и Скалли оставили на постоялом дворе. Старик Сагур, получив столь дорогой подарок, едва не прослезился. «Может, останешься? — спрашивал он у Антона в двадцатый, наверное, раз. — Что тебе от добра добра искать? Будешь у меня за охранника. Работёнка непыльная, деньжат поднакопишь, женим на девушке, которая приглянется...»
Антон резко встряхнулся, прогоняя невесёлые думы. Тронул пятками коня — и вдруг Аккер натянул повод и процедил:
— Стой.
Антон послушно остановился и привстал на стременах, вглядываясь вперёд. Им навстречу на рысях шли всадники.
Их было семеро, и Антон немного успокоился: невелик противник, особенно если рядом Аккер с Зауром. Да и сам он чего-то стоит в рукопашной...
— Кажется, Осман, — заметил Заур.
— Осман, — подтвердил Аккер. — А вот рядом с ним... Ты что-нибудь понимаешь?
Сенгенского воеводу Антон увидел впервые. И оценил его тяжеловатую могучую стать. Глубоко посаженные угольно-чёрные глаза на широком лице, окладистая борода с нитями седины и грудь в два обхвата, на которой едва сходился тёмно-синий чекмень с серебряной вышивкой по рукаву. Ни кольчуги, ни шлема не было: кого опасаться в собственной крепости. Только прямой меч-кончар у левого бедра...
Второй всадник скакал сбоку, отстав на четверть корпуса коня. Он был худ, высок ростом и длинен лицом, по которому от виска к подбородку тянулся давний сабельный шрам. Он был в кольчуге, панцире и островерхом монгольском шлеме, украшенном белым бунчуком. Всадник сидел в седле прямо и слегка напряжённо — но не от неопытности, как догадался Антон, а из-за недавней раны, которая не успела как следует затянуться. Антон узнал этого человека. И сердце вдруг пропустило удар, а пальцы сами собой сомкнулись на рукояти сабли. Не известно ещё, что бы он натворил, кабы Аккер не положил свою ладонь на его руку...
— Приветствую тебя, сын царя Алании, — церемонно сказал воевода Осман. — Наслышан о невзгодах, что пришлось преодолеть тебе в пути, и рад, что ты здесь. Не побрезгуй разделить со мной кров и пищу.
Антон искоса взглянул на Баттхара. И подумал, что выражение «царская кровь» — вовсе не пустой звук. Надо было видеть, как в мгновение ока преобразился его спутник. Как прямо и величественно сидел он в седле, как лежали руки на поводьях, с каким невыразимым достоинством он наклонил голову, отвечая на приветствие, — такое не сыграешь, не изобразишь, даже потренировавшись дома перед зеркалом. С этим надо родиться и всю жизнь прожить бок о бок, впитать с молоком матери и окружающим воздухом. И Антон ощутил холодноватую гордость от того, что он находился сейчас тут, подле самого аланского царевича, почти соприкасаясь стременами...
Однако на него почти не обращали внимания. Все взгляды были устремлены на Баттхара и воеводу Османа — прочих будто и не существовало. Антон усмехнулся про себя (впрочем, без особой горечи): свита. Свита — и ничего более. Что с того, что он, бывало, втаскивал Баттхара за шиворот на скалу во время трудного подъёма, и устраивал выволочки, словно несносному младшему братишке, и с нескрываемым сладострастием лупил по хребту деревянной саблей в пору ученичества у Аккера, и прикрывал его собой от настоящих, вовсе не игрушечных стрел и клинков...
Что с того?
— И я приветствую тебя, славный воевода, — молвил (именно молвил, чёрт возьми!) аланский царевич. — От имени моего отца Исавара и всего моего народа. Правду сказать, если бы не те храбрые воины, которых ты прислал ко мне на помощь, вряд ли бы наше путешествие закончилось так удачно.
Осман поклонился. Баттхар тронул коня, выезжая вперёд, и только тогда воевода повернулся к Зауру, и они порывисто стиснули друг друга в объятиях, не слезая с седел.
— Не чаял видеть тебя живым, — хрипло проговорил Осман. — Богу молился, чтобы хоть один из вас вернулся целым.
— Я и вернулся один, — сказал Заур. — Сандро, Тор Лучник, Тарэл Скороход, Лоза... Никого уже нет.
Осман сдвинул брови.
— Лоза... Храбрый был парень. Настоящий воин, хоть и короткая выпала ему жизнь. Ты ведь, кажется, называл его приёмным сыном?
Антон открыл было рот, но Аккер предостерегающе сжал ему локоть: молчи.
— Хорошо, что и ты вернулся, Аккер, — сказал воевода. — Рад, что мы снова вместе.
— И я рад, харал-гах, — отозвался тот не без смущения. И спросил, понизив голос: — Почему я вижу монголов в твоей крепости?
— Это Алак-нойон, — пояснил Осман, — один из военачальников хана Тохтамыша, присланный сюда для переговоров. С ним ещё десять воинов для охраны и какой-то старый сморчок из иранцев. Но все обходятся с ним до отвращения учтиво.
— Какие переговоры?
— О мире, — ответил воевода, и непонятно было по его интонации, добра ли он ждёт от визита монгольского посла или худа. — Тохтамыш находится с Тимуром в состоянии войны. Десять дней назад они бились на реке Самур. Об этом прямо не говорится, но я понял, что славный Тохтамыш бежал, потеряв пятьдесят тысяч убитыми. И притёк к нашему царю с предложением о союзе.
— И наш господин склонен ему поверить?
Осман пожал необъятными плечами.
— Через несколько дней Алак-нойон должен отправиться в Тебриз — отсюда до города полтора конных перехода. А там — кто знает. Рано или поздно с Тимуром придётся схватиться. Хорошо, если Тохта-хан окажется на нашей стороне. Хотя я предпочёл бы увидеть его голову отдельно от тела.
Воины рассаживались на скамьях вдоль стен. Столы стояли буквой Т, будто в каком-нибудь партийном кабинете. Впрочем, неудивительно. Наверное, отсюда, с этих (или ещё более древних) времён и пошёл обычай: воевода, князь, царь, самые почётные гости сидят за «перекладиной», на возвышении, а остальные — пониже, за «ножкой». Антона и Асмик усадили как раз там, где «верхний» и «нижний» столы смыкались под прямым углом. Напротив сидели Аккер с Зауром и другие, незнакомые воины, но — сразу видно — все им под стать: седоусые, в морщинах и шрамах, широкогрудые и узкобёдрые, с большими натруженными ладонями и экономными движениями. Надо думать, дружина, ближайший круг. И Антон удостоился немалой чести, сев с ними рядом. Будет о чём рассказать дома. (Лучше, впрочем, не рассказывать — тогда есть шанс избежать больничной койки в отделении с навязчивым сервисом...).
Почётные места во главе стола занимали сам воевода, посол великого хана Тохтамыша Алак-нойон и, конечно, царевич Баттхар — благоухающий умиротворённой чистотой после бани (оказывается, и у горских народов баня была в почёте — этого Антон не знал и удивился) и принаряженный в новый чекмень с традиционной вышивкой. «Хоть откормится маленько, — хмыкнул Антон про себя, — а то кожа да кости. Стыдно даже вести к невесте в таком виде».
Алак-нойон тем временем встал со скамьи и поднял кубок с вином.
— Я пью за великого грузинского коназа Гюрли, — громко провозгласил он. — И за его бесстрашных воинов. Мой повелитель, да продлит Аллах его дни, предлагает вам свою дружбу и защиту от врагов, что осмелятся прийти сюда под знаком Сатурна. И в доказательство искренности намерений шлёт тебе, воевода, дары из своих земель.
Шёлковые одежды самых разных расцветок замелькали перед глазами, украшения из драгоценных камней, дорогое оружие, дивные меха и бочонки с вином... Антон, глядя в полглаза на всё это великолепие, вдруг подумал, что монгольский посол допустил стратегическую ошибку: «дары из своих земель» — это был явный перебор. Ибо золотые и серебряные украшения, что лежали сейчас на расстеленном ковре, были явно осетинского и черкесского происхождения, меховые плащи выделывались мастерицами (скорее всего, уже покойными) из разорённого Тохтамышем Отрара, длинные узкие кинжалы, похожие на стремительных форелей в горном ручье, ковались самаркандскими и бухарскими оружейниками — вряд ли кто уцелел из этих оружейников после монгольского набега... Возможно, никакой ошибки посол и не допустил (мысль эта неприятно царапнула по сердцу), а, напротив, все умело рассчитал, то ли предложив мир, то ли беззастенчиво запугав: смотри, воевода Осман, и передай своему царю — нет в мире защиты от армии великого Тохта-хана, ни на земле, ни на небе, ни за высокими стенами.
Антон посмотрел на беззаботно смеющегося и уплетающего что-то за обе щеки Баттхара и почувствовал внезапное раздражение: чего вырядился и сверкает медным самоваром? Наоборот, бы сейчас забиться в самый тёмный угол, да одежду победнее одеть, сбрить дурацкие усы и приклеить ещё более дурацкую бороду... А ещё лучше — вовсе миновать гостеприимную крепость и скакать в Тебриз окольным путём. Своеобразный «синдром телохранителя»: острое, почти маниакальное желание запихнуть своего «принципала» в стальной сейф, зарыть под землю на глубину Марианской впадины и покрыть толстым слоем бетона...
— Почему не ешь? — тихо спросила Асмик — она с самого начала трапезы знай подкладывала Антону лучшие куски. — Невкусно?
— Сыт уже, — буркнул он, пряча досаду. И вдруг сказал шёпотом: — Давай сбежим, а?
Она посмотрела с удивлением.
— Неловко...
— А мы потихоньку. Никто и не заметит.
Они выскользнули из-за стола на цыпочках. В дверях Антон оглянулся и вновь поискал глазами Баттхара. Да ну, что может случиться, если рядом едва ли не весь крепостной гарнизон.
А потом все посторонние мысли и вовсе исчезли из головы, когда Асмик свернула из длинного коридора на лестницу, в полутьму, толкнула низкую полукруглую дверь, взяла Антона за руку и подвела к широкой лавке...
Был вечер, а может, ночь, и серебристая луна мягко толкалась в оконце в изголовье постели. Асмик на секунду исчезла из поля зрения, уйдя из света в темноту, наступила босой ногой на половицу, и та тихонько скрипнула... Единственные звуки в прозрачной тишине, которые были допущены сюда, в святая святых, единственная тончайшая нить между сказкой и реальностью...
Потом Асмик снова появилась, на этот раз обнажённая, прикрытая лишь волной мягких волос цвета лунной поверхности — оказывается, они могли менять цвет, её волосы, в зависимости от настроения хозяйки. И должно быть, от его, Антона, настроения тоже: они вдруг вспыхнули драгоценным серебром в его пальцах, когда он вытянул руку и негромко сказал:
— Иди ко мне...
...И я увидел его.
Честно сказать, я не надеялся на это — слишком уж многие события должны были произойти в точности так, как предсказывалось. А такое редко случается. Кто-то в нужный момент скажет ненужное слово или, наоборот, забудет произнести то, что требовалось, подует не в ту сторону ветер, сбивая лодью с верного пути, споткнётся на рытвине чей-то конь или дождевые капли размоют чернила в важном письме... Не счесть, сколько нелепых случайностей ожидают человека за поворотом.
Поэтому я удивился, увидев его, сидящего за столом в трапезной. Человека, пришедшего из иных времён, встречу с которым предрекал мне слепой дервиш. Достало же ему способности, мёртвому, видеть впереди то, что не видели живые...
Я уже знал, что мой посланник погиб. Тот мальчишка, которого я подобрал в разорённом ауле, — я помнил, как он сидел на земле и рыдал над трупами родителей. Который сопровождал меня в странствиях и которого я учил всему, что знал и умел сам.
И которого я убил... Не своими, конечно, руками, но я послал его на смерть, сделав своим посланником. Очередная жертва, принесённая на алтарь тем бесценным вещам, коими я хотел обладать. Вещам, которые только и имели цену в этом мире. Моя рукопись — и Копьё Давида. Символы власти над Будущим и Настоящим, ибо власти над Прошлым жаждут лишь глупцы. Прошлое можно убить, зачеркнув или обмануть, переписав заново. Но овладеть им...
Мне хотелось оплакать его, моего мальчика, но я не сумел. Наверное, Аллах покарал меня за грехи, лишив возможности плакать.
Я ехал в Сенген, а затем — в Тебриз вместе с Алак-нойоном и его охраной. Одет я был нарочно небогато и держался скромно и незаметно, позади всех. За шесть дней пути я всего пару раз открыл рот — когда прикрикнул на своего конягу, сослепу повернувшего не в ту сторону, и когда поблагодарил какого-то вельможу за брошенную мне лепёшку: очевидно, тот принял меня за бродягу, прибившегося к каравану. Как, должно быть, изумился бы тот вельможа, узнав, что именно я был главным действующим лицом в этом «караване». Я, Рашид ад-Эддин из Ирана, ехал сейчас к грузинскому царю с важной миссией, прочие же, и Алак-нойон в том числе, служили не более чем ширмой. И уж подавно никто, даже Тохта-хан, пославший меня в эту экспедицию, не догадывался об истинном моём намерении...
Их не пришлось сталкивать лбами — Тохтамыша и Хромого Тимура. Они с трудом терпели друг друга, и нужна была лишь небольшая искорка, чтобы разжечь их вражду.
Тохтамыш в ту пору[26] кочевал по Северному Кавказу, и не было ни одного селения, где его имя не произносилось бы с ужасом и проклятиями. Тимур — тот самый, что когда-то наголову разгромил Арас-хана и посадил Тохтамыша на трон Золотой Орды, стал для своего ставленника костью в горле. И тот с завидным постоянством слал дорогие подарки литовским князьям и египетскому султану, стараясь склонить их к войне против Тамерлана. Я нисколько не удивился, узнав об этом.
Тимур встретился с Тохтамышем в долине реки Самур. И была великая битва, продолжавшаяся три дня. А на четвёртое утро Тохта-хан бежал, растеряв три четверти своих храбрых воинов. Жаль, я не видел этой битвы: грандиозное, наверное, было зрелище... Более Хромой Тимур меня не интересовал. Я ушёл из своего шатра (а он мало-помалу переместился внутрь ханского куреня, и нашлось бы немало людей, кто за подобную честь отдал бы правую руку) тайно, на рассвете, совсем как когда-то покинул дворец Абу-Саида в моём родном Седжабе. Только вряд ли на этот раз какая-нибудь женщина всплакнула обо мне, как моя любимая младшая жена Тхай-Кюль. А она точно плакала: я ведь относился к ней очень хорошо и сделал немало дорогих подарков. Другое дело — надолго ли хватило её слёз...
Наверняка меня искали, но к тому времени я был далеко. Мои преследователи скакали по моим следам галопом, каждые полдня меняя измотанных лошадей на свежих, — я же плёлся еле-еле, когда верхом на ослике, купленном на каком-то постоялом дворе, когда и вовсе пешком... И они обогнали меня, не заметив.
Тохтамыша я нашёл в маленьком городке Джулате. Тот сидел на горе шёлковых подушек в одной из комнат взятого им дома местного правителя. Самому правителю, точнее, его отрубленной голове монгольский хан отвёл высокий кол за оградой. Тохтамыш узнал меня, и его брови лениво поползли вверх.
— Ты словно ворон Анамке на плече бога Сульдэ, — усмехнулся он. — Всегда каркаешь, предвещая беду (это высказывание было вопиющей несправедливостью, но я не стал спорить). Пожалуй, я всё же велю отрубить тебе голову, как хотел с самого начала. Только не надейся, что она будет торчать на шесте, как голова местного воеводы (уж не знаю, как его звали при жизни).
— Твои слова воистину мудры, великий хан, — смиренно ответил я. — Однако позволь заметить, что кровавый Сульдэ ни за что не дал бы в обиду своего ворона, как раз потому, что тот загодя предупреждает хозяина об опасности...
На круглом лице Тохтамыша отразилась кратковременная внутренняя борьба. Ему страсть как хотелось исполнить свою угрозу: наверное, он не стал бы даже кликать палача и решил бы дело собственноручно. Впрочем, он уже понял, что не сделает этого: его изощрённый нюх почуял некую выгоду. Он уже знал, что не убьёт меня — по крайней мере сейчас. И знал, что я это знаю.
— Говори, — наконец велел он.
— Сначала ответь, великий хан, не думаешь ли ты, что меня подослал к тебе Тимур?
Тохта-хан пренебрежительно махнул рукой.
— Он подослал бы кого угодно, только не тебя. Ты служишь лишь самому себе, Рашид ад-Эддин. И сюда ты пришёл по своей воле. Надеюсь, твои речи покажутся мне разумными, иначе...
Он не договорил, но и так было понятно. Оправдай мои надежды, Рашид ад-Эддин из Ирана, иначе следующего рассвета тебе не увидеть. И вряд ли твоя смерть будет такой же лёгкой и даже возвышенной, как смерть местного воеводы. (Что может быть возвышеннее, чем голый череп над разрушенным крепостным забралом?) Тебя привяжут к дохлому коню и подпалят, обложив хворостом. Или живьём закопают в яму, или, предварительно ослепив, утопят в корыте с лошадиным дерьмом — пусть это и не поднимет настроение великого хана, но хоть позабавит...
— Ты можешь объединить под своим началом все кавказские племена, — сказал я. — Но для этого тебе придётся завладеть Копьём Давида, которое хранится у грузинского даря Гюрли...
Я не успел завершить мысль. Тохта-хан вскочил на ноги, разметав подушки, и его лицо исказила ярость.
— Ты предлагаешь мне штурмовать Тебриз? — заорал он, наливаясь багровым цветом. — Ты пришёл сюда, чтобы посмеяться надо мной, грязный шакал?!
Он быстро, словно тигр в клетке, прошёл взад-вперёд по комнате, пиная ни в чём не повинную домашнюю утварь, и я всерьёз обеспокоился, как бы его ярость не взяла верх над расчётливостью. Моя голова ещё находилась при мне, но надолго ли?
— Эта лживая собака султан Баркук[27] трусливо увёл своих людей с поля в самый разгар битвы. Литовский коназ Витовит отказался посылать мне воинов. Мои храбрые нукеры лежат в долине Самура, и некому насыпать над ними могильный курган. — Он перестал бегать и разом сник, став похожим уже не на тигра, а на престарелую медведицу. — У меня нет сил штурмовать стены Тебриза. И нет времени собирать новую армию.
— Любая крепость сильна не стенами, но людьми, — тихо проговорил я. — Древние учили нас: разделяй и властвуй. Сделай так, чтобы ворота Тебриза открылись перед тобой сами.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Грузинский правитель Гюрли понимает, что рано или поздно Тимур придёт к нему с войной, и поэтому ищет союзников. Думаю, он обрадуется, узнав, что твой конь, великий хан, больше не скачет под знаменем золотого сокола.
Тохтамыш расхохотался.
— Я союзник грузинского царя? Как же он должен быть глуп, чтобы поверить в такую чушь?
— Он вовсе не глуп, — ответил я. — Но нужно сделать так, чтобы он поверил.
Прошло два дня, прежде чем Тохта-хан возжелал увидеть меня снова. Эти два дня я провёл в полуразрушенном доме недалеко от окраины городка. У входа в моё временное жилище стояла стража, не разрешая мне выходить наружу. Надо было бы вставить в этом месте витиеватую фразу в истинно восточном духе, описывающую великие по содержанию мысли, которые Аллах посылал в мою голову, пока я сидел взаперти... Но не хочется писать неправду. Ни о чём таком я не думал. Да и не жил, если быть до конца честным. Ел, пил, спал, иногда беседовал сам с собой — но не жил.
— Завтра на рассвете ты отправишься в Тебриз, — сказал Тохтамыш. — Ты будешь находиться в свите моего посла. И постарайся, чтобы на тебя поменьше обращали внимания. Ты только мои глаза и уши, запомни.
— Будет исполнено, светлейший, — поклонился я.
И снова подумал, что все рассчитал верно. Царь Гюрли поверит послу. Возможно, он заподозрил бы подвох, не будь его мысли заняты предстоящей свадьбой своей младшей дочери и аланского царевича. Он очень долго ждал этого события — а ничто не делает человека столь уязвимым, как победная эйфория. Наверное, он даже не поймёт, почему царевич так и не прибыл в Тебриз.
А потом хан Тохтамыш захватит город и убьёт Гюрли (но до Копья Давида не доберётся — об этом я тоже позабочусь). И вскоре сам погибнет от руки Хромого Тимура. Затем настанет очередь царя Исавара — после смерти единственного сына ему уже не на что будет надеяться. И тогда, наконец, я завершу свою месть, и уйду сам, потому что станет незачем жить.
Эта мысль принесла мне спокойствие. Я сидел за столом в трапезной Сенгенской крепости и, улыбаясь, наблюдал за аланским царевичем. Удивительно, как они были похожи с Лозой, моим мальчиком... Пожалуй, будет несправедливо, если один слишком надолго переживёт другого...
Было утро.
Ослепительное, зелёное с золотым, самый момент перехода с лета на осень — не календарный (Антон понятия не имел о здешнем календаре), а — по ощущению. Странно, подумалось ему, казалось бы, совсем недавно стоял я раздетый в холоднющем, а в общем-то, ласковом горном озере, и Асмик медленно, без всплеска, шла мне навстречу. Совсем недавно — а сколько событий произошло за это время. В той, другой, привычной жизни такого хватило бы на несколько лет. А здесь... Даже находка гробницы легендарного царя Давида в городе каменных богов Вардзани как-то незаметно отошла на второй план...
Смерть Лозы и «воскресение» Заура, свои собственные догадки — и истина, ничего общего не имевшая с этими догадками. Баттхар — грязный, оборванный, на краю скользкого обрыва, его рука, вцепившаяся Антону в одежду, — и Баттхар сегодняшний, верхом на чистокровном аргамаке, до умопомрачения нарядный и гордый, даже величественный, настоящий сын великого царя Алании, и сам в недалёком будущем царь...
— Спасибо тебе за все, — сказал он, глядя на Антона.
Тот вдруг смутился.
— Да ладно... Не так уж я о тебе и заботился, как следовало бы. А иногда, уж прости, обращался с тобой и вовсе по-свински. Верёвкой по спине лупил...
— Это там, в древнем капище, когда я вынырнул из озера? — Баттхар весело рассмеялся. — Кабы ты не лупил меня, я бы замёрз насмерть.
Конь нетерпеливо гарцевал под ним и картинно изгибал шею, красуясь перед публикой, — а публики было много: вся крепость вышла за ворота проводить царевича в дорогу. Хотя можно ли было назвать это дорогой? Полтора конных перехода по гостеприимной Грузии, где не нужно ждать стрелы в спину в любой момент, где и в помине нет монгольских войск, где все рады тебе и ждут с надеждой... Финишная прямая, почётный круг по ревущему от восторга стадиону. И от этой мысли почему-то стало грустно.
— Через три дня свадьба, — напомнил Баттхар, трогая пятками коня. — Я жду тебя на ней!
— Договорились, — крикнул Антон вслед. — Ты поосторожнее там... С лошади не свались.
— Хай, сэнсэй! — отозвался Баттхар и, не оглянувшись, выбросил вверх сжатый кулак.
Тридцать всадников одновременно двинулись следом: почётный эскорт, все в парадных чекменях, блестящей броне, которую, поди, с прошлой недели каждый божий день начищали древесным углём, и в длинных алых плащах. Среди них были и Аккер с Зауром — Антон не сразу узнал их в непривычной одежде. Воины, которыми славен любой полководец. Которых любой современный (точнее, будущий) спецназ оторвал бы с руками.
Жаль, я никогда не видел эту Зенджи, дочь грузинского царя, вскользь подумал Антон. Не то знал бы, радоваться за аланского царевича или сочувствовать ему...
— Скоро ты уйдёшь, — вдруг сказала Асмик, дотрагиваясь до его руки. Сказала очень тихо и почти спокойно, как о чём-то давно решённом и неотвратимом, как приход зимы. Или собственная смерть.
Антон нахмурился.
— Уйду? Почему ты так решила?
— Не знаю. Просто чувствую.
Медленно повернулась и пошла к воротам крепости. Было бы легче, если бы она заплакала — тогда можно было бы, снисходительно улыбнувшись, прижать её к себе, погладить по голове, по чудесным волосам, провести ладонью по мокрой щеке, смахивая слезу. Подхватить на руки и унести куда-нибудь далеко, где нет посторонних глаз, только мягкий мох у старых корней и пушистая еловая лапа, похожая на полог палатки...
Если бы она заплакала.
— Вот ещё, — рассердился он. — Я ведь могу взять тебя с собой, верно? Если я уйду, если существует путь... Какая разница, одному идти или вдвоём?
Асмик остановилась и посмотрела на Антона. Глаза её распахнулись и вспыхнули.
— Но ведь это очень далеко...
— Всё равно, — упрямо сказал он.
И почувствовал, как она вдруг обмякла — словно лопнула внутри некая струна. Он обнял её, порывисто прижал к груди и услышал еле различимое:
— Не отпускай меня, пожалуйста...
— Глупенькая, — сказал он, борясь со спазмом в горле. — Куда я тебя отпущу.
Глава 22 ПЛАЩ И КОЛПАК (ОКОНЧАНИЕ)
Он проснулся неожиданно, не поняв даже, где находится. Вокруг стоял полумрак, и почему-то подумалось: «Я в палатке. Я храпел, как обычно, и скотина Казбек исподтишка ткнул меня кулачищем в бок».
Потом Антон опустил руку и нащупал край мехового одеяла, наполовину сползшего на пол. Ага, значит, не в палатке, а в Сенгенской крепости. Что ж, выходит, домой ещё рановато.
Асмик рядом не было. Это удивило Антона, но не слишком. Мало ли куда она могла отлучиться... Ночь была тёплая, лёгкая, ясная — пожалуй, последняя такая ночь, совсем скоро грянут заморозки. Только они с Асмик, наверное, уже этого не увидят, потому что будут далеко.
Он подумал о ней — и сердце в груди толкнулось от нахлынувшей нежности. Милая моя. Милая, отчаянная, хрупкая и сильная девочка из диковатого и сурового четырнадцатого столетия... Интересно, как она представляет её себе, мою родину? Что это для неё? Иная страна, иная планета, затерянная в ночном небосводе? Жилище богов? Другой мир, куда попадают души праведников? Я ведь ничего не рассказывал ей — а надо было бы хоть как-то подготовить... Да она и не спрашивала. Я просто позвал её — и она просто пошла, безоглядно, ни секунды не сомневаясь.
Антон улыбнулся своим мыслям, блаженно вытянулся в постели, закинул руки за голову... Пальцы коснулись чего-то продолговатого: ах да, рукопись. Рукопись в плотном кожаном футляре, с которой, собственно, и началась его эпопея. Рукопись, которая ещё не была написана и поэтому имела замечательную способность на ходу менять содержание...
Какая-то мысль вдруг шевельнулась в голове — даже не мысль, а её отблеск, отражение в зеркале... Однако это заставило Антона рывком сесть, опустить ноги на пол и сосредоточенно нахмуриться.
Что-то, что случилось вчера (или позавчера — вон уж и небо на востоке мало-помалу светлеет). Он попытался отмотать назад недавние события, как видеоплёнку, чтобы отыскать источник охватившего вдруг беспокойства: вот они подъезжают к воротам Сенгена, вот воевода Осман появляется навстречу — могучий и исполненный мрачноватой стати, вот рядом с ним гарцует на коне монгольский посол (какой, к чёрту, посол — натуральный боевик...).
«Не чаял видеть тебя живым...» «Лоза... Храбрый был парень. Настоящий воин». «Ни один кингит никогда не станет служить монголам — запомни это, чужеземец...» Ещё как станет, с горькой усмешкой подумал Антон. Достаточно просто подобрать ключик к человеку и назвать цену. Меня, к примеру, купили (не монголы, правда, но какая разница) и вовсе задешево: пообещали вернуть домой.
Он сновал лёг, расслабился и попробовал думать о доме: интересно, сколько времени прошло там, пока я находился здесь? И куда меня вернут — в тот момент, откуда забрали, или...
Или я поднимусь на свой этаж, выйду из лифта, нажму на кнопку звонка, и дверь откроет незнакомый мужчина в облезлой майке (женщина в бигудях, маленькая девочка со шпицем на поводке). «Вам кого?» — «Извариных». — «Извариных? Они давно умерли, а сын их пропал где-то в горах много лет назад. А может, и не в горах». — «Когда?!» — «А я почём знаю. Вы-то кто им будете?» Ох!
Антон прижал вспотевшие ладони к вискам. «Кто этот монгол?» — «Военачальник Тохтамыша. С ним десять человек охраны и какой-то старый сморчок из иранцев. Все относятся к нему с почтением...»
Иранец.
Не сходи с ума, строго приказал себе Антон. Иран — огромная страна (можешь справиться по карте), со множеством жителей. Часть из них после нашествия Чингисхана осела на Кавказе — может быть, это как раз потомок тех переселенцев... С чего ты решил, что именно он — автор найденной тобой рукописи?
Да, но не зря же она оказалась в рюкзаке убитого «эдельвейса». Не зря тот не выменял её на банку эрзац-тушёнки или пару автоматных «рожков», не зря я сам таскал её за пазухой по всему Кавказу, и она не потерялась, не вывалилась по дороге, и даже чернила не размокли под дождём... И вообще это невозможно, невероятно, что она сохранилась. Голубая ветровка, починенная Динарой, пришла в полную негодность, крепчайшие туристские ботинки истёрлись до дыр, папины часы... Ну, их-то изъяла ещё здешняя таможня, как не подлежащие ввозу...
Только рукопись сохранилась при нём. И ещё — сабля Сандро.
Поняв, что сон окончательно пропал, Антон снова сел и затеплил светильник — масляный фитилёк в металлической чашке. До лампочки Ильича местная конструкторская мысль ещё не дошла, а жаль... Ладно, обойдёмся. Он вытащил из футляра ломкие пожелтевшие листы, развернул их на коленях и разгладил ребром ладони...
«Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, посвящаю я главу своего повествования безвременной кончине царевича Баттхара Нади, сына царя Исавара, мудрого и справедливого правителя народа аланов.
— Донесло до меня весть, — читал Антон, из-за слабого освещения с трудом разбирая буквы, — что в лето 778 года царь Грузии Гюрли решил заручиться дружбой царя Исавара и, дабы продолжалась эта дружба во веки веков, скрепить её браком своей младшей дочери, прекрасноокой Зенджи, и сына аланского царя Баттхара Нади.
И царевич Баттхар, сопровождаемый надёжными и преданными ему людьми и претерпев в дороге многие трудности и лишения, достиг крепости Сенген, что охраняла путь на Тебриз, в конце месяца Шабан 778 года Хиджры.
На следующий день, надев торжественный наряд и сев на быстрого, как степной ветер, коня, он выехал в город Тебриз, где правил великий царь Гюрли. Однако было угодно Всевышнему, чтобы на середине пути царевич Баттхар скончался от стрелы неизвестного убийцы, и отец его, царь Исавар, надев чёрный халат скорби, отвернул свой лик от предложения дружбы, ибо не может быть доверия к правителю, на чьей земле творятся подобные бесчинства.
Прознав о начавшейся вражде между Грузией и Аланией, великий хан Золотой Орды Тохтамыш повелел своим войскам осадить Тебриз и взял его на четвёртый день, убив многих жителей и совершив ужасные разрушения. Сам царь Гюрли, также преисполненный скорби и отчаяния, бросился с обнажённой саблей навстречу врагам и погиб в начале месяца Зул-у-Хиджа 778 года...»
Сперва он ничего не понял. Почудилось даже, что неправильно прочитал текст: светильник, кто же ещё виноват. Напрягая глаза до слез, до жёлтых кругов, прочёл ещё раз.
Скончался от стрелы неизвестного убийцы...
Скончался. А середина пути — это что-то около конного перехода, то есть...
Антон взглянул в окно. До восхода солнца было ещё, пожалуй, далековато, но над заснеженными хребтами у самого горизонта все явственнее намечалась серая полоска — светлее, чем окружавшее её небо.
Однако было угодно Всевышнему...
Бред: при чём здесь Всевышний. Антон вскочил с лавки, едва не опрокинув светильник. Снова сел и вытер со лба испарину. Бежать. Немедля. Куда? К Осману? Не пойдёт, решил он, поразмыслив. Кто я для него? Чужеземец, едва ли не случайный попутчик царевича и его охраны. И доказательств, что Баттхару грозит гибель, у меня никаких. Старая (шесть веков как-никак!) рукопись, в которой описаны (в прошедшем времени!) ещё не происшедшие события. Бред.
Что предпримет воевода, выслушав мои инсинуации? Возьмёт под стражу? Или пошлёт за санитарами из ближайшей психушки (если есть тут поблизости психушка)?
Значит, к Алак-нойону. Вот кто всем руководит и сможет отменить команду на убийство царевича... Коли поднажать как следует. При нём, правда, десять человек охраны... Наплевать, прорвёмся.
Он метнулся к двери, на ходу извлекая саблю из ножен. И тут же одёрнул себя: стоп, очнись. Какую ещё команду и как, к чертям собачьим, он отменит? Вытащит мобилу из кармана, потыкает кнопки, лениво буркнет: «Братва, передайте киллеру, что с акцией временно облом»? Да и не решает он ничего, а о предстоящем убийстве царевича, скорее всего, просто не знает...
Всё это он додумывал уже стоя на лестнице, спускающейся вниз, к трапезной и казармам для гарнизона. Казармы, насколько он уяснил местную географию, располагались справа, комнаты для гостей и горница воеводы — слева... Он постоял немного, ожидая, когда сердце успокоится и стихнет одуряющий звон в ушах.
И неожиданно услышал голос.
Голос был странный. Больше всего он напоминал электрический шорох в телефонной трубке или далёкую радиостанцию, наполовину заглушённую помехами. Он не звал, не просил о помощи, не угрожал и не рассказывал поучительных историй. Он просто БЫЛ. Не нужно было вертеть головой, определяя его источник, и совершенно излишне было раздумывать, не ждёт ли там засада.
Достаточно было просто идти.
И Антон зашагал на голос — медленно, но вполне уверенно. Никто не встретился ему по дороге, никто не остановил и не спросил, кто таков и почему шляется по режимной территории. Ноги сами привели его к низкой дубовой двери на зеленоватых от времени массивных петлях. Антон вложил саблю в ножны и толкнул дверь рукой, внутренне ожидая чего угодно: ржавого скрипа, сатанинского хохота, стрелы в грудь... Даже того, что за ней окажется его родная московская квартира с видом на Патриарший пруд. А пуще всего — что дверь просто будет запертой.
Однако она поддалась — легко и бесшумно. И некто, сидящий на скамье возле светлеющего окна, удовлетворённо произнёс:
— Всё-таки ты пришёл, чужеземец...
...Нет, я не испугался, когда дверь отворилась.
Я не верил в это до последнего мгновения, но мой слепой дервиш не обманул и на этот раз. Он никогда не обманывал. Бывало, он демонстративно не отвечал на вопросы, ехидно посмеивался надо мной, даже грубил... Но не обманывал. Дверь отворилась — и в её проёме я увидел человека.
Он был высок и скорее худощав, чем плотен. Волосы — не короткие и не длинные — были зачёсаны назад (лица я не разглядел в полумраке), и башмак на левой ноге был немного стоптан внутрь (это мне почему-то сразу бросилось в глаза). Словом, обычный парень лет двадцати — двадцати четырёх навскидку. Встреть я его на улице — даже не оглянулся бы в его сторону.
И тем не менее это был ОН. Человек, встречу с которым мне предрёк мой дервиш. Человек, с которым нас разделяли шесть веков. Было от чего сойти с ума.
Приложив известное усилие, чтобы голос не задрожал и не сорвался, я проговорил:
— Всё-таки ты пришёл, чужеземец. Что ж, я ждал тебя. Проходи, садись.
Он шагнул в комнату и опустился на скамью напротив меня, положив саблю на колени. Мне показалось, что он немного стесняется её, своей сабли: видимо, на его родине не принято было ходить в гости при оружии. Что ещё? Чуть заострённые (а впрочем, самые обычные) черты лица. Прямой нос, небольшой шрамик над верхней губой и лёгкая небритость на подбородке. Шесть веков.
— Не таким я тебя представлял, — вырвалось у меня помимо воли.
— А каким? — спросил он без тени насмешки. — Восьмируким, лысым и с большими фасеточными глазами?
Он помолчал, глядя куда-то мимо меня, в пространство, потом устало произнёс:
— Скажите, что вам нужно? Неужели всё дело в этом несчастном Копье Давида?
— Откуда ты узнал?
Он сунул руку за пазуху и вытащил на свет кожаный футляр с потускневшей от времени серебряной застёжкой. Мне был знаком этот футляр. Более того, я пошарил рукой позади себя и положил рядом свой, точно такой же. Некоторое время мы молча смотрели на них: я — с плохо скрытым восхищением, мой собеседник — с отстранённостью, почти равнодушием. Они были похожи, эти два футляра, точно два близнеца, только один выглядел менее потрёпанным. Что ж, ничего удивительного. Шесть веков.
— Где-то я читал о подобном, — медленно произнёс мой гость. — У Брэдбери или у Азимова: человек попадает в будущее и встречает там себя самого. Научный феномен. Здесь, правда, речь не о людях — всего лишь о рукописях. Но принцип один и тот же. Вот только плевать я хотел на все научные феномены. Вам хочется завладеть Копьём? Но вы могли сделать это как-то иначе... Взять Баттхара в заложники, потребовать Копьё в качестве выкупа — чёрт возьми, вам бы отдали его, хоть подавитесь! Всё равно оно ничего не может изменить. Всё равно Тохтамыш возьмёт Тебриз и будет ещё тридцать лет воевать с Тимуром. Тимур создаст свою империю, которая рухнет после его смерти, и исчезнут аланы — до сих пор никто не знает, куда и почему... — Он вздохнул. — А вас элементарно грохнут — не те, так эти. Слишком много вы натворили, чтобы оставлять вас в живых.
Я улыбнулся. Он нравился мне, этот парень, пришедший из далёкого далека. Он всерьёз полагал, что меня интересует собственная судьба.
— Видимо, будущее мало изменилось, — заметил я, — если ты так легко судишь о нём. Впрочем, это будущее лишь для меня, а для тебя это — прошлое... Забавно, да?
— Отмените покушение на Баттхара, — мрачно сказал он. — Я знаю, вы можете... Или хотя бы назовите, кто должен его убить. Аккер? Заур? Один из тридцати стражников? Обещаю: я сделаю всё, чтобы вы получили своё Копьё. Только скажите!
— Зачем это тебе? — неожиданно спросил я, и он растерялся.
— Как зачем? Баттхар — мой друг!
— Друг? — Мне стало смешно. — Он умрёт за шестьсот лет до твоего рождения.
— Это не важно.
Он решительно встал, его сабля с шипением вылетела из ножен и легонько, но ощутимо ткнулась остриём мне в горло. Кажется, я ошибался насчёт обычаев его родины. Те же самые обычаи.
— Отмени покушение, — тихо произнёс он. И я понял, что он на самом деле готов убить. Он не пугал и не угрожал, потому что угрожают не так.
Я коснулся лезвия. Оно было острым, и на моей ладони тотчас же выступила кровь. Очень медленно, с каким-то извращённым наслаждением я слизнул её кончиком языка и прошептал:
— Отменить? И что тогда? Баттхар спокойно достигнет Тебриза, женится на дочери грузинского царя, и будет пир... Совсем как в старой арабской сказке со счастливым концом. Царь Гюрли и царь Исавар станут родственниками — а ведь они оба не пришли на помощь, когда воины светлейшего Тохта-хана вешали Регенду на воротах дворца... — Я закашлялся и с усилием сглотнул снежный ком, что застрял в горле. — Они убили её. Все трое: Тохтамыш, Гюрли, Исавар... Ты предлагаешь мне простить их? А самому исчезнуть, не оставив следа? Не оставив даже этой рукописи — вдруг там, у себя на родине, в новой реальности, ты не найдёшь её? Вдруг она погибнет — под дождём, под лавиной, под чьим-нибудь каблуком? Достойное было бы окончание моих трудов, верно?
Я усмехнулся и сел поудобнее, наплевав на то, что сабля при этом оцарапал мне кадык. И с удовольствием проговорил, глядя в глаза собеседнику:
— А знаешь, ведь меня, как и тебя, называли здесь чужеземцем. Так обращался ко мне один человек во дворце аланской царицы. Его звали Фархад. Как ты думаешь, может быть, это не случайность? Что, если мы с тобой — одно целое, как эти две рукописи? Тогда может статься, что ты полоснёшь меня клинком по горлу — и умрёшь сам, потому что убьёшь сам себя?
И расхохотался.
Я хохотал долго — до слез, до нервной икоты. А возможно, и не хохотал, а плакал: говорят, эти два состояния очень похожи. Мёртвые — целый сонм мертвецов — повыползали из тёмных углов, чтобы по-доброму, по-родственному посетить меня и принять наконец в свою семью. Они водили вокруг меня хоровод и рассыпались на мелкие группки, оживлённо беседуя о чём-то и перебрасываясь скабрёзными шуточками, выстраивались в полки и когорты и маршировали мимо под развёрнутыми знамёнами. Они приветливо улыбались мне — и я узнавал каждого. Вот прошёл бритый наголо почтенный Абу-Джафар, хозяин корчмы «Серебряная подкова»: лицо синюшно-бледное, с выпученными глазами и высунутым лиловым языком (принял яд, вызывающий удушье). Вот досточтимый Фархад, безвинно осуждённый за измену (жаль, он был неплохим человеком, но он мешал мне, и — надо же было кого-то подставить...). Вот помахала мне рукой сама аланская царица, невыразимо прекрасная в своей смерти: только смерть бывает столь совершенна, её не портила даже стрела, покачивающаяся меж лопаток. Вот Лоза, мой верный спутник, мой мальчик, которого я предал, ибо знал, что его разоблачат, и это тоже было частью моего плана. Его должны были разоблачить и успокоиться, не подозревая, что есть ещё один человек, главный в моих расчётах... Загадка специально для тебя, чужеземец. Попробуй, найди разгадку, если хватит времени.
Я оглянулся в поисках слепого дервиша: ведь именно он, по идее, должен был возглавлять процессию. Однако он оказался единственным, кто не пришёл — и это было обидно. Уж не знаю, как он объяснил товарищам своё отсутствие: может, сказался больным или сослался на более неотложные дела...
А потом они все ушли — как-то очень незаметно и тактично. Все, и мой ночной гость в том числе. Я снова остался один. Кровь капала из пореза на ладони, и мне жаль было унимать её — единственное доказательство того, что он не приснился мне, мой гость... Помедлив, я тоже поднялся: мне незачем было далее оставаться в своей комнате. Царь Грузии Гюрли (пока ещё царь!) ждал меня в своём замке в Тебризе, хотя сам ещё не подозревал об этом. Я не мог — просто физически не мог — оставить его одного в такой момент...
Антон кубарем скатился по лестнице во двор. Уже достаточно рассвело, в лёгкой дымке стали угадываться окружающие предметы, и мир потихоньку наполнялся звуками. Кто-то ходил сверху вдоль крепостного забрала, негромко переговаривалась стража у ворот и пофыркивали лошади у коновязи. Антон заметался по двору — душа отчаянно желала хоть какого-то действия — и с разгона налетел на воеводу Османа. Утро выдалось холодноватым, даже вода в кожаном ведёрке у колодца покрылась ломкой ледяной корочкой, но воеводе, похоже, было жарко, несмотря на то что одет он был лишь в тонкую льняную рубаху. Зарядку делал, что ли, подумал Антон. Лучше бы за гостями как следует следил...
— Куда это ты спозаранку, чужеземец? — спросил Осман.
Антон почесал ушибленный лоб, помолчал и вдруг выпалил:
— Где Асмик?
— Кто?
— Асмик, — торопливо пояснил он. — Девушка, которая прибыла позавчера вместе с нами. Вы не видели её?
Осман коротко хохотнул.
— Я-то полагал, что на это лучше тебя никто не ответит. А что случилось? Поссорились?
Антон только махнул рукой: некогда. Время, как и ранее, растянулось в бесконечную ленту, воздух вдруг загустел, и пожухлая трава стала целеустремлённо хватать за сапоги. Колдовство, не иначе.
Ни одной лошади под седлом у коновязи не было: естественно, кто же оставляет на ночь осёдланную лошадь. Наплевать, решил он. Чай, не свалюсь.
Он взмыл на коня (и откуда сноровка взялась, чёрт возьми!), ударившись копчиком о твёрдый, как ребро дубовой доски, хребет, и крикнул:
— Царевич в опасности! Осман, прикажи проверить, не покидал ли кто из гостей крепость.
Воевода мгновенно подобрался.
— Думаешь, монгольский посол...
— Не знаю. Не выпускай никого за ворота!
— Подожди. — Осман уже торопливо опоясывался мечом. — Я с тобой!
— Нет, — остановил его Антон. — Я должен один, сам... Иначе случится такое, чего не поправишь.
Воевода помедлил мгновение. Потом нехотя кивнул, соглашаясь. По лицу было видно, что это далось ему нелегко: он привык подчиняться лишь своему царю — но это статья особая. И уж совсем ему было в новинку, что приказания в вверенной ему крепости отдавал какой-то молодой парень, почти мальчишка. Но ему всё же достало ума не перечить.
— Храни тебя Господь, — хмуро сказал он, на миг сжав Антону локоть. — Поторопись!
Ветер свистел в ушах. Дробно стучали копыта, и сердце одуряющими скачками неслось по дороге впереди коня. Белёсая дымка рвалась в клочья и разлеталась в стороны, поднимаясь вверх и тая, словно дым от сигареты: вот-вот над вершинами гор должно было появиться солнце. Как же он ненавидел сейчас это солнце! Оно вероломно, с истинно восточным коварством, вдруг переметнулось в стан врага — там, в этом стане, под защитой земляных валов, стрел и катапульт, сидели, потирая лапки от удовольствия, твёрдый и узкий конский хребет, готовый в любой момент сбросить с себя седока, и глубокие рытвины, готовые в любой момент кинуться под копыта, стреножить и насесть сверху, и редкие деревья вдоль обочин, готовые в любой момент умереть от старости и упасть на дорогу, как в кинобоевиках про Гражданскую войну, и многочисленные горные ручьи и речушки, нарочно выстлавшие своё дно скользкими округлыми камнями...
И верховодил всей этой кодлой однорукий и многоногий бандит, убийца, промышленный шпион и растлитель малолетних по кличке Время.
Время, которого не было. Время, которое окутывало липкой паутиной и швыряло ветер в лицо. Подбрасывало булыжники под ноги коню и подталкивало в спину солнце, заставляя его поскорее всплыть над горизонтом. Солнце означало свет: не мог же убийца стрелять в темноте.
Даже такой мастер, как Асмик.
Конный переход. Расстояние, которое преодолевает всадник за день, если его лошадь будет идти шагом. Приблизительно семь-восемь километров в час...
Он летел, безжалостно настёгивая коня плетью (Осман в последнюю секунду сунул в руку), и уже знал, что не успеет. Взойдёт ненавистное солнце, осушив влагу на порыжевшей траве, распахнётся ущелье, и его встретят на дороге спешившиеся воины в алых плащах, склонённые над мёртвым царевичем. И будут они исполнены тихой, до белого блеска в глазах, нестерпимой ярости на самих себя: не уберегли... Могут и зарубить, не разобравшись. А чуть в стороне, у обочины, будет лежать мёртвая Асмик с луком в руках. Больше одного раза ей выстрелить не дадут, не дадут и уйти... Впрочем, она и сама не уйдёт, этот гад запрограммировал её только на убийство Баттхара, а обеспечение собственной безопасности алгоритмом не предусмотрено... «А ведь я чувствовал что-то, — с запоздалой горечью подумал Антон. — Ещё вчера утром, когда провожали царевича... Чей-то (известно, чей) направленный взгляд, сгусток чужой подавляющей воли (по-видимому, какая-то разновидность гипноза). И Асмик это чувствовала, поэтому и кинулась ко мне в поисках защиты: «Не отпускай меня. Пожалуйста...»
Чувствовала — и не могла противостоять.
Я увижу всё это — и, коли меня не зарубят сразу, вернусь в крепость, решил Антон. Войду в уже знакомую комнату и взмахну саблей над головой старика иранца. И, наверное, умру сам. («Что, если мы с тобой одно целое, чужеземец? Как эти две рукописи...») Что ж, пускай. Я не пожалею ни на секунду.
Он вылетел из ущелья, как пробка из бутылки, едва вписавшись в поворот. Дорога в этом месте раздваивалась: одна, широкая и многократно езженная, вела вдоль скалистого хребта по направлению к Тебризу, и уже виднелся вдалеке, вознесённый вверх, контур главной башни, обрамленный зубцами стен... Или нет? Или и на него, Антона, действовал этот проклятый гипноз, отводя глаза? И не видно было на дороге красивых гордых всадников из охраны царевича, и не горело солнце на их шлемах и наконечниках копий...
Он разглядел их впереди и едва не заорал от радости. И окончательно обезумел, увидев самого Баттхара, живого и невредимого. До них было не больше двухсот-трёхсот шагов. Сердце выпрыгнуло из груди. Антон рванул в галоп и без того взмыленного коня — и вдруг изо всех сил натянул повод. Мерзкий холодок прополз по позвоночнику.
Асмик.
Он лихорадочно огляделся по сторонам: где она может быть? Ослеплённая, одурманенная чужой волей, затаившаяся... где, чёрт возьми?! — и рассматривающая затылок Баттхара поверх наконечника стрелы... Что она предпримет, увидев меня рядом с царевичем? И что предпримет охрана, узнав, что на их господина готовится покушение? Ежу понятно, что именно: профессионалы как-никак...
Как она заслоняла меня собой в ту, первую нашу встречу на берегу стремительной реки с ласковым именем Чалалат — одна, против целого монгольского отряда. Как держалась за край моей одежды, когда я сползал в пропасть, в бездну — а ведь могла не удержать, кануть следом... Как стояла возле горного озера — прямая, стройная, напоминая юную языческую богиню. И как платье с мягким шелестом упало к её ногам...
Вторая дорога — даже не дорога, а узкая каменистая тропа, забирала влево и круто взбиралась вверх по откосу, на вершину скалы. И сама скала, изгибаясь, нависала над ущельем точно широкий чёрный балкон. Как раз над тем местом, где вот-вот должен был проехать царевич. Лучшего и пожелать нельзя.
Антон мысленно прикинул наклон тропы. Лошади не подняться. Он соскочил с крупа, почувствовав истовое облегчение: натёртую промежность саднило изрядно.
Всё-таки над этой скалой было сотворено какое-то колдовство. Иначе с чего так труден был этот в общем-то нетрудный подъём? Почему так остры были камни, за которые он хватался руками, почему воздух сделался вдруг вязким, словно болотная топь, и драл горло, как раскалённый песок в пустыне?
Он с яростью лез вверх, задыхаясь и рыча от боли в надсаженных мышцах. И знал, что не успеет. Сейчас раздастся короткий посвист, внизу закричат, начнётся запоздалое лихорадочное движение, и мёртвый Баттхар медленно упадёт под копыта. И — что ещё велит девочке чужой приказ — может, пустить стрелу в царевича и тут же полоснуть себя ножом по горлу... Воздух вокруг уже не напоминал болото — он затвердел и встал стеной впереди, упёрся в грудь острым копьём. Антон на четвереньках выполз на гребень — и не поверил себе, когда увидел Асмик.
Она была почти неразличима на фоне тёмно-серого камня, нависшего над дорогой. Её волосы были забраны назад и перетянуты какой-то то ли ленточкой, то ли просто тряпицей. Прищуренные глаза были спокойны, даже отрешены. Знакомый лук был натянут до предела — Антон уже знал, как бьёт этот лук. На тетиве уютно лежала стрела с узким гранёным наконечником, способном навылет пробить кольчугу. На Баттхаре, кажется, не было кольчуги...
— Нет!!! — изо всех сил закричал Антон, бешено колотясь о воздушную стену.
Она будто не слышала. Или в самом деле не слышала — до неё было шагов пятнадцать-двадцать, но попробуй пройди эти шаги. Её отведённая к плечу рука напряглась и мягко расслабилась: сейчас стрела сорвётся с тетивы в полёт. Сейчас, через долю секунды...
И Антон заорал первое, что толкнулось в голову:
— Это не Баттхар, Асмик! Это не Баттхар!!!
Это было слишком глупо, чтобы подействовать, но, к удивлению Антона, подействовало. Выстрел не задержался ни на мгновение, но рука дрогнула, и стрела, лишь оцарапав царевичу висок, взметнула пыль на дороге. Краем глаза Антон заметил переполох внизу, вокруг Баттхара — впрочем, переполох вполне осознанный и, надо полагать, много раз отрепетированный: воины сомкнулись в кольцо, одни выставили вперёд щиты, другие моментально рванули из-за спины луки...
— Не стрелять! — отчаянно завопил он, внутренне содрогнувшись: послушают ли они какого-то чужеземца... Послушают, решил он. Там, среди них, Заур и Аккер, они увидят меня и поймут.
Асмик медленно поднялась и отбросила лук. Извлекла из ножен саблю и шагнула к Антону. У неё были совершенно незнакомые глаза: не золотисто-карие, к которым он привык. Не изумрудно-зелёные, какими они были там, возле горного озера. Не прозрачно-серые, цвета лунной поверхности, как в комнате наверху, над трапезной, где на широкой лавке лежало пушистое меховое одеяло и неровным пламенем горел светильник в металлической плошке.
Они были никакие. Они вообще не имели цвета, и это казалось страшнее всего.
У Антона не было при себе сабли — видно, оставил где-то. А если бы и была. Если бы у него на груди болтался автомат «шмайссер», как у того «эдельвейса», что они нашли на леднике Светгар, под мышкой висела переносная баллистическая ракета средней дальности, у ног примостился надёжный, как сапог, пулемёт системы «максим» — что с того. Он и тогда не стал бы защищаться.
— Асмик, — прошептал он одними губами. — Это я, Антон. Я люблю тебя.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ...
Она занесла клинок над головой. Рукав сполз, и что-то тускло блеснуло у неё на запястье.
Браслет с застёжкой в виде миниатюрного коня, готового сорваться в галоп по весеннему лугу. У коня была длинная, до самых копыт, густая грива и вовсе уж крошечный рубин вместо глаза. Она смутно помнила, как этот рубин — яркий, кроваво-красный, светящийся в темноте магическим огнём, мерно качался перед её взором, и завораживал, очаровывал, погружал в сладкий тягучий омут, на дне которого отчётливо звучал сильный и властный голос.
Голос говорил страшные вещи. Настолько страшные, непонятные, неестественные, что они не укладывались в голове. Нет! — с яростью выкрикнула Асмик, пытаясь вынырнуть со дна омута.
Нет, нет, нет!!! — отталкиваясь ногами от мягкого илистого дна, прорываясь сквозь чёрную толщу воды и судорожно стараясь вдохнуть...
Она бы вынырнула. Но обладатель Голоса вдруг сделал движение, и перед Асмик появился высокий бокал с какой-то пенящейся жидкостью. Асмик здорово испугалась: почему-то она была уверена, что жидкость таит в себе опасность. Она забилась, как птица в силках, но её схватили за плечи, приказывая сидеть спокойно. Эти руки были очень сильны. Настолько сильны, что она не смогла им воспротивиться.
— Пей, — произнёс Голос.
Она осторожно отпила глоток, каждую секунду ожидая смерти. Но смерть не наступила — наоборот, напиток был прохладен и приятен на вкус. Асмик ощутила вдруг небывалую лёгкость и улыбнулась, подумав: какая же я глупая. Он ведь любит меня, этот Голос. Он желает мне только добра, и нужно просто слушать его... Слушать и запоминать, что он говорит.
— Что я должна делать? — шёпотом спросила она.
— Ты должна убить царевича Баттхара. Ты настигнешь его на выходе из Сенгенского ущелья, где узкая тропа ведёт к вершине скалы, — там очень удобное место для засады. Ты убьёшь его, потом убьёшь чужеземца, который призван из другого времени, чтобы его охранять. Они оба должны умереть...
Маленький золотой конь, качающийся перед глазами. Как красиво развевается его грива, как изгибается шея и светит огнём дико косящий глаз — секунда, миг, и он помчится быстрее ветра, быстрее мысли, унося её навстречу лазурным облакам, что живут на занесённых снегом вершинах... Он приказывает мне убить царевича и чужеземца. Потом можно будет умереть самой — Боже, как все просто и ясно... Жаль, я не знала этого раньше.
Наверное, только ему, обладателю Голоса, одному в целом мире был известен секрет приготовления этого снадобья. Он услышал о нём много лет назад, когда путешествовал по отдалённым уголкам высокогорного Тибета — монах-отшельник, которого он повстречал возле пещеры за границей вечных снегов, знал толк в волшебных эликсирах.
Рецепт изготовления был невероятно сложен и вычурен, но результат того стоил. С его помощью можно было заставить человека зарезать собственных родителей и задушить в постели любимую женщину, прыгнуть со скалы или с блаженной улыбкой взойти на костёр... Он был действительно великим мудрецом, этот отшельник, для него, понимающего язык трав, камней и минералов, почти не существовало невозможного. В припадке откровенности (бедный старик, он многие годы совсем не видел людей!) он даже поведал, что собирается прожить тысячу лет, ибо вплотную подошёл к открытию эликсира бессмертия... Как знать, возможно, он и открыл бы свой эликсир, если бы не свалился в пропасть...
Как знать.
— Ты исполнишь то, что я приказал? — требовательно спросил Голос.
— Да.
Прохладный металл приятно коснулся её руки. Сухо щёлкнула застёжка, и Голос властно произнёс:
— Теперь иди.
— Да, отец, — отозвалась Асмик.
Он был здесь, этот чужеземец. Он стоял перед ней, опустив руки, и в них не было оружия. Это её обескуражило, но лишь на мгновение. Он не защищался — что ж, тем лучше. Только почему-то трудно было взмахнуть клинком — словно некая сила, более могущественная, боролась с голосом, отдававшим ей приказы. Они сцепились, как два смертельных врага, они молотили друг друга, рычали в смертной тоске и оба не собирались уступать.
Асмик покачнулась. Этот чужеземец — он что-то говорил ей, кричал, пытаясь пробиться сквозь километровую толщу льда, в который она была закована. Этот лёд никогда не таял на солнце... Но он пробивался, потому что верил, что пробьётся. Если бы не голос...
Голос и конь с рубиновым глазом, что висел сейчас на запястье и тянул назад, вниз, в омут с древними корягами у самого дна. И клинок, занесённый над головой.
У неё не хватило сил остановить удар. Всё, что она смогла, — это повернуть кисть к себе и направить клинок не в его сердце, а в своё собственное.
И Антон прыгнул.
Он легко преодолел разделявшую их стену, и стена рухнула, будто её и не было. Сшиб Асмик с ног, выбив саблю, и они, обнявшись, покатились по камням и замерли, наконец, у самого обрыва, потому что время остановилось.
Аккер влетел на скалу первым. На гребне сидел Антон, неловко подвернув под себя ногу. Лоб его был оцарапан, и кровь тонкой струйкой сбегала к переносице. Голова Асмик покоилась у него на коленях, девушка была совершенно неподвижна, и Аккер, помедлив и собравшись с силами, глухо спросил:
— Она умерла?
Антон покачал головой и улыбнулся.
— Нет. Она спит...
Глава 23 КОПЬЁ ДАВИДА
— Как ты узнал? — спросил Баттхар.
Они находились в замке царя Гюрли, в одном из залов, перед вделанным в стену очагом (неким прообразом камина), над которым висела очень неплохая коллекция оружия. Видно, Гюрли, как и в молодые годы, был воином и седло боевого коня предпочитал золочёному трону. Пол устилали несколько тигровых и барсовых шкур. Антон нисколько не удивился бы, узнав, что всё это — царские охотничьи трофеи.
Зал был большой — даже, пожалуй, великоватый для тех нескольких человек, что собрались здесь. Это потом, когда придёт время свадебного пира, он будет полон народу и покажется тесным: скорее всего, придётся выносить столы с угощением под открытое небо, чтобы вместить всех гостей. Зашуршат нарядные одежды, польётся музыка, зазвучат песни и тосты в честь новобрачных, взметнулся вверх кубки с искристым вином. И сотни взоров будут устремлены на двоих, сидящих во главе праздничного стола: на аланского царевича и дочь грузинского правителя...
Но это случится позже. Пока же зал казался пустым. Лишь сам Гюрли стоял в центре в окружении нескольких военачальников — все они были седоусые и приземистые, чем-то неуловимо напоминавшие сенгенского воеводу Османа. Рядом с ними Антон увидал Аккера и Заура, и чуть в стороне — юную Зенджи, младшую дочь царя. Антон поклонился по обычаю, бросив на неё взгляд: красива. Пожалуй, Асмик в чём-то даже проигрывает ей: в величественной осанке, в безукоризненности породистых черт лица, в умении носить золотые украшения и нарядное тяжёлое платье, достойное истинной царевны... Тонкие, в форме полумесяца, брови, яркие чёрные глаза, румянец на нежных щёчках, алые, чуть припухлые губы... Плюс к тому недурная высокая грудь и точёная фигурка. Настоящая горянка, красоту которой будут воспевать поэты.
Вот только... Антон прислушался к своему сердцу: оно билось ровно и спокойно, обеспечивая идеальный пульс и кровяное давление. Сколько бы он ни смотрел на неё.
— Как ты узнал? — повторил меж тем Баттхар, так и не дождавшись ответа.
— Что? — рассеянно спросил Антон.
— Как ты узнал, что я не царевич?
Асмик... Антон поневоле улыбнулся, вспомнив вдруг, как нёс её на руках вниз по тропе. Он ни разу не споткнулся и не потерял равновесия, словно под ногами были не острые камни и крутой спуск, а покрытый новеньким асфальтом проспект. Я успел, стучало у него в висках и переполняло грудь сумасшедшей радостью. Я успел. Я спас её...
Она что-то пробормотала во сне, склонив голову ему на плечо. Длинные шелковистые волосы распались, накрыли оранжевой чащей, тонкие руки обвили его шею... Наверное, она видела хороший сон. Что-то еле заметно царапнуло кожу. Антон скосил глаза и увидел браслет с конём-застёжкой. Где-то он уже видел эту вещицу. Надо бы вспомнить, где, но не хотелось думать об этом.
Внизу, на дороге, какой-то седой воин перевязывал голову Баттхара: всё-таки стрела оставила отметину. При виде Антона с девушкой на руках Баттхар живо вскочил, оттолкнув заботливую руку, подбежал, заглянул в спокойное лицо Асмик...
— Она жива?
— Жива, — устало отозвался Антон.
— А ты сам не ранен?
— Нет, нет, успокойся.
Баттхар вздохнул с облегчением.
— А кто в меня стрелял?
— Не знаю, — сказал Антон. — Он успел уйти.
Эти воспоминания владели им ещё добрых полминуты, пока в сознание не вломилось нечто постороннее и совершенно нелогичное. Антон нахмурился и озадаченно спросил:
— Ты не царевич?
Тот развёл руки в стороны: извини, мол.
Нелогично. Хотя — если вспомнить, сопоставить, вдумчиво проанализировать те странности, случавшиеся с ними в пути, их необъяснимые задержки, разговоры и отдельные фразы в тех разговорах, а зачастую и не фразы, а лишь интонации... Он ведь догадывался о чём-то подобном и даже высказывал свои мысли Аккеру...
— Мы нарочно притягивали к себе монголов, верно? — проговорил Антон. — Мы давали возможность настоящему царевичу беспрепятственно достигнуть Тебриза? Интересно, он сейчас здесь? На него можно взглянуть хоть одним глазком?
Все молчали. Взгляды присутствующих были устремлены на Антона, и тот слегка стушевался. Растерянно оглядевшись по сторонам, он спросил:
— Вы знаете что-то, чего не знаю я?
Аккер, поколебавшись, вышел немного вперёд, посмотрел на царя Гюрли, и тот кивнул.
— Дело в том, — сказал горец, — что царевич Баттхар, сын Исавара, несколько лет назад погиб под лавиной. Тело не нашли: лавина погребла под собой все караванные тропы в окрестностях. Исавар был вне себя от горя — ведь он лишился не только сына, но и надежды на союз с Грузией.
Но однажды далеко на востоке появился паломник. Он путешествовал по городам и странам, побывал в Мекке, и Аллах дал ему способность видеть будущее. Он был слеп, этот паломник: то ли от рождения, то ли потеряв зрение в результате несчастного случая... «Настанет время, — сказал он, — и царевич Баттхар вернётся. Он придёт из толщи вечных снегов, побывав в ином, далёком мире и обретя там новое лицо и новое имя. Он не будет помнить, кто он и что с ним произошло, но найдутся люди, которые помогут ему вновь обрести себя. Он преодолеет долгий путь через весь Кавказ и достигнет большого цветущего города, чтобы взять в руки Копьё Давида и объединить два великих народа в борьбе против монголов. И снова уйдёт, на этот раз навсегда». Так звучит пророчество, — он сделал паузу. — Царевич Баттхар — это ты, Антон.
Что-то он сказал, этот странный человек, которого Антон почитал за своего учителя. Что-то по-прежнему непонятное, не укладывающееся в голове. Нисколько не стесняясь присутствия коронованных особ, Антон прислонился к стене и медленно сполз вниз, усевшись прямо на тигриную шкуру.
— Вы с ума сошли, — неэтично высказался он, нимало не заботясь о том, поймут ли его окружающие — не их он сейчас уговаривал, а старался примирить собственный рассудок с новым поворотом судьбы. — Я... Я не могу быть Баттхаром. Я обычный студент из двадцать первого столетия. Я живу в Москве, со своими родителями, которых люблю. Хожу на лекции, сбегаю с них в кино или в кафе, пью пиво в баре напротив главного корпуса и иногда перехожу дорогу на красный свет. А вы хотите, чтобы я вершил судьбы целых народов? Чёрт возьми, а вдруг вы ошиблись? Вдруг тот слепой мудрец никакой не провидец (да и возможно ли это, видеть будущее?), не Джуна и не Ванга, а простой рыночный шарлатан? А если он и сказал правду, если царевичу Баттхару действительно суждено было вернуться — как вы узнали, что он — это я?
Он закрыл лицо руками и зажмурился изо всех сил, твердя про себя, как заклинание: — Я просыпаюсь, просыпаюсь, просыпаюсь... На моей тумбочке в спальне заливается будильник, и нужно бежать в институт, потому что сволочной профессор Мурзинский (погоняло «Мурзик») назначил зачёт на половину девятого утра...
И тихо проговорил:
— А самое главное — Тебриз всё равно падёт. Тимур завоюет Кавказ и создаст свою империю, которая рухнет только после его смерти. И аланы превратятся в фантом, в народ-легенду. Останутся памятники, могильники и полуразрушенные крепостные стены, по которым археологи будут гадать, какими они были, аланы, во что верили, с кем воевали, какие одежды носили... Поймите же вы, история уже написана, и не нам её изменить.
— Историю пишут люди, — сказал царь Гюрли. — Судьба распорядилась так, что ты — единственный человек в современном мире, появление которого она не предусмотрела. Поэтому — как знать, может быть, именно благодаря тебе город выстоит, два народа будут сражаться бок о бок и победят... И возродятся аланы, и ты, возможно, станешь тому свидетелем. Ты ведь тоже алан, далёкий потомок царя Давида, и отныне его Копьё принадлежит тебе по праву. — Он усмехнулся и добавил: — Правда, вынужден тебя огорчить: моя дочь выйдет замуж совсем за другого человека — и не сегодня. Это тоже сказано в пророчестве...
Антон встал. Ноги слушались его плоховато, но он встал и шагнул навстречу грузинскому царю.
— Владей, потомок Давида, — торжественно сказал тот, протягивая Антону копьё.
Антон узнал это копьё, хотя никогда не видел его раньше. Массивный золотой наконечник отразил луч света, заискрился и будто потеплел, признав хозяина. Чёрное от времени древко (то ли дерево, покрытое специальным составом, то ли удачная его имитация) удобно легло в ладонь, и это было похоже на дружеское рукопожатие.
Поэтому мы и прошли тот подземный коридор в городе Каменных Богов так спокойно, подумал Антон. Наверняка там было до чёрта скрытых ловушек: падающих плит, люков в полу, вылетающих из стены стрел и ампул с отравляющим газом. И наверняка за много тысячелетий кто-то алчный и не отягощённый особыми моральными принципами сложил голову в тех подземельях, своим примером отвадив своих последователей, таких же алчных и беспринципных... Только Антона с Баттхаром (или как там его зовут на самом деле) Каменные Боги не тронули.
— Сегодня утром, после вашего отъезда, Алак-нойон и его люди попытались захватить Сенгенскую крепость, — сказал Гюрли. — Им вовремя дали отпор, многих убили, но самому «послу» удалось ускользнуть. Думаю, не пройдёт и недели, как Тохтамыш подступит к Тебризу со своей армией.
— Значит, разговорам о мире пришёл конец, — задумчиво проговорил Антон. — Скажите, ваше величество, не было ли среди убитых в крепости старого иранца, советника Алак-нойона?
Гюрли переглянулся со своим военачальником. Тот отрицательно покачал головой.
— Его не нашли ни среди мёртвых, ни среди пленных. Возможно, он ушёл незадолго до начала боя.
Жаль, рассеянно подумал Антон. Я не отказался бы встретиться с ним ещё раз... Впрочем, что бы я сказал ему? Что его план, который он вынашивал всю жизнь, с треском провалился? Что его дочь, отданная им на заклание, жива, и царевич (то есть я сам) всё-таки достиг Тебриза, как и предсказывал слепой дервиш? Дервиш... Почему мне пришло на ум это слово? Царь Гюрли называл его просто паломником из Ирана...
Асмик ждала его возле дверей зала. Лицо её было бледнее обычного, но глаза... Антон посмотрел в них и вздохнул с облегчением. Глаза её были прежние: большие, широко распахнутые, светло-карие, и золотые искорки плавали в их глубине...
Он пересёк зал, подошёл к ней и задал вопрос, который казался ему самым важным. Важнее, чем судьба Кавказа, Золотой Орды и рукописи в кожаном футляре, которую он, кстати, так и не прочёл до конца...
— Ты поедешь со мной? — спросил Антон. — Потом, когда всё закончится?
И почувствовал её тёплую ладонь у себя на щеке.
«...Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, донесло до меня весть о том, что в начале месяца Зул-у-Хиджа 778 года[28] Хиджры хан Золотой Орды Тохтамыш, нарушив слово о мире, подступил с неисчислимым войском, греческим огнём, катапультами и таранами, к стенам города Тебриза и приказал жителям: „Выдайте мне голову вашего правителя коназа Гюрли и принесите Копьё Давида, которым он владеет. Тогда я сохраню вам жизнь и оставлю в неприкосновенности ваши дома и имущество. Если же вы ослушаетесь, мой гнев падёт на ваши головы огненной молнией. У вас мало воинов, и, клянусь, я не оставлю от города камня на камне!"
Однако в ответ на эти слова хан Золотой Орды увидел перед собой не малый гарнизон, как о том доносили его разведчики, но армию, которая покрыла собой все окрестные холмы и долины. В её рядах были воины, племён картли, лазов, алан, черкесов, армян и многих других, коих объединила власть Копья Давида. Некоторые монгольские военачальники, смутившись при виде такой силы, хотели отступить, но Тохтамыш приказал отрубить головы двум из них и сказал: „Та же участь постигнет каждого, кто осмелится думать о поражении. Бог войны Сульдэ скачет на белом коне под моим знаменем, и пусть враг убоится наших мечей и копий!
И протрубил над полем рог, возвещающий о начале битвы, и два войска бросились навстречу друг другу, исполненные решимости победить или погибнуть со славой...
Темники Тохтамыша Оглы-бай, Ташмир-оглан и Алак-нойон, управляя правым крылом, прошли Сенгенским ущельем, чтобы выйти в тыл армии Гюрли, но едва их войско оказалось на узкой тропе, зажатой меж скал, сверху посыпались камни, стрелы, и копья, нанося большой урон нападавшим. Тохтамыш приказал правому крылу вступить в бой и пробиться к выходу из ущелья, где можно было развернуться в боевой порядок, но на их пути встала аланская конница, во главе которой находился царевич Баттхар Нади, сын правителя Исавара. И началось великое сражение, где многие народы бились против своих соотечественников, нанятых в армию Тохтамыша или взятых туда насильно. И случалось, что сын убивал отца, а брат скрещивал меч со своим братом. Но было и так, что, встретившись в бою, воины-односельчане обнимались и поворачивали оружие против монголов...
С полудня до темноты длилась эта кровавая жатва, кони топтали людей, тучи стрел укрывали солнце, и мёртвые не могли упасть на землю из-за тесноты...
Воины грузинского харал-гаха Османа, что стояли в центре и испытывали страшный натиск, отступили к стенам Тебриза, но, видя доблесть аланской конницы, напоили сердца мужеством льва и в лобовом ударе опрокинули передовую линию монгольских войск. И те, не выдержав, побежали, показав врагу спины. Тохтамыш, разгневавшись, пообещал казнить каждого третьего из тех, кто оказался нестоек, и велел бросить в бой резерв генуэзской пехоты с невиданными ранее огненосными копьями[29], но эмиры, нукеры и нойоны продолжали в панике покидать поле сражения. На исходе третьего дня ордынские войска распались на части, чтобы затем уйти в Крым, к низовьям реки Итиль и в горы Центрального Кавказа. Сам Тохта-хан с пятью туменами направил коней в сторону Булгарии, надеясь уйти затем в Литву, к князю Витовту, и собрать новую армию, но в долине реки Терек был вынужден вступить в сражение с Хромым Тимуром, и Тимур одержал победу...
Многие и многие полегли в те дни под стенами Тебриза. Каждые шесть из десяти не вернулись с поля битвы, и были среди них воевода Осман, начальник Сенгенской крепости, чьё разрубленное тело с трудом извлекли из-под горы вражеских трупов, и другие, великие и безымянные, которым не было числа...
Никто из ныне живущих по сей день не знает, что стало с царевичем Баттхаром, возглавившим бой против конницы монгольского военачальника Алак-нойона. Он не вернулся в Тебриз после окончания сражения, и его труп не был найден на поле, хотя сам царь Гюрли приказал найти тело и осмотреть для этого каждую пядь земли. Не была найдена и его верная спутница, дева-воительница по имени Асмик из народа аланов, которая сражалась с ним бок о бок и, как рассказывают очевидцы, не раз закрывала его собой. Многие, кому посчастливилось выжить, описывают её доблесть, но никто не может ответить, какая судьба её постигла...
Повесть сия составлена мною, Рашид Фазаллахом ибн Али Хейр ад-Эддином из Ирана, в восьмой день месяца Саффар 788 года Хиджры...»
Эпилог
— По-моему, Светка застряла, — озабоченно сказал Казбек, стоя на гребне.
— Где? — спросил Антон.
— Вон там, где выступ... Светик, милый, ты не ночевать ли там собралась? — прокричал Казбек голосом заботливой мамаши, загоняющей юного отпрыска-шалопая домой с улицы.
Антон не видел, что произошло: скальный карниз закрывал обзор. Понял только, что Светочка потеряла опору и теперь никак не могла сдвинуть жумар[30] с места. А самое главное — не предпринимала ни малейшей попытки исправить ситуацию, уверенная, что её спасут и так.
— Попробуй встать на карниз и продёрнуть жумар вверх, — посоветовала Динара. — У тебя должно получиться.
Света послушно попробовала и сообщила:
— Не могу. Что-то мешается... Верёвка какая-то.
— Ещё новость, — буркнул Казбек, уже понявший, что придётся спускаться и вызволять подругу. — Страховочная верёвка ей помешала, экстремалка чёртова...
— Да не страховочная, — разозлилась Света. — Тут рядом ещё одна, не наша. Старая, мохнатая...
— Не вздумай хвататься за неё! Если она провисела здесь хотя бы сезон, то вся сгнила, — крикнул Казбек и раздражённо щёлкнул карабином. — Пойду спущусь. А то наша Сурская красавица дров наломает.
И скрылся за выступом.
Его не было всего несколько минут, но Антону почему-то стало не по себе. Он шевельнулся (маленький камешек выскользнул из-под ботинка и пулей улетел в бездну... осторожнее надо быть, чёрт возьми), взглянул на часы и проговорил:
— Чего они так долго?
— Не волнуйся, — отозвалась Динара. — Скоро появятся.
Однако беспокойство не исчезало. Антон немного поразмыслил и вдруг нашёл ему вполне научное название: дежа-вю. Стойкое ощущение того, что однажды это уже происходило с ним. Всё уже было: этот гребень, похожий на голову какого-то доисторического чудовища, и скальный выступ, на котором застряла Светочка Аникеева, и даже чужая верёвка, неизвестно кем и когда здесь оставленная. Он просто голову дал бы на отсечение, что верёвка была немецкая, с потускневшим клеймом фирмы «Капитан Крок». Фирмы, производившей снаряжение для военных альпинистов в минувшую войну... Да откуда такие странные мысли?
— Сгнила, — послышался снизу голос Казбека. — Так я и думал.
— Светка сгнила? — испугался доверчивый Паша Климкин.
— Верёвка. Я хотел её вытащить, но она уходит куда-то ещё ниже, в трещину. А трещина забита льдом. Безнадёжное дело. Мы поднимаемся.
Первой над гребнем показалась Светочкина златокудрая голова. Лицо мило разрумянилось от подъёма, но гримаса, застывшая на нём, была измученная, словно её обладательница только что совершила восхождение на Эверест без кислородной маски. И недовольная, словно не получила за это даже почётной грамоты от профсоюза. Следом вылез Казбек, нагруженный сразу двумя рюкзаками.
— Давай двигать скорее, — пробормотал он, поглядывая на небо. — Нам бы успеть в лагерь до темноты.
— Я пятки натёрла, — пожаловалась Света. — И фляжку оставила на леднике.
— Я тебе свою подарю, — мужественно сказал влюблённый по уши Паша Климкин.
Светочка взглянула заинтересованно.
— Да? И до лагеря на руках донесёшь?
Паша виновато вздохнул.
— Он был пылок и отважен, юн, красив и сердцем чист, — выдал Казбек только что сочинённые вирши. — Только жаль, что не штангист.
— Сам дурак, — с достоинством сказала Светочка Аникеева.
Спуск по другую сторону хребта оказался несложным: сравнительно пологая извилистая тропа сбегала вниз меж камней, мимо склонов, покрытых альпийскими травами, маленьких буковых рощиц и мерно журчащей реки с ласковым именем Чалалат. Антон поначалу шёл в середине группы, но как-то незаметно для себя сместился в арьергард — не потому, что выдохся, а потому, что всё время тянуло оглянуться. Словно он только что упустил нечто важное...
Подошла Динара, пристроилась рядом, помолчала и тихо спросила:
— Что с тобой творится?
Антон мотнул головой.
— Да ерунда. Чудится всякое... — и вдруг выпалил: — Жалко, мы не посмотрели, что там было, б этой трещине.
— В какой трещине? — не поняла Дина.
— Казбек сказал: нижний конец старой верёвки уходит в трещину, забитую льдом. Вдруг там было что-то важное?
— Что, например?
Он пожал плечами.
— Ну, не знаю... Сокровища из древней крепости — их тут в прошлые века было много, этих крепостей. Или станинный фолиант, неизвестный науке.
— Фолиант — на конце верёвки?
Антон замолчал и отвернулся с некоторой досадой: действительно, глупая фантазия. Причём (странно, странно...) не просто фантазия, а вполне конкретная, будто виденная наяву в далёкой прошлой жизни. Жизни, где автор этого фолианта (Антон помнил даже, что называл его иранцем, а вообще — Рашид-какой-то-там...) никогда не умирал от выпитого яда в башне Тебриза, потому что монгольские войска так и не взяли город, и грузинский царь Гюрли не погиб в битве, а благополучно скончался от почечных колик только спустя пятнадцать лет, его дочь, красавица Зенджи, вышла замуж за арабского принца Астафа, родив ему двух сыновей. И через долгих шесть веков мир вновь услышал об аланах, как и предсказывал слепой дервиш, живший где-то на востоке...
Всё было так — и все изменилось. Лишь непонятные обрывки, которые, по идее, должны были быть надёжно стёрты из памяти, продолжали царапать сознание. Антон, к примеру, мог бы свободно описать тот самый фолиант: ломкие желтоватые листки бумаги, свёрнутые в трубочку и помещённые в футляр из красноватой бычьей кожи с серебряной застёжкой. Выцветшие, еле различимые чернила, ровные ряды букв и затейливые вензеля, которыми начиналась красная строка.
— Если бы он там был, — примиряюще сказала Динара, — он всё равно бы не сохранился. За шесть столетий вода проникнет сквозь любую кожу. Слишком это большой срок для рукописи. Пойдём, видишь, нам уже машут.
— Пойдём, — вздохнув, согласился Антон. И вдруг нахмурился. — Подожди. Ты сказала: «шесть столетий»... Откуда ты...
Она улыбнулась. И очень знакомо, ласково и словно летяще, коснулась ладонью его щеки. И Антон заметил у неё на запястье браслет в виде крошечного, мастерски сделанного коня. У коня были тонкие нервные ноги, грациозно выгнутая шея и роскошная грива до самых копыт.
...В последний раз он приезжал в Старохолмск к тете Тане и дяде Андрею два года назад, после сессии. А до этого — уж и не помнил когда. И теперь, выйдя из вагона электрички на знакомой станции, нешуточно разволновался, словно попал вдруг в страну, где когда-то жило его детство. Ну, не все детство целиком, а летняя его часть.
Старой станции — деревянной, приземистой, как барак, с хриплым репродуктором на крыше, уже не было, снесли. На её месте красовался пусть небольшой, но самый настоящий двухэтажный вокзал из ярко-красного кирпича, вызывающего мысль о Кремлёвской стене. Электронные часы над входом показывали половину одиннадцатого утра. Антон подхватил спортивную сумку с надписью «Rifle», прошёл сквозь здание (вполне современное: яркие пластиковые креслица в зале ожидания, сверкающая витрина буфета, с ног до головы оклеенного рекламами, касса с тонированными стёклами и санитарно-гигиеническая работница в сексуальном джинсовом комбинезончике — язык не поворачивался назвать её грубым словом «уборщица»), вышел с другой стороны, сел в подкативший автобус и поехал на улицу Космонавтов.
Любопытно, но насколько изменился центр города за те годы, пока он здесь не был, настолько сохранились в неприкосновенности окраины. Нетронутая временем улица тянулась вдоль пыльных заборов, за которыми в кустах жёлтых акаций прятались двухэтажные дома с покатыми крышами, крошечные огородики (да здравствует смычка города и деревни!), куры и самодельные парники. Позади домов по-прежнему лежал обширный пустырь, который почему-то никто не спешил застраивать, хотя земля, поди, стоила бешеных денег, и текла мутная мелкая речушка, впадающая в такой же мелкий пруд, поросший коричневым камышом. Однажды, помнится, Антону довелось сидеть в этой речке, погрузившись в неё с головой, а злой и коварный, как Чингисхан, Севка Горюнов по прозвищу Севрюга... Впрочем, не хотелось сейчас думать о Севрюге. В конце концов, кабы не он, никогда не было бы у Антона встречи с бывшим десантником Костей, и не возник бы в его жизни небольшой спортивный зал с ласковым и грозным именем додзё, где хлопает по телу пропитанное потом кимоно, и в ушах звенит от мощного единого выкрика... Он усмехнулся, вспомнив, как мечтал повстречать на улице несчастного Севку и всю его банду, и разметать их одним-двумя смертоносными движениями, и оглянуться через плечо на поверженных врагов с иронической улыбкой. Сейчас-то он, пожалуй, мог бы...
От конечной остановки пришлось ещё добрых два квартала идти пешком, но Антон был рад этому: он чувствовал себя, словно разведчик, который после долгих лет пребывания за границей, в глубоком тылу, вернулся, наконец, на Родину. И заново открывал её для себя.
Всё здесь осталось по-старому — и все будто уменьшилось в размерах. Казавшиеся раньше огромными лопухи вдоль забора, которыми раньше можно было укрыться с головой во время дождя, и блочные стены складов, ныне пустующих и потихоньку зарастающих лебедой, да и сама улица — та самая улица, с лёгкостью превращавшаяся то в космодром, то в футбольное поле, то в гладиаторскую арену...
Знаменитая когда-то на весь район пивная тоже не претерпела особых изменений (разве что ассортимент стал побогаче): её словно перенесли сюда целиком из постперестроечных времён вместе с осклизлым прилавком и крикливой продавщицей, толстой, как афишная тумба. Возле угла улицы, шагах в десяти от пивной, свершалось некое бурное действие: трое пьянчуг с похмельным остервенением лупили четвёртого, корчившегося на земле. Тот и не пытался защищаться, лишь коротко взвывал при особо сильных пинках под рёбра и жалобно всхлипывал:
— Мужики, ну чего вы? Бля буду, всё отдам на той неделе. Ну не бейте, а?
Его не слушали. Редкие прохожие, стыдливо отворачиваясь, старались поскорее миновать опасную зону, только какая-то древняя бабка, длинно сплюнув, прошамкала беззубым ртом:
— Ироды проклятые, зенки нальют с утра и безобразят. Довёл Чубайс нашу страну, прости Господи...
Цитата не нашла отклика в народном сердце. Антон тоже прошёл бы мимо: он никогда не был любителем драк, и занятия каратэ любви к ним не прибавили. Однако на этот раз что-то зацепило его внимание: он остановился, присмотрелся повнимательнее и вполне дружелюбно произнёс:
— Что это вы, ребята, трое на одного? Джентльмены так не поступают.
Один из них, рыжий, всклокоченный и с выпученными рыбьими глазами, дохнул в лицо многодневным перегаром:
— Топай отсюда, пидор, пока очки не расколотили.
— Очки? — удивился Антон. — Сроду очков не носил...
Он шагнул вперёд, увидев, как навстречу вылетел кулак. Кулак был громадный, такой же рыжий, как и его обладатель, густо покрытый волосами и веснушками. Попади он в голову или ино куда — Антону пришлось бы туго.
Антон не стал тратиться на блок и ответный удар: противник не тот. Просто чуть качнулся в сторону, подставил сзади ногу и несильно толкнул соперника в грудь. Результат вышел неплохой: рыжий потерял равновесие, взмахнул ручищами и громко впечатался спиной в хилый штакетник, разметав его в мелкую труху.
— Ну вот, теперь поровну, — удовлетворённо сказал Антон. — Двое на двое. Продолжим?
«Двое на двое» — это было, пожалуй, художественным преувеличением: тот, за кого он заступился, свернулся калачиком на земле и лишь тихонько постанывал, размазывая кровь по лицу. И всё равно, остальные продолжать не захотели. Один склонился над упавшим товарищем — вроде и не труся, а как бы исполняя роль сестры милосердия, другой более откровенно шмыгнул за киоск и исчез, будто растворился среди мусорных баков. На всякий случай Антон сделал оборот вокруг оси, обозревая прилегающее пространство: не предвидится ли новой опасности. И только потом, всмотревшись в лицо спасённого, тихонько присвистнул:
— Севрюга, ты?
Тот несмело приоткрыл один глаз (на месте второго, заплывшего, красовался налитый кровью синяк) и обречённо пробормотал:
— Слышь, нет у меня денег, чес-слово нет. На той неделе отдам...
— Да подожди ты со своими деньгами. Ты меня не узнал? Я Антон Изварин. Помнишь, я приезжал сюда на каникулы?
Однако появление «друга детства» и собственное чудесное спасение заинтересовали Севрюгу слабо. Гораздо более сильные эмоции вызвало у него отбитое бутылочное горлышко, валявшееся рядом. Севка подобрал его, зачем-то понюхал и страдальчески сморщился.
— Это они что, меня — моей же бутылкой? Суки. Поймаю — убью... — Он попытался сфокусировать взгляд на Антоне. — Слышь, у тебя нет ничего... ну, в смысле здоровье поправить? И пожрать бы. А то я с утра не жравши.
— Так сейчас и есть утро, — слегка удивился Антон.
— Да не с этого утра, — терпеливо пояснил Севка. — С позавчерашнего... Или с понедельника? Чёрт, не помню. Сплошной сиреневый туман в голове.
Антон вздохнул. При одном взгляде на «друга детства» в сиреневый туман можно было поверить безоговорочно. Как и в то, что Севка не видел нормальной человеческой пищи по крайней мере несколько суток.
— Ладно, — наконец решил он. — Пошли-ка со мной.
— Куда ещё? — всполошился Севрюга, делая судорожную попытку отползти.
— К нам домой. Хоть поешь как следует. И умоешься...
Севка недоверчиво шмыгнул разбитым носом.
— Да тебя твои и на порог не пустят. Скажут: приволок чучело с помойки...
— Не скажут. Дядя Андрей наверняка в своей клинике, а тётя Таня... Она добрая. Она никого никогда не прогоняет. Вставай, а то мы и до вечера не доберёмся.
Они добрались. Правда, не сразу: мешали Севкины ноги, так и норовившие зацепиться одна за другую, и рытвины на древнем асфальте, перед которыми пасовало любое транспортное средство. Лишь дяди-Андреев газик относился к этим рытвинам с холодным презрением.
— А ведь я тебя узнал, — вдруг сказал Севка. — Ты когда-то Домке Лисицыну рожу начистил за то, что он кораблик утопил. А я тебя потом в воду макал...
И неожиданно заплакал. Беззвучно, не вытирая слёз, что медленно скатывались вниз по небритому подбородку. Только затряслись худые, похожие на вешалку плечи под грязным пиджаком.
— Новое дело, — ошарашенно буркнул Антон. — Ну-ка давай, двигай ногами.
— Долго ещё двигать-то? — спросил Севрюга через несколько минут.
— Да нет, — отозвался Антон. — Пришли уже. Вот наш дом.
Он поднял голову и увидел знакомое окно на втором этаже. Окно было раскрыто: наверное, тётя Таня хлопотала на кухне, готовясь к приезду любимого племянника. На подоконнике, рядом с цветочным горшком, лежала, развалясь, трёхцветная кошка Нюрка, с даосской мудростью прищурив глаза и свесив вниз передние лапы...
Пенза, февраль — ноябрь 2002 г.
От автора
Выражаю огромную и сердечную благодарность учёному-историку, археологу, моему бесценному консультанту и практически соавтору Геннадию Белорыбкину, без которого данная книга никогда бы не состоялась.
Примечания
1
Кингиты — племя, жившее высоко в горах. Кингиты славились тем, что начинали лазать по скалам раньше, чем ходить.
(обратно)2
Булинь — альпинистский страховочный узел.
(обратно)3
То есть вышла за него замуж.
(обратно)4
Джихан — скиталец.
(обратно)5
Кончар — прямой меч.
(обратно)6
Кяшкуль — миска для подаяний, сделанная из кокосового ореха.
(обратно)7
Вторая половина августа.
(обратно)8
Харал-гах — предводитель харала, передового отряда в войске или передовой крепости.
(обратно)9
Курень (от монг. kurren) — несколько юрт, поставленные вокруг одной, где живёт предводитель.
(обратно)10
Масхари-Шериф — Коран.
(обратно)11
Мездра — древняя столица Армении, в середине XIV в. разрушенная монголами.
(обратно)12
Кулзум — Каспийское море на языке некоторых горных племён.
(обратно)13
Тавачии — гонцы, собиравшие ополчение.
(обратно)14
На самом деле Арас-хан вёл свою родословную от одного из вождей тюркского племени Семнака, но среди ханов Золотой Орды принято было называть себя потомками Чингизидов.
(обратно)15
Искандер Двурогий — Александр Македонский.
(обратно)16
Фантастический роман Урсулы Ле Гуинн.
(обратно)17
Дада — ласковое обращение к отцу (аналог русского обращения «батюшка»).
(обратно)18
Конец апреля 1373 г.
(обратно)19
Несса — древний город близ Ашхабада, в XIV веке разрушенный монголами и засыпанный песками. Его развалины были открыты в 1931 г.
(обратно)20
Одно из названий Сванетского хребта.
(обратно)21
Конец сентября.
(обратно)22
Каспийское море.
(обратно)23
Сентинская Богоматерь названа так по названию горы Сентин, на склоне которой построен храм в её честь.
(обратно)24
Кежлега — разновидность лопаты у некоторых горных народов.
(обратно)25
Золотой сокол был изображён на знамени Тамерлана, бык — на знамени Тохтамыша.
(обратно)26
Весна и лето 1395 г.
(обратно)27
Правитель Египта.
(обратно)28
Середина сентября 1392 г.
(обратно)29
Во время сражения у стен Тебриза впервые было применено огнестрельное оружие: мушкеты и пищали.
(обратно)30
Альпинистское устройство для подъёма по верёвочным перилам.
(обратно)

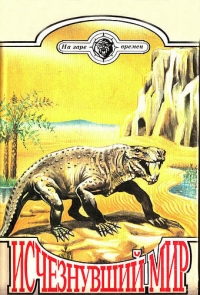

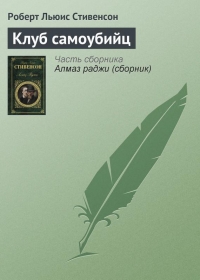

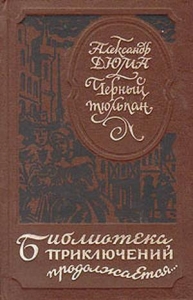

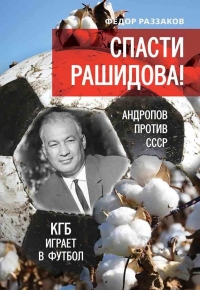

Комментарии к книге «Призванный хранить», Николай Анатольевич Буянов
Всего 0 комментариев