Глава первая
Синчи, лучший бегун-часки на главном тракте между Кито и Куско, проснулся, как обычно, с восходом солнца. Когда он, позевывая, выбрался из помещения сторожевого поста, первые лучи уже озарили белеющие вдали вершины Анд, возносящиеся к самому небу; на какое-то мгновение снега, словно вспыхнув, засверкали золотым блеском.
Синчи огляделся вокруг. Он лишь недавно нес службу на этом участке дороги; его назначили сюда потому, что он умел безошибочно пересказывать устные донесения. Новое назначение явилось как бы признанием его достоинств: выносливости и быстроты бега.
Его перевели на главный тракт, соединяющий обе столицы огромного государства, определив на ключевой пункт при пересечении важных путей: от перевала Белых гор к мамакоче-океану, к неистощимым рудникам провинции Уануко; и — через восточные хребты — в долину полноводной реки Уальяго. Подобное назначение было несомненным повышением. Возможно, когда-нибудь он станет начальником поста, а затем, глядишь, и инспектором дорог. Он еще молод, здоров, может и обождать: такая удача выпадает не каждый день.
В каких-нибудь двух тысячах шагов от сторожевого поста, у самой дороги, виднелось большое тамбо — постоялый двор для путешественников. Дым лениво вился в неподвижном воздухе, — значит, и там уже проснулись. Дальше, среди ровной и плоской долины, блестело озеро Чинчакоча, а на другом его берегу серым облачком проступал силуэт города Юнии. Заботливо возделанные поля поднимались высоко вверх по склонам гор все более узкими террасами.
Синчи быстрым взглядом окинул окрестности и посмотрел на запад. Высоко над дорогой, что вилась по долине реки Напо, впадающей в полноводный Мараньон, виднелось селение. Самое обыкновенное селение. Низкие домики с плоскими крышами, сложенные из высушенного на солнце кирпича, редко из камня, мрачные строения без окон и труб для очага. Деревня, каких тысячи.
Но Синчи невольно улыбнулся, глядя на ее далекие, едва различимые очертания.
Месяц назад, пробегая мимо, он увидел у дороги девушку. Она собирала на топливо навоз лам, огромные стада которых часто гнали мимо. Девушка посмотрела на часки и, улыбнувшись, выпрямилась.
Синчи не мог забыть эту улыбку и только сейчас понял, насколько удачно все получилось. Тогда он нес лишь связку кипу — непонятных ему шнурков с узелковым письмом, которое могут прочесть только чиновники, называемые кипукамайоками. Но если бы в тот раз ему пришлось передать устное распоряжение, он, наверное, не сумел бы вспомнить его.
И все оттого, что, когда он пробегал мимо этой девушки, она взглянула на него. Посмотрела, и как! И какие у нее глаза! А сама… сама она казалась прелестнее, чем та дева Солнца, которую Синчи видел однажды. Она вместе со своей свитой направлялась на юг. Вероятно, в Айякучо, во дворец самого правителя, сапа-инки, чтобы он, если соизволит там остановиться, мог выбрать себе самую красивую девушку из числа тех, что уже ожидали его.
Дева Солнца была очень нарядная, в богато вышитых тонких одеждах, в плаще из нежнейшей шерсти молодых диких лам-вигоней. Плащ был сколот огромной золотой брошью, в ушах — тяжелые, тоже золотые, подвески. Готовя ее в дорогу, две служанки старательно расчесали ей длинные прекрасные волосы.
А девушка из селения была в обычной грубой одежде, на руках у нее — только тонкие серебряные браслеты, волосы коротко острижены, и она собирала навоз на топливо — а все-таки казалась более красивой!
Глаза той, из касты инков, были холодные, полные презрения и гордости, у этой они сияли радостью. У этой были белые, ровные зубы, а губы ярко алые.
Иллья. Он узнал ее имя. Иллья. Часто в песенке чиско, веселого дрозда-пересмешника, можно услышать подобные звуки. Иллья…
Потом он еще несколько раз видел ее, и всегда мимоходом, пробегая по дороге. В конце концов ему стало казаться, что девушка нарочно выходит из дому, издали заметив приближающегося часки. Иногда она стоит возле хижины, на горе, иногда сбегает вниз, к самой дороге. Может быть…
Над соседним сторожевым постом, за деревушкой Илльи, взвился столб черного дыма, один, потом другой. Начальник поста, сидевший у стены на полу и лениво жевавший листья коки, повернулся к Синчи.
— К нам бегут, уже подали сигнал. Два раза поднялся дым. Приготовься! А ты, Бирачи, следи за огнем. И собери соломы на два дымовых сигнала, чтобы вовремя предупредить следующий пост. Видимо, что-то срочное.
Синчи ничем не выдал своего недовольства. Он предпочел бы бежать в противоположную сторону, к селению Илльи; может, снова удалось бы увидеть ее? Но ведь часки сам не решает, когда его очередь отправляться с донесением.
Он сбросил плащ и остался в одной лишь набедренной повязке, проверил, надежно ли держатся на ногах сандалии-усуто, не натрут ли они ноги во время бега, сделал несколько глубоких вдохов, расправил плечи.
Гонец с соседнего поста уже приближался, тяжело дыша. Синчи вышел ему навстречу и побежал рядом, приноравливаясь к его шагу. Первый вестник на ходу пересказывал поручение.
— К инке, правящему в Айякучо, обращается курака Ауки, правитель уну Анкачс. В долине под Уаскараном обнаружено гнездо священной птицы коренкенке. Запрашиваю: как поступить? Я приказал удалить местных жителей и оставил в долине охрану.
— К инке, правящему в Айякучо… — повторял Синчи, в то время как другой гонец уже замедлял бег. Натренированная с детства память безошибочно схватывала целые фразы: — … обращается курака Ауки, правитель уну Анкачс…
— Беги и повтори! — тяжело дыша, крикнул гонец, когда Синчи пересказал весь текст сообщения без единой ошибки. Он перешел на обычный шаг и, отдышавшись, направился к сторожке.
А Синчи был уже далеко, он мчался во весь дух к следующему посту, который оповестили двумя столбами дыма. Примерно на полпути он разминулся с гонцом, спешащим на север, а еще через минуту встретил сразу двоих со связками кипу. Когда он пересказал свое сообщение другому часки и отошел в сторону, местный начальник поста вдруг с беспокойством обратился к нему:
— У меня все люди разосланы, а мне снова подают сигнал. Ты сможешь сразу же отправиться в дорогу?
Синчи кивнул. Для него, крепкого и здорового, сущий пустяк дважды пробежать восемь тысяч шагов.
Легко и почти весело он устремился к гонцу, прибывшему с юга, и, поравнявшись с ним, принял устное послание.
— Камайоку, правителю в Уануко. По повелению сына Солнца, сапа-инки Уаскара, на ваших землях будет большая охота. Сын Солнца соизволит прибыть в Уануко на двадцатый день после великого праздника Райми. Все должно быть подготовлено.
Хотя обычно бегуны забывали текст поручения, едва успев произнести привычные слова: «Беги и повтори!», и хотя гонцов даже специально тренировали, добиваясь, чтобы они быстро забывали старый текст и чтобы каждое новое приказание воспринималось ими на свежую голову, — но Синчи на этот раз запомнил известие.
Новость оказалась столь необычной, что нужно было обязательно поделиться ею с товарищами. Сам сын Солнца, сапа-инка, властелин, прибудет сюда, будет охотиться в их округе!.. Ведь отсюда до Уануко всего три дня пути.
Присев около сторожевой будки, они обсуждали это известие, молодые — с энтузиазмом, старый начальник — несколько скептически.
— Вот теперь-то вы поймете, что такое работа! Теперь увидите! Четыре года назад, когда тоже охотились в этих местах, один мой бегун умер, а двоих пришлось отправить обратно в их айлью. Как часки они уже ни на что не годились.
— Я-то выдержу! — засмеялся Синчи. — А там видно будет!
— Ну, по правде говоря, работы для всех будет по горло: надо привести в порядок дороги и мосты, приготовить помещения для двора и армии, да еще всех прокормить! Но зато во время охоты каждый будет сыт. Свежего мяса хватит всем. А потом склады пополнятся сушеным мясом-чарки, без еды никто не останется.
— Когда у нас в Кахамарке проходила такая охота, всех заставили принять в ней участие, даже мальчишек,
— Таков закон!
— Так оно и должно быть! Запасы мяса заготовляют на всех, поэтому и в облаве на зверя обязан участвовать каждый. Сначала сюда прибудет инка из Куско, который руководит охотой, — он выберет место. А когда туда сгонят зверей, пожалует и сам сын Солнца со своим двором — вот тогда и начнется… Хо-хо, будет на что поглядеть!
— Ну, а если… — неуверенно заговорил Синчи, до сих пор молчавший. — Если сам сын Солнца соизволит убить дикую ламу-вигонь, или гуанако, или оленя, то тогда этот зверь уже не будет уакой?
Никто не ответил. Некоторое время все с сомнением поглядывали друг на друга. Уакой — священным предметом, полным таинственной силы, — могло быть все: камень, животное, мумия.
— Об этом… об этом, вероятно, следует спросить жрецов, — проговорил наконец начальник поста, невольно бросив взгляд в сторону далекого города. Даже с такого расстояния ясно виднелся огромный, возвышавшийся над остальными постройками храм Солнца.
— Э-э-э! Будь это мясо уакой, жрецы, конечно, знали бы об этом и забирали бы его себе! — высказал кто-то дерзкое предположение.
И снова никто не отозвался. Наступившую тишину нарушало лишь едва слышное похрустывание листьев коки, которые жевали почти все собравшиеся. Солнце уже спускалось за вершины Белых гор, и на плато сразу похолодало. Люди закутались в толстые шерстяные плащи, а начальник даже натянул на голову теплую шапку-шлем, прикрывавшую затылок и уши.
— Холодно! Ну, ничего: вот уже и праздник Райми па носу! А там потеплеет.
— А после праздника — большая охота!
— Рано радуешься. До праздника Райми еще так набегаешься, что и свет не мил будет!
— Райми… — Синчи невольно вздохнул. — Эх, хоть раз бы увидеть этот праздник в самом Куско, в столице! Вот уж где, должно быть, есть на что посмотреть.
— Я-то видел. — Старик начальник с важностью кивнул головой. — Во времена великого инки Уайны-Капака я служил воином. Мы тогда покорили кечуа и захватили город Кито. Да, вот это были битвы! Сын Солнца тогда благосклонно взглянул на меня и назначил начальником сторожевого поста. А до этого я жил в Куско. Целых два года. Вот тогда и удалось мне повидать праздник Райми в самом | храме Кориканча. Рассказать? Пожалуй, и слов не подберешь. От такого великолепия просто ослепнуть можно. Мне и тогда не удалось все посмотреть, как же расскажешь теперь? — Он умолк, задумчиво покачивая головой. И через минуту продолжал: — Сначала в храме Кориканча вспыхивает новый священный огонь. Хо, вот это действительно уака, святыня! Ведь его дает само солнце! Жрецы выносят громадное, до блеска отполированное зеркало из чистого золота, но не плоское, а выпуклое, как панцирь черепахи. И когда они молятся, солнце своей чудодейственной силой зажигает сухие листья, приготовленные жрецами. Но если в день Райми тучи закроют светило, то это дурная, очень дурная примета! Значит, жди несчастья. Тогда священный огонь берут из Золотого храма на острове посреди озера Титикака и приносят в жертву лам, а иногда даже детей или красивых девушек. Только и это не всегда отводит беду. А в тот раз, когда я находился в Куско, солнце Так и не выглянуло из-за туч и священное зеркало не зажгло огня. Тогда отправили часки в Золотой храм с приказом принести в жертву девушку. И все-таки несчастье случилось. Как раз в тот год умер сапа-инка Уайна-Капак, владыка мира, победитель.
— Но ведь остался его сын, сапа-инка Уаскар! — возразил кто-то.
— Это уже не то! Что и говорить! И Тауантинсуйю, держава наша, уже не та! Ведь в Кито теперь свой великий инка — Атауальпа. Он тоже сын Уайны-Капака, но не от законной жены, койи из рода инков, а всего лишь от дочери последнего вождя кечуа. Вместо того чтобы подчиниться властелину из Куско, он создал отдельное государство. За что же мы воевали? Для чего захватили Кито? Чтобы опять существовало два самостоятельных государства?
— Кажется, по главной дороге за Белыми горами часки несут какие-то страшные вести, — прошептал кто-то в сгустившемся мраке.
— Это не наше дело! — сурово оборвал его начальник. — Часки должен повторить и забыть. Помните об этом всегда!
— Хоо, снизу сигналят! Готовься бежать! — крикнул с дозорной вышки постоянно находившийся там наблюдатель.
Далеко, в густом сумраке светился маленький, едва различимый огонек.
— Ну что, ведь я говорил? — начальник кивнул головой. — Начинается. Теперь не жди ни одной спокойной ночи. Сами увидите!
— Хоо, сигнал сверху! Приготовься бежать! — снова донесся протяжный крик караульного.
— Ага, камайок в Уануко уже получил известие о большой охоте. Вот увидите: это какой-нибудь приказ начальнику местной общины или даже целой области — целому уну. Ну, Синчи, и ты, Бирачи, вперед! Ваша очередь.
Хотя ночь выдалась холодная, Синчи без колебаний сбросил толстый плащ, попрыгал на месте, чтобы размяться, и засмеялся.
— Это ничего! По крайней мере будет возможность показать, на что я способен. Лучше уж бегать, чем сидеть целыми днями, помирая с тоски.
— Боги для того и даровали нам листья коки, чтобы человек никогда не испытывал скуки. А что касается работы, то как бы ее скоро не стало слишком много. Ну, беги!
Глава вторая
На главной улице селения, где жила Иллья, горел костер, слабые отблески пламени дрожали на стенах домов. Синчи, пробегая мимо, с любопытством покосился в ту сторону. Он увидел собравшихся у костра людей; одни неподвижно уставились на огонь, другие внимательно слушали кого-то. Синчи подумал, что Иллья, наверное, находится где-то здесь, но задержаться не мог, а на бегу разглядеть все как следует ему не удалось.
Рядом в темноте замаячила чья-то тень. Часки с горного поста уже подлаживался к его бегу, и Синчи, снова сосредоточившись, пересказывал ему устный приказ:
— Из Чапаса сбежало двое. Переселенцы из племени сечура. Они направляются к перевалу Янки Чикла или в долину реки Уальяго. Кто увидит, обязан задержать беглецов и передать их военной страже.
Когда сменивший его часки повторил поручение и, ускоряя бег, скрылся во мраке, Синчи перешел на обычный шаг и, тяжело дыша, направился к помещению сторожевого поста. Теперь ему вспомнился костер в селении Илльи и собравшиеся возле огня люди.
— Там остановился на ночлег странствующий поэт, — объяснил ему кто-то в караульном помещении, — все селение сбежалось послушать его.
— И мне хотелось бы туда пойти: потом там будут пляски, — вздохнул какой-то юнец возле Синчи.
— Всем хотелось бы! Но отлучаться не велено. Сегодня предстоит напряженная ночь.
— Что же рассказывает этот странствующий поэт?
— Наверное, как всегда, «Апу-Ольянтай» 1.
— Вовсе нет! — самодовольно заявил начальник. — Мне все известно, потому что я сегодня разговаривал с этим поэтом. Он рассказывает новую историю о двух молодых людях, которые полюбили друг друга.
— Э-э, ну и что тут интересного? Я бы с большей охотой послушал о битвах времен сапа-инки Уайны-Капака.
— Или о злом духе Супае, который бежит от бога Инти.
— Тише. Ночью о таких вещах нельзя говорить!
Однако Синчи заинтересовал рассказ странствующего поэта, и он с любопытством продолжал расспрашивать.
— Значит, он рассказывает о тех, что любили друг друга. Но что в этом интересного? Они пошли во время праздника Райми к камайоку, правителю уну, и тот объявил их мужем и женой. А потом община-айлью наделила их землей и построила для молодых дом.
— Ну, не всегда все складывается так легко и просто. — Начальник поста взял новую связку листьев коки и молча стал их жевать. Через минуту он продолжал: — Так редко бывает. Когда молодые — оба из одного селения, когда никто иной не имеет видов на ту же девушку, когда, наконец, у местного камайока нет никаких счетов с женихом и невестой или с их родными. Но бывает и иначе. Совсем иначе! Камайок или какой-нибудь инка, вождь-курака, а то и сам верховный жрец — уильяк-уму может присмотреть эту девушку для себя. Случается и так: юноше уже двадцать четыре года, а ей — всего-навсего шестнадцать-семнадцать. Ему предлагают выбрать себе жену, а ей еще рано выходить замуж. Наконец, кто-то другой, кто имеет на девушку виды, может преподнести камайоку больше подарков и тот откажет влюбленному. Хе-хе, по-разному все это складывается.
— А иногда девушек выбирают для жертвоприношения. Выбор может пасть как раз на эту, — отозвался кто-то в темноте. — Мой брат, когда служил в солдатах, видел, как одну девушку принесли в жертву в Золотом храме на острове, что посреди озера Титикака.
— Ну, это не так уж часто случается. Раз в два-три года, а то и реже.
Синчи припомнил последнюю из переданных им депеш и спросил не без колебания:
— А если… эти влюбленные не захотят уступить? Тогда что? Неужели нет выхода?
— А какой может быть выход? Глупо ты рассуждаешь!
— Ну, они могут попытаться бежать…
— Бежать? Только инкам, куракам да жрецам разрешается свободно путешествовать по стране. Всех остальных задерживают у первого же сторожевого поста. Всякий обязан находиться там, где ему положено, и делать свое дело. Бежать? Тоже выдумал! На всех дорогах — сторожевые заставы, на границах — тоже; в селениях и в городах — правители-камайоки. А ты сможешь пробраться через горы по нехоженым тропам? Попробуй-ка? И разве тебе дадут провизию на складе, если ты не несешь кипу или не имеешь такой бляхи, как у камайока, направляющегося по делам службы? В нашей стране — Тауантинсуйю, где властвуют сыны Солнца, должен быть абсолютный порядок. Делай, что тебе приказано, и помалкивай. Не смей и помышлять о побегах!
— Да и зачем это нужно? — поддержал начальника сосед Синчи с левой стороны. — Разве нам плохо? Если ты земледелец, то тебе всем селением строят дом и каждый год выделяют участок земли. Случись голод или несчастье — тебе помогут. Я знаю это по себе, я сам из крестьян.
— А я из семьи рудокопа. Это тоже труд уважаемый. Вот и нам дом построили, обеспечили едой, одеждой, шерстью, домашней утварью. Сушеного мяса-чарки у нас всегда вдоволь, сладкой кукурузной чичи получали сколько душе угодно, а однажды, когда сын Солнца посетил наш рудник, нам выдали по бочонку хмельной соры.
— Соры? Но ведь это напиток инков, кураков и жрецов. Он не для простых людей.
— Да, знаю. Однако в тот раз все-таки дали. Зима стояла очень суровая. Может, потому и дали.
— Ну, рассказывай! А что она такое, эта сора? Хороша?
— Хороша ли? Нет. От нее глотка огнем горит. А выпьешь кружку-две — и словно тебя подменили. Пьешь, веселишься, и все тебе по душе, никто не страшен, на все ты готов. Потом засыпаешь как убитый. А глаза продрал, все опять по-старому.
— Выходит, если хватишь этой соры, то и сбежать недолго.
— Хе-хе, наверное! Потому-то ее нам и не дают.
— Все по указке, — буркнул кто-то в темноте. — Везде приказывают: и кем ты должен быть, и где обязан работать, кого и когда в жены брать и даже что пить.
— А ты чего хочешь? Разве можно иначе? Где же тогда взять добровольцев для работы в горных рудниках? Или чтобы рыть каналы над мамакочей? Да хотя бы даже для того, чтобы работать гонцом? Во всем должен быть порядок.
Но Синчи настойчиво возвращался к тому, что его волновало.
— Ну, хорошо. Убежать трудно. Но все-таки убегают. Мало ли переселенцев живет среди чужих племен? Аймара среди кечуа, колья, чанка среди сечура… Каждому, конечно, хотелось бы жить со своими! Но все-таки бегут. А что бывает, если беглецов ловят?
— Иногда убивают для устрашения других, а чаще всего обрекают на неволю. Мужчин отправляют на самые тяжелые, высокогорные рудники или заставляют рыть каналы в пустыне, ну, к примеру, те, огромные, в Наске. А женщин отдают во дворцы инков. (Там они прядут, вышивают, прислуживают, — объяснил бегун, который был из семьи рудокопа).
— Так ведь те же самые работы выполняют и свободные люди. Дороги, каналы прокладывает на своей территории самостоятельно каждая область. На рудниках работают целыми селениями, взять хотя бы твое, например.
— Ну, конечно. И все-таки есть разница. Там свое время отработал — и свободен. Идешь домой, к жене, детям, у тебя своя земля, свой сад, можно разводить агавы на сок и волокно, женщины вышивают тебе одежду, украшают стены твоего дома коврами.
— Моя мать была большой мастерицей, она могла выткать даже такой ковер, как наска!2
— Наска? О, это трудная штука. За наску можно получить все что угодно… Если же кто-то работает, отбывая наказание, то целый день над ним стоят с палкой, а ночью он сидит под замком. Вот какая у него жизнь! Ни женщины, ни семьи, ни дома, ни праздников.
— Ох, значит, бывают и такие, что готовы бежать? Из-за женщины!
— Конечно, бывают. Молодые всегда глупы. Высмотрел себе одну-единственную, и только ее и подавай ему. А меж тем все они одинаковы. И бежать, навлекая на себя опасность, нет никакого смысла. Лучше сиди себе тихо, а тяжело станет — пожуй листьев коки, все как рукой снимет.
— Хоо, сверху двойной сигнал. Готовься! — закричал наблюдатель со сторожевой вышки, прерывая их беседу.
— Ну, Синчи, хочешь отдохнуть или отправишься обратно? — спросил начальник поста.
— Побегу назад, — без колебаний отозвался молодой бегун. — Мне отдых не нужен.
На этот раз он получил связку кипу, старательно завернутую в тонкую циновку, с приказанием вручить ее в столице, городе Куско главному кипу-камайоку, и выслушал длинное, труднозапоминаемое послание, адресованное верховному жрецу.
— Благочестивому уильяк-уму доносит курака Ауки, правитель уну Анкачс. В долину под Уаскараном прибыли люди великого инки Атауальпы из города Кито. Они убили священную птицу коренкенке и забрали с собой два пера. Получены вести из Кито, что великий инка возложил на себя повязку властелина со священными перьями коренкенке. Он провозгласил себя сыном Солнца, сапа-инкой…
Пока бегун с соседнего поста пересказывал послание и Синчи слово в слово повторял его на ходу, они успели миновать селение Илльи, и юноше так и не удалось взглянуть в ту сторону. Кипу, предназначенный для столицы Куско, и устное послание, которому предшествовал двойной сигнал — Знак особой важности поручения, — целиком завладели его вниманием.
Он легко преодолел расстояние между двумя постами, потому что дорога тут плавно сбегала к берегу озера, не было уступов, столь опасных в ночной темноте, не было и моста на канатах. Синчи пересказал приказ следующему гонцу и медленно возвращался на свой сторожевой пост. Он уже столько раз бегал сегодня, что, пожалуй, только в случае острой необходимости смог бы снова отправиться в путь. Синчи не торопясь утолил голод кукурузой и чарки, выпил воды с примесью сока агавы и, укрывшись плащом из легкой шерсти ламы-альпаки, растянулся на подстилке.
Тихо потрескивая, горела лучина, вставленная между двумя камнями, разгоняла мрак. Трое бегунов, завернувшись в плащи, уже спали, четвертый — настала его очередь бежать — сидел у выхода. Укутавшись в теплую обезьянью шкуру, привезенную кем-то из знойной долины Укаяли, примостился рядом и сам начальник поста, жуя по обыкновению листья коки. Такие, как он, почти вовсе не спят, и едят очень мало. И все благодаря коке. Стоит пожевать эти чудесные листья, как сразу забываешь об усталости, голоде, даже о своих заботах.
Но забываются нередко и другие вещи. Даже содержание наказа может начисто вылететь из головы, что грозит смертной казнью; человек забывает и о своих намерениях и о своих желаниях. Можно забыть и о своей девушке. Забыть об Иллье…
Синчи стряхнул с себя сон и, подложив руки под голову, принялся рассматривать расписанный черной краской сосуд для воды. Он нездешний. Кажется, такие сосуды изготовляют аймара, что живут за озером Титикака, около крепости Тиуанако. Далеко… Эх, повидать бы священное озеро и вообще побродить по свету. Сколько дней придется бежать? Если прикинуть, какие расстояния покрывает Синчи на своем участке, то, вероятно, он уже давно мог бы добраться до самого Куско. А может, и дальше. Но это ему запрещено.
По своим очертаниям сосуд напоминал человеческую голову в воинском шлеме, закрывающем шею и уши. Такой шлем у начальника сторожевого поста. Его носят все тукуйрикоки. Это очень теплый и удобный головной убор. Для солдат их делают из кожи, украшают металлическими пластинками. У старших по чину — серебром, а у вождей-инков — золотом. Хотя нет. Синчи видел как-то большой воинский отряд, направлявшийся на север. Тогда на голове у вождей были шлемы, увенчанные перьями.
Он чувствовал усталость, но спать не хотелось. В такие минуты неплохо бы пожевать чуть-чуть листьев коки.
Синчи потянулся было к сумке, походной сумке, которая есть у каждого бегуна, но вдруг передумал. Кока сразу же принесет успокоение, но нарушит ход мыслей, спутает воспоминания. Появится полное безразличие, пропадет интерес ко всему на свете… А ведь как это интересно — помнить, вспоминать, мечтать…
Казалось, физиономия на сосуде слегка усмехается. Взгляд устремлен чуть-чуть вверх, как бы с любопытством, но без малейшей тени высокомерия. О чем думает этот воин? Листьев коки он не жует… Он лишь едва заметно усмехается и с интересом поглядывает на Синчи. Может быть, это инка?
Синчи внезапно приподнялся и сел на подстилке. Его вдруг осенила еще не совсем ясная догадка. Инки не жуют листьев коки! Ему частенько доводилось видеть их; сюда заходят правители областей (недавно даже пожаловал сам великий инка, управляющий целым краем Кондесуйю), случалось видеть комендантов крепостей, могущественных жрецов, но ни один из них не жует листьев коки!
Они разговаривают, изредка улыбаются и, хотя есть среди них старики, четко отдают приказания и прекрасно обо всем помнят. А простые люди? Пожалуй, только очень молодые сохраняют живость ума. Потом под влиянием листьев коки они становятся флегматичными и равнодушными ко всему на свете. Полог на дверях заколыхался от неожиданного порыва ветра, светильник замигал и затрещал. Синчи снова растянулся на подстилке, укрывшись плащом. Обрывки слышанных некогда разговоров, воспоминания о пережитых радостях и печалях целиком завладели им. Вся его жизнь промелькнула перед ним.
Отец Синчи был крестьянином. Каждый год отправлялся он на собрание своей общины для раздела земли. Он жаловался, что камайок, видимо, подкупает старейшину, потому что раздел производится несправедливо. Он жаловался, что Молодых, как правило, оказывается больше, чем удается приготовить им участков возделанной земли, все выше поднимающихся по склонам гор; жаловался, что земельный надел — тупу — становится поэтому все меньше и меньше. Отец сетовал на нерадивость пастухов, охраняющих общественные стада лам: стоило лишь появиться страшному черному медведю, как пастухи удирали и стадо в беспорядке разбегалось по склонам гор. Он жаловался, что когда случается землетрясение, то осыпаются террасы, на которых расположены крестьянские участки, а земли инков и жрецов при этом совсем не страдают. Он жаловался… Да, он постоянно жаловался, а потом принимался за листья коки, мало-помалу погружаясь в тяжелое и мрачное молчание.
Хорошо это или плохо? Инки — когда приходит какая-то весть, когда появляются заботы, когда необходимо принять решение и действовать — не жуют листьев коки. Они размышляют, перебирают кипу, отдают приказания. Это, наверное, труднее. Но ведь это и значит жить! Не так ли?
Синчи казалось, что голова на большом сосуде усмехается. Он из дальних краев, может быть, это даже чанка — домашний идол. Не опасно ли так долго его разглядывать? Может быть, именно этот чанка и нашептывает ему столь странные, тягостные и беспокойные мысли?
Он, Синчи, — гонец. Хороший гонец, недаром его перевели сюда, на главный тракт. Он будет бегать еще два-три года. Потом выбьется из сил и, оставив службу, вернется к себе в долину, в родное селение. Если только вернется… Ведь его могут отправить куда-нибудь гораздо дальше, как переселенца. В бесплодные, знойные пески Арекипы, простирающиеся над океаном. Или в тропические, душные леса над Уальяго или Мараньоном, в горные районы около озера Титикака или же на те зеленые плоскогорья среди пустынь, которые в течение долгих месяцев окутаны тяжелыми, непроницаемыми туманами, наплывающими со стороны океана…
Его могут сделать рудокопом. Прикажут взять в жены какую-нибудь чужую, не милую ему девушку. На всю жизнь! А… Иллья?..
Он снова сел, чувствуя, как забилось сердце. Иллья… Почему нельзя выбрать именно ее, осесть на земле и трудиться вместе всю жизнь? Он представил себе, что когда-нибудь их мумии, обернутые в циновки из тростника, поместят рядом в тихой и недоступной горной пещере. Вероятно, в Мочо есть такие пирамиды, с тысячью коридоров и комнат, где находятся мумии, застывшие в вечном покое.
Но на это нет никакой, даже самой малейшей, надежды. Никто не спрашивал его согласия, приказав стать гонцом, никто не станет спрашивать его и о том, где он собирается работать дальше. Где-то на каком-то кипу в Юнии или в столице западного суйю Айякучо либо же в самом Куско есть узелок, обозначающий его, Синчи-гонца. О нем знают, помнят, за него решат его судьбу. Его направят туда, где он понадобится, найдут ему жену, построят дом, он получит еду… Получит листья коки, чтобы забыть обо всем и беспрекословно выполнять приказы…
И вдруг в душе Синчи вспыхнул протест, он упал на подстилку, сжал кулаки, крепко зажмурил глаза. Нет, нет! Все что угодно, только не это! Только не это! Он не откажется от Илльи, от жизни свободного человека, от своих мечтаний! Он больше не притронется к листьям коки, он не хочет все забыть и ничего не чувствовать…
А вдруг он узнает, что камайок решил взять себе его Иллью? Или собирается отдать ее в жены кому-нибудь другому? Не лучше ли тогда жевать как можно больше листьев коки, с полным равнодушием глядя на все, и не мучиться? Ведь тогда все равно ничем не поможешь.
Нет, не поможешь!
Со сторожевой вышки наверху донесся протяжный, назойливый клич:
— На горе двойной сигнал! Готовься бежать!
Синчи отбросил плащ и одним прыжком оказался у выхода. По его полуобнаженному телу, схваченному ночной прохладой, пробежала дрожь.
— Я побегу! — бросил он товарищу, который приподнялся было на своей подстилке. — Я заменю тебя!..
Глава третья
Еще дважды в эту ночь бегал Синчи, и утро застало его в помещении сторожевого поста у подножия гор. Он устал, но зато немного успокоился и — как почти всегда бывает в таких случаях — примирился со своей участью. Отсюда не видно было селения, в котором жила Иллья, зато очертания города Юнии вырисовывались гораздо отчетливее.
Начальник поста, славившийся своей дальнозоркостью, даже утверждал, будто различает людей, великое множество людей, идущих с юга и востока к стенам города, но проверить правильность его слов никто не мог. Зато в там6о, что находилось неподалеку, наблюдалось немалое оживление: это уже видели все.
Одолев последний перегон, Синчи отдыхал, с большим интересом наблюдая за всем, что там происходит. На рассвете у постоялого двора появился какой-то тукуйрикок. Он, видимо, направлялся в дальний путь: не задерживался на промежуточных сторожевых постах, никого ни о чем не расспрашивал. Потом вниз, к Юнии, прошли двое жрецов, а вслед за ними на подворье показалось несколько воинов, Похоже, что они чего-то дожидаются.
Солнце уже высоко поднялось над горными вершинами, когда появился Бирачи, пересказал другому часки свое донесение и, тяжело переведя дух, присел рядом с Синчи. Он потянулся к листьям коки, но вдруг стремительно вскочил.
— Ох, чуть не забыл! Тебе, Синчи, велено тотчас же возвращаться на наш пост.
— Как? Прямо так, без донесения?
— Да. Возвращайся обратно, захвати свою сумку, плащ и отправляйся в тамбо.
— Зачем?
— Это мне неизвестно. Таково распоряжение начальника, — равнодушно добавил Бирачи и, уже не обращая на Синчи внимания, принялся за листья коки.
— В тамбо остановился на ночлег высокий камайок, — объяснял начальник поста молодому гонцу. — Камайок, который ведает делами охоты у самого сапа-инки. Он прибыл сюда для осмотра места предстоящей охоты и распорядился дать ему человека, который знает дороги и хорошо бегает. Я выбрал тебя. Иди и повинуйся высокому вождю по имени Кахид.
— Когда я должен вернуться на пост?
— Когда он тебе разрешит. Ступай!
Нашивки на короткой солдатской тунике Кахида свидетельствовали о том, что он принадлежит к касте инков, однако в остальном он почти ничем не отличался от сопровождавших его воинов. Пожалуй, лишь тем, что у него не было сумки, которую нес вместо него безоружный слуга из племени кечуа. Все были в кожаных шлемах, в теплых плащах, в толстых, грубых сандалиях.
— Ты поведешь меня к уну Уануко, — решительно произнес Кахид и пытливо поглядел на бегуна. — Тебе знакомы эти места?
— Знакомы, великий господин.
— Хорошо. Охоту я думаю начинать на западном берегу реки Уальяго. Там есть широкое нагорье, не так ли?
— Да, господин.
— А много ли там гуанако и вигоней?
Синчи вспомнил свое детство и рассказы о тайной, сурово караемой охоте на зверей, о том, как украдкой жарили по ночам на кострах свежее мясо, вспомнил, как в детстве вместе со всеми мальчишками мечтал стать охотником, и невольно улыбнулся.
— О да, великий господин, — с живостью отозвался он, — огромные стада.
— А какие еще звери там водятся?
Сначала Синчи говорил неуверенно, не сводя взгляда с Загадочных узелков кипу, который держал в руках главный ловчий. Пока он рассказывал, пальцы инки перебирали разноцветные шнурки, внимательно ощупывая каждый узелок.
— Есть… есть еще олени. Есть лесные серны, но они ниже, в долинах. А над рекой попадаются и тапиры. Выше, в горах, — вигони и гуанако. Но, великий господин, там часто охотится и большая кошка. Мой отец даже видел одну из них: она совершенно черная. Большая и черная.
Ловчий потрогал какие-то узелки и кивнул.
— Правду говоришь.
— Гораздо реже, чем кошка, там появляется большой медведь. О, тогда все вигони, гуанако и люди спешат укрыться кто куда.
— Лжешь! Кипу ничего не говорит о медведе. Он уже много лет не появляется в этих краях.
— Есть медведь, великий господин! — возразил удивленный Синчи. — Я сам несколько раз видел его. Он задрал нашу ламу, а пастухи убежали!
— Кипу лучше знает, — оборвал его ловчий. — Кипу Знает все. Мудрые, очень мудрые люди вязали этот кипу. А теперь показывай дорогу! Кошки, говоришь? Это хорошо. Сын Солнца любит охотиться на больших кошек. Но о медведях не вспоминай, в ваших местах они не водятся.
Вначале они продвигались по главному тракту, и Синчи казалось странным, что он идет, а не бежит. Странным и мучительным. Ему все время приходилось усилием воли сдерживать себя, чтобы не устремиться вперед бегом. Он привык к большому, но недолгому напряжению, и ровный, спокойный солдатский шаг первое время казался ему гораздо изнурительнее, нежели бег.
Неожиданно его обогнал Бирачи, бежавший с каким-то свертком; с противоположной стороны спешили два часки, тащившие на палке привязанную за ноги большую морскую черепаху. «Ага, она, видно, предназначена для стола самого уильяк-уму, верховного жреца. Ему всегда носят черепах», — подумал Синчи. Потом их снова опередил знакомый бегун, который шевелил губами, видимо повторяя про себя трудное донесение.
Синчи покосился на него с завистью. Какая радость мчаться вот так, не переводя дыхания, с важной вестью, которая тебе доверена! Но когда они достигли селения, где жила Иллья, ему подумалось: пожалуй, и к лучшему, что они идут медленно, самым обычным шагом.
Время было раннее, и люди еще не приступали к работе. Сегодня они укрепляли террасы с принадлежащими сыну Солнца участками земли. Трудовой день крестьян начинался и заканчивался по сигналу. При виде воинов все столпились За каменным валом, окружавшим селение, а молодежь даже высыпала на дорогу.
Синчи издали не заметил Илльи, хотя и чувствовал, что она где-то здесь, в толпе, поэтому он подался к самому краю дороги и стал пристально всматриваться в лица. Ему очень хотелось вырваться вперед, обогнать инку, подбежать к группе девушек, но он не посмел этого сделать. Синчи лишь тревожно осматривался по сторонам, замирая при мысли, что Илльи может здесь не оказаться.
Но она стояла чуть поодаль со своими сверстницами и, казалось, не видела идущих. Грубый, с бронзовым отливом плащ из волокна чибы был наброшен на ее плечи. Простое платье девушки было оторочено только голубой каймой, как это и предписывалось крестьянам из племени кечуа.
Иллья не носила даже серег, и Синчи сразу же заметил это, когда она на мгновение повернула голову: коротко остриженные волосы взметнулись от порыва ветра, обнажив маленькое девичье ухо. Синчи невольно вздохнул с облегчением. Серьги были украшением инков, указывали на принадлежность к людям чуждой для него касты, подчас грозным, иногда странным, непонятным, но главное — к чужим. Правда, кураки, потомки родовых царьков, тоже носят серьги, но ведь они гораздо ближе к инкам, чем к простому народу.
Иллья недовольно надула губы, услышав грубую шутку одного из солдат, и чуть отпрянула в сторону («Шея у нее как… как стебель кактуса, что растет на безводных вершинах», — отметил про себя Синчи), готовая отвернуться, когда ее мимолетный взгляд вдруг упал на часки. Удивление, испуг, тревога отразились на ее лице, но во взгляде засветилась искренняя радость. Глаза Илльи на мгновение вспыхнули, но она тотчас же опустила ресницы.
«У нее глаза словно… звезды», — снова подумал Синчи и, пораженный подобным сравнением, невольно устремил взгляд вверх. На голубой глади небес не видно было ни единой тучки. Лишь за далекие отроги Уарочиро зацепилось два-три рваных облачка.
И тогда Синчи крикнул, точно кто-то подсказал ему именно эти слова:
— Через год, на празднике Райми, я выберу себе жену!
Иллья не ответила, даже не подняла глаз, но Синчи заметил, что ее ресницы тревожно дрогнули. А может быть… может быть, они затрепетали от радости?
Какой-то солдат засмеялся, другой хлопнул товарища по плечу, и этим все кончилось. Синчи зашагал вперед, не торопясь, машинально повторяя только что произнесенные слова. Словно запоминал на ходу трудное и длинное послание.
— Через год, на празднике Райми, я выберу себе жену… Через год, на празднике Райми, я выберу себе жену.
Глава четвертая
Солнце скрылось за вершинами гор. Сегодня они не были закрыты тучами и на фоне голубого неба вырисовывались особенно ясно. Какое-то мгновение казалось, что над их темными силуэтами запылал золотой ореол.
Часка, яркая вечерняя и утренняя звезда, высоко почитаемая наряду с Солнцем и Луной, уже сияла на западе.
Громадный зверь приоткрыл глаза. Он продолжал лежать неподвижно, и его чутко настороженные уши не дрогнули. Только ноздри жадно вдохнули наплывающие из долины запахи.
Зверь лежал на уступе скалы, столь же черном, как и он сам. Щели полузакрытых глаз горели зеленым огнем. Могучие мышцы незаметно напряглись.
Его хорошо знали во всей округе. Пастухи называли его «капак-тити» — могучий хищник, украдкой поговаривая о том, что, может, сам Супай вселился в этого ягуара. Ведь и масти он был необычайно редкой, абсолютно черный, и гораздо крупнее других зверей этой породы. К тому же дерзость его превосходила все границы: он нападал на стада прямо на глазах у людей, не обращая внимания ни на их крики, ни на пылающие головни и дротики, летевшие в его сторону. А сильную собаку он умел прикончить одним ударом лапы, словно назойливую муху.
По долинам уже ползли тревожные слухи о том, что черный ягуар врывается в дома, что он похитил ребенка в семье рыбака над Чирой и что девушка, отправившаяся за смолистыми ветками карликовых кипарисов, бесследно исчезла в горах.
Большой зверь был полновластным хозяином обширного нагорья, где люди боялись показаться и откуда уже давно угнали свои стада. У ягуара не было здесь достойных соперников.
В горы случайно забредали оцелоты, или круглоухие кровожадные, словно ласка, маргаи, но, едва заметив громадную черную тень, они тотчас же убирались восвояси. Ягуар, поднимись он на задние лапы, оказался бы на две головы выше рослого мужчины.
Воздух, словно ему передалось спокойствие горных вершин, был абсолютно неподвижен, чист и, казалось, приобрел упругость. Звуки разносились далеко, а запахи утратили свою остроту.
Трава иру-ичу, любимое лакомство гуанако и вигоней, уже полегшая под солнцем, не шелестела; недвижимы были заросли низкого кустарника возле скалы, на которой лежал зверь. Даже въедливый, забивающий все остальные запах карликовых кипарисов, густо покрывавших плоскогорье, казался сегодня менее острым, и его словно прибило к земле. В сгущавшихся сумерках белели цветы огромных столбчатых кактусов.
Слабый звук, который мог уловить лишь слух владыки этих мест, донесся снизу, из извилистого, не очень глубокого ущелья, сбегавшего к главной долине. Словно по расщелине прошуршал маленький камешек или что-то мягкое прошлось по корням деревьев и по валунам. Потом долетел уже иной, более отчетливый и близкий звук: это хрустнул придавленный чьей-то тяжестью сухой стебель травы, зашуршали, словно тронутые порывом ветра, кусты. Но ветра не было. И вот наконец ягуар уловил запах, острый и отчетливый. Хвост хищника дернулся в змеином движении, забил по скале. Подобрались готовые к прыжку лапы, под шкурой напряглись стальные клубки мускулов. Обнажившись, блеснули огромные белые клыки. А глаза потухли, превратившись в еле заметные щели, — зверь словно боялся, что их блеск способен выдать его.
Ему знаком был этот чужой запах. С тех пор, когда ягуар был еще беспомощным котенком, он сохранил о нем смутное воспоминание, связанное с какой-то опасностью. То, что приближалось, было, вероятно, большим и грозным.
Но сегодня черный капак-тити не испытывал страха. Он давно уже не встречал не только более могучего противника, но и такого, который просто осмелился бы помериться с ним силами. Он властвовал над горами и долинами, над всем, что тут жило, дышало, и не только тут, но и повсюду. Любое живое существо могло быть для него только жертвой. Чужой запах уже не возбуждал памятного с детства страха, а вызывал страшную, всепоглощающую ярость. Наверное, только тогда, когда к самке, облюбованной черным ягуаром, осмеливался приблизиться другой самец, он приходил в подобное же исступление. Однако такие схватки были короткими, а исход их уже заранее предрешен…
Но сейчас какое-то инстинктивное чувство, голос предков или звериная мудрость заставили его застыть неподвижно. Он ждал, сжавшись, содрогаясь от возбуждения. Его глаза, глаза ночного охотника, владыки тьмы, видели все абсолютно ясно.
Там, где ущелье расширялось и посреди небольшой рощи бил родник, зашевелилось что-то черное. Какой-то зверь, темнее самой ночи, неторопливо двинулся к скале. И казалось, что его неторопливость — от ощущения собственного могущества. Незнакомый зверь словно чувствовал себя полным хозяином этих мест и совсем забыл о возможной опасности.
Хищник передвигался неуклюже, подминая под себя кустарник и травы. Громко сопя, он обнюхал гнездо, покинутое полевой мышью, лязгнул зубами, схватив слишком поздно пробудившуюся шиншиллу, потом выбрался на край ущелья и остановился над обрывом, глядя вдаль и нюхая воздух.
Это был большой, старый самец, любитель дичи, слишком ленивый для того, чтобы рыться в земле и отыскивать мелких грызунов. Подобно всем медведям, он отличался слабым зрением, зато обладал замечательным нюхом и с его помощью безошибочно определял, что происходило вокруг.
Медведь с удовольствием предвкушал возможную схватку. Хорошо бы неожиданно подкрасться к пугливому стаду травоядных и, дав выход своей чудовищной силе, схватить облюбованную жертву и рвануть зубами трепещущую в последних конвульсиях шею животного. И снова ощутить свою силу, утвердить свою власть над этим краем.
Откуда-то из долины долетел едва уловимый запах приближающихся вигоней и целиком завладел вниманием гигантского черного медведя.
Не слух, не обоняние, а скорее инстинкт заставили его быстро обернуться. Черное, упругое тело взметнулось с высокой скалы и, описав дугу и едва коснувшись земли, снова взвилось в смертоносном прыжке. Зеленые, теперь широко раскрытые глаза горели, а белые клыки угрожающе обнажились.
Прыжок ягуара был стремителен и бесшумен, как бросок копья, но и медведь не медлил. Поднявшись, ощерив клыки, он молниеносными ударами громадных передних лап отразил неожиданное нападение.
Два черных тела, одно — страшное своей стальной упругостью и гибкостью, другое — огромной силой и неодолимым упорством, схватившись не на жизнь, а на смерть, покатились в густеющем сумраке. Медведь зарычал было, но потом уже только посапывал; ягуар разъяренно фыркал. В тишине слышалось щелканье клыков, скрежет когтей. Потом раздался треск сучьев, загрохотали сдвинутые со своих мест валуны, которые лавиной устремились куда-то вниз. А густой сумрак ночи поднимался из ущелья, все дальше растекаясь по склону горы. Наконец и оба зверя покатились вниз, оттуда раздался лишь короткий слабый рык, сопение, хрип, и потом все стихло.
— Медведь! Великий господин, ведь это был медведь! — Синчи дрожал от волнения.
Все вскочили, возбужденные и потрясенные схваткой, за которой они наблюдали со скалы. Первым опомнился Кахид.
— Да, ты говорил правду. Это был медведь, достойный копья самого сапа-инки. Жаль, что этот зверь погиб. Он мог бы великолепно завершить охоту.
— Великий господин, ты думаешь, что…
— Конечно. От него и от ягуара только мокрое место осталось. Они сорвались со скалы и рухнули в пропасть.
— Ягуар… — теперь Синчи уже пришел в себя, и ему вспомнились местные легенды. — А может, это был могучий дух, уака? Так поговаривают люди.
— Молчи! О таких вещах позволительно говорить только жрецам, — оборвал его ловчий. Но сам он долго молча всматривался в мрак ущелья, туда, куда сорвались оба хищника.
Два громадных черных зверя — ягуар и медведь, — схватившиеся насмерть здесь, куда должен прибыть сам сын Солнца Уаскар, — это и в самом деле предзнаменование. Движения большой кошки, ягуара, были проворнее… Ну, конечно, теперь он понял. Он был столь же проворен, как Атауальпа. А этот медведь… могучий и неторопливый. Не он ли воплощение Уаскара?
Ловчий, который принадлежал к окружению царствующего инки и был посвящен — так ему по крайней мере казалось — во все тайны двора и дворцовой политики, забеспокоился. Если бы хоть знать, который из этих двух хищников вышел победителем. Тогда можно было бы сделать какие-то выводы… Однако тьма и пропасть поглотили и того и другого.
Необходимо рассказать о схватке кому-нибудь из жрецов, пусть объяснят. Лучше самому уильяк-уму. Он вернее других умеет толковать всякие предзнаменования и указания бога Солнца. Именно ему необходимо сообщить о том, что два черных хищника бросились друг на друга сразу же после захода солнца. Это может оказаться важным, очень важным знаком.
И ловчий, уже вполне владея собой, повелительным тоном обратился к сопровождающим его воинам и Синчи:
— Я запрещаю вам рассказывать кому-либо о том, что Здесь произошло! Боги не терпят болтовни. Вы ничего не видели! Понятно?
— Мы ничего не видели, великий господин, — послушно отозвался один из воинов, склонив голову.
Синчи, по привычке гонца, тотчас же повторил вслед за ним:
— Мы ничего не видели, великий господин. Однако, когда они отправились разыскивать удобное место для ночлега, Синчи украдкой, боязливо покосился в сторону почти уже неразличимого ущелья.
Глава пятая
— Здесь окончится охота, — решил ловчий Кахид на следующий день.
С вершины скалы, откуда прыгнул ягуар, открывался великолепный вид на окрестности.
— Это место создано для самого сына Солнца. Зверей погонят вон оттуда…
Широким жестом он указал на плоскогорья, на синеющие вдали горные вершины. Отсюда нельзя было различить селения и поля, но ловчий, перебирая узлы на своем кипу, принял решение.
— В этой долине много жителей. Она может дать для облавы сто двадцать человек. Там дальше — всего четыре селения. Но вон за теми вершинами — еще семь. Оттуда придет шестьсот человек. Уануко поставит тысячу. Больше всего зверя можно будет согнать с западных склонов гор. Кто обитает на той стороне горного кряжа?
Синчи не колеблясь ответил:
— Там округ Силустани. Управляет им Каркиляка, человек уже старый. Мужчин много, и все они опытные охотники.
Ловчий кивнул головой, все еще перебирая в пальцах узелки непонятного для Синчи письма.
— Да, Силустани — сильная крепость. Однако туда нам придется добираться с севера — от Кахамарки, через перевалы. Есть ли туда какая-нибудь дорога в горах?
Синчи решительно возразил:
— Там нет дороги. Есть только через долину со стороны Юнии.
— Это Далеко. Придется сделать крюк. Нельзя ли добраться до Силустани более коротким путем?
— Есть тропы через горы, великий господин. Только они труднопроходимы. Горы слишком высокие. Там сейчас снег. Часто поднимаются снежные вихри, метели. Идти будет очень тяжело. Даже вигони спускаются сейчас с горных вершин.
Инка кивнул.
— Это мне известно. Посмотрим. Начнем все же с запада.
Неделю спустя Синчи убедился, что подготовка к большой охоте — дело нелегкое. Кахид сам обследовал выбранный район, а своих людей разослал с приказами в разные стороны, требуя при этом проворства и исполнительности. Синчи, как хорошего бегуна и к тому же местного жителя, посылали с поручениями чаще других.
За это время он исхудал, щеки ввалились, по ночам юноша часто не мог заснуть от усталости, однако в этой изнурительной работе Синчи находил какое-то странное удовлетворение. Впервые он видел ощутимые результаты своего труда. До сих пор он был лишь промежуточным звеном, передавая по цепи полученные распоряжения, и никогда не знал о результатах. Теперь он приходил прямо к куракам и жрецам, к начальникам сторожевых постов и произносил магические слова: «Именем сына Солнца сапа-инки Уаскара», — и сановитые мужи, которым смиренно подчинялись целые роды и провинции, неизменно отвечали ему:
— Все будет сделано, как повелевает Кахид, ловчий сына Солнца.
Синчи видел, как после доставленных им приказов прекращались работы на дорогах, в каменоломнях, на строительствах, как толпы рабочих, построенные в колонны, шли в указанном направлении. Он видел земледельцев, бросавших неотложные дела, видел жрецов, которые, получив распоряжение, сразу же замыкали врата храмов.
Только один раз получилось иначе. В селении, что находилось на расстоянии одного дня пути от Уануко, старейшина стал оправдываться перед Синчи, не скрывая своего страха и раболепствуя, словно перед важным сановником:
— Передай своему господину, что Юраку я не могу послать на охоту. Он вырезает узоры на камне, для стены над дверьми нового храма. Сам жрец и сам камайок — правитель уну сказали, что его работа угодна богу Солнца и что это уака. Постарайся объяснить господину как следует! Великий инка Кахид приказал: «Обязаны явиться все». Это правильно, потому что и сушеное мясо будут есть все. Но Юрака пусть остается. Ему доверено святое дело!
Синчи с любопытством разглядывал мастерскую ваятеля — большую, светлую, загроможденную каменными рельефами, статуями, отдельными фрагментами каменных фигур, валунами. Посредине лежала черная, шагов в пять длиной гранитная глыба, отполированная с одной стороны до полного блеска. На блестящей поверхности Юрака вырезал необычайно сложный мотив фриза. Посредине уже была выполнена центральная фигура барельефа: пасть ягуара в грозном оскале.
— Это… это капак-тити? — с испугом спросил Синчи, вспомнив недавнюю схватку двух хищников.
Скульптор, человек в расцвете лет, в котором, несмотря на его приземистую фигуру, чувствовалась огромная сила, только пробурчал в ответ что-то невразумительное. На пришельца и сопровождавшего его камайока он не обратил никакого внимания.
Камайок поднял долото, каким пользовался ваятель, и показал его Синчи. Острие бледно-желтого цвета при ударе по нему ногтем отзывалось высоким, чистым звоном, а врезаясь в твердый гранит, даже не зазубривалось.
— И об этом сообщи своему господину. Оно крепче, гораздо крепче боевых топоров. Тайное и трудное дело — изготовить такой сплав. Лишь немногие ваятели знают его секрет. Специальные мудрецы — амауты — обучают их этому сложному искусству.
Кахид, к огорчению Синчи, не придал его рассказу особого значения. Ваятель? Да, им даны привилегии. Это дар божий — такое умение. Пусть остается дома. А удивительный твердый металл, из которого изготовлены его инструменты? Известная вещь. Иначе чем же обработать каменные глыбы, из которых строятся храмы и дворцы? Рецепт сплава не составляет секрета.
И ловчий заговорил о другом.
— Из Силустани давно нет вестей. Я послал туда гонца через Юнию — никакого ответа. Вероятно, там оборвался мост над пропастью, и гонец с приказом погиб.
Синчи кивнул. Он знал этот мост. Узкая перекладина, подвешенная на двух канатах над пропастью, страшная даже для жителя гор. Он пробегал там, и у него тоже кружилась голова. Даже ламы переходили по мосту с явной опаской, хотя они легко удерживаются на самых крутых горных карнизах.
Знал он и какая неразбериха наступает в случае гибели гонца с устным посланием. Тогда разыскивают часки, который помнит текст наказа, и тут же посылают это распоряжение вторично. Но никогда не известно, как лучше поступить: признаться ли, что ты помнишь, или утверждать, что ты уже все забыл. В обоих случаях твой начальник может быть недоволен. Ведь гонец обязан тотчас забыть депешу, едва передаст ее следующему. Однажды Пучик признался, что помнит приказ, переданный много дней назад, и тукуйрикок отправил его на рудники. Отправил навсегда. Такого бегуна, как Пучик!
Ловчий явно нервничал, что случилось впервые с тех пор, как Синчи увидел его.
— Я должен сам отправиться в Силустани. Кратчайшим путем. Ты поведешь меня через горы.
Синчи смутился.
— Я поведу тебя, великий господин. Но это опасный и трудный путь.
Он взглянул на далекие затуманенные вершины. То, что отсюда казалось лишь мглой, окутывающей долины и перевалы, на самом деле было холодными, тяжелыми облаками. Сейчас там ревут бури, снега заметают дороги, а мороз сгоняет в долины даже гуанако и вигоней. В такое ненастье никто еще не отваживался отправиться в горы. Однако повеление инки — закон. Если он приказывает, значит, необходимо идти.
Они двинулись в путь на рассвете следующего дня. Уже с того момента, как они начали готовиться к путешествию, Синчи понял, что ловчий хорошо знает горы и понимает, что ждет их там. Толстые сандалии, теплый плащ, туго набитая солдатская сумка красноречиво свидетельствовали об этом. Инка оставил тяжелое оружие, прихватив только легкий дротик, который мог одновременно служить посохом.
На голове у него был воинский шлем, из-под опущенных наушников которого не видно было даже больших золотых серег — знака высокого звания.
Около полудня, когда они остановились передохнуть высоко в горах, там, где уже кончились заросли карликовых кипарисов-толы, ловчий впервые нарушил молчание:
— Как долго нам придется идти?
Синчи медленно окинул взглядом горы.
— Если горные духи будут к нам милостивы, то два дня. Если же нет… — он не закончил фразы, пожав плечами, однако этот жест был достаточно красноречив.
Они оба теперь смотрели на вздымавшиеся перед ними отвесные скалы. Густые облака клубились на перевалах, между вершинами, и сползали все ниже и ниже. Потоки теплого воздуха, поднимавшиеся из долин и от нагретых солнцем плоскогорий, рассеивали мглистый туман, и было еще светло, однако по склонам гор уже ползли зловещие, холодные тени.
— К ночи тучи опустятся еще ниже. — Синчи говорил вполголоса, словно опасаясь, что его услышат горные духи. — Это очень холодные тучи. Там высоко в горах ужо выпал снег. Ночью будет плохо без огня.
Смолистые, прекрасно горящие ветви толы остались далеко позади. Синчи оглянулся и с тоской посмотрел вниз.
Однако ловчий будто и не слышал его слов. Он указал на крутую расселину, по которой струился поток. Серая мгла сползала по ней быстрее, нежели по соседним склонам. Казалось, этим путем метель высылала им навстречу гонцов.
— Здесь проходит дорога?
— Да, великий господин. — Синчи отвечал не спеша, как бы размышляя. — Это самый короткий путь. Так мы выйдем прямо на перевал. Дальше будет вигонья тропа. Узкая-узкая, а сбоку — пропасть. Ночью там очень опасно.
— Идем, — спокойно прервал его инка и двинулся вперед ровной, привычной походкой жителя гор.
Ручей тихо бормотал среди камней, образуя кое-где небольшие, бойкие водопады, и его мелодичное журчание было единственным звуком, нарушающим тишину. Однако постепенно путники стали различать иные голоса, все более резкие и выразительные: завывание, посвист и хохот бури. И вот уже они слились в единый гул, стон, объявший все вокруг.
На них нахлынули облака, изодранные в клочья, мятущиеся под порывами ветра. Сначала белесые, потом потемневшие, слившиеся в одну плотную, непроницаемую массу. Камни под ногами стали влажными, скользкими, воздух — сырым и холодным.
Синчи, идущий впереди, остановился, ожидая, когда инка поравняется с ним, и, нагнувшись, крикнул, стараясь одолеть шум бури:
— Плохо, великий господин! Выше будут снега и льды! Надвигается ночь! Я советую вернуться!
— Ты идешь, выполняя приказ сына Солнца. Нельзя возвращаться! — отозвался ловчий.
Они стояли почти вплотную, однако едва слышали друг друга среди шума ветра.
— Надвигается ночь! Плохо будет без огня! — еще раз попытался напомнить Синчи, но инка резко оборвал его:
— Веди!
Они прошли еще с тысячу шагов, круто поднимаясь все выше и выше. Теперь остро чувствовался холод, ноги заскользили по обледеневшим камням, в густеющем тумане закружились первые хлопья снега.
Дротики пригодились им теперь в качестве опоры, однако и с их помощью они продвигались вперед крайне медленно. Ветер изменил направление и, казалось, рвался теперь откуда-то сверху, с какого-то невидимого перевала. Он сбивал путников с ног, срывал с них плащи, хлестал по лицам, впивался в руки и ноги тысячью жалящих ледяных игл, словно стремясь преградить доступ в горы.
Чем выше, тем труднее становилось идти. Снег лежал обманчивой мягкой пеленой, под которой скрывались коварные расщелины, ямы, острые камни. Израненные ноги то соскальзывали, то застревали между валунами, а внезапные порывы ветра валили наземь.
— Господин! — Синчи тяжело дышал в ухо инке. — Даже гуанако спешат уйти от такой непогоды! На перевале… буря… А дальше узкая тропинка! Там ветер сбросит в пропасть нас обоих! Сегодня нам не пройти. Надо переждать… может быть, буря пройдет…
Инка вынужден был признать правоту его слов, и, когда разглядел в сером сумраке небольшую, защищенную с двух сторон каменную нишу, он молча направился к ней.
Они прижались друг к другу, завернувшись в плащи. Однако холод проникал даже сквозь толстое сукно из шерсти лам. Оба закоченели от холода.
— В такую ночь нельзя спать! — Синчи старался перекричать нарастающий рев метели. Где-то неподалеку, в сгустившейся тьме, послышался высокий стонущий свист. — Это разгневались горные духи! Ох, как они кричат! У спящего они могут отнять жизнь!
— Я знаю, что спать нельзя. Можно никогда уже не проснуться, — отозвался инка.
— Да, великий господин. Когда я бегал по дороге через восточные горы, там заснули два часки. Они несли кипу, а также большую рыбу из Укаяли в Куско, но задремали в пути. И не смогли проснуться даже по приказу самого камайока…
Но вскоре Синчи ощутил почти непреодолимую сонливость. Усталость, вызванная напряжением последних дней, изнурительный переход, продолжавшийся с раннего утра, слабость, обычное явление на такой большой высоте, — все это вылилось теперь в неодолимое желание спать. Прикрыв лицо полою плаща и плотно закутавшись в него, Синчи с облегчением закрыл глаза. В ту же минуту он почувствовал боль под веками: перед ним закачались, замелькали золотистые кольца, разводы, быстро увеличивающиеся блестящие точки. Вскоре резь в глазах прошла, уступив место блаженной истоме. Режущий свет под сомкнутыми веками начал бледнеть, переходя в зелень, в фиолетовый мрак, в ничто. Он тяжело уронил голову на колени.
— Синчи!..
Голос пробился к нему сквозь завывание ветра, однако гонцу не хотелось внимать этому зову. Он не встрепенулся даже тогда, когда сильная рука сорвала с его головы плащ и принялась настойчиво трясти бегуна за плечо.
— Синчи! Нельзя спать! Слышишь! Спать нельзя!
Он резко выпрямился, ударившись головой о скалу. Голос, уже иной, спокойный и повелительный, звучал совсем рядом:
— Беги и повтори! На службе у сына Солнца запрещается спать в эту ночь!
— Понятно: запрещается спать в эту ночь, — машинально повторил Синчи и окончательно пришел в себя. Бегун поднял глаза на инку, но лишь с трудом различил его силуэт на темном фоне скалы.
— Не спи! — Ловчий кричал над самым ухом юноши. — Ты же знаешь, что это верная смерть!
— Знаю, великий господин. Но… но страшно трудно… Глаза будто сами…
Ловчий не ответил, с минуту он колебался, но потом потянулся к своей сумке и на ощупь принялся что-то искать. Он тронул Синчи за плечо.
— Возьми. Это кока. Бери и жуй.
— Кока? — Гонец, пораженный, взял пачку листьев. — Я думал, что инки никогда…
— Жуй! — повторил ловчий. — Листья помогут тебе продержаться эту ночь.
Синчи, словно в тумане, смотрел, как его спутник тоже кладет в рот листья коки. Сам не зная как, он отважился спросить:
— Значит… значит, и инки жуют листья коки? Я не Знал об этом.
Кахид ответил коротко и резко:
— Не твое дело! Когда тебе дают, бери и жуй. Это хорошая вещь — в случае необходимости!
Синчи, легко поддающийся воздействию листьев коки, как и большинство людей, не принадлежащих к господствующей касте, быстро убедился, что инка прав. Усталость как рукой сняло, он легко одолел сонливость, и даже мысль о предстоящем переходе по тропинке над пропастью перестала страшить его. Он сидел неподвижно, успокоившись, и даже как будто не особенно страдал от холода.
Среди ночи, когда ветер немного стих, он вдруг преисполнился решимости. Не дожидаясь вопросов со стороны инки, Синчи сам обратился к нему:
— Господин, ты большой человек, стоящий возле трона самого сына Солнца. Твои приказы исполняются всеми. Ты мог послать в Силустани любого, кого бы только захотел, оставшись в уютном доме камайока. Но ты предпочел сам отправиться через горы во время бури. Ответь мне, великий господин, почему ты так поступаешь?
Кока, должно быть, подействовала и на инку, потому что он благосклонно ответил:
— Ты гонец. На каждой дороге тысячи таких, как ты. Ты не знаешь, ни что значат кипу, которые ты носишь, ни известия, которые повторяешь. Однако ты бежишь, покуда есть силы, хотя знаешь, что можешь сбить ноги и надорвать сердце. Ты понимаешь, что это необходимо. Ведь из маленьких поступков каждого человека складывается общий порядок в Тауантинсуйю.
Я ловчий сына Солнца — сапа-инки. Да, мне подчиняются даже высокие камайоки. Однако если ты, выбившись из сил, пошлешь вместо себя какого-нибудь крестьянина или пастуха, то приказ могут перепутать или же потеряют кипу. Если я буду только рассылать людей, а сам стану отсиживаться в теплом месте, большая охота может не состояться. А это было бы очень плохо, потому что все приказания сына Солнца непременно должны быть выполнены. Ты не значишь ничего, даже я ничего не значу, когда речь идет о дедах сына Солнца. А сын Солнца — сапа-инка — это Тауантинсуйю, и его воля — это нерушимость нашего порядка. Да будет известно тебе, что в государстве сына Солнца у каждого свое определенное место, как у камня в постройке. Валун держится, хотя на него давит груз. Человек тоже должен выполнять свою задачу, хотя, быть может, он предпочел бы заняться чем-нибудь другим. Твои мечты, любовь, желания ровно ничего не значит. Только целое, только порядок, установленный сынами Солнца, — вот что важно. Помни об этом!
— Я понимаю, великий господин, порядок — основа всего, — почтительно произнес Синчи.
Глава шестая
Их одежда пропиталась влагой, а когда на рассвете мороз усилился, плащи обледенели и стали походить на кожаные панцири. Вместе с холодным серым рассветом, который медленно проник в долину, утихла метель и даже ветер почти совсем прекратился. Только тучи по-прежнему непроницаемой пеленой окутывали долину, тропу можно было различить не дальше, чем на расстоянии двух шагов, потом след ее терялся и пропадал.
Синчи, отупевший от бессонной ночи, проведенной на морозе в полной неподвижности, нажевавшийся листьев коки, с абсолютным равнодушием взирал на окутывающую их мглу. Однако, когда инка зашевелился и, стряхнув снег, набившийся в складки его плаща, приподнялся, Синчи тотчас же вскочил на ноги.
— Уже день. Веди! — проговорил ловчий таким спокойным тоном, словно эту ночь они провели в тепле и хорошо отдохнули.
— Слушаюсь, великий господин, — торопливо отозвался Синчи и двинулся в путь.
Вначале он шел медленно, время от времени оглядываясь на своего спутника, словно сомневаясь, способен ли инка продолжать путь. Однако, убедившись, что ловчий не отстает и даже, наоборот, подгоняет его, Синчи устремился вперед своей легкой походкой горца.
Скорее чисто инстинктивно он угадывал дорогу среди валунов, скользких от тающей наледи, нередко предательски неустойчивых, срывавшихся вниз при малейшем прикосновении. Ручей, который служил для них ориентиром накануне, куда-то пропал, и они даже не успели заметить его исчезновения. Ни один знак не указывал теперь, где проходит тропа.
Но, несмотря на все это, несмотря на непроницаемые тучи, ползущие по склону горы, Синчи не утратил ориентировки, и час спустя они достигли перевала. Путники скорее ощутили, нежели увидели его, узнали по более сильному и теплому ветру, который внезапно ударил им в лицо. Туман клубился, полз по перевалу, ни на минуту не редея, и по-прежнему плотной завесой закрывал дорогу.
«Может, это и к лучшему, — лениво подумал Синчи. — Ловчий не привык к нашим горам. А идти по этой тропе опасно. Она годится разве что для гуанако. Пусть уж он лучше ничего не видит».
Синчи отчетливо представил себе предстоящий переход. Узкий карниз, местами едва заметный, покатый и скользкий от постоянно покрывающей его корки льда. С одной стороны отвесная стена, с другой — пропасть, кажущаяся бездонной. Внизу часто кружат кондоры… Не менее двух часов надо пробираться по этой тропе. Потом круто взять вверх, зато по более удобной дороге. Затем второй перевал, а дальше все вниз и вниз вплоть до Силустани. Когда вершины гор свободны от туч, то со второго перевала видна крепость. Она, словно гнездо кондора, висит на выступе скалы, господствующей над двумя сходящимися там долинами.
— Может быть, передохнем здесь, великий господин? — спросил Синчи, однако инка отрицательно покачал головой.
— Нет, идем дальше. Отдохнем в Силустани.
— Это далеко. Дорога очень тяжелая, — отважился прошептать бегун
— Неважно. Веди!
— Будет так, как ты повелеваешь, великий господин. Однако соблаговоли следовать за мною и делать то же, что и я. Идти надо тихо: духи гор не любят шума и часто обрушивают лавины.
— Знаю. Веди!
Они шли медленно, потому что дорога была небезопасна даже для жителя гор. Во многих местах приходилось цепляться руками за едва различимые выступы в скале, осторожно нащупывая ногами чуть заметный узкий карниз.
В какой-то момент мертвую тишину долины, оставшейся позади, нарушил внезапный, быстро нарастающий шорох, мягкий и вместе с тем тяжелый, не то вздох, не то шелест, перешедший в глухой грохот. Туманная завеса заколебалась, но так и не обнажила пропасти.
— Лавина, — в страхе зашептал Синчи, уцепившись за скалу. — Великий господин, духи гор разгневаны.
— Скорее благосклонны, ведь лавина прошла стороной. Вперед! — безразличным тоном отозвался инка.
Они шли, вернее, ползли, цепляясь за отвесную скалу, потеряв всякий счет времени. День, вероятно, был уже в самом разгаре, однако солнце не могло прорвать серую пелену, я трудно было даже понять, где оно находится. Мгла по-прежнему закрывала все вокруг, словно в предрассветную пору.
В том месте, где карниз расширялся настолько, что можно было даже присесть, Синчи остановился.
— Самое страшное позади. Теперь будет легче. Может быть… может, пожевать немного листьев коки?
— Ты всегда жуешь листья коки? — с нескрываемым презрением спросил инка. — Не можешь без этого жить?
— Нет, нет, — живо запротестовал Синчи. Он вспомнил о своих раздумьях, однако постыдился рассказать инке об этом. — Я не люблю коку. Хотя все часки жуют ее. Гонцу нужна выносливость, приходится бегать ночами, в мороз… Но я не жую коки.
— Это твое дело! — коротко оборвал его Кахид
— А ты, великий господин? Ты не привык к нашим горам, а листья коки придают силы…
Он смутился, встретив холодный, бесстрастный взгляд ловчего, и поспешно спрятал в сумку связку листьев.
Кахид присел на каменный выступ. Отдыхая, он сосредоточенно думал. Верно учат жрецы: не следует объяснять простому народу, покоренным племенам, когда кока — это благословение богов, а когда — несчастье. Пусть себе жуют листья, пусть будут послушны, пусть трудятся в поте лица.
Внезапно Синчи вскочил и схватился за дротик. На склоне горы в серой клубящейся мгле что-то зашуршало.
На мгновение воцарилась напряженная, ничем не нарушаемая тишина, наконец на самом краю пропасти, почти рядом с путниками послышались топот, свист, фырканье и тотчас же замерли, растаяв во мгле.
— Что это было? — спокойно спросил Кахид.
— Вигони, великий господин! — Синчи от волнения забыл о своем страхе перед лавиной и уже громко продолжал: — По тропе шли вигони! А это значит, что буря миновала и скоро подует теплый ветер! Охота будет удачной, великий господин.
— Все должно быть удачным, все, что делается по велению сына Солнца, — торжественно ответил ловчий.
Прежде чем они достигли второго перевала, туман поредел, приобрел золотистый оттенок и рассеялся, обнажив уступы скал. Теперь отчетливо видна была пропасть, обрывающаяся у их ног. Наконец туман исчез окончательно, словно отдернули занавес. Только вдали над первым перевалом еще тянулись легкие, тающие облака.
Синчи обернулся, смерил взглядом пропасть и узкую тропку, по которой они прошли, и покачал головой.
— Хорошо, великий господин, что тучи скрывали это от наших глаз. Страшная дорога.
Инка равнодушно пожал плечами.
— Ты думаешь, я испугался бы? Или, по-твоему, я не знал глубину этой пропасти?
— Ты все знал, великий господин.
— Разумеется. Разве ты не заметил, что я несколько раз бросал в пропасть камни? Они мне сказали, насколько она глубока.
— Я видел, великий господин, но подумал, что эти камни — твои уаки.
— Разве камни или звери еще где-нибудь почитаются как божество? — Инка испытующе поглядел на бегуна. — Отвечай, что тебе известно об этом?
— О да, великий господин. В долине за Силустани обитает племя, которое почитает кондора. Для них каждое перо этой птицы — святыня, уака.
— Племя? — инка слегка поморщился, и Синчи тотчас же поправился.
— По велению великого инки Пачакути это теперь обычное селение. Но они по-прежнему поклоняются кондору.
— Хм, а что тебе известно о тех, что поклоняются камням? Есть ли такие в этих горах?
— Вероятно, есть, но мне не доводилось встречать их. Они далеко, над Уальяго. Их боги — камни, похожие на зверей.
Ловчий что-то буркнул в ответ, из чего Синчи разобрал лишь одно слово «Капакабоне», и молча двинулся в путь.
Синчи даже и не догадывался, о каких важных вещах он заговорил. Борьбу с остатками прежних культов, как, например, с обожествлением камней, особенно распространенным в Капакабоне над озером Титикака, жрецы официального культа Солнца считали задачей первостепенной важности, и в этой борьбе они ни перед чем не останавливались. Когда слова, сказанные Синчи, достигнут ушей высших жрецов, половина жителей из окрестностей Уальяго будет тотчас же переброшена в другой конец страны, и там они, как переселенцы, смешаются с чужими племенами.
Путники устроили короткую стоянку только на втором перевале и подкрепились сушеным мясом. Воздух стал прозрачным, точно его омыло предрассветным туманом, и с высоты, на которой они находились, открывался великолепный вид на город.
Силустани вырисовывалась уже достаточно отчетливо. Крепость и город находились на плоской вершине скалы, на вытянутом отроге основного хребта, высоко вздымаясь над долиной. Река у подножия скалы образовывала крутой изгиб, отступая перед твердостью гранита.
Солнце уже поднялось над горными вершинами, и в прозрачном воздухе отчетливо виднелись дома, стены, массивные круглые башни и единственные ворота у обрывистого склона горы.
— Говори! — коротко приказал Кахид, вытаскивая из сумки свое узелковое письмо и принимаясь медленно и тщательно перебирать его пальцами.
Синчи глядел на него с удивлением.
— О чем ты хочешь знать, великий господин?
— Говори все, что знаешь. Называй каждый дом. Тебе, видимо, знаком этот город.
— О, конечно, великий господин. Вон то высокое здание с новой светлой крышей — храм Солнца. Эта долина славится своим плодородием, здесь много жителей, поэтому храм этот очень богат.
Пальцы инки задержались на каком-то узелке. Он кивнул головой.
— А там, у края, в саду, белое здание — это дворец самого сына Солнца Уайны-Капака. Он побывал здесь однажды, будучи еще совсем молодым. Он почтил своим выбором трех женщин. Одна была местной жительницей, две другие — девы Солнца. Потом они жили в этом дворце в почете вплоть до того, когда пришло известие, что сын Солнца отошел к престолу самого Инти. Тогда они покончили с собой, как повелевает обычай. Бросились со скалы. И все дворцовые слуги и сам камайок, который тут правил, совершили то же самое. Потом жрецы сделали из их тел мумии и поместили их при входе во дворец. Туда закрыт доступ для всех, а дворец с его сокровищами, как и велит закон, ожидает возвращения духа великого властелина.
Кахид молчал, он бросил лишь быстрый внимательный взгляд на гонца. Он то знал, что женщины не хотели умирать, однако, опьяненные отваром из листьев коки, покорно бросились со скалы. Рука инки, лежавшая на воинской сумке, сжалась, нащупав связку листьев. Отличный способ, замечательный помощник правителей! Народ одурманивают, и он пребывает в послушании. Он не жаждет ни перемен, ни свободы… не бунтует. В этих листьях народ черпает силы для того, чтобы выполнить приказы и даже удивительную выдержку, необходимую для того, чтобы выстоять в трудный момент.
Он нахмурился. Некоторые жрецы, даже из числа самых мудрых, доказывают, что народ от листьев коки становится тупым, неповоротливым, что меньше рождается детей, что продолжительность человеческой жизни сокращается Глупости. Простого люда из покоренных племен не убывает, а то, что нет стариков, так это к лучшему. Воин же, воспитанный в полном послушании за время долголетней службы, на которую его забирают еще подростком, беспрекословно повинуется приказам своих начальников до самой смерти. Когда силы у него на исходе — его поддержат листья коки. В мужестве и жертвенности по приказу никогда не было недостатка. Так нужно. Покоренные должны работать, и это к лучшему, что они не размышляют.
Он обратился к Синчи:
— Рассказывай дальше!
— А то второе строение — из больших камней — это склад. Дальше, у стен крепости, дом кузнеца, который кует оружие. Рудники вон там, — он показал рукою на одну из окрестных долин. Крепость на недоступной скале преграждала дорогу к ним.
Инка кивнул.
— Пошли. До вечера мне надо быть в Силустани,
Глава седьмая
Теперь идти стало значительно легче, и, хотя крепость оказалась дальше, чем они предполагали, солнце стояло еще высоко, когда путники достигли Силустани.
Но единственные ворота города были заперты, и стража остановила их окриком.
— Ни шагу дальше! Кто вы и что вам нужно?
Воины на городских стенах были в боевых шлемах, закрывавших уши, их вооружение состояло не только из длинных копий-чонт, они держали в руках и легкие метательные дротики, и обоюдоострые секиры с массивными рукоятками.
— Что случилось? — пораженный Синчи осмелился рассуждать вслух. — Столько раз я бывал здесь, и всегда эти ворота запирались только на ночь.
— Эй, вы! Говорите, что вам нужно? — уже со злобой закричал часовой.
Ловчий неторопливо снял шлем, открывая тяжелые золотые серьги в виде колец, которые носили только высшие сановники, откинул походный плащ, обнажая свою короткую воинскую тунику, украшенную красной вышивкой, какую закон разрешал носить только инкам.
— Говори ты! — приказал он Синчи.
— Великий ловчий сына Солнца, инка Кахид, удостоил вас своим прибытием. Открывайте! — поспешно закричал гонец.
Часовые на стене заволновались, начали торопливо переговариваться, потом отозвался кто-то, несомненно привыкший приказывать. Шлем, который показался в бойнице, блестел и был украшен крылом птицы.
— Перед вами Каркильяка, который по велению сына Солнца правит в Силустани. Говори, пришелец, по чьему приказу и зачем прибыл ты сюда?
Ловчий показал поочередно свои знаки и свой кипу, который извлек из сумки.
— От имени сапа-инки, сына Солнца.
— Какого сапа-инки?
— Существует только один сапа-инка, Уаскар, сын Уайны-Капака.
— Да благословит бог Инти его и вас. Открыть ворота! — скомандовал наместник провинции.
В забаррикадированных воротах отодвинулись тяжелые, старательно подогнанные друг к другу брусья. В образовавшуюся щель можно было с трудом протиснуться поодиночке. Ловчий, ни минуты не колеблясь, нырнул в темный проход. Синчи последовал за ним.
На небольшой площади, окруженной глухими стенами, стоял отряд воинов в полном вооружении. Военачальник в дорогих доспехах и в наряде, предписанном для кураков, занимающих высокие должности, почтительно, хотя и с достоинством, приветствовал гостя.
— Я знаю твое имя, великий господин. Мы ожидали твоих приказов по поводу большой охоты.
— Я послал кипу и словесный приказ по дороге на Юнию.
— Я знаю, великий господин. Но гонец свалился с поврежденного моста, и все погибло.
— Поэтому я и прибыл сюда.
— Через горы? Вчера там свирепствовала сильная буря. Даже горцы боятся идти на перевал в такую погоду.
— Я шел по велению сына Солнца, — резко оборвал его Кахид. Ему вспомнились странные вопросы, которыми его остановили у ворот, и он спросил у коменданта крепости:
— Ответь мне, вождь, почему перед началом большой охоты ты прибег к таким предосторожностям? И что значат эти слова: какому сапа-инке я служу?
— Потому что их теперь двое, — мрачно отозвался Гарсильяка. — Великий инка Атауальпа в Кито провозгласил себя сапа-инкой, возложил на голову повязку властелина с двумя перьями птицы коренкенке. Его войска движутся на юг.
Кахид не смог скрыть своего удивления. Он быстро спросил:
— Когда это случилось? Вот уже месяц, как я занят подготовкой к охоте и вести из Куско до меня не доходят.
— Я знаю только, что войска Атауальпы со второй половины минувшего месяца идут к югу. Они движутся вдоль берега океана и завладели уну Анкачс. Идут они также по главной дороге и уже находятся в Кахамарке. А здесь за горами они захватили Мойомамбо. Поэтому я и держу крепостные ворота на замке, — пояснил курака.
— Каковы их силы? — коротко поинтересовался Кахид, и старый воин молча протянул ему свой кипу. Ловчий внимательно присмотрелся к цвету шнурков и принялся перебирать узелки.
— Ну, хорошо, — произнес он минуту спустя. — Ты правильно поступил. Но это не мое дело. Большая охота должна состояться. Теперь мясо будет особенно нужно.
— Твое слово — приказ, великий господин. Однако воины…
— Мне не нужны твои воины. Ты созовешь только местных жителей, как велит закон. А зверя здесь много?
— Много, пожалуй, еще никогда столько не бывало. С момента последней большой охоты особенно расплодились стада вигоней. Гуанако, впрочем, тоже много, как и лесных серн. Больших тити мои люди забивают по нескольку штук в году, и все-таки зверью не видно конца.
— Хорошо, что есть еще тити. А как обстоит дело с незаконной охотой?
— Был один случай, — неохотно отозвался Гарсильяка. — Какой-то переселенец из племени колья убил гуанако. И к тому же самку.
— Как с ним поступили?
— Как повелевает закон, — коротко отозвался воин и в свою очередь спросил: — А сын Солнца намерен остановиться в Силустани?
— Нет. Он поселится в Уануко, где уже готовят дворец и куда прибудет также главная мамакона вместе с избранными девами Солнца.
Комендант крепости, даже не пытаясь скрыть своей радости, принялся все же торопливо объяснять:
— Для нас большое счастье, когда сын Солнца навещает преданный ему город. Но мост на дороге у Юнии сорван… А дворец Уайны-Капака пребывает лишь в ожидании духа своего великого властелина. Для здравствующего сапа-инки мы начали строить новый, но он еще не готов.
— На этот раз он не понадобится, — успокоил Гарсильяку ловчий. — Сын Солнца отправится в Куско после праздника Райми и остановится в Айякучо, а потом в Уануко. Большую охоту мы завершим там, на плоскогорье за высокими горами. Я уже выбрал место.
— Ты мудро поступил, великий господин, — согласился Гарсильяка.
Синчи заснул как убитый, отсыпаясь за предыдущую ночь, но сразу очнулся, когда кто-то тронул его за плечо. В помещении был уже серый полумрак, с окрестных вершин тянуло предрассветным холодком.
Ловчий Кахид смотрел на молодого часки.
— Отдохнул? — коротко спросил он. Голос у ловчего был хриплый, глаза запали, губы пересохли и запеклись.
— Да, великий господин. — Синчи, привыкший к внезапным ночным побудкам, тотчас же пришел в себя.
— Это хорошо. Ты должен отправиться в дальнюю дорогу.
— Через горы, великий господин? В Уануко?
— Нет, дальше. Ты побежишь прямо в Куско.
Синчи был потрясен, однако привычка к беспрекословному повиновению заставила его лишь послушно повторить:
— Я побегу в Куско.
Инка глубоко вздохнул, как бы собираясь с мыслями, и принялся подробно объяснять, не сводя глаз с лица бегуна.
— Я понял, что ты вынослив, отважен и предан. Я намерен поручить тебе важное дело. Конечно, если направить эту весть через обычных часки, получится гораздо быстрее. Однако мост сорван, а кроме того, я не желаю… Ну, да это не важно. Я хочу, чтобы это донесение нес один гонец.
— Будет так, как ты приказываешь, великий господин.
— Это слова огромной важности. Ты должен помнить решительно все, пока будешь бежать, но обязан забыть все до единого слова, когда повторишь это послание тому, кому следует.
— Я запомню все, чтобы повторить кому следует.
— Спутаешь, выболтаешь, потеряешь кипу — тебя ждет смерть. Хорошо справишься с заданием, можешь просить обо всем, о чем только захочешь.
— Даже… о девушке, великий господин? Хотя бы и не в то время, когда все выбирают жен?
— О девушке? — удивился ловчий. — Для чего? Ах, ты влюбился. Ну, молодые всегда глупы. Хорошо, пусть будет девушка. А теперь слушай: ты побежишь в Куско. Сначала долиной Перене, потом вверх долиной Урубамбы. В Куско прикажешь провести тебя к верховному жрецу храма Солнца. К уильяк-уму. Покажешь ему этот знак.
Он протянул Синчи золотую бляху на тонком ремешке и сам повесил ее на шею гонцу. На бляхе были выбиты какие-то значки, смысла которых Синчи не понимал.
— Потом отдашь этот кипу. — Связка была завернута в тонкую, тщательно выделанную шкурку молодой ламы. Инка на минуту заколебался и неожиданно принялся говорить на каком-то языке, похожем на кечуа, но непонятном. Синчи догадался, что это запрещенный для простых людей тайный язык инков.
— Можешь ли ты заучить это на память, не понимая смысла? Слушай и повторяй!
Однако все попытки оказались тщетными. Зазубривание двух фраз на чужом языке оказалось почти невозможным делом даже для натренированной памяти часки.
Инка вынужден был изменить свое решение и начал говорить на обычном языке кечуа.
— Передай святейшему уильяк-уму следующие слова: «Докладывает Кахид, ловчий. Уну Уануко под угрозой. Если сын Солнца собирается отправиться на охоту — необходимо послать воинов в долину Уальяго, в долину Напо и в уну Гуамачуто. Великий инка Атауальпа собрал огромные силы и движется на Куско. Это означает войну. Я, Кахид, ловчий, советую отложить охоту».
— Повтори еще раз, — резко приказал ловчий, когда Синчи произнес весь текст от начала до конца. — Хорошо. Помни: твоя жизнь или девушка. Возьми еще вот этот знак. — Он протянул гонцу овальную серебряную бляху с выбитой на ней пастью ягуара. — В каждом тамбо получишь еду и ночлег, на любом сторожевом пункте тебе окажут всяческое содействие. Но помни: ты несешь известие огромной важности. Ты обязан бежать сколько достанет сил!
— Я буду делать перегоны по восемь сторожевых пунктов в день, — веря в собственную выносливость, пообещал Синчи.
— Это хорошо. Ты получишь также запас листьев коки.
— Я стану жевать их по мере необходимости и буду бежать по восемь сторожевых пунктов ежедневно.
— Лучше по шесть или семь, но зато равномерно. А теперь подкрепись, пусть тебе дадут новые сандалии и беги. Не забудь о листьях коки.
Когда Синчи выбежал за крепостные ворота и направился к югу, инка стоял наверху высокой башни, сложенной из массивных подогнанных друг к другу камней, и наблюдал за удаляющейся фигуркой. Он мог бы еще вернуть его; какой-нибудь молодой часки успел бы догнать Синчи. Но Кахид только на короткий миг заколебался. Сыну Солнца на этой охоте грозила серьезная опасность. Он поступил, несомненно, правильно. Если Атауальпа начал военные действия, сын Солнца Уаскар должен остаться в Куско или даже перебраться в Саксауаман — эту недоступную крепость, и спокойно выжидать, бросив войска против мятежного брата.
Но сапа-инка Уаскар, несмотря на свою рассудительность и мудрость, человек упрямый. Единокровных братьев из Кито — Атауальпу и Тупака-Уальпу — он терпеть не может. Он способен отправиться на охоту хотя бы ради того, чтобы продемонстрировать свое презрение к бунтовщикам. А в таком случае…
Ему вспомнилось единоборство черного ягуара с черным медведем. Ох, почему же Супай не дал ему взглянуть на исход этой символической схватки? Можно было бы сделать выводы и поступить надлежащим образом. Оба хищника сорвались в темноте в пропасть. Однако это не может явиться предсказанием. Ведь из схватки всегда кто-то выходит победителем. А третьей силы нет во всем Тауантинсуйю. Уаскар или Атауальпа.
Глава восьмая
Мост в районе Юнии, что был оборван, уже успели исправить, и Синчи одолел его благополучно. Перекладина угрожающе колебалась, но бегун не сбавил шага.
Эта долина была тем рубежом, где заканчивались места, знакомые Синчи. В помещении сторожевого поста ему объяснили дальнейший маршрут через горы, потом гонцу пришлось бежать по новому тракту, вдоль обширной долины Урубамбы. Стоило предъявить серебряную бляху, которую ему дал ловчий, и он получал еду и все, что ему было нужно.
Синчи бежал размеренно, упорно, взволнованный важностью доверенного ему поручения. Во время бега он все повторял про себя слова ловчего. Ведь это был не обычный приказ, который следует помнить лишь несколько минут, пока его не повторишь следующему гонцу, после чего надо его забыть. На этот раз его необходимо удержать в памяти несколько дней и слово в слово повторить самому уильяк-уму.
А разве его — простого часки — допустят к верховному жрецу? Правда, у него есть еще и золотая бляха, полученная от ловчего. Синчи покажет ее страже. Вероятно, тогда его пропустят. И он сумеет передать самому уильяк-уму огромной важности поручение: «Великий инка Атауальпа собрал громадные силы и движется на Куско».
Что это, собственно, означает? Это война? По рассказам старших, например того же начальника сторожевого поста, Синчи знал, как захватили Кито в царствование инки Уайны-Капака. Воины Тауантинсуйю покорили племя кечуа, заняли их столицу Кито и всю страну. Бесконечно долго тянулись по всем дорогам стада тяжело нагруженных лам и колонны пленников с добычей. А сам сапа-инка взял к себе во дворец дочь последнего вождя племени кечуа. Она родила ему двух сыновей. И старший — Атауальпа — впоследствии сделался наместником покоренного края. А теперь: «Он собрал огромные силы и наступает на Куско». Но ведь Атауальпа тоже инка. Великий инка! Анки, то есть сын сапа-инки Уайны-Капака!
А в Куско правит сын Солнца, сапа-инка Уаскар, тоже сын Уайны-Капака. Только мать его была койя, законная жена властителя Тауантинсуйю.
Синчи уяснил наконец, что эти вещи выше понимания простого человека. Его дело — как можно быстрее доставить кипу вместе с устным донесением и вручить его кому надлежит. А потом он, вероятно, получит какое-нибудь новое поручение, и снова ему придется бежать. Такова его судьба.
Недалеко от истоков реки Апуримак, по пути на Урубамбу, Синчи оказался в местности, пострадавшей от землетрясения. В нескольких местах дорогу пересекали глубокие трещины, и она была сплошь завалена камнями. Тщательно возделанные поля погибли, засыпанные обломками скал и песком. Даже склады зерна и сушеного мяса, даже тамбо у самого тракта, хотя оно и было сложено из массивных каменных глыб, пригнанных друг к другу, — даже подобные строения превратились в руины.
Крестьянские селения, сторожевые посты для часки прекратили свое существование.
Серебряная бляха здесь не оказывала своего действия.
— Ты хочешь есть? — сказал ему управляющий складами. — Возьми! — И он показал на развалины. Еще недавно это были добротные здания. Теперь же лишь едва приметные остатки стен проступали из-под груды камней, скатившихся с горы.
Синчи весь день бежал по опустошенному краю, нигде не находя ни еды, ни ночлега, ни огня. Тут ему помогали листья коки, в них он черпал силу. С размеренного бега он перешел на шаг, продолжая с упорством выдерживать ровный темп. При этом он без конца твердил про себя наказ ловчего.
Когда Синчи снова оказался в обитаемых местах, выспался в сторожевом помещении и подкрепился обычной порцией чарки и кукурузы, он опять почувствовал себя сильным, как в самом начале дороги, и настойчиво продолжал путь.
Синчи выполнил свое обещание. Он преодолевал восемь, девять, а то и десять обычных перегонов, или от пятидесяти до шестидесяти тысяч шагов ежедневно. Правда, дорога почт» непрерывно шла под гору. Он направлялся в низовья Урубамбы, реки с очень быстрым течением, что указывало на значительное понижение почвы.
Горы отступили далеко к востоку, потянулись густонаселенные плодородные равнины, на одной из которых и располагался Куско. Дороги становились все шире и лучше, тамбо встречались чаще и были значительно удобнее.
Повсюду серебряная бляха оказывала неизменное действие. Тамбо, сторожевые посты, склады распахивали своя двери перед Синчи, простым бегуном из далекого уну.
Последний раз ему пришлось ночевать на расстоянии десяти постов от столицы.
— Ты будешь там завтра вечером, — заверяли его местные жители. — Тебе повезло. Ведь завтра Райми, большой праздник. Всюду будут игры и веселье.
Синчи за время своего долгого пути забыл о приближающемся празднике, потерял счет времени. Теперь ему вспомнились рассказы о великолепии празднования Райми в столице, и у него в один момент созрело решение. Десять перегонов? За прошедший день позади осталось девять. Но это ничего. За ночь он пробежит еще десять и на рассвете будет в Куско. Он увидит самого сына Солнца в день великого праздника. Сбудется его мечта!
Часки спокойно поужинал, выпил сладковатой чичи и неожиданно потребовал новые сандалии. Те, что он получил в Силустани, уже пришли в полную негодность.
— Новые сандалии? Хорошо, получишь их утром. — Однако Синчи не уступал. Он хотел иметь сандалии немедленно, а не утром, так как должен отправиться дальше. Не слушая никаких возражений и советов, он продолжал показывать серебряный знак, а когда и это не помогло, впервые извлек золотую бляху.
Начальник сторожевого поста внимательно пригляделся к ней и низко поклонился.
— Будет, как ты желаешь. — И добавил: — Господин!
Синчи побежал дальше. Темноту рассеял свет луны, появившийся из-за гор. Правда, тонкая вуаль высоких мерцающих облаков время от времени застилала ее, однако мягкий, словно призрачный лунный свет заставил отступить ночную тьму. Было холодно, тихо и как-то таинственно.
Синчи бежал с легкостью, будто за плечами у него не было нескольких десятков километров пути, будто он успел как следует отдохнуть. Он даже не притронулся к листьям коки. Для этого у него еще будет время на рассвете, когда его окончательно сморит усталость и сон,
«Господин!» Начальник сторожевого пункта, поставленный над такими, как он, гонцами, сказал ему «господин», . увидев золотой знак, означавший, что у него, Синчи, важное поручение. Он является как бы тукуйрикоком. Счастье явно улыбнулось ему в тот день, когда он пошел вместе с ловчим. Теперь главный ловчий направил его к верховному жрецу, и рядовой гонец Синчи превратился в «господина». Сам управляющий складом, хотя ему страшно не хотелось открывать хранилище ночью, вынужден был это сделать и выбрать для Синчи лучшие сандалии, как тот пожелал. У часки важное поручение, и к утру он должен поспеть в столицу.
А ведь это отличная вещь, приятная вещь — нести важный наказ, имея при себе золотую бляху. Поэтому надо стремиться, чтобы так было всегда и чтобы не стать снова обычным часки, который бегает взад-вперед на одном и том же участке дороги, пока окончательно не подорвет свои силы.
Синчи сбавил шаг. Сгубить себя скорее всего можно именно на такой работе, какая у него сейчас. Нужно невероятное напряжение сил. А каково ловчему? Он по-прежнему в пути и должен еще размышлять, принимать решения, читать кипу. Люди говорят ему «великий господин» и повинуются каждому его слову, однако он тоже много работает. Ведь власть — это труд. Но она приносит такое удовлетворение! Как это здорово — родиться инкой! Или куракой! Ни один из них не станет ни гонцом, ни рудокопом, ни крестьянином, ни обычным воином.
А кто рожден простым человеком — аймара, кечуа, колья, чанка, — все равно из какого племени, тот так и останется тем, кем ему прикажут быть, для него ничего не изменится. Если ему плохо, он жует листья коки, это помогает забыть о заботах, заглушить тяжелые мысли.
А инки не жуют коку. Разве что в такую ночь, как тогда на перевале. Зачем им искать забвения? Им и так хорошо. Важнее всего для человека происхождение. Таков закон великого и могущественного Тауантинсуйю. Так и должно быть согласно воле Инти, бога Солнца.
Но ведь он, Синчи, несет весть о том, что «великий инка Атауальпа собрал огромные силы и движется на Куско». Теперь каждый властелин будет испытывать нужду в земледельцах, рудокопах, гонцах, но ему не нужны будут камайоки, которые служили его врагу. Значит, бывают минуты, когда инков тоже одолевают страхи и сомнения. И это он. Синчи, несет им такую грозную весть.
Однако гонцы иногда погибают в пути. Рушатся мосты, срываются горные лавины, подчас ягуар или медведь преграждает им дорогу… Что бы тогда случилось? Ловчий Кахид говорил: это очень важный кипу. И очень ответственное поручение. А что произошло бы, забудь Синчи его содержание? Это бывает, когда гонец жует много коки. А он, Синчи, сегодня жевал столько листьев! Может быть, он уже забыл?
Испуганный, он принялся повторять наказ: «Святейшему уильяк-уму доносит Кахид, ловчий. Уну Уануку под угрозой. Если сын Солнца собирается отбыть на охоту…»
Э, он прекрасно все помнит. Это просто Супай, всегда особенно могущественный ночью, пугает, испытывая его волю.
Синчи сжал в руке золотую бляху, которая болталась у него на шее, и постепенно успокоился. Что случится потом — не его дело. Он вручит кипу и повторит наказ главного ловчего. Так обязан поступить часки, который всего лишь маленький камешек в громадном фундаменте государства
Где-то прямо перед собой он увидел сигнальный огонь на сторожевой вышке, а через несколько минут его обогнал бегун, спешащий к столице.
— Далеко ли еще до Куско? — окликнул его Синчи.
— Три сторожевых поста! — удивленно отозвался тот.
Синчи глядел на звезды, пытаясь сообразить, скоро ли рассвет. Но серая пелена туч сгущалась, луна была еле видна, звезд он и вовсе не мог различить.
Еще вечером начальник сторожевого поста с тоской взирал на облака, клубившиеся на западе. Он боялся, что в день Райми не будет солнца. Пожалуй, он был прав. А это, вероятно, самое зловещее предзнаменование.
По положению луны Синчи определил, что полночь миновала. Но ему надо было одолеть еще три обычных перегона. Только бы хватило сил!
Синчи потянулся к сумке, в которой хранился запас листьев коки. Может быть, теперь пожевать? Это подбодрит, и он побежит быстрее… Но Синчи отдернул руку. Нет, он и так успеет. Должен успеть.
Глава девятая
Светлое пятно, мерцающее в сумраке ночи, оказалось городом. Это гладкие, высокие стены домов отражали слабый блеск луны. Куско был столь огромен, что бегун, приблизившись к нему, невольно сбавил темп. Город ошеломил Синчи, подавил своим величием. Самые высокие горы не могли бы сравниться с ним. Он показался Синчи грозным, опасным чудовищем, спящим во тьме.
Другие города, которые случалось видеть Синчи, можно было охватить взглядом. Тут же фасады зданий, крыши, какие-то стены и башни возникали из темноты, все умножаясь, разбегаясь по равнине чуть ли не до бесконечности. В глухой полуночный час громадный город спал в тишине, таинственный и страшный.
Однако стража над запертыми городскими воротами бодрствовала и грозно окликнула бегуна. Когда же он потребовал, чтобы ворота открыли и пропустили его внутрь, воины ответили смехом.
Синчи на минуту смешался, не зная, что предпринять. Разумеется, солдаты, особенно те, что несут сторожевую службу в столице, люди более значительные и важные, нежели простой бегун. Они вправе смеяться над ним, гнать его.
В обычных условиях он присел бы возле дороги и с неисчерпаемым терпением, отличающим представителей его народа, стал бы дожидаться, когда откроются ворота. Однако за это время Синчи уже ощутил силу золотой бляхи и понял, что она и его делает человеком значительным. Поэтому он поборол обычную робость и требовательно крикнул:
— Если там есть кто-либо из главных, разбирающийся в знаках, пусть подойдет! Я прибыл по важному делу сына Солнца!
Он извлек из-за пазухи бляху и высоко поднял ее. Разумеется, с крепостных стен даже при свете факелов невозможно было различить, что он показывает, однако самый жест и слова гонца произвели впечатление. Через минуту из ворот вышел начальник стражи, увидел бляху и отступил на шаг в сторону.
— Можешь идти в город. Ты можешь войти куда угодно в любое время.
— Да. Я несу очень срочную весть и кипу. Где мне найти святейшего уильяк-уму?
Воин поглядел на восток. Там еще не видно было никаких признаков рассвета, но, несмотря на это, он решительно сказал:
— Уильяк-уму? Он, вероятно, уже в храме.
— В храме? Но в каком? Тут, наверное, много храмов.
Воин напыжился: он был житель столицы, Синчи же прибыл из далекой провинции.
— Разумеется. Вероятно, больше, чем тебе довелось видеть за всю свою жизнь. Однако сегодня все идут только в Кориканчу. Не знаешь, что это? Это самый большой, самый богатый храм во всем Тауантинсуйю. Там перед восходом солнца будет восседать на своем золотом троне сам сапа-инка Уаскар, и солнце там каждый год зажигает новый священный огонь.
Воин оглядел небо, затянутое плотной пеленой туч, но Синчи не уловил его беспокойства. Синчи торопливо расспрашивал:
— Перед восходом сам сын Солнца будет в храме? О, тогда я должен торопиться, чтобы вовремя найти святейшего уильяк-уму и вручить ему кипу. Покажи мне дорогу,
Тот махнул рукой.
— Иди никуда не сворачивая. Попадешь прямо туда. Все будут спешить только в Кориканчу.
Улица оказалась широкой, почти прямой и была вымощена гладкими каменными плитами. Тут было темнее, чем За пределами города, так как по обеим сторонам вздымались высокие, по преимуществу глухие стены. Кругом ни одного огонька.
Толстые сандалии бегуна застучали по камню, отдаваясь Эхом среди улиц спящего города. Синчи попробовал идти тише, ступая легко, как на охоте.
Однако через минуту заметил, что он не один: город уже не спал. В темноте маячили силуэты множества закутанных в плащи людей, все громче звучали шаги. На бегуна, который по привычке снова ускорил шаг, никто не обращал внимания.
Синчи, обгоняя толпу, упорно стремился вперед. Воин был прав: все следовали только в одном направлении, не надо было даже и расспрашивать о дороге.
Потом Синчи увидел огни: множество факелов из смолистых ветвей толы и в их блеске — массивную кладку храма. Такого строения ему еще не приходилось видеть. Громадные стены были сложены из камней, так тесно пригнанных друг к другу и столь гладких, что они отражали свет, как металлическая поверхность. Широкие двери были распахнуты настежь, и внутри все сияло огнями.
Синчи сбавил шаг, потому что у храма стояла плотная, с каждой минутой увеличивающаяся толпа. Но он упорно пробирался вперед, с удивлением замечая здесь множество инков и кураков в праздничных нарядах. Если даже они не могут проникнуть в храм, то как же он, обычный бегун, сумеет добраться до самого верховного жреца?
Он вспомнил о золотой бляхе, полученной от ловчего, вытащил ее и стал просить, чтобы его пропустили. Просил он, однако, тихим голосом, так как его смущали люди, застывшие в сосредоточенном ожидании.
Никто по-прежнему не обращал на него внимания, и, когда Синчи уже потерял надежду пробиться, он натолкнулся на какого-то важного инку, который стоял, завернувшись в плащ, и высокомерно поглядывал вокруг.
— Позволь мне пройти, великий господин, — несмело прошептал Синчи. — Я служу сыну Солнца…
Инка гневно обернулся, но взгляд его упал на золотую бляху, которую протягивал бегун. Лицо инки сохранило надменность, но глаза заблестели.
— Ты прибыл с важным известием?
— Да, великий господин. К самому уильяк-уму. Спешно.
Инка смерил бегуна взглядом, задумался на минуту, наконец слегка пожал плечами и повернулся. Голос его, привыкший отдавать приказания, особенно громко зазвучал над притихшей площадью.
— Эй, дайте гонцу дорогу! Он следует по приказанию сына Солнца. Расступитесь!
Все обернулись, толпа заволновалась, однако повелительный голос высокородного инки заставил ее расступиться быстро и послушно.
Перед Синчи образовался словно живой коридор, через который он пробежал, смущенный, почти испуганный. Свой золотой знак он держал высоко и, показывая всем, повторял:
— По велению сына Солнца. Срочно. По воле сына Солнца…
Знатный инка, который помог гонцу пройти, внимательно наблюдал за ним и едва слышно шепнул своему товарищу, также завернувшемуся в темный плащ:
— У него на бляхе знак главного ловчего. Кахид отбыл в уну Уануко, откуда направил срочного гонца к уильяк-уму. Он не воспользовался обычной службой часки, а послал специального нарочного. Неужели ему что-то уже известно?
— Этот человек прокрадывался тайком. Ты заметил, как он смутился, когда ты громко приказал очистить для него путь? Или это обычный часки, простак с захолустных дорог, растерявшийся в столице, или же ему приказано действовать тайно. — Он нагнулся к самому уху своего товарища: — Зачем ты помог ему пробраться? Кахид не наш человек…
— Но он посылает кипу к уильяк-уму. Уж жрец-то будет Знать, как с этим поступить. Ты заметил, — добавил он через минуту, — как даже инки, стоящие в толпе, уступали ему дорогу? Достаточно только крикнуть: «По воле сына Солнца».
— Да. Но все-таки я должен поговорить с уильяк-уму. Нехорошо, что инки стоят перед храмом вместе с простым людом. Праздник — праздником, однако это унижает наше достоинство. Пусть отведут для инков отдельную площадку рядом с храмом, так продолжаться не может.
Его собеседник буркнул в ответ что-то невнятное.
Перед входом Синчи остановила стража, молодые рослые воины, но золотая бляха и магические слова «По воле сына Солнца» подействовали и тут. Стража расступилась, и Синчи в грязном, запыленном одеянии, в грубых сандалиях и в шерстяном, без всяких украшений шлеме на голове поднялся на широкие ступени храма.
Он ступал осторожно, так как зеркальная поверхность отшлифованных камней внезапно показалась ему более опасной, нежели обледенелые горные склоны на пути к Силустани. При виде высоких стражей, инков и жрецов, ожидающих на ступенях и у самых врат, при виде толпы, в глубоком молчании заполнявшей площадь, он окончательно растерялся.
Какой-то молодой жрец преградил ему дорогу, но, увидев бляху и расспросив гонца, приказал ему следовать за собой. И тут Синчи внезапно почувствовал себя утомленным. Утомленным настолько, что едва-едва плелся за провожатым. А что хуже всего — он вдруг все забыл. Забыл донесение. Помнил всю дорогу, а теперь, когда надо повторить его, забыл начисто. Испуганный, дрожащий, стоял он перед верховным жрецом и в растерянности показывал только золотую бляху.
— Ты прибыл от главного ловчего? Говори.
Синчи извлек из-за пазухи связку кипу и дрожащей рукой протянул ее жрецу.
— О святейший! Великий ловчий Кахид дал мне этот знак и кипу, приказав передать тебе…
Нет, он окончательно забыл слова донесения. В голове была пустота, вернее — полный хаос, вспоминались прежние пустячные послания, длинные истории, услышанные от начальника сторожевого поста, целые фрагменты эпоса «Апу-Ольянтай», пересказываемого обычно странствующими поэтами, но этот исключительной важности наказ вылетел из головы.
Он оглянулся, как бы ища спасения. Но верховный жрец понял иначе его движение и гневно бросил провожатому Синчи:
— Оставь нас!
Однако как раз в этот момент занавес на дверях внезапно взметнулся и в комнату ворвался другой служитель храма.
— Сын Солнца уже вступил на площадь. Сейчас начнется торжественная церемония!
— Явишься ко мне после обряда! — коротко приказал уильяк-уму и поспешно вышел.
Синчи остался один и минуту стоял неподвижно и только прерывисто дышал, словно после долгого бега. Светильник на специальной подставке тихо затрещал, и этот знакомый, привычный звук вернул его к действительности.
Ждать здесь пока вернется верховный жрец? Но тогда выяснится, что он забыл текст донесения. За это часки может поплатиться жизнью. Тело его бросят где-нибудь в горах на растерзание диким зверям и кондорам, его уже не превратят в почитаемую мумию, которая даст возможность вечного счастья в стране великого духа Виракочи.
Синчи непроизвольным жестом коснулся шеи. Золотая бляха, полученная от ловчего, по-прежнему болталась на ремешке. Уильяк-уму, занятый приготовлениями к большому празднику, забыл ее взять. Бляху, которая открывает все двери, предоставляет все, чего только пожелаешь.
Внезапная мысль, мысль-искушение вдруг осенила его: бежать! Не ожидать с покорностью мук смерти, а бежать.
Но одновременно с этим родилось и сомнение. Бежать? Но куда? Он тотчас же представил себе железную, продуманную, беспощадно осуществляемую организованность государства инков — Тауантинсуйю.
Оно разделено на четыре провинции, которыми управляют наместники, родичи царствующего сапа-инки. Провинции образуются из областей — уну; в каждой из них десять тысяч семей. Уну делятся на более дробные единицы, вплоть до самой мелкой — айлью, в которой десять семейств. Во главе каждой такой группы стоит старший, ответственный за все. Повсюду камайоки, тукуйрикоки. Всюду — сторожевые посты, а в более крупных городах — крепости.
Законы извечны, тверды, неумолимы. Земля, рудники, стада лам не могут быть чьей-то собственностью. Они общие. Никто не знает нужды. Стариков и больных опекает айлью, каждая семья получает дом, землю каждый год делят между всеми жителями айлью. Сперва на три части: для сына Солнца, для храма, для простого люда. Потом эта последняя часть делится между остальными по справедливости: каждому — тупу. На своем участке каждый работает как хочет, в одиночку, земли жрецов и властителей обрабатываются сообща. За этот труд, так же как и за строительство дорог, крепостей или храмов, каждый получает плату. Расплачиваются самым ходовым продуктом — сушеным мясом лам — чарки, а кроме того, одеждой, шерстью.
Никто не голодает, не страдает от холода, не остается без крова. Если ты расторопен и трудолюбив, можешь ткать из шерсти красивые ковры, пушистые плащи и накидки, украшенные замысловатыми фигурками, или даже пользующиеся огромным спросом наски, покрытые затейливым и сложным узором. Эти ковры в свою очередь обменивают на серебряные украшения, на глиняные сосуды, на все, что угодно. Каждый трудится, каждый получает то, что ему нужно.
Но… работу, на которую тебя определили, ты не имеешь права оставить. Если ты любишь лам и горы, любишь бродить с места на место и хочешь быть пастухом, пасти общественные стада, а камайок решит, что сейчас нужнее рудокопы, и прикажет тебе отправляться на рудники, то ты обязан это сделать. Если же тебе по душе обрабатывать землю, а прикажут строить дома или крепости, то, возможно, до самой смерти тебе так и придется усердно обтесывать и шлифовать камень, дабы, водруженные один на другой, они даже без раствора плотно прилегали друг к другу и выстояли бы века.
Но… если не нравится тебе в твоей долине, если у тебя возникнут нелады с айлью, если ты мечтаешь о путешествиях, хочешь узнать свет, — тебе не дозволено двигаться с места. Если, однако, в столице какой-либо из четырех провинций или в самом Куско высокие инки решат, что где-то люди чересчур расплодились, что где-либо не хватает Земли или же что где-то еще по древнему племенному обычаю поклоняются камням, очертания которых напоминают человеческую фигуру, почитают священным животное — давний родовой тотем, либо исподлобья поглядывают на инков, а приказы их выполняют вяло — тотчас приходит кипу: переселить всю общину туда-то и туда-то. Бывает, очень далеко, в другой конец страны, в самую гущу незнакомых племен. Протестовать бесполезно.
И жену не можешь выбрать себе там, где захочешь. Во время праздника Райми, когда тебе исполнится двадцать четыре года, а девушке восемнадцать, камайок соединяет молодых в пары. Если и тебе и твоей избраннице подошел срок, если ты припас щедрый подарок кому следует, то получишь в жены ту, которую пожелаешь. Но если ты или она еще не достигли брачного возраста, если камайок почему-либо зол на тебя или же соперник преподнес ему более щедрый дар, то тебе остается только смотреть, как твою любимую отдают другому, а ты возьмешь ту девушку, которую тебе назначат.
Ты узелок на одном из кипу в столице провинции. Власти знают о твоем существовании, постоянно помнят о тебе и сами распоряжаются твоей судьбой. Им виднее, что тебе делать, что есть, как одеваться. Все установлено, предначертано свыше. В поле ты начинаешь работать строго по приказу, когда сапа-инка на священном роле у храма Солнца ударит о землю золотой мотыгой. Часки разнесут Эту весть в самые отдаленные уголки государства, и только тогда тебе дозволено приступить к работе. Ткани для одежды получаешь определенные, даже украшения предписано иметь каждому племени свои, для каждой профессии особые. Даже форма черепа и та предписана свыше. Мальчикам, которым предстоит быть жрецами, сжимают черепа дощечками, так что лоб у них становится плоским, а голова приобретает удлиненную форму.
Без позволения, которое необычайно трудно получить, не разрешается покинуть деревню или город. Самовольно не сменишь и профессию. Власти знают о тебе и сами решают за тебя. Недаром по всем дорогам бегут часки, разнося кипу и устные приказания…
Справедливо с точки зрения закона, но бездушно и беспощадно. А люди обязаны повиноваться. Чтобы утешиться или забыться, они могут жевать листья коки. Листья коки, дарующие смирение, повышающие работоспособность, приносят и тупое успокоение.
Справедливо ли это? Инки и кураки не работают, они не связаны в своих поступках, само происхождение обеспечивает им должности камайоков, вождей или высоких жрецов, они берут себе в жены тех, кого пожелают. Но и они не имеют собственности. Получают дворцы, золото для украшений, ценные ткани из шерсти молодых вигоней, редкие кушанья, доставляемые издалека, но и у них нет собственности.
Один только сын Солнца, сапа-инка, владеет третьей частью всех земель. Сын Солнца — это сердце, символ и сила, на которой держится государство. Государство — это все, человек — ничто.
Куда же можно бежать, где укрыться в этом государстве? Беглеца задержит первый же камайок, каждый старейшина айлью, любой сторожевой пункт. Власти — всюду, часки мигом известят их.
Синчи вспомнилось недавнее известие: «Из Чапаса бежали двое. Переселенцы из племени сечура. Направляются либо к перевалу…»
И вдруг словно что-то озарило его память, будто вспыхнула искра во тьме. Синчи зашевелил губами и свободно начал: «Святейшему уильяк-уму докладывает Кахид, ловчий. Уну Уануко в опасности. Если сын Солнца отправится на охоту…»
Он засмеялся с облегчением. Он помнит. Ничто не угрожает ему.
Откуда-то издалека донесся могучий, ровный гул Синчи сообразил, что это такое. Это Кориканча, главный храм, Это праздник Райми, это приветствуют прибывшего сюда сына Солнца. Сбылись сокровенные, казалось, самые неосуществимые мечты Синчи! Он увидит этот величайший, священный праздник.
Глава десятая
Он бежал, руководствуясь только инстинктом, по каким-то коридорам и переходам, лишь кое-где освещенным факелами или светильниками, пока совершенно неожиданно не очутился в главном зале храма. Плотная толпа жрецов и сановников застыла неподвижно, устремив взоры в одну сторону. Напряженная тишина нарушалась лишь слабым потрескиванием множества пылающих факелов. Воздух был напоен запахом древесной смолы и незнакомыми Синчи ароматами.
Он заметил молодого жреца без колец в ушах, облаченного в длинный темный плащ; тот пристроился на высоком основании колонны и с этого возвышения взирал на празднество. Бегун не задумываясь последовал его примеру. Для горца это не составило труда.
Толпа склонилась в глубоком поклоне. Синчи мог теперь наблюдать за всем без помех
Храм подавлял своими размерами. Гигантские двери были обращены прямо к востоку. Сейчас, распахнутые настежь, они позволяли увидеть над огромной площадью, освещенной тысячами факельных огней, черное и беззвездное небо.
На внутренней стене храма против дверей виднелось изображение Солнца, золотой круг в диаметре больше человеческого роста. Он был украшен резьбой, от него расходились извилистые, тоже из чистого золота, лучи. Ниже — длинный жертвенный алтарь из черного полированного и покрытого резьбой камня, на стенах — карниз или фриз из толстых, тоже украшенных резьбой золотых пластин.
Ручки факелов, кадильницы, орнаменты на дверях — все было сплошь золотое.
Узорчатый пол из разноцветных плит сиял зеркальной поверхностью, как и высокие, словно деревья, колонны, подпирающие своды. Они были сделаны из белых с прожилками камней, отливающих серебристым блеском, Всюду пылали факелы из ароматных ветвей толы, а перед изображением Солнца дрожал и мигал, испуская струйку благовонного дыма, маленький огонек в золотом сосуде с чудесной резьбой.
«Это священный огонь, который зажгло Солнце в прошлом году во время праздника Райми!» — подумал Синчи, однако взгляд его тут же привлекло нечто иное. По обеим сторонам зала, на возвышении, на массивных золотых тронах восседали мумии. Не те, что делают жрецы из тел простых смертных, не в согнутом положении, с коленями под подбородком, завернутые в циновки, а сидящие в позах живых людей, убранные в великолепные одежды, с золотыми украшениями.
Синчи догадался, что это мумии правивших сапа-инков. У самого алтаря, вероятно, умерший недавно Уайна-Капак, покоритель Кито. О нем говорил старый начальник сторожевого поста. Высокий, худой. Даже сейчас по лику мумии видно, что черты лица у него были резкие и грозные.
Рядом стоял не занятый золотой трон. Об этом тоже рассказывал старый воин. На нем воссядет нынешний властитель, сапа-инка Уаскар, в такой же позе, в том же уборе, что и его славные предки, чьи души витают здесь.
Сапа-инка Уаскар, сын Солнца, властелин Тауантин-суйю, правитель Куско, властитель гор Уарочиро и Уайуач, повелитель племен аймара, кечуа, колья, чанка, сечура, кайапас, Колорадо, как раз в эту минуту входил в храм, и Синчи мог прекрасно разглядеть его.
У властелина мира, выглядевшего еще молодо, широкого в плечах, были медлительные движения атлета. Он шел неторопливо, с достоинством. При свете бесчисленных факелов отчетливо различалась каждая деталь его наряда. На голове у него было льяуту, покрывало из тончайшей белой ткани, а также пурпурная повязка. Золотая застежка на лбу искрилась блеском искусно отшлифованных драгоценных каменьев. Радужно переливаясь и отсвечивая то фиолетовым, то золотисто-зеленым, колыхались над головой сапа-инки самые дорогие и священные реликвии — два пера птицы коренкенке.
На властителе была короткая туника без рукавов, плащ, сколотый огромной золотой брошью, над локтями, у колен и на щиколотках надеты золотые, украшенные смарагдами, браслеты, в ушах, удлиненных от тяжести подвесок, поблескивали огромные кольца. В руке сапа-инка держал обоюдоострый боевой топор с золотой рукоятью.
За повелителем, приотстав на шаг, шла койя, его законная жена. Волосы ее тоже покрывала льяуту, но без пурпурной повязки. Такая же брошь скалывала ее плащ, те же вышивки украшали длинную одежду, только в руках у нее было овальное зеркало из чистейшего с багряным отливом золота.
Уаскар воссел на троне рядом с мумиями своих предшественников, приняв ту же позу, с таким же неподвижным выражением лица. Койя поместилась подле него на более низком, но тоже золотом троне. Толпа придворных подалась назад.
Верховный жрец склонился в низком поклоне, промолвив что-то на языке инков, который не разрешалось знать людям, не принадлежавшим к правящей касте потомков давних завоевателей.
Он отошел в сторону, и на середину храма выбежали танцовщицы, исполнившие медленный страстный священный танец. Их оказалось гораздо больше, чем в других храмах, они были более красивы, но танец был тот же самый, что Синчи видывал не один раз. Через минуту Уаскар, не отрывая глаз от широко открытых врат, подал знак, и жрецы тотчас же принялись тушить факелы, а сам уильяк-уму, поклонившись изображению Солнца, погасил свой светильник.
В огромном храме наступила абсолютная темнота, но постепенно мрак начал рассеиваться, бледнеть. Синчи, лишь сбоку видевший главные двери храма, понял, чего все ждали: вставало солнце.
Еще минута. Мрак быстро таял, оставаясь лишь где-то по углам, все вокруг проступало теперь гораздо отчетливее, чем при свете факелов, и внезапно золотистый, таинственный и чудесный свет наполнил храм. Это солнце, всплывшее над далекими вершинами гор, бросило сноп лучей на свое громадное выпуклое изображение. Сияние полированного металла залило все пространство храма прекрасным жарким светом.
Но это длилось лишь одно короткое мгновение. Золотистый блеск внезапно погас, и зал погрузился в унылую полутьму.
— Недобрый знак! Ох, недобрый! — зашептал дрожащими губами молодой жрец, находившийся рядом с Синчи. — Инти лишает нас своей благосклонности. Инти грозит нам.
Посреди храма стояла группа жрецов, державших большое вогнутое зеркало из золота; сапа-инка восседал на своем троне неподвижный, как мумии его предков; танцовщицы у алтаря, толпа придворных и сановников замерли в полном молчании. Лица всех были обращены к вратам, а глаза упорно всматривались в сгущавшиеся серые тучи, ища хоть какого-нибудь просвета, какого-нибудь признака, что небо прояснится.
Однако над Куско, над всем плоскогорьем вплоть до западных горных вершин начал накрапывать дождь.
— Так было в последний праздник Райми перед смертью сапа-инки Уайны-Капака, — еле слышно проговорил молодой жрец. — О Виракоча, великий дух, будь милосерден к Тауантинсуйю, к твоему народу!
Легкое движение воздуха донесло до них слабый аромат потухшей кадильницы у большого алтаря. Синчи со страхом взирал в ту сторону. Огромный золотой диск, не озаренный ни единым огнем, кроваво отсвечивал.
— Нет святого огня, — зашептал он в страхе. — Что-то теперь будет?
— Доставят огонь из другого великого храма, с острова на озере Титикака, — отозвался молодой жрец. — Нужно еще принести в жертву ребенка или девушку. Это дурное предзнаменование на целый год. Да благословен будет великий Виракоча за то, что мы сейчас не воюем!
Синчи вдруг вспомнил порученный ему наказ, который еще не успел пересказать: «… необходимо выслать воинов! Это означает войну. Атауальпа собрал огромные силы и движется на Куско!».
Пораженный, Синчи взирал на жреца, который не ведал ни о чем.
В храме внезапно началось движение. Сапа-инка поднялся с трона, весь кортеж двинулся вслед за ним куда-то в глубь храма, в темные и мрачные коридоры. Жрецы начали закрывать главные ворота.
— Сегодня не будет игр и свадеб, — зашептал взволнованный жрец. — Сын Солнца не появится перед народом и возвратится в свой дворец. Плохая примета, ох, плохая примета, недобрым будет этот год.
— О святейший! — Синчи спрыгнул с карниза и теперь помогал слезть с нее жрецу. — Соблаговоли показать мне дорогу в покои великого уильяк-уму. Я прибыл ночью со срочным поручением, но не успел его пересказать.
Жрец внимательно присмотрелся к гонцу и задумался на минуту.
— Уильяк-уму? Но у него сейчас неважное настроение. Наверняка неважное. Лучше подождать до завтра… Не можешь? Что ж, твое дело. Идем!
Но и на этот раз Синчи не суждено было повторить полученный наказ. Ворчливым тоном жрец призвал его, и он только принялся декламировать: «Великому уильяк-уму докладывает Кахид, ловчий…» — как его снова прервали. Прибыл, судя по одежде и украшениям, какой-то сановник, с золотыми кольцами инков в ушах.
— Благородный и светлейший! — сопел инка, грузноватый и немолодой, не обращая ни на кого внимания. — Я пребываю в большом беспокойстве. Из уну Пьюра получен кипу, содержание которого даже я, главный кипу-камайок, понять не в силах. Посмотри сам! Тот, кто вязал эти узлы, видно, сошел с ума. Гляди, святейший! Что это значит? Боги или люди? Но если люди, то какие? Цвет, посмотри, какой цвет! Белые люди? Об этом еще никто не слыхивал.
Уильяк-уму, взявши связку шнурков, внимательно разглядывал их, ощупывал пальцами, качал головой.
— Есть какой-то таинственный знак и знак опасности. Но это… это означает людей. Двести белых людей. А это ламы! Но какие огромные ламы! Что-то непонятное. Как получено это известие?
— Кипу доставил часки по приморской дороге. Без всяких объяснений.
— Необходимо тотчас же потребовать дополнительных разъяснений! Если это не ошибка…
Они обменялись понимающими взглядами.
— Атауальпа, — шепнул вновь прибывший, а верховный жрец отвечал шепотом:
— Не знаю, но я верю, что он использует все.
Тотчас, однако, он вспомнил о Синчи и, обратившись к нему, коротко бросил:
— Говори!
Синчи прикрыл глаза и старательно продекламировал:
— … Атауальпа собрал большие силы и идет по направлению на Куско. Я, Кахид, ловчий, советую отменить охоту.
Оба сановника слушали молча, пытливо глядя на бегуна.
— Атауальпа, — снова шепнул кипу-камайок, а уильяк-уму Ударил в ладоши и, указав какому-то молодому жрецу, бесшумно появившемуся, на Синчи, сказал: — Возьмите с собой этого человека, накормите, пусть отдохнет. Он должен быть постоянно готов к тому, что я могу его вызвать, И не должен ни с кем разговорить, кроме наших людей, — прибавил жрец на тайном наречии инков.
Глава одиннадцатая
Инка Майти, тот самый, который на площади возле храма помог освободить дорогу для Синчи, не дождался окончания празднества. Когда солнце, осветив на миг небо, безвозвратно исчезло за все более сгущающейся завесой туч, он дал знак своему молчаливому спутнику и, спокойно, но решительно расталкивая толпу, поторопился покинуть площадь.
Заговорил он лишь в доме коменданта города, что находился у самых городских стен. Оба, скинув плащи и шлемы, принялись согревать озябшие руки.
— Боги с нами. Теперь даже самый глупый чанка ждет в Этом году каких-либо несчастий и ничему не удивится.
— Из простых людей никто ничему не удивляемся, потому что никто не думает. Ведь они издавна так воспитаны. Жуй листья коки и выполняй приказания, — проворчал Тупанки, начальник гарнизона столицы.
— Все это так, но приказание должно быть понятным и простым. Если приказы начнут отдавать две власти, простой люд оглупеет окончательно и… не станет слушать никого.
— Дело не в толпе. Ее легко успокоить. Будет праздник, устроим торжественную церемонию. Ха, можно даже принести в жертву одну девку из чужого племени! Чернь это любит. Меня беспокоят те, что способны мыслить самостоятельно, те, кто все понимает и решает судьбу государства. Иначе говоря — инки, кураки, жрецы.
— Разумеется. Уильяк-уму…
— Да. С ним мы должны увидеться как можно скорее. Этот ловчий Кахид — преданный, исполнительный слуга, но он человек недалекий. Верен Уаскару, а известие посылает уильяк-уму. Он ничего не видел, не слышал, не понял, хотя и находился при дворе.
Инка Майти, комендант крепости Саксауаман, неприступной твердыни, прикрывающей столицу с юга, негромко рассмеялся.
— Нам везет. Жрец бога Инти не далее как вчера публично провозгласил, что сегодня не только появится солнце, но будет даже радуга. Как знак благосклонности великого Инти к Уаскару. Теперь люди, наверное, на все лады обсуждают это.
— Люди?
— Тьфу, я имел в виду жрецов, сановников, тех инков, что пока не с нами и находятся в полном неведении.
Хотя комната имела массивные стены, он невольно понизил голос.
— Ты уже получил какие-нибудь известия? — спросил Тупанки.
— Два дня ничего нет. Войска Атауальпы передвигаются очень быстро. Вероятно, сейчас они на отдыхе.
— Атауальпы? — выразительно переспросил Тупанки.
Майти понял и тут же поправился:
— Войска сына Солнца, сапа-инки Атауальпы.
Тупанки удовлетворенно кивнул.
— Ну, а что у нас? Я пытался послать два отряда на юг, к самому Тиуанако, под тем предлогом, что на границе неспокойно, но Уаскар…
— Уаскар? — Майти переспросил его тем же тоном, но Тупанки засмеялся и не стал поправляться.
— Да, всего лишь Уаскар! Привыкнем… Уаскар не дал согласия.
— Может быть, он что-то подозревает?
— Откуда? Великий кипу-камайок мчится с любой вестью к уильяк-уму. Жрец бога Инти, хотя и предан полностью Уаскару, смотрит только на небо, стремясь по звездам предугадать будущее.
— Ты не веришь, что это возможно?
Майти спрашивал с явным беспокойством, но Тупанки пожал плечами.
— Звезды не сказали ему ни о смерти сапа-инки Уайны-Капака, ни о страшном землетрясении у горы Мисти, ни о наводнении в уну Ика…
— Старики говорят, что там оно случается время от времени.
— Возможно. Но звезды ничего не сказали самому истовому нашему жрецу о том, что несчастье случится именно в этом году. Не скажут они ему и о намерениях Ата… сапа-инки Атауальпы. Не звезд боятся люди.
— Как настроение в гвардии? На многих ли вождей можно рассчитывать? За жрецов нам ручается уильяк-уму.
Они склонились друг к другу и принялись тихо перешептываться, и в это время неожиданно вошел верховный жрец. Из-под плаща, в который он был закутан с ног до головы, уильяк-уму извлек связки кипу и бросил на стол.
— Важные новости, уважаемые.
— Знаем. От ловчего Кахида.
— Уже знаете?
— Знаем, что он прислал кипу, но нам еще неизвестно его содержание.
— Он сообщает ориентировочное количество зверей, число гонщиков и сколько воинов должно быть направлена на юг.
— На юг? Значит, ему уже известно?
— Да. Он в крепости Силустани. А там знают о наступлении войск Атауальпы.
— Сапа-инки Атауальпы, сына Солнца, — поправил его Майти.
Верховный жрец недоуменно пожал плечами.
— О, ведь мы говорим между собой. Слушайте! Важно не то, что сообщает кипу, а то, что Кахид велел передать устно. Для этого он и прислал специального гонца. И советует… чтобы сын Солнца Уаскар воздержался от охоты в уну Уануко. Так как там уже может быть небезопасно.
— Этот Кахид неглуп, — тихо рассмеялся Тупанки, но Майти гневно оборвал его,
— Простофиля! Будь он поумней, он мог бы нам все испортить! Если бы Кахид направил это известие к…
Оскорбленный жрец гордо выпрямился. Его неестественно высокий лоб прорезали гневные морщины.
— Кого же он должен был известить? Я ближайший родственник сына Солнца, верховный жрец бога Инти, и не я ли первый сановник в Тауантинсуйю?
— Да, да, о святейший! — поспешно заверили его оба воина. — Мы и говорили о том, что нам явно покровительствует великий дух Виракоча, ведь как раз к тебе поступают все известия.
— Да, это верно, — благосклонно подтвердил жрец. — Без меня вы не достигли бы ничего, и Уаскар продолжал бы править дальше. А этого нельзя допустить. Сын Солнца, он отказался распорядиться, чтобы в Капакабоне уничтожили нищую область, истребив богохульников, которые не хотят поклоняться Солнцу, упорно продолжая чтить камни. И это на берегу священного озера Титикака! Не может властвовать сапа-инка, который так плохо защищает веру! Все жрецы уже разделяют нашу точку зрения.
Воины взглянули друг на друга и пожали плечами.
— Это ваши небесные дела! — порывисто воскликнул Майти. — Нас же волнуют более земные вещи!
— Нет ничего важнее веры!
— Есть! Не может быть сапа-инкой тот, кто раздирает на части страну. Сын Солнца, великий инка Уайна-Капак покорил Кито и создал единое государство. Атауальпу он назначил там лишь наместником. А Уаскар пожалел брата и отдал ему Кито, разорвав всю страну надвое. Теперь Атауальпа хочет снова ее объединить, поэтому мы с ним.
— И еще потому, что это вождь могучий и удачливый.
— Хм… Мы слышали также, что он набожен и щедро одаривает храмы.
— Это всем давно известно, — вмешался Тупанки. — А теперь, может быть, святейший уильяк-уму расскажет нам, как с известием, полученным от ловчего?
Жрец спокойно взял со стола одну из связок кипу и спрятал ее в складках плаща.
— Я не слышал ни о каких известиях от ловчего. Все остается по-старому. Сапа-инка Уаскар отправится завтра в уну Уануко на большую охоту.
— С войском?
— Зачем? Там спокойно. С ним пойдет только дворцовая гвардия.
— Гвардия? А поведет их Уйракоча или Тупак-Уальпа? — Майти назвал имена двух заговорщиков.
— Оба, — усмехнулся жрец. — Здесь, в Куско и в Саксауамане, останетесь вы.
— Но нас не будет там, на охоте, в самый решающий момент, — с неудовольствием буркнул Майти.
— Вас не обойдут! — поспешно заверил их жрец. — Ведь в ваших руках — столица и главная крепость. Здесь уже все в порядке. Есть еще одна любопытная вещь. Посмотрите-ка на это!
Он поднял вторую связку кипу и подал воинам.
— Я не могу этого прочесть! — раздраженно бросил Майти. — Что-то о ламах, о богах!
— О ламах, но больших. О людях, но белых, как боги, — тихо пояснял жрец. — Из-за океана прибыло двести белых людей с большими ламами. Только это я и сумел прочесть.
— Белые люди? Глупости! Тот, кто вязал этот кипу, ошибся. Вот и все. Незачем беспокоиться из-за такой чепухи.
— Не знаю, не знаю. Хорошо бы проверить.
— Отдай, святейший, приказ, пусть проверят.
Жрец снова недовольно поморщился.
— Я сам решу, как поступить! Но известие прибыло из уну Пьюра, а там уже теперь…
Все замолчали. Наконец Тупанки строго поглядел на товарищей.
— Посмотрим! Сейчас надо помнить об одном. Тот часки, который доставил весть от ловчего…
— Обычный часки. Пожует листья коки, проспится и забудет.
— Не уверен. Он может проболтаться. Такого свидетеля необходимо обезопасить.
Верховный жрец кивнул.
— Правильно. Это часки с главной дороги. В селении под Кахатамбо у него девка. В разговоре с моим человеком он выложил все, поэтому он может сболтнуть и об этом. Сделаем так…
Он на минуту задумался, но тут же решительно заговорил:
— Солнце не зажгло священного огня. Извечный обычай велит принести в жертву девушку. Уже послан приказ в Золотой храм на озере Титикака. Но это далеко. А сапа-инка движется в Уануко. В Юнии на его пути тоже есть большой храм. Торжественная жертва на этот раз будет принесена в Юнии…
— Я не понимаю! Какая здесь связь… — начал нетерпеливо Майти, но жрец движением руки прервал его.
— Девка должна быть из местных. Этот часки, который доставил кипу от ловчего Кахида, говорил моему человеку о своей избраннице, о некой Иллье. Пусть будет Иллья. Приказ о кровавой жертве понесет тот же самый часки.
Оба воина испытующе поглядели на жреца. Майти, тихо посмеиваясь, сказал:
— Неплохое испытание верности. Однако что будет, если этот часки откажется? Или сбежит? Или не передаст распоряжения?
— По закону он тотчас же будет казнен. А если врожденное чувство долга заставит его доставить приказ, то он, вероятно, больше уже ни о чем не будет и думать. Так или иначе о тех вестях, что идут от ловчего, никто никогда не узнает.
— Я в восторге, о святейший, — воскликнул Тупанки.
Жрец благосклонно усмехнулся. Он наклонился к ним и тихо шепнул:
— Это только часки, стоит ли о нем говорить? Речь идет о более серьезном. Ловчий Кахид прав. Уну Уануко в опасности. И вскоре там станет еще опаснее. Кто знает, очень и очень возможно, что войска Атауальпы получат специальный приказ окружить эту местность. Ну, а тогда многое решит настроение тамошних жителей. А они уж, будьте покойны, не забудут, что недавно принесли в жертву их девушку. Ведь этого не любят. Хм, я боюсь, что найдутся такие, которые начнут поговаривать и вспоминать, что именно по приказу Уаскара убили эту девушку, того самого Уаскара, к которому бог Инти явно не расположен.
— А в это время я…
— Вы должны быть здесь в полной готовности! Как только я дам вам знать, вы овладеете крепостью, городом и дворцом, задержите — уж вам известно кого! — а потом с надлежащими почестями встречайте сына Солнца, сапа-инку Атауальпу.
Воин низко склонил голову. Жрец уже накинул плащ — он собирался уходить, — но снова вынул и стал изучать странную связку кипу.
— Остается еще это дело… Очень странное. Двести белых людей, какие-то большие ламы… Я вижу здесь знак большого значения и большой опасности. Главный кипу-камайок уверяет, что из Пьюры всегда поступают отлично связанные кипу и точные вести. Гм, это меня и беспокоит.
Инка Майти махнул рукой.
— Эх, даже опытный кипу-камайок подчас злоупотребляет сорой. В конце концов что такое двести человек?
— А если это не люди? Если это боги или посланцы богов?
— Нужно проверить, — неуверенно буркнул Тупанки.
— Да. — Уильяк-уму, нахмурив брови, разглядывал кипу. — Я уже отдал приказ. Потому что чувствую опасность, чувствую ясно и отчетливо.
Глава двенадцатая
— Ты Синчи, часки со сторожевого поста Урко? — молодой жрец потряс за плечо крепко спящего бегуна. Хотя бог Инти не проявил на этот раз своей благосклонности и поэтому не было ни торжеств, ни игр, как обычно на ежегодном празднике Райми, Синчи все равно бродил целый день по столице, глазея и восхищаясь, не чувствуя усталости после многокилометрового пробега. Поэтому вечером он заснул как убитый.
Однако привычка, выработавшаяся у него за время двухлетней службы, оказалась сильнее усталости, и Синчи тут же сорвался с ложа, быстро придя в себя.
— Да, я Синчи.
— По приказу главного кипу-камайока ты сейчас же должен снова бежать.
— К великому ловчему Кахиду?
— Нет. Сперва в Юнию, к главному жрецу храма. Ты вручишь ему кипу и скажешь только два слова: Иллья из Кахатамбо.
— Я скажу: Иллья из Кахатамбо, — механически повторил Синчи и лишь потом понял, что он говорит. С удивлением, почти с ужасом повторил он уже вопросительно:
— Иллья из Кахатамбо?
— Да, только эти слова.
— Но… но ведь это… О святейший, что это значит? Иллья… Иллья из Кахатамбо? Только одна-единственная! Ведь она только одна! Откуда о ней известно великому кипу-камайоку? И что означает этот кипу?
Молодой жрец презрительно выпятил губы.
— Ты знаешь, часки, что тут, в столице, нам известно о всех и обо всем. А ту девушку ждет великая честь и счастье. Она выбрана посланницей к богу Инти и должна принести ему молитвы целого народа, просить о том, чтобы он вернул нам свою милость. Подумай только: ее мумия будет украшена золотом, как мумии инков, и навеки сохранена в храме.
Синчи еще не понимал.
— Ее мумия, святейший? Но… но это молодая девушка! Только через год, во время нового праздника Райми, я возьму ее себе в жены!
— Через год? Глупец, неужели ты не понимаешь, что я говорю? Эту девушку принесут в жертву, и, когда сын Солнца соблаговолит прибыть в Юнию, она будет умерщвлена с соблюдением всех почестей! — И, упирая именно на это, с важностью добавил: — Тут же сделают мумию!
Синчи стоял не шевелясь, тяжело дыша, с тщательно завернутым кипу в руке. Он еще не понимал, еще боялся понять. Жрец объяснил его молчание другими причинами и спросил раздраженно, с презрением:
— Ты устал? Можешь не торопиться. Сын Солнца покинет Куско только завтра; достаточно, если ты двумя днями раньше него будешь в Юнии Можешь еще отдохнуть.
Синчи почувствовал себя задетым.
— Я могу бежать сейчас же. Я не нуждаюсь в отдыхе. Но… но Иллья…
— Беги и повтори!.. — произнес жрец привычные, установленные законом слова, и Синчи совершенно непроизвольно склонил голову.
— Я побегу и передам: Иллья из Кахатамбо.
— Потом можешь возвращаться к главному ловчему, если он так тебе наказывал. Но для него у меня нет никаких поручений.
— Я выполню все это, святейший, — покорно ответил Синчи.
Однако он не отправился в путь тотчас же. Он продолжал сидеть с поникшей головой, опустив глаза и только беззвучно шевелил губами. Будто заучивал сложное поручение.
Он не шелохнулся, когда его позвали к ужину и даже не взглянул на кувшин со сладкой чичей, который поставили возле него; не глядел он и на листья коки.
Но ночью Синчи исчез, и на сторожевом посту, где он остановился, не заметили его исчезновения. Впрочем, этим никто особенно и не интересовался, все были издерганы, измучены подготовкой к грандиозному путешествию властелина, который уже приказал объявить, что он соблаговолит отбыть утром на второй день после праздника Райми.
К этому времени Синчи еще не ушел из города. В глухой полуночный час он отправился к храму, не решаясь проникнуть внутрь; он лишь присел на ступеньках и молча глядел на громадное здание. В этом его молчании была пылкая вера, мольба и надежда.
Уже на рассвете он встал и поплелся к северным воротам, через которые в свое время ночью попал в город, а теперь терпеливо ждал, когда их откроют. Показав свою бляху, которую в суматохе забыли у него отобрать, Синчи покинул столицу, хотя в этот день никого не выпускали. Отойдя на небольшое расстояние, он укрылся среди поля кукурузы подле самой дороги и ждал, сам не зная, чего он ждет.
Солнце уже высоко поднялось над горной цепью Карвахаль, когда процессия показалась из городских ворот.
Впереди шел небольшой отряд дворцовой стражи, в шлемах, увенчанных перьями, и в латах из толстой кожи, украшенных серебряными пластинками. Каждый воин был вооружен копьем-чонтой, обоюдоострым боевым топором, ножом, имел сумку со съестными припасами.
За ними под присмотром специальных камайоков тянулась толпа рабов и дворцовой прислуги с утварью, которую сапа-инка любил брать с собою в дорогу. Прекрасные вазы из страны аймара, лампы, серебряные и золотые сосуды и даже ковры-наски. Они торопились, чтобы успеть приготовить жилище. Но шли мимо Синчи так долго, что он невольно сравнил их с многочисленными толпами гонщиков, которые по приказу ловчего Кахида двигались в указанных направлениях.
Прежде нежели толпа слуг миновала его, Синчи заметил, что рядом оказались еще какие-то люди, то ли из города, то ли из соседних селений. Они смотрели на все с большим интересом и перешептывались. На постороннего гонца никто не обращал внимания.
— Меня вчера разыскивал камайок из дворца, чтобы я тоже отправлялся в путь и что-то там тащил на себе. Но я догадался, чего он от меня хочет, и скрылся.
— Почему? Кто участвует в охоте, тому достается свежее мясо. И не один раз. А это вкуснее, гораздо вкуснее, чем чарки.
— Это верно! Но один жрец говорил, что Инти не расположен к сыну Солнца. И на тех, кто его сопровождает, тоже может пасть гнев Инти. Поэтому я предпочел остаться.
— А ведь идут и жрецы? Гляди!
— Идут те, кто обязан идти. А я не обязан! — буркнул первый, и все продолжали с интересом наблюдать. Колонна носильщиков была уже далеко, потом промчалось десятка полтора бегунов с пучками веток, которыми они сметали с дороги все следы мусора, и, наконец, показалась основная процессия.
Укрывшиеся в кукурузе крестьяне, хотя их и не мог никто заметить, упали на колени, смиренно ударяя челом о землю. Но при этом продолжали с любопытством следить за всем происходящим.
— Восемь человек несут носилки сына Солнца.
— Сапа-инка Уайна-Капак приказывал, чтобы его несли самые быстрые бегуны.
— Ну да, ведь он всегда торопился. Но теперь не война, а всего лишь охота.
— И койя отправилась с ним. Вон несут ее! Сколько Золота на носилках! Сколько золота!
Синчи вглядывался в процессию до боли в глазах, словно это зрелище могло снять с него бремя всех его забот.
В Тауантинсуйю только правящему инке и его жене полагались носилки. Все придворные, даже высшие сановники, брели пешком. Носилки были удобны, в них можно было лежать, а в, этот день, когда ярко сияло солнце, они были открыты. Но Синчи так и не успел заметить лица властелина: какая-то женщина угодливо склонилась к носилкам и шла подле них, заслоняя сына Солнца.
— Это главная мамакона, — зашептали подле Синчи крестьяне. — Уже с полгода свозят во все города, через которые будет проезжать сын Солнца, самых красивых девушек. Для него, на выбор. А эта старуха теперь нахваливает ему избранниц.
— Поэтому, вероятно, и койя такая мрачная.
— Э-э-э, она уже приучена к этому. Ведь так повелось издавна.
— Но избранная владыкой дева Солнца, наверное, счастлива. Живет во дворце, всего у нее вдоволь, чего ни пожелает.
— Ну, вот еще! Сын Солнца в кои-то веки проведет с ней ночь, а затем забывает о ней, а ведь она уже считается его женой. А когда сын Солнца умрет, за ним должны последовать все его жены.
— Гляди, несут уаки! Вон в этих закрытых корзинах!
— Наверное. Без этого не тронется в путь даже сам сапа-инка.
— Известно. Супай не дремлет и любит напакостить.
— Смотри. Не одна койя такая хмурая! Все придворные словно ждут чего-то недоброго.
— А ты разве не слышал, что было зловещее предзнаменование? Когда в день Райми солнце не зажжет священного огня, это очень плохой знак. Весь год жди несчастья!
— Э, принесут в жертву какую-нибудь девку — и все будет хорошо.
— Да уж жрецы знают, как отвратить гнев богов. А принести в жертву девку — самое верное дело.
— Так почему же все такие невеселые?
Синчи, услышав последние слова, припомнил наказ, который должен был повторить, и сел, прикрыв голову плащом. Да, эти крестьяне говорят правду. Чтобы отвратить беду, принесут в жертву девушку, как только процессия приблизится к Юнии. Избранницей будет Иллья. Она станет мумией. Весьма почитаемой мумией, восседающей в храме. Ее украсят золотом. Может быть, даже вместо глаз вставят драгоценные каменья. Словно что-то может быть ценнее, чудеснее сияющих глаз Илльи!
— Мумия девушки… мумия Илльи…
Процессия уже миновала их, последней прошла дворцовая гвардия; крестьяне, укрывшиеся в кукурузе, ушли. Только Синчи все еще сидел на том же месте, закутавшись в свой плащ. Гонец осторожно ощупал шнурки кипу через тонкую ткань, в которую он был обернут. Эти узлы говорят: принести в жертву девушку! А он, Синчи, назовет ее имя: Иллья! Без него жрецы в Юнии не знали бы об этом. Кипу не может назвать имени. Только одно: принести в жертву девушку.
Но он, Синчи, помчится и скажет: Иллья из Кахатамбо. Помчится, ему дан такой приказ. Потому что он часки, который обязан разносить распоряжения, покуда способен бегать. Ведь в обширном государстве инков, в Тауантин-суйю, для каждого определено место и каждый должен быть тем, кем ему быть назначено. И о каждом все известно. Не спрячешься, не найдешь пристанища, пищи, одежды, если нарушишь закон, А приказ-это закон. Поэтому и он, Синчи-бегун, доставит этот кипу я скажет: Иллья из Кахатамбо. А потом его девушка превратится в мумию.
Он нащупал в походной сумке толстую связку листьев коки, быстро вытащил ее, откусил большой кусок и с жадностью принялся жевать. Если уж так быть должно, если он обязан повторить наказ, то хотя бы не думать о нем, не понимать, не чувствовать боли и ужаса. Сделать так, как в Тауантинсуйю делают все в трудную минуту. Жевать листья коки.
Глава тринадцатая
Дальше Синчи двинулся только в сумерки, когда от резкого холода он окончательно пришел в себя. Кока, которую бегун жевал весь день, заглушила мысли о еде и желание спать, он ощущал лишь равнодушие ко всему и полное отупение.
Осталась навязанная свыше, господствующая над ним чужая воля, осталось сознание того, что этой воле необходимо повиноваться. Нужно выполнить полученный приказ» Только это важно и существенно.
Он неторопливо двинулся дальше, но на гладких плитах дороги бессознательно стал ускорять шаг, пока, наконец, — как бывало, когда приказ доставлялся не только с одного поста на другой, а на дальнюю дистанцию, — не набрал ровного, размеренного темпа.
Синчи бежал мимо сторожевых застав, то и дело сообщавшихся друг с другом с помощью огней, видно, здесь, па пути шествия властелина, все часки в эту ночь были на ногах; потом он миновал какое-то большое тамбо и какие-то поселения. Везде светились огни или костры, всюду бодрствовали люди. А ведь праздник Райми уже позади, как и пост, предшествовавший этому торжеству, и завтра всех снова ждет повседневная работа. Однако люди не спят, и вся округа на ногах только потому, что сын Солнца соизволил отправиться на охоту.
Синчи помнил еще с детских лет день смерти сапа-инки Уайны-Капака. Тогда людям казалось, что земля вот-вот содрогнется, что случится нечто ужасное, что все пойдет прахом…
Во дворцах, в которых когда-либо жил умерший властитель, слуги, управители, сановники, однодневные царские наложницы — все лишали себя жизни, жрецы, не прерывая молитв, навсегда замыкали двери дворцов, чтобы отныне только дух умершего мог пребывать там вместе с душами самых близких и преданных ему людей.
Должностные лица проявляли явное беспокойство, а узники и приговоренные к смерти открыто выражали радость. Они думали, что должны произойти какие-то перемены.
Только часки работали бесперебойно, неизменно и добросовестно, разнося известия, наказы, донесения, надежно связывая огромную страну в единое целое.
И гонцы доставили кипу к камайокам, во все концы страны пришла весть, что в Куско на троне воссел сын Солнца, сапа-инка Уаскар, и что сын Солнца взрыхлил золотой мотыгой священную землю у храма Солнца на острове посреди озера Титикака.
Потом пришли другие кипу, и камайоки назначили людей на постройку дворцов для нового властелина, успокоились сановники, видя, что ничто не изменилось, и по-прежнему принялись рассылать кипу и донесения обо всем, что происходило; несчастные и страждущие перестали ждать перемен.
Снова в определенный день по сигналу, поданному из столицы, камайоки соединяли молодых в супружеские пары, снова из года в год собирались айлью, чтобы выделить каждой семье ее надел, построить для новобрачных дома, помочь им обзавестись домашней утварью и посудой, разделить сушеное мясо, выданное из общинных складов, распределить работу, заранее установленную камайоками.
Сменился сапа-инка на троне, но не изменилось, ничто не могло измениться в превосходно и до последней мелочи организованном государстве. Государство это думало о каждом из своих подданных, принимало за него решения и распоряжалось его судьбой.
Государство существует до тех пор, пока на троне сапа-инка. Единственный человек, который стоит над законом, который сам — воплощение закона.
Синчи, пробегая ночью по местности, где все были взволнованы путешествием правителя и его двора, подумал вдруг: а известно ли сыну Солнца, что девушку по имени Иллья принесут в жертву, чтобы умилостивить великого духа Виракочу, который не позволил дневному светилу возжечь священный огонь? Он со страхом отогнал от себя эти мысли. Сапа-инке, сыну Солнца, вероятно, известно все. Простому человеку не понять, почему выбор пал именно на эту девушку. Так должно быть. Уже почти на рассвете возле какого-то большого города несколько гвардейцев неожиданно преградили бегуну дорогу. Их серебряные латы поблескивали при свете звезд.
— Стой! Ты разве не знаешь, что часки обязаны обходить город стороной? Здесь остановился на ночлег сын Солнца.
Синчи послушно остановился, но вспомнил о золотой бляхе и показал ее воинам. Они внимательно — насколько это было возможно в полутьме — осмотрели ее, потом один побежал куда-то и вернулся со старшим по Званию.
В сумраке ночи Синчи различил шлем, украшенный перьями, но, чувствуя безразличие ко всему на свете, даже не поклонился.
Начальник стражи взглянул на золотой знак и жестом руки отстранил воинов.
— Можешь пройти. Но прошу тебя идти тихо, так как сын Солнца отдыхает. Тебе нужно что-нибудь?
— Я хочу есть, — коротко ответил Синчи и почти непроизвольно добавил: — И еще мне нужны листья коки.
— Ты получишь все это на сторожевом посту. Там, где горит огонь.
Когда Синчи отошел уже на несколько шагов, до него долетел гневный начальственный голос:
— Глупцы! Разве вы не знаете, что каждый, у кого есть такой знак, может идти всюду, куда ему нужно, и требовать всего, чего захочет?
— Но это же обыкновенный часки!
— Значит, не обыкновенный, если у него такой золотой знак.
Когда Синчи, сытый и снабженный всем необходимым, снова бежал, уже миновав город, ему постоянно вспоминалась услышанная фраза: «Каждый, у кого есть такой знак, может, идти всюду, куда ему нужно, и требовать всего, чего захочет». Потом он вспомнил краткий наказ: «Иллья из Кахатамбо». И снова: «Каждый, у кого есть такой знак, может идти всюду, куда ему нужно, и требовать всего, чего захочет».
Только об этом он и помнил. В этих двух фразах для него сосредоточился сейчас весь мир. Синчи не особенно торопился. Он вспомнил слова жреца из Куско, что вполне достаточно, если он окажется в Юнии за два дня до прибытия двора. Возбуждение, которое помогло ему быстро преодолеть расстояние от Силустани до столицы, теперь совсем угасло, и только где-то в глубине его равнодушного и отупевшего мозга сохранились слова наказа. Только это. Листья коки, которые он все еще продолжал жевать, заглушали все мысли и чувства.
Он бежал по главной дороге через Айякучо, Уантаго, Чапас в Юнию. Здесь все было подготовлено для встречи приближающегося сапа-инки. Синчи, нес кипу, окрашенный в цвета, которые означали, что речь идет о деле самого властелина, показывал золотую бляху, и его повсюду принимали с почетом, словно личного посланца сапа-инки.
Сторожевые посты и тамбо для путников широко открывали перед ним двери и снабжали его всем, чего он ни требовал.
Только в тамбо близ Уантаго ему отказали в ночлеге. Синчи очень устал, ведь он бежал, по правде говоря, безрассудно, без надобности напрягая силы, а дорога от предыдущего поста непрерывно шла в гору. Кроме того, вечер выдался ранний, пасмурный и холодный.
Синчи решил силой прорваться в тамбо. На шум вышел хозяин, сперва он держал себя надменно, но когда разглядел золотую бляху, то сбавил тон и жалобно проговорил:
— Я не могу впустить тебя. Беги дальше. Неподалеку есть сторожевой пост. Там заночуешь. Иди.
— Разве тебе не известен этот знак? Я могу заночевать, где пожелаю и требовать всего, чего захочу.
— Я знаю, господин, — хозяин объяснялся торопливо и Заискивающе. — Я вижу и знаю. Но ты будешь милостив, я надеюсь, что ты не пожалуешься на меня. Я никак не могу впустить тебя. Беги на сторожевой пост. Хочешь, я пошлю с тобой слугу со светильником, который укажет дорогу? Или я сам провожу тебя. Да, да, я пойду с тобой, чтобы посветить тебе.
— Я бегу сегодня от самого Черрепо, я устал и хочу отдохнуть. В тамбо могут ночевать все, я же выполняю приказ сына Солнца. Смотри!
Он снова достал свою бляху и кипу. Хозяин постоялого двора готов был пасть перед ним на колени.
— Мое сердце возликовало бы, если мне довелось бы принять у себя такого путника. Я принес бы жертву радости в храм Радуги, особенно почитаемый в наших краях. Но я не могу. Пусть я умру, пусть земля разверзнется и поглотит мое родное селение, пусть рассыплются в прах мумии моих предков! Я не могу!
— Но почему? Никак ты спятил, старик?
Хозяин склонился к Синчи и понизил голос. Холодный ветер дул все сильнее, и бегун едва расслышал его слова.
— Потому что здесь сегодня заночевала дева Солнца со своими слугами.
— Дева Солнца? И что же? У тебя ведь много комнат.
— Но это не обычная дева. Это Илкама. Понимаешь? Илкама из Котакампы.
— Ничего не понимаю Кто она?
— Ты не знаешь, кто такая Илкама из Котакампы? Видно, Супай помутил твой рассудок. Это самая прекрасная дева Солнца во всем Чинчасуйю. Из самого высокого рода. Она идет в Юнию и там будет ждать сына Солнца. Теперь понимаешь? Когда она здесь ночует, я не имею права никого сюда впустить. Она сама мне запретила. Несмотря на то что это дева Солнца из рода инков, которая станет женою сапа инки, она сама со мной говорила. И я поплачусь головой, если ослушаюсь ее.
— Илкама из Котакампы, — медленно повторил Синчи, машинально вертя в пальцах золотую бляху, которая впервые ему не помогла. Он огляделся. Ночь стала еще темнее, пошел снег, холод давал о себе знать. Впереди, на расстоянии пяти или шести тысяч шагов, — сторожевой пост, до которого еще надо добраться. А пять тысяч шагов теперь, ночью, после того, как он бежал весь день, это не так уж мало. Но он должен идти, ведь дева Солнца Илкама из Кочакампы запретила ему тут ночевать.
Он машинально достал пачку листьев коки, откусил и недовольно бросил хозяину тамбо, продолжая жевать:
— Веди на пост!
Глава четырнадцатая
Синчи задержался на перевале, откуда была видна равнина у озера Чинчакоча и расположенная возле него Юния. Город и господствующий над ним храм отчетливо вырисовывались вдали и казались гораздо ближе, нежели на самом деле. На противоположном берегу огромного озера синели вершины гор над рекою Напо.
Синчи эти места были уже знакомы. Вон там расположен его сторожевой пост, а немного дальше — селение Кахатамбо. Иллья в эту минуту, вероятно, в поле. Возможно, как раз сейчас она поглядывает на юг…
Он отвел взгляд от горных вершин и взглянул на храм. Ведь это здесь, когда прибудет двор, Иллью принесут в жертву, а потом с почестями сделают мумией. Иллья… А он несет кипу с этим приказом, чтобы вручить жрецу. Да, таков приказ.
Синчи обогнали два часки, которые тащили огромную морскую черепаху, привязанную за ноги к палке. Они поднимались в гору, поэтому сбавили шаг и с интересом поглядели на путника, который сидел на придорожном камне и жевал листья коки, бессмысленно уставившись в пространство. Странно, путник этот не спешит к ближайшему тамбо, до которого всего час ходьбы.
Затем Синчи обогнал какой-то (судя по одежде) тукуйрикок с тремя слугами, причем тукуйрикок этот шел, внимательно оглядывая дорогу. Вскоре показался жрец, который спешил в Юнию.
В тяжелой от коки голове Синчи промелькнула тревожная мысль. Жрец. Видимо, идет в Юнию. Может быть, один из тех, которые приносят в жертву девушек? А может, именно он готовит мумии? Не ему ли Синчи вручит кипу и скажет: «Иллья из Кахатамбо».
Свиток кипу стал невыносимо тяжелым, словно он был сделан из золота, того золота, которым украсят мумию Илльи.
Внезапно у Синчи мелькнула дерзкая мысль: а что, если он не пойдет в храм, если он уничтожит кипу и забудет приказ? Но он содрогнулся от страха: трудно даже представить себе, чем грозит такой проступок! Сам сын Солнца, сапа-инка, прибудет в Юнию, а назначенной жертвы там не окажется. Ничего не готово. Что тогда? Немилость богов на целый год, охота будет неудачной, не станет мяса для чарки, наступит голод.
А его, бегуна, который не вручил кипу, найдут. В Тауантинсуйю никто не может скрыться. Его найдут, и он погибнет в муках. Даже Иллью он этим не спасет.
Остается только вручить кипу и повторить распоряжение. Таков приказ, а простой человек не может ни просить, ни объяснять, его дело только повиноваться, значит, будет послушен и он, Синчи. Как это говорил ловчий Кахид? Человек — это лишь камень в громадной стене. Он должен держаться, как бы тяжело ему ни было.
Однако камни есть наверху, есть и внизу. Тем, что наверху, легче. Он же, Синчи, внизу. И работники, те, которые мостят дороги, строят дома, крепости, и крестьяне, как Иллья, и рудокопы — все они в самом низу. А инки, жрецы, девы Солнца — наверху. Они угнетают других, а их, их никто не угнетает.
В голове, одурманенной кокой, медленно рождались мысли, неуемные, беспокойные мысли.
Девы Солнца… Эта Илкама из Котакампы — дева Солнца. Она станет наложницей сапа-инки. Прекраснейшая дева Солнца, Илкама из Котакампы…
Он достал новую пачку листьев коки и жадно принялся жевать их. Хорошо, что он всюду, где ночевал, запасался листьями коки. Теперь их полная сумка. Он жует, бежит и не размышляет. А если даже мысли начинают беспокоить его, то и тогда они бескрылы, покорны и пассивны. Он получил приказ, он его выполнит — и дело с концом.
Синчи поднялся, поправил сумку и, взяв привычный для часки темп, устремился вниз, к храму.
До города Синчи добрался только к вечеру. Не так уж близок был этот город; в горах легко обмануться, порой кажется, что до цели рукой подать, а она далека. Усталый, одуревший от коки, Синчи добрался наконец до Юнии.
Войдя во двор храма, он показал жрецу связку кипу.
— Я служу сыну Солнца. Наказ из Куско главному жрецу вашего храма.
Допущенный немедленно к главному жрецу, он предстал перед высоким, худым старцем. Редкие седины едва прикрывали его темя. Глубоко запавшие глаза казались безжизненными.
Жрец взял кипу, развернул его и долго перебирал пальцами узелки, неторопливо покачивая головой. На одном из узлов пальцы задержались, видно, жрец постигал смысл какого-то распоряжения.
Синчи не сводил глаз с этих пальцев. Он не умел читать кипу и не мог понять, как это получается: узелки говорят посвященным то, что им поверил вязавший их человек. Но он знал, что это так. Знал, что жрецу уже известно: в его храме будет принесена жертва.
Отяжелевшие мысли гонца ворочались медленно, голова его была как в чаду. Он должен сказать: «Иллья из Кахатамбо». Иллья… Она всего-навсего камень в самом основании стены. Камень, на который давят сверху. А наверху — камни, не знающие этой тяжести: инки, жрецы, девы Солнца. Такие девы, как эта Илкама из Котакампы.
— Говори! — бросил жрец, все еще держа пальцы на Злополучном узелке. Он поднял глаза и в упор поглядел на бегуна.
Это не Синчи ответил. Какая-то всемогущая сила, может быть, сам Супай, злой, мрачный дух, шепнул ему, разомкнул ему губы. Это, видно, Супай на мгновение помутил его рассудок, омрачил сознание. Разве мог это сделать он сам, Синчи, с малых лет приученный к беспрекословному повиновению, бегун, который знал, что он должен или передать распоряжение, или умереть, влюбленный юнец, спешащий в то же время принести смертный приговор своей Иллье. Сознательно он никогда бы этого не сделал. И то, что он совершил, было ужасно! Это было страшнее бунта, страшнее богохульства.
Синчи забыл приказ, Синчи во весь голос сказал, и это было отзвуком его тревожных мыслей, внезапно мелькнувших в уме:
— Илкама из Котакампы.
— Кто? — спросил жрец, и на его мрачной физиономии выразилось явное удивление.
— Илкама из Котакампы, — повторил Синчи и вдруг пришел в себя. Голова прояснилась, рассеялся дурман коки, им овладел почти животный страх.
Что он натворил? Произнес не те слова, какие ему было велено произнести, назвал не то имя. И уже нет пути назад. Слова не вернешь. Свершилось,
Жрец, пожалуй, не заметил испуга гонца либо объяснил его себе по-иному, так как переспросил с явным изумлением:
— Кто? Тут нет такой девушки.
Синчи уже все было безразлично. Смерть может быть только один раз. Он запутывался все больше и больше, но теперь уже вполне сознательно.
— Это дева Солнца, о святейший. Она направляется сюда из самой Котакампы.
— Дева Солнца? О-о-о! — Жрец еще раз потрогал узелки кипу, слегка пожав плечами. Эти — там в Куско — видно, очень уж опасаются гнева богов, если готовы принести такую жертву. Но это их дело. Если присылают сюда на заклание деву Солнца, пусть так и будет. Возможно, это даже и лучше. Если принести в жертву местную девушку, будет шум, кто знает, может быть, даже вспыхнет бунт. А так люди с интересом сбегутся поглядеть на зрелище, но это никого не тронет. А кроме того, наверняка кто-то там, при дворе, сводит какие-то счеты. Возможно, родич девки какой-либо недруг уильяк-уму. Ибо распоряжение — его. А с уильяк-уму приходится считаться. Поэтому он убьет ее со всеми надлежащими церемониями — и дело с концом.
Жрец обратился к бегуну:
— Ты откуда?
— Я со сторожевого поста, что на Урко, о святейший.
— Из Урко? Округ Кахатамбо? Как получилось, что ты несешь кипу правителя от самого Куско?
Пережитый страх прояснил сознание Синчи.
— Меня направил туда со срочным кипу главный ловчий.
— Ага, и теперь ты возвращаешься на свой сторожевой пункт?
— Нет, святейший! Я… я получил также вот это. — Он показал золотую бляху. Жрец внимательно пригляделся к ней, после чего поднял на Синчи бесстрастный, холодный взгляд. Видно, жрецы в столице придают огромное значение Этим кипу, если даже вручили часки подобный знак. Это их дело, но хорошо будет оказать услугу уильяк-уму.
— Это дает тебе право просить обо всем, что ты захочешь. Ты, наверно, знаешь об этом? Ага, а какое распоряжение ты нес в Куско?
— Я уже не помню, о святейший, — смело ответил Синчи, хотя и задрожал под взглядом жреца. Так глядела на него большая змея, которую он встретил как-то в долине Уальяго.
— Хорошо. Повтори еще раз имя, которое ты назвал сейчас.
— Я уже не помню, о святейший, — сказал еще раз Синчи.
— Хорошо. Так и должно быть. Память часки, покуда он не повторит наказа, обязана быть словно каменная плита, на которую ваятель нанес рисунок. Но когда он передаст приказание, его память должна походить на песчаную отмель, омытую волной.
— Так меня учили, о святейший, — отозвался Синчи.
— Я знаю об этом. Горе часки, который помнит слишком много.
— Я уже ничего не помню, о святейший.
— Хорошо. Ты заслужил награду. Чего ты хочешь?
Синчи склонился в низком поклоне. Отвечал торопливо, словно заранее вынашивал эту просьбу, словно эта мысль не сейчас созрела в его голове.
— В уну Айякучо бог земли был разгневан и поколебал горы. Погибло много людей. Многие айлью будут пустовать. Я хотел бы… я хотел бы получить там дом и надел земли. Но сначала мне хотелось бы получить девушку. Из Кахатамбо. Ее зовут Иллья…
— Погоди! — Жрец был озадачен, почти потрясен скромностью его просьбы. — Хочешь быть простым крестьянином? Разве не лучше получить должность надсмотрщика над невольниками в рудниках или помощника главного ловчего или даже пойти в гвардию сына Солнца?
— Нет, о святейший. Я из крестьян, и для меня существует только земля. И Иллья тоже…
— Хорошо. Это легко сделать. Но не сейчас. Сюда прибывает сын Солнца, будет грандиозное празднество, потом начнется охота. После охоты приходи ко мне со своей Илльей. А сейчас отправляйся к главному ловчему Кахиду, который тебя посылал.
— В Силустани?
— Нет. Инка Кахид уже близко, в крепости Писак. Почему он так интересуется крепостями? Ты не слышал ли чего?
Синчи не выдал себя ни жестом, ни взглядом. Он отвечал быстро, почтительно, спокойно:
— Я не знаю, о святейший. Я провел главного ловчего через горы к Силустани, но он расспрашивал меня только о том, сколько народу выйдет загонять зверей с той стороны. Да, вот еще: ловчий Кахид интересовался, готов ли новый дворец для сапа-инки.
— Для какого сапа-инки? — вдруг спросил жрец, пытливо глядя на гонца.
Но Синчи отвечал по-прежнему спокойно:
— Но ведь на свете только один сын Солнца — сапа-инка Уаскар.
— Ну, ладно, иди, — уже нетерпеливо бросил жрец.
— Но… но, святейший, не мог бы я сбегать в Кахатамбо? Я бы обернулся за один день. И…
— Сейчас не время для этого. Ты должен отправляться в Писак! — гневно ответил жрец. — Твоя Иллья может подождать.
Синчи выходил из храма не торопясь. Вдали за озером виднелись вершины над Кахатамбо, уже подернутые фиолетовыми сумерками. За ночь он поспел бы туда. К Иллье. На сторожевом посту он предъявил бы свою золотую бляху, так же как и старейшине айлью…
Но жрец приказал ему отправляться в Писак, к ловчему. Этот жрец, кажется, способен читать мысли. Лучше бы он побыстрее забыл об Иллье. Поэтому безопаснее идти, куда он приказывает. Зачем возбуждать его гнев.
Пусть сперва здесь принесут в жертву эту девушку, эту деву Солнца, а потом забудут обо всем и займутся большой охотой.
После охоты Синчи предстанет перед Илльей. Но только после охоты.
Лишь на короткое мгновение представил он себе, что произошло. Спасая Иллью, он обрек на смерть деву Солнца Илкаму. Она идет из Котакампы, она уверена, что станет женой сына Солнца, но ее здесь ожидает смерть.
Он отогнал чувство жалости и тревогу, словно назойливую осу. Боги жаждут жертвы. Пусть же в жертву принесут Илкаму, из рода инков, лишь бы жила на свете его милая, простая девушка Иллья.
Глава пятнадцатая
«Уильяк-Уму, верховному жрецу в Куско, докладывает Тапу из Юнии. Жертва принесена, как было приказано. Боги приняли ее благосклонно. Теперь готовится мумия, достойная поклонения».
Такое сообщение часки понесли на юг в тот день, когда Уаскар приказал начать большую охоту.
Илкама, одурманенная отваром из листьев коки, пошла на смерть безмолвно и покорно. Только главная мамакона, опекающая дев Солнца, попыталась вмешаться. Ведь не для этого же она отправила в Юнию лучшую свою воспитанницу. Однако при виде кипу, полученного от самого уильяк-уму, ей пришлось умолкнуть.
Торжественное жертвоприношение, столь редкое в небольших храмах, и охота вызвали всеобщее возбуждение, и никто не обратил внимания на то, что с юга перестали поступать вести. Скоро они не стали приходить и с запада, прекратились сигналы, которые посылал пост на перевале, по дороге, ведущей к морю. Это заметил лишь дворцовый повар, так как к королевскому столу не доставили черепах и свежую морскую рыбу. Но вдоволь было всяческих прочих яств, и он не поднял тревоги.
Весь двор обосновался в Уануко, где на время охоты должна была оставаться койя. Туда уже прибыл и главный ловчий Кахид.
Кольцо облавы, в которой приняло участие все местное население и гарнизоны окрестных крепостей, наконец сомкнулось, и ни один зверь из него не выскользнул. Насколько можно судить, в этом кольце — большие стада вигоней и гуанако, много лесных серн и серн породы пуду, а также оцелотов, маргаев, ягуаров. В южных долинах заметили даже двух или трех черных медведей.
Боги благосклонны, нынешняя охота обещает быть удачнее, чем прошлогодняя.
Когда же незадолго до начала охоты над западными склонами гор показалась огромная яркая радуга — явный знак благосклонности бога Неба, — никто уже не сомневался, что охота будет удачной.
Но Кахид поглядывал на радугу с удивлением. Почему она оказалась на западе, когда сын Солнца отправляется охотиться на восток?
У Кахида было множество всяческих забот, и он недолго раздумывал над странной приметой. Для этого существуют жрецы. Ну, а охота удастся на славу.
Еще ночью зажглись сигнальные костры на вершинах гор близ Уануко, сразу же вспыхнули и другие огни, огненное кольцо опоясало весь район охоты.
Кахид был уверен, что все будет хорошо: на рассвете начнется погоня, люди его отлично вышколены, и они покажут себя… Огромное кольцо, в котором нет ни единого слабого звена, начнет сжиматься, звери окажутся в западне.
Сын Солнца Уаскар (а он обожал охоту) отбыл из Уануко на рассвете, догнал загонщиков и соизволил идти вместе с ними. При властелине остались начальники дворцовой стражи, Уйракоча и Тупак-Уальпа, главный ловчий Кахид и несколько придворных. Остальные с разрешения властителя растянулись далеко вдоль цепи гонщиков. Там им вольготней было охотиться: не надо было уступать первенства сыну Солнца.
Уаскар отправился на охоту, словно на войну, в легком кожаном панцире с золотыми насечками, в золотом шлеме с перьями и в толстых солдатских сандалиях. Он опирался на длинное копье, наконечник которого был отлит из самой твердой бронзы, остер, как бритва, а по краям снабжен глубокими зазубринами. Два телохранителя несли связки легких дротиков.
Синчи, которого Кахид оставил при себе, шел поодаль, вслед за своим повелителем, готовый исполнить любое приказание.
Голова у Синчи была ясной, сегодня он не жевал коки.
Его удивляло, что сын Солнца передвигается точно так же, как и простые смертные, что он потеет, что он порой вынужден отдыхать. Вблизи сапа-инка ничем не отличается от обыкновенного человека.
Однако Синчи вспомнил поучения жрецов, сказания странствующих поэтов, частые разговоры на сторожевых пунктах. Там всегда говорилось, что боги, если они захотят, воплощаются в людей. Наверно, так и есть. Инти, бог Солнца, перевоплотился в первого сапа-инку и теперь живет в его наследниках.
Он неожиданно вспомнил текст послания, которое нес из Силустани в Куско: «Великий инка Атауальпа собрал огромные силы и движется на Куско». Значит, предстоит война…
А ведь инка Атауальпа — тоже сын сапа-инки Уайны-Капака. Значит, и в него вселился бог Солнца. Но как же могут бороться друг с другом двое богов? Ведь может случиться что-то ужасное. Вдруг померкнет солнечный день или разгневается бог Земли и уничтожит людей своей грозной мощью…
Людей он может уничтожить. Но не Солнце. Солнце — божество, более могущественное, нежели бог Земли.
Неожиданно Синчи потянуло к коке. Весь организм его, пропитанный наркотиком, в последние дни жадно требовал этой жвачки. Но сейчас кока была нужна ему во что бы то ни стало. Ведь такие размышления слишком мучительны для простого человека. А стоит только взять в рот эти листья, и тотчас все окружающее уходит вдаль, все становится безразличным, и жить тогда куда легче и проще. Все, о чем он сейчас думал, не имеет отношения к обычным людям — земледельцам, бегунам, рудокопам. Он, Синчи, обязан лишь исполнять приказы, а остальное — не его дело.
Но он подавил искушение и не притронулся к листьям. Ловчий Кахид запретил ему жевать коку. Он приказал Синчи иметь ясную голову, ведь в любую минуту ловчему могла понадобиться помощь. Да и сам Кахид не жует листьев коки. Только однажды на перевале по дороге на Силустани…
Ловчий послал бегунов вдоль цепи, и к нему все время поступали свежие вести.
Хотя ловчий уже дважды отправлял Синчи с поручениями, он все же предпочитал держать юношу при себе. Ведь Синчи хорошо знал местность.
Утром в первый день охоты примчался бегун с юга.
— Говорит Локу, предводитель тысячи, идущей по долине Корас. Убито два небольших оцелота. Большой ягуар ранил одного охотника, но остальные не дали ему прорвать цепь. Он помчался на гору Тайома.
— Это там. — Синчи, отвечая на вопросительный взгляд ловчего, указал на холм, видневшийся среди голых вершин. Небольшие заросли кустов кенны и карликовых кипарисов стлались среди расселин.
— Большой ягуар пойдет по тому оврагу, — добавил он.
Ловчий кивнул, прибавил шагу и догнал властелина, идущего с группой придворных чуть впереди цепи. Синчи видел, как ловчий низко поклонился и что-то сказал, указывая на недалекое взгорье. Повинуясь кивку Уаскара, ловчий обратился к загонщикам и поднял руку. Этот сигнал передали дальше.
Кахид быстро отдавал приказы. Группа из двухсот солдат, идущая далеко за цепью, была на всякий случай вызвана к ловчему и выстроилась у подошвы холма. Потом ловчий подал знак Синчи.
— Веди! Укажи то место, где сын Солнца сможет поразить большого тити.
Они двинулись впятером. Впереди Кахид, за ним Уаскар, потом двое телохранителей с дротиками и Синчи. Бегун был вне себя от возбуждения.
Указать место? Ягуар может идти этим оврагом (там обычно хищники выслеживают добычу), а может и свернуть куда-нибудь в сторону. Зверь уже напуган. Если он уйдет в другое место, то сын Солнца, приложив напрасно столько усилий, никого там не обнаружит. И тогда, пожалуй, ему, Синчи, угрожает неизбежная гибель. Ведь он указал неверную дорогу… Ягуар не пошел по оврагу. Во время неудачной попытки зверя прорваться сквозь кольцо преследователей его тяжело ранили, и он был разъярен. Учуяв ненавистный запах человека, ягуар внезапно выскочил из кустов.
Зверь прыгнул сверху, прямо на одного из телохранителей, в тот момент, когда люди шли узкой тропой по склону оврага. Человек вскрикнул и покатился вниз, выронив оружие. Второй телохранитель, который шел следом за ним, споткнулся и упал на колени, выпустив из рук дротики.
Уаскар мгновенно обернулся, но не смог воспользоваться длинным копьем: ущелье оказалось слишком узким для броска, а зверь был уже рядом. Ягуар замер на каменном карнизе в двух шагах от властелина и приготовился к прыжку.
Инка не отпрянул назад, а только наклонил копье так, чтобы массивный наконечник прикрывал ему лицо и грудь. Но как ничтожна была эта защита против разъяренного ягуара, готового прыгнуть!
Кахид шел с топором впереди властителя и теперь оказался за спиною вождя, прижатый к скале, — он не мог помочь Уаскару, не мог даже прикрыть его своим телом. Но зато за инкой шел Синчи, вооруженный только легким копьем. Когда второй телохранитель упал, Синчи увидел ягуара прямо перед собой. Хвост зверя бил его буквально по ногам.
Все длилось одно мгновение. В ту минуту, когда хищник изготовился к прыжку, копье Синчи вонзилось ему между лопаток. Удар был неудачным, — копье скользнуло по спине, и ягуар повернулся к Синчи. Юноша судорожно вцепился в древко копья и неожиданно отлетел куда-то в сторону, свалившись в заросли колючего кустарника. Он успел лишь заметить, что Уаскар могучим ударом вогнал свое копье в голову заметавшегося зверя, а Кахид с топором бросился на помощь к сапа-инке.
— Не надо, — спокойно остановил его властелин. — Капак-тити уже мертв.
Когда Синчи выбрался из кустов, Уаскар указал на него ловчему.
— Этот человек спас сына Солнца. Нам хотелось бы, чтобы он стал тукуйрикоком дорог или помощником ловчего. Пусть он получит дом в Куско и много золота.
— Склонись к ногам сына Солнца и поблагодари его, — шепнул Кахид, подталкивая удивленного Синчи, который от неожиданности только хлопал глазами.
Он поспешно выполнил все то, что ему было приказано, но сердце его сжалось от тревожного чувства. Дом в Куско? Что от того, что он станет тукуйрикоком или помощником ловчего? Это громадная честь, но тукуйрикоки и ловчие не так уж часто бывают дома. Все время они в пути. А Иллья… Иллья будет одна. И ей не придется по вкусу город. О нет, он, Синчи, предпочитает остаться простым крестьянином, лишь бы рядом с ним была Иллья.
— Потерпи немного. До конца охоты еще два дня, — сказал ему ловчий, с которым Синчи поделился своими сомнениями. — Сын Солнца благосклонен к тебе, я скажу ему о твоей просьбе в подходящий момент. Подожди! Но такого глупца я еще не встречал. Из-за какой-то девки отказаться от высоких должностей! Ну хорошо, хорошо. Получишь свой дом, свой надел и будешь надрываться на нем до самой смерти.
— Но ведь с Илльей, всегда с Илльей!
Глава шестнадцатая
На третий день охоты ловчий Кахид привел Уаскара к облюбованному месту на скале, откуда он наблюдал схватку черного ягуара с медведем. Со скалы можно было видеть стада гуанако и вигоней, беспокойно метавшихся на открытом склоне. Охота будет великолепной. Цепь загонщиков, которую вел Кахид, остановилась, как бы образуя петлю. Именно сюда погонят окруженные стада. А над этой петлей возвышался утес, на котором теперь стоял сын Солнца.
Часки с востока прибыл в ту минуту, когда первое стадо гуанако оказалось под самой скалой. От руки Уаскара пало два зверя. Большая охота началась.
— «Главному ловчему докладывает камайок из Пукальпо, — тяжело дышал гонец. — Я нахожусь в сухом овраге. Стада гуанако пытались прорваться. Мои люди идут сплошной стеной и задержали их».
Чуть ли не в то же мгновение прибыл еще один часки.
— «Главному ловчему докладывает Кохе, тысячник. Я со своими людьми перекрыл овраг с черными стенами. Зверя очень много. Мы его не выпустим».
Кахид удовлетворенно кивнул. Конечно, при этом направлении ветра зверь побежит именно сюда.
Синчи, стоявший за ловчим, слышал донесение, но он так внимательно следил за стадами на равнине, что почти не обратил внимания на гонца. Облава идет хорошо, все благополучно. Сухой овраг и овраг с черными стенами — это самые важные пункты. Именно здесь звери будут пытаться вырваться из западни. А судя по всему, стада сильные и многочисленные.
Неожиданно Синчи весь похолодел. Сухой овраг и рядом овраг с черными стенами… Ему хорошо знакомы эти места!
Он повернулся к ловчему.
— Господин, беда! Цепь облавы может разорваться! Вот здесь!
Он нарисовал веткой на песке оба оврага. Там, где они соединяются друг с другом, есть скала с пологим склоном.
Если зверей погонят по оврагам, то они неизбежно окажутся у этого склона. И смогут выскочить на плоскогорье и уйти от погони! Для них этот пологий склон весьма незначительное препятствие.
Ловчий понял, какая опасность им угрожает. Он быстро взглянул на солнце, определяя время. Облава продолжается в том же темпе. Прежде чем гонец доберется до цепи гонщиков и новый приказ дойдет до тех, что вступили в овраги… Проклятье! Оба часки умчались, при нем один только Синчи. Но ему не удастся остановить людей в обоих оврагах. А в это время звери обнаружат путь к спасению!
Кахид тотчас же принял решение и обратился к Уйракоче, командиру отряда дворцовой гвардии, сопровождавшему властелина. Быстро, глотая слова, он объяснил Уйракоче, что происходит. Времени мало, каждая секунда дорога, и никого нет, кроме гвардейцев.
Уйракоча поймал благосклонный взгляд Уаскара и тотчас же отдал приказ. Колонна, вместе с которой проводником пойдет Синчи, немедленно двинется «к востоку. С Уаскаром остается лишь несколько придворных и стражей-телохранителей со связками легких дротиков.
Отряд дворцовой гвардии продвигался очень быстро. Однако Синчи представлялось, что даже черепаха и та ползет гораздо проворнее. Стада, появившиеся вдали, казалось, все направлялись в одну сторону — к оврагам, завершавшимся спасительным для животных склоном.
О да! Солнце не зажгло священного огня в день Райми, а девушку, принесенную в жертву, боги, видимо, не приняли, так как он, Синчи, подменил распоряжение. Ведь должна была погибнуть не дева Солнца, а Иллья.
Теперь Инти, бог Солнца, а также бог Ветра будут разгневаны и охота не удастся. А потом проявит свой гнев бог Земли, сотрясая горы, разрушая дома. Начнется голод, и все лишь потому, что он, Синчи, подменил имя. Передал ложный приказ. Он пытался обмануть самих богов. Он обманул их, чтобы спасти Иллью.
Сжав губы, хмурый и сосредоточенный, он бежал впереди отряда. Хорошо. Пусть боги ниспошлют кару. Пусть будет голод, пусть будет землетрясение, но пусть Иллья останется в живых. Только это важно.
Синчи остановился на краю какой-то расселины, показал рукой на пологий склон скалы на другой стороне и принялся быстро объяснять Уйракоче:
— Здесь сухой овраг. А там — скала, о которой я говорил. О господин, высокий господин, там стада гуанако! Там, на склоне! И вигони! Они уже бегут к плоскогорью! Боги, мы прибыли вовремя!
Воины рассыпались цепью и устремились вперед, словно в гущу битвы. Плотной цепью они окружили пологий склон, Десятка полтора гуанако успело к этому времени подняться по скале и уйти в горы, но остальные пали под копьями гвардейцев. Стада, плотно сбившиеся у подножия скалы, кружили на месте, животные не решались теперь идти вверх.
Когда воины, разгоряченные охотой, кинулись на скалы, стада повернули и устремились в обратном направлении.
Синчи перевел дух и отер пот с лица. Уйракоча знает, как поступить. Он быстро выдвинет всех своих воинов вперед и наглухо закроет образовавшуюся брешь. Полтора десятка животных ушли, но это пустяк по сравнению с теми тысячами, которых настигли в оврагах.
Синчи повернулся и отправился к ловчему. А может быть, боги все-таки приняли жертву и уже сменили гнев на милость? Когда начиналась охота, появилась радуга. Самый священный и самый отрадный знак.
Синчи добежал до черной скалы, задыхаясь, весь в поту, но лицо его сияло. Ловчий Кахид бросил на него взгляд, кивнул и тотчас же отвернулся. Он был доволен — дворцовой гвардии удалось закрыть единственную брешь; теперь уже не было сомнений: охота окончится удачно.
Стада гуанако и вигоней, словно морские волны, время от времени выплескивались из оврагов, но, натыкаясь на цепь охотников, тотчас же откатывались назад и снова кидались к выходу, прегражденному загонщиками. В оврагах их скапливалось все больше и больше. Они то кружили на месте, то замирали, вытянув длинные шеи, то снова обращались в напрасное бегство.
Со всех сторон их теснили цепи преследователей. Люди кричали, звенели копья и щиты, пылали факелы. Наконец все животные ринулись в одном направлении, туда, где не слышалось шума, где их ждал Уаскар со своими придворными.
Сам сын Солнца вскоре забыл обо всем на свете и только радостно вскрикивал. Он неустанно метал копья, бил почти без промаха, телохранители едва успевали ему подавать их. Он издалека сразил ягуара, пересекавшего ущелье, а когда показался черный медведь, правда не такой громадный, как тот, которого видели здесь когда-то Кахид и Синчи, властелин выхватил из рук ловчего тяжелое копье, спрыгнул со скалы и поразил медведя прямо на глазах всей свиты. Ловчий улыбнулся Синчи. Он уже не сомневался теперь, что сын Солнца будет удовлетворен этой охотой.
Внезапно он нахмурился. Что-то обеспокоило Кахида, он тревожно всматривался вдаль, за линию облавы.
— Разве Уйракоча уже распорядился отозвать своих людей? — удивился он.
— Нет, господин. Он рад, что помог охоте, так как здесь…
— Однако он приближается! Гляди!
Синчи тоже обернулся. Вдали, на широком нагорье что-то поблескивало в лучах солнца. Да, бесспорно, сюда шли вооруженные люди.
— Да, господин, идут. Но… только это не достопочтенный Уйракоча. У того всего лишь две сотни людей, а там движутся…
Он умолк. У Кахида тоже было прекрасное зрение, и он понял, что происходит. С вершины горы приближалось целое войско, в полном боевом порядке, готовое к схватке. Над головной частью отряда, где снаряжение воинов ярче всего поблескивало на солнце, плыло большое знамя. Оно реяло на ветру, и семь красочных полос, чередующихся в том порядке, в каком они сменяют друг друга на радуге, видны были уже вполне отчетливо.
Знамя с радужными полосами?! Знамя, которое несут только над головою самого сапа-инки? Что это значит?
Ловчий вскочил на край скалы. Как раз в этот момент новое стадо вигоней вынырнуло из оврага, и Уаскар, целиком поглощенный охотой, сбросил панцирь и шлем, чтобы ничто не стесняло его движений. Он метал копья одно за другим, радостно вскрикивая после каждого удачного удара. И почти каждый его удар был удачным.
Ловчий подошел к властелину.
— Сын Солнца, соблаговоли оглянуться назад! О сын Солнца!
Когда Уаскар только гневным взмахом руки отогнал дерзкого, Кахид торопливо бросил несколько слов на языке инков.
Сын Солнца, сапа-инка Уаскар, владыка мира, теперь грозно сдвинув брови, обернулся, все еще сжимая в руках копье.
— Что ты говоришь?
— Что это за войско, сын Солнца, движется под твоим знаменем?
— Не понимаю. Эй, Уйракоча!.. Ах да, он ведь ушел. Тупак-Уальпа, что это за войско?
Второй предводитель дворцовой гвардии спокойно глядел вдаль.
— Это сын Солнца, сапа-инка Атауальпа, старший сын Уайны-Капака, властитель Кито, идет, чтобы взять в свои руки принадлежащий ему город Куско, — ответил он, вызывающе глядя в глаза своему недавнему повелителю.
Уаскар медленно опустил зажатое в руке копье.
— Атауальпа? Ведь были вести, что он остановился в Кахамарке. Что он хочет помириться…
Он резко бросил стоящему подле него придворному:
— Подай мне льяуту, венец с перьями священной птицы коренкенке и мой золотой топор!
Однако Тупак-Уальпа жестом остановил придворного.
— Не надевай отличий сапа-инки, Уаскар! — сурово сказал он. — Один только сын Солнца Атауальпа имеет право на них!
— Предатель!
— Я следую за старшим, который один имеет право на трон.
Уаскар огляделся по сторонам. Большинство придворных рассеялось, часть сгрудилась возле Тупак-Уальпы. Только ловчий Кахид остался рядом с прежним властелином. Никто уже не обращал внимания на животных, которые все чаще прорывались на плоскогорье, но, завидев приближающуюся массу людей, снова бросались в сторону.
— Мой шлем! — приказал Уаскар, протягивая руку назад, а когда Кахид подал ему шлем, властелин подошел к ближайшему камню, несколько напоминавшему трон, и уселся на нем, приняв традиционную позу мумии из храма Кориканчи.
Он не пошевелился, когда солдаты ворвались на скалу, разоружая безропотных придворных, и когда какой-то воин подошел прямо к нему.
Воин был худощав, среднего роста, но плечи и бедра с узлами крепких мускулов, не прикрытые солдатской туникой, выдавали его недюжинную силу. Он шел легко и упруго, и в его шагах чувствовалось что-то зловещее. Что-то затаенное… Так ягуар подкрадывается к своей жертве.
Оружие воина было украшено золотом. Уши оттягивали большие серьги со смарагдами, а рука сжимала обоюдоострый боевой топор, рукоять которого тоже была вся в золоте.
Но не это приковало к нему все взоры. Пурпурную повязку из шерсти вигони с драгоценной золотой застежкой на голове пришельца венчали два длинных темно-зеленых переливающихся радужными красками пера.
Синчи вдруг вспомнил некогда доставленное им сообщение:» В долину под Уаскараном прибыли люди великого инки Атауальпы. Они убили священную птицу коренкенке и унесли ее перья «. На голове пришельца, видимо, как раз перья священной птицы — птицы-уака. Это самая главная уака.
Эти перья носит только сам властелин. Сапа-инка, сын Солнца. А Уаскар сидит на камне, и у него на голове нет повязки с перьями. Что это значит? О боги, что все это значит?
Пришелец остановился перед Уаскаром, который по-прежнему сидел не шелохнувшись, смерил его взглядом с головы до ног и затем громко сказал:
— Встань, Уаскар, сын сапа-инки Уайны-Капака, и поклонись мне, своему старшему брату, который по воле самого могущественного духа Виракочи и всех остальных богов стал властелином Тауантинсуйю! Это говорю я, Атауальпа, сын Уайны-Капака, сапа-инка.
Уаскар не дрогнул, казалось, он лишился слуха.
Атауальпа рассмеялся.
— Я знаю, о чем ты думаешь. О своей дворцовой гвардии. Но Уйракоча — мой человек, и солдаты подчинились его приказу. Знай также, Уаскар, что твои войска, те, что пошли к Уальяго, уничтожены или сдались в плен, а те, что двинулись к уну Анкачс, вынуждены были отступить через безводную пустыню. И никто из них не останется в живых.
Уаскар молчал. Атауальпа снова заговорил, на этот раз уже с раздражением:
— Сегодня в Куско мои сторонники оповестят народ, что отныне их властелин — сын Солнца, сапа-инка Атауальпа. Все крепости взяты или добровольно перешли на мою сторону. Силустани, Ольонтай, Акора, даже Саксауаман! Понимаешь? Даже Саксауаман! В недобрый час отправился ты на охоту, Уаскар! Но склонись предо мной, и я признаю тебя своим братом, оставлю при дворе.
Внезапным стремительным движением Уаскар отвел руку назад, готовясь поразить Атауальпу копьем прямо в горло. Однако столь же молниеносно и совершенно непроизвольно Синчи, все еще стоявший за спиною прежнего властелина, вырвал копье из рук Уаскара. Он видел, что голову этого чужака, Атауальпы, украшают перья священной птицы коренкенке. Значит, и сам Атауальпа — святыня, уака, неприкосновенная и божественная.
Уаскар не повернул головы, казалось, он даже не почувствовал, что копье вырвано из его рук. Он сказал:
— Отдайся мне на милость, Атауальпа, и тогда я прощу тебя. Я помню, что мы сыновья одного отца.
Атауальпа расхохотался и, не обращая больше внимания на Уаскара, обратился к Синчи:
— Ты спас мне жизнь. Как твое имя и кто ты?
— Я Синчи, — покорно ответил бегун, падая на колени и припадая челом к земле. — Я простой часки, сейчас выполняю поручения главного ловчего.
— Отныне ты будешь моим часки-камайоком.
Потом он повернулся к ловчему Кахиду.
— Ты главный ловчий? Один из тех придворных, что не приходили ко мне? Но это ничего не значит. Мы будем жить в мире. Охота, как я вижу, идет отлично, поэтому мы продолжим ее. Люди не должны остаться без сушеного мяса. Эй, Тупак-Уальпа, проводи инку Уаскара, как было решено, в крепость Силустани! Держите его там, пока я не скажу, что делать с ним дальше.
— Ловчий Кахид, смотри! Охота идет плохо, зверь бежит! А что будет с людьми этого уну, если кончатся запасы сушеного мяса? Быстрее! Сомкнуть цепь! Пошевеливайтесь! Сейчас увидим, хуже ли я владею копьем, чем мой брат Уаскар.
Атауальпа так увлекся охотой, что даже не заметил, как внезапно исчез куда-то главный ловчий Кахид. И никто не мог сказать, когда он скрылся и в какую сторону направился.
Глава семнадцатая
Когда охота окончилась, Атауальпа задержался в Уануко, ожидая известий от своих войск, которые шли вдоль побережья (через уну Куанса, Пьюра, Анкачс), вслед за отступавшим войском Уаскара.
Уильяк-уму, неожиданно появившийся при дворе Атауальпы с вестью о захвате столицы, посоветовал новому властелину отправиться на юг.
— Сейчас самое время, не откладывая ни на минуту, начать работы в поле Вся страна ждет, когда будет подан знак. Ведь сын Солнца должен взрыхлить золотой мотыгой священную землю у храма на озере Титикака.
— Знак начала полевых работ я могу подать и отсюда. Любое поле, которое обрабатывает сын Солнца, становится святыней. Когда я был властелином страны кечуа, я подавал знак из Кито, а не с острова на озере Титикака, и тем не менее боги были к нам благосклонны. Завтра устрой здесь торжественное празднество, и будет подан сигнал к началу полевых работ. А Синчи пусть сделает так, чтобы весть тотчас же была отправлена по всем дорогам.
— Туда вести не пройдут, — мрачно буркнул жрец, поглядывая на видневшиеся вдали горы Уайуач.
Атауальпа молча кивнул.
Почему то все вести из-за этих гор перестали поступать. Сторожевой пост на перевале Отуско сообщил, что с запада известия не приходят, а бегуны, побывавшие в той стороне, обнаружили четыре пустых, покинутых сторожевых поста. С южной части побережья, из уну Ика, поступали какие-то странные вести Сообщали оттуда, будто люди бегут, где-то сражаются какие-то войска и что реки там вышли из берегов после бурных ливней.
По главному тракту из Кито сообщения доставлялись урывками, с большим запозданием. Вести эти уильяк-уму вместе с новым властителем изучали со все растущим беспокойством.
Доносили, что сильный отряд воинов отправился, чтобы захватить в плен странных пришельцев, вселявших ужас и изумление. Но они совсем не похожи на богов. Это люди, но только плохие. Близ города Тумбеса, в местах, где высадились пришельцы, они расхищают золото и драгоценности, насилуют девушек, убивают домашних животных — лам, в том числе и самок. Они оскверняют храмы. Кожа у них отвратительного, почти белого цвета, лица покрыты густой растительностью, как у обезьян. Пришельцы передвигаются очень быстро, их несут на себе какие-то большие ламы. У них невиданное оружие и блестящие, словно отлитые из серебра, латы. Но металл этот гораздо крепче серебра. Мечи из него тверже тех боевых топоров, которыми вооружена гвардия сына Солнца.
Жрецы вначале думали, что пришельцы — посланцы бога Моря, ибо они прибыли на удивительных плавучих домах, или же что они — вестники бога Грома и Молний, так как сами мечут молнии. Однако, когда увидели, что молниями белые убивают лам, даже самок, как молнией они поразили девушку, которая вырвалась от них и убежала, то уже не оставалось никаких сомнений, что если их и прислал какой-то бог, так только сам Супай.
К Тумбесу направили сильный отряд воинов из уну Пьюра; кипу, сообщавший об этом, был связан в спешке, и уильяк-уму с кипу камайоком так и не могли понять, сколько же в конце концов было воинов — четыреста или пятьсот. Никто из них не вернулся. Только люди из окрестностей города Корас бежали, оповещая всех, что где-то близ Тумбеса полдня полыхали молнии.
Помрачнел Атауальпа, выслушав все эти вести, с тревогой поглядывали на сапа-инку и его советники. Как бороться с людьми, которые мечут молнии? Действительно ли они люди?
Потом пришли известия из Кахамарки. Белые заняли Корас, ограбили храм и дворец давно умершего сапа-инки Пачакути, разорили дома, убили всех, кто оказывал сопротивление. Теперь они приближаются к Кахамарке.
Прежде нежели Атауальпа успел принять какое-либо решение насчет Кахамарки, большого города, расположенного на главной дороге Кито — Куско, города, где почти не было войска, ибо всех солдат он забрал с собой, отправляясь в поход против брата, поступили новые вести из приморских районов Плохие вести.
В уну Анкачс неожиданно начались ливни. Такие ливни случаются там каждые семь лет, и их ожидали только через год, но они разразились именно сейчас, и с такой силой, что во многих районах начались наводнения. Долины мелководных рек превратились в сплошные бурные потоки, и войска вынуждены были искать спасения в горах, на пустынных плато. А поднимающиеся из приморских долин туманы в этом году были более густые и промозглые, чем обычно.
Воины Атауальпы — а они в большинстве своем горцы, не привыкшие к сырости, — почти все больны, охвачены страхом. Им кажется, что какой-то бог разгневался на них. А в это время войска Уаскара в полном порядке отошли к уну Ика, где нет дождей и туманов, и наращивают силы, так как на помощь им из южных областей страны спешат новые отряды.
— Чтобы ударить на уну Ика, необходимо отступить до самого Куско, — советовали Уйракоча и Тупак-Уальпа, — оттуда к приморским долинам ведет немало хороших дорог. Сын Солнца войдет в столицу, торжественно воссядет на трон, представ перед народом, а потом выступит с основными силами и сокрушит последний оплот сопротивления, И чем быстрее народ забудет об Уаскаре, тем лучше.
Этот план поддерживало большинство придворных, но уильяк-уму советовал поступить иначе.
Уну Ика очень бедно. Войска не смогут там долго продержаться. Достаточно перекрыть перевалы на западных склонах гор, и последние преданные Уаскару отряды рассеются. Главные силы необходимо бросить против неведомых белых пришельцев. Народ не должен знать, что кто-то безнаказанно грабит храмы и убивает жрецов, не должен из уст в уста передавать слухи, а они уже поползли по стране; слухи, будто посланцы Супая оказались сильнее всех.
Войско Уаскара не страшно. А эти пришельцы — словно боевой топор, рассекающий целостность Тауантинсуйю.
После долгих раздумий Атауальпа приказал стянуть все войска и выступить в северном направлении. Против белых.
Глава восемнадцатая
Пиуарак, прежде камайок бедной пачаки на склонах гор, близ Кито, один из преданнейших сподвижников Атауальпы, был назначен правителем уну Юнии. Прямо с места охоты он отправился в свою новую резиденцию, не встретив на месте никакого сопротивления. Хотя город Юния был обнесен массивными стенами, сложенными из громадных камней, перед ним ворота покорно распахнулись.
Главный жрец храма Солнца, инки, управляющий складами, начальник гарнизона, должностные лица — все вышли к воротам, сверкая золотыми украшениями, и ни у кого и? них не было оружия.
Новый правитель уну медленно приближался; его плащ простого воина был покрыт пылью, и только тяжелые золотые серьги указывали на его высокий пост. Да еще, пожалуй, обоюдоострый боевой топор, который, подходя к городу, Пиуарак взял у одного из своих приближенных, отдав тому обычное солдатское копье, в дороге служившее ему посохом.
На приветствия прибывший отвечал сдержанно. Сказал, что все останется по-прежнему: сын Солнца, сапа-инка Атауальпа, подлинный наследник своего великого отца Уайны-Капака, уважает старые законы и обычаи. Тот, кто признает Атауальпу и станет верой и правдой служить ему, может рассчитывать на его покровительство.
— Теперь веди меня во дворец, — обратился он к старому кураке, который управлял дворцами всей округи.
— В какой дворец, великий господин? В тот, где жил прежний правитель уну?
— Нет. Во дворец Уаскара.
Собравшиеся в замешательстве поглядели друг на друга. Наконец курака отважился сказать:
— Действительно, здесь есть дом бывшего властелина. Он обычно там отдыхал, когда отправлялся на охоту. Двух женщин он сделал там своими женами. Но… но, великий господин, обычай повелевает, чтобы дом прежнего властителя оставался незанятым и чтобы туда никто не входил…
— Я сам знаю законы и обычаи. Этот обычай относится только к умершим сынам Солнца. А Уаскар жив. Веди!
— Пусть будет так, великий господин. Однако там сейчас главная мамакона. Она готовит к смерти тех женщин, которых сапа-инка удостоил своей благосклонности.
— Забудь об этом! — Пиуарак гневно оборвал его. — Вас не посещал никакой сапа-инка… Постой, а эти женщины, это что, девы Солнца?
— Да, великий господин.
— Значит, они нарушили обет. Мамакона должна мне ответить теперь, какое наказание ждет деву Солнца за утрату девственности. Ведь они не были женами настоящего сапа-инки.
Кто-то успел предупредить мамакону, и та встретила нового наместника перед дворцом. Она заискивала и раболепствовала перед прежним властителем, а теперь приняла гордую позу, закутавшись в плащ из тонкой шерсти, плащ, который могли носить лишь койя и главная мамакона; ее украшали бесценные золотые браслеты, серьги, ожерелья. Золотое, тщательно отшлифованное зеркало на длинной ручке, которое она держала в правой руке, было немногим меньше зеркала самой койи.
Она не поклонилась и вызывающе взирала на нового правителя.
С минуту Пиуарак и мамакона молча глядели друг на друга. Первым заговорил Пиуарак:
— Моих ушей достигла молва, что две девы из числа находящихся под твоим надзором, почтеннейшая, нарушили обет чистоты. Какое наказание полагается за это?
— Смерть! — коротко ответила женщина.
— Ты правильно сказала. Пусть же они погибнут. Сапа-инка Атауальпа приказал мне свято соблюдать законы и обычаи страны. Так пусть же они погибнут.
— Да, они умрут, но это будет не карой, они умрут с почетом. Как и положено по обычаю вдовам сапа-инки.
— Они не вдовы, ведь Уаскар жив. Ведь эти девки…
— Они не знали ни о чем. Я сама…
— А надо бы знать. Уильяк-уму уже три месяца давал понять тебе, почтеннейшая, что это должно случиться. Ты боялась поверить. Теперь же тот, кто поверил, пребывает в милости, а тот, кто оказался в стороне…
В его голосе прозвучали угрожающие нотки. Мамакона смутилась. Однако она тотчас же взяла себя в руки, подошла к наместнику и зашептала:
— Эти две умрут так, как ты повелишь, великий господин. Однако, может быть… может, ты только утром выскажешь свою волю? Ведь это самые красивые девушки во всем Кондесуйю. Ты сказал истинную правду, господин: если Уаскар жив, то вовсе незачем оставлять дворец для его духа. Соизволь войти и занять его.
— Я займу его и без твоего разрешения.
Мамакона сделала вид, будто не расслышала слов наместника, и снова торопливо прошептала:
— Здесь есть еще шесть дев Солнца. Одна другой прекраснее. Скажи только слово, и я прикажу им нарушить обет. Прикажешь, потребую новых. Из Чапаса, из Айякучо…
Пиуарак заколебался и огляделся вокруг. Прежний правитель уну, решив, что беседа с надзирательницей дев окончена, нерешительно приблизился.
— Великий господин, изволь выслушать, пришли крестьяне из селения Кахатамбо, они с раннего утра ждут тебя. У них какая-то просьба к тебе.
— Просьба? Я теперь уши и глаза моего господина, сапа-инки Атауальпы. Пусть все знают, что просьбы простого народа незамедлительно выслушиваются. Пусть же крестьяне войдут и убедятся, что при новом властелине торжествуют прежние законы и справедливость.
Крестьяне как раз и просили, чтобы соблюдались прежние законы. Они жаловались, что до сих пор не получен приказ начать полевые работы, хотя пора для этого давно наступила; они сетовали на то, что при переделе земельных участков в этом году не оказалось ни одного камайока. А старейшина их айлью…
— Это некий Бичу, великий господин. Очень скверный человек.
— Забери его от нас, великий господин.
— Он взял себе самый лучший надел. На нижней террасе. Там, где в прошлом году у Уачи уродилась вот такая кукуруза.
— А старому Учу, прекрасному земледельцу, отвел участок у самой вершины. Такому старику! Он сделал это нарочно.
— Известно. Все дело в том, что дочь старика не согласилась…
— Если уж говорить о девках, то от этого Бичу с их помощью можно добиться всего.
— Великий господин, разве это справедливо? Нас с каждым годом становится все больше и больше, а земли не прибавляется.
— А откуда ей взяться? Земля возделана до самой вершины. Прямо смех один. Уж и не знаешь: то ли мы люди, то ли вигони?
— Для кого, может, и смех! Да только не для крестьянина!
— Великий господин, где же справедливость? Мы слышали, теперь новый сын Солнца. Может быть, он смилостивится над нами и выслушает нас. Лишь одна треть земли остается нам, хотя с каждым годом едоков все больше и больше. Вторая треть земли — для храма, третья — для сына Солнца. Человек работает, он все выше забирается в горы, но только одна треть земли достается ему. Пусть повелитель отдаст новые террасы крестьянам!
— А теперь даже камайок не явился Делите, мол, сами! И что нам делать, новый господин, мы не знаем. То женщины поднимают крик, то старики…
— Есть такие, что уже готовы и общие стада поделить. Это моя лама, и тебе до нее нет дела.
Пиуарак гневно оборвал их.
— Пусть только посмеют! Ни земля, ни стада не могут быть ничьей собственностью! Это старый закон инков, так будет и впредь! Твоё — одежда, домашняя утварь и то, что ты получишь из государственного склада. Каждому — что причитается. Земля общая, стада тоже. Так порешили сапа-инки, так и будет. Кто назначен земледельцем или пастухом, тот обязан выполнять свое дело. Кто определен на постройку храмов, крепостей или дорог, кто отправлен в рудники, те, что разносят вести, — каждый обязан выполнять свое дело. У каждого свой дом, каждый получает достаточно ткани для одежды, каждому выдаются припасы из государственных складов. А как они будут пополняться новыми запасами? Сами собой? Для этого и существуют земли сапа-инки, которые вы обрабатываете. Запомните, что две вещи святы и нерушимы: земля и закон сапа-инки. Не только человек, но даже и самая священная мумия когда-либо превратится в прах. Закон же вечен и неизменен. Закон велит, чтобы каждый делал то, что ему назначено. Вы, крестьяне, кормите всех, за это вам дают и одежду и утварь, вас охраняют воины сына Солнца. Каждый должен быть на своем месте — и да существует вечно и вечно процветает великая держава Тауантинсуйю!
— Это нам ясно, великий господин. Конечно, это справедливо. Только вот женщины иногда…
Мамакона вспомнила что-то и прошептала наместнику:
— Великий господин. Кажется, здесь в селении Кахатамбо есть красивая девушка. Ее зовут Иллья. Она еще не замужем.
Пиуарак едва заметно кивнул.
Затем он благосклонно обратился к делегации:
— Сын Солнца, сапа-инка Атауальпа, взрыхлит золотой мотыгой священную землю в ближайшие дни. Что же касается передела ваших участков, то я вижу, что вас действительно обижают. Я хотел бы выслушать также и женщин. Они подчас тоже бывают правы. Пусть ко мне явится девушка по имени Иллья и скажет мне, что на этот счет думают женщины. Я выслушаю ее и окончательно все решу. Да будет так!
Он отвернулся от изумленных просителей и буркнул мамаконе:
— Думаю, что твои девки останутся живы и что ты сохранишь свое место. Я тотчас же направлю часки и распоряжусь, чтобы девушка из Кахатамбо явилась сюда.
— Я буду послушной слугой сына Солнца Атауальпы, — с поклоном заверила его старуха.
Глава девятнадцатая
Синчи медленно приближался к Юнии. Новое назначение он принял покорно, ожидая случая, чтобы снова просить о земле и об Иллье. Временами он испытывал даже радость и гордость, особенно при мысли о том, как вытянутся лица у его прежних товарищей, когда они увидят, какая он теперь важная фигура.
Часки-камайок самого сына Солнца! Стоит ему захотеть — и он назначит бегуном любого юношу; помешать ему здесь не сможет никто, даже сам курака. Захочет — и пошлет распоряжение, какое только ему заблагорассудится. Захочет — задержит весть, пусть даже с самого края света. Только он имеет на это право.
Синчи приближался к сторожевому посту уже днем, издалека наблюдая за движением по дороге. Где-то со стороны города Чапас взвился сигнальный столб дыма и — издали видная в прозрачном воздухе — появилась маленькая фигура бегуна. По всей равнине сновали люди, — ведь уже два дня назад сын Солнца, сапа-инка Атауальпа взрыхлил золотой мотыгой землю у храма в Уануко, и он, Синчи, сделал так, чтобы эта весть мгновенно разнеслась по всей стране. Видно, и здесь, в долине, это известие уже получено.
Бегун приближался, тяжело дыша: дорога шла в гору. В руках у него не было связки кипу.
« Вероятно, какая-нибудь важная весть «, — подумал Синчи, и вдруг ему захотелось испытать свою новую власть. Он стал посреди дороги и поднял руку. Часки остановился, удивленный и негодующий.
— Ты что, с ума сошел? — разгневанно выдохнул он. — Разве ты не знаешь, какое наказание грозит тому, кто остановит часки? Пропусти меня: я бегу по повелению сына Солнца!
Синчи гордо усмехнулся и показал бегуну свою бляху. Часки с недоверием поглядел на нее, потом перевел взор на четырех сопровождавших Синчи воинов и, наконец, осознал истинное положение вещей. Он поклонился.
— Что за известие ты несешь?
— Срочное сообщение в Куско. К самому сыну Солнца.
— Кто направил тебя? Сын Солнца Атауальпа сейчас в Уануко вместе со всем двором и советниками. С какой стати посылать известие в Куско? Повтори мне, что тебе поручено сообщить.
Часки заколебался, еще раз бросил взгляд на золотой знак и принялся докладывать:
— Сыну Солнца, сапа-инке докладывает и бьет челом инка Локоче, правитель уну Кахамарка. К нам приближаются белые люди на больших ламах. Они уже уничтожили по пути наших воинов. Разорили храмы. Я собираю бойцов и иду, чтобы умереть в битве. Это последнее донесение из уну Кахамарка.
Синчи, который уже дважды слышал об удивительных белых пришельцах, хмуро выслушал новую весть.
Решение принять было нетрудно.
— Возвращайся на сторожевой пост и скажи начальнику, чтобы эту весть тотчас же доставили в Уануко. Зажечь два сигнальных огня!
— Я сделаю так, как ты приказываешь, господин.
Бегун повернулся и заторопился обратно, словно неожиданно осознав всю важность того известия, которое он нес.
— Как бежит! Любо поглядеть! — засмеялся один из воинов, а другой добавил:
— Приближается еще гонец. Задержать его, господин?
Синчи кивнул.
Со стороны Юнии действительно бежал другой часки. И у него не было кипу. При виде воинов, преградивших ему дорогу, он остановился и без колебаний принялся по их требованию пересказывать содержание приказа.
— Бичу, старейшине в айлью Кахатамбо. Приказ от инки Пиуарака, правителя уну Юнии: девица Иллья обязана явиться в тамбо над озером и ожидать дальнейших распоряжений. Ты отвечаешь своей головой за выполнение приказа.
— Кто? Кто должен явиться? — Синчи показалось, что он ослышался.
— Иллья. Какая-то девушка из Кахатамбо. Иллья…
— Великолепная работа, господин! — загоготали воины, когда часки, получив неожиданный удар древком копья, на которое перед тем опирался Синчи, со стоном свалился на дорогу. Он медленно поднялся, держась за голову и боязливо поглядывая на этого странного сановника, который сразу же начинает бить. И за что? Ведь часки только повторяет приказ!
Синчи уже научился принимать быстрые решения. На Этот раз он и вовсе не раздумывал.
— Возвращайся на свой сторожевой пост. Ты обязан забыть об этом распоряжении. Поплатишься головой, если тотчас же его не забудешь!
— Господин, инка из Юнии приказывал…
— Я приказываю всем часки! Ты должен забыть!
— Я уже забыл, великий господин.
— Вы, — обратился Синчи к сопровождавшим его воинам, — отправляйтесь вместе с ним в Юнию, охраняйте его, чтобы он не болтал, и ожидайте меня.
Синчи остался один. Он машинально мял в руках походную сумку, оставленную одним из сопровождавших его воинов, словно изучая ее содержимое. Неожиданно Синчи различил шелест листьев коки, запас которых был сделан на дорогу без его ведома. Он испытал минутное искушение, ему захотелось погрузиться в блаженное состояние безразличия, чтобы не мучиться. Но он тотчас же пересилил себя.
Здесь речь идет об Иллье. Инка из Юнии знает о ней и хочет ее заполучить. Он, Синчи, не сможет помочь девушке, если у него затуманится разум.
Но хотя Синчи теперь большой камайок, он ничего не может придумать. Инки всегда выбирают себе тех девушек, каких захотят. В его же власти одни только бегуны.
Синчи взглянул в сторону Юнии. Бегун, которого он вернул, уже скрылся из глаз. Он прибудет на свой сторожевой пост, пожалуется, что его ударили, объяснит, кто задержал его. И сообщит, что поручение не отправлено дальше.
А начальник поста, хотя бы ради того, чтобы завоевать благосклонность нового инки, сообщит об этом в Юнию. Инка снова направит приказ о том, чтобы Иллья…
Синчи не колебался. Не разумом, сердцем понял он, что все остальное, кроме Илльи, не имеет значения. Итак, приказание инки не достигнет Кахатамбо. Пусть даже ценою того, что никакое другое распоряжение уже не дойдет до места назначения.
Он пустился бегом, сразу же набрав свой обычный ровный темп. До следующей сторожевой заставы было недалеко, и, миновав вершину горы, Синчи увидел ее прямо перед собой. Он совсем не утомился и приказание начальнику поста отдавал спокойным тоном, предварительно показав ему свою бляху.
— По повелению сына Солнца, сапа-инки Атауальпы. Ни одно известие не должно быть отправлено на юг. Ты своей головой отвечаешь — ни одна весть! Сейчас же пошли людей на ту дорогу, которая ведет к Напо и на тракт от Юнии к Силустани, пусть и там они повторят этот наказ!
— Будет, как ты приказываешь, господин.
В тот же день в долине Юнии были задержаны кипу от командующего войсками в уну Анкачс, который просил помощи против большого войска, верного Уаскару, а также от правителя Чинчасуйю к командующему в Майомамбо. Тот должен был перевалить через горы, нанести удар по обозу белых пришельцев над морем и после этого выйти с тыла к Кахамарке, в то время как главные силы будут атаковать белых с юга.
Эти приказы и известия задержали в Юнии.
Но о последствиях своего распоряжения Синчи не знал, он даже не подумал об этом, торопясь в Кахамарку.
Он рассуждал просто. Иллье грозит опасность. Наверное, Супай разгневался на нее. Сначала жрец в Куско, теперь этот инка… Дважды он спас ее, однако нельзя надеяться, что ему и впредь повезет. Если и жрецы и инки ополчились против Илльи, то спасение необходимо искать только у более высоких сил. У самых высоких. Сын Солнца благоволит к нему, может быть, он снова проявит снисхождение и не оставит его своей милостью.
Сын Солнца собирался выступить против белых, которые захватили Кахамарку. Стало быть, надо искать его где-то в тех краях. И тотчас же.
Глава двадцатая
Писарро слушал не прерывая, нахмурив брови. Его рука как бы машинально ощупывала орнамент на тяжелом золотом диске, лежавшем на столе. Рыцарь дон Хуан Рада умолк на полуслове, раздраженно засопел, внезапно придвинул к себе ногой тяжелый резной столик и сел, вызывающе подбоченившись.
— Ваша милость, еще короли Арагона даровали моим предкам привилегию сидеть в их присутствии. А я очень устал.
— Но поскольку вы сейчас находитесь всего лишь перед наместником его католического величества короля Испании, то извольте встать и подождать, пока я не предложу вам сесть!
Писарро говорил неторопливо, с нарочитым безразличием, но с такими металлическими нотками в голосе, что заносчивого кавалера бросило в краску. Он встал.
Писарро продолжал разговор, словно ничего не случилось.
— Как называется эта местность?
— Если я правильно понял переводчика, Уорино или что-то в этом роде… сеньор… — добавил он с явным усилием после краткой, но выразительной паузы.
— Рассказывайте дальше, дон Хуан.
— Как я уже упомянул, это небольшое местечко за горной цепью. По правде сказать, скорее даже крепость. Гораздо большая, нежели Кахамарка, в которой мы находимся. В ней, как и в этой крепости, нет гарнизона.
— А переводчику так и не удалось выяснить, почему в крепостях нет войска? — Писарро отвел взгляд от золотого диска и теперь испытующе глядел прямо в глаза родовитому кавалеру. — Нам уже известно, что представляют собой войска этих краснокожих язычников, и мы знаем, что их королевство могущественно и богато. А такие твердыни стоят просто так, никем не обороняемые, и мы занимаем их, как курятники.
— Я думал об этом и пытался расспрашивать. Не все я понял. Кажется, где-то на юге сейчас война и все войска находятся там.
— Гм, для нас это обстоятельство весьма кстати. Бьюсь об заклад, что нам покровительствует мадонна Севильская, у которой я просил защиты, отправляясь в плаванье. Слушаю вас дальше, дон Хуан.
— В этом Уорино самое большое здание — храм. Два жреца защищали вход, теперь они уже в аду. Храм невелик, но зато там — рыцарь указал на свою добычу — сплошное золото. Переводчик говорит, будто это изображение солнца, которое язычники почитают божеством. По его словам, в главном храме, в столице Куско, тоже есть золотое солнце, и в поперечнике оно больше роста взрослого мужчины. И все украшения там из золота. Золото у них высоко ценится, потому что они считают его слезами самого бога Солнца.
— И мы высоко ценим золото, хоть и не верим в языческих богов, — буркнул Писарро. — Что еще, дон Хуан?
— Это все.
— А люди?
— Люди? Эти краснокожие дикари? Воинов мы не встретили, красивые девки сбежали, остальное меня не интересовало.
— А жаль! Работают ли на полях?
— Сеньор наместник, я не обращал внимания на то, что делает крестьянин даже у меня в Арагоне: для меня не существуют какие-то там свинопасы и всякие прочие холопы. Какое мне дело до краснокожего быдла?
— А жаль! — холодно повторил Писарро, сделав вид, что не заметил намека на свое происхождение. — Здесь можно увидеть кое-что интересное. Например, мы все заметили, что в селениях никто не выходил в поле. Хотя жители не скрывали своего беспокойства и нетерпения, но к работам так и не приступали. Они глядели в небо, щупали землю, вздыхали, но не работали. И вдруг два дня назад они кинулись на поля. Все разом, сообща, принялись обрабатывать землю с усердием и с явной поспешностью.
— Какое нам до этого дело, нам — испанским идальго? Может, у них существуют свои поверья, может, они дожидаются определенного дня или чего-то в этом роде? Хамье всюду и всегда одинаково глупо.
— Думаю, что за всем этим кроется нечто более важное. У них, кажется, все делается по приказу короля. Значит, такой приказ получен. То есть наши дозоры и наблюдательные посты не уследили, как и откуда он пришел, и не задержали его. Или же у этих дьяволов есть неизвестный нам способ сноситься между собой. А за этим скрывается большая опасность.
— Опасность! Как бы не так! Пока моя рука держит меч, это слово мне неведомо.
— Но хитростью у вас могут выбить меч из рук. А как выглядят их дома?
Писарро так неожиданно перешел к другой теме, что дон Хуан Рада с минуту собирался с мыслями, прежде чем ответить:
— Дома? Такие же, как и здесь. Стены толстые, сложены из громадных камней, без окон. Нужно признать, что Этот сброд умеет строить. Камни так тесно пригнаны один к другому, что прямо диву даешься.
— Да, стены толстые и без окон. Каждый дом, каждый двор можно превратить в крепость. А люди?
— Я уже говорил вам, сеньор, что на здешнюю голытьбу я не обращаю внимания, вся же знать исчезла еще до нашего появления.
— Вы шли по дороге?
— А как же иначе? Горы высокие, и там не очень-то приятно, а дорога хотя и узка, но ровная и удобна для лошадей. Вот только эти мосты! Перекладина на веревках, висящая над пропастью.
— Я знаю. Стоит разок ударить топором — и мост рухнет вниз. Достаточно горсти таких воинов, что атаковали нас тогда, и через горы не пройдет ни один человек.
— Я не понимаю вас. Ведь мы прошли много миль от моря, заняли столько городов, трижды разбили индейцев…
— Да, но то была отара овец без вожака. А если хоть кто-нибудь сообразит и отдаст им толковый приказ — мы не одолеем ни одного перевала, не проникнем ни в одну долину.
— Но ведь мы же проникаем всюду, куда только захотим.
— Именно. Что-то происходит, чего мы не знаем и что облегчает нам успех. Но чтобы победить, надо знать. Нужно разобраться во всем, дон Хуан! Мы жалкая горсточка воинов в самом центре могущественного королевства, которое почему-то не сопротивляется нам.
— Когда Кортес завоевывал Мексику…
— Его принимали за бога, — прервал Писарро. — И кроме того, он нашел союзников. Без их помощи он погиб бы, Нас здесь не считают богами, но союзники нам нужны. Чтобы их найти, следует приглядываться к происходящему вокруг. Необходимо смотреть и слушать, дон Хуан. Обращать внимание не только па красивых девок и золото. Для Золота еще хватит времени после победы…
— Проклятый ублюдок! — с ненавистью пробормотал Хуан Рада, когда полог шатра наместника опустился за ним.» Для золота еще хватит времени!» А как он сам-то уже сейчас торопится это золото собрать и припрятать! Якобы для его королевского величества… Ну, подожди, ублюдок! Уж мы проследим за тобой! Уж мы припомнит тебе в свое время, сколько и когда ты взял!
Надменно, вежливо, но без улыбки он отвесил поклон патеру Пикадо, секретарю Писарро, который, как всегда тихий, услужливый, уступающий всем дорогу и всегда все знающий, бочком приближался к шатру наместника. Пикадо, поверенного Писарро, ненавидели в лагере все за двоедушие, ложь, страсть к интригам. Правая рука невежды-авантюриста, Пикадо обладал огромной властью.
Вслед за патером шел молодой индеец с глуповатым лицом, в одежде белых, но в сандалиях и туземном плаще. Он особенно гордился своими штанами и шляпой.
— Лиса! Лиса и вонючка! — сплюнул им вслед дон Хуан.
Молодой индеец, невольник, после крещения получивший имя Фелипилльо, был родом с одного из прибрежных островков у южных берегов этой страны. Его захватили во время первой неудачной высадки, доставили в Панаму, крестили и теперь при Писарро он исполнял обязанности переводчика.
— Ну вот не хватало только еще уважаемых братцев! — сказал самому себе Рада. — Ну, разумеется, теперь уже все собрались: дон Гонсало, дон Эрнандо, дон Хуан — словом, все Писарро! Весь род! Ублюдки, хамское племя! Тьфу! А мы, дворяне, идальго, обязаны им кланяться!
С минуту он раздумывал, потом повернулся и, чтобы избежать встречи с чванливыми братьями наместника, направился к палатке Диего де Альмагро. Там собрались все недовольные суровым обращением и грубостью вождя, а может быть, еще больше его безграничной, даже нескрываемой жадностью к золоту.
Тем временем в шатре Писарро уже шло важное совещание. Четверо братьев и патер Пикадо сидели вокруг стола, а Фелипилльо, пристроившись на корточках в глубине шатра, был целиком поглощен собой, любуясь своим новым камзолом. Говорили вполголоса.
— Дон Хуан Рада…
— Который даже не способен скрыть своей ненависти к нам…
— Не прерывай, Эрнандо! Так вот, этот Рада был сейчас в каком-то городке. Как он там называется? Уорино, что ли. Из тамошнего храма он принес вот эти штучки. Чистое золото. Клянусь слезами святой девы, за одно это в Испании можно приобрести замок. А Уорино — это лишь небольшое местечко, и храм там маленький. Я надеюсь, что в столице мы найдем кое-что посолиднее.
— Ты только надеешься, Франсиско? А я убежден в Этом.
— Не для того мы перенесли столько трудностей, чтобы довольствоваться чем попало.
— Один переход через леса на побережье сделал нас героями, достойными самой высокой награды. Помните, как…
— Я вернусь только графом!
— Но-но! Как мои братья, братья королевского наместника, вы уже имеете право на графский титул!
— Однако новое звание нужно украсить еще и золотом.
— Это правильно! Хм, отец Пикадо, что вам удалось выведать от последних пленников?
Невзрачный секретарь безрадостно развел руками.
— Увы! Эти язычники ужасно закоренели в грехе. И дьявол, которому они служат, посылает им силы. Они умирают легко и ничего не говорят.
Франсиско Писарро задумчиво буркнул:
— Они смело сражались. Да, очень смело. Нам удалось Захватить только раненых.
— Это тоже козни дьявола, — тотчас же отозвался Пикадо. — Только дьявол способен был помочь им так сражаться в битве с нами, рыцарями католического короля, с нами, которые несут им свет истинной веры.
Хуан Писарро откровенно расхохотался.
— Их еще нужно научить презирать богатство и чтить бедность! Уж мы об этом позаботимся!
— Правда! Зачем дикарям золото?!
— К тому же они используют его для таких нечестивых целей, как украшение языческих храмов, — вздохнул, возводя глаза к небу, патер Пикадо.
Наместник чуть поморщился и сказал, обращаясь к Пикадо:
— Вы хотели, падре, собрать сведения об этой стране. Неразумно было бы идти дальше, ничего не зная, рискуя угодить в ловушку. Когда Кортес завоевывал Мексику, у него были сведения об этом королевстве, он получил их от вновь приобретенных союзников.
Патер вздохнул, на этот раз явно озабоченный.
— Я боюсь, ваша милость, что нам будет здесь тяжелее, чем в Мексике. Трудно рассчитывать на союзников. Тут, правда, живут разные племена, но они уже давно покорены инками, все перемешались и составляют единое целое. О бунте против короля, которого зовут сапа-инка и считают сыном своего главного бога Солнца, тут и не помышляют. Они просто не поймут, что такое бунт, даже если им и подать такую мысль.
— Каким же образом держат их в руках? Страхом?
— Отчасти и страхом. Всюду здесь крепости, хотя это самый центр королевства. Но главная их сила — хорошая организованность. Ну, и листья коки.
— Листья коки. Не понимаю. Что это такое?
Пикадо охотно пояснил:
— Это местное растение. Жуют его сушеные листья. Видно, есть какие-то чары в этом зелье, ваша светлость, тот, кто жует листья коки, может, говорят, несколько дней не есть и не спать, а сил у него только прибавляется.
— Ого, любопытное растеньице. Неплохо бы испытать его на наших крестьянах. Пусть поменьше едят и побольше работают. Но как же с помощью коки держать в повиновении покоренные племена?
— Ваша светлость, как я понял и даже сам видел, тот, кто жует листья, равнодушен ко всему на свете. Что ему прикажут, то он и выполняет, но сам по своей воле не сделает ничего.
— Ага. — Наместник понял и с минуту раздумывал над услышанным. — Ага. Это хорошо, очень хорошо.
Внезапно он обратился к сидевшему в глубине шатра индейцу.
— Фелипилльо! Что считается у вас самой большой святыней?
— Мумии предков, — не задумываясь ответил юнец, однако тотчас бросил беспокойный взгляд на патера, словно сомневаясь, не противоречит ли только что сказанное им догматам его новой веры.
Писарро видел уже в захваченных городах и поселениях мумии, заботливо сохраняемые в пещерах и подземельях. Он кивнул.
— Да, я знаю. А среди людей кого больше всех почитают?
— Сапа-инку, дев Солнца, пустынников…
— Здесь есть пустынники? — Вождь с удивлением взглянул на священника.
— Я слышал о них. Это не иначе, как колдуны, особенно мерзкие слуги сатаны, — неохотно отозвался Пикадо.
— А эти девы Солнца?
— Это жрицы. Они живут в храмах, сохраняют девственность. Девки из самых лучших семей. Только правящий сапа-инка выбирает себе среди них наложниц, которых, однако, потом уважают и чтят, как королевских жен. Некоторые девы Солнца проводят в храмах по шесть, восемь лет, после чего имеют право выйти замуж.
— Ага. Послушай, Фелипилльо, а что бы ты сделал, если бы я приказал тебе отыскать мумии твоих предков и сжечь их?
Индеец побледнел и с ужасом уставился на белого. Он уже получал столь непонятные и страшные приказы, что и это могло оказаться не только ужасной шуткой. Он задрожал всем телом.
— Боишься? Ладно. Тогда найди первого попавшегося пустынника и повесь его. В награду я дам тебе двух дев Солнца, которые станут твоими наложницами!
Индеец пошевелил губами и тяжело перевел дух.
— Если, господин, ты дашь мне сначала много листьев коки, то я готов пойти.
— Вы были правы, падре! — Писарро тихо засмеялся. — Листья коки! Я не забуду об этом. Садись, глупец! — Взмахом руки Писарро отослал обратно индейца, который не в силах был сдержать дрожь.
— Отлично, падре, но вы упомянули еще об их организованности. Что вы имели в виду?
Патер задумчиво проговорил.
— Я с возрастающим беспокойством собираю сведения о величии и силе этого королевства. Как эти инки правят, как они держат в повиновении столько покоренных народов? И я думаю, что здесь придется возвести много храмов господних и долго звонить в колокола, прежде чем нам удастся изгнать тех демонов, которых здесь, должно быть, несметное количество. Потому что могущество этой страны ничем иным нельзя объяснить, кроме как вмешательством самого сатаны. Человеческому разуму создать такое не под силу.
Писарро недовольно поморщился.
— Вы мой секретарь, падре, а не советник по делам веры! Если мне понадобится что-либо узнать о сатане и его проделках, я обращусь к преподобному дону Винсенте!
Патер Пикадо низко поклонился, он потупил глаза, но время от времени бросал быстрые, тревожные взгляды по сторонам, непроизвольно сжимая и разжимая пальцы.
— Я уже говорил вам, что с беспокойством собираю всякого рода сведения. Захваченных в плен жрецов мы очищали от скверны огнем, они успели довольно многое рассказать. Это закоренелые в грехах, злостные язычники! Мне пришлось приложить немало усилий… Я действительно считаю, что все это козни сатаны. Сами люди не могли бы так устроить свою жизнь. Ваша милость, они знают все, что происходит в стране, помнят о каждом человеке, предвидят, что должно произойти в будущем. Предвидят, ваша светлость! А ведь дух святой не может помогать этим язычникам! Ведь… ведь, пожалуй…
Он в испуге перекрестился. Писарро, человек суеверный, последовал его примеру. Однако он продолжал настойчиво расспрашивать:
— Что такое вы здесь увидели, падре, настолько уж превосходящее наше понимание?
Священник быстро ответил:
— Ваша милость, извольте сами сравнить. Как замечательно организовано королевство нашего католического монарха Карла V! А ведь когда взбунтовались каменщики, которым Родриго де Бастидас де Сафра приказал возить булыжник для постройки своего замка…
— Знаю!
— Кто мог сомневаться? Однако известие об этом дошло до короля только через месяц, когда все уже было кончено. Точно так же случилось, когда подняли крик крестьяне гранда…
— Но ведь гранд не будет дожидаться помощи против своих крестьян. Он сам их придушит!
— Святые слова, ваша честь, я только привожу примеры. У нас в заливе Виго рыбаков расплодилось столько, что им нечего есть. А между тем рудокопы вымирают и по-прежнему на рудниках не хватает людей…
— Ну и что из этого. Все это в порядке вещей!
— Разумеется, разумеется! Однако здесь, кажется, ничего подобного не могло бы произойти. В их столице тотчас же узнают обо всем. Каждому человеку назначают, кем он должен быть и где ему работать. Каждому! И все предвидят заранее! Потребуется столько-то каменотесов, рудокопов, земледельцев или бегунов для службы на дорогах…
— Но, наверное, так управляют только чернью? А чем же занимается их знать?
— Знать? Это, вероятно, инки. Они либо служат, либо же становятся воинами.
— Как это? У них нет своих поместий, своих замков?
Патер не сразу ответил Писарро.
— Нет, у них нет ничего, ваше милость. Тут… тут все устроено как-то странно. Никто ничего своего не имеет. Пожалуй, только одежду да домашнюю утварь… Земля, стада — все общее. Совсем не так, как велит святое писание! Поэтому я и говорю, что, видно, сам сатана…
Писарро неожиданно расхохотался.
— Да? Тем большей окажется наша заслуга, когда мы все здесь разрушим до основания, а потом наладим заново, по-своему.
Патер Пикадо вздохнул с тревогой.
— Ох, ваша честь, дьявол силен и придает силу своим почитателям. Это очень могущественное государство. Говорят, что когда предыдущий властелин инков покорял соседние племена, то вывел на поле брани двести тысяч воинов.
— Пусть эта цифра преувеличена даже вдесятеро, все равно она говорит о многом, — пробормотал Писарро.
— Да, ваша честь, это о многом говорит.
— Почему же они не защищаются? — не выдержал Эрнандо. — Почему же мы застаем тут опустевшие крепости да лишь отдельные горстки воинов, которые атакуют нас без всякого плана, покуда их не уничтожат до последнего человека.
Патер-секретарь потер руки.
— Покровительство господа, ваша честь, покровительство господа. Богу не угодно все то, что здесь происходит. Как этих людей наставлять на истинный путь, как поведать им хотя бы историю Иова, когда тут нет нищих; как рассказать им притчу об изгнании торговцев из храма, если туг нет ни купцов, ни торговли, ведь здесь каждому государство дает все, что ему необходимо; как говорить о богаче и игольном ушке, если тут нет богатых, как — о блудном сыне, когда тут никто не имеет права скитаться по свету. Каждая притча из святого писания будет совершенно непонятна этим людям. Это бог в мудрости своей, дабы сломить язычников и даровать нам легкую победу, сделал так, что его милость наместник прибыл сюда в добрый час. Покойный король, завоеватель, разделил свое государство между двумя сыновьями, а они сейчас воюют друг с другом. И жизнь остановилась. Ведь здесь все вершится только по королевскому приказу. На работу отправляются по приказу, урожай собирают по приказу, женятся в назначенный день, охотятся по приказу. А где два властелина, там или слишком много приказов или же вовсе их нет. И оба они собрали все силы, какие только могли, поэтому и опустели их крепости.
— А как развиваются дальше военные действия? Где дерутся братья и кто из них одерживает верх?
— Этого я еще не знаю, ваша милость. — Секретарь развел руками. — Давно уже не поступало новых известий, а пленники, захваченные в последних сражениях, не хотят ничего говорить.
— Хорошо. Эрнандо, ты отправляйся в разведку. Да сделай это получше, чем Рада. Доставь мне не только золото, но и нужные сведения. Они мне даже нужнее. Золото от нас и так не уйдет, а неразбериха в стране нам на руку. Постой, возьми с собой Фелипилльо. Переводчик тебе понадобится.
Глава двадцать первая
— Деревня пуста, ваша милость!
Гаспар де Эспиноса, молодой дворянин, которого жажда приключений погнала в Новый Свет и заставила присоединиться к экспедиции Писарро, возвращался галопом. Конь после тяжких горных троп вновь ступил на гладкие каменные дорожные плиты и мчался коротким аллюром, высекая подковами искры.
— Пуста? Но не могли же они нас заметить.
— Нет, ваша милость. Я осмотрел несколько домишек. Зола везде холодная Язычники давно убрались отсюда.
— Это уже третья такая деревушка. — Эрнандо де Сото, приятель младших братьев Писарро, лучший всадник в его небольшой армии, беззаботно расхохотался. — Ну, так отправимся дальше и поищем.
— Разумеется, — кивнул молодой Писарро. — Но это просто интересно: они покидают дома и уходят.
— Хе-хе-хе, я не вижу в этом ничего удивительного. Весть о том, как мы забавлялись в Уорино и в других поселениях, должна была широко разнестись по округе — вот теперь они и бегут вместе со своими девками.
— Э-э-э, девок мы всегда раздобудем. Но помни, амиго, что тут, вероятно, все делается только по приказу. Теперь тоже кто-то отдал приказ. И нам во что бы то ни стало надо захватить пленного Его честь наместник — братья Писарро даже перед своими друзьями строго соблюдали этикет по отношению к командующему — отдал ясный приказ, он ждет.
— Я знаю. Итак, отправляемся на поиски.
Небольшой отряд двинулся дальше, сначала по главному тракту, но сразу же за селением Эрнандо свернул в сторону, на узкую тропинку, извивающуюся по самому краю террасы с возделанной землей. Кукуруза была уже высокая и сухо шелестела от порывов ветра. День выдался теплый.
— Ну, по мне уж лучше эти горы и скучные поля, чем приморские леса, через которые мы продирались, — де Сото, ехавший вслед за Писарро (узкая, рассчитанная только на путника, от силы на вьючных лам, тропка не позволяла двум всадникам следовать рядом), весело разглагольствовал. — Там мне все время казалось, будто мы сами лезем в какую-то отвратительную западню. Тьфу, зеленое пекло! Тут по крайней мере далеко видно и можно не опасаться неожиданностей.
— Ну нет, в этих зарослях можно устроить недурную засаду.
— Ха! Откуда им знать, по какой террасе мы поедем, по верхней или по нижней? Впрочем, у меня неплохое зрение и я ручаюсь, что во всей долине нет ни души. Все убрались восвояси.
Фелипилльо, бежавший впереди Писарро, оглянулся. Его лицо ничего не выражало.
« Эти белые сильные, но глупые, — думал он, оглядывая долину. — Они ничего не видят «.
Над обработанными полями, в зарослях кенны он уже давно заметил стадо лам, а при них наверняка есть и пастухи; еще ниже под агавами, укрывшись, лежит мужчина; на другом склоне долины, среди камней, прячется несколько человек. Он чуть пожал плечами. Его охватило сонное отупение, ведь сору белые пили постоянно, не отказывая и ему в этом запретном напитке. Белые его не спрашивают, пусть же сами смотрят.
Однако вскоре он остановился и вновь огляделся. У де Сото был нож, обычный нож, но из хорошей стали. Фелипилльо очень хотелось его заполучить, и он вдруг вспомнил об этом.
— Сеньору нужны люди? Сеньор прикажет их схватить? — медленно спросил он.
— Люди? Конечно. Однако тут никого нет. Почему ты остановился?
— А сеньор де Сото подарит Фелипилльо нож, если он покажет ему людей?
Испанец поднялся на стременах, внимательно огляделся по сторонам и рассмеялся.
— Если ты тотчас же покажешь мне хоть одну живую душу в этой долине, я отдам тебе нож.
— Пусть сеньор свернет в те агавы, направо.
— Туда? Ведь здесь никого нет… Держи!
Из-под самых копыт коня выскочил индеец. Его плащ был цвета этой земли, и он сразу исчез бы, слился бы с ней, ведь на конях нельзя было проникнуть в колючие заросли, но Фелипилльо не растерялся, опередил испанца и кинул лассо. Беглец запутался и упал.
Он вскочил, прежде чем кто-либо подоспел к нему, но уже не пытался бежать. С испугом глядел он на коней и на бородатых чужеземцев, с удивлением бросил взгляд на полуевропейский наряд Фелипилльо и что-то сказал.
Де Сото молча наблюдал за происходящим.
Неизвестный спрашивал о чем-то. Фелипилльо ответил ему нагло и высокомерно, презрительно надув губы. Потом он что-то спросил, и пленник ответил торопливо, показывая на горы, потом вынул из складок плаща какую-то блестящую бляху и показал ее Фелипилльо. Тот грубо вырвал ее и, с минуту поколебавшись, сказал де Сото:
— Золото, сеньор!
— Покажи! Да, золото. Кто он и откуда у него такая бляха? Святая Эвладия, покровительница моей возлюбленной, что это за страна, где даже у сельских нищих подобные золотые вещи!
— Это не нищий, — Фелипилльо с неохотой пояснял, не сводя глаз с добычи, которую де Сото спрятал за пазуху. Переводчик знал по опыту, что этого золота ему уже не видать. — Он называет себя главным камайоком при особе самого сына Солнца. Начальником тех часки, бегунов, что разносят кипу и устные приказы.
— Что он здесь делает? Шпионит за нами?
— Он говорит, что шел в Кахамарку, так как там уже находится их царек Атауальпа. Но он заблудился, потому что ему незнакомы эти места.
— О, это любопытно. Значит, индейцы уже где-то неподалеку. А он не врет? Ведь его еще не начали поджаривать на огне, а он уже все выкладывает.
— Он говорит, что очень испугался лошадей. Он называет их большими ламами.
— Ага, это хорошо, что язычники боятся коней.
— Темное, глупое хамье эти язычники, — с важностью согласился Фелипилльо, торжественно перекрестившись.
— Ах, ты! — Де Сото громко расхохотался. — Ты уж, наверно, ставишь себя на одну доску с белыми?
— Фелипилльо — христианин. Сам патер Вальверде учит, что все христиане равны.
— На том свете, глупец, на том свете. Ну, рассказывай дальше! Что ему здесь нужно?
— Он идет с жалобой. Его имя Синчи. У него — девушка. И один инка, крупный сановник, хочет ее у него забрать.
— Глупец. Он должен только радоваться. Ведь девок кругом достаточно. Ну, увидим. Обещай ему наше покровительство, если он расскажет обо всем, что ему известно. Если он был каким-то сановником при этом их короле, то может знать многое.
Синчи снова низко поклонился переводчику, выслушав его слова, и де Сото показалось, что Фелипилльо что-то прибавил от себя.
— Он говорит, — сказал Фелипилльо, — что сын Солнца Атауальпа испугался, когда услышал о белых господах. Он победил своего брата Уаскара, заточил его в крепость и теперь стягивает войска и идет к Кахамарке.
— Большое ли у него войско?
— Четыре уну не выставляет такого количества людей на работу. Идут инки, созванные с половины государства, гвардия и придворные, — переводил Фелипилльо слова Синчи.
— Четыре уну? — Де Сото уже немного разбирался в структуре государства инков и быстро прикинул. — Сорок тысяч! В том числе и гвардия!
С нескрываемым беспокойством де Сото окинул взглядом громадную долину. Ему уже почти чудилось огромное неприятельское войско. Но в жаркой долине, погруженной в сонную дрему, наверняка никто не смог бы спрятаться.
Если только в фиолетовой тени, падающей от скал… Ведь этот беглец укрылся от их взгляда под обычным кустом агавы, которые здесь на каждом шагу, и если бы не Фелипилльо… В расселинах, на затемненном склоне горы, высоко что-то поблескивает. Может, это оружие, а может просто токи воздуха, ведь вверху холоднее, чем на дне долины. Впрочем, на таком расстоянии только орел различил бы людей. Этот их громадный гриф, кондор. Хм, довольно мерзкая птичка.
Де Сото невольно посмотрел вверх. Ему показалось, что на чистом, ясном голубом фоне виднеются маленькие темные точки. Может быть, это обман зрения, просто яркая голубизна режет глаз…
Он быстро принял решение.
— Возвращаемся! Необходимо тотчас же доставить известия его милости наместнику. Ты, Фелипилльо, будь начеку, чтобы дикарь не сбежал.
— Не сбежит, сеньор. Фелипилльо ему запретил. Он знает, Фелипилльо большой человек при белых господах, которому надлежит повиноваться.
С иронической ухмылкой переводчик тут же добавил:
— Он привык повиноваться. Жевать листья коки и быть послушным.
Синчи, все еще напуганный видом лошадей и белых, закованных в невиданные доспехи, послушно отвечал на все вопросы. Он рассказал о большой охоте, которая дала много мяса, всем уну на целых два года, о силах Атауальпы, о пленении Уаскара, о колебаниях нового властителя, когда он получил известия о том, что появились белые; Синчи сказал, что Атауальпа решил выступить против белых, собрав все свои силы, хотя сторонники Уаскара еще не побеждены, особенно на юге. Он рассказывал о крепостях, войсках и их вооружении, о дорогах, продовольственных складах, о столице.
Хотя Фелипилльо, которому все это наскучило, неточно пересказывал ответы Синчи, сильно сокращая их, вести эти обеспокоили Писарро и его братьев. (Никому из дворян но разрешили присутствовать на допросе.)
Однако все тревоги были забыты, когда Синчи рассказал о несметных богатствах храма Кориканчи в Куско и о других, не менее великолепных храмах, о дворцах властителя, об инках, одежда которых буквально усыпана золотом.
— А хороши девки при королевском дворе? — не утерпел Хуан Писарро, однако наместник с гневом оборвал его:
— У тебя только девки в голове! Ведь это языческие твари! Помни, что говорил патер Вальверде: смертный грех сойтись с такою. Пожалуй, только если ее предварительно крестить. Лучше подумай о другом. Девки! У тебя будет достаточно этого добра, и даже из самых знатных родов Кастилии или Арагона, когда ты вернешься домой, набив карманы золотом.
— Но войско этого Атауальпы… — начал неуверенно Гонсало Писарро, самый рассудительный из всех братьев.
— Войско? — разгневался наместник. — Что из того, что у него большое войско? Кортес с горсткой людей покорил Мексику. Но я-то не буду таким дураком, как он, меня на мякине не проведешь! Дудки! Кесарю кесарево, а что мое, то мое
— Богохульствуешь, Франсиско!
— Молчи, трус! Баба, недотепа, падаль! Ты перетрусил, как только услышал об этих ордах? Сорок тысяч голодранцев — и дона Гонсало уже бросило в дрожь. Таким, как ты, надо сидеть дома и не соваться в неведомые края. Подумаешь, сорок тысяч… Когда заговорят наши пушки, от них только клочья полетят.
— Но они могут устроить засады на горных перевалах и…
— Ты все еще бредишь этими перевалами? Ладно, пусть будет так. Поговорим всерьез о язычниках. Ты считаешь, что силой нам с ними не справиться? Понятно. Тогда пойдем на хитрость. Честная борьба может быть только с честным христианским противником. Для войны с дикарями все средства хороши. Увидите. Осьминог тоже страшен, но стоит лишь угодить ему в темя — и все его восемь щупалец бессильно повиснут. Постараемся и мы нанести им удар в голову. Нам поможет святой Франсиск, святой Георгий и святой Николай, а не они — так хотя бы и сам дьявол.
Братья в испуге перекрестились, однако наместник уже не мог остановиться.
— Чего вы боитесь? У кого золото, тот купит себе отпущение грехов, даже у самого святого отца! Воздвигнете собор и дадите деньги на мессу, которую будут служить по вашим душам тысячи лет! Золото! Только бы иметь золото! И весь мир будет у моих ног!
Глава двадцать вторая
Склады в Потасе, в Торопаке и даже в крепости Писак, всегда готовые удовлетворить нужды войска или населения, пострадавшего от стихийного бедствия, неожиданно оказались пустыми. Местный правитель низко кланялся Атауальпе и торопливо объяснял.
Он ни в чем не виноват. Пришли воины из Арекипы, предъявили кипу, золотую бляху. Приказывали именем сапа-инки Уаскара. Они велели согнать всех лам, навьючили их и угнали. Он не виновен. Уже месяц, как сторожевые посты бездействуют, нет ни сигнальных огней, ни новых приказов. Ему ничего не известно. А инка, правитель уну, ушел куда-то и не отдал никаких распоряжений.
Удивительные белые пришельцы? Да, он знает о них. Но они по ту сторону гор. Сюда еще не добрались. Хотя людей уже охватил страх и все спрашивают, можно ли им бежать? Потому что белые — это ужасные и злые люди, но они могучи, как боги…
Уильяк-уму ловко нашел выход из положения: продовольствие было доставлено из других областей, и все войско снова двинулось через горы к Кахамарке. Сам Атауальпа шел пешком, не пользуясь своими носилками, подавал пример своим подданным.
Однако этого и не требовалось, переход был нетрудным, так как воины, по большей части горцы из-под Чимборасо, Котакачи и Имбабуры, легко перевалили через хребет, хотя продвигаться приходилось не по дорогам, а напрямик, по звериным тропам. Их не пугали снежные вьюги, лавины и жуткие холода, они шли там, где не могло пройти ни одно войско на свете.
Писарро считал, что прямо через горы пути нет. Поэтому он перекрыл главный перевал, где проходил тракт, и стоял на месте, ожидая известий от лазутчиков, разосланных во все стороны. Но вести не поступали, дозоры лишь изредка доставляли пленных крестьян, которых Фелипилльо допрашивал с неохотой; на вопросы белых он неизменно отвечал:
— Это глупый мужик, он ничего не знает.
Поэтому Писарро было известно только то, что ему сообщил Синчи, а тем временем Атауальпа прекрасно знал о каждом шаге белых, о каждом отправленном ими отряде, чуть ли ни о каждой съеденной ламе.
Только о вспомогательном войске, которое должно было выйти из Мойомамбо, обогнуть Кахамарку с тыла, отрезать белых с моря, ничего не было слышно. О том, что ни один приказ к ним не поступил по вине Синчи, не знал никто, да это бы и в голову никому не пришло.
Войско Атауальпы перевалило через горы и после короткой передышки двинулось прямо на Кахамарку.
Сорокатысячное войско следовало несколькими параллельными колоннами по широким нагорьям, и его не могли не заметить испанцы. Два конных дозора почти одновременно прискакали к Писарро.
— Индейцы!
— Огромное войско движется на нас со стороны гор!
— Завтра оно может уже оказаться здесь!
Когда, наконец, сеньор де Сото, самый лучший разведчик, прибыл с подробнейшими известиями — с вершины горы ему удалось заметить и разглядеть пять колонн, из которых ближайшие, по его мнению, насчитывали от десяти до двенадцати тысяч солдат в каждой, — Писарро созвал в своей палатке большой военный совет.
Он приказал извлечь последние запасы вина, привезенного из Испании, дабы поднять дух своих соратников, и, лишь убедившись, что вино возымело должное действие, ознакомил всех с истинным положением дел.
Хуан Рада, всегда открыто выступающий против наместника, первый попросил слова.
— Сперва я хотел бы получить кое-какие разъяснения. Ваша честь, вы собрали нас здесь, чтобы поделиться новостями, или вы желаете услышать совет?
Слово» совет» он подчеркнул столь язвительно, что Писарро раздраженно передернул плечом, а его братья начали нервно покусывать усы. Положение спас рассудительный и лучше владевший собой второй предводитель экспедиции, Диего де Альмагро.
— К совету опытных рыцарей всегда с должным вниманием прислушается любой военачальник.
— А затем поступит по-своему! — фыркнул весельчак Педро Вальдивиа.
— Это право вождя.
— Отлично. — Хуан Рада чуть наклонил голову. — Итак, вопрос ясен… Просим еще…
— От чьего имени вы говорите, сеньор? — резко прервал его Писарро.
— Ах, прошу прощения, ваша честь. Я хотел сказать — жду указаний, что мы должны обсуждать.
— Я не понимаю!
— Ох, ведь перед нами можно поставить столько задач и предложить столько путей их решения! Мы можем посоветовать, как нанести удар по этой орде…
— По этим сорока, а может быть, и больше тысячам отличных воинов, которые движутся четкими колоннами и, вероятно, упорны в сражении, как швейцарские стрелки! Вздор! — фыркнул Эрнандо де Сото.
— Это только ваше мнение, сеньор. Я же считаю, что для испанского меча нет невозможного. Мы могли бы ударить даже по крылатой колонне и…
— Нет! — Писарро с гневом оборвал говорящего. — Я не собираюсь ввязываться в битву без крайней необходимости. Боюсь, что в открытом бою победа невозможна.
— Ах вот как? Так, может быть, нам стоит подумать, как вырваться из этой западни?
Патер Винсенте Вальверде, главный духовник экспедиции, поспешил вмешаться в спор.
— Мужественный и достойный кавалер! Мы все видели и все знаем, что перед нами какая-то огромная страна, которая еще целиком погружена во мрак язычества. Мы устремились сюда, чтобы возжечь тут свет истинной веры.
— Нас, скорее, пожалуй, привело сюда золото, то золото, которым так богата страна!
— Не нас, сеньор, а вас!
— Неужели? А разве это не вы, падре, потребовали для себя, и при этом как непременное условие, десятую часть добычи?
— Не для себя же! Не для себя. А для святой церкви!
— Ах, это одно и то же. Я еще раз вас спрашиваю: мы собрались здесь для того, чтобы обдумать возможности отступления?
Писарро, ни слова не говоря, встал, подошел к окованному ларцу, отворил его и молча стал бросать на ковер различные предметы: золотой диск солнца, украденный в Уорино, золотые светильники, цепочки, перстни, серьги, браслеты, застежки, рукоятки топоров, принадлежавших вождям, какие-то статуэтки, украшения — все, что было награблено в Кахамарке и по дороге.
Когда глухой недовольный ропот, который уже стал было нарастать, смолк, словно заглушенный звоном золота, Писарро снова сел и произнес с явной иронией:
— Возвращение? Неужели кто-нибудь думает о возвращении?
Мимоходом он приметил, как Пикадо, его секретарь и поверенный, незаметно наступил каблуком на дорогой перстень, который подкатился ему под ноги, — и холодно усмехнулся. Писарро не забудет этого и при случае припомнит патеру.
Мертвая тишина внезапно сменилась разноголосым шумом.
— Возвращение?! Сама мысль об этом оскорбительна для испанских рыцарей!
— Я не вернусь, покуда святой крест не будет водружен над главным храмом этих язычников!
— Куда мне возвращаться? — цинично рассмеялся де Сото. — К тем долгам, которые ждут меня в Испании? Сначала я должен собрать столько золота, сколько унесет мой конь.
Писарро, опустив глаза, внимательно прислушивался к этому гомону. Он все запомнит, память у него прекрасная… О возвращении никто уже вслух не говорит.
— Сеньоры! Его королевское величество соизволил назначить меня наместником вновь открытых и завоеванных земель. Не тех болотистых лесов у побережья и не этого вот городка, но целого края… Итак, никто здесь не говорит о возвращении, не так ли?
— Отлично! — не смутился, однако, Хуан Рада. — Но если мы не ударим и не отступим, то о чем нам советоваться? О том, как удержаться на берегу этой речушки?
Диего де Альмагро пожал плечами.
— Мы можем обороняться в десяти местах, но они обойдут нас в ста других.
— Это понятно. Что же нам обсуждать на нашем совете?
Писарро вскочил.
— Сеньоры! То, о чем рыцарь Рада говорит со злорадством, тем не менее справедливо. Мы не в силах нанести удар по врагу, но мы и мысли не допускаем об отступлении. Не отступим перед толпой языческих дикарей!
Серьезный и уважаемый всеми рыцарь Педро де Кандиа кивнул.
— Да. Так мы все думаем. Ваша честь, у вас есть какой-то план?
Писарро отвечал живо, хотя и не глядел на идальго. Он не любил его, как не любил, впрочем, и всех подлинно честных людей в своем отряде.
— Разумеется. Я призвал вас сюда, сеньоры…
— Король сказал бы: пригласил, — буркнул сквозь зубы Хуан Рада, но Писарро этого не услышал или по крайней мере сделал вид, что не слышит.
— … чтобы дать вам указания на самое ближайшее время. Итак, прежде всего: полная боевая готовность. Сеньор де Кандиа очистит местность от оставшихся жителей, которые еще не убрались отсюда, сгонит их в большое селение за рекой и выставит стражу. Если возникнут какие-нибудь затруднения с голытьбой, вырезать их всех до единого или сжечь их норы вместе с ними. Сеньор Альмагро-сын поставит орудия на стенах, так, чтобы можно было вести круговой обстрел. Сеньор де Сото отвечает за конницу. Он обеспечит ее фуражом!
— О, не беспокойтесь, ваша милость! Зерна в этом их амбаре нам хватит на целый год.
— Прекрасно. Людей держать наготове, каждый командир — на своем посту. Но этого недостаточно. Ведь мы не собираемся оборонять это местечко. Мы только принимаем необходимые меры. А чтобы иметь план на будущее, нужно знать о замыслах врага. С этой целью я решил направить к язычникам парламентеров.
— Парламентеров? — возмутился патер Вальверде.
— Да, падре. Вы и отправитесь к ним!
— Да сохранит меня господь! Я? К язычникам? Может, у них там есть какие-либо идолы и они заставят меня им поклониться…
— Ну, тогда, падре, вы мужественно, как подобает христианину, отвергнете это гнусное домогательство и обретете мученический венец, — засмеялся Педро Вальдивиа.
— Да, но в этом случае миссия не будет выполнена! Слишком много зависит от ее исхода. Нет, нет! Я не могу!
— Ну что ж, ладно. Пойдет сеньор де Сото с несколькими всадниками и переводчиком Фелипилльо. Он узнает, сам ли король возглавляет орду этих дикарей, с какими намерениями он движется сюда, каковы их силы.
— Я? — Легкомысленный кавалерист весело рассмеялся. — С удовольствием! Фелипилльо говорит, что местный властитель тащит за собой целый гарем. Меня очень интересуют эти шоколадные прелестницы.
— Грех. Тяжкий грех, — шептал патер Вальверде, возводя глаза к небу.
Глава двадцать третья
Фелипилльо, хотя и привык к лошадям, все же не мог пересилить себя и оседлать столь ужасное чудовище, поэтому он бежал за всадниками, едва поспевая. Де Сото не торопился, ехал по дороге не таясь, хотел дать индейцам время заметить его и приготовиться к встрече.
Над ним развернулся желто-красный стяг Испании, а вперед по совету Фелипилльо он послал одного из солдат, который нес большую зеленую ветвь — символ мира.
Армию индейцев они неожиданно для себя обнаружили значительно ближе, чем предполагали, — как только перевалили через холмы, в полутора испанских милях от реки.
Их отряд, вероятно, замечен был уже давно, потому что те колонны, которые де Сото утром видел на марше, теперь были развернуты широким фронтом поперек долины.
— Они выстроились в боевом порядке, сеньор. — Фелипилльо задрожал. — Так всегда строятся перед сражением.
— Где может быть их вождь?
— Там, в середине, сеньор, где развевается знамя радужных цветов. Это… знамя самого сапа-инки!
— Ага, там, где отряды воинов в золотых шлемах? Это, вероятно, королевская гвардия. Поедем туда!
Он оглянулся на своих людей. Пожалуй, кое-кто из них побледнел, а может быть, и нет — разобрать это было нелегко, ведь все загорели дочерна. Но у многих глаза беспокойно бегали по бесконечным рядам неприятельского войска, а руки, непроизвольно натягивавшие поводья, выдавали их:
старые рубаки знали, что решительный час настал. Кони, которым передавалось беспокойство их хозяев, вытягивали морды, гарцевали на месте, рвались вперед.
Де Сото взял ветку из рук солдата.
— 3а мной! — спокойно скомандовал он и направился прямо к ближайшему отряду индейцев.
На головах воинов были шлемы, прикрывавшие уши и затылки, с невысокими гребнями, грудь их защищали панцири из плотной простеганной ткани. У них были круглые щиты, сумки из кожи вигони и обоюдоострые боевые топоры на длинных рукоятях. На их лицах, руках и ногах с помощью белой, черной, желтой красок были намалеваны полосы и круги.
Индейцы взирали на приближающихся чудовищ, ничем не выдавая своего удивления, страха или восхищения.
Какой-то командир без щита и походной сумки, в шлеме, украшенном перьями, отдал команду, и шеренги разомкнулись, образуя широкий проход. Де Сото направил в эту брешь своего оторопевшего коня.
— Смотреть только вперед! — бросил он, не оглядываясь на своих людей. — Если дорожите своей шкурой, глядите прямо перед собой! Кто оглянется, получит двести ударов палкой!
Отряды индейцев на второй и третьей линии расступились столь же послушно, и дорога, образованная стеною щитов, смуглых лиц и блестящих шлемов, тянулась все дальше и дальше вглубь. Де Сото и сам едва сдерживал себя, ему так хотелось оглянуться — а вдруг эта стена уже сомкнулась за его спиной.
Но впереди он увидел отряд воинов в золотых шлемах, который не расступился перед ним, и он осадил коня на просторной поляне.
Перед шеренгами гвардии застыла группа индейцев, одни были в дорогих доспехах, другие оказались безоружными, по все в нарядной одежде из тонкой ткани, все с массивными золотыми серьгами, оттягивавшими уши, на каждом — ожерелья, перстни, браслеты.
— Это инки! — Фелипилльо, судорожно цеплявшийся за стремя де Сото, снова задрожал от страха. — Сеньор, это знатные инки! Дары! Надо скорее вручить им дары! И поклониться, господин, сразу же поклониться!
— Молчи, дурак! — Де Сото незаметно, но крепко двинул его в бок. — А самого короля среди них не видно?
— Ай… Нет! Это только высшие сановники.
Удар образумил переводчика и одновременно, как это ни странно, вернул ему утраченную было самоуверенность. Фелипилльо вдруг понял, что он под защитой грозных белых воинов. Что среди них он свой человек. У двух всадников к седлам приторочены заряженные мушкеты, зажженные фитили наготове. Эти дурни инки думают, будто здесь, в самом сердце своего войска, они в безопасности. Но достаточно одного слова белого вождя, как грянут громы и уничтожат их. Или же страшные звери белых примутся топтать индейцев. Достаточно им увидеть этих зверей в гневе, и они тут же обратятся в бегство.
Сознание безопасности сразу вернуло Фелипилльо его обычную наглость. Он почувствовал себя несравненно выше своих «диких» собратьев и значительнее, чем сановники-инки, вызывающие у него страх и почтение.
— Да, сеньор, Фелипилльо повторит им слова белого вождя, — с готовностью ответил он де Сото.
— Говори так: великий вождь белых людей прибыл сюда из-за моря по приказу короля королей, самого могущественного властелина на свете, чтобы взять этот край под свое покровительство. Скажи, что мы приходим сюда как друзья, однако на врагов своих ниспошлем громы и молнии. Скажи, что мы научим их почитать истинного бога, который принесет им спасение и счастье.
— Слушаюсь, сеньор, — повторил Фелипилльо и вышел вперед.
Теперь, когда от группы инков его отделяло лишь несколько шагов, он заметил, что ни один из них не взглянул на него, на его красивый головной убор белого человека, на его прекрасные штаны, которые уже очаровали стольких женщин по дороге от Тумбеса.
Спокойно взирали они поверх его головы на белых всадников. И он разозлился.
— Эй, вы, язычники! — слово «язычники» отсутствует в языке кечуа. Фелипилльо произнес его по-испански. — Слушайте, что говорю вам я, Фелипилльо, я, самый могущественный друг белого!
Но никто из инков не пошевельнулся, не подал и виду, что слышит и понимает его.
— Это говорит вам белый вождь: вы должны признать его своим господином и воздать ему почести. Вы обязаны поклониться богам белых людей и принести им жертвы. Великому вождю белых подвластны громы, ему служат самые могучие духи. Опасайтесь гнева белого вождя!
Снова переводчика не удостоили ни единым взглядом. Фелипилльо охватило бешенство, он вышел из себя.
— Подлые язычники! Белый вождь отдал вас в мои руки! Святой Филипп, а это великий бог белых вождей, о котором вы и понятия не имеете, но который внемлет моим словам, уже недоволен вами. Если вы тотчас же не исполните мои приказания, я обращу против вас гнев бога, святого Филиппа, а также гнев святой Марии и святой Магдалины.
— Что ты им болтаешь о святых! — Де Сото уловил знакомые имена и, заинтересовавшись, прервал переводчика.
— Я рассказываю этим язычникам про нашу святую веру, как учил меня падре Вальверде, сеньор, — кротко и покорно отозвался Фелипилльо.
— Это хорошо. А теперь спроси их, зачем они идут с такими силами на Кахамарку?
— Слушаюсь, сеньор! — Обратившись к неподвижной группе инков, Фелипилльо снова начал говорить вызывающим тоном. — Слышите, вы? Белый вождь разгневан. Я один понимаю и ваш и его язык, я один способен умерить гнев белого господина. Белые люди считают меня мудрецом, Я замолвлю за вас словечко, если вы вознаградите меня за это.
Какой-то человек незаметно пробрался через шеренги гвардейцев, что-то торопливо шепнул одному из сановников и исчез.
Фелипилльо врал без удержу. Он уже сам уверовал в свое могущество.
— Вас много, как вигоней в час большой охоты, однако у белых людей есть громы, которые могут мгновенно вас всех поразить. И все вы отправитесь в ад (слово «ад» он тоже произнес по-испански), а это страшное место. Я, только я один, могу смягчить гнев белых и спасти вас! Но вы должны дать мне за это… — он заколебался, так как любая награда уже казалась ему недостаточной, — вы должны мне дать столько золота, сколько я смогу унести с собой. Вы должны дать мне самые большие серьги и боевой топор из чистого золота!
Он наконец заметил выражение гнева и презрения на лицах некоторых вождей, но, лишь подстегнутый этим, болтал дальше.
— Вы обязаны дать мне женщину! Деву Солнца, которую я сам выберу!
— Замолчи, наглец! — не выдержал в конце концов кто-то из инков.
Фелипилльо засмеялся.
— Мне покровительствует уака белых господ. Я ведь человек белых людей. Знайте, язычники, что я возьму себе любимейшую жену самого сапа-инки!
Один из вождей вдруг сорвался с места, словно хотел броситься на наглеца, но другие удержали его, что-то быстро проговорив ему на тайном наречии инков. Наконец верховный жрец — Фелипилльо упорно отводил взгляд, чтобы не видеть его голову, вселяющую священный ужас, по древнему обычаю сплющенную и вытянутую кверху, — резко сказал:
— Ты прибыл с белыми под сенью ветви мира и уйдешь вместе с ними. На этот раз ты еще сможешь уйти. Но ты должен им повторить: если они хотят с нами разговаривать, пусть берут с собой другого переводчика. Через тебя мы отказываемся вести с ними переговоры. Для нас ты — всего лишь помет шелудивой ламы, дерзкий грубиян!
Снова сквозь строй гвардейцев пробрался посыльный и что-то прошептал. Жрец выслушал его, почтительно склонив голову. Потом он обратился к переводчику:
— Это велел передать белым сын Солнца, сапа-инка Атауальпа: мы не боимся громов белых пришельцев и одним ударом способны стереть их с лица земли. Но мы не хотим оскорблять их богов. Поэтому мы разрешаем белым уйти к берегам мамакочи и отплыть так же, как они прибыли сюда. Мы преподнесем им подарки и снабдим их продовольствием. Но они больше не должны возвращаться в нашу страну.
— Что он говорит? — теряя терпение, спросил де Сото. Сидя верхом на коне, он прекрасно видел длинные шеренги воинов, отдавал должное их спокойствию, дисциплине и вооружению и все больше жаждал как можно скорее оказаться среди своих, под надежной защитой стен Кахамарки и пушек, на них установленных.
— Это очень наглый язычник, сеньор, — Фелипилльо не глядел на инков и торопливо стремился излить свою обиду и злость. — Он хочет, дабы сеньор наместник отвесил ему поклон, отдал оружие из твердого серебра и чтобы все белые поклонились их богам. Может быть, тогда они позволят вам уйти. По его словам, он только потому столь благосклонен к вам, что убедился, насколько я могущественнее всех духов, которым он служит!
— Он не пропустит нас к их королю?
— Сеньор, он очень презрительно отзывается о белых господах, я даже не смею этого повторить. Он говорит, что их король предпочитает лучше глядеть на помет шелудивой ламы, нежели на белых.
— Они не нападут на нас, когда мы будем возвращаться?
— Этот, с перьями на голове, хотел ударить копьем по ногам лошади, но тот жрец запретил. Он боится оскорбить ваших богов. Я им сказал, что конь — это любимое животное святого Георгия, так что благодаря мне вы вернетесь живыми!
— Лжешь, Фелипилльо! О святом Георгии ты не говорил ни слова. Ведь я слышал.
— Я назвал его главной уакой белого вождя, такой дикарь только эти слова и способен понять, сеньор.
— Вернемся! — бросил де Сото.
Глава двадцать четвертая
Вечером индейцы подошли к городу настолько близко, что с крепостных стен был виден весь их огромный лагерь. Однако военных действий они не предпринимали, не переправлялись через реку и стояли на месте, словно чего-то ожидая.
Писарро принял решение отправить около полу дня новое посольство, в составе своего брата Эрнандо, де Сото и трех всадников. Фелипилльо, который ни словом не обмолвился об оскорблениях, павших на его голову, должен был сопровождать их и на этот раз.
Писарро дал брату подробные указания, как надо держаться, поэтому маленький отряд решительно направился прямо к королевской ставке, которую не трудно было распознать издали по радужному штандарту.
Снова, как и в прошлый раз, индейцы разомкнулись, уступая им дорогу, однако теперь расступилась и гвардия, и испанцы неожиданно оказались в центре каре, у входа в какое-то здание, перед сидящими с гордым видом сановниками.
Фелипилльо, хотя и считал себя «почти белым», побледнел от ужаса и чуть было не пал ниц, когда увидел пурпурную повязку на голове вождя и два чудесных переливающихся пера.
Любой индеец, живи он даже в самой захудалой горной деревушке, вдали от двора и столицы, тотчас узнал бы эту повязку с перьями птицы коренкенке, самую большую святыню, которую мог носить только сын Солнца, царствующий сапа-инка.
— Это король, сеньор, — шепнул Фелипилльо дрожащими губами, низко поклонившись. Ох, если бы он мог пасть ниц, не глядеть в эти глаза, холодные и как бы обращенные к далеким мирам и лишенные всякого чувства и выражения. Однако приказ белого вождя был ясен: не подавать индейцам и виду, что белые признают их мощь и достоинство. Всадникам запрещалось спешиваться. Дикари не должны Знать, что это совершается легко и быстро, без волшебства.
— Который? Этот в середине? А может быть, он только выдает себя за короля?
Фелипилльо возмутился.
— Нет, никто другой не осмелится надеть повязку. Это сам сапа-инка.
— Отлично. Итак, повторяй вслед за мной: вождь белых воинов, посланец величайшего короля мира, господина земель и морей…
Рыцарь де Сото выпил утром слишком много соры и вина, и ему вдруг захотелось похвалиться чем-нибудь перед этими дикарями. «Я хотел показать им нашу силу, сеньор! — объяснял он впоследствии Писарро. — Когда дон Эрнандо так выразительно говорил о нашей мощи, сеньор, мне захотелось показать ее язычникам!» Он вдруг вздыбил коня, перемахнул через головы сидящих сановников, сделал круг и, сияющий, возвратился на свое место.
Атауальпа не дрогнул, однако двое инков, над головами которых взметнулся дерзкий наездник, не сумели сдержать своего страха, непроизвольно наклонив головы.
— … спрашивает тебя, король, с какой целью ты прибыл с таким огромным войском, — продолжал Эрнандо Писарро. — Хотя наши громы и могли бы уничтожить всех твоих воинов тотчас же, однако мы пришли сюда не для того, чтобы убивать, а чтобы научить вас святой вере в единого бога и распространить над вами покровительство самого могущественного на свете властелина.
Фелипилльо переводил, дрожа всем телом и не смея поднять взгляд.
Отвечал жрец, сидящий справа от властителя.
— Скажи белым, ты, раб о двух языках. Это говорит сапа-инка Атауальпа, властелин мира. Мы не нуждаемся в вашем покровительстве, чужих властителей мы признавать не хотим. Вы перед нами словно горсть ила в час паводка. Но сын Солнца не хочет проливать кровь и позволяет вам уйти с миром так, как вы и прибыли сюда. Если вам не хватает продовольствия, он прикажет снабдить вас на дорогу всем необходимым.
— Ничтожный камень сдерживает лавину, а ил останавливает паводок, — уверенно отвечал Эрнандо Писарро. — Наш великий властелин направил сюда немного людей, однако и этого достаточно. Один удар грома способен свалить дерево или дом, а молний у нас столько, сколько нам нужно. Знай же, король, ты еще жив только потому, что мы не желаем тебе зла. Наш вождь напоминает тебе об этом и призывает опомниться. Но поскольку тебе еще неведома наша мощь, вождь приглашает тебя в гости в наш лагерь. Он посылает тебе через меня эту зеленую ветвь. Приходи же с нею, погляди и решишь сам. Мы ничего перед тобою не скрываем.
Атауальпа сказал что-то, едва пошевелив губами. Жрец с почтением выслушал и обратился к испанцу.
— Сын Солнца соизволил выслушать ваши слова. Он прибудет завтра в город со своим двором и советниками.
— Чем больше будет тех, кто оценит и поймет, что наша мощь превышает все самое могучее на земле, тем лучше. Итак, завтра? Отлично. Приходите с зеленой ветвью, но без оружия. — Выразительным жестом он показал, что сам не имеет при себе меча. Мушкетов, притороченных у седла, индейцы не могли заметить, они даже не знали, что это оружие. — Наш вождь примет тебя, король, как друга, как вассала нашего господина, первого вассала на этой Земле.
Он склонил в легком поклоне голову, увенчанную серебряным шлемом, и повернул коня, едва Фелипилльо перевел его слова.
Атауальпа не пошевельнулся, и взор его по-прежнему был устремлен куда-то вдаль. Только когда сверкающие золотыми доспехами шеренги гвардейцев сомкнулись за чужеземцами, он вдруг спокойно и бесстрастно, но с холодной угрозой сказал:
— Чикама и Магуэй!
Инки, названные по имени, склонили головы.
— Мы внемлем твоим словам, сын Солнца.
— Ты, Чикама, захватил уну Анкачс, ты, Магуэй, долгие годы был одним из моих приближенных. Твоя сестра стала моей любимой наложницей, а я отдал тебе в жены свою сестру.
— Мы твои верные слуги, сын Солнца,
— Поэтому я благосклонен и милостив к вам. Отправляйтесь тотчас же на ту скалу и бросьтесь в пропасть, — все так же спокойно продолжал Атауальпа.
Казалось, все присутствующие вдруг затаили дыхание, такая тишина повисла над лагерем. Издали доносился только затихающий стук копыт.
Наконец молчание нарушил верховный жрец.
— Твоя воля — это воля бога Инти. Но позволь нам понять твой приговор, дабы все мы смогли прославить перед народом твою мудрость.
— Чикама и Магуэй покрыли позором всех воинов-инков. Когда тот белый юнец перепрыгнул через них на своей большой ламе, они в испуге пригнули головы.
Чикама и Магуэй, бледные настолько, насколько может побледнеть индеец, опустились на колени, припав лицами к земле, потом молча поднялись и удалились к скале. Никто не взглянул в их сторону.
— Хорошо, если бы белые знали, как у нас карают даже самых храбрых воинов, когда им хотя бы на миг изменит сила духа, — все также спокойно продолжал Атауальпа. — Но меня не занимают мысли неверных, которые грабят храмы. И глупцов, которые слишком надеются на свои громы. Мы отправимся туда завтра, но только для того, чтобы усыпить их бдительность и прикинуть, с какой стороны нам лучше атаковать Кахамарку. Уильяк-уму и ты, Чаликухима, отберите людей, которые будут нас сопровождать. Таких, кто способен видеть не только то, что сам враг собирается показать. Вместе с нами отправятся пять-шесть тысяч человек. Женщин не брать.
— Будет так, как ты повелеваешь, сын Солнца!
Глава двадцать пятая
Писарро расположился в доме над рекой. На время совета он приказал выгнать всех невольниц, прислуживавших ему; в их числе оказалась даже Рана, на которую так неодобрительно косился патер Вальверде. Всеми дозорами — а число их было удвоено — командовал Хуан Писарро.
— Глупцы эти белые, — позевывал Фелипилльо, жуя листья коки. — Гляди, сколько их собралось на военный совет. Будут пить сору или это свое вино… Хотя ты и понятия не имеешь, что такое вино. Болтают, как попугаи на дереве. А потом отвесят поклон своему вождю и уходят. Вместо того чтобы пасть ниц и в полном молчании выслушать приказ.
— О чем они там совещаются сегодня? — с беспокойством спросил Синчи. С момента прибытия в лагерь белых, после допроса никто больше не интересовался им. Если бы не Фелипилльо, рядом с которым Синчи все время старался держаться, его вместе с прочими пленниками уже давно отправили бы на тяжелые работы или сделали бы носильщиком.
— Что они там сегодня обсуждают? Может, как найти мою Иллью?
Фелипилльо расхохотался, не скрывая своего презрения.
— Глупец! Ты им поверил? Ни один из них наверняка уже и не помнит, что такая девка есть на свете.
— Я не верю тебе! Ты же сам переводил мне слова большого белого вождя. За то, что я послушно рассказал все, что знал, они найдут мою Иллью. Да и как бы я мог молчать, если мне приказал говорить такой важный господин?
Фелипилльо лениво пожал плечами.
— Если бы у меня была любимая девушка, то я предпочел бы, чтоб белые ничего о ней не слышали и никогда ее не видели. Ведь ты знаешь невольниц, что находятся здесь в лагере. Рана, которую держит при себе сам Писарро, — из рода инков, дочь высокого камайока. Гуитора, ну, знаешь, девка того белого на черном коне, — сестра правителя уну Пьюра. Окла, с рваными ушами, дочь инки. У нее были огромные золотые серьги, их сорвали белые, повредив ей уши… А потом вас всех продадут торговцам в Панаме.
— Что это значит: продадут?
Фелипилльо не удостоил Синчи ответом. Перед его глазами встала большая, залитая солнцем площадь в Панаме, жалкие лачуги, в которых держали невольников, он увидел ярмарочный торг, когда рабов по очереди втаскивали на возвышение, срывали с них одежду, щупали, разглядывали, приценяясь, и нещадно били палками за каждую провинность.
Потом длинные шеренги скованных попарно рабов куда-то уходили. Иногда к югу, на рудники, иногда в Мексику, иногда на восток, к берегам другого моря, а потом на какие-то острова, откуда никто не возвращался. Белые покупали самых красивых девок, даже если те оказывались уже крещеными.
Синчи не ждал ответа Фелипилльо, так как его гораздо больше интересовало совещание белых вождей.
— Я не верю тебе! Сам большой белый вождь обещал мне спасти Иллью. А слова вождя верны, как кипу. Не было бы никакого порядка, если бы люди не верили слову вождя.
— Дурень! — Фелипилльо перевалил языком во рту комок коки. Ему не хотелось ни разговаривать, ни думать. — Дурень! Ты просто не представляешь себе, что такое белые.
— Ты знаешь их язык, Фелипилльо, подкрадись, послушай. Может, они все же говорят про Иллью?
Переводчик лениво зевнул.
— Не стоит. Глупый простофиля, ты ничего не понимаешь. А я знаю, о чем они говорят: «Слушаюсь, сеньор генерал! Слушаюсь, ваша светлость!»
— Что это значит?
— Не твое дело. Достаточно того, что это знаю я. А падре Вальверде, их главный жрец, говорит: «In nomine Patris!» Это великое заклинание, но я и его знаю. Глупо, не стоит подслушивать. Да и жарко, наконец, и мне не хочется, а потом эта охрана…
Синчи знал, что охрана не помешала бы ему перебраться через ограду, что он сумел бы подползти и подслушать, однако ему неведом язык белых. А Фелипилльо уже засыпал, сытый, снедаемый скукой, осоловевший от листьев коки. Он, Синчи, так и не узнает, о чем говорят белые.
Фелипилльо был прав, утверждая, что белые говорят не об Иллье, но ошибался насчет остального. Потому что в тот день совещание — а Писарро созвал чуть ли не всех офицеров и грандов — проходило с большой серьезностью и в полной тишине. Впрочем, Писарро не интересовался ничьим мнением, не допускал никаких возражений. Он ознакомил присутствующих с создавшимся положением и начал отдавать краткие, но четкие распоряжения.
Поэтому и ответы были короткими.
— Слушаюсь, сеньор!
Дольше других говорил только падре Вальверде.
— Замысел этот хорош и угоден богу, так как он сулит быструю и легкую победу над этими исчадьями сатаны. Но если бы всемогущий в своей бесконечной милости бросил свет истинной веры на этого Атауальпу…
— Ну, тогда и наш план не понадобится!
— Но так не будет.
— Мы не можем заранее знать, где и когда господь соблаговолит проявить свое могущество и милость, — не слишком уверенно отозвался духовник, возводя глаза к небу.
— Завтра увидим. Но уповать на чудеса не будем, поэтому, сеньоры, займитесь своими людьми. Они должны отдохнуть, быть сытыми и держать оружие в полном порядке. А утром дать им соры, пусть пьют вволю.
— Они позабудут об осторожности.
— За это отвечают офицеры. Отвечают своей головой.
Падре Вальверде снова нерешительно вмешался в разговор.
— А не стоило бы такой важный, я бы даже сказал, исторический день начать с торжественного богослужения?
Писарро на минуту задумался, потом со значительным видом кивнул.
— Хорошо. Только покороче. После мессы, падре, нужен гимн «Exsurge, Domine».
— Правильно. Это поддержит дух солдат…
— Наши солдаты не нуждаются в ободрении. Их скорее приходится сдерживать. Да и не о них речь. Я думаю о том, чтобы снискать расположение неба. То, что мы замышляем, опасно, но совершается во славу господа, поэтому мы можем рассчитывать на его благословение.
— Я гарантирую его вам, ваша честь! — серьезно ответил патер.
Испанцы, возбужденные вином и сорой, вели себя на богослужении не слишком благочестиво.
В Новый Свет устремлялись всякого рода авантюристы, все те, у кого совесть была не чиста. Тем самым многим из них удавалось ускользнуть от внимания властей, проявлявших к ним повышенный интерес. Их гнала в неведомые края жажда приключений, мечты о господстве, но чаще всего главным побуждением являлась склонность к анархии и жажда обогащения. Если что-то и воодушевляло их по-настоящему, то, пожалуй, лишь созерцание награбленной добычи. Это были в большинстве своем опытные вояки, ветераны многочисленных битв, которые, когда нужно, умели упорно сражаться, но могли не колеблясь пойти на любое вероломство, обман, измену, если только это помогало осуществлению их планов.
Среди людей Писарро находилось немало сподвижников Кортеса либо участников экспедиции Бальбоа, а те, кто не ходил с этими завоевателями в Мексику и Панаму, о том, что там делалось, знали по рассказам очевидцев, Они не считали индейцев людьми, и для них самым выгодным промыслом служила торговля невольниками. Соблюдать законы, иметь совесть и честь, хранить верность обещаниям по отношению к краснокожим? Как бы не так! Ведь в глазах завоевателей аборигены Нового Света были ничем не лучше скота.
Сам Писарро, невежда и пройдоха, пресмыкавшийся перед королем, но заносчивый с грандами и идальго, которые зависели от него, человек, открыто и нагло обкрадывавший даже своих товарищей при дележе добычи, почти ежечасно доказывал, что здесь — на новой земле, царит один лишь закон — закон силы. Сильным же оказывался тот, кто умел обмануть, перехитрить, обвести вокруг пальца.
Хотя экспедицию Писарро сопровождало несколько духовных лиц и основной, громко провозглашаемой целью ее было обращение варваров-язычников в истинную веру, цель Эта, однако, откладывалась на будущее. Патер Вальверде оставил за собой право стать епископом покоренных земель, а пока что у них шла грызня с Писарро из-за добычи, захваченной в языческих храмах. Он доказывал наместнику, что эти богатства должны принадлежать католической церкви…
Подробности предстоящей в этот день операции не были известны всему войску. Все знали только, что Писарро собирается хитростью одолеть индейцев. Воины подтянулись, четко построились, решительные и готовые к схватке. Быть может, не требовалось даже вина, достаточно было сказать им, что настала решающая минута. Ведь самый недалекий наемник понимал: или они победят и тогда станут могущественнее испанских грандов, или всем им конец. Возврата нет: за ними устремится многотысячное войско, перед ними снова окажутся знойные, почти непроходимые прибрежные леса, через которые они продирались сюда совсем недавно. Значит, необходимо победить. Как? Об этом пусть позаботится Писарро. Их дело — точно и без промедления выполнить приказ.
Перед главными воротами Кахамарки, как раз стой стороны, откуда приближались индейцы, простиралась большая площадь, место народных игрищ и сборищ. Здесь же производился обмен товаров — единственная форма торговли, известная в Перу. С трех сторон площадь обступали просторные, пустые в эту пору года амбары, загородки для лам, которых пригоняли сюда для стрижки или на убой, постоялые дворы. Над площадью и всей прилегающей к ней местностью господствовали испанские пушки, которые установили на городских стенах. Эту площадь и выбрал Писарро.
Батареей командовали Педро де Кандиа и де Альмагро младший. Канониры и Хуан Писарро расположились на стенах твердыни. Остальных, всех до единого, по приказу наместника сосредоточили ближе к самой площади.
Падре Вальверде торопился отслужить мессу. Он поминутно отводил взор от походного алтаря и с нескрываемым беспокойством всматривался вдаль, в сторону почти лишенного растительности горного перевала. Преждевременное появление индейцев могло сорвать весь план.
Но Писарро не волновался и не оглядывался. Он знал, что дозоры выехали еще до рассвета и уведомят его заблаговременно о приближении противника. С городских стен тоже далеко видно, значит, их не застигнут врасплох. Потому он внимательно слушал слова молитвы, не видя ничего преступного в принятом им решении. Ведь десятую часть добычи он пожертвует церкви, да еще и от себя кое-что добавит.
Если же намерение его не осуществится, если его ожидает поражение и смерть, что ж, он и это принимал в расчет, когда задумывал свою отчаянную экспедицию. Патер Вальверде обещал ему спасение души, так как он уже немало язычников обратил в истинную веру. То, что индейцев крестили силой, не имело значения. Но если повезет, если он покорит это удивительное, могущественное государство, если вести о неиссякаемых золотых богатствах не преувеличены, то он обретет невиданную и неслыханную мощь, станет первым грандом Испании и никто уже не посмеет иронически посмеиваться, дерзко и пренебрежительно напоминать ему, что он всего-навсего внебрачный сын захудалого дворянина и простой крестьянки. Король далеко, а тут, в Новом Свете, владыкой будет он, Франсиско Писарро. Только он один.
Падре Вальверде запел священный гимн, и все войско подхватило его. Воины помнили еще по своему опыту в родной стране, как опасно молчать, когда поют гимны. Тут, правда, не было доминиканцев-инквизиторов, но старая привычка взяла свое. Поэтому «Exsurge, Domine» звучало почти проникновенно. Писарро подумал при этом: «Здесь нет освященных колоколов, чтобы разогнать языческих демонов, но, пожалуй, хор звучит не хуже колокольного звона. Да, этот гимн очень кстати».
Сразу же после богослужения Писарро стал отдавать приказания. Часть конницы под командой своего брата Эрнандо он отправил к большому складу на краю площади, остальные конники стали за воротами, которые наместник велел запереть. Пехота укрылась в зданиях по обеим сторонам площади, мушкетерам приказали быть наготове с зажженными фитилями.
Отряды передвигались быстро и четко, прошло лишь несколько минут, и площадь совершенно опустела.
Где-то в садах над рекой чирикал дрозд-чиско, высоко над городом парил гриф, это, казалось, были единственные живые существа во всей округе. Не фыркали кони, не бряцало оружие, не звенела сбруя.
Со стороны гор к городу медленно плыли одинокие белые тучки.
Тишину резко нарушил топот ног. Кто-то шел по стене над воротами. Затем дозорный выглянул наружу и весело, да, весело крикнул:
— Идут! Ваша честь, они идут к воротам.
— Хорошо. Фитили держать наготове, но чтобы нигде не было видно дыма! Помните, стрелять только тогда, когда я подам сигнал!
— Будет исполнено. Сеньор де Кандиа сам внимательно следит за этим.
— Хорошо! Быть наготове и ждать!
Согласно христианскому календарю это был день шестнадцатый, ноября, лета Господня 1532.
Глава двадцать шестая
Впереди шел высокий воин из дворцовой гвардии с большой зеленой ветвью пальмы, за ним — придворные с пучками зелени в руках. Их обязанностью было подметать дорогу на тот случай, если бы сын Солнца пожелал пройтись пешком. За ними шестеро специально отобранных атлетического вида мужчин из племени чанка несли открытые позолоченные носилки Атауальпы. Носилки окружали знатнейшие вельможи, советники и родственники владыки. За ними следовала огромная толпа инков, вождей, жрецов, сановников. Никто не организовывал это шествие, но врожденный, вернее, из поколения в поколение насаждаемый культ иерархии придал этой процессии определенный порядок. Сначала шли инки из рода властелина, потом жрецы, сановники, воины, а затем — кураки.
Несмотря на то что всех интересовали эти удивительные пришельцы с белой кожей, никто не глазел по сторонам, взоры всех были прикованы к фигуре властителя. Возможно, он подаст какой-либо знак, тем или иным образом выразит свою волю или желание, и тог, кто первый увидит и поймет это, может неожиданно возвыситься над другими придворными, счастливым образом изменив свою судьбу.
Сын Солнца, сапа-инка Атауальпа, властитель Тауантинсуйю, владыка племен аймара, кечуа, колья, чанка, сечура, кайапа, чье слово разносилось с быстротой пламени, бегущего по сухой траве, — от Кито до священного озера Титикака и от мамакочи, через горы, до горячих и душных равнин за Укаяли, — сын Солнца восседал неподвижно на своих золотых носилках. Перья птицы коренкенке чуть заметно покачивались над его головой — дул слабый ветер с гор.
Атауальпа смотрел на Кахамарку. Совсем недавно город сдался без сопротивления его войскам и весь гарнизон отправился с ним против Уаскара. Никто не предвидел, что здесь, в глубине страны, вдруг появится какой-то новый неприятель.
Однако он пришел и захватил город. Без борьбы. А теперь укрылся за его стенами. Значит, и крепостные стены в глубине государства порой представляют опасность, так как способны служить и врагу.
Никто не ожидал здесь неприятеля, а ведь долг властелина — предвидеть даже невозможное.
Белые ограбили и осквернили храм, жрецы ничего подобного никогда и не предсказывали, а сила священных чар не уничтожила захватчиков. И еще: жрецы берут доходы с третьей части всей земли, а когда требуется их помощь, они бессильны.
На стенах никого не видно. Ворота закрыты. Разве так должны встречать города сына Солнца? Эти белые все изменили.
Голова процессии уже достигла центра площади и приблизилась к стенам. Опытные воины приметили, что в узких амбразурах блестят доспехи, что здесь и там мелькают какие то смутные тени.
В недавно расширенных бойницах крепостных стен виднеется что-то странное, похожее на металлические кувшины, обращенные горлами к площади.
В нескольких местах, хотя Писарро и был уверен, что горящие фитили достаточно хорошо замаскированы, индейцы заметили слабый дымок. Белые, правда, стращали их громом, но ведь день погожий, небо ясное, ничто не предвещает ни бури, ни грозы.
Атауальпа наконец пошевельнулся. Едва заметного движения рукой было достаточно, чтобы люди с носилками тотчас же остановились.
— Где эти белые пришельцы? — Голос властелина среди мертвой тишины, царившей на площади, был слышен далеко. — Или у них так принято встречать гостей?
— Они стоят на стенах, сын Солнца, — неуверенно начал Чаликухима, вождь войска из Интиниса, первый вельможа после самого сапа-инки.
Но уильяк-уму тотчас же перебил его.
— Один из них направляется к нам.
Ворота приоткрылись на одно мгновение, и отец Пикадо, сопровождаемый только переводчиком Фелипилльо, вышел на площадь. Он торжественно держал в руках огромную Библию, переплетенную в кожу с золотым тиснением, и шел гордо и смело.
«Помни, отец, на этот раз ты должен идти, а не подкрадываться, должен держать голову высоко и говорить, а не подслушивать», — не то серьезно, не то как грубую шутку бросил Писарро, провожая его.
Пикадо точно придерживался этого наказа, хотя и дрожал от страха.
Младший брат Атауальпы, Тупак-Уальпа, шедший возле самых носилок, узнал Фелипилльо.
— Это тот щенок, который уже приходил к нам.
— Да, тот самый, которому господин запретил являться перед его очами, — сразу же напомнил верховный жрец.
— Чаликухима, мой приказ не выполнен, — холодно подтвердил властелин. — Этот раб в третий раз осмеливается разговаривать с нами. С ним надо покончить!
Вождь склонил голову.
— Мумия этого дерзкого простолюдина не осквернит священных погребений Тауантинсуйю, сын Солнца. Он должен умереть другой смертью. Но он принадлежит белым. Он им необходим, как человек о двух языках. Пока мы не покончим с белыми…
— Пусть он встретит зеленую змею, — прервал его Атауальпа.
— Он встретит ее сегодня ночью, повелитель.
Пикадо остановился перед носилками и торжественно поднял вверх священную книгу. Свою речь он готовил долго, учил ее наизусть старательно, хотя все в конце концов зависело от Фелипилльо. А тот, как всегда, облегчил свою задачу. Когда Пикадо, кратко излагая индейцам догматы христианской веры, заговорил о боге едином в трех лицах, Фелипилльо перевел, что белые верят в трех богов, над которыми есть еще один; когда Пикадо объяснял, что вождь белых требует, чтобы инка подчинился его королю, Фелипилльо, заметив, с каким презрением встретили это заявление индейцы, пришел в ярость и перевел, что они станут невольниками, а он, Фелипилльо, будет ушами и устами их господина.
У него от возбуждения срывался голос, он переходил на крик, он хрипел. Он уже не слушал, что говорил священник, а, все больше возбуждаясь и увлекаясь, нес что только приходило ему в голову. Атауальпа ни разу не взглянул на него, но взоры придворных, окруживших носилки, были полны отвращения и гнева. Фелипилльо это видел, чувствовал, но был уже не в силах остановиться.
— Теперь поднеси королю священное писание, пусть он его поцелует в знак того, что принимает нашу веру и присягает в покорности его католическому величеству королю Испании Карлу V. Он тут же будет принят с надлежащими почестями его милостью наместником.
Придворные, удивленные молчанием своего властелина, который, казалось, не слышал все более дерзких слов распоясавшегося юнца, расступились, и Фелипилльо подошел прямо к носилкам.
— Возьми это, — перевел Фелипилльо, пытаясь сунуть в руки Атауальпы тяжелую книгу. — С помощью этой книги белые вызывают духов, в которых заключается их сила. Я, Фелипилльо, знаю эти чары и потому белые меня уважают, и я буду властвовать над всеми вами.
Но Атауальпа не пошевельнул рукой, не сделал ни одного движения, чтобы удержать книгу, огромный фолиант соскользнул и упал на землю.
— Святотатство! — Пикадо, потрясенный, отскочил в сторону. — Кощунство! Священное писание повержено в грязь! О боже!
Писарро, наблюдавший всю сцену через приоткрытые ворота, тут же подхватил этот возглас. Он стремительно повернулся к своим людям.
— Святотатство! Язычники осквернили священное писание! Только их кровь сможет смыть это преступление!
Он рванул меч из ножен, привстал на стременах, его видели все. Острый клинок сверкал в его руке.
Дон Педро де Кандиа, не спускавший глаз с вождя, тут же повторил призыв:
— Пушки к бою!
Канониры отряхнули пепел с фитилей и припали к орудиям.
Тяжело грохнули пушки. Дым на мгновение окутал башни, но уже с другой стороны площади, с позиций Диего де Альмагро, тоже отозвалась батарея, и тотчас же пушкам стали вторить мушкеты — стреляли из зданий, которые выходили на площадь.
Запах пороха, одурманивший индейцев, клубы дыма, грохот, мощный, как небесный гром, грохот, во сто крат усиленный стенами, отражавшими эхо выстрелов, грохот невыносимо долгий, грохот, который мог быть только голосом разгневанных богов, — все это буквально лишило индейцев рассудка.
Невидимые, неведомые стрелы поражали сбившуюся толпу, раздирали, калечили людей, а они лишь жались поближе к носилкам сапа-инки, словно оттуда могло прийти спасение. Они испытывали такой ужас, что уже сама смерть была для них желанным избавлением; это было уже не войско, а толпа, подобная стаду вигоней, попавшему в кольцо облавы.
Носилки властелина заколебались, как челн, застигнутый бурей посреди священного озера Титикака.
— Ильяпа! Ильяпа! — взвыла толпа, и почти никто не слышал голоса Атауальпы, который встал во весь рост на носилках и что-то кричал.
Писарро выбрал подходящий момент и, не давая опомниться индейцам, бросил конницу на беззащитную толпу. Де Сото со своим конным отрядом ворвался на площадь о другого конца, атакуя индейцев с тыла, а с флангов сомкнутыми рядами двинулась закованная в железо пехота.
Никто не оказывал сопротивления, потому что никто не мог сопротивляться. Если даже у какого-либо индейца и было припрятано оружие, все равно в тесноте и давке он не смог бы пустить его в ход. Даже убитые, те, кого издали настигла пуля, не падали на землю, а сохраняли вертикальное положение, подобно тому как дерево, срубленное в густом лесу, продолжает стоять, зацепившись кроной за ветви живых соседей.
Застоявшиеся кони, обезумевшие от запаха пороха и грохота залпов, понукаемые пьяными всадниками, ринулись на толпу, словно хищные звери. Под ударами мечей, под лошадиными копытами полегла вся свита Атауальпы.
… Мигель Эстете минувшим вечером проиграл в кости все, что перепало ему при разделе недавней добычи, проиграл даже перстень, который иногда называл фамильной драгоценностью, а иной раз — подарком самого короля, наградой за мужество, проявленное в италийских войнах. Он проиграл и более ценную вещь — обе подковы своего коня. Пьяный, как все, жаждущий золота, как все, равнодушный к льющейся крови, как все, — он был разъярен больше других из-за своих вчерашних неудач. Но голова у него была все же ясная, и он вполне отдавал себе отчет в своих поступках.
Пока испанцы во главе с Писарро, увлеченные бойней, топтали, рубили и слепо теснили индейцев, Эстете пробивался к высоко вознесенным над толпой носилкам, где стоял человек в нарядном плаще с пурпурной повязкой на голове. Эстете манил и этот человек, и ослепительный блеск золотой застежки на его повязке.
Но не так-то легко было прорваться к носилкам. Ему мешала тесно сбитая толпа, и через эту толпу он прорубал мечом себе дорогу, как через густые заросли. Подымая на дыбы гнедого жеребца, он кидался на индейцев, добивал падавших, рубил всех, кого только мог.
«Подкую… подкую чистым серебром», — думал Мигель, сожалея, что у жеребца в этот день не было подков: что ни говори, а удар подкованным копытом — это удар двойной силы. Однако и неподкованный, конь пробивал брешь в стене из человеческих тел.
«Узнай Писарро об этих подковах… уж он-то изукрасил бы меня плетью».
— Ах ты мерзавец!
Какой-то молодой индеец, уши которого были оттянуты почти до плеч массивными серьгами, молниеносно уклонился от удара и голой рукой ухватился за меч. Пораженный Мигель откинулся вбок, едва не вылетев из седла. Однако тотчас же взметнул коня и одновременно рванул меч к себе так, что из рассеченной надвое ладони индейца фонтаном брызнула кровь. Ударом ноги он опрокинул раненого навзничь, а лошадиные копыта довершили остальное.
Когда первый из королевских носильщиков, раненный в плечо, медленно опустился на колени, носилки накренились. Атауальпа пошатнулся, и в этот момент Мигель Эстете выпустил меч, который повис на ремне, привязанном к запястью, и стремительным движением руки сорвал с чела властелина пурпурную повязку с золотой застежкой. Перья священной птицы закружились в воздухе и пали под копыта коня.
Ближайший жрец бросился вперед, желая спасти святыню, но Мигель рассек ему голову; та же участь постигла военачальника Панки, коменданта крепости Ольонтай.
От страшного святотатства, совершенного белыми, индейцы словно обезумели. По толпе прокатились две волны — одна вперед к носилкам, чтобы защитить властелина, другая — вспять, дальше от проклятого места, над которым, видимо, разразился гнев богов. Потом все устремились в одном направлении, туда, откуда не стреляли и где стояла высокая стена из камней, как обычно, не скрепленных цементирующим раствором, а лишь плотно пригнанных друг к другу.
Рывок полуторатысячной, обезумевшей от ужаса толпы поколебал каменную кладку. Первые ряды со стонами и криками разбились о стену, подле нее образовался целый вал смятых, искалеченных, гибнущих людей, но наконец камни не выдержали натиска живой человеческой массы и рухнули.
Через образовавшуюся брешь, стеная и плача, уцелевшие индейцы ринулись в поле. На сбившихся в проломе людей с тылу, разя всех подряд, налетели испанцы, ошалевшие от крови, исступленные.
Наконец Писарро немного опомнился и окинул взглядом площадь. Даже он, старый вояка, не мог определить количества убитых. Посреди площади, где виднелись носилки Атауальпы, теперь опрокинутые и сломанные, высилась груда человеческих тел, на месте пролома в стене было сплошное кровавое месиво, горы раненых, изувеченных и убитых.
Писарро увидел, что его брат Гонсало, Педро Вальдивиа и патер Вальверде уже ведут к воротам Атауальпу вместе с двумя его сановниками, и понял, что желанная цель достигнута.
Тысячи убитых! А среди них — сановники, вожди, советники, высшие представители касты жрецов, то есть вся верхушка государства. А его сердце — их король — захвачен в плен.
Он подал знак тем, что находились на крепостных стенах, откуда Педро де Кандиа обозревал поле битвы, отдыхая: по этой свалке пушки не стреляли — можно было поразить своих.
Протяжно и торжествующе пропели трубы, призывая воинов прекратить бойню.
Писарро медленно ехал по площади, всматриваясь в павших на поле боя. Кровь высоко била из-под копыт коня, который рвался в узде и беспокойно вставал на дыбы. Удушливый, приторный запах крови ударял в нос, одурманивал.
Пикадо, Хуан Писарро, Диего де Альмагро — все оказались подле своего военачальника.
— Взгляните на их серьги. Ведь каждая пара — целое состояние. Падре Пикадо займется сбором драгоценностей. Застежки с плащей, кольца, браслеты с рук и ног — все пойдет в общий котел.
— Будет исполнено, сеньор наместник,
— Какое богатство! Уже ради одного этого стоило сегодня потрудиться, — отозвался Хуан. Писарро строго взглянул на брата.
— Мы только наказали мерзких святотатцев, не забывай об этом. А если нам досталась и незначительная добыча, значит, такова воля Господня.
— Смотрите, сеньоры, но ведь их вытянутые уши — это просто мерзость
— Orejones!3 — засмеялся Хуан Писарро. — Дикари!
— Однако там, около королевских носилок, они погибали с честью, — отозвался молчавший до сих пор Диего де Альмагро. — Они до самого конца собственными телами защищали своего монарха.
— Один даже бросился, чтобы прикрыть собой перья, которые пали с королевской головы.
Писарро вспомнил самое начало резни и обратился к своему секретарю Пикадо:
— Да, а как священное писание? Вы, падре, разумеется, поспешили поднять его, когда оно было повержено в пыль?
— Нет, — не смутился Пикадо. — Я еще не поднял его. Но это неважно. Если на нем и окажется кровь язычников, то это будет даже угодно господу и не оскорбит его. Главное, что язычники понесли наказание за совершенное святотатство.
— Хм, я не заметил, что вы сделали, падре, когда священное писание упало, — поинтересовался Альмагро. — Вы заслонили его своим телом?
Секретарь наместника ничего не ответил, а Писарро, который видел, как священник в критический момент поспешил незаметно оказаться в стороне, только негромко рассмеялся.
Глава двадцать седьмая
Рассвет позолотил и окрасил розовым небо, а далекие горы на его фоне стали фиолетовыми. В тени улиц еще чувствовалась ночная прохлада.
Атауальпа стоял на краю террасы над самой рекой. Налево на стене в предрассветной мгле виден был испанский часовой, медленно переходивший с места на место. Другой стоял поодаль, на башне. Двое — перед единственным входом в резиденцию короля-пленника. За рекой, об этом Атауальпа хорошо знал, постоянно патрулируют всадники с собаками. Пробраться к нему могут лишь те, кому позволят испанцы.
Атауальпа потер рукой лоб. Хотя с того момента, как пленник привял продиктованные условия и покорился, ему по приказу Писарро возвратили повязку и даже найденные на площади и отмытые от крови перья коренкенке, сын Солнца больше не надевал этих отличий. На голове у него была лишь обычная коричневая повязка из шерсти гуанако.
Он глядел вдаль на равнины за рекой, хотя знал, что ничего отрадного там не увидит. Испанцы изгнали или взяли в плен, якобы за неповиновение, жителей окрестных селений, перекрыли все дороги, отрезав заключенного властелина от его народа. Если за рекой кто-либо и покажется, так только белый на своем огромном и страшном звере, с собаками, специально приученными охотиться на людей. Собак привезла новая партия белых, прибывшая недавно.
Их все больше, и они становятся все могущественнее и наглее. Они совершенно ослеплены жаждой золота. Вождь белых поклялся, что, когда индейцы соберут столько золота, сколько он приказал, пленника отпустят. Его, Атауальпу, вместе с двором. С теми, кто уцелел после страшной бойни или добровольно пришел разделить с властелином его судьбу. А золота надо было собрать столько, сколько уместится в большой комнате крепости. Надо было наполнить ее целиком, до черты, проведенной поднятой вверх рукой. Золото! Инка презрительно усмехнулся. Отлично, они получат золото. Но как они собираются его вывезти отсюда? Как думают спастись сами? Ведь когда, он, Атауальпа, снова окажется на свободе…
Чьи-то руки показались на карнизе балюстрады, какой-то человек бесшумно подтянулся, перескочил через ограду и упал перед властителем на колени. На пришельце был серый плащ воина, на голове шерстяной шлем без всяких украшений.
Атауальпа отпрянул назад. По этикету ему запрещалось самому разговаривать с простым воином, при этом обязан был присутствовать жрец. Однако теперь, под властью белых, не время было принимать во внимание подобные условности. Человек этот прибыл тайно, неожиданно, вероятно, с какими-то известиями.
— Ты кто? — спросил он пришельца тихо и спокойно.
— Твой слуга, сын Солнца. Звать меня Синчи, и со времени большой охоты под Уануко я, господин, был твоим часки-камайоком.
— Помню тебя. Ты спас мне жизнь на охоте. Говори, откуда прибыл и с какими вестями?
— Я прибыл из Кахатамбо, из уну Юнии, сын Солнца.
— Говори.
Синчи остался коленопреклоненным. Он не осмеливался поднять взгляд от каменного пола. Говорил быстро, приглушенным голосом, взволнованно.
О том, как пошел в качестве проводника с камайоками, которые собирали золото, согласно кипу, разосланным по приказу сына Солнца. Он хотел забрать из Кахатамбо девушку… Однако не нашел ее, как вообще не нашел никого в этой деревне. Туда приходили войска, оставшиеся верными Уаскару. Что произошло с людьми — не известно. Поэтому он, Синчи, отваживается просить самого сына Солнца о каком-то распоряжении, о каком-то знаке, чтобы ему отдали Иллью, где бы она ни оказалась. Ее хотел забрать новый властитель уну Юнии. Возможно, он успел взять ее к себе еще до прибытия войска Уаскара…
— Куда направлялось это войско? — прервал его Атауальпа.
— На Силустани, сын Солнца.
— Им известно, что Уаскар там?
— Об этом знают все, сын Солнца.
— Что еще? Рассказывай обо всем, что знаешь!
— Но я больше ничего не знаю, сын Солнца. Иллья как раз исчезла и…
— Расскажи о том войске.
— О войске Уаскара? Оно не пошло через горы, а отступило долиной Уальяго. Предводительствовал им Кахид, главный ловчий.
Атауальпа нетерпеливым жестом прервал бегуна и с минуту молчал, прикидывал что-то, задумавшись. Вдруг он спросил:
— Где мясо, добыча последней охоты?
— Как велит закон, оно высушено и находится на складах, сын Солнца, — с удивлением ответил Синчи.
— Время сбора кукурузы уже прошло. Ее собрали?
— Всюду, сын Солнца.
— Как, без моего приказа?
— Был отдан приказ, сын Солнца.
— Кто осмелился отдать такой приказ?
— Белый вождь от твоего имени, сын Солнца. Часки разнесли его…
— Значит, часки бегают по-прежнему?
Синчи, повинуясь приказу властелина, рассказывал ему то, что знал. Увы, был момент, когда казалось, что жизнь замерла. Это случилось тогда, когда сына Солнца захватили в плен, а две тысячи его советников, вождей и придворных пали под ударами испанских мечей. Никто не знал, что предпринять. Однако вождь белых проявил мудрость. Он понял, что не получит золота, если в государстве не будет восстановлен порядок. Поэтому он вынудил камайоков и жрецов и дальше выполнять свои обязанности. Теперь он отдает им приказы от имени сына Солнца. Приказывает собирать золото, драгоценности, продовольствие. Но прежде всего, конечно, золото. Его свозят со всей страны. Многое белым подсказывает переводчик Фелипилльо. Он советует, например, кого на какую должность назначить. Он требует, чтобы с ним тоже расплачивались золотом, драгоценностями, женщинами… Он рассказал белому вождю и об Уаскаре, указал, где тот находится.
— Откуда он узнал об этом?
— Я сказал, сын Солнца, когда меня схватили. Они приказали говорить, и я рассказывал.
— Глупец! — шепнул Атауальпа, однако тотчас сдержался. — Что сказал белый вождь, услышав об Уаскаре?
— Я знаю лишь то, что мне передал Фелипилльо. Но я ничего не понял. Белый смеялся и говорил, что великого инку Уаскара он тоже должен заполучить в свои руки. Он говорил: посмотрим, кто из них даст больше золота за свою свободу и власть.
Атауальпа минуту размышлял, нахмурив брови. Внезапно он снял с пальца один из перстней и протянул его Синчи.
— Ты сумеешь выскользнуть из города?
— Ночью… да, сын Солнца.
— Отправляйся этой же ночью. Беги в Силустани и отдай перстень коменданту крепости.
— Я отдам его коменданту крепости, сын Солнца.
— Скажешь только — Уаскар. Больше ничего. Уаскар!
— А если он спросит, что это значит?
— Не твое дело! Помни, что воины Уаскара обидели твою девушку. Помни об этом. Беги же быстрей. Ты должен дойти. Захвати с собой запас листьев коки и мчись.
— Хорошо, сын Солнца. Но я прошу дать мне какой-нибудь знак, чтобы я потом мог найти и освободить Иллью…
— Глупец! Ведь ее похитили люди Уаскара.
— Я не понимаю, сын Солнца. Я простой человек. Я ищу справедливости, а где же еще я ее найду, как не у тебя, великий господин?
— Ну, хорошо. Уильяк-уму даст тебе такой знак. Однако ты начнешь искать ее позже. Теперь ты должен бежать и тотчас же вернуться с вестями.
— Я так и сделаю, сын Солнца.
— Иди с оружием. Если кто-либо попытается тебя задержать, убей его.
— Я сделаю так, как ты приказываешь, сын Солнца,
В этот же день сеньор Родриго Моралес де Пеньяс-и-Сотело, один из самых юных сподвижников Писарро, первый раз играл в кости. Он принадлежал к той малочисленной группе конкистадоров, которых привела на землю Нового Света лишь жажда приключений и новых впечатлений, стремление к рыцарским подвигам. Он происходил из рода, в котором уже несколько поколений никто из мужчин не умирал в постели, из рода истинных воинов, смелых до безрассудства, слепо, до самозабвения преданных королю и церкви, рыцарей, воспетых в балладах, известных — но всегда и постоянно бедных. Ко двору они не стремились, не умели обращать свое мужество в деньги, жертвовали всем, ничего не требуя взамен.
Теперь, когда от мавров очистили уже весь испанский полуостров, когда никакой серьезной войны в ближайшее время не предвиделось, дон Родриго отправился в Новый Свет.
Ему надоело нищенское существование в обветшалом родовом замке, он тосковал, он маялся… А кроме того… донья Инес, дочь богатого соседа, так хороша и достойна обожания, но столь недоступна для бедного дворянина.
Дон Родриго тешил себя мечтами о славных подвигах. Стоит ему возвратиться завоевателем и победителем — и перед ним распахнутся все двери. Напрасно он отгонял от себя эти мысли, неизгладимы были впечатления от бесед с молодцами, побывавшими в Новом Свете. Какие там сокровища, сколько там золота! А эта страна, там, на юге, она, наверное, еще богаче Мексики. Если бы вместе со славой удалось добыть еще и золота… Его разочаровали бедные прибрежные селения. Где здесь найти противников, достойных высокородного испанского рыцаря, борьба с которыми покроет его славой! Когда пришлось продираться сквозь сырые, душные приморские заросли, дон Родриго уже и не помышлял о славе и трофеях. Разве таков путь, ведущий к великим рыцарским подвигам? Его дед совсем по-иному описывал знаменитые военные походы.
Но уже первые схватки с регулярными войсками индейцев вернули ему утраченную надежду. Это был достойный противник. Хоть они и язычники, хоть и раскрашивают перед битвой свое тело разноцветными узорами, но сражаются они, как пристало рыцарям. В битвах с такими врагами можно прославиться.
План захвата Атауальпы и уничтожения его двора не был известен дону Родриго до самой последней минуты. Писарро умышленно отправил в дозор его и еще нескольких честных рыцарей на то время, пока совещались. Поэтому на рассвете кровавого дня дон Родриго истово молился, убежденный, что приближается час великой битвы, а когда Писарро закричал: «Святотатство!» — и бросил конницу в атаку, дон Родриго ринулся вперед с величайшим энтузиазмом.
Звуки выстрелов заглушали крики индейцев, и испанцу казалось, что он слышит в них угрозу и торжество, а не ужас; сквозь щель своего забрала он видел лишь мечущуюся толпу, но не разглядел, что это была толпа безоружных людей.
Он тоже рубил, топтал, как другие, а потом принял свою часть добычи с чувством удовлетворения.
И только сегодня… Из разговоров товарищей, которые после победы коротали время в пьяных оргиях с невольницами, из болтовни, поначалу не совсем для него ясной, дои Родриго вскоре понял все.
Так было решено заранее. Индейцы прибыли как гости по приглашению, безоружные. Он оказался палачом, а не воином. Золото, которое он получил, не честно добытые воинские трофеи, а плата за убийство и доля в награбленном.
С отчаяния он напился, с отчаяния впервые принялся играть в кости, играл как безумец и проиграл не только всю свою добычу, но еще и должен был отправиться в ночной дозор за сеньора Оргоньеса, которому слишком уж подозрительно везло.
— Дозор, сеньор, вещь такая же скучная, как и ласки старой бабы. Но все же вам придется проверить, как несут службу те, кто находится за рекой и стоят на посту с собаками.
— Вы не встретите там ни дракона, ни даже пантеры. Ха-ха-ха!
— Последнего кота поймали вчера собаки сеньора Вальдивиа.
— А последнюю девку — ты! Ха-ха-ха!
— Не последнюю, не последнюю. Надеюсь, еще выпадет случай немного погрешить. Ведь надо же и падре Вальверде доставить удовольствие, хотя бы на исповеди.
— Ты, Алонсо, пощади девичью скромность дона Родриго.
— Ха-ха-ха! Девичью скромность!
Родриго Моралес не находил, однако, что эта служба так уж скучна. Правда, он только раз проехал по дороге, где были дозоры, а потом выехал на равнину, тянувшуюся к склонам гор, пустил коня медленной рысью и наслаждался прелестью лунной ночи.
Было холодно, поэтому он плотно завернулся в плащ, сдвинув шляпу на затылок, и время от времени поглядывал на луну.
Здесь она, пожалуй, еще красивее и ярче, чем в Испании. А донья Инес говорила когда-то, что серенада, сложенная в честь любимой и пропетая в лунную ночь, — это поступок, достойный настоящего рыцаря.
Ну, положим, даже самая благородная и красивая девушка ничего не понимает в рыцарских делах. Однако серенады не унижают достоинства идальго.
Размечтавшись, он вздохнул, перевел коня на тихий, плавный шаг и, не сводя глаз с луны, принялся с трудом слагать стихи:
У доньи Инес — кастильского цветка крылатого
Из лунного света соткана одежда.
— Нет, плохо!
О Инес, самая красивейшая на свете,
Твой взгляд еще прекрасней в лунном свете.
— Плохо! Черт подери, не так-то это просто. Попробуем еще раз:
В солнечном свете, Инес, твоя красота ослепляет.
В блеске луны она ярче сияет.
О Инес, взгляни же, не будь бессердечна:
Сердца боль бесконечна…
Он дважды повторил: «Инес, Инес», — и окончательно ушел в мечты. Он совершил путешествие на другой конец света, в страну язычников и драконов, а до его возлюбленной еще так чертовски далеко, столько трудностей и опасностей ожидает его в пути… Однако в конце концов его ждет слава. Богатство и слава. А это значит — Инес.
В эту минуту, может быть, и она глядит на луну… Она не раз так трогательно говорила о мечтах, которые облагораживают человеческую душу, возвышают ее…
Однако если Инес поет серенады сеньор Кристобаль де Перейра?.. Он что-то зачастил в замок ее отца. И достаточно богат, чтобы не думать о славе.
— Горе тебе, коварный соблазнитель! — закричал дон Родриго, ибо перед его мысленным взором предстал торжествующе улыбающийся соперник рядом с доньей Инес. Он рванул меч из ножен и в гневе взметнул его, словно угрожая самому месяцу в небе.
Но Синчи был уверен, Что этот белый заметил его я устремился за ним, и, вспомнив приказ Атауальпы, не задумываясь метнул копье.
Дон Родриго захрипел, пораженный прямо в горло, покачнулся в седле и повалился набок, гремя доспехами.
Конь, который до этой минуты, словно в полусне, едва передвигал ногами, захрапел и рванулся вперед, волоча тело своего господина, которое зацепилось за стремя. Скоро, однако, он остановился, начал озираться, нюхать воздух и тихо, тревожно ржать.
Синчи укрылся среди кустов и каменных глыб и только спустя несколько минут отважился выглянуть из своего убежища. Он трясся от страха, словно совершил величайшее святотатство. Странный голос большой ламы белых людей чуть не лишил его последнего мужества. Он хотел убежать как можно дальше от этого места, не медля ни минуты, но воспоминание о словах сына Солнца удержало его: «Отправляйся с оружием. Если кто-то попытается тебя задержать — убивай!»
Он уже убил, убил одного из белых, которым сам сын Солнца передает кипу и золотые бляхи, облекающие их всей полнотой власти. Но при этом Синчи утратил свое единственное оружие — копье. Как же он теперь доберется до Силустани? Через горы и пустынные плоскогорья. Ему может повстречаться ягуар или медведь или же воины Уаскара…
А как поступить, если встретится какой-нибудь важный сановник, инка, с золотыми серьгами и красной вышивкой на белой одежде? Вдруг тот окажется сторонником Уаскара и отдаст Синчи иной приказ? А что будет, если он тогда покажет перстень сапа-инки, который обязывает всех и всюду повиноваться ему?
Он испуганно вздрогнул. Нет, уж лучше встретиться в горах с голодным ягуаром. Однако подобная встреча без оружия — верная гибель. Пожалуй, надо вернуться…
Синчи снова прислушался. Конь перестал ржать, но время от времени вздрагивал, позвякивал сбруей, перебирал копытами, стуча подковами по камням.
Видимо, что-то тревожило его. И он почему-то не уходит, стоит на одном и том же месте. Может быть, здесь есть какое-то волшебство, может, большая лама белых людей охраняет убитого хозяина?
Против чар Синчи бессилен. Чтобы освободиться от них, он должен, наверное, вернуться в город и пасть ниц перед белыми жрецами. Но тогда он потеряет целый день, а сын Солнца приказал: «Отправляйся немедленно!»
Сын Солнца может разгневаться, и исчезнет последняя надежда на спасение Илльи.
Луна уже спустилась к самым вершинам гор, и Синчи понял, что должен наконец решиться. Потом, когда станет темно, он не отважится приблизиться к страшному животному. Кто знает, какое обличье обретает оно в кромешной тьме? А если дождаться утра, появятся белые, схватят его, Синчи, убийцу, и повесят.
Каждый нерв в нем напрягся, ему так хотелось убежать, но он превозмог себя и пошел. Конь, учуяв чужого, снова заволновался, металлические подковы лязгнули о камни, а потом раздалось беспокойное ржание. Но в этом голосе не было угрозы. Так и лама жалуется, когда у нее нет воды или когда она испугается ягуара.
Он подошел. При свете луны можно было издали все рассмотреть. Конь остался самим собой, не превратился ни в какое страшное чудовище, стоял, низко опустив голову. Синчи сразу же понял, что случилось. Нога дона Родриго едва держалась в стремени, однако левой рукой он все еще продолжал сжимать спутанные поводья, и тяжесть его тела пригибала конскую морду к земле.
Синчи старался не глядеть на убитого. Белые — это волшебники, наверное, их боги не любят, когда смотрят на мертвых. У них, должно быть, много могущественных богов.
А может, этот воин был среди тех, кто посмел поднять руку на самого сына Солнца? Ведь один из них — Синчи даже боялся подумать о подобном святотатстве — сорвал с чела властителя повязку с перьями птицы коренкенке. А другие осмелились толкнуть сына Солнца.
Такие страшные вещи не могут не навлечь ильяпы — ударов священного грома, посылаемого богами. Да, ильяпа разразилась, но только по приказу белых, и поражала она индейцев.
Ильяпа… Это слово напомнило ему Иллью. Да, ради нее он должен преданно служить Атауальпе. Тогда есть надежда на спасение Илльи.
Он не спеша подошел к убитому, вырвал свое копье из шеи испанца, поднял его меч из толедской стали. Но не зная, что делать с этим оружием, отбросил его. Копье осталось цело, оно еще послужит ему в пути.
Глава двадцать восьмая
Ты снова здесь? Где ты пропадал столько времени? — Фелипилльо недоверчиво присматривался к Синчи. Бегун исхудал, кожа на лице шелушилась, левая рука была завязана окровавленной тряпкой.
— Я… ходил далеко… Через горы.
— Ага, ты был проводником у тех, кто собирает золото для белых?
— Да. Но потом я отправился один…
Переводчик, в виде исключения трезвый в этот день и не одурманенный листьями коки, поглядел на Синчи с любопытством.
— Один? Собирал золото для себя? Это неплохая мысль. Белые болваны могут послать за золотом любого, на кого только укажет этот твой Атауальпа. Рассказывай, много ли собрал? Ты должен поделиться со мной. А почему ты вернулся?
— Я не собирал золото.
Фелипилльо не поверил. Исхудалый, измученный вид бегуна говорил о том, что он проделал длинный путь. А переводчик считал, что так изнурять себя стоит только ради золота.
— А это что? — показал он на раненую руку товарища. — Где ты покалечился?
— Это… Это капак-тити. За горным перевалом…
— Капак-тити? Голодный? А вас было много?
— Я шел один.
— И сумел удрать? Ну, значит, духи гор были к тебе благосклонны.
— Нет, я не убежал. Я… убил его…
— Ты один убил капак-тити? Рассказывай эти сказки белым. Меня не проведешь!
— Сын Солнца приказал мне убивать всех, кто только попробует мне помешать. Вот я и убил.
Он содрогнулся, вспомнив о том, что было. Ягуар, самка с детенышами, вышла ему наперерез на узкой горной тропе и тотчас же бросилась на него. Она боялась за своих детей. Синчи успел только заслониться свернутым плащом и крепко сжать в руке копье. Все дальнейшее было хаосом ужаса, нечеловеческого напряжения сил и боли. Если бы не воля сына Солнца, которая господствовала в его сознании, подавляя все остальное: и страх, и боль, Синчи бы погиб. Но слова повелителя: «Ты должен дойти. Если кто-либо попытается тебя задержать, убей его!», но надежда на то, что, самоотверженно выполнив приказ, он заслужит благосклонность властелина и тем самым поможет спасению Илльи, умножили его силы.
Он пришел в себя и увидел, что лежит среди камней и низкорослых горных кустарников с разодранным плечом, а рядом подыхает ягуар, пораженный его копьем.
Потом налетела снежная буря, еще более ужасная, чем та, которую он перенес, когда сопровождал ловчего Кахида. На этот раз, однако, у Синчи не было листьев коки, а мороз, схватывая рану, жег ее, словно огнем.
Фелипилльо, украдкой наблюдавший за бегуном, не мог понять до конца, чем был потрясен и встревожен Синчи, и Это еще больше усиливало его любопытство. А когда Синчи запнулся и перестал рассказывать, переводчик уговорил измученного бегуна выпить соры, так как ее пили белые, когда были больны, — с горячей водой и пряностями. Это подействовало.
…Писарро выслушал известие внешне спокойно, но потом разразился страшными проклятиями и сильным ударом руки глубоко вогнал свой стилет в тяжелый резной стол, за которым сидел.
— Хорошо! Ох, хорошо! Фелипилльо, чертов сын, чего ты хочешь за эти новости? Золота, девок?
— Золота на этот раз мне не надо. Девок у меня достаточно. Королевских. Но, великий господин, у меня есть к тебе одна просьба…
— Выкладывай, ублюдок дьявола.
— Великий господин, отдай мне Атауальпу.
— Ты что, спятил?
— Когда он уже станет не нужен тебе, великий господин. Когда станет не нужен.
— Чего ты от него хочешь? Ведь это же твой божок.
Физиономия юнца сморщилась, рот ощерился, как у собаки, когда она собирается укусить.
— Фелипилльо — христианин. Атауальпа не его бог. Атауальпа — паршивый пес. Он не хотел разговаривать, не хотел глядеть на Фелипилльо. Ну а теперь он взвоет. Фелипилльо для него — помет ламы. Так пусть же он сам жрет помет ламы.
Писарро метнул стилет так, что переводчик едва успел увернуться.
— Прочь отсюда, падаль! Не смей больше показываться мне на глаза! Я уже кое-что слышал о твоих делишках и забавах. Можешь истязать своих любовниц, но не королей. Чего захотел! Стой, сукин сын! Зови сюда высокочтимых сеньоров. Тех же, что и всегда. А этого простофилю Синчи охраняй! Он еще может нам понадобиться. Потом его повесим. Пошел вон!..
Созванные Писарро советники угрюмо выслушали новости. Атауальпа знает все, что творится в стране, и даже имеет возможность тайно отдавать приказы. Он велел убить побежденного противника, Уаскара, и остался единственным правителем.
— В этом для нас нет ничего плохого. Атауальпа остается в наших руках и будет делать все, что мы прикажем. Его люди приносят столько золота, что мы сможем, пожалуй, купить за него весь мир.
— Приносить-то они приносят. Однако только с той части страны, которая подчинилась Атауальпе. Туда же, где верны Уаскару, приказы Атауальпы, а значит и наши, не проникают.
— Если нет Уаскара, его сторонники будут вынуждены сдаться…
— Неизвестно. Может объявиться новый претендент. Кажется, есть свыше шестидесяти инков, в жилах которых течет королевская кровь. Одних анки — как называют здесь сыновей властелина — около полутора десятков.
— Хе-хе-хе, это вполне возможно. Ведь у каждого из них повсюду были жены.
— Вам, дон Педро, по-моему, нечего завидовать. Говорят, что даже у Боабдила, Гранадского эмира, не было такого гарема, какой у вас.
— Хе-хе, преувеличивают, преувеличивают. Держит человек пару девок — служанок, и вот уже — целый гарем. Хе-хе, преувеличивают!
— Сеньоры, это обсудим в другой раз. А теперь — о более важных делах.
Диего де Альмагро говорил спокойно.
— Дело ясное. Мы должны двинуться на эту их столицу Куско, по пути разгромить сторонников Уаскара и завладеть страной. Пусть все их королевство дает нам золото, а не только одна его провинция.
— А в этом Куско, говорят, богатейший храм, просто на удивление.
— Как вы советуете, сеньор, поступить с Атауальпой?
— Он будет сидеть на троне и делать то, что мы ему прикажем. Так было в Мексике.
Писарро с гневом оборвал его.
— Я не собираюсь учиться у Кортеса. Чтобы потом, подобно ему, на старости лет выклянчивать королевскую благосклонность? Атауальпа никогда не забудет день шестнадцатого ноября. Какого черта таскать его с собой и охранять? Чтобы он в конце концов нас предал?
— Мы знаем, что ему удалось даже вынести смертный приговор своему брату.
— Говорят, что в таких делах, как отравление и волшебство, все они очень искусны.
— Вот именно. Глупо рассчитывать на Атауальпу. Нужен кто-то другой. Я согласен, что один царек должен остаться. В наших руках, разумеется. Краснокожий сброд так привык к королевским приказам, что и работать без них не может, и детей рожает чуть ли не по приказу. Отлично. Это может нам пригодиться. Если приказы так милы их сердцу, они их подучат. Мои приказы! Однако им нужно еще будет показывать какого-нибудь увешанного золотом болвана, с этими их петушиными перьями на голове. Только не Атауальпу. Этот языческий дьявол смотрит так, словно хотел бы испепелить нас своим взглядом. Но он еще нам пригодится. Чтобы покрепче напугать краснокожих прохвостов. Падре Вальверде! Пораскиньте-ка мозгами! Мне необходимо обвинение. Солидное, веское обвинение, судебный процесс и приговор. Когда же короля публично повесят, его подданные будут испытывать благоговейный ужас.
Священник возвел глаза к небу в глубокой задумчивости. Тонкими пальцами — такая была у него привычка — он крутил нитки, выдернутые из рукава своей сутаны.
— Солидное обвинение? О, это не трудно. Есть святотатство…
— Этого недостаточно.
— Еще — измена и попытка совершить на нас нападение.
— Ну, уж лучше таких вещей не касаться. Хо-хо-хо, тоже мне обвинение!
— И к тому же закоренелая приверженность к язычеству.
— Но ведь ты, падре, сам занимаешься его обращением в истинную веру. Как же ты при этом будешь выглядеть?
— Хм, действительно… Так, может быть, притеснение народа и хищение золота?
— Да вы что, отец, с ума сошли? Или вам уже не хочется получать десятую долю добычи?
Падре живо запротестовал.
— Десятина причитается церкви, а не мне. Я не наделен властью и не могу отказаться от церковной собственности!
— Разумеется. Мы в состоянии это понять. Как же, однако, с обвинением?
— Хм, нужно что-то сообразить… Ага, я придумал. Самое страшное преступление — братоубийство.
— Братоубийство? Правда, этот Уаскар был, говорят, только единокровным братом нашего Атауальпы. Ну что ж, пусть будет так. Назначьте состав суда, и надо будет публично, с соблюдением всех церемоний повесить этого негодяя.
— Повесить? Достаточно ли такой казни, чтобы устрашить этих язычников? Мы уже имели возможность убедиться, что они, хм, не трусы.
— А что бы тут нам посоветовала святая инквизиция?
— Только огонь очищает души грешников, зрителям же он напоминает о пекле и позволяет им быстрее ступить на стезю добродетели. Итак… костерчик…
— Атауальпу уже приговорили, — оглядевшись по сторонам, вполголоса, чтобы никто не услышал, сообщил секретарь Пикадо своему господину. — Падре Вальверде сам пожелал возглавить суд и сам обвинял. Как он и обещал, приговорили к сожжению на костре за братоубийство.
Беседа происходила в самом обширном зале крепости Кахамарка, в том зале, куда доставлялось золото.
Писарро слушал, не глядя на секретаря. Он любовался сокровищами, которые с покорностью и усердием приносили индейцы. Он брал в руки то серьги, то браслеты, светильники из храмов, украшения с боевых доспехов и оружия, просеивал сквозь пальцы золотой песок, взвешивал на ладони самородки. Он буркнул не оглядываясь:
— Смотри, как небрежно уложено. Если бы золото укладывали плотнее, то оно и половины места не заняло бы. И краснокожим дьяволам пришлось бы еще долго таскать нам сокровища.
— Хм, ваша честь, я видел когда-то, как наливали воду в дырявую бочку. Пока в нее успевали вылить ведро, половина его уже вытекала.
— Ты думаешь? — Писарро поглядел на двери, перед которыми стояло на страже двое испанцев. Два индейца, молчаливые и неподвижные, сидели на полу, не спуская глаз с сокровищ. — Хм, это действительно можно сделать.
— Да, но если приговор будет приведен в исполнение, золото перестанет поступать.
— Не перестанет. Я назначу сапа-инкой кого-нибудь из тех, кто в наших руках, и все останется по-прежнему.
— Не знаю, ваша честь. Этого Атауальпу чтят высоко. Для них король — почти бог. Но законный король, в их, разумеется, понимании. Признают ли они монарха, назначенного нами? Вероятно, существуют какие-то церемонии, вероятно, жрецы должны…
— Жрецы сделают все, что понадобится! — с неожиданной злобой бросил Писарро. — Когда этой дряни примерят железный башмак, или пальцы им зажмут в тиски, или же будут кормить соленым мясом три дня, не давая ни глотка воды, они покорятся. Даже наш преподобный… — Он оборвал фразу, метнув быстрый взгляд на секретаря, который тоже как-никак был священником, и закончил со значительным видом: — Не это самое важное. Посмотри на золото! Несут его. Это правда. Но откуда его берут? Я их заставлю показать золотые рудники. Какие богатства, наверное, там! Пусть мне придется согнать туда всех язычников и замучить их до смерти, — я получу эти богатства. Получу! Наместник вновь открытых земель! Какой смысл имеет титул, если нет золота!
Секретарь понимающе склонил голову. Он глядел на груды золота с показным равнодушием, лишь па щеках у него появился слабый румянец.
— Верная мысль. Действительно, нужно найти источник этой реки сокровищ. Мы избежали бы долгой, изнурительной борьбы и окончательно подчинили бы себе их короля. Мудрое намерение. Но удастся ли его осуществить? Выдадут ли краснокожие свою тайну? Как мне говорил Фелипилльо, они считают золото святыней, слезами бога Солнца.
— Ну, так мы заставим этого бога долго и горько плакать. Пусть только Фелипилльо выведает, кто из инков Знает, где находятся рудники, а уж я выколочу из них остальное. Хе-хе, даже камень можно заставить говорить. В конце концов я считаю, что, когда мы уберем царька, все будут достаточно напуганы.
Пикадо бросил взгляд на двери, за которыми находилась стража, и понизил голос.
— Так, видимо, и будет. Осудить его и уничтожить необходимо. Но, ваша честь…
— Что такое? Выкладывай все!
— Речь идет о виде казни. Хм, сожжение на костре — страшная смерть и притягательное зрелище. Но — я говорю сейчас о наших солдатах, а не об индейцах — не слишком ли связан этот род наказания, хм, с деятельностью святой инквизиции? Светская власть вешает, рубит головы, четвертует, однако не прибегает к сожжению. Не кажется ли вам, что наши люди, даже самые недалекие, могут подумать, что короля индейцев приговорила к смерти и казни инквизиция, и что, выходит, церковь и здесь более могущественна, нежели светская власть? А это может вызвать, хм, некоторые осложнения… Ведь преподобный падре Вальверде уже утверждал, что золото из языческих храмов должно целиком поступать в церковную казну.
Он незаметным движением ноги подвинул к себе резной светильник из храма. Писарро злобно отбросил его назад в общую кучу.
— Золото из храмов? Здесь его половина! Даже больше! А до главных храмов мы еще и не добрались. Хороши разговорчики. Но ничего не выйдет. Церковь будет получать десятину и ни грана больше! Ты, Пикадо, прав. Все твои слова — истинная правда. Но как нам поступить? Преподобный Вальверде приговорил к смерти этого язычника? Хорошо! Но ты, Пикадо, крестишь его, а тогда я, как наместник, назначу Атауальпе более легкую казнь. И его просто-напросто удушат гарротой4.
На сухой, аскетической физиономии секретаря промелькнула слабая улыбка. Руки дрогнули, словно ему захотелось удовлетворенно потереть их. Однако священник лишь послушно склонил голову.
— Это очень своевременный шаг, ваша милость. Я тотчас же побеседую с этим язычником. Мне необходим переводчик…
Последнее слово он подчеркнул и оборвал фразу, так и не закончив ее. Писарро, который как раз вытянул из груды золота самый большой самородок и внимательно сравнивал его цвет с цветом других слитков, поднял голову.
— Переводчик? Ах, Фелипилльо? Конечно, это прохвост, но другого у нас нет.
— Я сам усердно изучаю речь этих дикарей, ваша милость, — скромно отозвался Пикадо. — Однако это трудный язык. Но я уже понимаю его настолько, чтобы с недоверием относиться к Фелипилльо: он не всегда верно переводит наши распоряжения. Я заметил, но это, быть может, не так уж важно…
— Говори!
— Я заметил, что индейцы слишком низко кланяются ему, а некоторые даже падают ниц, словно перед повелителем. Мне кажется, что он называет себя их властелином, которому мы, испанцы, покровительствуем. И к тому же он вымогатель.
Писарро рассмеялся.
— Вот ловкач! Юн прошел неплохую школу, имел достойный пример в Панаме. Но я его приструню. Посмотрите-ка на этого хама! Власти ему захотелось! Пикадо, ты должен быстрее изучить язык этих дикарей!
Он недоверчиво взглянул на секретаря, который стоял, скромно потупив взор. Быть единственным, неконтролируемым переводчиком — это действительно открывает почти неограниченные возможности. Может быть, у его уважаемого секретаря что-то свое на уме? Ничего, подожди, братец!
— Но одного переводчика недостаточно. Надо, чтобы еще кто-нибудь быстро изучил язык. Хм, например, дон Родриго Моралес…
Он произнес имя одного из тех немногих своих сподвижников, в честности которых не сомневался. Секретарь, вероятно, понял смысл этого распоряжения, но отозвался спокойно, возведя глаза к небу:
— Ведь дон Родриго уже мертв.
— Правда. Я забыл об этом. Отслужите, падре, мессу за упокой его души. Плохо, что он мне вспомнился таким образом. Вероятно, душа его мучается в чистилище…
— Я позволю себе напомнить, что убийцы дона Родриго еще не разысканы и не наказаны.
— Но мы повесили десять первых попавшихся индейцев для острастки. А теперь следствие ведет сеньор Альмагро. В его усердии сомневаться не приходится. Он любил дона Родриго и так допрашивает индейцев, что их крики слышны даже здесь.
— Упорство этих язычников больше походит на кощунственную ересь, — вздохнул Пикадо, направляясь к дверям.
— Подожди! Я еще не кончил. Если не дон Родриго, то кто же может стать переводчиком? Божья матерь Севильская, неужели же больше никому я не могу здесь доверять? Дон Педро де Кандиа? Честный, однако стар. Такого уже не обучишь. Молодой Диего де Альмагро? Ха-ха-ха, уж не его ли выбрать? Мадонна и все святые! Похоже, что из самого ада наслали нам сюда этих ублюдков дьявола и блудницы! Чтоб их паршивые души…
— Сегодня воскресенье, ваша честь, — вставил Пикадо.
— Чтоб и тебя вместе с ними поглотило пекло! Воскресенье! Заботы те же, что и в будний день. Хорошо. Мой брат Хуан станет переводчиком. Пусть учится у тех индианок, с которыми он грешит, или хоть у самого дьявола, но он должен научиться, и побыстрее!
Секретарь тихо удалился из зала, а Писарро еще долго стоял неподвижно, нахмурив брови. Хуан — его брат, это правда. По крайней мере мать ручалась за это. Однако он заносчив, капризничает, ломается, у него свои прихоти. Не может никак насытиться ни золотом, ни бабами… Ведь у него и так целый гарем, а он берет все новых и новых… Солдатами хочет командовать, он уже намекал, что не прочь стать правителем какой-нибудь большой провинции. А золота ему всегда мало… Наряжается, во всем подражает придворным, а что самое главное — слишком быстро поддается их влиянию.
Пикадо, не спеша возвращавшийся к себе, думал о том же.
Хуан Писарро (ему бы только выпить да побольше новых девок) не будет учиться с достаточным усердием. А если его еще научить жевать коку? Например, сказать, что от этого возрастает мужская сила? Тогда можно делать с ним все, что захочешь. Пусть будет переводчиком. Может быть, с ним лучше удастся поладить, чем с другими. Пока же он не научится языку краснокожих, надо следить за тем, что говорит Фелипилльо. А, может, важнее как раз то, о чем он умалчивает, чего не переводит.
Глава двадцать девятая
Все обитатели Гуамачуто, важного пункта на главной дороге в Куско, разбежались, склады опустели, дворец давно умершего сапа-инки Виракочи, по обычаю остававшийся необитаемым и чтимым, был сожжен. Испанские дозоры захватили в окрестностях двух крестьян, у которых Фелипилльо узнал, что с западных гор пришел большой отряд воинов, все еще верных Уаскару, и жителям было приказано спасаться от белых, предварительно опустошив склады. Согласно показаниям крестьян, отряд той же дорогой отправился на юг, и повсюду населению отдавались подобные распоряжения.
Писарро, подробно расспросив Синчи обо всех дорогах, о поселениях и расстояниях, принял решение временно оставить главный тракт и податься к востоку, на Уануко, а оттуда в долину Умбамбы.
Хотя Синчи снова оказался в хорошо знакомых местах, он так и не смог побывать в Кахатамбо.
Через день после выхода из Уануко, когда Писарро с основными силами остановился в большом селении, а для двора назначенного им сапа-инки, брата Атауальпы, Тупака-Уальпы, отвел одинокое, удобное для охраны тамбо, Синчи выбрал подходящий момент и, упав на колени перед молодым властелином, изложил ему свою просьбу.
Он просил, чтобы сын Солнца дал ему кипу, а также свою бляху с тайными знаками, освободил Синчи от службы и позволил отправиться на поиски Илльи. Это недалеко: за горами. Может, она уже возвратилась в селение, может, он хотя бы услышит что-либо о ней. Он, Синчи, не способен больше бегать, запоминать поручения, не может есть и спать. Не может жить без нее. Потому что хоть это всего-навсего простая девушка, но такова, видимо, воля богов…
— Ты же христианин! — резко прервал его Тупак-Уальпа.
— Да, сын Солнца. Белый велел зачем-то лить мне на лоб воду и говорил какие-то непонятные слова. А перед этим Фелипилльо сказал, что, если я ослушаюсь, меня утопят.
— Белый велел, — медленно повторил инка. — А теперь белый велит тебе быть проводником, указывать дорогу, и ты повинуешься.
— Ты прав, сын Солнца.
— И, однако, ты собираешься уйти. Разве белые тебя отпустят?
— Нет, сын Солнца. Я не спрашиваю… Они повесили бы..
— Да, повесили бы. Как повесили уже многих… Почему же ты идешь ко мне со своей просьбой?
— Ты властвуешь над всем Тауантинсуйю, сын Солнца.
Тупак-Уальпа сорвался с места и в бешенстве заметался по небольшому помещению убогого сельского тамбо. Писарро стремился создать вокруг своего ставленника атмосферу торжественности. Он даже приказал временную его резиденцию украсить коврами наска, золотыми лампами, отделанной золотом домашней утварью и красивыми, фантастических форм вазами из страны аймара. И все же убожество помещения ничем нельзя было скрыть.
Синчи, все еще коленопреклоненный, украдкой наблюдал за новым властелином.
Тупак-Уальпа был на год моложе Атауальпы, при жизни брата не вмешивался в управление государством, увлекался только охотой и ратными делами. Эти пристрастия развили в нем силу, ловкость и терпение. Он владел собою не хуже, чем верховный жрец.
Когда Писарро после публичной, торжественной казни Атауальпы провозгласил Тупака-Уальпу сапа-инкой, тот отнесся к своему избранию с таким же спокойствием, с каким взирал на смерть брата. Так же спокойно он позволил наложить себе на голову льяуту и прикрепить золотой застежкой священные перья птицы коренкенке. Одно из них было сломано, испанцы соединили его части тонкой проволокой, о чем с негодованием перешептывались жрецы, но Тупак-Уальпа делал вид, будто ничего не видит и не знает.
Он спокойно принимал придворных, избираемых и назначаемых Писарро. Ни для кого не было секретом, что здесь главную роль играл Фелипилльо, который называл испанцам, кого хотел, или тех, кто лучше ему платил. И, конечно же, никого из прежних придворных Атауальпы, присутствовавших при встрече парламентеров-испанцев с инками накануне грандиозной резни, не оказалось в числе назначенных Фелипилльо. Если кто-то из них и уцелел в день шестнадцатого ноября, то впоследствии наверняка был в чем-нибудь обвинен всемогущим переводчиком и кончил свою жизнь на виселице.
Воля нового властелина проявилась только в одном — в выборе женщин.
После резни, учиненной испанцами шестнадцатого ноября, большой лагерь индейцев стоял на месте в полном бездействии, а вместе с ним и двор, вернее, та его часть, которая тогда не сопровождала Атауальпу. Власть инков, сотни лет подряд отучавшая покоренные народы и даже собственных камайоков от всякой инициативы, обнаружила в час испытаний свою слабую сторону. Сын Солнца был жив. Это подтвердили уцелевшие после бойни свидетели. Сын Солнца пошел вслед за белыми в их лагерь. А значит, надо ждать приказа сына Солнца. Никто не посмел принять какое-либо иное решение.
Правда, Чаркас, жрец храма, посвященного Виракоче — наивысшему божеству, которого не разрешалось изображать ни в виде человека, ни в виде символа, — явно враждебный уильяк-уму, открыто говорил, что если белые сорвали повязку с чела Атауальпы, то теперь он уже не сапа-инка. Что его нужно считать умершим, жен, наложниц и прислугу умертвить, выбрать по указанию великого Виракочи нового властелина и начать войну не на жизнь, а на смерть с белыми захватчиками. Однако его не послушали. Слишком много было в лагере жрецов, которые хорошо понимали, что если бы великий дух Виракоча высказался устами жреца Чаркаса, тот назначил бы нового сапа-инку по своему усмотрению и стал бы при нем первым человеком. В конце концов избрали самый легкий путь — выжидали.
И уже на другой день явился в лагерь отряд белых и индеец в одежде белого человека показал собравшимся придворным и вождям известный всем перстень сапа-инки. Находящийся при индейце придворный, который во время резни был около властелина, сообщил коротко, что сын Солнца посылает этот перстень в знак того, что белые поступают так, а не иначе, по воле и с ведома сапа-инки.
Приказы, которые переводчик выкрикивал голосом, срывавшимся от нескрываемой радости, оказались странными. Войска должны отойти в уну Анкачс и там бороться со сторонниками Уаскара. Тут остается только двор. Все женщины отправятся в крепость под его, Фелипилльо, надзором, который по приказу великого вождя белых теперь является их господином.
Этот же щенок-переводчик уже на следующий день шатался по лагерю, где был расположен двор, по домам, в которых испанцы держали Атауальпу и его приближенных, и хотя его никто не расспрашивал, улыбаясь до ушей, рассказывал, что творится в крепости. Как белые делят между собой женщин, как проигрывают их в кости и как глупо себя ведут, хотя они такие могущественные. Сам их вождь взял себе всего лишь одну из служанок, потому что она молода и красива, а деву Солнца благородной крови, которая неделю назад была женою Атауальпы, он уступил простому солдату.
Пленниц столько, что у каждого белого их по нескольку, а один из них даже обменял молодую и прекрасную невольницу из рода инков на печень серны.
Когда белые назначили Тупака-Уальпу сапа-инкой и отобрали для него придворных, к нему пришел однажды сам Писарро и приказал переводчику спросить, есть ли у новою властелина какие-либо пожелания относительно женщин. Белые охотно пойдут ему навстречу. Может быть, собрать население всей окрестности, чтобы он мог посмотреть девушек, или привести сюда дев Солнца из какого-нибудь ближайшего храма? Выбирать женщин — это привилегия властелина. Пусть же новый сапа-инка воспользуется ею. Белый господин разрешает это.
— Это белый господин разрешает, — переводил Фелипилльо, злорадно усмехаясь и подчеркивая слово «это».
Он не забыл о том, что Тупак-Уальпа находился при брате в день прибытия испанских парламентеров, не забыл презрительного к себе отношения и всю ненависть к Атауальпе перенес теперь на нового властителя.
Но как раз в этот момент Тупак-Уальпа впервые проявил свою волю. Он отказался от предложения коротко, но решительно. Он воин, в стране еще длится война со сторонниками Уаскара, а во время борьбы воин не должен думать о женщинах.
— Он не хочет женщин, которых белые запятнали своим прикосновением, — переводил Фелипилльо, изображая негодование. — Он очень дерзко отзывается о белых и требует проявлять почтение к девам Солнца. И еще он говорит, что возьмет себе тех женщин, которых пожелает, а не тех, которых дадут ему белые.
Священник-секретарь Пикадо, присутствовавший при беседе, испытующе взглянул на переводчика, но тотчас же опустил взгляд и удалился вслед за взбешенным Писарро…
«…Ты властелин Тауантинсуйю, сын Солнца», — сказал минуту назад бегун. Тупак-Уальпа с внезапным волнением повторил про себя эти слова. Накануне проходили через большое селение. В присутствии «властелина Тауантинсуйю» испанцы разграбили местный храм, посвященный Луне, убили жреца, потому что украшения в храме были из серебра («Наверно, краснокожий мерзавец припрятал золото», — подумали они), прикончили кураку, здешнего правителя, за то, что он защищал дочь, угнали всех девушек и женщин, как обычных невольниц, чтобы предаться распутству.
Перебили лам. Разграбили склады, убили часки, который нес кипу на юг, потому что он, как и велит закон, отказался отдать им связку узелкового письма, а также пересказать устное послание, которое ему поручили доставить. Своих огромных коней испанцы пасут на кукурузных полях и палками избивают рыдающих от отчаяния крестьян, пытающихся протестовать. Они разбивают каменные стены, поддерживающие террасы с возделанной землей, и пашни оползают со склонов гор. А в последний раз Фелипилльо, человек о двух языках, как всегда презрительно и высокомерно, мимоходом бросил ему, сапа-инке: «Белые на своих больших ламах отправятся в главный храм дев Солнца. Они привезут их сюда как наложниц, только не для тебя, а себе на утеху».
А Синчи сказал: «Ты властелин Тауантинсуйю». И при Этом он вовсе не насмехался над инкой, а говорил с искренней верой. Для него тот, кто носит на голове повязку с перьями священной птицы, действительно властелин.
Тупак-Уальпа остановился и некоторое время смотрел на коленопреклоненного бегуна. Этот человек живет среди белых, он наблюдал резню в Кахамарке, он видит бесчинства белых и беспомощность плененного сапа-инки, но приходит к нему с просьбой, не заботясь даже о том, что это способно взбесить завоевателей. А чего же иного можно ожидать от людей, живущих в своих айлью или в далеких городах, жующих листья коки и покорна исполняющих приказы? Кипу со знаком сапа-инки для них по-прежнему свят. Им не понять, что может существовать сапа-инка — бессильный пленник.
— У тебя есть запас коки на дорогу? — внезапно спросил он.
— Немного есть, сын Солнца. Однако… однако я пользуюсь ею только в исключительных случаях, очень редко.
Значит, это не серый, неразумный простолюдин. Однако он верит в своего сапа-инку и чтит его. Кажется, великий прадед Тупак-Юпанки сказал, что народ не может уразуметь понятие «государство», но хорошо понимает, что такое единовластие. Он объединяет в своем понимании и то и другое вместе: сапа-инка для него живое воплощение государства. Преемники Тупака-Юпанки продолжали воспитывать народ в тех же традициях: сапа-инка — это государство. Его слово — все, без этого слова ничто свершиться не может. Народу следует жевать листья коки и верить.
А между тем он, сапа-инка Тупак-Уальпа, бессильный пленник в руках белых завоевателей, они приказывают якобы от его имени, а он — словно мумия, которую жрецы наряжают по праздникам и за которую сами произносят речи, он — словно живая мумия. Заставили его отдать приказ, чтобы им несли золото, даже из храмов. А сейчас они поехали в главный храм дев Солнца.
Бессилен ли он? Белые в это уже уверовали. Они слишком самонадеянны и глупы. Именно сейчас надо действовать. Пока народ еще видит в нем властелина, а белые — беспомощную живую мумию.
Он быстро повернулся к Синчи.
— Кем ты был при дворе моего брата Атауальпы?
— Владыка мира Атауальпа соблаговолил назначить меня часки-камайоком, сын Солнца.
— Ты инка или курака?
— Нет, сын Солнца, я был простым часки.
— За что, однако, ты удостоился такой высокой чести?
— Владыка мира Атауальпа изволил признать моей заслугой то, что я удержал копье…
Тупак-Уальпа вспомнил сцену на охоте под Уануко. Копье в руке Уаскара.
— Я помню тебя. Ты спас жизнь моему брату.
Синчи молча отвесил поклон почти до земли. Тупак-Уальпа внимательно к нему присматривался. Потом снова принялся его расспрашивать:
— Ты спас моего брата под Уануко. А в Кахамарке ты видел, как он погиб?
— Бог Инти не поразил мои глаза слепотой, и я вынужден был смотреть, сын Солнца.
Он прошептал это едва слышно, охваченный глубоким волнением.
— Что ты думал, ты и другие, глядя на смерть сапа-инки от рук белых пришельцев?
На этот раз он услышал ответ только через некоторое время, ответ робкий и нерешительный.
— Сын Солнца отправился к своим великим предкам, к богу Инти, потому что такова была его воля.
— А как ты думаешь, он мог бы бороться с белыми?
— Сын Солнца все может! Он мог призвать весь народ на борьбу, мог собрать все войска, мог отдать приказ отравить колодцы, чичу и сору; по его приказу убивали бы белых бодрствующими и спящими, в пути и за столом, по его приказу пустили бы ночью в их лагерь самых ядовитых змей…
Тупак-Уальпа больше не колебался. Он быстрым движением поднял полог, проверил, нет ли кого-нибудь в соседней комнате, и, наклонившись к Синчи, понизил голос до шепота.
— Я выслушал тебя. Можешь ночью покинуть лагерь. Но я повелеваю тебе отказаться пока от поисков своей девушки. Прежде всего ты направишься через перевал к храму дев Солнца в Акору. Ты знаешь дорогу?
— Я знаю там каждую тропку, сын Солнца.
— Хорошо. Сегодня утром белые на своих больших ламах поехали туда, чтобы похитить дев Солнца. Им придется добираться кружным путем по дороге. Ты отправишься напрямик через горы, чтобы поспеть в Акору до их прихода.
— Я опережу их, сын Солнца.
— Ты отдашь главной мамаконе этот знак и скажешь: девы Солнца не должны попасть в руки белых. Пусть лучше дева Солнца станет мумией, нежели наложницей белых.
— Я скажу главной мамаконе: девы Солнца не должны попасть в руки белых. Лучше пусть дева Солнца превратится в мумию, нежели в наложницу белых.
— Хорошо. Акора — это крепость. Покажешь этот знак начальнику охраны и скажешь: у белых есть кипу, который повелевает во всем им подчиниться. Но они вынудили нас дать им этот кипу, он недействителен. Белые должны войти в Акору, но не должны оттуда выйти. Часки перестанут бегать мимо Акоры. И о том, что там произойдет, никто не узнает.
— Я повторю это, сын Солнца.
— Ты сразу же возвращайся ко мне. Расскажешь, как там дела.
— Властелин мира, я… я должен найти девушку по имени Иллья.
Тупак-Уальпа на мгновение заколебался. Но ответил твердо:
— Ты мне понадобишься здесь. Свою девушку будешь разыскивать потом, когда мы покончим с белыми. Тогда ты получишь дворец, достойный моего самого верного камайока, и будешь счастливо жить в нем со своей девушкой. Теперь же жуй коку и не думай о ней.
Синчи низко поклонился, но ничего не ответил.
Тупак-Уальпа уже отвернулся, но успел бросить через плечо:
— Найди самого лучшего поэта-аравака. Пусть сейчас же придет и декламирует мне «Апу-Ольянтай». Он должен также знать «Усеа Панкау». Я хочу послушать о нашем великом прошлом.
— Я найду и пришлю его, сын Солнца, — прошептал Синчи через силу, словно что-то сдавило ему горло.
Глава тридцатая
Кафекила, с полуночи несшая службу возле священного огня, медленно приблизилась к открытым дверям храма. Хотя небо было усыпано звездами, луна не всходила и землю окутывал непроглядный мрак. Ни один, даже самый слабый проблеск на востоке еще не предвещал рассвета.
Девушка оглянулась на огонь, убедилась, что он горит ровно и ничто ему не грозит, потом оперлась о резной каменный косяк двери и стала всматриваться в ночь.
Храм Солнца, в котором она служила, стоял на вершине холма, в предместье небольшого городка. Здесь даже мощные крепостные стены не заслоняли вида на далекие, нисходящие к востоку цепи гор. За ними начинались горячие, душные густые заросли, о которых рассказывают столько легенд и сказок и где течет огромная загадочная река Укаяли. Никто не знает, куда она течет, что за люди там обитают, где кончается мир. Жрецы строго-настрого запретили далеко плавать по этой реке, так как горцам из племен аймара и кечуа или всемогущим инкам было не по себе на ее знойных равнинах. Если кого-нибудь назначали в долину Укаяли даже на высокий пост, это считалось тяжкой немилостью.
Кафекила, дочь кураки из долины Уальяго, презрительно усмехнулась. Эти глупцы любят только свои горы и нагорья с их скудной растительностью, свои снега, лам, древовидные кактусы. Им неведомо очарование буйной, словно обезумевшей под жгучим солнцем природы. Они не понимают прелести огромных бабочек или птиц колибри, они не способны оценить даже красоту цветов, распустившихся под палящими лучами солнца.
Она же, Кафекила, терпеть не может снега, мороза, ветра и нагорий. Вот скоро ее отпустят из храма, и она тотчас же вернется на родину. К полноводной, могучей, любимой реке. Ей было лет восемь, когда на нее обратил внимание инка, наместник Чинчасуйю, и когда решили, что она станет девой Солнца. Семь лет уже она в этом храме и, собственно, могла бы вернуться домой. Если только… если только сын Солнца не соблаговолит, оказавшись здесь проездом, задержать на ней свой милостивый взор и выбрать ее в жены. Тогда она получила бы дворец, содержание, прислугу — до поры, до времени. Когда же умрет сапа-инка и прибежит с этой вестью часки, жрецы принесут богу Солнца жертвы, и она, вдова властелина, должна будет броситься в пропасть.
Кафекила оглянулась. С правой стороны алтаря на каменном троне со спинкой сидела богато украшенная мумия. Отблеск священного огня играл на золотых браслетах, диадеме, ожерелье. Это Курела, как раз такая однодневная жена сапа-инки Пачакути. Девушки тайком передавали друг другу, что давно умершая дева Солнца не пожелала по доброй воле принять смерть, она сопротивлялась, пока ее не удушила главная мамакона и уже мертвой сбросила со скалы, как повелевает обычай. Распространять этот слух запрещалось: грозила тяжелая кара.
Мумия Курелы находится на почетном месте в храме; молящиеся отдают ей надлежащие почести, и новым кандидаткам в жрицы показывают ее, внушая, что это самая почетная судьба, какая только может выпасть на долю девы Солнца.
Кафекила вздрогнула и плотнее закуталась в плащ из чибы. В наказание за то, что она недостаточно старательно протерла священный золотой диск, символ Солнца, главная мамакона отобрала у нее теплую одежду из шерсти вигони, Дав взамен другую, грубую, плохо защищавшую от холода. Старая ведьма! Житья от нее нет дочерям курак, зато она снисходительна к тем, кто принадлежит к касте инков. А ведь сама она происходит из рода курак. Она делает так для того, чтобы снискать благосклонность сильных и власть имущих.
Но это и к лучшему, так как, может быть, ее, Кафекилу, старуха не будет уговаривать остаться здесь на всю жизнь, не воспрепятствует, когда отец явится с дарами для храма и заберет свою дочь. И, пожалуй, не стоит опасаться, что сапа-инка может неожиданно появиться здесь. Последний раз Уаскар был в Юнии и Уануко и выбрал там себе нескольких дев Солнца. Однако его уже нет в живых. Нет в живых и Атауальпы. Что-то страшное происходит в Тауантинсуйю, но сюда новости доходят редко, и, кроме того, об этом узнают лишь главная мамакона и жрец, умеющий читать кипу, да, возможно, еще комендант крепости. Им, девушкам, велят только безупречно выполнять свою службу и ничего не рассказывают.
Сквозь подошвы простых и уже довольно поношенных сандалий она ощутила холод. Это значит, что близится рассвет. Небо чистое, первый луч солнца, ясный, ничем не затуманенный, упадет прямо на золотой диск — изображение божества.
Потом придут другие жрицы, которые должны служить днем, и она, Кафекила, сможет отправиться спать.
Она потянулась и сладко зевнула. Приятно выспаться после такой ночи. А в полдень они втроем, с Оклой и Уной, пойдут в долину за цветами. Квене, сын коменданта крепости, что-то зачастил туда, они все время его там встречают Этот инка — очень красивый и стройный юноша. Он не смеет приблизиться к девам Солнца, но…
Тишину спящего города нарушил звук быстрых шагов. Так обычно бежит часки с важной вестью или воин, потому что у бегущего, видимо, тяжелые сандалии… Да, это воин. В слабом отсвете, падающем через открытые врата храма далеко на площадь, можно было заметить, что он вооружен, Кафекила отпрянула было, но навык службы в храме сделал свое. Она встала на пороге, загораживая пришельцу путь
— Что ты здесь ищешь в ночное время? — спросила она свысока, видя перед собой незнакомца в запыленном и поношенном солдатском плаще. Он тяжело опирался на копье.
— Я должен сию же минуту говорить с вашей главной мамаконой, — выдохнул он.
— Сейчас? До рассвета? Подожди, пока она сойдет к утренней жертве. Если только она вообще захочет с тобой разговаривать.
Незнакомец распахнул плащ, вытащил из-под одежды висевшую у него на шее золотую пластинку и показал ее жрице.
— Видишь это? Понимаешь, что она означает? Нельзя терять ни минуты. Зови мамакону!
— Выслушай его, жрица! — во мраке замаячила какая-то фигура, и Кафекила узнала коменданта крепости. Старый и полнотелый воин тяжело дышал, видимо, он стремился поспеть за бежавшим гонцом. — Это знак самого сапа-инки.
— Какого сапа-инки? Ведь Атауальпы уже нет в живых, — внезапно раздался за их спиной резкий голос. Главная мамакона по обыкновению бесшумно появилась из-за колонны.
— Сапа-инка Тупак-Уальпа, сын Уайны-Капака, шлет тебе этот знак, почтенная.
Старая жрица подозрительно осмотрела пластинку и, обратившись к Кафекиле, резко бросила:
— Иди к огню! Поправь его и сделай поярче!
Девушка вынуждена была удалиться в другой конец храма, но слышала почти все. Прибывший объяснил, кто такой Тупак-Уальпа, дважды отметив при этом, что он носит повязку с перьями птицы коренкенке, но главная мамакона не хотела признать нового владыку, хотя комендант крепости поддерживал гонца и шепотом горячо что-то ей доказывал. Она снова услышала: «Носит повязку и перья птицы коренкенке. Подумай: повязку и перья!»
— Чего хочет от нас твой господин? — спросила наконец мамакона.
— Сын Солнца, сапа инка Тупак-Уальпа приказал, почтенная, повторить тебе эти слова: «Белые идут к Акоре. Девы Солнца не должны попасть в их руки. Пусть лучше дева Солнца превратится в мумию, нежели станет наложницей белого!»
— Конечно, лучше… — Главная мамакона гордо подняла голову. — Мумии дев Солнца со всей страны сносят в Мочо, что в краю заката, и там их помещают на вечные времена в большой пирамиде.
— Я знаю об этом, почтенная. Но сейчас не время для таких церемоний. Лучше они нашли бы покой хоть здесь, в этой земле, но спаслись от бесчестья. Почтенная, я бегу из лагеря белых, я видел дев Солнца в их руках. Видел страшные вещи.
— Что? Я должна убить своих жриц? Кто же тогда будет охранять священный огонь?
— Молодые пусть бегут. А старые могут остаться. В крайнем случае белые их убьют. Священный огонь они гасят всюду, где только обнаружат его.
Внизу, слева, посреди ночной тьмы вдруг замелькали огни. Стали видны зубцы приземистой круглой башни.
— Слишком поздно! — воскликнул комендант крепости. — Сигнал тревоги. Белые уже здесь.
— Ты задержишь их, вождь? Их только горстка, а стены…
— И нас горсть! — прервал его воин. — Еще Уаскар забрал почти все силы из крепости. Но я уже отдал приказ, чтобы ворота были заперты.
— Нет, нет! Сын Солнца распорядился иначе: впустить их, но чтобы никто из них не вышел отсюда.
— Для этого у меня не хватит сил. Если они войдут в город…
— Кафекила! — Главная мамакона быстро приняла решение. — Беги и созови всех девушек сюда, в храм!
— А священный огонь, почтенная?
— Это уже не твое дело. Беги!
Небо на востоке быстро светлело, оно приобрело зеленоватый оттенок, который вскоре превратился в золотисто-розовый, и, когда вскочившие с постели раньше других жрицы вбегали в храм, над далекими горами взошло огромное яркое солнце. Его лучи упали на большой полированный диск из золота, который висел против двери, и полумрак, царивший в храме, на миг озарился золотистым, трепещущим светом. Жрицы, Синчи, комендант крепости склонились в глубоком поклоне, только одна главная мамакона продолжала стоять, гордо выпрямившись, с суровым лицом, искаженным болезненной гримасой.
Она обратилась к жрицам, торопливо объясняя, что произошло, и повторила приказ сапа-инки Тупака-Уальпы, ко в это время по узким улочкам разнесся странный, непонятный, незнакомый гул. Какой-то тяжелый металл сильно и властно бил о мостовую, и эти частые, ритмичные удары все приближались.
Одному Синчи был знаком этот звук. В тревоге и отчаянии он прервал мамакону.
— Белые! Это большие ламы белых людей! Бегите! Девы Солнца, бегите!
Но было уже поздно. По узкой улочке от южных ворог на площадь перед храмом ворвался отряд испанских всадников. Рядом с лошадьми бежал переводчик Фелипилльо и воин-индеец в полном вооружении. Воин указал на храм и закричал срывающимся от возбуждения голосом:
— Вот он, храм! Там девы Солнца! Там!
— Это Уайра, который охранял южные ворота, — чуть не застонал комендант. — Предатель!
Несмотря на свою полноту, он бросился навстречу всадникам и метнул копье.
Уайра свалился лицом вниз, словно падая ниц перед храмом.
Синчи прямо с высоких ступеней бросил дротик. Конь ближайшего к нему испанца встал на дыбы, заржав от боли, и рухнул на бок, придавив собою наездника.
Фелипилльо что-то кричал высоким дискантом, из чего Синчи разобрал только:
— Кипу! Кипу сапа-инки! Вы должны… — но его голос потонул в грохоте подков, так как кони заметались, и в яростных криках испанцев.
— Негодяи язычники убили коня!
— Убить! Всех до единого!
— Сеньор де Сото! Сеньор де Сото! В храме — девки!
— Ха-ха! Девы!
— Лови их!
Они спешились и яростной лавиной ринулись в храм. Старый комендант крепости погиб, пронзенный двумя мечами; пали двое индейцев, которые заслонили своими телами двери храма. Синчи поразил в грудь ударом шпаги сам де Сото, а когда раненый пошатнулся, кто-то из испанцев стукнул его мимоходом по голове рукоятью меча.
Синчи отбросило куда-то назад, он ударился о стену и тяжело сполз на землю. Сознание не покинуло его, но долгое время он не мог пошевелиться. Он видел, как испанцы ворвались в храм, слышал крики перепуганных жриц, гогот возбужденных победителей, видел, как они гонялись За девами между колонн храма, как срывали одежды с тех, Которых настигали, на ходу оценивая добычу. Старух убивали тут же на месте.
Стены городка содрогались от выстрелов, едкий пороховой дым стлался низом, проникая в храм. Оставшиеся возле лошадей испанцы начали палить из мушкетов вдоль улиц, в ворота домов, откуда выглядывали уже проснувшиеся, перепуганные жители. Оставшиеся в живых тут же в страхе разбегались и прятались.
— Ильяпа! Ильяпа! — несся вопль отчаяния и ужаса. Бросая оружие, спасались бегством даже воины, которые пришли из крепости.
Их была всего лишь горстка. Самые смелые, бежавшие впереди, полегли, настигнутые пулями, или — как думали индейцы — их поразило громом, который повиновался всемогущим, словно боги, белым.
— Девок — на площадь! Связать их всех вместе и охранять! А вы, рыцари-герои, — за мной! Эти краснокожие псы осмелились защищаться. Вырезать их всех до единого!
— Мудрые слова. Ха-ха, за дело, господа!
— Сеньор, а девок, которые поглаже, оставлять в живых?
— Конечно. Ты, Эррера, иди к домам. Прочесать их все подряд! Ты, Педро Санчес, ступай, обойди те улицы. Я примусь за эти. А дон Алонсо де Молина будет охранять коней и пленниц.
— Пусть только появится какой-нибудь краснокожий, я его заставлю целовать землю! А уж пленниц я устерегу, хе-хе, устерегу. Этот товар у меня никто не отнимет. Побольше бы их сюда нагнали!
Испанцы методично переходили от дома к дому, с ожесточением убивая мужчин, детей, старух, связывая и сгоняя на площадь молодых, красивых женщин. То там, то здесь вспыхивали яростные короткие схватки — когда горожане все же брались за оружие. Тут и там слышались крики, дикий гогот, начиналась погоня за убегавшими в ужасе девушками. Но в общем «работа» шла споро и гладко. Смертоносный гром, все еще доносившийся со стороны храмовой площади, вид диковинных животных, на которых прибыли белые, зрелище опозоренных, связанных дев Солнца-все это совершенно ошеломило застигнутых врасплох жителей. Они почти не сопротивлялись, не понимая, что происходит, и даже не помышляли о спасении.
Только тогда, когда насильники утомились от убийств и грабежа, когда даже наиболее кровожадные были сыты по горло пролитой кровью, они немного опомнились, и сам де Сото приказал прекратить бойню.
— Если хотите резать старых баб и щенков — пожалуйста! — кричал он, когда труба созвала всех на площадь. — Но молодые и сильные мужчины нам понадобятся. В одном только храме наберется столько золота, что его едва унесут десять человек. А ведь оно есть еще и в домах. Давайте-ка мне сюда мужчин! Сеньор Алонсо, займитесь сбором золота, А потом мы подпалим этот городишко и тронемся в обратный путь. Сколько всего девок?
— Шестьдесят восемь, сеньор.
Синчи, рана которого оказалась неопасной, а шок от удара прошел, обнаружили в преддверии храма и пинками выгнали на площадь. Лицо бегуна было залито кровью и распухло так, что даже Фелипилльо, все время шнырявший около пленниц, не узнал его. Нагруженный тюком с добычей, связанный с другими пленными ремнем, наброшенным на шею, Синчи медленно двинулся в тяжелый путь к главному лагерю белых.
Глава тридцать первая
К вечеру они добрались до селения Пукальпо, расположенного у подножия огромной горы, в тесной и знойной долине, где участки возделанной земли террасами поднимались по северному склону. Здесь в изобилии росли кукуруза, картофель, кенна, табак, кусты агавы достигали человеческого роста. Выше, где начинались голые нагорья, покрытые только травой иру-ичу и редкими зарослями смолистых кустов толы, паслись большие стада лам.
Деревушка, состоявшая из двух общин, производила самое отрадное впечатление: тут и там виднелись пальмы лорета и тагуа, много деревьев, дома были аккуратные и просторные.
Де Сото, окинув взглядом окрестности, принял решение:
— Здесь расположимся на постой! Фелипилльо, зови старшего этой деревни.
Старейшина айлью уже приближался, не пытаясь даже скрыть своего ужаса. Весть о страшных белых пришельцах достигла даже этой долины, и теперь при виде лошадей, бородатых, закованных в неведомые воинские доспехи людей, явившихся столь неожиданно, он чуть было не потерял сознание. На толпу связанных пленниц и носильщиков он взглянул только мельком.
Де Сото, не слезая с коня, отдавал приказания:
— Ты, Фелипилльо, говори так: мы займем вон тот дом, — он указал на здание, расположенное несколько на отшибе, у самого берега реки. — Те, кто там живет, должны сейчас же убираться вон. Впрочем, молодые девки могут остаться. А деревня должна снабдить пас всяческой снедью, да чтоб еда была получше! Этих наших пташек и остальную голытьбу, которая тащит золото, они тоже обязаны накормить. Да поскорее, бегом!
— Я скажу им, сеньор. Но они дадут нам сушеного мяса, а это неподходящая пища для белых господ.
— Ого, даже ты способен иногда сказать нечто толковое. Прикажи им зарезать ламу и дать нам свежего мяса.
— Зарезать? О сеньор, получится так же, как вчера, как в той деревне, где мы ночевали. Они забьют самую старую ламу, мясо будет жилистым и жестким. Пусть они пригонят сюда стада, и мы сами выберем. Молоденькая лама, поджаренная на вертеле, как велит обычно готовить для себя его светлость сеньор наместник, — это пища, достойная белых господ.
— Ты сегодня даешь неплохие советы. Пусть же пригонят сюда стада.
Фелипилльо при переводе добавил еще многое от себя. Прежде всего велел старейшине айлью показать, где находится его дом, запретил кому-нибудь покидать его, потому что тогда важные белые господа поразят хозяина громом, — они имеют большую силу и любое непослушание их разгневает.
Старейшина айлью заговорил дрожащим от страха голосом:
— Будет так, как ты прикажешь. Но мы бедны.
— Не ври. Давай самое лучшее, что у тебя есть! И поскорей!
Синчи, стоявший со своей ношей в ряду других носильщиков, все слышал. Он начал тихонько стонать, поправляя тюк на спине.
— Ох, как тяжело. Ох, отдохнуть бы. Пусть белые господа позволят нам отдохнуть.
Фелипилльо посмотрел на него с презрением и повернулся к испанцам. А как раз в это время старейшина айлью проходил мимо колонны пленных, возвращаясь в деревню. С жалобным стоном Синчи бросил в его сторону:
— Именем сапа-инки — бегите! Девушки должны бежать! Лам угнать в горы!
Старейшина лишь коротко, испытующе взглянул на носильщика, потом — на толпу пленниц, но не прибавил шагу, не подал и вида, что слышал. Однако в его глазах промелькнуло отчаяние. Только сейчас он узнал в пленницах по белым с красной вышивкой одеждам дев Солнца.
Он скрылся между домами деревни, а в это время де Сото, довольный и самоуверенный, приказывал всей колонне повернуть к выбранному для ночлега помещению.
— Ты займешься приготовлением этих ягнят на вертеле, Фелипилльо. Самочки, конечно, лучше?
— О да, сеньор, они нежнее.
— Хорошо. Режь одних только самок. А потом позабавимся и с этими самочками, хе-хе! — он через плечо указал на толпу пленниц. — Ты тоже сможешь себе выбрать. Ты это заслужил.
— О да, сеньор, — нимало не смущаясь, согласился отступник. — Я так напугал этого глупого язычника, что он выполнит все мои указания.
— Да? А ну-ка посмотри, что там делается? А, проклятые псы! Мигель, Педро, держите их! Херес, пали из мушкета! И ты, Диего! Пленниц стеречь! Остальные за мной!
Солдаты тотчас сорвались с места, но пока высекли искру, пока подпалили фитили и приготовились к стрельбе — во всей деревне уже поднялся дикий переполох. Даже Фелипилльо не мог понять, что кричали ее жители, а испанцы видели лишь толпы людей, в панике разбегающихся в разные стороны. Одни бежали по долине вдоль ручья, другие к террасам возделанных участков, к зарослям кукурузы и агав, третьи — к каменистым пустошам северного склона. Но уже Мигель Эррера и Педро Санчес мчались галопом между домами, топтали и рубили тех, кто замешкался.
Какая-то женщина взбиралась по обрывистому склону горной террасы и на минуту задержалась, оглянувшись на Деревню. Как раз в это время Хуан Херес наконец запалил фитиль и со смехом приложился к мушкету.
Звук выстрела, словно гром, разорвал тишину долины, женщина, которая была видна всем, вскрикнула, упала на колени, и тело ее начало сползать вниз по склону.
— Хи-хи-хи, собственными ногами накрылась, — гоготал Херес, поспешно заряжая мушкет.
Его спутник, Диего Наварро, тоже наконец справился со своим фитилем и принялся палить вдоль главной дороги, а потом они стали стрелять по очереди; если только видели какую-либо живую мишень, подбадривая друг друга и подшучивая. Горы отражали эхо выстрелов, умножая их многократно, и казалось, что по всей долине грохочет гром.
Де Сото с несколькими испанцами добрался до облюбованного дома, который стоял на отшибе, и поэтому его жителей не успели предупредить. Они выскочили во двор, когда услыхали крики и грохот, и в диком ужасе, который буквально приковал их к месту, смотрели на захватчиков, особенно на их огромных странных животных.
— Взять их! — спокойно приказал де Сото, никак не выказывая овладевшего им бешенства. — Повесить всех здесь, на этом дереве! Обоих стариков и всех трех мальчишек.
— Как прикажешь, сеньор? Чтоб они сдохли сразу или кое-какое время еще подергались?
— Ага, ты это умеешь делать, я знаю. Ну, как тебе хочется, Луис. Обыщите дом! Может, там еще есть кто-либо.
— Фелипилльо заметил какое-то движение в небольшом строении, где, наверное, был склад зерна или птичник, и крикнул, указывая в ту сторону:
— Девка! Сеньор, там девка!
Сам де Сото спрыгнул с коня и со стилетом в руке метнулся в низкие двери. Через минуту он вытащил отчаянно сопротивлявшуюся, хотя и в полном молчании, девушку. Другую, немного постарше, выволок из дому Луис.
— Алонсо, возьми себе эту девку. А ту помоложе — для Родриго Панагуа. Ты ведь любишь, старый пройдоха, такие не созревшие плоды. Хе-хе!
Старый солдат, ветеран италийских войн, цинично рассмеялся.
— Да, это так. Спасибо, сеньор.
— А пока связать их и присоединить к остальным пленницам. Что там, Мигель?
Посланные в погоню возвращались на взмыленных лошадях.
— Все ушли. Кого мы догнали, те лежат. Деревня пуста.
— Вероломные псы. Они должны были дать нам продовольствие на ужин. Фелипилльо, веди туда, где эти собаки-язычники держат своих лам. Гнать всех их сюда!
Переводчик с беспокойством взглянул в сторону гор. Ему вовсе не улыбалось карабкаться куда-то ввысь через заросли агав и кукурузы, где на каждом шагу его могла подстерегать засада.
На помощь Фелипилльо пришел Мигель Эррера.
— Не нужно туда лезть. В конце деревни я видел большой загон, а в нем около двадцати этих длинношеих овец.
— Ага, они, наверно, собирались стричь шерсть — обрадовался Фелипилльо. — И поэтому согнали туда лам. А потом шерсть делят между семьями.
— Тьфу! Все-то у них общее, все-то они делят. Порядочный христианин не Смог бы так жить. Но сейчас это и к лучшему. Мигель, возьми троих и отправляйся с ними к этому загону.
— Сколько штук зарезать, сеньор?
— Всех! — Де Сото внезапно впал в ярость. — Всех до единой! Потом выберешь для нас тех, что помоложе и пожирнее. Пусть это будет уроком для языческих псов. Убежали, а? Я им покажу, как убегать!
Носильщиков (драгоценный груз, доставленный ими, испанцы на ночь сложили в специальном помещении) согнали в угол загона, между двумя глухими изгородями. Рядом, под большим деревом, сбились в кучку женщины.
Молча, с тревогой и ужасом смотрели они, как белые привозили на лошадях зарезанных молодых лам, выбирали лучшие куски мяса, а остальное выбрасывали; как пили, не зная меры, кукурузную водку, запас которой обнаружили в доме старейшины айлью. Позже, когда над горами взошла почти полная луна и залила землю зеленоватым светом, белые вспомнили о пленницах. С песнями, освещая дорогу факелами, они толпой вывалились из дому, еле держась на ногах.
Де Сото, как начальник экспедиции, шел впереди.
— Погодите, рыцари, погодите минутку. Вот выберу себе пташечку, а потом будет и ваша очередь. Этого краснокожего добра на всех хватит.
— У нас, в Кастилии… — лепетал заплетающимся языком Педро Санчес. — У нас можно встретить блондинок. Мадонна, у них тело совершенно белое. Не то что у этих язычниц, которые словно уже на этом свете подрумянены адским огнем. Сеньор, грех с такой иметь дело. Убить их всех. Это только нам и остается, чтобы спастись от греха.
— Тьфу, дурак! Убить таких девок. Ну, и что с того, что они краснокожие? Посмотри, как они сложены! Вот эта, например, что там притулилась. Иди сюда, птичка, иди, языческая распутница, покажись-ка! Ну что? Стоит она греха? Хе-хе, убить? Может, потом, утром.
Они вытаскивали из толпы пленниц приглянувшихся им девушек, срывали с них одежды, осматривали их и волокли в дом. Быстро, нетерпеливо, в возбуждении.
Диего Наварра, стоявший на страже при пленных носильщиках, не выдержал, обернулся к товарищам и сердито закричал:
— Сеньор де Сото! А я? Черт побери всех дьявольских епископов и святых распутниц! Вы там забавляетесь, а должен тут один стоять на страже?
Ему ответили взрывом смеха.
— Еще немного, Диего, еще немного покарауль. — Де Сото, одной рукой держа за волосы выбранную пленницу, другой весело помахал солдату. — В полночь тебя сменят. А девок для тебя хватит, и этой дьявольской соры тоже. Всего не выпьем. Останется и тебе.
Этого минутного разговора было достаточно, чтобы Синчи расслабил ремень, завязанный на шее и соединяющий его с товарищами по несчастью, и быстрым рывком освободил голову из петли.
Диего, взбешенный тем, что его не допустили к «веселью», видимо, уловил какое-то движение, потому что обернулся и принялся направо и налево награждать пинками лежавших вповалку невольников.
— Тихо, языческие псы! — кричал он в бешенстве. — Тихо, не то я сейчас же отправлю вас всех без разбору в ад!
Фелипилльо, тоже тащивший в дом облюбованную жертву, обернулся и перевел эти слова на язык кечуа.
— Белый господин разгневан. Вы должны лежать не двигаясь, не то он сразу же отправит всех вас в страну белого Супая, а это страшное место!
Он со смехом исчез за занавеской, из-за которой доносились только пьяные возгласы, иногда — звон разбиваемой посуды да временами — отчаянные крики женщин.
Синчи не двигался и терпеливо ждал. Луна поднималась все выше, склоны гор уже вынырнули из мрака, тени укорачивались, становилось все холоднее. Ветра не было, в долине стояла зловещая тишина, даже шум оргии постепенно затих и замер.
«Тихо, — думал Синчи. — Но это не меняет дела, хороший охотник или воин может подкрасться и без шума. А со стены можно ударить копьем. Белый прислушивается только к тому, что делается в доме. И ждет, когда он сам туда пойдет. Попасть ему в шею не трудно. А те, что в доме, — пьяные. Два-три воина с топорами легко бы с ними управились. Это возможно. Жителей тут было много. Они, наверное, не успели далеко уйти. Если бы они вернулись и напали… Нет, не нападут. Боятся. Этих больших лам, этого грома. Если бы они не боялись, белые оказались бы бессильны. Не боялись, если бы знали, что такое белые или получили бы приказ. Если бы сын Солнца разослал кипу, объясняющий, что они не боги, а всего лишь люди, плохие люди, пьяницы. Нужен приказ — уничтожать их везде и повсюду, любыми средствами. Без приказа ничего не получится. А значит, нужно, чтобы сын Солнца разослал такие кипу».
Когда испанец, лениво прогуливающийся вдоль рядов пленных, на минуту отвернулся, Синчи осторожно освободился от пут и посмотрел на стену. В свете луны был отчетливо виден каждый камень, каждая расщелина.
Синчи усмехнулся. Для горца взобраться на такую стену — пустяк. Но для этого нужно время. Немного времени, но все же нужно. А белый услышал бы, прибежал и ударил бы его своим длинным ножом. Может, лучше прыгнуть на него сзади, повалить и задушить? Но это не так просто. Латы закрывают шею… А на голове шлем. Будь у Синчи даже камень, шлем им не разобьешь.
Он еще колебался, когда вдруг занавес на дверях поднялся, блеснул луч желтого света и на двор вышел, вернее, вывалился пьяный испанец. Он тащил за собой почти обнаженную девушку, которая тщетно старалась прикрыться остатками одежды, и направился прямо к часовому.
Испанец толкнул девушку, она свалилась рядом с Синчи, и забормотал, стараясь перебороть икоту:
— Ты, Диего, теперь отправляйся веселиться. Возьми какую-нибудь свежую девку, потому что те… уже… а, святая Мадонна, как голова кружится — потому что те уже ни на что не годятся. Возьми свежую, говорю тебе. И для рыцаря де Сото тоже. Захвати двух. Та, которую я приволок, Это его тварь. Теперь ему нужна новая. Иди, Диего. Я тут… тысяча чертей на проклятую твою душу!.. Я останусь тут, на страже.
Он оперся о длинное индейское копье и, пошатываясь, засмотрелся на луну.
Синчи пошевелился и, убедившись, что новый страж ничего не замечает, медленно, без шума стянул плащ и укрыл им лежащую без движения девушку. Он зашептал, едва шевеля губами:
— Бежим. Этот белый напился соры. Когда он уснет, мы убежим. Я уже освободил шею. Тебя забыли связать. Убежим. Ты сможешь бежать в горы?
Она ответила еле заметным, но выразительным кивком головы.
— Возьми плащ, когда будем уходить. В горах холодно.
Она снова кивнула головой, не произнеся ни слова.
Им не пришлось долго ждать. Испанец зевал все чаще, качался все сильнее, пока наконец тяжело не сполз на Землю. Еще минуту он, сидя, боролся со сном, потом легко, почти с удовольствием повернулся на бок и тут же захрапел.
Синчи подтолкнул девушку, вытянул руки и ноги, чтобы проверить, повинуются ли они ему, после чего бесшумно поднялся вместе со своей спутницей. Они быстро достигли стены; Синчи помог ей вскарабкаться, сам легко взобрался наверх. Они спрыгнули в густой мрак, простиравшийся за стеной, и бегом, не теряя времени, устремились в сторону гор.
Глава тридцать вторая
Рассвет застал беглецов высоко в горах, среди скал и редкого кустарника. Девушка остановилась.
— Отдохнем. Я, я уже не могу…
Синчи при первых проблесках рассвета прежде всего посмотрел назад. Деревни не было видно, не видно было ни возделанных полей, ни дороги, ни малейшего следа человека. Горы, разорванные ущельями, грозные своими бездонными пропастями, тесно обступали их со всех сторон, и даже он, горец, не мог разобраться в этом каменном хаосе и понять, где находится главная долина,
Он спросил девушку:
— Ты из этой деревни? Покажи мне кратчайшую дорогу в Гуамачуто.
Но, обернувшись к ней, тут же умолк. Она опустилась на колени, повернувшись лицом к востоку — в это время над перевалом показалось солнце, — и что-то шептала, склонясь к земле.
Синчи удивился. Такую набожность он видел впервые. Наверное, эта девушка хочет отблагодарить бога Инти за свое спасение.
Он внимательно пригляделся к своей спутнице. На ней была обыкновенная серая одежда крестьянки без всяких украшений, настолько изодранная, что, даже сгибаясь в молитвенных поклонах, она вынуждена была придерживать ее на груди. Волосы, спутанные и скрученные в небрежный узел, закрывали уши. Но волосы были длинные, что редко встречалось в деревнях.
— Откуда ты? — снова повторил он свой вопрос очень неуверенно. — Из той деревни, на которую напали белые?
Девушка ответила не сразу, бросив долгий испытующий взгляд на своего спутника.
— Нет. Я… я из Акоры. А вернее, из Туписо, что в долине Уальяго.
— Из Акоры? Из числа тех пленниц, которых они гнали весь день?
— Да. Я… — она минуту колебалась, — я из храма дев Солнца.
— Ты! — Синчи был поражен. — В такой одежде? И без всяких украшений, без серег?
Девушка молча пожала плечами.
— Эту одежду я нашла на полу, взяла первую попавшуюся. Лишь бы прикрыть наготу… Ночи холодные. А украшения… Смотри!
Она приподняла волосы, обнажив растянутое серьгами УХО, теперь разорванное и покрытое запекшейся кровью.
— У меня было ожерелье, браслеты, серьги… они сорвали все, серьги вырвали вместе с мясом. Он меня даже бил, тот белый, наверно, ему показалось, что все это не такое уж ценнее.
— Ты жрица? — неуверенно спросил Синчи.
— Я дева Солнца из Акоры. Меня зовут Кафекила.
Синчи низко склонил голову.
— Прости меня, чистая. Я не звал…
— Не издевайся надо мной! — резко и гневно оборвала его девушка. В ее голосе звучало отчаяние. — Ведь ты был в той деревне и все видел…
— Я был и в Акоре. Теперь я узнал тебя, благородная. Это я принес весть о том, что идут белые. Но было уже слишком поздно.
— Ты? Ах да, я узнаю тебя. У тебя был знак, золотой знак… Кто ты такой?
— Синчи. Часки-камайок при сыне Солнца.
— Ты сам отправился в такую далекую дорогу?
— Сын Солнца приказал. Хотя… хотя приказы часки отдают теперь белые. Их пересказывает негодяй, знающий два языка, — Фелипилльо, который тоже был в Акоре. Белые приказывают рассылать кипу, какие только им угодны, велят приносить золото, открывать крепости, хранилища, склады.
Жрица слушала, нахмурив брови. Потом спросила:
— А как к этому относится сын Солнца?
— Сын Солнца Тупак-Уальпа молчит и ждет. Когда он меня посылал в Акору…
— Я слышала, какие ты передавал приказания, — прервала его Кафекила.
— Да, я пересказал их почтенной мамаконе. Сын Солнца сказал: «Девы Солнца не должны попасть в руки белых. Пусть лучше дева Солнца станет мумией…»
Он вдруг замолчал, смутившись, и опустил голову.
Жрица смотрела ему прямо в глаза и твердо закончила:
— Лучше мумия, нежели оставшаяся в живых наложница белых. Молчи! — крикнула она, когда Синчи попытался возразить. Она села на камень и, придерживая на груди разорванную одежду, долго глядела в одну точку. Неподвижно, не мигая. Потом медленно повернула голову и посмотрела на черную, поблескивающую под солнцем зернышками слюды скалу, которая обрывалась, уходя в бездонную пропасть. Высоко на выступе скалы тихонько покачивались кустики карликовых кипарисов-толы.
Жрица начала говорить вполголоса, скорее для себя, нежели для Синчи.
— Лучше мумия… Я понимаю. Ее показывают юношам и девушкам и рассказывают о великих людях и благородных поступках или о чистой жизни. Она становится примером для подражания. Если не остается мумии, то точно так же действует на людей слово. Как «Апу-Ольянтай». Ничего не значит жизнь одного или многих, если останется достойная поклонения мумия или слово, которое живет в веках…
Она медленно поднялась, не сводя взора со страшного обрыва.
— Беги к сыну Солнца. Скажи… скажи, что не будет достойных поклонения мумий. Девы Солнца из Акоры. не сумели умереть вовремя. Но передай также, что я, Кафекила, дочь кураки с Уальяго, поняла смысл приказа. Поняла великое слово. Пусть он разошлет весть, что я бросилась со скалы, чтобы больше не жить, если не могу жить чистой. Пусть он разошлет такие слова: к чему притронулись белые, то осквернено!
— Неужели ты в самом деле хочешь, о чистая…
— Я только тогда стану чистой. Иди и повтори. Упади ниц перед сыном Солнца и умоляй его. Пусть разошлет слова: белые — это грабеж, насилие, убийство. Белые — это попрание извечных, исконных законов Тауантинсуйю. Белые — это оскверненные мумии и храмы наших богов. Не нужны нам их боги, во имя которых они чинят убийства. Белые ужасны, но это не боги, а всего лишь люди. Тонаба сегодня ночью, защищаясь, укусила одного из белых, и потекла кровь. Обыкновенная кровь. Так пусть она льется! Пусть сын Солнца разошлет кипу, разошлет слова: убивать белых всюду и любым способом, любым оружием. Пусть за каждого из них погибнут хоть десять наших, лишь бы уцелело Тауантинсуйю.
— О благородная! Почему ты сама не хочешь сказать Эти слова сыну Солнца? Неужели тебе не жаль расстаться с жизнью? Неужели ты не хочешь вернуться к реке Уальяго?
— И помнить? До самой смерти помнить? И видеть белых, позорящих наше прошлое, наши святыни, отрезающих нам путь в будущее? Чего мне жалеть? Это все не имеет значения. Ни жалость, ни боль, ни смерть человека не имеют значения, если от него останется слово. Слово, которое будет жить в Тауантинсуйю, а в этом слове останусь жить я. Иди к сыну Солнца и повтори.
— Я повторю, о чистая, — покорно и торжественно ответил Синчи, преклоняя колени.
Он не встал, услышав шелест шагов уходящей девушки, даже не поднял головы, когда где-то высоко молодой голос в страстном порыве выкрикнул имя Виракочи, когда глубоко внизу, у подножия каменной стены, загрохотали обломки скал, сдвинутые с места упавшим сверху телом.
Только когда все утихло, он встал и, не глядя в ту сторону, быстро двинулся к югу. Где-то там — Гуамачуто и лагерь белых, а при нем и сын Солнца.
На дорогу в Гуамачуто, по которой должен был идти Писарро, Синчи вышел значительно южнее, чем нужно было.
Он сделал это намеренно, потому что испанцы собирались отдохнуть в Гуамачуто два дня, но теперь уже, наверное, находятся по дороге на Куско. Идут они медленно, так как невольники, нагруженные добычей, еле тащатся. И он, бегун, легко их нагонит.
Но Синчи просчитался. Когда он добрался до большого тракта, то понял, что белые еще не проходили. Проверить догадку было нелегко, так как все окрестности совершенно опустели. Люди бежали в панике — об этом говорило брошенное имущество, одежда, посуда, даже начатая работа — ковер на ткацком станке, наполовину затесанное бревно. Исчезли также ламы и все запасы продовольствия.
— Так приказал инка, что проходил здесь с войском, — объяснил ему единственный оказавшийся поблизости человек, старый начальник караульного поста. Синчи застал его около сторожки, когда тот сидел в тупом оцепенении и жевал листья коки. Он даже вздрогнул, увидев старика. Почудилось на мгновение, что снова вернулись прежние времена, что он — часки в долине Юнии, что может сейчас побежать в горы, в сторону Кахатамбо, может увидеть Иллью…
— Знатный инка, — бесстрастно продолжал старик. — Может, он даже анки, один из сыновей сапа-инки. У него Золотые серьги, и золотые латы, и золотой шлем. Он всем велел уходить в горы. Не оставлять ничего из еды. Когда придут белые, пусть жрут камни.
— Почему ты остался?
— Я уже стар. Далеко не уйду. Я здесь жду, наблюдаю, а когда придут белые, подожгу сторожку. Нельзя, чтобы она им досталась.
— Они убьют тебя за это.
— Убьют. Не все ли равно? А когда инка Манко увидит сверху сигнал, то будет знать, что белые уже здесь.
— Инка Манко?
— Да, так его называли воины. Я его не знаю, родичей сына Солнца много, но этот казался очень сильным.
Синчи недолго раздумывал. По дороге впереди белых идут какие-то войска, кто-то поднимает народ, кто-то отдает приказы. Приказ в Тауантинсуйю — это все. Он наверняка будет выполнен. А белые придут в пустынные места, где не найдут продовольствия. Это подорвет их силы. И тогда, наверное, инка Манко или сам сапа-инка Тупак-Уальпа отдадут Другой приказ — выступить. Тут уж белых не спасут ни их громы, ни большие ламы
Надо, однако, чтобы сапа-инка Тупак-Уальпа знал обо всем И о том, что произошло в Акоре, и о войске инки Манко. То есть нужно вернуться в главный лагерь белых.
Синчи нашел лагерь на расстоянии одного дня пути около обычного скромного тамбо. На плоскогорье, где проходил тракт, даже воды не было, ее приходилось носить издалека, снизу.
Испанец часовой задержал Синчи, но тот не убегал, не сопротивлялся, напротив, смело подошел к мушкетерам и показал им свою золотую бляху, знак высокой должности.
— Что эта вонючка тебе показывает, Хосе? — лениво спросил солдат, сидящий на придорожном камне.
— А черт его знает. Золотая бляшка, а на ней какие-то знаки.
— Золотая! Так дай язычнику по шее и забери ее.
— Э-э, а он так показывает, будто хочет пройти в лагерь К тому ихнему вроде бы королю. Может, какой дворянин или еще кто?
— А нам какое дело? Бери золото, и все.
— А я боюсь. Писарро приказал, чтобы не дразнили ни краснокожую обезьяну, ни его людей. Шляются эти длинноухие рядом с нами, в ушах — такое богатство — и ничего, Нельзя. И девок их не тронь. Нельзя.
— Ну, если боишься, так пусть этот ублюдок жида и цыганки ползет к своему господину.
Махнув рукой, испанец дал понять Синчи, что он может пройти, небрежным жестом указал направление.
— И такая языческая обезьяна носит на себе золото, стоящее не меньше пяти дукатов. Хосе, друг, ведь околеть можно со злости!
— И у нас будет золото, не волнуйся. И не какие-нибудь бляшки. В этом Куско, небось, и крыши из золота. А Фелипилльо говорил, что главный храм там называется Злотым. Так из чего же он может быть сделан, как не из золота? Ох, друг, как подумаешь… Я пятнадцать лет воюю, сколько уже этих земель истоптал, с кем только не сражался, и всегда в кошельке или медяки, или пусто. А теперь вот по-другому. Золото.
— У тебя его пока нету. Жди, когда разделят добычу. А там — для короля, для церкви, для благородных идальго…
— Чтоб их чума взяла!
— Не озолотишься тем, что тебе из милости выкинут.
— Да… Так обойдемся и без их милости. Чего нам стоит? Сядем на коней, поедем в ближайший город и возьмем все что захотим. Пусть потом меня Писарро ищет и преследует. Поедешь со мной?
— Конечно… Краснокожие твари напуганы… Но ты про Писарро так не говори. Это тебе не какой-нибудь простак. Говорят… говорят даже, что он колдун. Знаешь, почему он все время велит приводить к себе пленниц, и только девушек? Потому что он пьет их кровь, поэтому он знает, кто о чем говорит в лагере.
Хосе в испуге оглянулся на тамбо. Только через некоторое время он осмелился возразить.
— Э-э, сказки! Патер Вальверде все время с ним. А пленницы живы. Их при нем уже что-то около дюжины. Я сам видел.
— Не знаю. Так люди говорят.
Синчи только вечером смог выбрать момент, когда Тупак-Уальпа находился в своей резиденции, и дал ему отчет о своем путешествии.
Властелин выслушал спокойно, с каменным лицом.
— Только одной деве Солнца удалось бежать?
— И та бросилась со скалы, сын Солнца.
— Ее имя не будет забыто. Я прикажу аравакам воспевать ее вечно. Но другие… Другие должны умереть. Понимаешь? Ты говорил об инке Манко. Это младший брат Уаскара, то есть мой враг. Но с тем, что девы Солнца не могут быть наложницами белых, он тоже согласится. Пойдешь ночью и найдешь его. Пусть нападет на тех белых, что идут из Акоры.
— Сын Солнца, по твоему высочайшему повелению я должен был искать свою девушку, Иллью из Кахатамбо. Потому что я… я…
Тупак-Уальпа жестом остановил его. Говорил мягко, но властно.
— Ты мне передал слова жрицы Кафекилы. Но, видимо, сделал это неосмысленно, как простой часки. Повтори еще раз, что она говорила о белых.
Синчи низко склонил голову и послушно ответил:
— Дева Солнца Кафекила велела повторить эти слова: к чему прикоснутся белые, то осквернено. И еще: белые — это грабеж, насилие и убийство. Белые — это попрание исконных, извечных законов Тауантинсуйю.
— Хватит! — прервал Тупак-Уальпа. — Повторил, теперь думай. К чему прикоснутся белые, то осквернено. К чему все время прикасаются белые?
— Белые? — Синчи испуганно смотрел на властелина. — Белые? Ну, к земле…
— Да, к земле. Они осквернили нашу землю. Попирают наши законы. Ты сам это видел. Грабят даже храмы, срывают золото с самых священных мумий наших предков. Бесчестят женщин и даже девушек, не достигших супружеского возраста. Захватывают стада лам. Убивают только самок. Потому что любят нежное мясо. Какое слово они употребляют чаще всего? Ну, говори, какое?
— Не знаю, сын Солнца. Может… бог?
— Нет! — Тупак-Уальпа засмеялся тихо, но с иронией. — Нет! Они чаще говорят о золоте, чем о боге. Но самое их любимое слово, это «мой». Мой конь, мое золото, мои ламы, мои невольницы. Это их настоящий бог. «Мое»! Понимаешь?
Синчи смотрел на властителя, не произнося ни слова, но по его лицу можно было видеть, что он не понимает.
Повелитель мира начал благосклонно объяснять ему:
— Кем ты был? Ага, часки. То есть ты не добывал руду в шахтах, не пас стада лам, не ткал шерсть. Но у тебя было все, что тебе нужно, ты имел оружие, теплую одежду. Откуда? Потому что ты был частицей Тауантинсуйю. Понимаешь? Тауантинсуйю — это как бы айлью всех айлью. Ты отдавал свой труд как часки, а другие спали ночью спокойно, но кормили тебя. Кто-то производил для тебя шерсть. А кто-то — металл. Все работали сообща и делили все поровну.
— Ты справедливо говоришь, сын Солнца, у меня было все.
— А о земле никто не говорил «моя». И о стадах. Земля и скот принадлежали только Тауантинсуйю. Понимаешь? Это был наш закон. Самый лучший. А эти белые признают только насилие и грабеж. Нам не нужны их законы. И поэтому белые должны погибнуть.
— Белые погибнут, если ты прикажешь, сын Солнца.
— Да. А поэтому ты пойдешь ночью к инке Манко.
— Пойду ночью, сын Солнца. Но инка Манко направился к югу, а белые будут идти от Гуамачуто.
— Эти белые не соединятся с основными силами так быстро, Манко сумеет их настичь до этого… Иди! Свою девушку ты будешь искать потом.
Глава тридцать третья
Писарро торопился и все время погонял носильщиков, тащивших добычу. Ему не терпелось скорее очутиться в сказочном Куско, окончательно завладеть всей страной, успокоить своих людей, почувствовать себя здесь хозяином.
Хотя солдаты и даже наиболее верные приближенные всегда видели Писарро спокойным, хотя он и смеялся над индейцами, по-прежнему отступавшими без сопротивления, но сам от себя не скрывал опасностей и не мог избавиться от страха.
Они шли все вперед — горстка людей; затерянные в огромном краю, отрезанные от моря высочайшими горными массивами, они словно очутились в какой-то заранее подготовленной ловушке. Правда, в его руках — король индейцев, от имени которого он отдает приказы, какие только захочет, но вот уже несколько дней они идут по обезлюдевшим местам, покинутым всеми, встречая на своем пути сожженные склады, и даже колодцы оказываются засыпанными землей. В этой таинственной стране все совершается по приказу свыше, все исходит от какой-то центральной власти.
Значит, кто-то отдал приказ, чтобы население покидало обжитые места и уничтожало все до прихода белых. Кто-то организует сопротивление, возможны неожиданности, кто-то, видимо, не покорился… Фелипилльо, прежде чем отправился с де Сото на Акору, узнал его имя: инка Манко. Проклятый дикарь! Нужно заняться им всерьез.
Писарро созвал на совещание офицеров и идальго. Явился также и де Сото, который прибыл в лагерь почти одновременно с Синчи, вопреки предсказанию Тупака-Уальпы. Наместник был в доспехах, видимо, для того, чтобы подчеркнуть всю серьезность ситуации. Однако совещание он проводил спокойно.
— Сеньоры! Деревушку, которая расположена перед нами в долине, обследовал дон Хуан Рада, и я уверен, что он сделал это серьезно и основательно.
— Разве кто-нибудь сомневался в том, что я добросовестно выполняю свои обязанности, сеньор наместник?
— В данном случае — нет. Итак, деревня пуста. Собаки-язычники бежали, захватив с собой все съестные припасы. Вокруг не видно ни одной ламы. На сколько дней хватит нам того количества скота, которое мы гоним за собой, сеньор Кандиа?
— Самое большее на три-четыре дня, ваше высочество.
— Именно, Поэтому я приказываю: мой брат Эрнандо отправится по долине направо, сеньор Альмагро — налево. С ними — вся конница. Они встретятся у подножия той белой горы, что виднеется на юге. А мы с пехотой и артиллерией выступим сегодня ночью.
С самого начала похода Писарро обычно придерживался одного твердого правила: ночью обоз остается на месте, выставляются удвоенные караулы. Поэтому офицеры переглядывались, не скрывая своего удивления.
— Ночью, ваше высочество? — осмелился спросить Хосе Мариа де Эскобар, влиятельный гранд и поэтому более смелый, чем остальные.
— Да, ночью. Сейчас почти полная луна, поэтому будет хорошо видно. Эти краснокожие дикари, вероятно, уже знают, что белые ночью не воюют. Именно поэтому мы и выступим ночью. Где-то поблизости эта собака, этот ублюдок дьявола Манко. Может, ночью нам удастся схватить его. Конница должна отрезать ему пути отступления и захватить его в плен. Если это не удастся, то мы по крайней мере завладеем стадами лам.
Молчавший до сих пор Диего де Альмагро, второй руководитель экспедиции, до глубины души оскорбленный тем, что Писарро предварительно с ним не посоветовался, сказал с явной иронией:
— А наш обоз? Эта толпа невольников, несущих добычу, и эти… хм, пленницы?
— Они, разумеется, отправятся вместе с нами.
— Хм, могут возникнуть известные трудности. Некоторые женщины очень измучены.
— Какое мне дело? И стоит ли вообще говорить об этом? Такого товара полно в каждом селении. Найдутся и другие. Если какая-либо не может идти, так черт с ней!
— Вы прикажете их оставить, ваша милость, чтобы они могли уйти, куда им вздумается?
— Нет, разумеется. Я вовсе не хочу, чтобы они рассказали своим соплеменникам о нас. Пусть о них побеспокоится мой несравненный Луис.
Альмагро поморщился при упоминании о палаче, сопровождавшем экспедицию, который был еще и шпионом Писарро, однако ничего не сказал. Сама мысль об убийстве пленниц, которые не могли двигаться дальше, не показалась никому из ряда вон выходящей.
— Есть еще одна трудность, ваша милость, — почтительно произнес Хуан Писарро. — Кобыла дона Педро де ла Гаско рано утром ожеребилась.
Писарро вдруг загорелся интересом.
— Почему вы молчали, сеньор? Все ли в порядке? Хвала господу богу, который все время оказывает нам, его рыцарям, свою милость. А кто явился на свет, сеньор Педро? Жеребец? Ха, первый конь, родившийся в Новом Свете. Это отрадный знак. Отличный знак. Назовем же его «Primus»5. Ваша кобыла, сеньор, — лошадь чистых кровей. Если таков и жеребенок… Разумеется, наши планы теперь меняются. Мы останемся здесь на несколько дней. В конце концов можно сделать так: сеньор Гаско с пятнадцатью воинами останется в этом селении. Он будет охранять добычу и невольников. А остальные двинутся в путь, как я уже говорил. Это позволит нам свободнее маневрировать. Потом мы вернемся сюда с новой добычей.
— Ваше высочество, а этот царек Тупак-Уальпа и его двор? Там ихней голытьбы несколько сот человек. Я не устерегу их всех с горсткой людей.
— Правильно. Царька следует посадить под замок в каком-нибудь помещении. Но с превеликим почетом, хе-хе-хе! Остальные не удерут, если он окажется взаперти.
— Однако у него будет возможность сноситься со своими, — буркнул Альмагро.
— Это он может, я знаю, — ответил Писарро, неожиданно помрачнев. Он поднялся и, высокомерно кивнув, дал понять, что совещание окончено.
— Сын Солнца! — Синчи шептал, как можно тише, хотя поблизости никого не было. — Белые выступают, чтобы настичь и разбить инку Манко. Мне говорил об этом Фелипилльо. Они возвратились из Акоры. Это правда. Я сам слышал. Я уже многое понимаю в их речи. Что мне теперь делать?
— К инке Манко ты не пойдешь. Кипу-камайок уже вяжет кипу, а ты разошлешь их этой же ночью по всем общинам, по всем уну, вплоть до самой маленькой деревушки. Необходимо воспользоваться тем, что белых останется немного и они не смогут нас охранять.
— У меня нет здесь часки, сын Солнца. Сторожевые посты на дорогах опустели.
— Ты отправишь тех, что находятся при дворе, а остальных найдешь среди невольников, которых гонят с собой белые. Сегодня удастся уйти каждому, у кого достанет мужества.
— Я сделаю так, как ты приказываешь, сын Солнца. Они должны разнести какие-нибудь устные приказания?
— Да. Они должны всюду говорить: приказывает Тупак-Уальпа, сапа-инка, сын Солнца. Убивайте белых везде и любым способом. К чему прикоснулся белый, то осквернено. Белые — это грабеж, насилие, убийство.
— Это слова жрицы Кафекилы, сын Солнца.
— Да. Странствующие поэты будут петь о ее жизни и смерти. А теперь иди и рассылай кипу и устные приказы.
Великий знаток кипу, главный кипу-камайок, не мог выполнить всю работу сам и созвал на помощь тех, кто хотя бы немного был знаком с этим трудным искусством. Среди них оказался и Рокки, бывший жрец из уну Пьюра. Он не только старательно помогал, но и внимательно слушал. Он тайно служил белым и вязал им любые кипу, какие они только хотели. Теперь он вязал узелки по данному капак-камайоком образцу, не поднимая глаз, словно целиком поглощенный работой, делая вид, что не слышит того, что шепчут вокруг. Но — будто проверяя, верно ли воспроизвел образец, — он потянулся к связке шнурков и незаметно пробежал пальцами по всем узелкам. Около полуночи он исчез из дома, где по приказу белых должен был пребывать Тупак-Уальпа со своими приближенными.
Фелипилльо, уставший после экспедиции в Акору и после многочисленных пиршеств, спал в своем шалаше, когда Рокки разбудил его и что-то долго и быстро ему нашептывал.
Переводчик быстро пришел в себя.
— Это всем грозит гибелью.
— И нам в том числе.
— Да, но тот, кто сообщит, может получить от белых все что захочет. А это означает богатство.
— Но что же делать?
— Подожди. Если бы здесь был вождь белых… Но его нет. Зато есть их жрец Он умный человек, когда не болтает об этом их боге, который якобы умер, но остался жив. Знаешь, пойду-ка я к нему.
Патер Вальверде занимал помещение в другом конце тамбо. Он сурово наказывал, чтобы ему не мешали по ночам, так как он подолгу молится. Поэтому, когда Фелипилльо отодвинул занавеску и проскользнул в комнату, то услышал в темноте испуганный возглас, а вслед за этим разъяренный крик:
— Кто там? Я же приказывал сюда не входить!
— Это я, преподобный господин, Фелипилльо. Я осмелился помешать вашим святым молитвам, но у меня дело важное и срочное. Речь идет о жизни.
— О чьей жизни?
— Его милости наместника и всех нас.
— Выкладывай быстрее! Нет, нет, не зажигай света! Лучше, чтобы нас никто не видел.
— Но тут кто-то есть. Я слышу, кто-то дышит.
— Не твое дело! Говори!
Грозные новости патер Вальверде выслушал в полном молчании, после чего задал несколько коротких вопросов.
— Когда эти дьявольские шнурки будут готовы и когда гонцы должны отправиться в путь?
— Перед рассветом, преподобный господин.
— Значит, в любую минуту. Ну, мы не дадим им этого сделать. Я иду к сеньору Гаско. Теперь он тут командует, А ты получишь вознаграждение. Не беспокойся.
Дон Педро, спавший глубоким сном, был очень обрадован, когда, внезапно разбуженный, он узнал, что патер все уже решил сам, и лишь торопливо отдавал распоряжения по его указаниям.
Пятнадцать оставшихся в лагере испанцев спешно были оторваны от своих любовниц, и им срочно приказали вооружиться. Потом они подкрались к жилищу Тупака-Уальпы, и так стремительно ворвались туда, что индейцы не успели даже потушить светильник. Убивали всех, занятых вязанием кипу, быстро и молча, что делало еще более страшной эту ночную резню.
— Вот самый главный знаток кипу, — услужливо подсказывал Рокки. — И тот тоже умеет. И этот. И еще он…
Тупак-Уальпа вскочил, когда ворвались белые, но, лишь только пал первый убитый, он уселся молча, приняв традиционную позу королевской мумии, и оставался неподвижным, словно не видя, что происходит вокруг. Дон Педро, стоя подле него, руководил резней и одновременно следил за тем, чтобы кто-нибудь из солдат не бросился в запальчивости на самого сапа-инку. Ведь за жизнь этого индейца он отвечал перед Писарро головой.
— Ну, так. Язва удалена, — просопел наконец падре Вальверде. — Ого, тот еще шевелится. Добей его, верный христианин, добей! А теперь, Фелипилльо, пусть Рокки соберет эти шнурки. Это все? Они еще не успели ничего послать?
— Кажется, нет, преподобный. Они все здесь.
— Отлично. Пусть теперь Рокки посмотрит, может ли он их переделать. Понял? Чтобы они по-прежнему были от имени этого их царька, но чтобы говорили о полном послушании и почитании всех белых без различия. Понятно?
— Он это сумеет сделать, — переводил Фелипилльо. — Однако это тяжелый и изнурительный труд. Он просит много золота за такую работу и двух невольниц, которые будут помогать ему развязывать уже связанные шнурки.
— Ах ты стервец! Ты сам приду мал! Ну, хорошо, вы все получите, однако надо тотчас же приниматься за работу.
Рокки сгреб в охапку все кипу и выбежал из тамбо; вслед за ним вышли испанцы, весьма довольные результатами своей «работы». Последним покинул дом Педро де ла Гаско; в отличие от своих солдат он был удручен. Однако его беспокоило лишь одно: одобрит ли Писарро, что после столь явной измены он оставил Тупака-Уальпу в живых. Он утешил себя мыслью, что индейский царек не сбежит и что, вероятно, Писарро захочет публично покарать его, как Атауальпу. Поэтому он лишь выразительно пригрозил застывшему в неподвижной позе Тупаку-Уальпе и покинул залитую кровью комнату.
Тут же появился Синчи, в отчаянии разводя руками.
— Часки готовы, сын Солнца, — зашептал он. — Но кипу уже нет.
Тупак-Уальпа словно очнулся от забытья и окинул взглядом тела убитых. Он проговорил хрипло, но спокойно:
— Кипу будут. Со знаком сапа-инки, но фальшивые кипу. Их разошлют белые. А часки… часки должны отправиться сейчас же. Во все концы. Они понесут следующие слова: так приказывает Тупак-Уальпа, сын Солнца. Каждый, кому ведомо, как вязать и читать кипу, обязан немедленно покончить с собой. Гнев богов падет на голову того, кто ослушается.
Пораженный Синчи не смог даже — как велит обычай — повторить приказание, а только низко склонился и, пятясь, бесшумно выскользнул наружу.
Дон Педро де ла Гаско половину своих людей отправил отдыхать, остальных оставил возле тамбо. Вдруг возникло какое-то внезапное замешательство, послышался непонятный шум. К досаде белого луна спряталась за тучи, и ночь стала совершенно черной. И в этой тьме закопошились какие-то фигуры, послышался топот быстрых ног, где-то лязгнуло оружие.
Кто-то прорывался через ворота, кто-то спрыгнул с высокой стены. Испанцы кинулись за ними, однако прежде чем они успели высечь огонь, запалить фитили и выстрелить — таинственные тени растаяли во мраке.
Осталось четверо убитых, обычные невольники-индейцы, и дон Педро быстро утешился: ни один из них не нес с собой кипу. Значит, просто попытка к бегству. Это все чепуха, ведь Тупак-Уальпа спокойно сидит в своем тамбо.
Глава тридцать четвертая
Испанцы, измученные ночной облавой на неуловимого инку Манко, спали; бодрствовала лишь стража, лагерь индейцев тоже пребывал в тишине.
Писарро, выслушав рапорт Гаско о событиях минувшей ночи, сперва пришел в ярость, приказал созвать суд и привести Тупака-Уальпу, однако вскоре опомнился. Патер Вальверде советовал соблюдать осторожность. Если с такой легкостью приговорить к смерти вот уже второго по счету сапа-инку, то скоро не найдешь желающих быть королем, а, кроме того, новые ставленники уже не будут пользоваться доверием индейцев. В конце концов, что случилось? Бежало десятка полтора невольников? Невелика беда. Ведь из последнего похода вместе со стадами лам пригнали множество пастухов… Тупак-Уальпа проявил свои истинные намерения? А кто верил язычнику? Этого ему не забудут, и в надлежащий момент мерзавца повесят. Но теперь от его имени кипу будет рассылать Рокки. Он негодяй, настоящий негодяй, но его удобно использовать как орудие. Фелипилльо переводит, Рокки вяжет эти их шнурки, Тупак-Уальпа восседает на троне, и таким образом вся страна у испанцев в руках.
— Итак, благодаря нашим благочестивым новообращенным, — Вальверде презрительно фыркнул, — сорван весь заговор. Вместо призыва к повсеместному бунту будет разослан приказ об абсолютном повиновении.
— А те, что удрали ночью? — мрачно спросил Писарро.
— Эти? У них не было кипу. Все кипу остались на месте.
— И вы, падре, действительно верите, что это был обычный побег? Сразу же после такой резни?
— Именно. Они так испугались и…
— Так испугались, что бросили своего короля, которого чтут как бога, а сами бежали? Но, несмотря на испуг, они не потеряли головы. Бежали только молодые и сильные. Я допрашивал наших охранников. Невольники бросились бежать все разом, ясно, что по какому-то приказу, устремившись одновременно в разные стороны. Нет, падре! Я не позволю провести себя. Этот побег был подготовлен заранее.
— Я отдаю должное вашей проницательности, ваша честь. Но даже если побег был преднамеренный, они все равно не захватили с собою никаких королевских наказов, поэтому не представляют для нас никакой опасности.
— Пока ничего не известно. Но мы теперь будем более бдительны!
Синчи, подслушивавший за занавеской, понял общий смысл разговора и тут же поспешил к сапа-инке с известием. Но, чтобы не привлекать внимания стражи, он задержался на дворе и — скрывая жалость и ужас — с минуту наблюдал за тем, как испанцы резали лам, а потом неторопливо направился к помещению, в котором теперь уже тщательно охраняемый содержался Тупак-Уальпа.
Масомати, старый жрец, который избежал смерти, потому что у него было плохое зрение и тогда, ночью, он не вязал кипу, стоял возле ворот, с беспокойством поглядывая на небо.
— Что ты там видишь, преподобный? — спросил его Синчи.
Неподалеку расположились двое испанцев и недоверчиво, как ему показалось, присматривались к нему, поэтому он не хотел показать, что торопится к своему господину.
— Ты видел птиц? Они все летят на юг. И при этом так страшно кричат.
— Может быть, кондор…
— Кондоры тоже улетают. Я видел сразу трех А ламы? Смотри, как беспокойно они себя ведут!
— Они почуяли кровь. Белые убили там, за стеной, очень много лам. Убили даже самок, о преподобный.
Но жрец не обратил на его слова внимания, продолжая всматриваться в небо. И Синчи невольно посмотрел вверх. Но ничего не заметил. Небо было голубое, и одинокие облака, плывущие со стороны гор, в свете солнца сияли безмятежной белизной.
— Смотри! — Жрец поднял дрожащую руку. — Взгляни на животных, на которых ездят белые! Видишь, они тоже чего-то испугались.
Из глубины двора, где испанские всадники чистили своих коней, рядами привязанных к кольям, время от времени доносилось ржание, топот, слышались проклятья и крики. Кобыла сеньора де ла Гаско жалобно ржала, тянулась к своему жеребенку, словно стремясь его защитить от чего-то.
— Может быть, какое-нибудь чудовище… — начал Синчи, но жрец нетерпеливо оборвал его:
— Это гнев богов! Не что иное, как гнев богов!
Синчи, входя в помещение, отер с лица пот. Действительно было как то невыносимо душно. Нет, не душно. Воздух чист и даже прохладен. И, однако, человек обливается потом, сердце колотится, руки дрожат.
И неприятное, отвратительное ощущение, словно в горле растет какой-то ком, поднимается все выше и давит все сильнее. Это похоже на то, что чувствует новобранец перед битвой. Или же… или же осужденный, ожидающий казни.
Синчи припомнил совет начальника своего сторожевого поста: в такие минуты жуй больше коки и ни о чем не думай. То, что должно случиться, все равно случится. Такова воля богов.
Однако при дворе сапа-инки никто не жевал коку. Здесь нужно было иметь трезвую и ясную голову. Особенно в такие минуту, как сейчас. Усилием воли он овладел собой и вошел в дом.
Синчи докладывал Тупаку-Уальпе о том, что ему удалось подслушать, и вдруг на полуслове оборвал свой рассказ… Откуда-то с гор, медленно расползаясь в тяжелом, неподвижном воздухе, докатился глухой звук, словно сама земля болезненно застонала. Он нарастал, приближался, усиливался, пока не перешел в грохот, более сильный, продолжительный и ужасный, чем грозовой раскат.
Солома, которой была покрыта крыша, зашуршала, хотя не было ни малейшего ветра. С потолка что-то посыпалось.
Сапа-инка Тупак-Уальпа выпрямился.
— Бог Земли разгневан. Слышишь голос бога Земли? Бессмертный дух Виракоча, спаси своих верных слуг!
Синчи, дрожа всем телом, припал лицом к земле. Если бы он был один, то помчался бы, охваченный паническим страхом, в поле, как можно дальше от стен и домов. Ему казалось, что стены комнаты наклонились, что они уже качаются, валятся прямо на него. Однако сын Солнца продолжал сидеть неподвижно, пришлось и Синчи — впервые в жизни — превозмочь свой страх перед землетрясением и остаться на месте.
— Misericordia! — орал где-то за стеною испанец, кто-то смеялся, словно потеряв рассудок, на улице храпели и испуганно ржали кони.
Пол тамбо покачнулся раз, другой, словно от ударов снизу, занавеси на дверях колебались. Пламя светильников дрогнуло, почти погасло, снова взметнулось вверх, мерцающее и неверное.
Страшный грохот, непостижимый для находящихся в доме, нарастал где-то рядом, за стеной, он становился все более могучим, терзая душу. Внезапно гром умолк, завершившись чем-то похожим на глухое, тяжелое стенание.
Несмотря на шум и звон в ушах, Синчи услышал голос своего властелина.
— О могучий повелитель Земли, я услышал твой голос? Позволь мне исполнить твою волю!
Синчи поднялся — хотя едва смог держаться на ногах — как раз в ту минуту, когда Тупак-Уальпа проходил мимо, и поплелся за ним.
Тут же за порогом дома их окружила толпа придворных, испуганных, почти обезумевших от ужаса. При виде властелина, однако, они тотчас же пришли в себя и почтительно расступились.
— Говори! — Тупак-Уальпа обратился к жрецу Масомати, единственному человеку, который оставался совершенно спокойным.
— О чем я должен говорить, сын Солнца?
— Я слышал голос бога Земли. Как он проявил свое могущество?
— Весь склон горы, тот, что прямо перед нами, обрушился, Сын Солнца. Нет уже ни полей, ни домов, которые стояли на этом склоне…
— Дороги тоже нет. — Тупак-Уальпа говорил таким тоном, что трудно было понять, спрашивает он или утверждает.
Жрец вздрогнул.
— Тебе уже все известно, сын Солнца. Да, дороги нет.
— А как тамбо?
— Помещение, освещенное твоим пребыванием в нем, осталось цело. Никто не пострадал.
— А белые?
— Они все были на дворе и уцелели.
Тупак-Уальпа медленно пошел к открытым воротам. Испанская стража, еще не опомнившаяся от страха, отступила в сторону, никого не задерживая.
Властелин минуту смотрел вдаль. Весь склон горы, насколько можно было видеть, превратился в груду камней. Бесследно исчезли террасы обработанных полей, дома оставленной жителями деревушки, тропинки, деревья и кусты.
Исчезла без следа и выложенная каменными плитами гладкая, удобная дорога.
— Преподобный Масомати и ты, Синчи! Как вы можете объяснить волю бога Земли?
Остальные придворные подались назад, и только двое названных остались рядом со своим властелином.
— Его воля ясна, сын Солнца. — Жрец говорил уверенно. — Не следует идти дальше. Дороги перед нами больше нет. Это может относиться к белым или же… к нам.
— Земля вздрогнула, сын Солнца, — несмело отозвался Синчи, — как… как лама, к которой притронулся чужой. Может, чужие — это белые люди?
— Нет! — Жрец гневно оборвал его. — Бог Земли мог превратить их в прах в одно мгновение. Тамбо могло бесследно исчезнуть, как та деревня. Но с белыми ничего не случилось. Бог Земли воззвал к нам, к своим слугам.
— Он говорил со мной, — значительно произнес Тупак-Уальпа. — И я понял его. Боги могут всегда, в любой момент уничтожить белых пришельцев. Однако они не делают этого. Они приказывают нам выполнить их волю. Мы только что видели знак предостережения. Он был подан только нам.
— Да, именно предостережения. — Фелипилльо, не замеченный и не задержанный никем, приблизился и вызывающе, нагло вмешался в беседу. — Да, это знак. Только он говорит о могуществе белых и их бога. Теперь это уже каждому ясно. Там, где белые, даже злоба демонов земли бессильна. Это каждый должен понять.
Тупак-Уальпа отвернулся и, ни слова не говоря, направился обратно в отведенное ему помещение.
Вечером он собрал самых верных людей и сказал им решительно и властно: белые умны; они держат его, которого провозгласили сапа-инкой, в неволе и от его имени правят страной. А вернее, грабят ее, потому что все это никак нельзя назвать управлением страной. От его имени оскверняют храмы, даже священные мумии, даже дворцы умерших властителей, которые до сей поры были неприкосновенны. От его имени послали кипу в храм дев Солнца, кипу, обязывающий к повиновению, а теперь всем известно, что из этого вышло: девы Солнца превратились в невольниц, сделались любовницами белых. В его присутствии белые убили самых преданных придворных. Против этого и был направлен гнев бога Земли, против этого он и протестовал.
Белые посылают кипу якобы от имени сына Солнца. Но такие кипу уже безвредны, потому что каждый, кому знакомо искусство их чтения, обязан лишить себя жизни. Однако белые могут рассылать и часки с фальшивыми устными приказами от имени сапа-инки. И нельзя отдать приказ покончить с собой каждому, кто имеет уши, чтобы слышать.
Поэтому необходимо лишить белых возможности отдавать приказы от имени сапа-инки. Они управляют его именем, но когда его уже не будет в их руках, они не смогут на него ссылаться.
— Они очень бдительны, — прошептал Синчи. — Трудно будет бежать.
— Меня им не устеречь. Я оставлю им свое тело, но душа моя еще сегодня отправится к предкам. Я плохо поступил, послушавшись белых и отдав им свое имя, чтобы они обманывали им народ. Теперь боги открыли мне глаза. Так нужно и так будет. — Тупак-Уальпа движением руки прекратил нарастающий гул ужаса и протестов. — Боги дали мне знак, который я понял. Воин и властитель — это не одно и то же. Я не обращаюсь в бегство, я лишь защищаю честь сапа-инки. Синчи, ты еще раз разошлешь часки со словами: сапа-инка Тупак-Уальпа отправился к предкам, дабы не подчиняться белым. Любой приказ, отданный с этой минуты от имени сапа-инки, является лживым. Не повинуйтесь приказам, рассылаемым белыми людьми. Белые — это враги, белые — это позор, белые — это погибель.
— Я разошлю эти слова, сын Солнца, — медленно и угрюмо ответил Синчи.
Сын Солнца уходит к предкам, теперь, наверное, нужно идти вслед за ним либо же… либо жевать листья коки до полного отупения. Как теперь разыскивать Иллью, к кому обращаться за помощью?
Глава тридцать пятая
Лагерь инки Манко был расположен в долине реки Апуримак среди лесной чащи. Белый конус Коропуны по утрам розовел вдали, к вечеру становился темнее, приобретал фиолетовый оттенок. Горцы предсказывали погоду по облакам, клубившимся на склонах могучего вулкана.
В тот день, когда Синчи добрался до лагеря, конус горы не был закрыт тучами. Закат был ясным и золотистым, что обещало устойчивую, жаркую погоду.
Синчи должен был долго и подробно отвечать на вопросы охраны, а потом — какого-то молодого воина с суровым лицом, прежде чем его провели к палатке инки Манко. Резиденция уже прославленного вождя была обычным воинским шатром и только находилась поодаль от тесно стоявших друг подле друга остальных шатров — на небольшом пригорке, прямо над рекой. Вход охраняли часовые, вооруженные топорами и копьями.
Синчи очутился перед молодым, щуплым мужчиной и без колебания склонился перед ним, как перед властелином, хотя на нем были обычные доспехи, на голове — солдатский шлем и даже в ушах — лишь небольшие, легкие кольца. Но взгляд и манера держаться сразу же выдавали повелителя.
— Кто ты и с чем прибыл? — спросил воин спокойно. А Синчи подумал, что если бы в этом голосе зазвучал гнев, то он предпочел бы услышать ильяпу, предвещающую землетрясение.
— Зовут меня Синчи, великий господин, я был часки-камайоком при сыне Солнца Атауальпе и при сыне Солнца…
Он замолчал, смутившись. Ведь он говорит с братом Уаскара, который сражался с Атауальпой.
— И при сыне солнца Тупаке-Уальпе, — невозмутимо докончил за него Манко. — Чего же ты ищешь в моем лагере?
— Откуда ты сейчас пришел? — вмешался какой-то жрец.
— Из лагеря белых, о почтенный,
— Где сейчас эти белые?
— Я ушел из Айякучо. Сегодня они, наверное, уже подходят к Куско.
Манко не дрогнул и спокойно сказал:
— Ты говоришь правду, я уже знаю об этом. Зачем ты пришел?
— Великий господин, меня послал преподобный Масомати, который теперь уильяк-уму…
— А прежний уильяк-уму?
— Его нет в живых, великий господин.
— Чаракас?
— Нет в живых, великий господин.
— Рапачи?
— Нет в живых, великий господин.
— Это нам известно, — снова вмешался суровый жрец. — Но мы ничего не знаем о тебе. А вдруг ты предатель? Кто в нашем лагере может знать тебя?
— Я его знаю.
Синчи, пораженный, быстро обернулся и сразу же низко склонился, радостно улыбнувшись. Главный ловчий Кахид, на этот раз в воинских доспехах, как и все, кроме жрецов, смотрел на него проницательно, но дружелюбно.
Манко кивнул головой и тихо спросил:
— Ты его знаешь? Как его зовут и кто он такой?
— Он сказал правду. Зовут его Синчи. Был часки, на охоте спас жизнь сапа-инки Уаскара и за это был назначен камайоком.
— А потом служил Атауальпе?
— Да, великий господин. Это он вырвал копье из рук Уаскара, когда тот замахнулся на Атауальпу.
— Почему ты это сделал? — Манко обратился к Синчи; на этот раз в его голосе послышались резкие, почти металлические нотки.
Гонец затрепетал, но ответил быстро и смиренно:
— У сапа-инки Атауальпы на голове была повязка и перья птицы коренкенке…
— Ага, повязка и перья… Поэтому ты начал служить Атауальпе, а потом даже и Тупаку-Уальпе, потому что у него тоже были повязка и перья, хотя и возложенные белыми. Не так ли?
— Да, великий господин…
— Что ты знаешь об этом человеке? — спросил Манко ловчего.
— Он один из тысячи. Кому служит, служит преданно, Уважает знаки власти и повинуется отдающему приказания.
— С чем ты все-таки прибыл сюда? — Манко снова обратился к Синчи.
— Меня послал преподобный Масомати с вестью о смерти сапа-инки Тупака-Уальпы. Он сказал, что ты, великий господин, будешь теперь властителем всего Тауантинсуйю.
Инка Манко испытующе посмотрел прямо в глаза Синчи. Потом начал говорить, внимательно обдумывая каждое слово:
— Надо, чтобы ты знал и пусть знает весь народ, что сказал оракул Золотого храма с острова Солнца на озере Титикака. Я должен надеть повязку и священные перья птицы коренкенке и спасти Тауантинсуйю. Я вынужден был уступать белым, потому что у меня не было перьев. Но теперь пришла весть из Арекипы, что на склонах белой горы Мисти найдено гнездо священной птицы, и часки уже несут мне перья. Теперь я пойду в Куско, покорюсь белым и приму повязку из их рук.
— От белых? — Синчи был поражен. — Великий господин, ведь… ведь сын Солнца Тупак-Уальпа сделал то же самое и…
— И не выдержал. К предкам отойти легко. Останутся песни араваков и слава. Но я хочу спасти Тауантинсуйю. Знай, я не отправлюсь в край теней и покоя, пока не одержу победу над белыми. Они занимают Куско? Прекрасно. Но оттуда им уже не выйти. Они попадут туда, словно крот в нору, в которой притаилась змея. Но чтобы стать этой змеей, я должен отправиться вместе с ними и вовремя быть на месте. Пусть они перестанут остерегаться инки Манко. Пусть думают, что уже нет никого, кто готов сразиться за Тауантинсуйю. Ты оповестишь весь народ, что инка Манко, сын сапа-инки Уайны, возложил на себя повязку и перья, дабы в Тауантинсуйю снова воцарились мир и порядок.
— Войска Атауальпы, которые сражаются в уну Ика… — вмешался Кахид.
— Подчинятся приказу белых, — невозмутимо прервал его Манко. — А белые велят им служить мне, если я покорюсь им. Белые победили Атауальпу коварством, теперь мы обернем коварство против них. Синчи! Ты часки-камайок, разошли приказ и кипу!
Низко склонившись, Синчи, удивленный, мгновенно выпрямился.
— Кипу, великий господин? Кипу уже никто не прочтет. Сапа-инка Тупак-Уальпа разослал приказ: «Каждый, кто владеет искусством чтения кипу, обязан немедленно умереть». Потому что белые разослали фальшивые кипу.
— Знаю. Тупак-Уальпа снова пошел самым легким путем, не думая о будущем. И люди повиновались приказу?
Синчи вспомнил то, что он слышал по дороге, и склонил голову.
— Да, повиновались, великий господин.
— Жаль их. Мои жрецы и другие люди, умеющие читать кипу, живы. Таинственное и священное искусство чтения кипу не умрет. Нужно будет научить новых людей вместо тех, что отошли к предкам. А теперь разошли слова: инка Манко возложил на голову повязку и перья.
Синчи вышел из шатра вместе с ловчим Кахидом, который должен был отвести его к прежнему часки-камайоку из лагеря Манко. Синчи воспользовался случаем.
— Господин, — обратился он, как только они оказались за пологом. — Когда войска, верные сыну Солнца Уаскару, шли на Силустани…
— Да, я вел их. Но нам не удалось перевалить через горы. Воины плохо сражались. Они все время помнили, что Атауальпа носит повязку и священные перья. Это сильнее чем любые разумные доводы. Ведь и ты рассуждаешь подобным же образом.
— Господин! — Синчи говорил дрожащим голосом. — В уну Юнии есть селение Кахатамбо. Люди… я не нашел, там людей. Ты не знаешь, господин, куда они ушли? Почему?
— Спасались от войны. Спешили укрыться от наступающих войск. Уходили в горы или в долину реки Уальяго.
— Не было ли… не было ли там сражения? Или резни?
— Я не слышал об этом. Войска бились друг с другом, но жители… Нет, никто не причинял вреда населению. Зачем было это делать? Ведь земледельцы, рудокопы, ремесленники всегда нужны…
— О, тогда я найду ее! — возбужденно воскликнул Синчи.
Кахид, обладавший великолепной памятью, вспомнил тот день, когда Синчи был его проводником, и усмехнулся.
— Смотри же постарайся отыскать ее до праздника Райми, — благосклонно посоветовал он. И Синчи смущенно потупился.
Глава тридцать шестая
Иллья возвращалась домой на закате солнца и несла вязанку сухих смолистых ветвей толы. Девушка торопилась. Каменную человеческую фигуру — древнюю уаку, почитаемую всей долиной, а в айлью Кахатамбо считавшуюся родовым фетишем, — нашли поверженной, когда вернулись домой после ухода войск. Это могли сделать воины родом с побережья, чтившие только свои фетиши, но, возможно, здесь бесчинствовал и сам Супай. Жрец из Юнии советовал остерегаться и, по крайней мере пока не принесена большая жертва, по выходить ночью из дому.
От деревни до зарослей толы было далеко, и хотя Иллья не успела собрать столько сучьев, сколько могла бы унести, она спешила вернуться. С тропинки, вьющейся высоко по склону горы, ей была видна вся деревня.
Дома уцелели, войска нне тронули их. Только на одном сгорела соломенная крыша, да и то наверняка случайно. Но поля, террасами поднимавшиеся по склонам, пришли в запустение. На нижних участках торчали почерневшие сухие стебли не сжатой вовремя киноа, выше буйно разрослись сорняки. Кое-где из-под травы пробивалась кукуруза, взошедшая из осыпавшихся зерен.
Светлой ломаной линией обозначался на склоне горы главный тракт, ведущий из Куско в Кито. Иллья некоторое время смотрела в ту сторону. Тракт был пуст, даже возле сторожевого поста на перевале не заметно ни малейшего движения.
Впрочем, гонцы больше не несли службы. Уже одного этого — вещи странной, неслыханной — было достаточно, чтобы устрашить самого храброго. А кроме того, пугал призрак голода, не покидал страх, что снова явятся войска, неизвестно откуда и чьи, а тут еще слухи — смутные, непонятные, неведомо откуда идущие…
Иллья снова взглянула на дорогу. По ней спешил когда-то молодой гонец Синчи, который здесь всегда сбавлял шаг и смотрел на нее… В тот раз он шел с солдатами и крикнул ей, что через год, на празднике Райми, будет выбирать себе жену.
Она надула губы, гордо выпрямилась и презрительно вскинула голову. Часки? Фи, да разве они женятся? Конечно, большая честь быть часки, но разве это муж! Все время на службе, все время на сторожевом посту.
Но, однако, этот Синчи крикнул, что будет выбирать жену. Может, он оставит службу? А возможно, сделается начальником поста? Нет, нет! Пусть лучше бросит работу, пусть возвращается в свою айлью и требует землю и дом.
А если он не земледелец? Может, рудокоп, рыбак, каменщик или пастух? Как живут их жены?
Она тихо рассмеялась, пожала плечами и быстро двинулась дальше. О чем она думает? Этот Синчи ушел и пропал. Может, он шутил тогда? Или уже забыл? Кто-то говорил, что видел его на тракте, что он теперь важный камайок и его сопровождало четверо воинов.
Глупости! Как это может быть? Ошибка. Этот Синчи, если он еще жив, бегает, наверное, где-нибудь на другой Дороге и заглядывается на других девушек.
Она ускорила шаг. Над крышей дома курился дымок, Значит, отец уже вернулся. Нужно торопиться.
Старый Ликучи, отдыхая, сидел у очага, в котором горел сухой навоз лам. Дочери, Мола, младшая, и Мотупо, мужа которой забрали с собой солдаты, хлопотали по дому, хотя делать, собственно, было нечего. Когда они вернулись в свою айлью, нашли только стены и крышу. Ни утвари, ни ковров, ни домашней птицы. В кладовке ни зернышка кукурузы или киноа. Из вещей осталось только то, что успели захватить с собой, а жили они тем, что удавалось собрать на запущенных и вытоптанных полях.
В молчании съели жидкую похлебку, приготовленною Мотупо в каком-то сосуде, и лишь когда Иллья запалила светильник из смолистых веток толы и гнетущий мрак отступил к углам хижины, только тогда старый Ликучи сказал:
— Инти, бог Солнца, все время карает нас. В айлью только шестеро стариков и двое парней. Будет голод, дети мои, страшный голод. Нам не под силу обработать землю. Ни для храма, ни для самих себя. Ни для сапа-инки. А главное — нет зерна для посева…
Мотупо, муж которой работал на общинных складах, прервала его:
— Получим из общих хранилищ. Никто не должен голодать — таков закон. Камайок должен сейчас же послать кипу, что Кахатамбо грозит голод.
— Был такой закон, — грустно поправил ее отец. — А сейчас ты говоришь: «Камайок должен послать кипу!» Какой камайок? Тот, который был у нас, отправился с Атауальпой на Кахамарку и там погиб. Пришел новый. А теперь и этот, новый, получил какой-то приказ сапа-инки, удалился в горы и бросился со скалы. Да и самого сапа-инки уже нет в живых.
— Тупака-Уальпы? Так будет другой. Сапа-инка должен быть. Как же жить без закона и без приказов? — робко вступила в разговор Иллья.
— Об этом ничего пока не слышно, ничего. Да и как мы теперь узнаем, если часки больше не бегают. О таких временах, когда не было часки, не рассказывают даже араваки. Теперь если кто и идет по дороге, то он так напуган, что с ним не поговоришь. Вот ты, Мотупо, думаешь, что мы получим припасы на складах. На каких? В Юнии и даже в Силустани склады пусты. Приходили разные войска и опустошали склады один за другим. Брали все кому не лень. А ты теперь обходись как знаешь.
— Когда будет передел земли? — спросила Иллья. — Где мы получим участок в этом году? Ой, если бы на нижних террасах по северному склону.
— Ишь чего захотела! Учу уже занял их.
— Как это — занял? Без передела, без согласия айлью?
— А вот так и занял. Он смеялся над нами и говорил: «Нет теперь сапа-инки, значит, нет и старых законов. Теперь сила — закон. А в Кахатамбо только я один сильный, поэтому и беру, что захочу. Так делают белые».
Старик понизил голос. Он боялся, что его услышат, и дочери едва понимали его слова.
— Учу грозится, что пойдет в горы, разыщет наше стадо лам и заберет себе. Что будет есть свежее мясо, не сушеное, а такое, как едят белые. Но он толстый, хотя и сильный. Быстро ему не добраться туда. А мы — ближе. Наш дом выше. Надо опередить Учу. Нужно пойти и забрать лам себе.
— Но ведь за это на всю жизнь ссылают на рудники. Могут даже приговорить к смерти, — испугалась Мотупо.
Иллья вскинула голову — была у нее такая привычка — и с любопытством смотрела на отца, который продолжал:
— Раньше так было. Но теперь нет закона. Учу прав. Если не возьмем мы, возьмет он. И он будет жрать свежее мясо, а мы — разве что полевых мышей.
— Отец, а ты не боишься гнева богов?
— Я буду поклоняться богам белых людей. Они, должно быть, сильнее наших.
Он вдруг вскочил и, размахивая руками, стал кричать:
— Тебе, Иллья, хотелось получить нижние террасы? Так нет же! Я возьму себе самые лучшие земли — в долине! Между каналами! Возьму!
Дочери, пораженные, смотрели на него, не смея ответить. Каждый год по извечному закону лучшие земли в долине предназначались для властелина. Слова отца для девушек зазвучали почти как святотатство.
Ликучи успокоился так же быстро, как и вышел из себя, он снова сел и закрыл лицо руками. В полной тишине едва слышно потрескивал светильник.
— Гибнет все, — после тягостного молчания забормотал Ликучи. — Нет сапа-инки, нет и законов. Неоткуда ждать помощи бедному человеку. Подыхай или живи, как этот Учу, по-разбойничьи. Правильно говорили старики: если во время праздника Райми не появится солнце и не зажжет священный огонь, год будет несчастливым. Так и случилось. Нет в живых сапа-инки Уаскара, нет Атауальпы и Тупака-Уальпы, в с ними ушла в прошлое и вся прежняя жизнь. Никто не заботится о земледельце, не рассылает приказов, не говорит, когда сеять, а когда жать. Наверное, и о празднике Райми никто не думает. Как же в таком случае девушкам искать себе мужей? Жаль мне вас. Все погибло.
— Отец, может, и новое не будет таким уж плохим? Нужно только пережить, а там увидим.
— Чего хорошего можно ждать? Учу ведет себя как раз так, как эти белые. Мое! И слова-то этого крестьяне не знали! Что захватил, то мое! Один захватит много, другой ничего, и это называется хорошим? О, боги! Как иногда радуешься, что ты стар и скоро отойдешь к предкам. Там уж не столкнешься с новыми порядками, там никто не будет говорить: мое! Мое! Только вас мне жалко.
— Нас? Почему?
— Вы что, не слышали, как белые обходятся с девушками? Даже если это девы Солнца? Тут рукой подать до главного тракта, сюда они придут наверняка.
Его прервал внезапно раздавшийся крик. Мола, которая во время разговора тихо выскользнула из дому, возвращалась, запыхавшись. И уже издали кричала:
— Сигнал! Сторожевой пост внизу подает сигнал! Часки бежит!
Ликучи оттолкнул дочь и выскочил во двор. Стояла глубокая, темная ночь, луна всходила поздно — около полуночи. Небо было усыпано миллиардами мерцающих звезд, но внизу, на фоне черных гор, мигал и дрожал одинокий огонек, словно звезда упала в долину.
— Да, это пост сигналит. Смотрите, смотрите! И на перевале сигнал! Увидели! Ждут! О боги, неужели мои старые глаза еще успели увидеть это! Часки бежит, несет вести, важные приказы… Значит, порядок снова восстановлен!
— Придет и спасение, отец. Мы не погибнем.
— Нет, не погибнем. Мола! Беги вниз, к дороге! Может, часки крикнет, с чем он бежит. Может, это весть для всех?
— Я побегу!
Иллья вскочила раньше, чем сестра успела пошевельнуться. Бежала быстро, хотя тьма после освещенной комнаты казалась непроницаемой. Густой и плотной. Но Иллья знала тут каждый камень, каждую ветку, каждый бугорок и бежала смело, ведомая одним инстинктом. Она даже не смотрела под ноги, не спуская глаз с далекой золотистой точки, что мигала под горой. Бежит часки… Может… может быть, Синчи? Сейчас совершается столько небывалых дел, которые не укладываются в голове! Может случиться, что это бежит как раз Синчи.
Может, все это был только страшный сон: война, вести с нападении белых, бегство от войска, нужда и голод? Может, как раз сейчас они и пробудились от кошмарного сна я утром снова увидят по всей долине аккуратно обработанные поля, людей, которые трудятся, как обычно, а по дороге побегут часки, разносящие приказы сына Солнца, сапа-инки?
А часки с того поста внизу, здесь замедлит бег… До праздника Райми уже недалеко. Этот Синчи кричал, проходя мимо…
Она добежала до невысокой ограды из собранных по полям камней, которая ограждала дорогу, и оперлась на нее, тяжело дыша. Глаза привыкли к темноте и уже различали близкую полосу тракта. Сквозь шум крови, пульсирующей в ушах, она услышала звуки шагов тяжело бегущего человека, его усталое дыхание. Потом увидела его силуэт,
Не помня себя, она бросила в ночь, в пространство:
— Синчи! О Синчи, говори!
Ей ответил чужой, хриплый от усталости, но радостный голос:
— Всем сообщает сапа-инка Манко, сын Уайны. Я возложил на голову повязку и священные перья. Слушайтесь приказаний сапа-инки Манко.
Она медленно поднималась в гору, терзаемая противоречивыми чувствами. Жаль, что это не Синчи, жаль, что ее мечта — несбыточная, глупая и странная — осталась только мечтой. И все-таки это известие доставило огромную радость. Есть новый сапа-инка, вновь торжествуют старые порядка и законы. Отец успокоится, перестанет бояться голода. Наверное, война кончится, а тогда, может… может, и Синчи возвратится на свой пост?
Глава тридцать седьмая
Синчи первый узнал старого товарища по сторожевому посту и, обрадованный, остановил его. Бирачи был смущен, держался подобострастно и беспокойно оглядывался по сторонам. Сначала он называл Синчи «великим господином», но наконец разговорился. Они присели на камнях, приготовленных для строительства нового храма, который предполагалось возвести в честь богини Луны, сестры и супруги Солнца.
Храм начали строить на берегу реки, сразу же за стенами города, однако после прихода испанцев работы были прерваны и не возобновлялись. Немного поодаль расположился лагерь гвардии сапа-инки, которую испанцы вывели за пределы города и окружили удвоенной охраной. Остальные отряды индейцев еще раньше отошли к Саксауаману.
Бирачи рассказывал подробно, видимо, он давно жаждал выговориться перед внимательным слушателем. Синчи жадно ловил каждое слово и, прерывая рассказчика, вновь и вновь расспрашивал его о подробностях.
— Сначала сигналы прекратились с севера и запада, а потом и с юга. В Юнии еще видны были дымы. Но дальше — ничего. Несмотря на это, часки продолжали терпеливо ждать на своих постах, и с продовольственных складов им по-прежнему выдавали чарки, кукурузу, чичу и листья коки; мы отдыхали, и у нас были спокойные ночи. Хорошо было.
Но потом пришли войска с вестью, что Уаскар — это сапа-инка, а инка Атауальпа — предатель. Таких вещей простому человеку никогда не понять. Ведь Атауальпа носил повязку и перья.
От этих войск бежали кто как сумел. В горы. А они пошли к Силустани, и там была страшная битва, но для того и существуют воины. Однако они начисто опустошили склады. Все. И когда воины отправились куда-то за горы Уайуач, начался голод. Крестьянам нечего было есть, не говоря уже о часки. Но все еще как-то держались. Некоторые ходили, — Бирачи понизил голос, как будто ему и сейчас было страшно говорить об этом, — на охоту. Убивали вигоней, гуанако. Приносили мясо. А в деревнях даже резали лам. Без разрешения. Да, трудно приходилось. Но ведь жить было нужно!
Потом пришла весть о смерти Атауальпы и о том, что сыном Солнца стал Тупак-Уальпа. И, наконец, последнее известие, что сапа-инки Тупака-Уальпы нет в живых, а повязку с перьями священной птицы носит теперь Манко, сын Уайны. Весть разослали по всем дорогам, хотя не раз приходилось очень трудно. Не везде уцелели часки. Случалось, что пустовали три-четыре поста подряд. Так, например, за Уаскараном, на одном из горных постов все часки погибли, они сидели на скамье мертвые. Умерли с голоду. На дороге к Силустани тот мост — знаешь, с которого перед началом большой охоты упал часки, — снова сорвался в пропасть. Под Кахатамбо…
— Ты был в Кахатамбо? — взволнованно прервал его Синчи.
— Но ведь в тех местах проходил наш путь. Я часто бывал там.
— Говори! Я знаю, что люди оттуда убежали, спасаясь от наступающих войск. Они возвратились?
— Да. Там царят голод и нищета, потому что осталось всего лишь несколько стариков. Остальных забрали в носильщики те войска, которые проходили первыми.
— А… а девушки?
— Девушки? Ну, их там было достаточно.
— Почему ты говоришь «было»? Опять куда-нибудь ушли?
— Нет. Не ушли. Не успели.
Синчи уловил что-то тревожное в интонации последней фразы и, подавив страшное предчувствие, коротко бросил:
— Говори все!
Бирачи принялся рассказывать гораздо медленнее.
— Казалось, все возвращается на свои места. Снова передавались приказы, снова бегали часки. Сын Солнца Манко взрыхлил золотой мотыгой священную землю у Золотого храма, подав знак, что пора сеять, потом разрешил уну-камайокам провести охоту и поделить мясо, потом разослал предупреждения всем, кто служил Атауальпе, чтоб они были послушны новому властелину. Потом приказал инкам и куракам выбрать молодых девушек для службы в храмах дев Солнца, потом… Нет, это уже было и повторялось снова и снова: приказ, чтобы слушались белых и отдавали им золото.
Но белые в уну Юнии еще не появлялись, и ими никто не интересовался. Пока они не пришли. Они появились неожиданно. Никто не предупредил об этом ни сигналом, ни известием. Они ехали на своих страшных больших ламах.
Их вел индеец в одежде белых, который говорил на двух языках. Они врывались в храмы, во дворцы, в резиденции камайоков и требовали золота, золота, золота. А девушек они сами хватали. Какая им приглянется.
— Они были и в Кахатамбо? — прервал потрясенный Синчи.
— Были. Ночевали там. Золота не нашли, но прихватили с собой нескольких девок. Я сам видел.
— Ты… ты не знаешь, как их звали? — усилием воли Синчи попытался овладеть собой, но все же не смог сдержать дрожи в голосе.
Бирачи не заметил или не понял причины его волнения.
— Не знаю. Я часки и не смотрю на девушек. Но если тебя это интересует, то они здесь.
— Кто? Девушки из Кахатамбо — в Куско? — Синчи вскочил, но тут же снова опустился на камень, словно окончательно обессилев.
— Да, здесь. Из Кахатамбо, Юнии, Чапаса, Уантаго. Белые отобрали и согнали сюда самых красивых. Я знаю, потому что они и мужчин забрали с собой, заставили нести награбленное. Меня тоже заставили, хотя я часки, а не носильщик, но до этого им нет дела. Так и я попал в Куско. Тут я сбежал от них, так как белые плохо нас охраняли. Я собирался вернуться в родные края, но один инка из тех, главных, сказал мне: «Держи топор наготове и жди». Дал мне топор, дает чарки и чичу. Вот я и жду. А ты, что ты сейчас делаешь, Синчи?
Ответа его Бирачи уже не услышал. С быстротой, на какую он только был способен, Синчи бросился к городским воротам.
На стенах полно было испанской стражи, но днем из города разрешалось выходить всем, кто не нес поклажи, войти же мог каждый, не имевший при себе оружия. Поэтому Синчи в воротах не задержали, и он устремился к храму Кориканча. После того как его разграбили, похитив даже самые почитаемые святыни, в том числе и огромный золотой диск — изображение Солнца, прежние покои жрецов испанцы отвели для Манко и его двора. Во дворце Уаскара, где Манко наотрез отказался поселиться, хозяйничали белые.
Синчи, как часки-камайок, имел доступ к властителю в любое время. Первый же встретившийся жрец направил его в боковые комнаты; оказалось, что сын Солнца держал с кем-то совет и приказал разыскать Синчи. Не остановленный стражей, он поднял полог и вошел.
Сапа-инка Манко не носил в обычные дни ни повязки, ни перьев птицы коренкенке. Эти знаки отличия на него публично возложил в торжественной обстановке сам Писарро, когда бунтовавший до того времени инка добровольно подчинился и присягнул на верность белым. С того момента, однако, никто не видел на нем священных символов власти, а испанцы, не разбиравшиеся во всех тонкостях этикета инков, не заподозрили в этом ничего особенного. Поэтому, когда Синчи поднял голову, он был изумлен и почти испуган. Манко восседал на золотом троне в традиционной позе, в белых одеждах, предназначенных для торжественных случаев, в золотых сандалиях в держал в руке обоюдоострый боевой топор. Новую, более темную, чем прежде, повязку на голове сына Солнца венчала блестящая золотая застежка с двумя перьями птицы коренкенке. Это были не те перья, что украшали когда-то убор Атауальпы и Тупака-Уальпы и которые возложил на голову Манко сам Писарро. Эти перья были немного короче и отливали золотом. «Их принесли со склонов горы Мисти!» — невольно подумал Синчи.
Он порывался изложить свою просьбу, но не осмелился заговорить, видя своего властелина в полном торжественном облачении, и только снова припал челом к земле.
— Встань и слушай! — Манко говорил резко, решительно. — Хватит ли у тебя часки, чтобы разнести приказы по всем дорогам?
Синчи вспомнил рассказ Бирачи и беспомощно развел руками.
— Там, куда не пришли белые, сын Солнца, сторожевые посты наготове, и туда доходит твоя воля. Но белые забирают часки, когда им нужны носильщики, белые забирают еду, и часки умирают на своих постах.
— Этот приказ должен дойти, — твердо сказал Манко. — Пусть часки бегут три, четыре перегона, они должны доставить приказ на следующий пост.
— Пусть часки хоть протянет ноги, но он обязан добежать и повторить приказ, — угрюмо вставил слово какой-то старый воин, сидящий рядом с сапа-инкой.
Синчи не знал его, но по украшениям и вышивке на одежде понял, что это особа из рода инков.
— Ужасно, что нельзя выслать кипу. — Худощавый молодой жрец хрустнул пальцами. — Ох этот Тупак-Уальпа! Что он натворил своим приказом! Нельзя отправить кипу, потому что на доброй половине территории Тауантинсуйю не осталось никого, кто мог бы их прочесть.
— Я знаю об этом, — спокойно прервал его Манко. — Но Тупак-Уальпа отошел к предкам, и нечего вам осуждать его поступки.
— Мумия его не находится в Кориканче, — возразил жрец, но Манко снова прервал его.
— И не будет находиться там, потому что белые осквернили его тело, предав земле. Но, святейший, не забывай о судьбе мумий всех сапа-инков.
Синчи вздрогнул. Когда белые вторглись в беззащитный Куско, они прежде всего направились во дворец сапа-инки и к храму Солнца. Там при виде богатств, превосходящих все их ожидания, они обезумели.
Мумии сидели на массивных тронах из чистого золота, на них было много золотых украшений. Белые стаскивали с тронов священные тела, вырывали серьги, прикрепленные золотыми пластинками к височным костям, ломали истлевшие запястья, спеша скорее завладеть драгоценными браслетами, разбивали черепа, надеясь и там найти золото. Оскверненные останки выбрасывали затем в мусорные ямы.
— Я не забыл, и ни один инка никогда этого не забудет, — исступленно прошептал жрец.
Манко обратился к Синчи.
— Что делает вождь белых?
Все помыслы Синчи были сосредоточены на Иллье, которая, возможно, где-то здесь, в городе. Он совершенно не следил за разговором. Когда его спросили, он усилием воли заставил себя собраться с мыслями. Направляясь к храму, он видел, как несколько белых шли в сторону дворца. Тот, что был в центре, в серебряных доспехах — это наверняка сам вождь. Сходство Хуана Писарро со своим братом обмануло индейца, которому вообще все белые казались на одно лицо. Синчи не знал, как не знали об этом даже многие испанцы, что наместник давно отбыл на побережье, где в облюбованной им местности заложил новую столицу — Лиму.
Поэтому Синчи ответил, не раздумывая:
— Он во дворце сапа-инки Уаскара, сын Солнца. Я видел его. Властелин мира, дозволь своему слуге…
Манко быстрым жестом прервал его.
— Сколько белых отправилось за золотом?
На этот вопрос ответил старый воин:
— Почти все, кто ездит на тех больших ламах. Они разъехались по всему Кольясуйю, и по Антисуйю, и по Кондесуйю. А вот вождь со светлой бородой во главе сильного отряда отбыл в Тиуанако. По дороге он намерен забрать золото из храма Солнца на озере Титикака.
Манко выразительно посмотрел на Синчи,
— Мой приказ должен быть доставлен туда до прибытия белых.
— Приказ дойдет, как ты велишь, сын Солнца.
Манко замолчал, устремив взгляд в одну точку. Только его рука, лежавшая на резной рукояти боевого топора, крепко сжалась.
Военачальники и жрецы, собравшиеся здесь, начали перешептываться. Гул голосов становился все громче. Наконец послышались отдельные возгласы:
— Сын Солнца, прикажи!
— Белых в городе только горстка!
— Остальные расползлись по всей стране небольшими отрядами! Обнаглели!
— Даже не боятся!
— Теперь самое время. Они поверили наконец в нашу покорность!
— Сын Солнца, разошли приказ!
Инка Манко посмотрел на Синчи. Медленно подал знак топором. В комнате мгновенно воцарилась тишина.
Властелин начал громким решительным голосом:
— Часки-камайок! Отправишь по всем дорогам приказ: говорит сапа-инка Манко. Всех белых убивать немедленно! Это приказ всем и каждому. Убивать любым оружием, убивать, где только возможно, сразу же, как будут услышаны Эти слова.
Синчи, поклонившись, повторил приказание.
— Иди и отправляй часки. А мы, — Манко обратился к остальным, — нанесем удар здесь, в городе. Нас мало, и у нас почти нет оружия, но ничего не поделаешь. Это неправда, как кто-то здесь говорил, будто белые уже не остерегаются. Дворец превращен в крепость, охраняются ворота и стены, с оружием в город никого не пропускают. И кроме того, белые прекрасно обо всем осведомлены.
— Рокки! — выкрикнул кто-то с ненавистью.
— Рокки, Фелипилльо и многие другие. Мы должны поспешить выступить; прежде чем часки двинутся в дорогу. Потому что даже на главном посту может быть предатель, который обо всем донесет белым.
— Сын Солнца! — Синчи в отчаянии решился на смелый поступок. — Сын Солнца! Я хотел бы… я прошу… здесь в городе есть девушки из Кахатамбо. Белые пригнали их сюда. А среди них — моя девушка. Я хотел бы… то есть думал… может, и она…
— Моли богов, а особенно милосердную богиню Луны, чтобы этого не случилось, — твердым тоном прервал его Манко. — Когда покончим с белыми, то умертвим на алтарях всех женщин, которые уступили белым, не имея достаточно сил, чтобы умереть. Они отойдут служить духу Кафекилы. Все. И девы Солнца, и те, что из рода инков, и те, что из простого люда, — все.
— Так и будет, сын Солнца. Но я хотел бы именно сейчас поискать ее, убедиться, что…
— Нет времени. Убедишься, когда покончим с белыми. А сейчас рассылай часки.
— Будет, как ты приказываешь, сын Солнца, — прошептал Синчи, не поднимая головы.
— Подожди. Вышлешь часки также к Чаликухиме, который стоит с войском в уну Анкачс, пусть он немедленно нанесет удар по новому городу белых, который те строят над мамакочей. Он должен уничтожить их и разрушить все то, что успели соорудить пришельцы, чтобы и следа их не осталось. Наша земля снова должна стать чистой.
— Он должен уничтожить белых и разрушить город, Чтобы наша земля снова сделалась чистой.
— Да. А еще одного гонца ты пошлешь в Кито. Пачакути, который там предводительствует войсками, должен со всеми силами идти сюда, к нам на помощь.
— Сын Солнца! — почти сердито вступил в разговор старый воин. — Этого не потребуется. Еще сегодня мы покончим здесь с белыми.
— Это пока неизвестно. Все может случиться. Рассылай приказы, часки-камайок!
Глава тридцать восьмая
Синчи сдержал слово, и приказ инки Манко, хотя и отправленный окольными путями, достиг храма Солнца на озере Титикака и большой крепости Тиуанако за два дня до прибытия белых.
Главный жрец Кухимате сразу же вызвал на совет коменданта крепости.
Жрец держал в руках кипу, окрашенный в цвета, которые означали, что он исходит от самого сапа-инки. Время от времени он перебирал узлы на шнурках, словно желая убедиться, верно ли он понял приказ. Распоряжение Тупара-Уальпы, чтобы все, умеющие читать кипу, покончили с собой, не достигло этих мест.
— Подумать надо, уважаемый… — начал он вежливо, хотя всех воинов презирал, а коменданта — в особенности. Когда-то, еще при Уаскаре, этот воин ходил на почитателей камней в Капакабоне и проявил недопустимую мягкость, он не уничтожил упрямых идолопоклонников, а только расселил их по разным уну. — Надо подумать как следует. Потому что кипу, разосланные сапа-инкой Тупаком-Уальпой…
— Мы не признаем этого самозванца, — резко оборвал его Лакочи. — Это белые сделали его сапа-инкой, и он был братом изменника Атауальпы.
Жрец явно придерживался противоположного мнения.
— Кто носит повязку и перья священной птицы, тот и есть властелин. Боги поразили бы громом нечестивого самозванца, осмелившегося возложить на себя знаки достоинства сапа-инки. Так гласят наши законы. Так учим мы, жрецы, хранящие мудрость Тауантинсуйю. Дело воина не рассуждать, а повиноваться.
— Я повинуюсь законному владыке.
— Или нынешнему сапа-инке Манко, не так ли? А ведь и его назначили белые, возложив на его голову повязку и перья. Что ты скажешь на это, уважаемый?
— Сын Солнца Манко предводительствовал нами после смерти Уаскара.
— Но у него не было повязки и перьев. Только теперь он стал сапа-инкой. Значит, до этого законным владыкой был Тупак-Уальпа. Значит, приказы Тупака-Уальпы сохраняют силу.
Воин заколебался. Жрецы, конечно, лучше разбираются в таких странных запутанных вопросах. Это не дело воинов.
Он спросил уже не так вызывающе:
— О чем говорит этот кипу?
— Приказывает слушаться белых. Всегда и во всем. Приказывает отдавать им золото даже из храмов. Приказывает расторгнуть священные браки дев Солнца, если какую-либо из них выберет белый.
— Как же так, почтенный? Но ведь сегодня на восходе солнца прибежал часки и обратился ко всем от имени сапа-инки Манко: «Убивать белых. Немедленно. Убивать обязан каждый, любым оружием, всюду». А белые как раз идут к нам. Я уже собрал воинов. Хочу встретить их там, где дорога проходит через тесное ущелье. Там от нас ни один не уйдет.
— Этого нельзя делать без ведома и приказа инки, правящего нашим краем.
— Но я не могу ждать. Приказ сына Солнца обязывает ударить немедленно. К тому же инка Качи, правитель нашего края, человек мудрый, но не воин.
Жрец разгневался. Наместником Кольясуйю в течение двух месяцев был Качи из рода инков, ранее верховный жрец храма великого Виракочи. Ясно, что воины уже стремятся добиться превосходства и действовать самостоятельно.
Он недолго раздумывал, но, когда заговорил, в его голосе звучала глубокая убежденность.
— Ошибаешься, уважаемый. Правитель уну — это властелин, поставленный над всеми по воле сына Солнца. А приказа о борьбе с белыми ты, видимо, не понял. Сын Солнца велит убивать белых сразу, как только будет услышан этот приказ. Ты же собираешься вывести воинов а ущелье, устроить засаду и напасть на белых. Когда это случится? Завтра? Так что же по-твоему означает «немедленно»?
— Но… но белые еще далеко.
— Вот именно. Ты не можешь напасть на них сейчас, а это значит, что приказ сапа-инки тебя не касается.
Лакочи молча размышлял. Что касается белых, то нс известно, как поступать. Именем сапа-инки они распоряжаются по всей стране как хотят, сам сапа-инка Манко покорился им… А теперь он присылает такой странный приказ. Неправильно истолковать его — значит взять на себя страшную ответственность. А этот жрец, высокий сановник и родственник сына Солнца, объясняет. Неправильно объясняет. Каждый воин поймет по смыслу приказа, что сапа-инка начинает войну. А войны не кончаются в одну минуту. Но этот высокий жрец берет на себя ответственность. А это самое главное.
И снова победило слепое, извечно внушаемое послушание приказам старших, более близких к трону, более знатных. Воин предпочел не принимать самостоятельного решения.
— Возможно… Ты, почтенный, лучше понимаешь волю властелина. Хорошо, я не пойду в ущелье. Но закрою ворота Тиуанако и не впущу туда белых.
Жрец с минуту раздумывал, перебирая шнурки кипу. Потом кивнул.
— Это можно сделать. Даже… это даже неплохая мысль. Если ты их не пустишь в крепость, то не обязан будешь им повиноваться. Не обязан давать золото. Сокровища нашего храма мы перенесем еще сегодня в крепость. Там же укроются все наши жрицы.
Когда отряд испанцев под водительством Диего де Альмагро, что отправился к югу, надеясь найти страну более богатую, чем Перу, достиг озера Титикака, он не обнаружил там ничего. Даже в горных ущельях, словно созданных самой природой для надежной засады, никого не оказалось.
Испанцы, переправившись на священный остров на плоскодонных лодках, были обмануты в своих надеждах: в Золотом храме не обнаружилось золота. Тогда они сожгли все, что удалось сжечь, скормили копям всю кукурузу и двинулись дальше. Крепость Тиуанако, угрюмую твердыню с массивными стенами, они даже не пытались штурмовать.
Отряд Диего де Альмагро пошел на юг, пересек границы земель аймара, до которых простиралась власть сапа-инков из Куско, и углубился в неведомые края, после чего о нем долго не было никаких вестей.
В это время группа под водительством дона Кристобаля де Сотело вышла из Куско на восток. Старый рыцарь, некогда участник похода Бальбоа, пошел туда, несмотря на то, что переводчик Рокки, уже неплохо владевший испанским языком, упорно не советовал этого делать. Там, пояснял он, нет ни больших городов, ни богатых храмов, ни обителей дев Солнца.
Но дон Кристобаль уже все обсудил с друзьями. С ним шли Алонсо де Молина и Диего Каэтано, который упорно требовал, чтобы его называли де Каэтано, хотя никто не слышал о таком роде идальго.
Они знали, чего ищут.
У золота, захваченного испанцами в столице и в загородной резиденции инков — Юкайе, был иной оттенок, нежели у золота из северной части страны. А наиболее проторенной и, как видно, наиболее оживленной дорогой из всех, что сбегались к Куско, была не дорога инков, связывающая обе столицы — Куско и Кито, и не дорога, ведущая на юг, в сторону священного озера Титикака, а именно вот эта, восточная, проходящая по якобы малоинтересным и бедным окраинам. Вывод напрашивался сам собой: эта дорога ведет к золотым рудникам, и оттуда доставляется в Куско золото с красноватым отливом.
Они продвигались медленно, потому что только трое солдат имели коней, а остальные шли пешком. Из них лишь четверо были вооружены мушкетами.
На третий день они добрались до городка Чапас, расположенного в горах. Дорога раздваивалась, встретив две сливающиеся речные долины.
Кристобаль де Сотело решил сделать привал и собрать сведения о дальнейшем пути. Когда накануне они вырвали тяжелые золотые кольца из ушей встречного инки — он не сопротивлялся, а только лопотал что-то, обращаясь к Рокки, — белые торжествующе переглянулись: золото было того же красноватого оттенка, что и в Куско.
Алонсо де Молина советовал попросту поджарить индейца на медленном огне — потому что при них не было, как он сказал, испытанных орудий, употребляемых святой инквизицией, — и заставить его выложить, откуда берут это золото. Но более осмотрительный Сотело воспротивился. Такие расспросы только насторожили бы индейцев, дали им понять, чего ищут белые. Краснокожие дьяволы могут удрать даже из самого ада. Об этом надо помнить.
Заняв в Чапасе какой-то большой дом на главной площади, Сотело приказал людям отдохнуть, а Рокки, облаченного в жреческое одеяние, послал в город, чтобы тот поразнюхал, что там делается. Его плоский высокий лоб и деформированный в детстве череп свидетельствовали о его сане лучше, чем одежда, облегчая задачу.
В первый день испанцы, измученные переходом по горам, отдыхали с удовольствием, тем более, что местный курака по приказу Рокки снабдил их кукурузой, киноа, картофелем, который пришелся им по вкусу, и даже свежим мясом молодой ламы. Однако на другой день они с утра потребовали соры, а когда перепуганный курака поклялся, что этого запрещенного для простых людей напитка у них нет, солдаты сами отправились на розыски.
— Небось и золото где-нибудь найдется.
— Наверняка, поищешь — и найдешь. И не где-нибудь, а у девки под юбкой.
— Тебе, Диего, только бы там его и искать,
— Конечно! А тебе будто это не нравится…
— Сеньор Сотело, вопиющая несправедливость: уже третий день у нас нет ни одной девки!
— По дороге так и не нашлось ничего подходящего. Но здесь, наверное, что-нибудь да будет. Я видел в домишке за садом, где гончар сидел за своим кругом, вполне приличную девчонку.
— Пошли туда.
— Но, чур, я первый. Ведь я высмотрел ее!
— Идет! Я не против.
Сотело не возражал, да и не мог, даже если бы и захотел. Испанцы настолько освоились с ролью завоевателей, которым все позволено, все сходит с рук, настолько привыкли к покорному молчанию индейцев, которых они грабили (самое большее — к тихому плачу девушек), что любой запрет мог бы, пожалуй, вызвать бунт.
Кроме того, дон Кристобаль и не собирался отказывать своим людям в «обычных развлечениях». Большой добычи в таком городе нельзя было ожидать, а что касается девушек, то еще утром, посылая жреца, он велел тому присмотреть что-либо подходящее и для него самого.
Он как глава экспедиции не хотел открыто участвовать в грабежах, но другим не запрещал этого и с удовольствием наблюдал за тем, как его люди разбрелись по городку в поисках добычи. Он даже позавидовал им в душе: кто-то может опередить его при дележе добычи или при выборе красивой девушки.
На «охоту» вышли все, даже дворяне. Сотело увидел на площади своего приятеля Диего Каэтано. Он как раз задержал каких-то двух женщин: старуху с узлом и молодую девушку, и спрашивал их о чем-то. Старуха низко кланялась и показывала, что несет горшок, наверное, с едой и серп, обычный бронзовый серп индейцев-земледельцев. Она кивала на долину и жестами давала понять, что идет убирать урожай.
Каэтано сорвал с ее головы чепец, закрывающий уши, чертыхнулся, увидев, что у старухи в ушах нет колец — столь распространенного здесь украшения, и повернулся к девушке.
Де Сотело тихо смеялся, видя, как быстро и ловко сдергивает Каэтано чепец с головы девушки, потом плащ, как разрывает одежду, обнажая грудь. Молодая индианка не защищалась, даже не кричала, только упорно отворачивала лицо, словно не желая видеть страшного белого человека, которому нельзя сопротивляться, а старуха лишь отчаянно причитала, забегая то с одной, то с другой стороны, и все еще продолжала кланяться.
В ясном свете солнца, которое уже стояло высоко, вся Эта картина рисовалась с поразительной четкостью.
Каэтано оттолкнул старуху и, схватив за волосы девушку, которая не сопротивлялась, потащил ее к своему дому. Как раз в этот момент на площадь выбежал часки, обычный бегун.
Испанцы уже хорошо знали их, потому что те часто обгоняли отряды на дорогах. Часки бежал к посту, который находился сразу же за городом, и на бегу что-то однообразно выкрикивал охрипшим от волнения и усталости голосом, видимо, повторяя одни и те же слова.
Сотело увидел, как старуха внезапно словно окаменела, низко склонившись к земле с распростертыми в униженной просьбе руками, а девушка, до того не сопротивлявшаяся, вдруг напряглась, отпрянула назад и попыталась натянуть на грудь разорванную одежду.
«Что такое, черт побери?» — еще успел подумать Сотело, как вдруг вскочил, дрожа от удивления и ярости.
Старая индианка, не поднимаясь, не изменив позы, спокойно и пугающе медленно, хладнокровно подсекла серпом ноги испанца.
Каэтано повалился с воплем, увлекая за собой и девушку, но та не вырвалась, а, напротив, прижала к земле своим телом руки испанца и что-то торопливо прокричала. Старуха с быстротой и ловкостью, которые никто бы не заподозрил в ней, подскочила к упавшему и решительно полоснула серпом по горлу испанца.
Сотело почувствовал, как на лбу у него выступил холодный пот, но превозмог минутную слабость и схватился за оружие. Трясущимися руками он принялся засыпать в мушкет порох из рожка, когда в соседнем здании послышался крик.
«Алонсо! Напали и на него», — подумал Сотело, стискивая зубы. Крики начали доноситься с разных сторон, когда вдруг где-то раздался выстрел. «Это Диего Наварра. Он никогда не расстается с оружием. Слава богу. Эти дикаря разбегутся при первом же выстреле. О, теперь мы отомстим».
Он услышал позади шорох и стремительно обернулся. Полог отдернулся, и на пороге появились трое индейцев. Курака, такой подобострастный и перепуганный вчера, и с ним два молодых незнакомца. У всех троих в руках было оружие. С холодной жестокостью они смотрели на белого.
Дон Кристобаль де Сотело выпрямился. Он сразу же понял: это конец. Он понял, что ему уже не суждено отыскать рудники золота с красным отливом, что он не вернется в Испанию в блеске богатства и славы и не пожертвует собору святого Филиппа в Бургосе новый алтарь, у которого должны были бы молиться за упокой души его основателя.
Понял он, что уже никогда не сможет даже мечтать о руке доньи Изабеллы, дочери Алонсо Марии Мигеля де Молины-и-Карвахаля…
Он отбросил мушкет, который так и не успел зарядить, вырвал из ножен меч и, сделав глубокий вдох, словно собирался нырнуть, бросился на все еще неподвижных противников.
Глава тридцать девятая
Как обычно, ближе к вечеру Иллья осторожно выглянула на дорогу. Она все еще надеялась, что над сторожевыми постами снова взовьются дымовые сигналы, снова начнут бегать часки, а среди них, возможно, пробежит и Синчи…
Однако с тех пор, как в их селении в последний раз побывали белые, всякое движение на главном тракте замерло. Однажды в сумерки, поборов страх, девушка даже отправилась к сторожевому посту на перевале, но никого не застала там. В другом, что находился внизу и откуда прибегал иногда Синчи, теперь остался только старый начальник, которого белые так избили, что он едва мог двигаться. Целыми днями он сидел на пороге, жевал коку и что-то бормотал себе под нос.
Дальше Иллья не осмеливалась выбираться. Однажды в ясный день она заметила с горы серое облако, низко нависшее над Юнией, и догадалась, что город горит. Но никакие вести оттуда не доходили, на дороге никто не показывался, вся жизнь замерла.
Иллья не удивлялась этому. Ведь и она не решилась покинуть свое селение и целыми днями скрывается в зарослях агавы. Потому что белые пообещали вернуться…
Вместе с ней прятались и другие уцелевшие жители. Их осталось совсем немного. Учу был убит, так как не захотел отдать белым лам, которых присвоил себе, старый Чавлас погиб, пытаясь защитить дочь, ее отец тоже… и еще многие…
А потом белые забрали женщин, в том числе обеих ее сестер, и отправились дальше по главному тракту. И как раз после этого облако дыма повисло над Юнией…
Иллья уцелела, потому что, когда пришли белые, она собирала хворост в горах и, возвращаясь, издали увидела больших лам. Перепугавшись, она спряталась за камнями. Она и теперь там скрывается. Голодает. Все, что удалось спасти раньше, захватили белые. Иллья и две женщины, прятавшиеся вместе с ней, как-то раз тайком отправились на сторожевой пост, в тамбо, в ближайшее селение, обшарили там все склады. Однако повсюду были лишь следы грабежа, всюду было пусто.
Немного сушеного мяса вигоней, обнаруженного возле склада, небольшой запас кукурузы, собранной на опустевших полях, а главное — картофель, который белые еще но научились выкапывать, — вот и все, что ей удалось припасти.
В доме Иллья боялась разводить огонь — он хорошо был виден с дороги. Лишь изредка девушка готовила себе еду на небольшом костре среди скал, стараясь и согреваться возле него по ночам, которые становились все холоднее.
Только одного оказалось вдоволь — листьев коки. Белые презирали их, и посреди разбитого склада, прямо в пыли, валялись целые связки отборной коки. Иллья вдоволь запасла их, но не притрагивалась к ним, по крайней мере до сих пор. Возможно, они понадобятся, когда наступят холода, когда придет настоящий голод и потребуется большое напряжение сил. Пока она должна думать о себе, беречься, а для этого нужна ясная голова. Кока сделала бы ее безразличной ко всему, и, даже заметив гонца на дороге, она по подошла бы к нему. А ведь им мог оказаться Синчи. Он подумал бы, что Кахатамбо сплошь вымерло, что здесь уже никого не осталось и, значит, она, Иллья…
Девушка по привычке взглянула на юг. Над горами еще пылало великолепное зарево заката, а в долине уже сгущался сумрак. Здесь, на открытом склоне, было пока совсем светло.
Иллья плотнее закуталась в плащ. Она знает: это время яркой зари очень коротко, потом сразу наступает ночь. Тьма поднимется со дна долин, окутает горы, зажжет на небе тысячи звезд. Среди них заблестит и Часка, утренняя и вечерняя звезда, покровительница влюбленных девушек…
И сразу становится холодно. Горы покрылись снегом, который каждый день спускается все ниже и ниже. Вчера поутру на лужах появился тонкий ледок. По ночам все трудней обходиться без огня, без крыши над головой…
Может, все-таки вернуться в свое жилище, старательно заткнуть все щели и развести огонь? Она вспомнила тепло очага, уютную тишину родного дома и в нерешительности взглянула на деревню.
Но тут же вздрогнула от ужаса. Ведь белые обещали вернуться. А тогда… тогда с ней случилось бы то же самое, что и с ее сестрами. Мола отчаянно защищалась, ее жестоко избили палками, а потом…
Она снова взглянула на дорогу и вдруг в испуге отпрянула, скрывшись за ближайшим камнем.
Вечерняя заря быстро угасала, мрак сгущался, но она все-таки разглядела вдали какую-то тень.
Бежать домой? Теперь ее могут заметить. Здесь же, за камнем, одетая в серый плащ, она почти совсем не видна…
Соблюдая осторожность, она продолжала глядеть на дорогу и немного успокоилась. Она поняла: тот, кто приближался, был, по-видимому, не белый. Но девушка не вышла из-за укрытия. Ведь и ее соплеменник мог оказаться опасным. Таких, как Учу, что брали пример с белых, было достаточно.
Это мог быть солдат или бродяга, который потребует еды. Он может отобрать все, что у нее осталось. Пусть уж лучше проходит мимо.
Путник, однако, не шел. Иллья, присмотревшись, поняла, что с ним происходит нечто странное. Он то пробегал несколько шагов, то, пошатываясь, замирал на месте.
Вот он упал и некоторое время лежал, уткнувшись лицом в землю, потом медленно пополз, опираясь на руки; при Этом он громко стонал.
Нет, это не пьяница, который перебрал соры. Иллья видела однажды такого. Но тот качался и пел, а этот непрерывно стонет. Иллья слышала его тяжелое, прерывистое дыхание и уловила едва различимый шепот:
— … На помощь… Говорит сапа инка Манко. Пачакути, командующий войсками в Кито, должен немедленно выступить со всеми силами на помощь Куско.
Иллья и в темноте видела пришельца достаточно отчетливо. По сандалиям и набедренной повязке она узнала бегуна. Страх сменился радостью. А все-таки часки бегают. Значит, устанавливается порядок.
Он поднялся снова, пошел, еле держась на ногах и спотыкаясь на каждом шагу. Рядом с тем местом, где укрылась Иллья, он опять упал. И уже не пытался встать, а только продолжал жалобно стонать.
— … должен идти на помощь… на помощь… в Куско на помощь.
Человек даже не поднимал головы, губами он почти касался земли, словно именно к ней обращал свои мольбы.
Иллья, не колеблясь, подбежала к путнику и склонилась над ним.
— Ты болен?
Бегун умолк и некоторое время лежал без движения; казалось, он не дышит. Медленно, с огромным усилием он повернул к ней лицо и взглянул на девушку. Его губы дрог нули, и наконец Иллья различила слова:
— Иди найди кого-нибудь… Найди… быстро!
— Мужчину? Во всем селении не осталось ни одного мужчины. Только три женщины… две старухи и я.
— Три женщины? Старухи? О Виракоча, великий дух, помилуй! Что делать? Что же делать?
Он пошевельнулся и с болезненным стоном откинулся на спину, уставившись вверх, на звезды. Гонец тяжело дышал, собирая силы; наконец он прохрипел:
— Слушай. Знаешь, что это значит «Для дела сапа инки»?
— Знаю. — Иллья невольно понизила голос.
— Слушай. Ты обязана… если нет мужчин… должна ты. Бежать к следующему посту… повторить приказ…
И вдруг сильным ясным голосом он произнес:
— К Пачакути, командующему войсками в Кито, обращается сапа-инка Манко. Немедленно со всеми силами иди в Куско на помощь. Отвечаешь головой за выполнение приказа. Отвечаешь головой, — повторил он, хрипя. — Беги и повтори!
— Но… но я ведь не часки. Я девушка… Сторожевой пост… опустел. Следующий — тоже.
Гонец расхохотался как безумный.
— Я пробежал сегодня шесть постов… везде пусто… потом меня укусила змея… Я умру… А это воззвание должно дойти до Кито… Беги же и повтори!
Его голос дрожал и прерывался.
Он еще раз повторил, уже совсем неразборчиво:
— Для дела сапа-инки. К Пачакути, командующему войсками…
На губах его выступила пена, плечи дрогнули. Он еще успел прошептать:
— Змея… В Куско… на помощь… — И голова его опустилась на грудь.
Иллья медленно поднялась. Она еще толком не понимала, что произошло. Он умер? Ну и что? Она уже видела немало мертвых. В этом нет ничего страшного. Но это часки. Он нес приказ самого сапа-инки. И умер, умер, потому что его укусила змея.
А теперь прервалась цепь, и приказ не пойдет дальше.
Приказ самого сапа-инки. Часки сказал: «К Пачакути, правителю в Кито… нет, командующему войсками в Кито. Обращается сапа-инка Манко. Немедленно со всеми силами иди в Куско на помощь».
Кому он должен помочь? Неужели сам сапа-инка нуждается в помощи? Может… может, помощь нужна ему для защиты от белых? Они, наверное, уже добрались до Куско.
Богиня Луны, спаси! Сапа-инка призывает на помощь, а этот часки умер. И приказ не будет доставлен…
Она беспомощно оглянулась вокруг. Небо было темное, почти черное, усеянное звездами. Но их мерцание не разгоняло ночного мрака. Ни огонька, ни человеческого голоса, ни малейшего признака жизни.
Справа, где горные хребты закрывают звездный небосвод, на перевале, есть сторожевой пост. Но он пуст. Может быть, следующий? Он стоит над глубоким ущельем, через которое переброшен мост на лианах. Мост шатается, и ночью по нему идти опасно.
Но она тут же утешила себя: ночью не видишь глубины пропасти, ночью там даже лучше идти, чем днем. Но зачем ей думать об этом? Ведь не она же… Нет, нет! Разносить приказы — мужское дело. Для этого специально выбирают самых выносливых мужчин — часки. Она босиком, а часки носят грубые сандалии — усуто. Потому что им приходится бегать по камням. Ей будет очень страшно ночью в пути… Сколько всяких историй рассказывают о посланцах Супая, которые превращаются в людей с головой пумы или в гигантских черных ягуаров, нападающих на человека; о зловещих духах гор, которые раскачивают висячие мосты, сталкивают путников с узких тропинок, затуманивая им головы. Сколько раз ей приходилось слышать о ловких, сильных горцах, которые вдруг теряли рассудок и блуждали по ночам, покуда не пропадали где-нибудь бесследно… Ночь ужасна, если идти одной и без огня…
Она оглянулась на родной дом, неразличимый в густом мраке. Там у нее был запас сухих веток толы, которые горят, как факелы. Но если бежать быстро, то и они погаснут. А часки должен мчаться изо всех сил.
— Я не часки. Я не часки, — твердила она почти в полный голос, как бы убеждая кого-то. — Я не могу бежать ночью. У меня нет… нет усуто.
Почти в отчаянии она оглянулась вокруг. Ей хотелось убежать с этого места, найти других женщин, скрывающихся в деревне, или уйти в горы, но она почему-то не решалась этого сделать. Словно слова умершего: «Ты должна бежать» — удерживали ее здесь, на дороге.
Над восточными склонами гор небо быстро светлело, № Иллья вдруг успокоилась. Сейчас взойдет луна, мрак рассеется, страх исчезнет, и ее перестанут одолевать тяжелые думы. Луна — милостивая богиня, покровительница девушек. Сейчас станет легче, и Иллья наверняка сможет принять какое-то решение.
Но в проблесках лунного света она первым делом увидела труп на дороге, увидела ноги мертвеца — на них были крепкие, толстые сандалии.
Иллья вздохнула. Воля богини Лупы проявилась ясно и недвусмысленно. Она должна бежать… Должна отыскать сторожевой пост, где окажутся часки, и повторить им слова, произнесенные умершим.
Она наклонилась, уже без сомнений и страха, развязала ремни сандалий, с трудом стянула их с уже похолодевших ног. Потом еще раз взглянула на мертвого и только тогда поняла, насколько неудобна ее одежда. Часки носят сандалии — усуто, повязку и чепец, а у нее — платье до самой земли. Как же в нем бежать?
И снова богиня Луны подсказала ей, как поступить. Медленно, но без колебаний девушка сняла платье и обмотала им голову, надела и привязала ремнями сандалии,
Ночной холод насквозь пронизывал тело, но Иллья утешала себя тем, что согреется на бегу. А когда будет приближаться к посту, снова наденет платье. Ночью ее никто не увидит.
Девушка глубоко вздохнула, оглянулась на дома, которые чуть белели в слабом блеске луны, на деревню и двинулась в путь. Так делают часки — она не раз это видела, — сначала бегут легко, без усилий, потом все быстрее, пока не наберут быстрый, ровный темп.
Но со стороны это представляется легким, а Иллье было трудно бежать. Дорога к ближайшему посту шла все время в гору, и даже ее сердце горянки начало бешено колотиться.
Ей пришлось сбавить темп, потом она перешла на обычный шаг, но закоченели ноги, холод обжигал ей плечи и спину, и поэтому, миновав опустевшую и темную сторожку на перевале, она снова побежала. Дорога шла вниз, кое-где даже обрываясь уступами; но, к счастью, месяц освещал все Эти трудные и опасные места.
Теперь бежать было легче, и Иллья мчалась с удовольствием. Она знала, разумеется, все окрестности, но после набега белых ни разу не была на этом склоне горы. Иллья надеялась, что, может быть, пост около моста не окажется пустым. Ведь это очень важный пункт на дороге. Нужно охранять мост и по мере надобности ремонтировать его, а, кроме того, здесь перекресток двух путей…
Она еще не ощущала усталости, когда различила впереди, в долине, сторожевой пост. Старательно обтесанные, почти отполированные камни стен поблескивали в полумраке.
Она остановилась, оделась и уже обычным шагом подошла к каменному строению. Но огня, который обычно горел всю ночь, не было, на скамейке у входа не сидел готовый отправиться в путь часки, а когда Иллья несмело, потому что ночная тишь действовала на нее угнетающе, закричала: «Эй, есть там кто-нибудь?» — ей ответило только зловещее эхо.
Мост, однако, висел над пропастью, как обычно. Иллья решительно направилась к нему. Опустевший пост был для нее неприятной неожиданностью, но она постаралась утешить себя. Следующий пост — возле большого селения, там она наверняка застанет часки. Нужно все время идти в гору, почти десять тысяч шагов, но это ничего. Она не устала. Перескажет приказ сапа-инки и передохнет,
А может, остаться в тех местах? Там, наверное, больше еды, больше людей и веселее. Но Синчи будет разыскивать ее в Кахатамбо, и никто не скажет ему, куда она ушла. Синчи подумает, что она погибла или же что ее, как и многих других, забрали белые. Нет, нет, она должна вернуться домой, как только передаст приказ.
Иллья осторожно ступила на мост. Хотя ветра не было, а Иллья шла легко, осторожно, по самой средине, все равно тонкие и гибкие доски, подвешенные на лианах, начали дрожать, колебаться, волнообразно раскачиваясь и мешая идти. Никаких перил, ни малейшей опоры.
«Это проделки злых духов в ночи», — сердито подумала Иллья, стараясь смотреть прямо перед собой. Только не вниз. Только не смотреть в пропасть, иначе сразу же какой-нибудь злой дух закружит голову и столкнет ее. Они только этого и ждут. Иллья стиснула зубы, подняла голову и стала повторять с глубокой верой:
— Богиня Луны, милостивая госпожа, помоги мне!
Луна светила прямо в лицо, и Иллье это показалось хорошей приметой. Но когда она перешла на другую сторону и снова почувствовала под собой твердую почву, она настолько ослабела, что вынуждена была присесть на некоторое время, обливаясь холодным потом. Нет, она была не права. Через такой мост лучше переходить днем. Конечно, днем. Возвращаясь, она должна так рассчитать время, чтобы пройти по нему при свете солнца. Ведь раньше она столько раз проходила здесь, но никогда мост так не качался, а у нее не кружилась голова.
Придя в себя, она двинулась дальше. Снова сняла платье, но бежала размеренно, экономя силы. Дорога опять пошла в гору, потом устремилась в глубь долины, настолько узкой, что противоположная стена отбрасывала сплошную черную тень, закрывая собой луну. В такие мрачные ущелья Иллья углублялась со страхом, огромным усилием воли заставляла себя идти, хотя ее так и тянуло присесть отдохнуть, дождаться восхода солнца.
Но она все время напоминала себе, что теперь она — часки, несет приказ самого сына Солнца, а на такой службе отдыхать не полагается.
Следующий пост стоял на взгорье, у селения, и Иллья издали увидела его. Он, однако, не белел в свете месяца и казался ниже, чем предыдущий. Только подойдя ближе, Иллья поняла, в чем дело: пост сгорел, его стены почернели от дыма, а крыша обвалилась. В развалинах лежало и селение. Вокруг ни огонька, ни малейшего признака жизни.
Иллья замерла на перекрестке. Большой тракт в Кито тянулся по склону к далекому перевалу у белых снежных вершин. Там девушка никогда еще не бывала, но слышала, что дорога эта тяжелая, проходит по пустынным местам, где лишь изредка кочуют пастухи со стадами лам. Поэтому даже настоящие часки не любят этих мест. Следующая деревня должна находиться где-то у пятого или шестого поста…
Она уже пробежала два обычных перегона. Тот часки умер, миновал шесть постов и умер. Но его укусила змея. А в этих горах — снега, здесь нет змей. Но зато тут мороз, метели, пропасти и безлюдье, здесь господствуют только злые духи, наводя ужас на одиноких путников…
Иллья недолго колебалась. Тот часки сказал: «Для дела сапа-инки». Она запомнила эти слова, значит, и она теперь мчится по приказу сапа-инки. Она неприкосновенна для людей, для демонов, вероятно, тоже. Сознание этого придало ей силы и мужества. Воззвание сапа-инки к вождю Пачакути должно дойти по назначению.
Иллья двинулась вперед, надеясь согреться в быстром беге. Если на ближайших постах не окажется часки, то там, где лежит снег, ей придется идти в одежде, а значит, медленнее. Девушка пожалела, что нет у нее плаща и нет даже листьев коки. Пожевать их — и она забыла бы об одиночестве, об ужасах ночи в горах, об усталости. Но ничего, добежит и так.
Иллья замедлила шаг. Здесь кончаются возделанные поля, и тракт уходит в глубь высокогорной пустынной равнины. Заросли карликовых кипарисов в свете месяца выглядели странно, пугающе.
Дорога шла вверх. Иллья устала. Путь, уже проделанный ею, утомил бы даже сильного и выносливого мужчину, а она девушка, и к тому же долгое время недоедает, ночами почти не спит, боясь, что белые могут снова вернуться…
«Доберусь до поста, — решила она, — и если там не будет никого, то хотя бы отдохну. Я должна отдохнуть».
На высокогорных пустошах было холоднее, чем в долине. Иллья не выдержала, остановилась, вся дрожа, и снова решила надеть платье, В этот момент она услышала шорох.
Ветра не было, кусты кенны застыли в полной неподвижности, и все же это послышалось где-то здесь, совсем близко. Еле уловимый шорох, его можно было уловить только в абсолютной тишине, среди мертвого безмолвия. Казалось, что-то мягкое коснулось сухих ветвей.
Иллья замерла с платьем в руках. Сердце заколотилось в груди, удары крови отдавались в ушах. Она еще пыталась успокоить себя тем, что, быть может, это спугнутая шиншилла или полевая мышь выскользнула из норы или… или же маргай, кровожадный, но маленький, который поспешил спрятаться от человека.
В тени прямо возле нее что-то мелькнуло, и зоркие глаза горянки сразу же распознали зверя. Инстинктивно, словно пытаясь защититься, она протянула руки, в которых держала платье. Дрожащими губами она повторяла только одно:
— Я на службе у сапа-инки. О тити, о капак-тити, я иду, выполняя приказ сапа-инки.
Ягуар присел, услышав звук ненавистного ему человеческого голоса, он даже испугался на мгновение чего-то белого, что замаячило в лунном свете, но тут же учуял запах человека. Ягуар был голоден. Он зарычал и прыгнул…
Глава сороковая
Рокки обошел Куско ночью, сделав огромный крюк, и утром выбрался на главный тракт, ведущий в Кито. Как и было задумало, он направился прямо к ближайшему сторожевому посту.
Уже сверху, с голых, покрытых лишь зарослями толы плоскогорий, которые господствовали над плодородной равниной, он еще ночью различил свет сигнальных костров, загоравшихся вдоль дорог. Это значило, что служба часки работает как обычно и даже с большей интенсивностью.
Он решил, что инка Манко, видимо, победил белых и в стране восстанавливается старый порядок. Значит, пришло время расчета с изменниками, с теми, кто служил белым завоевателям.
Остаток ночи Рокки провел на вершине, наблюдая за беспрестанно загоравшимися огнями на далеких сторожевых постах. Со времени битвы в Чапасе его мучили тяжелые, более сильные, чем обычно, головные боли. Это была болезнь, весьма распространенная среди жрецов, чьи головы деформировали еще в детстве, удлиняя их и делая лоб плоским.
Боли могли иной раз начаться после физического переутомления, после сильного нервного потрясения, вспышки гнева или пережитого страха и на какое-то время совершенно лишали жреца способности мыслить, принимать решения и вообще что-то делать. Народу говорили в таких случаях, будто святейший беседует с богами и потому не восприимчив к звукам обычной человеческой речи. Жрец же прятался от людей и спасался только тем, что жевал коку или даже пил отвар из нее и, окончательно отупев, впадал в беспамятство. В таком состоянии жрец нуждался в покое и уходе, чтобы прийти в себя.
У Рокки же не было ни листьев коки, не было и никого из спутников, кто бы мог за ним присмотреть. И сам он опасался погони. Сознание опасности и натренированная годами воля позволили ему одержать верх над приступами болей. Рокки принял решение, и, когда очередной приступ несколько ослаб, он направился к сторожевому посту, который, как он успел заметить, находился далеко от соседнего селения.
Он добрался туда на рассвете, не прячась, не приводя в порядок одежду и даже нарочито подчеркивая свою крайнюю усталость.
На нем было одеяние жрецов высокого ранга, только повязка на голове — обычная, которую носят ремесленники и пастухи. Однако и это не трудно было объяснить. Рокки уже не раз думал о том, как удачно получилось, что белый вождь приказал ему ходить в платье жреца, а не уподобиться Фелипилльо, рабски копирующему наряд белого человека. Конечно, щенок имеет успех у женщин, что для него самое главное. Рокки же, помогая чужеземцам собирать золото, усвоил, насколько легче услышать от простых людей правду, когда к ним приходит жрец, а не внушающий сомнения слуга белых.
За короткое время его обогнали два часки, с проселочной дороги на тракт вышло стадо лам, которое гнали три пастуха; мало-помалу движение становилось все оживленнее. С небольшого пригорка он заметил далекие очертания столицы, словно окутанные синей дымкой. И там, казалось, все обстояло благополучно.
При виде жреца начальник сторожевого поста поднялся и поклонился.
— Ты шел всю ночь, святейший? — спросил он равнодушно.
— Служба сапа-инки не терпит промедления, — с достоинством ответил Рокки.
Начальник снова поклонился.
— О! Служба сапа-инки? Что прикажешь, святейший?
Рокки расстегнул ворот, делая вид, будто что-то ищет, но потом нервно рассмеялся.
— Я хотел тебе, камайок, показать знак, забыв, что у меня его уже нет.
— Знак? — страж, удостоенный не принадлежащего ему Звания, вежливо допытывался: — Какой знак?
— На золотой бляхе. Голова тити, а по бокам крылья. Понимаешь, что это означает?
— Разумеется, святейший, разумеется.
— Знак был на золотой бляхе, вот белые у меня его и сорвали. Как они поступают всегда, стоит им только увидеть золото.
— Пусть их поглотит земля! Пусть их растерзают кондоры! Но где же ты встретил белых, святейший? Разве их еще не всех перебили?
— Те, что на меня напали, были живы — тогда. Живы ли они сейчас — не знаю. Слово сапа-инки проникает всюду, и народ борется.
Начальник поста тяжело вздохнул.
— Ой, не повсюду распространяются приказы сына Солнца, не повсюду. На многих дорогах часки погибли или разбежались, целые уну стоят опустевшими, еще не везде навели порядок. Но делается все, что возможно.
— Да, именно с этим, а также другими делами я спешу к сыну Солнца. Где его найти? В Саксауамане или в Юкае?
— О нет. В Саксауамане стоит отряд под водительством инки Кахида, а дворец в Юкае осквернен белыми, и сын Солнца не пожелал даже войти туда. Он в лагере у северных ворот.
— В лагере? Почему?
— Потому что наш властелин — воин. Боги послали нам его в тяжелую минуту. О, скоро он покончит с белыми и снова восстановит старый порядок.
Рокки ничем не обнаружил своего любопытства и спрашивал с показным равнодушием:
— А как белые? Много ли этих детей Супая еще живо?
— Много. — Начальник нахмурился. — О святейший, это была страшная битва.
Рокки вспомнилось то, что он видел в Чапасе. Горстка уцелевших испанцев, которые мечами прокладывали себе дорогу, после того как погибли их военачальники… Казалось, они уже были спасены. Да! Если бы только не лассо, которыми их заарканили с большого расстояния и повалили наземь… Он понимающе кивнул.
— Об этом рассказывают уже странствующие поэты.
— О да, эта битва достойна того, чтобы ее прославить. Хотя сын Солнца и совершил на них неожиданное нападение, сам ринувшись в бой, те не дрогнули. Белые быстро опомнились и, как только увидели, что их товарищи гибнут, закрыли ворота крепости, и ни одному нашему отряду не удалось прийти на помощь сыну Солнца. Когда же они стали метать свои смертоносные громы и на громадных ламах помчались по улицам… Ох, святейший, счастлив был тот, кому удалось унести ноги.
— И что же потом? — сурово спросил Рокки. Из того, что он услышал, нельзя еще было сделать определенных выводов, а от этого зависело, как ему действовать дальше.
— Потом? Наши отступили через южную окраину города, там, где в городской стене трещина и часть ее обвалилась, после того как последний раз разгневался бог Земли. И теперь белые заперлись в Куско, а сын Солнца осаждает город.
— Это хорошо. Голод заставит белых просить пощады, и нам не надо будет терять людей в кровопролитной битве.
— Нет, о святейший. Сын Солнца решил поступить иначе. В городе большие запасы продовольствия, и осада может затянуться на долгие месяцы. Если же и наступит голод, то поплатятся прежде всего наши братья, а не белые. Поэтому сын Солнца собирается взять город штурмом. Он ждет только войско, которое должно прибыть из Кито.
— А тот новый город, который начали строить белые?
— Его уже, наверное, нет и в помине, — убежденно заверил его начальник сторожевого поста,
— Хоть у меня и нет знака, но я надеюсь, что ты накормишь меня и позволишь немного отдохнуть?
— Благословение богов снизойдет на наш пост, если ты остановишься здесь, о святейший. Войди же и будь нашим гостем, раздели с нами ту пищу, что у нас есть, — почтительно ответил начальник поста.
Рокки покинул гостеприимное убежище только после полудня, так как решил подольше отдохнуть перед дальней дорогой.
Сидя на скамье около сторожевого поста, он наблюдал за тем, как бежали гонцы, и обдумывал все, что видел и слышал. Он отправился в путь к Куско уже с определенным планом. Когда пост, который он покинул, скрылся из глаз, Рокки свернул с главного тракта и, внешне безразличный ко всему, спустился полями к реке. Он пошел туда, где городские стены пострадали от землетрясения, так как только с той стороны можно было проникнуть в осажденный город.
Луна всходила поздно, и Рокки был рад этому, потому что хотел под покровом темноты осуществить свое намерение. Он верил в удачу, знал, что воины относятся к жрецам с уважением, и надеялся, что не встретит никого из тех, кто бы его опознал.
Рокки свободно расхаживал по лагерю индейцев, делая вид, что занят важными делами, в действительности же он просто высматривал, как охраняются городские стены. С наступлением темноты он скрылся в чаще над рекой, а как только погасли последние отблески зари и мрак сгустился, выбрался из своего укрытия.
Стена в том месте, где он остановился, обвалилась, образуя пролом шириной в пятнадцать-двадцать шагов. Брешь Эту кое-как заделали, возведя земляной вал, и в таком виде все оставили. Вал был достаточно крутой, но все-таки легче было вскарабкаться по нему, нежели по стене.
Рокки верил в свои силы. Он подкрался к самому валу и, используя каждую неровность крутого откоса, медленно пополз вверх; ни единый шорох не выдавал его движения.
Еще днем он заметил, что на валу за низкой оградой стоит стража. Он знал, что ночью дозорные более бдительны, а испанцы — Рокки уже убедился в этом — превосходные стрелки. И пуля легко может настичь его даже в ночной темноте…
Одолев примерно две трети откоса, он прижался к земляной стене и негромко крикнул:
— Amigo! Amigo!
— Кто там? — спросили наверху, и Рокки понял, что он находится гораздо ниже, чем предполагал.
— Amigo! — повторил Рокки. — Не стреляйте! Amigo!
— Сколько вас там? — спросил невидимый в темноте стражник. Где-то за стеной ударили кремнем о кресало.
Рокки знал, что сейчас произойдет. Блеснет огонь, белые зажгут горшок со смолой и выставят его на шесте за ограду. На валу сделается светло, как днем.
Он испугался: взбираться еще порядочно. Меткость индейских метателей копий ему была хорошо известна. Уже не опасаясь, что его услышат внизу, он закричал:
— Я один! Один! Не светите! Я иду к вам! Не светите!
Внезапно он умолк. Лассо захлестнуло его шею и сорвало с насыпи.
— Что там? Что происходит? — орал испанец, и вдруг золотистая вспышка прорезала мрак, раздался выстрел, и гулкое эхо прокатилось по долине.
При вспышке выстрела испанцы заметили двух воинов-индейцев, которые тащили кого-то на веревке.
— Этот человек, сын Солнца, пытался пробраться в город. — Начальник караула приветствовал властелина и указал на пленного. — Он взобрался уже высоко вверх по валу и переговаривался с белыми на их языке.
Манко внимательно присматривался к пленному. Две масляные лампы достаточно хорошо освещали шатер, поэтому и Рокки мог разглядеть нового властелина. Прежде он видел его только издали.
— Ты на самом деле жрец? — спросил Манко.
— Да, сын Солнца, — спокойно ответил Рокки.
— Как тебя зовут и откуда ты?
— Имя мое Рокки. Я главный жрец…
— Ты был жрецом! — холодно и зловеще прервал его Манко. — Теперь ты падаль. — Глаза сапа-инки блеснули, лицо исказилось гневом. — Это ты, собака, выдал белым тайну кипу? Ты вязал и рассылал фальшивые кипу, приказывая повиноваться белым?
Рокки равнодушно пожал плечами. Отрицать было бесполезно.
— Почему ты так поступил? Чтобы иметь золото и девок?
— Я служил сильнейшему. Только в этом случае можно было надеяться, что война скоро окончится и не будет пролито много крови.
— Предатель! Ты начал помогать белым прежде, чем они оказались сильнее.
— Я хотел жить. И знаю, что так рассуждают многие. Каждый заботится о себе. Живем ведь только один раз.
— А вечная жизнь пред ликом светлого Инти уже ничего не значит? А гибель Тауантинсуйю тоже ничто для тебя?
— Спроси тех, кто погибает в борьбе! Может, они предпочли бы жить и в неволе, и в унижении, но только жить?
— Сын Солнца! — с негодованием вмешался в разговор какой-то вождь из окружения сапа-инки. — Разреши убить предателя, разреши вырвать его мерзкий язык, чтобы не слушать гнусную ложь.
Инка Манко не сводил глаз с Рокки. Он ответил лишь немного спустя:
— Погоди еще. Он говорит смело, а ведь не каждый на Это решится. Надо знать, о чем думают даже самые подлые и низкие.
Он обратился к Рокки.
— Ты считаешь, что белые победят, и поэтому служишь им. Но почему ты хотел пробраться в город? Ведь всем известно, что с белыми скоро покончат. Вот только подойдут отряды из Кито, мы ударим с обеих сторон, и делу конец. Золото вернется в храмы, опозоренные женщины умрут, и мы даже забудем о том, что были какие-то белые. Однако изменники исчезнут вместе с ними. Почему же ты все-таки шел к ним? Все еще веришь в них?
Рокки вызывающе засмеялся.
— Ты ждешь войска из Кито, сын Солнца? Кто знает, может, ждать придется слишком долго. Откуда тебе известно, что до них дошел твой приказ? Сторожевые посты только здесь, близ столицы, работают исправно. А белые… не радуйся, ты еще не победил их.
— Я приказал убивать их везде и каждому.
— Приказал. И люди убивают. Но я видел, как боролись Эти белые, уже утратив надежду на спасение. И поэтому решил идти к ним. Ты еще не победил, сын Солнца.
Манко спокойным, чуть хриплым голосом спросил жреца:
— Ты считаешь, что белые лучшие воины, нежели мы? Что их боги могущественнее наших?
— Я ничего не знаю об их богах, хотя они и велят мне чтить их. Это трудно понять… Если говорить о воинах… Ты когда-либо видел, сын Солнца, как, например, серна защищает своего детеныша от тити? Она бодает его рожками, не отступая ни на шаг, но в конце концов погибает. Для тити такая борьба — привычное дело, для серны же — крайняя необходимость.
— По-твоему, белые — это тити, а мы серны?
— Да. Для белых битва — это родная стихия, в бою узнаешь их как следует.
— Их уже знают в Тауантинсуйю. Лгуны, пьяницы, насильники, грабители, осквернители храмов и мумий, жадные воры, которые почитают только одно золото.
— Они предательски, коварно захватили Атауальпу и гнусно убили его. — Спокойно дополнил Рокки. — Они уничтожили в Кахамарке тысячи беззащитных жителей, они нарушают любое свое обещание, каждое слово, которое дают, обманывают друг друга, им наплевать на свою собственную веру.
— И ты идешь за такими людьми?
— Да, иду. Потому что они победят, а я хочу жить.
— Ты, жрец из храма Солнца, хочешь жить, сделавшись их слугой?
— Я не стану их слугой. Их сила — это золото. Поэтому и я добываю золото, урывая из того, что награбили они.
— Как гриф, который живет, питаясь падалью.
— Гриф живет и летает свободно. И я хочу жить.
— А мы хотим, чтобы жила страна. Только она бессмертна. Не человек. Подумай как следует, жрец. Ты теряешь все: честь, вечное счастье в солнечной стране Инти и уважение за крохи чужой добычи и презрительное снисхождение белых.
— И ради жизни. Помни об этом, сын Солнца. Ради собственной жизни. А этому нет цены.
Манко зловеще расхохотался.
— Мои воины заарканили тебя, и теперь ты в моей власти. Я могу казнить тебя страшной смертью, как предателя. Как же твои белые тебе помогут? Ты проиграл.
— Разреши мне, сын Солнца, сказать, — вставил слово молчавший до сих пор человек в богатой одежде. — Этот предатель хотел пробраться к белым. Хорошо. Он надеется, что при них окажется в безопасности. Хорошо. Пусть отправляется к белым. Пусть делит с ними до конца их участь. Он убедится, на чьей стороне боги. Если он потерял уже честь и имя, пусть утратит еще и надежду, пусть перед смертью примет муку, пусть поймет, что сам загубил свою жизнь. Это будет справедливая кара.
— Он расскажет белым, что он видел здесь, — сказал Манко.
— О чем он может рассказать? Что белые, которые отправились на грабеж, перебиты? Да, они упорно защищались, но пусть и другие увидят, что даже это не спасет их. Расскажет, что хотя к нам еще не пришли войска из Кито, но нас тут достаточно, и когда мы захотим, возьмем город? Что часки бегают еще не по всем дорогам, но в стране уже восстанавливается порядок и люди живут, как жили прежде? Что ж, пусть рассказывает об этом.
Манко задумался. Потом произнес:
— Хорошо. Пусть идет. Объявите, что в город может отправиться каждый, кто захочет. Только выбраться из него уже никому не удастся. Мы готовимся к штурму. Пусть белые мечут свои смертоносные громы. Всех не уничтожат. Нас хватит, чтобы очистить нашу землю от белой заразы.
— Иди! — Воин подтолкнул Рокки, который стоял, опустив глаза и плотно сжав губы. — Иди, насмотришься еще на золото, натешишься опозоренными девами Солнца. Иди, покуда у тебя есть время. А я тебе советую: жуй коку! Жуй нс переставая! Кока даст тебе забвение, ты не будешь дрожать от страха, когда наступит час расплаты. А она не заставит себя ждать!
Глава сорок первая
Дон Диего де Альмагро возвращался мрачный и глубоко разочарованный. Он отправился на юг вопреки воле Писарро, лелея неясную надежду, что откроет и покорит иные, столь же богатые края, как в Перу, что обретет богатство, власть и славу. А между тем он лишь блуждал по пустынным нагорьям, изредка натыкаясь на поселения с полудикими жителями, бедными, как сама их страна. Никто там не слышал ни о золоте, ни о драгоценностях; на пути не попадалось ни городов, какие можно было бы покорить, ни даже достойных противников, победа над которыми способна была увенчать их славой.
Его отряд потерял половину лошадей, немало солдат погибло, сорвавшись в пропасти, умерло среди ледников, скончалось от истощения и голода, и теперь наконец они вынуждены были вернуться. Вернуться ни с чем. А Писарро тем временем отсиживался в столице краснокожих дикарей, награбил, вероятно, горы золота и правит себе, как ему вздумается, целой страной.
Несмотря на отчаяние, на тяжкое бремя забот и раздражение, старый вояка все время был начеку, зорко глядел по сторонам и размышлял над тем, что увидел.
Едва они вновь вступили на территорию государства инков, как он сразу заметил, что тут произошли какие-то перемены.
В маленькой деревушке на склонах горы Мисти население, правда, не ушло прочь, однако жители упорно не хотели понимать указаний, отдаваемых через переводчика. На требование пришельцев снабдить их продовольствием жите» ли ответили молчаливым протестом.
Разумеется, испанцы сами разыскали склады и начисто опустошили их, однако ночью трое солдат бесследно исчезли и двое, укушенные змеей, умерли в муках. Альмагро не верил никаким случайностям. Он приказал истребить всех жителей этой деревушки и направился в сторону Куско, соблюдая все предосторожности.
За день пути перед крепостью Тумбес патрули неожиданно наткнулись на горстку испанцев. Те брели пешком, ободранные, грязные, прячась в зарослях. Предводительствовавший этой группой дон Паскуаль де Андагойа был так обрадован встречей, что позволил себе бурные изъявления восторга, неприличные для испанского рыцаря.
Альмагро едва узнал в этом оборванце заносчивого, всегда щеголеватого идальго, способного часами обсуждать вопрос о ширине жабо и оживлявшегося по-настоящему, только когда речь заходила о королевском дворе.
У дона Паскуаля было много новостей, и Альмагро вместе со своим приспешником сеньором Радой обсуждал создавшееся положение до глубокой ночи.
В стране вспыхнуло восстание. На небольшие отряды испанцев, которые рассыпались по всему Перу в поисках золота, нападают индейцы, истребляя всех поголовно. Он, Паскуаль де Андагойа, потерял половину солдат и теперь пробивается к морю, к Лиме, новому городу, который строит Писарро, однако индейцы перекрыли все горные перевалы.
Поэтому они блуждали здесь, ожидая возвращения Альмагро. И вот наконец дождались его. За что он благодарит самого господа бога и святую деву Эвлалию, святого Филиппа, но больше всего святого Георгия.
— Вы ищете у нас спасения, дон Паскуаль? — Альмагро кисло улыбнулся. — А мы между тем сами спешим в Куско, надеясь на помощь наместника. У нас кончились съестные припасы, мы потеряли лошадей, наша одежда превратилась в отрепья, мы обессилели…
— А порох у вас еще есть, сеньор?
— Ну, порох есть пока.
— Это самое главное. Единственное, чего индейцы боятся, так это стрельбы. В городе, как видно, запасы пороха уже на исходе, потому что пушечных выстрелов почтя не слышно. А ведь дон Эрнандо Писарро готов без передышки палить из пушек.
— Эрнандо? А наместник? Он не вернулся?
— Нет. Его высочество наместник все еще у моря. Когда вспыхнуло восстание, в Куско оставались только его братья. Дикари ошиблись и приняли Хуана Писарро за наместника. Они напали на штаб-квартиру и убили его вместе со всеми, кто при нем находился. И знаете, сеньоры, интереснейшие вещи происходили там. Девки, а у Хуана Писарро их, как вам известно, было, кажется, семь или восемь, помогали нападающим. Говорят, будто одна из них даже сама бросилась на меч Хуана, чтобы помешать ему сражаться. Но эти краснокожие дьяволы все равно всех их уничтожили.
— Кого — всех? — Не понял Рада. — Своих соплеменниц?
— Да, сеньор. Один из наших солдат уцелел, он спрятался за портьерой и все слышал. Каждую девку о чем-то спрашивали, а потом — р-раз топором по голове…
— Ну, это их дело. А что потом, дон Паскуаль? Что же было потом?
— Потом все высыпали из дворца с радостными криками. Они кричали, что белый вождь мертв и что они уже одержали победу. А тут Гонсало и Эрнандо Писарро точно в таких же серебряных латах, на таких же лошадях, как Хуан, — и прямо на них. И дикарям показалось, что это сам убитый воскрес, да еще в двух обличьях. Они в панике отступили, а тут уж и пушки сеньора де Кандиа дали по ним залп. Грохот, дым, крики. Подоспели и другие. Ударили с разных сторон, и скоро все было кончено.
Однако Манко, царек этих краснокожих, уцелел и теперь окружил город, собираясь сломить гарнизон длительной осадой. К нам пробрался оттуда один солдат с приказами, но, вероятно, больше никому не прорваться. У них столь тщательная охрана, что разве только птице удастся перелететь.
Диего де Альмагро размышлял недолго. Судьба предоставляла ему редкий случай. Если он нанесет удар теперь и спасет братьев Писарро и весь гарнизон Куско, то окажется избавителем. И вся добыча, сосредоточенная в Куско, станет его собственностью. Кое-что он уступит, чтобы не нажить себе слишком много врагов, но большая часть достанется ему.
Когда же Рада язвительно пробурчал: «Слава богу, одним ублюдком из этого вшивого» рода» меньше. А если немного подождем, так, может, подохнут и остальные!» — Альмагро сурово отозвался:
— Там испанцы защищаются от языческой нечисти. Только это важно. Мы идем на помощь.
Проблуждав три дня, они ночью подошли к Куско. Дон Паскуаль хвалился, будто эти места он знает столь же хорошо, как и окрестности родной Севильи, и утверждал, что, когда рассветет, они увидят с вершины холма и лагерь индейцев, и сам город. Он советовал ударить с той стороны, где крепостные стены наиболее мощные и где индейцы сосредоточили меньше всего сил, не предполагая, что противник может подойти отсюда.
Однако Альмагро принял иное решение.
— Речь идет не о том, чтобы прорваться в город, но чтобы освободить его. И поэтому мы должны уничтожить Этих дикарей. Значит, необходимо нанести удар там, где сосредоточены их главные силы и где находится сам Манко.
— Это, скорее всего, со стороны дороги на Кито. Возле главных ворот.
— Наверное. Итак, начнем оттуда. Ночью мы должны подойти как можно ближе и на рассвете нанести внезапный удар.
— Лучше всего перед рассветом. Подлые язычники в это время возносят молитвы восходящему солнцу и не слитком бдительны.
— Да, я знаю. Жаль, однако, что мы не можем оповестить наших, находящихся в городе, что наступаем на Куско. Тогда они могли бы действовать вместе с нами.
— Наши пушки оповестят их об этом. А Эрнандо Писарро — хороший солдат, он сам сообразит, как поступить.
Им предстояло пересечь тракт. Они выбрали подходящее место и стали переходить через дорогу, как вдруг в одном отряде сломалось колесо, и всей колонне пришлось задержаться. Когда при уже меркнувшем лунном свете они постарались исправить поломку, со стороны города показался часки.
Испанские дозоры издали заметили его и предупредили Альмагро, который пришел в отчаяние. Ведь теперь индейцы узнают о замыслах белых, и испанцы лишатся главного козыря — их нападение не будет неожиданным для неприятеля.
Бегун замер на мгновение. Наверное, краснокожий негодяй хочет определить количество испанцев! Он слишком далеко, чтобы стрелять, можно промахнуться, а кони устали, не догонишь его… Уйдет! Сейчас повернется и уйдет.
Часки действительно заметил людей на дороге и тут же распознал в них белых. Стальные латы в лунном свете поблескивали совсем не так, как бронзовые доспехи индейцев, а главное — пришельцы были верхом на лошадях.
Он заколебался. С тех пор как началось восстание, все уже знали: одинокий белый при встрече с индейцами погибает. Индеец, приблизившийся к белым, тоже погибает. А если и останется в живых, то только как раб.
Белые идут куда-то ночью. Кто они, откуда и зачем они идут, до всего этого простому бегуну пет дела. Хотя ясно: они замышляют что-то недоброе. Но ведь он — часки, неприкосновенный гонец сапа-инки. Наверное, даже белые не посмеют его тронуть.
Он оглянулся на город. Кругом лагеря стража, белые не могли пробраться тайком. Но, кажется, это какой-то незнакомый, нездешний отряд. Возможно, даже военачальникам ничего о нем не известно. Может, следует вернуться и предупредить?
Но одержала верх привычка к, слепому, с детства привитому послушанию. Он, часки, должен бежать туда, куда его посылали. Думать о чем-либо другом не его дело.
Плавным, широким шагом профессионального бегуна он устремился с вершины пригорка прямо на преградивших ему путь испанцев.
— Для дела сапа-инки! Освободить дорогу! Для дела сапа-инки!
— Он не должен уйти! — поспешно бросил Альмагро, и индеец свалился тотчас, как только приблизился к белым. Умирая, он все еще продолжал шептать:
— Для дела сапа-инки…
Диего де Альмагро ошибался, полагая, что гром его пушек послужит для осажденных сигналом к совместной борьбе. Было еще темно, так что не удавалось различить ни холмов вокруг, ни самого города, который находился поблизости. Испанцы перестраивались, готовясь к схватке, когда где-то впереди глухо, тяжело, как бы нехотя, ударила пушка.
Потом прогремело еще несколько залпов. Эхо всколыхнуло ночь и прокатилось поверху, замирая вдали.
Наконец отозвались и мушкеты — сухо, отрывисто, словно зло огрызаясь.
— Штурм. — Дон Паскуаль не сомневался. — Индейцы начали штурм. Мадонна Севильская, благослови нас! Они атакуют ночью.
Непроглядный мрак озарился какими-то желтоватыми отблесками, мерцающими искрами, а затем на фоне внезапно полыхнувшего зарева обозначился черный, резкий силуэт города. Куско оказался дальше, чем думалось проводнику.
— Что-то горит.
— Это сделано нарочно. Все уже готово для штурма.
— Палят из пушек, — чутко прислушавшись, шепнул солдат. Бывалые вояки по отзвукам битвы безошибочно определяли ее ход. — Жарко там приходится краснокожим псам.
Но дону Паскуалю гул непрерывной канонады не нравился; с беспокойством он обратился к Альмагро:
— Это, наверное, решающий штурм, если наши совсем не берегут порох. У осажденных его запасы были почти на исходе.
— Значит, мы подоспели вовремя. Вперед!
Воины устремились на вспышки выстрелов. Тихо, осторожно, но решительно: прямо через поля, какие-то рвы ч барьеры из камня, пересекая проселочные дороги, испанцы добрались до опустевшего индейского лагеря, миновали его. Теперь до города — рукой подать: оттуда уже доносились отдельные крики. Казалось, стрельба из мушкетов ослабевает. Но пушки продолжали палить часто и деловито.
— Наверное, дерутся уже на стенах и у стрелков но хватает времени, чтобы зарядить аркебузы, — забеспокоился дон Паскуаль.
Альмагро крикнул в ответ:
— Вперед!
Рассвет наступил внезапно, как обычно в этой стране, ясный и золотой, и испанцы увидели перед собой индейцев. Те уже знали о новом противнике, заходившем им с тыла, и наступали широким фронтом, в полной боевой готовности.
Испанцы развернули артиллерию.
— Приготовиться! Огонь!
Рада с кучкой всадников тотчас же нанес удар по дрогнувшим после артиллерийского залпа боевым порядкам индейцев. Рядом в сомкнутом строю Диего де Альмагро вел арагонских копейщиков. Они ударили по индейцам, словно два железных молота.
Дым рассеялся. Ясно видны были шеренги воинов в шлемах с высокими гребнями, с круглыми щитами, копьями и топорами. Судя по добротным доспехам, впереди была гвардия. Инка Манко вынужден был почти в отчаянии бросить навстречу неожиданному противнику свои отборные силы, которые держал в резерве, для самого решающего момента.
Теперь, напуганные залпом, понеся большие потери, ослепленные дымом, они столкнулись с закованным в латы испанским войском. Под напором конницы цепь воинов-индейцев дрогнула. На них нагнали страху испанские кони.
Но подоспели уже и другие отряды, а потом и с противоположной стороны загремели мушкеты, засвистели камни, пущенные из баллист, а пушки все били, залп за залпом.
Сам Альмагро повел отряд железных барселонских стрелков и вклинился в самую середину индейской гвардии. Конница атаковала стремительно и грозно, смертный бой был в разгаре. Пушки вынуждены были смолкнуть, так как канониры ничего не видели сквозь клубы дыма и пыли.
Но внезапно с другой стороны, от городских стен, донеслись какие-то крики. Раздались выстрелы, дым окутал место побоища.
Перекрывая шум битвы, индеец-воин что-то прокричал своим соратникам, и Альмагро, который уже немного знал язык кечуа, потрясенный, поднял своего коня на дыбы.
— Сапа-инка убит! Спасайтесь! Сапа-инка убит!
И мгновенно войско Манко, дисциплинированное и вышколенное, превратилось в охваченную паникой, безвольную толпу. Индейские воины бежали кто куда и без всякого сопротивления сдавались в плен.
Никто уже не видел, что радужный штандарт все еще реет над группой инков, никто не узнавал Манко, пытавшегося преградить беглецам дорогу, никто не слышал его приказов и проклятий. И наконец обезумевшая толпа опрокинула властелина, втаптывая в пыль священные перья птицы коренкенке…
Глава сорок вторая
Синчи, напрягая последние силы, добрался до крепостных ворот. Саксауаман, самую сильную крепость в стране, Синчи видел так близко впервые. Ее контуры четко рисовались на вершине холма. Круглые башни, высокие, массивные стены, сложены были из каменных глыб столь громадных и столь плотно пригнанных друг к другу, что они надежно противостояли самым сильным землетрясениям. За ними виднелись соломенные крыши домов и храмов. Соломенные крыши. Ибо мудрость веков и опыт поколений учили, что в стране, где бог Земли часто проявляет свой гнев, такая крыша лучше всякой иной.
Синчи об этом не думал, но он невольно вспомнил, с какой легкостью испанцы поджигали такие крыши. Они делали это с наслаждением и заливались радостным смехом, когда вталкивали или бросали пленников в пылающий дом. За сопротивление, за мужество, проявленное в схватке, за что угодно. Или даже без всякого повода.
Они выкрикивали при этом какие-то странные слова:
— Auto de fe! Auto de fe!
Синчи невольно оглянулся. Но дорога в сторону Куско, широкая, прямая, была пустынна. Даже большие ламы белых люден измучены и не преследуют его по пятам.
Синчи объяснил страже у крепостных ворот, что прибыл по важному делу, и приказал тотчас же проводить его к коменданту крепости. Когда тяжелые ворота закрылись за ним и он очутился за стенами, Синчи вдруг ощутил смертельную усталость. Он шел медленно, пошатываясь, думая о том, что будет не в состоянии произнести ни слова. И только тут он как бы заново осознал весь ужас доставленного им известия.
Кахид, бывший ловчий, сразу узнал Синчи, но, видя в каком он состоянии, ни о чем не спрашивал, а приказал подать ему воды с соком агавы и молча ожидал.
Только когда Синчи отдышался и утолил жажду, он спросил:
— С чем прибыл ты столь поспешно, и почему сам, а не прислал часки? Пожалует ли сюда сын Солнца, чтобы здесь отпраздновать победу?
— Сын Солнца не прибудет сюда, — хрипло прошептал Синчи. Он медленно размотал тряпки, которыми под плащом была обернута его левая рука, и показал воину свое плечо. Из двух ран — видимо, плечо было пробито навылет — еще сочилась кровь.
Кахид нахмурил брови.
— Был… штурм? Куско взят?
— Штурм был, — через силу вымолвил Синчи. Усталость окончательно одолела его, глаза закрывались сами собой, и он плохо видел. Плечо невыносимо ныло, в голове помутилось, он не мог собраться с мыслями. — Да, был штурм. Воины уну Юнии уже взбирались на стены. Но…
— Говори, — твердо бросил Кахид. Лицо его словно превратилось в застывшую мертвую маску. Лишь глубокие, твердые борозды по обе стороны рта удлинились и как бы сделались еще глубже. Взгляд словно окаменел.
— О достойный, боги не позволили. Пожалуй… Пожалуй, бог белых, которого они носят на этом странном дереве, оказался могущественнее наших. Ведь наши воины были уже на крепостной стене, уже замолкали громы, которые белые мечут в клубах дыма, уже Хьюденоги, тот, что носит над сапа-инкой большое знамя, начал размахивать им, подавая сигнал для общего штурма, когда с тыла подошел новый отряд белых.
— Белые? С тыла? Откуда? Ведь их убивают всюду, где только обнаружат.
— Это так, о достойный. Пожалуй, одному Супаю известно, откуда появились эти белые. Но они ударили… Гремела… ильяпа. Ты знаешь, как бывает, когда белые сражаются. Земля начинает дрожать, столько громов они мечут.
— Знаю. Даже здесь было слышно. Ветер доносил до нас отзвук битвы.
— Я слышал о бурях на Укаяли, на Мараньоне… Даже там реже гремят громовые раскаты. Сын Солнца… Сын Солнца не дрогнул. Но белых невозможно было сдержать. Их огромные ламы…
— Знаю, — прервал его Кахид. — Рассказывай дальше.
— Сын Солнца немедленно вызвал воинов из Коропуны.
— Он больше всего любит их и полагается на их мужество.
— Это именно так, достойный. Сын Солнца сам повел их. Однако внезапно все разлетелось в прах. Они разбежались. Как стадо гуанако, когда в самую середину его ворвется капак-тити.
— Что же случилось? Разве бог Солнца…
— Нет. Солнце сияло так, как и сейчас. Только внезапно раздался крик, что… — Синчи понизил голос, — что сын Солнца убит.
Борозды на лице Кахида сделались еще глубже. Глаза тревожно вспыхнули.
— Разве так и случилось?
Синчи заколебался. Подавил спазму.
— Нет… не знаю, о достойный. Когда раздался этот крик, сын Солнца был жив и стоял во главе войска. Потом, потом его сбили с ног, он упал… А потом я не знаю. Пусть Инти, бог Солнца, тотчас же сожжет меня, я не знаю.
— Как? Ты не знаешь, уцелел ли сын Солнца? Что же такое произошло?
— Не знаю, — хмуро повторил Синчи. — Достопочтенный, никто не знает этого. Потому что войска уже не существует. Нет ни двора, ни инков при сыне Солнца, ничего нет. Кто не успел уйти, тот погиб или стал невольником. Это конец, конец… конец… — голос Синчи перешел чуть ли не в крик, потом сорвался, превратившись в хриплый шепот. — Это конец, о достопочтенный.
— Конец чего? — тихо спросил Кахид.
— Конец всего, что было. Уже не будет ни сапа-инки, ни жрецов, ни камайоков, ни часки, ни… ни богов. Белые срывают с храмов золотые изображения Солнца, где же бог Инти отразит свое благосклонное сияние?
— Ты прав. — Инка пытливо поглядел на Синчи и заговорил медленно, с огромной душевной болью: — Ты прав. Рушится то, что великие сапа-инки воздвигали веками. И не в том дело, что не будет инков, жрецов или изображений богов. Погибает самое главное. Погибает Тауантинсуйю.
— Я не очень хорошо это понимаю, о достопочтенный.
— Ты еще в муках осознаешь это, — сказал Кахид и умолк, закрыв глаза. Его орлиный профиль в этот момент поразительно напомнил лик какой-то почитаемой мумии. Через минуту он пришел в себя, отогнав тяжелые раздумья, и принялся расспрашивать хриплым голосом:
— Кто и с чем прислал тебя?
— Жрец Я встретил его за рекой, там, где дорога…
Кахид с нетерпением прервал его:
— Куда шел этот жрец и что он приказал тебе сообщить?
— Он умер. Его ранило этим свистящим громом белых, и он был уже при смерти. Он приказал мне бежать и предупредить тебя, достопочтенный. Белые еще не были в Саксауамане, но теперь, после победы, они придут сюда тотчас же. Наверняка придут.
— Я знаю. Тут много золота.
— Да. Им известно об этом. Жрец приказал передать тебе: если последняя крепость Тауантинсуйю окажется в руках белых, пусть не найдут они там ни слитка золота. Пусть не увидят ни одной священной мумии Пусть не обнаружат изображения Инти.
— Ничего этого они не увидят. — Кахид обернулся к скале, в которой был вырублен трон сапа-инки. В народе ходили легенды о том, что в недрах этой скалы огромное количество пещер, таинственных коридоров, черных бездн. Там еще до прибытия Синчи Кахид приказал укрыть сокровища.
— Я повторил наказ… — Синчи подавил вздох. — А теперь что делать, достопочтенный?
— Не отчаиваться и держаться, — жестко бросил Кахид. — Погибнуть, если придется, или жевать листья коки и ни о чем не думать.
— Пожалуй, даже листья коки не дадут забвения, — хмуро прошептал Синчи.
— Тогда умри.
— А… а ты, достойный? — заколебавшись, спросил Синчи.
— Я? Помнишь, как мы шли в Силустани? Зимой, сквозь метель. Я тогда сказал тебе, что человек — это ничто, а Тауантинсуйю — это все. Когда погибнет все, чем мы жили, то и наша жизнь утратит всякий смысл.
— А… а надежда? — прошептал Синчи.
— У тебя еще есть надежда? — резко спросил Кахид, а когда гонец только молча понурил голову, инка сказал: — Сокровища сапа инков и храмов уже надежно укрыты. Белым их не найти никогда. Итак, будем сражаться.
Полог над входом взметнулся, и быстро вошел молодой воин.
— Великий господин, со стороны Куско приближаются белые на больших ламах.
— Уже? — Кахид почти весело взглянул на Синчи. — Им не терпится. Хорошо. На крепостных стенах все готово?
— Да, великий господин.
— Я сейчас выйду к воротам. Жди меня там.
Когда воин скрылся, Кахид обратился к Синчи:
— Что ты намерен сейчас предпринять, часки камайок? Через южные ворота ты еще можешь без всякого труда выбраться отсюда.
Бегун медленно покачал головой.
— Нет, достойный. Жрец послал меня только сюда, в Саксауаман. Больше он ничего не приказывал мне. Я останусь здесь.
— А без приказа сам ты, конечно, не знаешь, как тебе поступить? Как и любой человек в Тауантинсуйю… Хорошо, в таком случае оставайся при мне.
Испанская конница окружила крепость, всадники прикидывали, где лучше начать, но штурм начался только тогда, когда подтянулась пехота с артиллерией
Упоенные недавним успехом, под стенами Куско, испанцы приближались, уверенные в своих силах, уже заранее торжествуя победу. Ведь в этом Саксауамане находятся главные сокровища инков. То, что они, испанцы, захватили до этого, может оказаться всего лишь ничтожной горсткой по сравнению со здешним богатством.
Дон Диего де Альмагро, руководивший операцией, торопился. Уже вечером после битвы под Куско прибыл к нему от Писарро гонец с приказами. Наместник сообщал, что собрал все силы и спешит на помощь. Однако на перевале выпал глубокий снег, кони и орудия увязли, поэтому он не может поспеть так быстро, как бы хотел. Гарнизон Куско должен держаться. Не следует предпринимать рискованных вылазок. Делать только то, что необходимо для обороны крепости.
Братья Писарро поэтому настаивали на том, чтобы отложить экспедицию до прибытия наместника, однако Альмагро решил иначе. Он должен взять крепость и завладеть ее сокровищами, прежде чем подоспеет Писарро. Пусть-ка потом наместник попробует отобрать их у него!
Пользуясь властью, какую он приобрел после победы над инкой Манко, Альмагро отдал приказ о выступлении. Обоих братьев Писарро он взял с собой, не желая рисковать: а вдруг по возвращении в Куско городские ворота окажутся на замке?
Войско щедро снабжали сорой, суля большую добычу и еще более обильные пиршества; поэтому солдаты, уверенные в своих силах, заранее радовались победе.
Но Альмагро не хотел рисковать напрасно. Брать крепости измором, как некогда он с Кортесом покорял Мексику, не было возможности. Ему следовало поторопиться, чтобы до прибытия Писарро все было кончено.
Он только окружил крепость цепью своих постов, а всю силу — пушки, мушкетеров, лучников, пехоту с лестницами, предназначенными для штурма, — сосредоточил около северных ворот.
Залпы загремели на рассвете. Пушки били по крепостным стенам, а под прикрытием порохового дыма подползли лучники и, держась на такой дистанции, которая позволяла им оставаться недосягаемыми для копий индейцев, принялись за свое не столь шумное, но весьма эффективное занятие.
В воздухе засвистели стрелы, скрежеща о каменные стены и поражая цель. Нет-нет и воин-индеец, выглянув из-за прикрытия, чтобы метнуть копье, падал навзничь и со стоном сползал вниз, напрасно стремясь уцепиться слабеющими пальцами за неровность каменной кладки. Грохот пушек, который индейцы все еще принимали за небесный гром, и эти стремительные бесшумные стрелы в представлении защитников крепости связывались в единое целое, и суеверный испуг быстро охватил гарнизон.
Кахид, спокойно стоящий на крепостной стене в наиболее опасном месте, сразу же заметил это. Он с беспокойством обратился к Синчи, который всюду сопровождал его.
— В рукопашной схватке лицом к лицу наши воины не уступят белым. Но здесь они боятся ильяпы.
— Ты прав, достойный. Это… не иначе, как сами демоны земли…
Орудийное ядро ударило в башню около ворот, отскочило и, бессильное и неопасное, упало прямо к их ногам.
Кахид со злобой пнул его ногой.
— Обычный булыжник. Только белые умеют метать его с таким грохотом. О, вот это пострашнее.
Он указал на рослого воина, который внезапно пошатнулся и без стона свалился навзничь. На лбу у него кровоточила небольшая рана.
— Этого наши воины боятся больше всего. Как будто ничего нет, а человек умирает.
В эту минуту у стен крепости мушкетер Луис Овьедо, громко смеясь, чистил свое оружие и готовился к новому выстрелу.
— Ты проиграл, Алонсо. Пять песо — мои.
— Не торопись. За мной еще один выстрел. Видишь Этого, в блестящем шлеме? Это, должно быть, какой-то краснокожий вождь. Если я сковырну его, мы квиты.
— Этот? Фи, его подстрелить не штука. Он стоит так, будто сам ищет смерти. А мой только выглянул, как я сразу же всадил ему пулю в лоб. Впрочем, дело твое. Если у тебя на примете нет ничего лучшего, то бери его на мушку.
Алонсо прочно установил мушкет на вилках, широко расставил ноги и тщательно прицелился. Наконец он поднес к Запалу фитиль. Сквозь клубы дыма ему не удалось разглядеть результат выстрела, однако смех Луиса был достаточно красноречив.
— Промазал! Из тебя такой же стрелок, как из старой бабы — плясунья. Пять песо — мои. Ну и другие пять, за следующего язычника, которого я подстрелю. Ставишь?
— Ставлю. Будь ты неладен! Но почему ты не возьмешь на мушку этого вождя?
Овьедо сделал вид, что не слышит. Прежде чем они принялись стрелять на пари, он уже трижды целился в индейца, стоящего на самом видном месте, и все три раза промахнулся. Суеверный, как большинство испанских солдат, он предпочел не пытаться в четвертый раз. Этого краснокожего язычника, разумеется, охраняют какие-то там их демоны, а с духами, хоть бы и языческими, лучше не связываться. Падре Вальверде уверяет, правда, что ему известны отличные, действенные молитвы и заклинания, но все-таки кто его знает.
Стрельба стала превращаться в забавное состязание. Уже и лучники приняли в нем участие, похваляясь перед мушкетерами меткостью своих выстрелов и своей неуязвимостью. А так как индейцы могли ответить только метанием копий, которые не долетали до нападающих, это придавало последним еще больше наглости, сообщало еще большую точность их выстрелам. Все чаще падали защитники крепости на стенах, и Кахид, который уже дважды стягивал к воротам подкрепления, все больше хмурился.
— Перебьют самых лучших воинов. Придется открыть ворота и вывести войска в поле. Тогда они пустят в ход свои топоры.
Синчи молча указал на отряд испанской конницы, охранявшей пушки против самых ворот. Кони, дрожа от близких выстрелов, возбужденные запахом пороха, рвались, вставали на дыбы, их едва удавалось сдерживать. Стоило только ослабить поводья, и они со скоростью вихря понеслись бы вперед, на атакующих индейцев.
Кахид понял и кивнул головой.
— Да. Нам не отбиться. И здесь нас ожидает гибель.
— Может, белые сами будут атаковать… — неуверенно начал Синчи и тотчас прислушался. Заглушая грохот пушек и мушкетов, раздался резкий, звонкий звук труб.
— Ударят! О достойный, этот звук означает, что они сейчас ударят.
— Хорошо. Наконец-то мы встретим их, как подобает воинам.
Он отдал приказ солдатам, которых оставил в резерве у подножия башни.
— Все на стены!
Испанцы приближались. Они шли сомкнутыми стальными рядами и несли с собой лестницы, чтобы штурмовать стены. Их прикрывали лучники, и как только над стеной появились шлемы защитников крепости, тотчас же снова густо засвистели стрелы, разя и убивая индейцев. Когда атакующие приставили лестницы и начали взбираться по ним, лучники продолжали стрелять. Тщательно прицеливаясь, они поражали каждого, кто только выглянет из-за укрытия. Лишь одну лестницу индейцы столкнули своими длинными копьями, лишь в нескольких местах испанцам пришлось с боем прокладывать себе дорогу. В основном же они взбирались на стены почти беспрепятственно.
Наконец на стенах началась рукопашная схватка, жестокая, безжалостная. Толедские мечи против обоюдоострых топоров, сталь против бронзы, жажда грабежа и разбоя против безрассудного упорства — и все отчаяние побеждаемых против тех, кто неизменно одерживал победы.
Но резервы индейцев были слишком поспешно введены в бой, и они понесли уже невосполнимые потери. А испанцы напирали и напирали, постепенно занимая стены. Скоро уже и лучники взобрались туда же, и их стрелы начали разить индейцев прямо в упор, расчищая дорогу атакующим и сея ужас и гибель в рядах защитников.
Кахид вместе с группой своих людей отступил к башне, ожесточенно защищаясь. Первый раз он видел белых в сражении. Опытным глазом воина Кахид оценил доспехи, хорошо закрывавшие солдат и в то же время не стеснявшие их движений, у индейцев же обнаженные плечи и ноги лишь раскрашены черно-белыми полосами; оценил он и твердость щитов, легко отражавших удары боевого топора; оценил и холодную, воспитанную долгим опытом выносливость в схватке. Разве они дрогнут, если им крикнуть, что их вождь погиб? И как бы сражались они при отступлении? Потому что… потому что только в отступлении можно узнать истинную цену воина.
Эти раздумья не мешали Кахиду принимать участие в битве. Один за другим он отбил два удара испанских мечей, выждал момент, сделал выпад и ударил топором. Молодой Хуарес де Карвахаль, идальго из знатного валенсианского рода, в качестве добровольца принимавший участие в штурме, свалился с рассеченным плечом.
— Бей! Вперед! — закричал Кахид, бросаясь через упавшего в брешь, образовавшуюся в цепи врагов. Но стена вражеских щитов снова сомкнулась перед ним, засверкали мечи, нанося разящие удары: над этой стеной словно всплеснулись волны. Из-за спин своих товарищей лучники пустили в индейцев целую тучу стрел. Защитникам крепости снова пришлось отступить.
Кахид вдруг услышал за спиной торопливые слова, произнесенные на тайном наречии инков.
— Господин, я выполнил твой приказ. Сокровища укрыты надежно.
Кахид быстро оглянулся. Молодой жрец, запыхавшись, пробирался к нему, глаза его горели.
— А мумии? — охрипшим голосом спросил Кахид.
— Все, как ты приказывал.
— Кто… кто знает это место?
— Только я, о достойный.
— Так умри же, чтобы никакими муками не смогли вырвать из тебя тайны! — воскликнул Кахид и взмахнул топором.
Он оглянулся. Теперь он остался один. Окружавшие его воины либо полегли, либо, прижатые к стене, оборонялись отчаянно, хотя и безнадежно. Внизу ворота трещали под ударами испанских топоров. Атакующие почти целиком заняли стену.
— Это конец, — повторил Кахид слова Синчи. Он еще раз оглянулся. Бегуна нигде не было видно, а толпа осаждавших уже устремилась к башне.
Кахид опередил их; он вскочил в черную щель узких дверей, захлопнул их за собой и привалил заранее приготовленным камнем. Через минуту он был уже на вершине башни, равнодушный к стрелам, которые свистели вокруг него, царапая стены.
Он бросил взгляд на крепость сверху — последнюю крепость в Тауантинсуйю, куда уже ворвались враги, на священную скалу с вырубленным в ней троном сынов Солнца, которую осквернят белые. Он не колебался. Когда дон Диего де Альмагро въезжал через выломанные крепостные ворота в покоренную твердыню, ему пришлось осадить коня, так как прямо подле него пало, распростершись на камнях, тело воина-индейца в богатых одеждах.
Альмагро невольно посмотрел вверх. Там больше никого не было.
— Он спрыгнул сам. Я видел, — сказал Хуан Рада, который ехал рядом.
Альмагро кивнул головой.
— Жалко, что это язычник. Он мог бы стать настоящим кабальеро! — бросил коротко испанец и двинулся дальше.
Глава сорок третья
Столб с вырубленными на нем ступеньками, заменявший лестницу, подгнил и сделался скользким от сырости, наполнявшей шахту. Однако, когда Кочеде свалился и сломал себе руку, а его товарищи осмелились просить надзирателя о новой лестнице, белый господин прогнал их палкой и грозился спустить на них собак. Тех огромных чудовищ псов, которых привезли с собой белые и научили охотиться на людей.
Когда убежала Окла, собаки напали на след, настигли ее и загрызли. А белый тогда только смеялся. «Пусть это будет уроком для других», — приговаривал он.
Лучина, воткнутая в расщелину скалы, едва рассеивала мрак. Поэтому Синчи поднимался медленно, крепко держась руками за столб, осторожно нащупывал ступени босыми ногами.
Но нужно было спешить. Белый господин кричал: «Наверх!» — значит, надо торопиться наверх. Белый господин не любит ждать. Последнему всегда достается от него палкой. Чтобы были проворнее и не спали на ходу.
Синчи протиснулся сквозь узкое отверстие и очутился в верхней шахте. Здесь работы не велись, хотя в светлой породе всюду поблескивали мелкие чешуйки и зерна золота. Белые искали только богатые жилы, с большим содержанием золотой руды, где работа скорее приносила результаты.
В верхней шахте вдоль стен стояли кожаные мешки с золотом, охраняемые сторожем-индейцем. Он был из какого-то незнакомого племени, из тех, кого белые привезли с собой и которые служили им усердно и преданно, как собаки. Индеец подгонял поднимавшихся снизу рудокопов, не выпуская из рук палки.
— Тащи мешок, язычник! Скорее!
Синчи взвалил мешок на спину и, согнувшись под его тяжестью, послушно поплелся вслед за остальными невольниками. Ноги у него подгибались, в голове шумело, дыхание прерывалось. Он знал, что это такое. Это от голода. Есть давали только рано утром — похлебку и кукурузную лепешку, — потом целый день изнурительная работа: долбили киркой твердую породу, выносили обломки или дробили их на мелкие части тяжелыми молотами. Кирки и молоты белые привезли с собой. Они были из незнакомого металла — железа. Синчи понял, что орудия из железа значительно тверже, практичнее, нежели индейские изделия из бронзы…
Вечером невольники получали вдоволь листьев коки. Вначале даже их разрешали брать с собою в шахту и жевать во время работы. Но потом запретили. Жуя листья, невольники, правда, не жаловались на голод, были выносливы и терпеливы, но если кто-либо из них вдруг бросал работу, то никакими криками, приказами и даже побоями уже невозможно было заставить его снова трудиться. Поэтому теперь невольникам строго запрещалось жевать коку в шахте. Зато вечером, после ужина, — сколько душе угодно.
Только… только тогда люди уже так измучены, что валятся с ног и сразу же засыпают. Затемно они спускаются в шахту, когда стемнеет, возвращаются наверх. И так коротка, быстротечна ночь, которая должна восстановить их силы для следующего дня…
Иногда выдавались ясные лунные ночи. Казалось, что богиня Луны, сжалившись над невольниками, хотела, чтобы они взглянули на окружающий мир. В такие ночи Синчи подолгу сидел возле лачуги, в которой ютилось по сто человек в каждой — такую лачугу индейцы по привычке называли айлью, — и мечтал, всматриваясь вдаль.
Увидеть удавалось немногое. Шахта находилась в глубокой узкой долине, над потоком, где промывали породу, содержащую золото. Шум струящейся по камням воды был единственным звуком, нарушавшим ночную тишину.
По другую сторону долины вздымались крутые, отвесные скалы, вершины которых иногда скрывались в тучах. Скалы Эти казались угрюмыми и зловещими. Часто с вершин срывались бури и ураганы, грохот которых во сто крат усиливался в тесной долине. Нигде, насколько мог заметить Синчи, не видно было ни деревца, ни кустарника, ни былинки. Всюду только камни да кое-где жалкий сероватый мох.
Синчи не совсем ясно представлял себе, где он находится. Их вели так далеко, столько раз перегоняли с места на место, что он совершенно перестал ориентироваться. Горы вокруг были ему незнакомы, а редкие в этих местах жители казались совсем чужими, даже ручей в ущелье так петлял, что не удавалось определить, куда он течет — к Уальяго или к Мараньону.
Да в конце концов не все ли равно? Белые проникают всюду, и везде царят их законы и сила.
Но все же Синчи любил мечтать по ночам, глядя на заснеженные, поблескивавшие в лунном свете вершины. Иногда ему казалось, что это горы Уарочиро, что там, за ними, лежит Кахатамбо, где его ждет Иллья… Что стоит лишь встать, надеть крепкие усуто, закутаться в теплый плащ и идти прямо через горы… Как тогда, когда он вел инку Кахида в Силустани…
Потом он должен был вернуться к Иллье… Бог Солнца воспротивился этому. Теперь, когда воспоминания так мучительно терзали душу, только листья коки давали успокоение. Поэтому Синчи жевал их все вечера напролет, пока им не овладевало тупое безразличие.
Обычно его возвращал к действительности ночной холод. Синчи сразу вспоминал о том, что он бос и наг, только какая-то жалкая тряпка прикрывает его бедра, вспоминал, что рудник обнесен высокой каменной стеной — их заставили возвести ее своими руками, — а за стеной по ночам дежурят охранники с собаками. Он понимал, что уже никогда не пойдет через горы, а кроме того, Иллья… Одним богам только известно, где теперь Иллья.
Листья коки, давая забвение и душевный покой, не спасали ночью от холода. Приходилось снова возвращаться в низкую, крытую соломой лачугу, где в спертом воздухе, среди спящих вповалку изнуренных товарищей он на своем жалком ложе — кучке истлевшей травы — мог погрузиться в сон, единственно возможный для него вид бегства…
Вслед за другими Синчи вошел в помещение, где белые хранили золото. Он послушно опустил свой мешок на груду других и снова стал в шеренгу. С полным безразличием он подчинялся унизительной, давно уже знакомой ему процедуре: стать перед надзирателем, широко открыть рот, поднять руки, растопырив пальцы, и терпеть, пока тот бесцеремонно ощупывает набедренную повязку.
Белые все еще боятся, что невольники украдут золото.
Зачем? В лачугах на руднике оно не представляет никакой ценности. Его нельзя использовать даже для украшений. А бежать… О бегстве не может быть и речи.
— Ошибаешься. Всегда есть такая возможность, если очень хочешь этого, — ночью шепотом доказывал Синчи Канет, новый товарищ из группы невольников, недавно пригнанных на рудник. Это был молодой, рослый и энергичный индеец, которого еще не успела сломить работа под землей. Протянутые ему чьей-то услужливой рукой листья коки он оттолкнул с презрением.
— Сам убедишься, — смиренно сказал кто-то в темном углу.
— Это вы убедитесь. Увидите, что я все равно убегу отсюда. Принесу жертву богу Земли…
— Что же ты пожертвуешь? Разве хоть у кого-нибудь из нас есть здесь что-либо ценное?
— Что я пожертвую? Ну хотя бы… эту лепешку, когда буду особенно голоден.
— Лепешку? Хорошо же пожертвование для богов!
Канет неожиданно стал серьезным и заговорил иначе, медленнее, более проникновенно:
— Ты так считаешь? Нет, ты не прав. Важно не то, что ты приносишь в жертву, важно, как ты принес ее. Понял? Если богатый пожертвует много, это, может, и не так уж угодно богу. Но когда бедняк поделится с ним последним…
— Болтовня! Жрецы всегда обещали тем, кто жертвовал золото, что боги услышат их молитвы. А если приходил бедняк с лепешкой, глиняной миской или с цветком, его иначе встречали.
— Я говорю о богах, а не о жрецах.
— Разве это не все равно? Ведь именно жрец принимает дары верующих и передает божеству твою просьбу.
— Я не нуждаюсь в посредниках. Бог Земли сам услышит меня и с благосклонностью примет мою жертву.
Из глубины помещения донесся чей-то хриплый смех.
— Ну что ж, надейся, надейся! Мы видали уже таких. Был здесь некий Урко, в прошлом сам жрец. Он тоже болтал, будто боги его слышат и благосклонны к нему. Когда однажды обвалилась скала, трое, что работали с ним рядом, погибли, а Урко остался цел. Ха-ха, уж сколько он тогда болтал и хвастал, что, мол, сам бог Земли оберегал его. Но не долго он пользовался милостью божества. В тот же самый день белые палками насмерть забили нашего Урко. За то, что по его вине сорвался камень, который перекрыл коридор в шахте, и белые потеряли несколько дней, прежде чем все было приведено в порядок. Уж лучше бы его прихлопнуло той скалой…
— Значит, вы не верите, что наши боги нам покровительствуют?
Кто-то со злобой выругался, кто-то расхохотался.
— Наши боги? Немногого они стоят в сравнении с богом белых. Ты, пожалуй, и сам мог в этом убедиться.
— Да, — медленно и тихо, с какой-то трагической ноткой в голосе ответил Канет.
— Ну то-то же. А теперь довольно чесать языки, пора спать. Пожалуй, уж за полночь перевалило. Утром белые нам не позволят валяться.
Все замолчали, потому что напоминание о неумолимо надвигавшемся новом четырнадцатичасовом рабочем дне угнетающе подействовало на всех. День за днем, без перерыва и отдыха. Не бывает теперь ни ежемесячных празднеств, ни таких торжеств, как, например, праздник Райми. Белые ни на минуту не позволяют прервать работу. Только погоняют и погоняют и все требуют: золота, золота, золота.
Канет ворочался на своем ложе, он молчал, но заснуть не мог. Синчи, который лежал рядом с ним, тронул товарища за плечо.
— Не спится?
— Нет. Все думаю и думаю о том, что надо бежать отсюда. Пока есть силы и не сдала воля.
— Слушай… скажи мне… что теперь творится в стране? Ведь мы здесь, сам понимаешь…
Канет прервал его.
— Знаю и понимаю. Только и мне известно не многое. Скоро год, как я в неволе.
— И ты не мог бежать?
— Мог. Но меня угнали далеко, на самый берег мамакочи. Знаешь, что это такое?
— Слышал. Озеро с одним берегом…
— Пожалуй, есть где-то и другой берег, ведь плывут же откуда-то к нам эти белые. Бежать? Бежать я мог бы. Но я родом с гор. А там равнина, жара, сыро, полгода сплошные туманы, которые приходят со стороны мамакочи. Люди чужие, край незнакомый. Потому я и выжидал. Но теперь, когда я снова в горах, теперь я убегу. Тут уж им меня не поймать!
— А куда ты пойдешь?
— Куда-нибудь. Хотя бы к нагорьям, где заросли толы. Можно недурно жить, занимаясь охотой. Впрочем, я собираюсь идти к сапа-инке Манко.
— А… а инка Манко жив?
Канет на минуту умолк, а потом принялся шептать еще тише и осторожнее.
— Не знаю, вероятно, жив. Люди из уст в уста передают, что недалеко от Куско какие-то войска еще продолжают сражаться. Говорят также, что до Кито белые так и не дошли, там все осталось по-старому. Ходят слухи, что инка Манко собирает людей. Поэтому и я пойду туда, если только смогу бежать. Буду сражаться.
— Погибнешь, — прошептал Синчи.
— Может быть… Ну и что ж? Ведь один человек — это ничто.
Синчи неспокойно пошевельнулся и спустя некоторое время ответил:
— Если никого не останется, то и так всему конец. А бежать… Как же можно бежать отсюда? Ведь тебе приказали рыть землю и добывать золото. А каждый обязан делать то, что ему приказывают. Таков извечный закон.
— Кто приказал? — Канет почти выкрикнул эти слова, так что даже в другом конце помещения оборвался чей-то храп. — Я всегда подчинялся закону. Мне приказывали быть воином, я становился воином, приказывали обтесывать камни, я тесал камни. Но то, что происходит теперь, совсем другое дело. Разве ты не понимаешь? Кто тебя послал сюда? Не инка и даже не твоя айлью. Ты здесь по воле белых. Они силой загнали тебя сюда.
— Это правда. Но раз теперь торжествует их закон…
— Да, их закон! — Канет снова откинулся на подстилку и угрюмо зашептал: — Я видел, что такое их закон. Поэтому я и говорю: надо уходить отсюда, а если инка Манко борется, надо идти к нему и сражаться вместе с ним.
Синчи неизвестно почему вспомнил о ловчем Кахиде и сказал, совсем как он:
— Рассказывай все!
— Да, я расскажу тебе все, что знаю. Хорошо, если бы все узнали, что творится в стране. Закон белых… О чем тут говорить: нет теперь в Тауантинсуйю никаких законов, пожалуй, только закон силы. А сила на стороне белых.
— А как люди живут?
— Как? Да, я расскажу тебе кое-что. То, что сам видел. Есть одна община в долине реки Мононы. Это плодородная долина, и община была богатой. Год назад явился туда один белый. С ним прибыло четверо людей нашей крови, но из чужого племени. Все они были с оружием. Белый привез с собой и собак… Их вышел встречать старейшина, Силачи. Это гончар, мастер, известный всему Чинчасуйю. Белый немного говорил по-нашему. Он сказал, что прибыл по воле самого сапа-инки. Показал кипу…
— Знаю, — прервал его Синчи. — Фальшивый кипу.
— Силачи не знал, что кипу фальшивый. Впрочем, он не умел читать кипу. А белый сказал: отдать оружие, у кого какое есть. Оружие отдали. Потом велел созвать старейшин окрестных айлью. Из десяти явилось девять, так как один, Кухина, лучший земледелец, был болен. Этих девятерых и Силачи вместе с ними посадили под замок, и белый объявил, что пусть только кто-нибудь ослушается его распоряжений, и все заложники будут повешены. Потом он отправился в дом Кухины, избил того палкой до полусмерти, а потом Кухину выволокли на улицу и повесили на виду у всего села за то, что он не явился по приказу белого. У Кухины было две дочери, так этот белый…
— Знаю, — прервал Синчи. — Повсюду одно и то же.
— Да, повсюду. А потом белый объявил, что все земли принадлежат ему. Ламы — тоже. Дома и сады — тоже. Каждый, кто только живет в этой долине, — пояснил он, — принадлежит ему. Понимаешь? Люди принадлежат белому! Он предупредил: бежать запрещается, за это — смерть, кто станет сопротивляться — поплатится головой! Работать, сколько он прикажет, иначе изобьют палкой.
— Как это так? А земля сапа-инки, а земли храмов?
— Все принадлежит теперь ему.
— А что стало с жрецами?
— Живы лишь те, что ушли в горы или укрылись в безводных местах. Всех остальных повесили. Храмы жгут. Наших богов не позволено даже вспоминать. Перед их богом, этим странным деревом, на котором человек с раскинутыми руками — а его белые ставят повсюду, — приказывают падать на колени.
— Но люди хотя бы получают то, что им полагается? Сушеное мясо, ткань на одежду, утварь, листья коки?
— Глупец! От кого они, по-твоему, это получат? От белого господина? От него получишь только палкой по спине. А остальное… Впрочем, нет, подожди, получают листья коки, Тут белые не скупятся. Сколько душе угодно.
— Как же люди живут?
— Так и живут. Немного кукурузы, картофеля, немного киноа… Иногда кое-что поймают: черепаху, рыбу, какого-нибудь зверька. Все остальное принадлежит господину.
Он остановился, глубоко вздохнул, а потом снова зашептал:
— Ты слышал, что белые передрались друг с другом? Кажется, из-за золота. Каждый хотел забрать все себе. Мы уж думали, что пришло спасение. Но нет. Многие из них погибли, но прибывают все новые и новые. Понемногу все успокоилось, снова они подчиняются только одному вождю и господствуют над нами.
— Это они теперь устанавливают сроки праздников, женят молодых, их вождь взрыхляет золотой мотыгой землю — уаку, подавая сигнал, что пора начинать работы в поле?
— Ты что, совсем одурел? Я же сказал тебе, что старых порядков нет и в помине. Везде теперь сидит какой-нибудь белый, и каждый поступает как ему вздумается. Праздники! Здесь, на руднике, бывают какие-нибудь праздники? Повсюду одно и то же. Работай, покуда хватит сил, а потом подыхай. Помогай себе сам, как сумеешь. Один. Понял? Нет теперь ни складов, нет распределения товаров, нет общих стад, не бывает ни большой охоты, ни совместных работ, ни помощи друг другу. Повсюду только» мое «, Понял?
— Понял, — прошептал Синчи. — Это и есть закон белых. У них все только» мое «.
Канет с ожесточением подтвердил:
— Да, у них все» мое «. Это их подлинный бог. А наши братья должны только работать и молчать!
— Могут еще жевать листья коки, — напомнил Синчи.
— Да, только одно это и дозволено. Белые даже одобряют. Жуй листья, не думай и повинуйся.
— Здесь, как и везде. Жрать почти не дают, но листьев — сколько душе угодно.
— Я знаю. И поэтому говорю тебе: надо бежать, пока. еще мы не сделались безразличными ко всему, не перестали желать, вспоминать и надеяться.
Синчи неспокойно пошевелился. В этот день он не жевал листьев, и голова у него была совсем ясная, он понял упрек.
— Ты не думай о нас плохо… Да, мы жуем эти листья. Сам все поймешь. Работа страшная, есть нечего… Пожуешь листьев — и забудешь о голоде, не чувствуешь ни усталости, ни тоски. Вот и тянет.
— Я знаю. Потому и предлагаю — бежим. Бежим вместе! Вдвоем легче.
Синчи долго молчал. В ночной тишине, нарушаемой только храпом усталых невольников да отдаленным шумом горного потока, послышался собачий лай. Яростный, отрывистый, резкий. Синчи испуганно съежился. Он, чья воля была уже ослаблена листьями коки, затрепетал при мысли о предстоящих трудностях, о том, что необходимо решиться и начать действовать самостоятельно, чтобы хоть что-то изменить… Образ Илльи, как в тумане, промелькнул перед ним и пропал. Остался только страх, уже привитый ему белыми. Синчи едва слышно прошептал:
— Слышишь? Собаки… Страшные псы… Оклу они разорвали в клочья. Учуют, догонят любого. А у меня уже нет сил. Столько времени под землей… Да и идти мне некуда… А здесь… если хорошо, старательно работать, то белые сделают надсмотрщиком и даже дадут тебе. в жены девку.
— Свою любовницу, ту, которая уже надоела, — буркнул Канет.
— Хотя бы и так. Иногда они дают и клочок земли, можно развести сад… О тебе заботятся, охраняют…
— Сунут тебе листья коки, и ты уже не помнишь ни о чем и ни о чем не думаешь, — зло бросил Канет.
Синчи согласился с печальным спокойствием.
— Да, конечно. Можно забыть обо веем на свете. Я тоже прежде не жевал коку, но с тех пор как белые нас разбили, мне все время хочется забыться…
— Этого как раз и не следует делать. Понимаешь? Паше поражение научило меня кое-чему. И не меня одного. Многие теперь думают так же, как и я. Даже инки. Но самое важное сейчас — избавиться от власти белых.
— А разве был такой приказ? Пока нет приказа, никто не знает, что делать. Мы ждем приказа. Всегда все держалось только на приказах. Весь порядок в стране. Пусть кто-нибудь отдаст новый приказ.
— Говорю тебе, что инка Манко жив и борется. Надо идти к нему. Бежим! Потом он всюду разошлет приказы. Но прежде всего надо покончить с белыми.
Синчи заколебался, однако ответил почти уверенно:
— Я… я остаюсь. Я не умею действовать без приказа, не умею. Я тоже воевал с белыми, но тогда был приказ. Меня не пугает борьба, но так я не умею. Не могу…
Примечания
1
«Апу-Ольянтай» — сказание о подвигах героев тауантинсуйской древности.
(обратно)2
Наска — область в южной части перуанского побережья, издавна известная тканями искусной работы и коврами.
(обратно)3
Ушастые, лопоухие (исп.).
(обратно)4
Гаррота (исп.) — обруч сжимающийся с помощью специального винта; орудие пытки и казни в средневековой Испании.
(обратно)5
Первый (лат.).
(обратно)
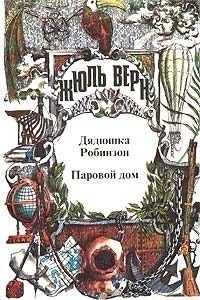


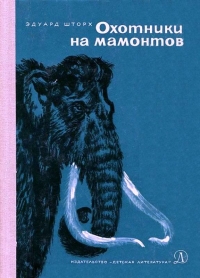
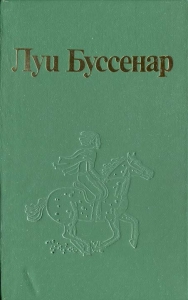

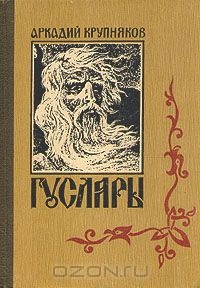
Комментарии к книге «Листья коки», Богуслав Суйковский
Всего 0 комментариев