Георгий Свиридов Время возмездия
Часть первая Время возмездия
Глава первая
1
Погода изменилась быстро, как и положение на фронте. Еще вчера ласкало долгожданным теплом неяркое февральское солнце, улыбаясь застывшей земле сквозь рваные белесые облака, торопливо бегущие куда-то к югу по бездонно-синему небу. На солнечной стороне искрились хрусткие сосульки. Все вокруг дышало ожиданием весны, и казалось, еще неделю-другую постоит такая погодка, да и начнется раннее пробуждение природы. Но так только казалось. К вечеру повалил снег. Крупные хлопья медленно опускались на повлажневшие кусты, деревья, на поляны, на озеро, что приютилось в глухомани леса. Снег валил и валил, словно густой марлей покрывая рваные раны, нанесенные человеком мирной природе, забеливая поспешные следы от колес, полозьев, больших и малых воронок, широких танковых траков да и простых людских обувок, словно спеша навести должный порядок.
К утру, вернее, к хмурому рассвету, нежданно подул льдистый, холодный ветер, разогнал тучи, намел сугробы, и зима-лиходейка опять захозяйничала по всей округе, словно спешила закрепить свои позиции. А у берега озера, на старой осине, вершина которой срезана осколком, примостилась озябшая синица. Белощекая, с длинным черным галстучком на желтой груди. Сверху ей многое видно. Даже сумела разглядеть, как издалека весна приближается. И робко запела: «Зин-зи-вер! Зин-зи-вер! Зиме конец!»
На другом конце озера, на покатом склоне, еще недавно ютилась небольшая деревня. Она была начисто сожжена еще в первый год войны наступавшими гитлеровцами, и уцелевшие люди ушли в леса, покинули пепелища. Лишь остались сиротливо торчать почерневшие от сажи и копоти остовы широких крестьянских печек, сложенных из камня и красного кирпича, да высокий колодезный журавель над старым темным срубом уныло задрал длинную жердь в холодное небо.
Война снова прошлась по этому месту, нанося раны земле и природе. Гитлеровцы не удержались и здесь, хотя в спешном порядке и соорудили укрепленные узлы, нарыли окопы, навтыкали кольев, опоясались рядами колючей проволоки. Ничего не помогло фашистам. Многие полегли здесь, на этой чужой им земле. А оставшиеся в живых, отступая, в ярости сожгли две последние, чудом сохранившиеся неказистые избы и, таким образом, начисто разрушили деревеньку.
Но едва затихли боевые действия, из глухой лесной чащобы, окруженной болотами, вернулись уцелевшие жители деревни. Их было немного, старух, женщин да детей, но они вернулись к себе домой, на родную землю, по которой соскучились за годы оккупации. Они сразу сердцем поверили в полное освобождение от врагов, надрываясь из последних сил, перевезли на санках из лесных землянок свои немудреные пожитки, привели и пегую хромую корову да лохматую рыжую дворнягу. Собака то настороженно принюхивалась, то с веселым лаем носилась по пепелищам, узнавая и не узнавая знакомые места.
Вчерашний снегопад хоть выбелил и принарядил разрушенную деревеньку, но не мог скрыть страшные следы войны. То там, то здесь, возле почерневших сиротливых печных труб, навечно забуксовав в снегу, стыли темные железные туши поверженных немецких танков и бронетранспортеров. Два из них еще негусто удушливо чадили в синее утреннее небо, тихо догорая. Разбитая тяжелая грузовая машина лежала на боку без передних колес, с изуродованным, развороченным мотором. Из-под кабины расплылись и застыли сгустки бурой крови и машинного масла. Повсюду видны припудренные снегом воронки, комья стылой земли, раскиданные взрывами. Плетни и редкие жерди заборов поломаны танками, побиты снарядами. А по огородам, что спускались к озеру, темнела обнаженная земля, схваченная морозом. На ней видны грядки, полоски прошлых посадок и редкие капустные кочерыжки, картофельная ботва. Пиками торчали стебли подсолнуха. Жирные, отяжелевшие вороны нехотя отлетали с недовольным карканьем от шустрой дворняги, которая с веселым лаем гонялась за ними по пепелищам, и, взлетев, черными лохмами лениво кружили над деревенькой, над озером и мглистым лесом.
Из обжитых блиндажей и землянок, словно из-под земли, потянулись вверх белесые струйки домашнего дыма. После двухлетнего перерыва деревенька, словно воскреснув, снова ожила. Люди поддерживали огонь в очагах, печурках, грелись возле них, дышали теплом, готовили еду, кипятили воду, стирали бойцам портянки и гимнастерки, печалились, радовались и думали о завтрашнем дне.
На дороге, что пролегала через деревеньку, ломаной линией стояли «тридцатьчетверки», крашенные для зимней маскировки белой краской. Танкисты, пользуясь краткой передышкой, придирчиво осматривали, проверяли каждый узел, каждый агрегат. Жизнь этих людей связана с жизнью машины. В бою малейшая оплошность, пустячная неполадка может обернуться гибелью экипажа. Гулко бухали кувалды. Деловито постукивали молотки. Кто-то прогревал мотор и от танка шел ровный басовитый гул.
А на другом конце деревушки, за линией разрушенных немецких окопов, местные женщины грели баньку для «танкистов-соколиков». Банька чудом уцелела в том огненном смерче, который дважды пронесся по этой земле. Она была старая, срубленная еще в прошлом веке, приземистая, покосившаяся на один бок, с подслеповатым окошком, прокопченная до густой черноты. Топилась она по-черному, с каменкой. Бабка Матрена, сухощавая и юркая не по годам, распоряжалась на правах хозяйки, и ее беспрекословно слушались две моложавые женщины. Баньку вымыли, вычистили, разбитое окошко заткнули тряпьем из немецких мундиров, а дверной проем в предбаннике занавесили куском брезента от палатки.
Бабка Матрена удивленно охнула, а за нею всплеснули руками и ее помощницы, когда молоденький «танковый соколик», чья грозная машина стояла поблизости, стянул с головы меховой шлем. Под шлемом оказались явно не мужские по длине своей волосы, хотя и подстриженные довольно ловко. А когда «танкист-соколик» расстегнул ремень и снял замасленный короткий полушубок, то под гимнастеркой, на которой сияла боевая медаль, явно обозначились груди.
— Так это ж что ж получается, а?.. Ты, выходит, самая разнастоящая баба… девка то есть? — спросила шепотом бабка Матрена.
— Ага, бабушка, — согласно кивнула Мингашева, расстегивая ворот гимнастерки.
— Танкист нашего бабьего сословия?
— Ага, бабушка.
— И воюешь?
— Воюю, бабушка.
— И давно?
— С позапрошлого лета.
— А не страшно? В танке не страшно сидеть, когда пушка ухает?
— Не, не страшно. Привыкла уже. А первый раз, когда в бой пошли, ух как жутко было! Мурашки по спине забегали, и сердце захолодело, прямо замерло от страха, — призналась Галия Мингашева, снимая сапоги. — Потом пообвыкла.
— А кем же ты будешь в танке, ежели это не секрет военный?
— Механик-водитель я, веду машину.
— Погоди, погоди, — бабка Матрена настороженно поглядела на Мингашеву. — Как это сразу и механик ты, и водитель, а? У нас вона в МТСе тож были и механики, и водители. Так механики, которые по ремонту, а водители энти руль крутили. Кто ж ты на самом-то деле будешь?
— Механик-водитель — это воинское название такое. А я совсем не механик, не ремонтник, а только рычагами двигаю, управляю танком, вожу его, понимаете? Как тракторист!
— Ну, тракторист на тракторе человек заглавный. Как не понимать, ясное дело, — бабка Матрена согласно кивнула. — Выходит, и ты в танке заглавная фигура?
— Не, командир! Тот, что дрова рубит. Младший лейтенант Григорий Кульга, — с гордостью и любовью в голосе произнесла Мингашева, показывая в дверной проем на Григория, который перед банькой лихо разбивал топором немецкие снарядные ящики.
— Ладный мужик, — оценила его бабка Матрена. — Хозяйственный, видать.
— А не пристает? — в один голос доверчиво спросили женщины, помогавшие бабке Матрене и молчавшие до сих пор.
— Ко мне? — удивилась Мингашева.
— Ну да, а то к кому же еще! В танке-то небось еще других солдат женского полу нету.
— Не, не пристает, — уверенно ответила Мингашева.
— А другие?
— Не, никто. Командир не допустит, он у нас строгий. Да и я сама не позволю никому никакие ухажерские шуточки, враз отобью охоту. Рука у меня крепкая.
— А тот, который нерусский? На немчуру смахивает. А они до русских баб очень-то охочие.
— Да что вы! Вовсе не немец, а литовец. Из Каунаса он, из Литвы. Юстасом зовут, а мы его просто по-русски Юрой назвали. У него там, в оккупации, невеста осталась.
— Да ты, дочка, раздевайся, раздевайся и шастай в горячий дух, прогрей косточки, — по-матерински заботливо говорила бабка Матрена, — а наши бабы исподнее твое мигом простирают и по-скорому высушат утюгами. Мы ж люди партизанские, в лесу живем, пообвыкли к страхам и опасностям, все теперь по-быстрому делаем, не то что в довоенное время. Натерпелись мы тут, намучились, настрадались… Ведрами слезы понавыплакали. Уж как мы вас, родных спасителей наших, ждали, как ждали!
А немчура проклятая зверски хозяйничала, побили много наших хороших людей. Ох, побили… Но и партизаны наши давали им жару. У наших даже настоящая пушка была. Старик мой еще в ту германскую войну при орудиях выслужился, хотя и серьезное ранение в ногу получил. Так он сейчас у партизан за главного пушкаря, — похвасталась как бы между прочим бабка Матрена. — А ты смелее, смелее, дочка! Поддай парку-то. Плесни на камни, вон из ковшика, вода там духовитая, на лесных травах настоенная. Пользительная для нашего бабьего тела.
Галия чувствовала себя наверху блаженства, хотя банька была неказистая, внизу, с пола, несло холодом, а вверху, под низким темным деревянным потолком, нечем было дышать от жаркого пара.
Последние недели танкисты вели тяжелые затяжные бои. Не то что помыться, просто умыть лицо было некогда. Насквозь пропиталась запахом солярки да пороховым угаром. А тут такая благодать! Хлестала себя мягким березовым веником, терлась мочалкой, брала из баночки самодельное жидкое мыло, торопливо мылилась, плескала на горячие камни настоенную душистую воду и снова блаженствовала всем нутром и чувствовала, как сходит с нее не грязь, а сползает толстая шершавая кожура, поґтом просоленная, гарью пропитанная, а из-под кожуры той обнажается молодое, светлое тело, и наливается она силой женской и здоровьем, и душа расцветает, петь хочется, жить хочется и любить своего единственного и дорогого сердцу младшего лейтенанта!
А время бежало за секундной стрелкой, отмерявшей минуты жизни на маленьких ручных часиках, которые она положила на лавку рядом с другими своими ценными вещами и документами. И мозг Галии, уже привыкший к строгости распорядка военной жизни, спешил приглушить блаженство души и сердца, слал приказ рукам, заставляя их двигаться, обмывать распаренное тело, чтобы побыстрее закончить и дать возможность другим насладиться радостью обновления.
2
Григорий Кульга не был рад этой передышке, короткому антракту между боевыми действиями, хотя понимал, что передышка нужна и усталому до изнеможения телу, и особенно боевой машине. Насчет машины он знал точно. Последние дни она двигалась буквально на нервах и злости экипажа, выдерживая чудом всякие недопустимые уставами и наставлениями перегрузки, как люди, которые последние три недели вели один сплошной, нескончаемый наступательный бой, прогрызая километр за километром глубоко эшелонированную оборону врага на ленинградской земле. Кульга давно чувствовал и понимал, чутко прислушиваясь к напряженной работе «сердца» танка, что мотор тянет из последних своих железных сил, надрываясь в изнеможении, и что надо дать ему краткую передышку, вызвать «скорую помощь» из полковой технической службы, подлечить.
Видел он, что и Галия Мингашева беспокоится, хотя она человек привыкший: на Урале, у себя дома, на испытаниях боевых машин специально старалась создавать всяческие перегрузки, заставить машину жить на пределе, чтобы лучше определить ее боевые качества и потом дать рекомендации фронтовикам. Но за последние дни боев и Галия часто стала хмуриться, тревожно удивляясь, как это «сердце» машины выдерживает и тянет, не сбиваясь с положенного ритма. Видать, на Урале, делая этот именной танк, постарались друзья-комсомольцы, добросовестно подгоняя деталь к детали, крепкие наложив сварочные швы и подобрав живучий дизельный мотор. Впрочем, танк их не лучше иных других, ничем он особенно не отличается. Просто сделан он из доброй уральской стали, круто сваренной, в которую для прочности и силы помимо всяких нужных компонентов уральцы добавили и жгучую ненависть к захватчикам, и светлую любовь к родной русской земле.
Да, конечно, мотор и весь танк в целом требовали передышки. И тело требовало, экипаж едва держался, выбиваясь из последних сил. Но душа Григория рвалась вперед. Только вперед! Двигаться, двигаться без остановки и без передышки, давя гусеницами, сшибая стальной грудью, кромсая броней, уничтожая огневой мощью заклятых врагов, самоуверенных, самодовольных до помрачения ума прошлыми победами над беззащитными народами и принесших в наш край смерть и горе. О, как ждал Григорий этого грозного часа начала расплаты, начала полного разрыва блокады и начала изгнания захватчиков с ленинградской земли! И вот они наконец наступили, эти дни? неотвратимые и желанные, страшные в своем неимоверном напряжении и такие радостные для сердца. Наступил, как считал Григорий, последний, третий, завершающий раунд великого поединка. Но враг, еще не поверженный окончательно, еще не сломленный, яростно огрызался, цепляясь за каждый сотворенный им узел обороны, отвечал огнем и смертью, но не мог устоять, выдюжить, как мы в памятном сорок первом, и начал откатываться. И в том отступлении виделась Григорию рассветная заря будущего светлого дня победы. Пусть до нее еще далеко, но она уже видна. Видна в том, что наши части движутся вперед.
У Григория Кульги свои счеты с захватчиками. Он рубил топором, разбивал немецкие снарядные ящики, складывал горкой пахнущие смолистым духом щепки, которые тут же относили в баньку, смотрел на них и улыбался, думая свою радостную думу. Позавчера освободили город Лугу. А отсюда рукой подать до Струг Красных. Милые его сердцу Струги Красные! Сколько раз они снились ему за долгие годы войны! Даже не верилось, что ему выпадет такое солдатское счастье — воевать на этом направлении. Освобождать близкую сердцу землю, знакомые и памятные места, где до войны начинал он свою службу, обучался управлять тяжелой и грозной боевой машиной, где тренировался в спортивном зале, отрабатывая на кожаных мешках комбинации боксерских приемов и серий. Как давно, как недавно это было в его жизни! Где они, его друзья-товарищи по сборной команде боксеров, кто из них уцелел в огненном вихре войны? Где они, его товарищи-однополчане, уцелели ли, выжили, на каком участке фронта сражаются? А командиры-наставники? Старший лейтенант Черкасов погиб в сорок первом, в танковом бою на подступах к Пскову, где наши танки приняли неравный бой, преградив путь немецким боевым машинам. Капитан Сорокин стал подполковником, потерял руку, служит военпредом на уральском танковом заводе… А остальные? Разметала всех военная судьба. И Кульге она нелегкая досталась. Сколько пришлось перенести невзгод — перенес. Сколько пришлось выдержать боев — выдержал. И в танке горел, и по льду озера переводил тяжелую машину, и подбивали, и из окружения выходил, и был ранен не раз, и наградами его не обходили, и звание младшего лейтенанта присвоили. Все было в его судьбе. Но главное — выжил, уцелел. И вот он здесь, на ставшей родной и близкой ленинградской земле, в тех же самых памятных местах, где начал войну. И впереди — Струги Красные… Эх, как же они тогда сплоховали, в те полынно-горькие первые месяцы, неумело воюя! Сейчас бы они иначе себя повели, похлеще давали бы сдачи. Конечно, только бы с нынешней боевой техникой. Той самой, сегодняшней, которой тогда, в те печальные дни, так ощутимо, до жуткости не хватало. Страшно вспомнить. А может быть, немцы тогда, два года назад, были другие, покрепче нынешних? Это как сказать. Нынешние, они тоже не размазни, палец в рот не клади, отхватят с рукой. Жаркий конец зимы получился, огневое пекло с морозом. А в сердце — весна. А впереди — Струги Красные, а там и Псков, и за ним Прибалтика, а далее сама Германия… Далековато до нее, окаянной, но ничего, одолеем километры, дойдем. Раз начали, обязательно дойдем! Такой уж есть русский человек, остановить его, если разойдется, никакому другому народу не удастся.
И, как бы ставя точку своим мыслям, Григорий одним ударом топора разрубил толстую корягу. Та обнажила свое покрасневшее нутро. Григорий улыбнулся, радуясь ловкому удару. Хорошо! Еще одну сейчас раскокает для полного порядка. Но не успел. К баньке спешил стрелок-радист Юстас Бимбурас:
— Товарищ командир! Товарищ командир!
Юстас парень толковый. В бою не горячится, выдержку имеет. И рация у него всегда в полном порядке. В Ленинграде учился, студент. Правда, всего один курс довелось закончить — война помешала. Эвакуировали его вместе с институтом, а он в тылу не усидел, обучился на радиста и пошел добровольцем. У него тоже свои счеты с немцами.
— Товарищ командир, «летучка» прикатила!
Техническую службу ожидали с ночи, когда прибыли в эту деревушку на краткий отдых. Но, видать, ремонтники в соседнем батальоне подзадержались. Григорий отложил топор. Крикнул за полог брезента, закрывавшего дверной проем, откуда пахнуло жарким паром:
— Галя, кончай! «Летучка» приехала!
— Я сейчас, по-быстрому, — отозвалась Мингашева. — А ты сам?
— Потом, — отмахнулся Кульга и поспешил за Юстасом, который широкими шагами торопился к «летучке» — грузовику с фанерной будкой на весь кузов.
Ремонтники из подвижной танкоремонтной мастерской знали свое дело. С виду они вроде бы и не спешили, а на самом-то деле не теряли зря и минуты. Как врачи, делали обход боевых машин. Подкатят прямиком к «тридцатьчетверке» — и вот уже слышно, как деловито застучали молотки, заклацало железо. Ремонтники деловито оказывали помощь каждой машине. На одной исправили неполадки, «заштопали» раны, на другой заменили детали, третью снабдили запасными частями. А специалист по дизельным моторам сержант Чукин, человек длинный и тощий, в роговых очках на худом лице, словно врач, внимательно осматривал и выслушивал «сердце» каждой «тридцатьчетверки».
Авторитет у Чукина высок. Редко кто усомнится в его диагнозе. Если сказал Чукин — делай, как он велел. Мастер с большим опытом. И многие танки живы именно благодаря Чукину, который быстро вернул их в строй.
Когда подошел черед осматривать «тридцатьчетверку» Кульги, механик-водитель Галия Мингашева была уже на своем месте, стояла около танка рядом с командиром. Правда, нижнее белье надеть не успела, его только постирали и спешно сушили горячими утюгами. Но верхняя одежда была на ней по всей форме. Только из-под шлема выбилась прядка влажных волос.
Кульга, поприветствовав техника-лейтенанта, высказал свои просьбы и пожелания. Из «летучки» проворно выскочили два парня, лет по шестнадцати, у них на темных форменных ватных куртках синели петлицы ремесленного училища. Следом за ними, держась за скобу, по ступенькам сошел и «бог моторов» Чукин.
— Здравия желаю, — хрипло приветствовал он Кульгу и весь экипаж. С Мингашевой поздоровался отдельно, за руку. — Ну, красавица, как воюется?
Чукин знал, что Мингашева была на военном танковом заводе испытателем машин, и относился к ней уважительно и по-отцовски заботливо. Ставил ее в пример другим, повторяя, что Мингашева хоть и девка, а мотор понимает, нутром чувствует, не запарит его, не перегрузит понапрасну, следит за ним с любовью и лаской, дай бог каждому другому.
— Ну, что у тебя? — устало спросил Чукин, заглядывая через стекла очков в моторное отделение.
Мингашева видела, что у старого механика глаза в красных прожилках, лицо землистого цвета, морщины изрезали щеки. Затяжная усталость, бесконечная работа без отдыха и сна. Ей стало жаль этого пожилого и доброго человека. Не хотелось его ничем тревожить, взваливать на него новую заботу. Но так думала она лишь какое-то мгновение, потом взяла себя в руки. Мотор есть мотор, и она своими силами ничего сделать не может. Нужна помощь ремонтников. И вслух перечислила свои соображения, называя детали машинного «сердца», на которые в первую очередь надо обратить внимание.
— Заведи, — велел Чукин, — послушаем.
Глава вторая
1
Марина Рубцова не смогла отказаться от приглашения приятельницы «посидеть у камина и выпить чашечку кофе». Она дважды вежливо отказалась, как принято у бельгийцев, сославшись на вечную занятость женщины, зная, что за приглашением кроется целый ритуал, утвердившийся в этой стране. Ни в коем случае, если даже вы и желаете принять приглашение, нельзя сразу же отвечать, как везде принято: «С большим удовольствием». Нужна выдержка, благородный отказ, ибо в противном случае можно сразу же потерять многое в глазах знакомых. Следуя этому общепринятому среди бельгийцев «хорошему тону», Марина и в третий раз отказалась, ласково проговорив в телефонную трубку:
— Я вам очень признательна, мадам Ван дер Графт, очень признательна, но, право же, не стоит затрудняться…
С Ивонной Ван дер Графт она познакомилась месяц назад в антверпенском зоопарке. Зоопарк крупнейший в стране, и антверпенцы по праву гордятся им. Здесь всегда, в любое время года, многолюдно. Приходят целыми семьями. Простаивают часами возле любимых животных, которых называют «своими». В зоопарке много редчайших птиц и зверей, особенно представителей африканской фауны: бельгийские колонии в Африке весьма обширны и богаты.
Марине Рубцовой приглянулся обыкновенный российский бурый медведь, родной косолапый, неуклюжий Мишка, доверчивый и ласковый, хотя на табличке о нем было предостерегающе указано, что это «грозный и хищный хозяин сибирской тайги». Марина приносила своему Мишке сладости, и тот, склонив голову набок, ласково смотрел на нее, протягивая сквозь прутья решетки мохнатую лапу с жесткой мозолистой, темной до синевы ладошкой и со сломанными когтями на двух первых пальцах. Заполучив сладости, Мишка тут же отправлял их в рот, жевал и в знак благодарности наклонялся, кивая головой. Забавно так кланялся. И смотрел прямо в глаза. Тоскливо смотрел. У Марины замирало что-то под сердцем. Ей казалось, что косолапый узнавал ее, свою соотечественницу, и тоскливо ждал от нее родного русского слова. И у нее замирали на кончике языка простые и родные русские фразы, готовые сорваться.
Марина незаметно привязалась к бурому медведю. Чуть ли не каждую неделю приходила она в зоопарк. Косолапый был живой частицей далекой Родины. Он казался ей близким и родным существом. Глядя на Мишку, она мысленно переносилась в Москву, на Цветной бульвар, в столичный цирк, в котором часто бывала и видела точно таких же медведей, смеялась и хлопала в ладоши, когда мишки, получив сладости, неуклюже кланялись зрителям, кивая головами…
Возле клетки редко кто останавливался, ибо бурый медведь ничем особенно не выделялся, был рядовым обитателем крупного зоопарка и, естественно, не мог соперничать ни с полосатыми красавцами тиграми, ни с гривастыми львами, привезенными сюда из джунглей Африки и далекой Индии. Марине казалось, что она одна понимает косолапого и он по-своему, по-звериному, предан ей. Но каково же было ее разочарование, когда однажды она увидела, что возле клетки бурого медведя стоит высокая блондинка средних лет в модном сером плаще, дает Мишке конфеты и тот, встав на задние лапы, принимает сладости, сует их прямо в обертках в свою пасть и, склонив голову, почтительно кланяется.
Блондинка приходила еще и еще, Марина невольно встречалась с ней у клетки медведя. Сначала они обменивались взглядами, как бы приветствуя друг друга, потом, незаметно привыкнув, стали более общительными. Иногда блондинка приводила в зоопарк мальчика лет шести, живого и порывистого. Бурый медведь ему нравился, и он смело клал зверю в лапу конфеты и при этом озорно смеялся, веснушки на его лице светились рыжими золотинками. Мальчика звали Шарль, Марине было приятно гладить его по курчавой светлой голове, чувствуя под пальцами шелковистые волосы. Женщины незаметно сблизились.
У Марины не было в большом и многолюдном Антверпене ни одного близкого человека, она жила по строгим законам конспирации, держалась со всеми ровно и на дистанции, почтительно-холодно, жила, как улитка, замкнувшись в своей меблированной квартире, ничем не интересуясь и не увлекаясь, сторонясь и мужчин и женщин. Избрав однажды себе такую роль, она и придерживалась ее, не отступая от принятого стандарта ни на йоту. Так было удобнее и для жизни в чужом мире, и для ее опасной работы. Это Марина хорошо усвоила на своем личном опыте за годы жизни вдали от Родины. Чем меньше знакомых, тем меньше шансов на провал. Знакомство располагает к дружбе, к близости, к откровенности, а это именно и опасно, ибо в такие минуты человек на какое-то мгновение может забыть о своей роли, забыть об осторожности, случайно проговориться, выдать себя какой-нибудь незначительной мелочью. И Марина, общительная по натуре, держала себя, как она сама говорила, в «крепкой узде», помня напутствие: «Разведчик бережет себя сам».
А у медвежьей клетки Марина сделала отступление от своего правила, от своей заповеди, пошла на контакт с совершенно незнакомым ей человеком. Дома, обдумывая прожитый день, Марина корила себя за несдержанность. Ей не следовало бы заводить знакомства, хотя она и понимала, что Ивонна Ван дер Графт, так звали блондинку, никакой, в сущности, опасности представлять не может, что она такая же одинокая женщина, только еще и с ребенком, а муж ее служит где-то в далекой африканской колонии, которая не занята немцами, и по этой вполне понятной причине он еще долгое время, до изгнания оккупантов из Бельгии, не появится в Антверпене.
В лице Ивонны Ван дер Графт она встретила, как иногда принято говорить, «родственную душу». Женщины потянулись друг к другу. Нашлись общие темы для разговоров. Впрочем, им не так уж были и нужны эти темы, скорее, наоборот, важно было просто встретить сочувствие и понимание со стороны другого человека и тем самым хоть как-то утвердиться в своих собственных глазах.
Марина уже давно ощущала свое глухое одиночество. И подспудно подкрадывался страх за будущее. Марина просыпалась среди ночи от малейшего постороннего звука, долго не могла уснуть, затаившись, лежала с открытыми глазами и тревожно вслушивалась в гулкую тишину, ожидая резких и звучных — у гестаповцев всегда хорошая обувь, с подковками на каблуках — шагов на лестнице, требовательного стука в дверь. И рукой лезла под подушку, как бы проверяя, на месте ли ее оружие, маленький пистолет, и ладонью грела никелированную рукоятку. Этот бельгийский браунинг ей подарил Андрей, тот самый, который привез ее сюда из Брюсселя, доставил ей рацию. Одним словом, вернул к жизни из небытия. Он же, как она догадывалась, присылал ей деньги на жизнь, оплачивал квартиру, хотя больше она ни разу не видела русского Андре. Но во всей ее жизни чувствовалась его властная командирская рука. Он дирижировал ее нелегкой «игрой», помогая вжиться в новую обстановку, в новую роль. Андрей вывел ее и на нашего боксера, и у Марины изболелось сердце, потому что она, сама не зная как, вдруг стала даже понимать этот самый бокс, о котором еще не так давно думать не думала и смотрела на него не как на спорт, а как на тупую, грубую драку, разрешенную законной властью на потеху толпе. Марина теперь переживала каждый поединок Игоря Миклашевского, который, на ее счастье, одолевал своих грозных соперников и оказывался победителем. И она радовалась его успехам на ринге, как радовалась победным вестям с Восточного фронта, где наша армия, громя фашистов, уже выходила к государственной границе, подходила к Германии, катясь неумолимой огненной волной возмездия. Близился победный конец войны. И она, Марина Рубцова, приближала день великого торжества, посылая в эфир, в Центр, шифрованные радиограммы.
А осенью вдруг все оборвалось, как будто бы кто-то невидимый одним махом обрезал все нити, связывавшие Марину с ее товарищами по работе. Перестали поступать донесения. Шло время, а тайник оставался пустым, и в запасном ничего не лежало. Перестали приходить денежные переводы. А потом исчез и боксер. Как в воду канул. Исчез внезапно, без следа. Словно его в Бельгии никогда и не было. Старые афиши посрывали, а на их место наклеили новые, с другими фамилиями. Но она уже не ходила на эти боксерские матчи, хотя пыталась себя заставить пойти. Она стала бояться бокса. Ибо он у нее отнял, поглотил Миклашевского. А может быть, и не он, вернее всего, что не он, но так или иначе, а внезапное исчезновение Игоря прямо или косвенно было связанно с этим самым боксом. Дыхание войны доносилось и сюда, в довольно сносную и сытую бельгийскую жизнь. Ганса убили у нее на глазах, и Марину спасла чистая случайность. Вальтер погиб, защищаясь до последнего патрона, дав ей возможность не только отстучать шифровку, разбить рацию, но и спастись. Она не видела, как он погиб, и не хотелось верить словам Андре, что Вальтера наградили орденом посмертно. А теперь исчез боксер, третий человек, связанный с ней по работе. И она снова одна. Без связи, без своих. И почти без средств. На запросы в Центр приходил один и тот же короткий, односложный ответ: «Ждите». А сколько времени ждать? Неделю, месяц? На эти вопросы никто ей не мог дать ответа. Если надо ждать, она будет ждать, чего бы ей это ни стоило. Только где-то под сердцем у нее поселился страх. Лишь случайное знакомство с Ивонной Ван дер Графт, беседы и встречи в зоопарке в какой-то мере хоть немного снимали постоянную напряженность. С Ивонной ей было легко, как с подругой.
Но от приглашения выпить чашечку кофе Марина отказалась, вернее, делала все возможное, чтобы отказаться от посещения дома Ван дер Графтов, расположенного где-то на окраине города, но отказаться так, чтобы соблюсти и принятые нормы вежливости, и не охладить установившиеся между ними дружественные отношения. Марине, честно говоря, нравилось быть в обществе Ивонны, беседовать с ней, этой образованной и умной женщиной. Да и с ее белокурым мальчуганом Шарлем у Марины, мечтавшей о своих будущих детях, завязалась самая настоящая дружба.
— А Шарль вас так ждет, так ждет, — произнесла Ивонна Ван дер Графт, добавляя, что на этот приятный вечер у нее имеется натуральный кофе в зернах, а не суррогат, да еще и круг настоящей деревенской колбасы.
Марине ничего другого не оставалось, как, высказав благодарность, принять приглашение.
— Но я приду только на одну минуточку, и, пожалуйста, ничем не стесняйте себя, ничего не готовьте!
2
Дом, вернее, вилла Ван дер Графтов находилась не на краю города, а в пригороде, в той южной стороне, где много зеленых насаждений, напоминающих естественные кусочки леса, некогда росшего здесь по всей округе. Сейчас это были ухоженные зеленые массивы, расчлененные линиями заборов, прорезанные асфальтовыми дорогами, по бокам которых возвышались двух-трехэтажные строения, близкие чем-то между собой в общих чертах и размерах, но разные по замысловатым фасадам, формам крыш, всевозможным вариациям с окнами и дверьми, крылечками, парадными лестницами, цветными и белыми стеклами, сложенные из разных по цвету кирпичей — красных, желтых, белесо-серых, темно-коричневых…
Далеко отсюда льется на фронтах кровь, а здесь летом благоухают цветы на клумбах, ласкают глаз подстриженные газоны, поют птички, а зимой — расчищен снег, цветы укрыты, кусты подстрижены. Здесь войны не чувствовалось.
Вилла Ван дер Графтов была построена под старину, уже входившую в моду. У калитки висел старый уличный фонарь со вставленной внутри электрической лампочкой, возле ворот лежали, вернее, были прислонены к бетонным столбикам, отлитым в виде древесных стволов и окрашенных в буро-зеленый цвет, два больших, массивных, окованных толстыми обручами колеса от крупной старинной повозки. За калиткой начиналась дорожка, выложенная настоящим булыжником, которая вела к вилле, сложенной из красного кирпича, фасад выдержан в строгих пропорциях старинного дома, над черепичной крышей гордо вздымался выкованный из железа петух. Дорожка вела и дальше вокруг дома, к гаражу, амбару, крытым соломой, за ними росли садовые деревья, дальше, вроде декораций на сцене, вставали темно-зеленые ели, и между ними, как белые черточки, тянулись серебристые березки.
Марина с цветами для хозяйки и коробкой конфет для сына пришла с опозданием. Ивонна в однотонном нарядном платье, поверх которого кокетливо повязан ажурный передничек, встретила гостью обворожительной улыбкой.
— Как я рада видеть вас в нашей деревенской обители!
— А я чуть было не прошла мимо этого рыцарского замка, и только название улицы и номер на калитке заставили меня войти внутрь усадьбы, — ответила Марина, как бы принимая условия игры и отдавая дань восхищения внешнему облику виллы.
— Вам нравится?
— Очень!.. — призналась Марина искренне. — Здесь так чудесно! Такой свежий воздух, не то что в дымном городе. Особенно сейчас, в зимние месяцы, когда в каждой квартире жгут уголь, и дым, представляете, висит над крышами настоящей тучей. Здесь у вас не дышишь, а буквально пьешь чистый лесной воздух.
— Если вы не очень утомились дорогой, то, может быть, мы сначала прогуляемся по нашей усадьбе? — предложила Ивонна, довольная искренним восхищением гостьи. — Только, пожалуйста, не обращайте внимания на хозяйственные неполадки, я здесь одна, живу третий год без мужа. А при нем здесь все блестело, всюду был полный порядок.
Вдвоем они обошли просторный участок, все осмотрели. Марине все понравилось, она это и высказала вслух. Ивонна с нескрываемой гордостью называла возраст и сорта фруктовых деревьев, словно она сама все это высаживала и за всем ухаживала своими холеными руками. Кусты подстрижены, крепенькие деревья аккуратно подбелены, трава на лужайке перед домом, чуть припорошенная снежком, приятно ласкала взгляд влажной зеленью.
Марина смотрела на эту чужую красоту и вспоминала свою дачу под Москвой, в Голицыне. Вернее, не дачу, а дом бабушки — старый, потемневший от времени сруб, с тремя окнами на улицу. Вспоминала густой чертополох, одичавшую, запущенную малину, грядки с клубникой и разлапистые старые, с потрескавшейся корой яблони, на которые она, Марина, лихо залезала, срывая кремнисто-твердые плоды, кислые до оскомины, но почему-то казавшиеся удивительно вкусными. Почему-то сейчас вспомнилось, что в ту предвоенную весну, когда последний раз Марина побывала у бабушки на даче, буйно цвели яблони и все вокруг будто плавало в бело-розовой пене. Бабушка поведала ей свой «секрет урожая»: она в ведре воды размешивала стакан меду и, макая туда чистый веник, обрызгивала пахучей сладковатой жидкостью цветущие деревья. «Пчелки медок издали учуют, прилетят, милые, взяток брать, а заодно и яблонькам помогут оплодиться, — говорила бабушка внучке. — Запоминай, милая, и без меня вот так будешь обрызгивать». Жива ли бабушка? Целы ли деревья?.. И словно бы издалека донесся голос Ивонны Ван дер Графт:
— А теперь давайте зайдем в нашу виллу. Прошу вас, вот сюда, через парадный вход.
Марина смотрела на Ивонну, как бы узнавая ее. Воспоминания сразу улетучились. Марина улыбнулась, возвращаясь в свою роль.
— Как у вас тут чудесно!
— Прошу вас, дорогая, заходите.
Заходить в дом Марине почему-то не очень хотелось. Какое-то смутное предчувствие останавливало ее. Казалось, что там, внутри этого красивого особняка, рухнет все очарование, что там, внутри, ее ждет опасность. Она даже пожалела, что приняла приглашение и приехала. Предчувствие шевельнулось где-то глубоко под сердцем, игольчато кольнув холодком, заставляя быть осторожной. Или ей это только показалось? Живя в постоянном страхе, невольно видишь опасность всюду. «Трусиха я, трусиха, — мельком подумала Марина, успокаивая себя. — Всего боюсь. Скоро от собственной тени стану шарахаться». Во дворе было так хорошо, так приятно свежо. Хотелось еще немного побыть на воздухе. Но Ивонна уже открыла перед гостьей парадную дверь.
— Надеюсь, дорогая, вам понравилось у нас.
Марине действительно понравилось, если не сказать больше. Она не первый год живет за границей, казалось, должна привыкнуть ко всему. Жила и в столице, в роскошных гостиницах, снимала меблированные комнаты, познала и бедность, видела, одним словом, многое. Но в частном доме была впервые. На вилле Ван дер Графтов ей бросились в глаза не роскошь, не богатство, которые были как-то приглушены, а отшлифованная до мельчайших нюансов целесообразность каждого предмета, тонкая продуманность каждой комнаты, которые делают жизнь в таком доме приятной. И это ощущение не покидало ее все время. Она как бы открывала для себя новый мир, такой нужный и необходимый любой женщине, мечтающей о своем гнездышке, о своей семье.
Она все обошла, осмотрела. В просторном салоне висели картины в золоченых рамах, стояли удобные кресла, обитые красной кожей, стол с витыми ножками и обрамленный белым мрамором камин. Все располагало к уюту, отдыху. В столовой — строгая мебель. Три спальни, и каждая оборудована в своем стиле. Цвет стен приятно гармонировал с цветом мебели. Широкие двуспальные кровати. Мягкие ковры. В каждой спальне имелось еще по одной двери. Второй выход? Нет, как оказалось, двери вели в ванные. У каждой спальни своя ванная комната: розовая, голубая, бледно-зеленая. Горячая и холодная вода. Зеркала, в которых можно осмотреть себя во весь рост. В продолговатых нишах — набор всевозможных ароматных жидкостей, шампуней, мазей, кремов. У Марины захватило дух. Нет, она не завидовала. Только сказала себе, что это нажито не своим трудом. И стало как-то спокойнее на душе. И все равно невольно сознавалась самой себе, что пожить в таком доме не отказалась бы. Хотя бы одну недельку.
Из детской комнаты Шарль, не отступавший от Марины ни на шаг, потащил ее вверх по лестнице на мансарду, в «папину морскую кабину». Мансарда была отделана под каюту, а может быть, под капитанскую рубку. Впереди — широкое полукруглое окно, с боков — круглые, как на корабле. На стенах — морские карты, небольшой медный колокол, штормовой фонарь, большой бинокль, за стеклом в шкафу — толстые фолианты в кожаных переплетах с золотым тиснением, крупные бело-розовые раковины, высушенные морские звезды, крабы. На вешалке — слегка поношенная непромокаемая куртка-зюйдвестка, словно хозяин, вернувшись с работы, снял ее совсем недавно со своего плеча.
— Вы, наверное, проголодались, идемте скорее на кухню, — сказала Ивонна. — В мое царство.
— Что вы, я совсем не голодна, я хорошо пообедала. Но взглянуть на кухню не откажусь.
В кухне имелись все те предметы, которые Марина видела в универсальных магазинах, — навесные шкафы, разделочные столы, сушилки для посуды. Белоснежная газовая плита с блестящими ручками, духовым шкафом со стеклянной дверцей, сквозь которую можно видеть, как печется пирог, и следить за термометром, стрелка которого показывает температуру внутри. Ярко раскрашенная эмалированная кухонная утварь: кастрюли и кастрюльки, сковородки, тазы, миски… Одним словом, хозяйка кухни владела целым богатством. В универсальном магазине Марина около этих предметов не задерживалась, потому что цены на них были, как она считала, «безбожными».
Марину привлекла полка, на которой стояли шеренгой фарфоровые горшочки, расписанные цветочками и сердечками, в которых хранились различные пряности и специи, о чем можно было судить по надписям. С нескрываемым восхищением она смотрела на горшочки и следила, как Ивонна, словно жонглируя ими, брала то один, то другой, открывала крышечку, доставала ложечкой содержимое, подмешивая в соус, который готовился на плите и распространял такой аромат, что текли слюнки.
К удивлению Марины, сынишка Ивонны не обращал никакого внимания на вкусные запахи, с аппетитом съел свою простую детскую еду, запил стаканом молока с «пистолетом» — так он назвал белую хрустящую булочку, которую, как знала Марина, едят обычно по воскресеньям в домашнем кругу за чашкой кофе, вернувшись из костела. И, попрощавшись, удалился в свою комнату, чтобы приготовиться ко сну.
— Шарль растет настоящим мужчиной, — с гордостью сказала Ивонна.
— Он у вас прелесть, — ответила Марина, думая о поведении мальчика: «Что это — дисциплина или воспитание? Покорность или обычная норма поведения?»
Ивонна включила свет над столом. На длинном шнуре с потолка свисал красный абажур, и вспыхнувшая лампочка освещала лишь центр стола, создавая вокруг полумрак, приятную интимную обстановку.
В маленьких рюмочках заалело густое сладкое вино. Поджаренная деревенская колбаса оказалась действительно очень вкусной от всевозможных специй и пряностей.
— Еще по глоточку вина, я полагаю, дорогая, вы не откажетесь?
— Благодарю вас, вино чудесное, но мне надо поспеть на девятичасовой автобус, — ответила Марина.
Ей стало не по себе. Хмель сразу вылетел из головы. Марина чуть было не чокнулась по русскому обычаю. Сама не помнит, как ей удалось удержать свою руку. А здесь лишь поднимают рюмки и никогда не сдвигают их. Как бы она оправдывалась? «Надо скорее уходить», — решила Марина.
Но Ивонна затеяла варить кофе. Зашумела электрическая кофемолка, распространяя густой сладкий аромат натурального кофе. Коричневые, прожаренные зерна за прозрачным колпачком превращались в темную муку.
Весело болтая о разных пустяках, женщины выпили по чашечке кофе и по глоточку французского апельсинового ликера. Марина встала, собираясь откланяться, Ивонна искренне и удивленно спросила:
— Вы хотите оставить меня так рано?
— Через пятнадцать минут мой автобус, — возразила робко Марина.
— Не волнуйтесь, автобусы еще будут. Они ходят в город каждые полчаса, — Ивонна достала из шкафа высокую бутылку. — Отведайте и бананового ликера, его мой муж очень любит.
— Если только чуть-чуть, одну капельку, чтобы кончик языка смочить, — согласилась Марина.
После кофе Ивонна целых полчаса показывала диапозитивы, снятые еще до войны, когда она отдыхала с мужем в Италии, и Марина высказывала свое восхищение и природой, и архитектурой, и ласковым синим морем.
3
Ивонна Ван дер Графт, накинув на плечи шубку, проводила Марину до остановки. Несмотря на все возражения, она подождала вместе с Мариной рейсовый автобус, усадила гостью и поцеловала на прощание:
— Я так рада, что вы посетили мое гнездышко, скрасили мое одиночество.
— Я вам так благодарна за чудесный вечер, это был настоящий праздник для меня, — ответила искренне Марина.
Автобус тронулся, Марина прижалась к стеклу, в синих сумерках видела Ивонну, которая помахала рукой.
«В сущности, она неплохая, — решила Марина, — только не надо с ней сближаться, надо быть на дистанции».
А Ивонна Ван дер Графт, вернувшись домой, не снимая шубки, прошла в гостиную. Сняла телефонную трубку, набрала номер.
— Макс, это ты?
— Да, я, — ответил мужской голос и в свою очередь спросил:
— Была?
— Да.
— Ну и как?
— В общем, ничего.
— Ничего не заметила?
— Нет. Обычная средняя женщина. Ведет себя скромно и доверительно просто. Мне кажется, что напрасно мы все это затеяли…
— Что тебе кажется, нас не интересует, — оборвал ее Макс. — У нас свои интересы к этой особе. — И добавил тоном приказа: — Продолжай укреплять связь и будь повнимательней. Нас интересуют любые мелочи.
Ивонна Ван дер Графт сотрудничала с германской службой безопасности. Ее завербовали в первые месяцы оккупации.
Глава третья
1
Сквозь гул голосов, свист и треск нежданно и властно раздался короткий певучий звук медного гонга, извещавшего об окончании последнего раунда. Судья на ринге — седовласый, худощавый, жилистый берлинец с чуть выпуклыми глазами — громко выкрикнул «брэк!» и, решительно действуя руками, разнял боксеров, расталкивая их по углам.
Смуглый, лоснящийся от пота курчавый грек, шатаясь, как пьяный, выставив вперед руки в пухлых перчатках, пересек ринг, ткнулся в свой угол и навалился всем телом на жесткую подушку. Тренер, бритый наголо, невысокий, шустрый, выдавил ему на голову всю влагу из крупной губки, макнул ее в ведро и стал обтирать боксера, что-то отрывисто выкрикивая. Лишь по мимике его можно было догадаться, что тренер явно не одобряет поведение на ринге своего подопечного.
Игорь Миклашевский, уставший, тяжело дышал, хватая раскрытым ртом воздух, стоял в своем углу и ощущал желанно ласковую прохладу мокрого мохнатого полотенца, которым Карл Бунцоль водил по шее, лицу, затылку, приговаривая: «Гут! Гут! Карошо!»
Бой сложился не очень удачно, быстрой победы, как рассчитывал Миклашевский, не получилось, хотя в первом же раунде Игорю дважды удавалось точным ударом бросить противника на брезент. Оба раза казалось, что грек не встанет, пролежит до окончания счета, но он находил в себе силы и поднимался, принимал боевую стойку, упрямо шел вперед, выставив длинные, как жерди, руки в коричневых потертых перчатках. Вести поединок с ним было очень неудобно, к тому же, как выяснилось в последующем раунде, грек был скрытым левшою, он хитро стоял в обычной левосторонней стойке и умело пользовался своим преимуществом, осыпая Миклашевского градом встречных прямых ударов левой. Лишь к последнему раунду Игорь смог к нему приспособиться, перехитрил и снова точным ударом по подбородку послал на брезент. Но и на этот раз жилистый живучий грек вскочил при счете «восемь» и, подбадриваемый выкриками из зала, яростно ринулся на русского. Игорь не успел отклониться и принял на подставленные перчатки град ударов, сблизился, вошел в ближний бой, но здесь юркий и весьма опытный соперник его опять перехитрил, пошел на клинч, обхватил Игоря, связав движения, не давая бить себя, и буквально повис на нем. Цепко держась, грек в то же время весь расслабился, заставил Миклашевского таскать его на себе по рингу, неудобного и тяжелого, как мешок с песком, пока судья их не разнял. Но это уже был конец боя.
— Зер гут! Карашо! — повторил Карл Бунцоль, обтирая влажным полотенцем грудь боксера. — Гут!
Бунцоль в общем остался доволен поединком, хотя и сложился он явно не по намеченному плану. Опытный старый мастер понимал, что главное сделано — победа достигнута и, следовательно, выход в полуфинал обеспечен.
Оставалось ждать решения судей, и они оба, Миклашевский и тренер, выжидательно следили за судьей на ринге.
Рефери некоторое время стоял в нейтральном углу, спиной к зрительному залу, который все еще продолжал глухо клокотать. Потом вынул из кармана расческу, старательно причесал волосы и после этого обошел боковых судей, принимая от них судейские записки. Рефери сам быстро почел их, определяя победителя, хотя ему и так было ясно, что бой выиграл русский, и, перегнувшись через верхний канат ринга, протянул записки тучному краснолицему полковнику вермахта, возглавлявшему жюри боксерского турнира.
Рядом с ним за столом, накрытым плотной зеленой материей, небрежно сидели на мягких стульях с высокими спинками два человека, один — в черной эсэсовской форме с Железным крестом на груди, второй — в штатском костюме. Кто они и кого представляют, Миклашевский не знал. Слышал от Бунцоля, что тот, в штатском, крупный спортивный деятель. Карл встречал его в Берлине.
Полковник, чмокая губами, не спеша просмотрел судейские записки, показал их своим соседям, потом кивнул рефери, как бы говоря: объявляй!
Судья быстрыми шагами пересек ринг, подошел к Миклашевскому, взяв боксера за кисть, вывел на середину и рывком поднял вверх руку с перчаткой, крикнул по-немецки, путая имя и фамилию Игоря:
— Победил солдат остлегиона Иван Миклашанофский!
Зал ответил одобрительным топотом, аплодисментами, выкриками, свистом, приветствуя победителя и справедливое решение судей. Бунцоль, улыбаясь публике, заботливо набросил на плечи боксера халат, обмотал шею полотенцем.
В раздевалке, тесной артистической уборной, Карл развязал тесемки, стянул с Миклашевского побитые боксерские перчатки, бросил их на узкий длинный туалетный столик. Перчатки сразу отразились в зеркале, словно на столике лежали две пары. Зеркало, вставленное в стену, было обрамлено красивой лепной рамкой.
Миклашевский опустился в мягкое плюшевое кресло, откинулся на спинку, устало закрыл глаза. Ничего не хотелось делать. Ни смотреть, ни разговаривать, ни двигаться. Просто не было сил. Неудачно сложившийся поединок с греческим боксером вымотал его, превратил в мочалку, и даже победа не радовала, не приносила сладкого успокоения. Игорь чувствовал, как по щекам стекали капли пота. Во рту стояла неприятная горьковатая сухость. Сейчас бы стакан воды, холодной, освежающей! Выпил бы единым махом и несколько стаканов. Но пить после боя нельзя. Надо перетерпеть. Можно лишь сполоснуть рот. А встать, подойти к крану у Игоря не было сил. Он так хорошо устроился в мягком кресле, от которого пахло какими-то сладковато-терпкими духами и еще чем-то иным, легким, воздушным, до боли знакомым с раннего детства. И на миг ему показалось, что нет никакого чужого острокрышего Лейпцига, этого оперного театра, в котором гитлеровцы организовали шумный боксерский чемпионат «всей союзной Европы», а есть только родная Москва, милый и знакомый с детства Камерный театр, и мама взяла его с собой на свою «проклятую работу», потому что мальчика не с кем оставить дома, хотя и в театре ему не место. И сидит он в мамином кресле, забравшись в него с ногами, в небольшой маминой артистической комнатке, где на диване разбросаны ее платья, на полу стоят в корзинах старые, привядшие, и свежие букеты цветов, а на туалетном столике, за которым во всю длину вставало зеркало, лежат разные таинственные мамины флакончики, баночки, коробочки, кисточки… Он не любил эту комнату, здесь мама о нем, о своем сынишке, почти забывала, делалась другой, неразговорчивой, строгой, да и вся она как-то менялась у него на глазах. Надевала на голову парик, мазала лицо странными красками и, словно по волшебству, превращалась в старую-старую Бабу-ягу или становилась неловкой девушкой из деревни…
Где-то за стеной послышался знакомый шум, похожий на далекий рокот грома, его Игорь давно напряженно ждал, жадно прислушиваясь к каждому шороху за дверью. Он хорошо знал, что рокот означал конец маминой «проклятой работы», которую она почему-то любила и не желала менять ни на какую иную, чтобы жить, «как все нормальные люди», вечерами быть дома и вовремя укладывать сынишку в постель. Сейчас, после грома, послышатся знакомые торопливые шаги в коридоре, застучат каблучки, распахнется дверь, и в комнату, словно теплый ветер, влетит мама, радостно возбужденная, счастливая. Она кинется к сыну, будет его тормошить, целовать, говорить разные ласковые слова…
И в коридоре действительно послышались шаги, распахнулась дверь. Миклашевский не пошевелился, не открыл глаза. Он только вслушивался, ожидая чуда. Но чуда не произошло. В комнату вместе с вошедшим влетели чужие запахи табачного дыма и кислого пива. Живые воспоминания улетучились. Остро заныло под сердцем: как они там, в России, и мама, и жена, и его сынишка? Живы ли?
— Победил итальянец. Он — твой завтрашний противник. Чисто работает! Поймал на апперкот правой. Шаг в сторону и удар снизу в живот. Не сладко, скажу тебе. Это у него, у итальяшки, коронный такой ударчик, — в уши Игоря врывался голос Карла Бунцоля, чем-то похожий своей интонацией на голос Анатолия Генриховича Зомберга, ленинградского тренера Миклашевского.
Миклашевский посмотрел на тренера: ему надо теперь возвращаться в суровую действительность, быть не тем, кем он есть на самом деле, выполнять мамину «проклятую работу» артиста, только не на сцене, а в самой настоящей жизни, без грима, без чужих волос, без заранее выученных и отработанных фраз.
— Вставай, нечего валяться! Я тебе сейчас покажу, как этот макаронник проводит свой апперкотик. Карл Бунцоль умеет фотографировать глазами получше любого аппарата. Ничего особенного, вроде обычный такой удар снизу. Но цепляет, как длинным крючком. Попадешься — сразу конец, даже пикнуть не успеешь. Не удар, а бронебойный снаряд!
Бунцоль, сбросив пиджак, остался в тренировочном костюме. Встал перед зеркалом в боевую позицию, подражая итальянцу. И, следя за каждым своим движением, как бы мысленно сопоставляя и повторяя движения, увиденные в бою, тренер шагнул правой ногой вперед и чуть в сторону, одновременно с поворотом туловища перенося вес тела на правую ногу, и нанес снизу вверх длинный крючкообразный удар, тот самый апперкот, который помог итальянцу добиться убедительной победы и выйти в полуфинал.
— Ахтунг! Внимание! Смотри, еще раз покажу.
Миклашевский уже был другим. Внимательным и сосредоточенным. Зорко следил за каждым движением тренера.
Тот медленно повторил движение тела и удар. Игорь чуть улыбнулся: знакомый! В институте физкультуры, в Москве, еще до войны разучивал этот самый удар на тренировках, вернее, на учебных занятиях в тренировочном зале. Константин Васильевич Градополов, которого уважительно называли профессором ринга, гонял до седьмого пота, требуя слитности, непрерывности при движении вперед и нанесении удара. И тогда этот самый апперкот получал взрывную силу. У Миклашевского он выходил неплохо, однако в боевых действиях на ринге Игорь применял его весьма редко. И не только из-за сложности, а скорее из-за рискованности: боксер слишком открывался для соперника. Иными словами, эта комбинация таила в себе и опасность: можно было мгновенно схватить ответного леща, хлесткого бокового в голову, которую невольно открываешь.
Миклашевский вспомнил и свой последний поединок перед самой войной на первенство Ленинграда. Иван Запорожский, чемпион Балтийского флота, тогда хлестко бил этим самым апперкотом, кажется, тоже с шагом вперед и переносом веса тела. Давно это было, так давно, что даже не верится, что было. И Игорь поймал его на ударе, опередил на какую-то сотую долю секунды. В последнем, третьем раунде. Опередил коротким, без замаха, своим встречным. Неужели и итальянец своей манерой боксировать чем-то похож на балтийца?
— Я думаю, что надо сначала защищаться вот так, — Бунцоль показал, как надо раскрытой перчаткой ловить апперкот, защищая свой живот, оберегая солнечное сплетение, и повелел: — Давай попробуем. — Он старался говорить медленно, чтобы ученик лучше понимал его: этот русский оказался способным и к языкам!
Карл Бунцоль атаковал, медленно нанося удар, а Миклашевский защищался, подставляя раскрытую ладонь, схваченную бинтами, которые он еще не успел снять после боя.
— Гут! Карошо!
Карл Бунцоль словно забыл о возрасте, молодо прыгал, вернее, скользил на носочках вокруг Миклашевского, беспрерывно нанося атакующий удар снизу. Седые волосы растрепались, в глазах растаяли льдинки, появилась теплота. Убедившись, что у Миклашевского хорошо получается защита, он доверительно показал еще один вариант нейтрализации опасного апперкота, чисто профессиональный: надо под удар подставлять не раскрытую перчатку, а выставленный, словно пика, локоть.
— Давай, ты атакуй, а я покажу, как работать локтем.
Игорю не надо было объяснять дважды. Он сразу понял, какую коварную особенность, хотя внешне и вполне законную, допустимую правилами, таит в себе такая «защита». Точно подставленный острый локоть — надо уметь поймать летящий удар на острие угла! — почти стопроцентная гарантия того, что кисть соперника, вернее, его рука, до конца поединка выйдет из строя. В профессиональном боксе все приемы хороши, если они ведут к победе. А Бунцоль, сам в прошлом неплохой боксер, хорошо знал тонкости профессионального спорта, охотно раскрывал их секреты русскому. «Самому бы не попасться на такую защиту, — подумал Миклашевский, работая локтем, — а то нарвешься, как на мину, и пиши пропало».
— Зер гут, — похвалил Бунцоль, — утром отработаем на мешке.
За окном синел поздний январский вечер. Еще один день вычеркнут из жизни. «Бесполезный день». А такими «бесполезными» считал он каждый прожитый день, который не приносил пользу его воюющей Родине, не помогал одолевать врага. Почти год дела шли хорошо, относительно хорошо, как оценивал сам Миклашевский, потому что роль, отведенную ему, не очень-то можно считать активной. Скорее наоборот. «Можно было меня и не вытаскивать с фронта, можно было бы послать и женщину, знающую язык», — думал он иногда с огорчением.
Осенью и такая «работка» кончилась. Где-то оборвалась связующая нитка. Миклашевский оказался предоставленным самому себе. А тут еще и боксерские турниры навалились. Сначала в Пруссии, а теперь здесь, в Лейпциге. Чуть ли не чемпионат Европы. Было видно, что потери на Восточном фронте, гигантские поражения и крупные отступления гитлеровцы пытаются как-то умалить, затушевать в глазах своих сограждан шумными спортивными мероприятиями. О них передавали по радио, много писали газеты. Но они мало кого вводили в заблуждение. Германия как-то сразу притихла, ожидая неминуемой расплаты, которая огненной волной двигалась с востока.
2
Лиза Миклашевская сидела на табурете возле детской кроватки и плакала, опустив руки на колени. Плакала от своего бессилия и беспомощности. Она не знала, что ей еще сделать, как помочь Андрюшке. Сын метался в жару. Сбрасывал одеяло, что-то бессвязно бормотал, просил пить…
Лиза еще с вечера, когда спешила домой по заснеженной улице, сердцем почуяла беду. Она возвращалась поздно, усталая, еле передвигала ноги. Холодный колючий ветер качал ее, как былинку. После обеда их, конторщиц, снова, как и вчера, «бросили на погрузку». Пришли вагоны, много вагонов, и бригады грузчиц не в силах были перетаскать тяжелые ящики со снарядами и уложить их… А мороз за двадцать, да еще ветер…
Открыв калитку, Лиза ахнула. У порога, возле запертых дверей, приткнувшись к косяку, словно нахохленный воробей, коченел Андрюшка.
— Ой, что же это? Как же так? — всплеснула руками Лиза, подбегая к сыну. — Ты почему здесь, а не у бабы Кати?
— Уш-шел… уш-шел я, — Андрюшка не мог унять дрожь, прижимался к матери. — Уш-шел, и-и все…
Баба Катя — соседка, низенькая, худенькая, ей восьмой десяток идет, но она еще и подвижная, только в последнее время заметно сдавать стала, после того дня, как пришла похоронка на единственного сына, на Николая. Сноха на завод устроилась, Марфа Харитоновна в свою бригаду взяла. А за внуками она, баба Катя, присматривает. Двое школьников, а третий, Васька, чуть-чуть старше Андрюшки, Лиза Миклашевская и договорилась с бабой Катей, чтобы она и за Андрюшкой приглядывала. И вот, на тебе, такое случилось…
— Да как же ты ушел, а? — Лиза ввела Андрюшку в дом, стала стягивать с него варежки, развязывать заледенелый шарф. — Ну, что молчишь?
Андрюшка сопел, стягивая пальто.
— Мы с ним рассорились…
— А может, и подрались? — допытывалась мать, оглядывая лицо сына.
— И подрались тоже.
— Ой, горе ты мое, горе горькое! — вздохнула Лиза, растирая шарфом окоченевшие руки и щеки Андрюшки. — Что ж вы не поделили?
— Он у меня карандаш сломал, — всхлипывая, рассказал Андрюшка, — который с одной стороны синий, а с другой красный…
Лиза слушала сына, а сама думала о том, что скорее надо печь затопить, а то в доме выстужено, и похлебку сварить: до смерти есть хочется, и еще постирать бы успеть хоть немного, хоть Андрюшкины рубашки. И тут она, раздевая сына, обнаружила, что штаны его мокрые, обледенелые чуть ли не до пояса, в валенках сплошная сырость.
— Когда ж ты успел, а? В снегу валялся, что ли?
— Не, ма!.. Я на горке катался, на рогоже.
Она знала, что значит «кататься на рогоже». Это почти одно и то же, что и ни на чем.
— Что ж ты, горе мое, санки не взял?
— Мы ж с Васькой рассорились, я и не хотел возвращаться, — признался Андрюшка.
— А что штаны до дыр протрешь, ты не подумал? Где я тебе новые возьму, а?
— Папка с фронта привезет, — серьезно ответил Андрюшка.
— А ты соскучился по папке? — тихо спросила Лиза, прощая сыну все.
— Давно, очень соскучился!
— И я тоже… Давно и очень, очень…
Лиза обняла Андрюшку, прижала его к себе, замерла. Когда же они свидятся, когда? Сухость перехватила горло, она вытерла рукой набежавшую слезу. Хоть письмецо бы, хоть весточку подал. Ни слуху ни духу. С тех летних радостных дней, когда приходил капитан с подарками и краткой телеграммой, прошло больше года. Ей все так же выдавали паек и деньги по его аттестату. «Значит, живой. Значит, воюет где-то в тылу, партизанит. А я тут изнываю, изболелась вся в тоске и неизвестности. Милый мой, родной и единственный! Как тяжело без тебя, как скучно и тяжко жить, хотя кругом хорошие уральские люди, приютившие нас, эвакуированных. Скорее бы добили гадов проклятых фашистских, да домой вернуться, в столицу-матушку. В комнату свою, где и отопление паровое, и вода из крана, носить из колодца не надо».
Сырые дрова разгорались плохо, печь дымила. Лиза дула на слабый огонь, глотая прогорклый угар, слезы сами текли из глаз, оставляя на щеке влажные следы. А она сама — как заведенная, и откуда только силы брались. Вскоре и печь полыхала, и Андрюшкина одежда сушилась, и в кастрюльке булькала похлебка, и вода для стирки грелась.
Лиза перевела дух, взглянула на часы, довольная, скупо улыбнулась: она быстро управилась. Теперь Андрюшку накормить да уложить надо, на скорую руку простирнуть, и сама может завалиться в постель, которая тянет к себе, как магнитная. Наступит ли такое счастливое время, когда сможет выспаться вволю?.. Мечтательно вздохнула. Будет, конечно, только верится с трудом. И вдруг насторожилась: что-то Андрюшка ее притих?
Сын устроился на табурете, прислонившись спиной к печке. Был он какой-то странно вялый, глаза потухшие, а щеки необычно пунцовые, словно их снегом натерли. Вдруг Лиза услышала слабый голос Андрюшки:
— Ма, дай пальто, а то мне холодно… Мне холодно…
Лиза как взглянула на него, так и обмерла. У нее где-то внутри полыхнуло обжигающим холодом. Она все поняла и на какое-то мгновение даже растерялась. Заболел! Схватил простуду! Только этого им сейчас не хватало.
— Холодно, ма… Холодно. Укрой меня…
Лиза приложила ладонь ко лбу сына. Лоб полыхал жаром. Сунула градусник под мышку и не поверила своим глазам — тридцать девять с половиной.
— Так я и знала! Так я и знала, — горестно произнесла Лиза, торопливо вытаскивая ящик комода и разыскивая там в коробочках остатки припасенных лекарств. — Добром это не кончится…
Она сунула Андрюшке в рот горькие таблетки, заставила пить горячий, обжигающий чай. Потом уложила в кровать, укутала одеялом.
— Спи теперь. Закрой глазки и усни, миленький мой, да поскорее.
К полуночи Андрюшке стало совсем плохо. Он метался в жару, бредил. А Лиза растерялась. Она оказалась бессильной помочь сыну. Ни лекарства, ни компрессы, обычные испытанные домашние средства, не помогали. Она не знала, что ей делать. Лиза опустилась на табурет возле кроватки сына и горестно заплакала… Сначала тихонько, сдерживаясь, а потом уже в полный голос:
— Когда же кончатся мучения наши… Когда-а?!.
3
Марфа Харитоновна пришла ночью. Загрузили все вагоны, отправили на фронт «гостинцы» для фашистов. Потом забежала она на часок к сыну своему Федору, который с осени, после шумной и скромной по застолью свадьбы, жил у Антонины. Мать ее поболела и померла, получив похоронную на своего мужа. Брат пропал без вести. Федор и переселился к жене. Только и дома он почти не бывает, сутками не выходит с завода. В сборочном цехе он, на главном конвейере, где танки собирают. И Антонину из материнской бригады увел, теперь она вместе с Федором в том же сборочном трудится. Вот Марфа Харитоновна после своей смены забегает к невестке в пустой дом, протопит печку, сварит чего-нибудь и сама заодно поест. Так было и сегодня.
— Что это у нас за концерт московских артистов-солистов? — спросила она, стаскивая с головы мужскую шапку-ушанку и развязывая платок.
Лиза не унималась. С глухими рыданиями она пошла навстречу и уткнулась в грудь Марфы Харитоновны, в ее холодный стеганый ватник, густо пропитанный машинным маслом и железной окалиной.
Марфа Харитоновна по-матерински обняла ее, провела ладонью по волосам:
— Ну, будя, будя… Угомонись, дочка…
Потом, словно ее резанули под сердце, Марфа Харитоновна сразу насторожилась, подобралась. Предчувствуя недоброе, она взяла своими огрубевшими мозолистыми руками Лизу за щеки, подняла голову, заглянула в глаза:
— Неуж и ты получила… С черной меткой бумагу?..
Лиза отрицательно замотала головой, продолжая всхлипывать. У Марфы Харитоновны отлегло от сердца. «Живой, значится, муж ейный». Она продолжала держать лицо Лизы в своих ладонях.
— Так что ж приключилося, скажи, не мучь слезами?
Лиза указала на кроватку сына.
— Андрюшка… Горит весь…
— Дык что ж ты раскисла, язви тебя в душу и печенки? — Марфа Харитоновна посуровела, оттолкнула Лизу, прикрикнула на нее: — Что ж ты панику распускаешь? Чичас же прекратить мокрый концерт, говорю я тебе!
— Врача… Врача надо срочно…
— Мы и сами кой-чиво умеем, — ответила Марфа Харитоновна, стаскивая с ног латаные валенки.
Она подошла к кроватке, наклонилась к Андрюше. Лиза замерла в ожидании.
— Не нравится мне дыхание, простуду схватил, — сказала авторитетно Марфа Харитоновна. — Надоть помочь парняге.
Марфа Харитоновна взяла лампу, унесла ее с собой. Раскрыла шкаф, задвигала посудой, переставляя флакончики и завязанные в тряпочку засушенные травки, семена, коренья. Она долго искала нужное лекарство, бормоча про себя разные ругательные слова в адрес «приставшей болячки».
— Нашла окаянную, нашла чекушку, думала, совсем запропастилась она. — И обратилась к Лизе: — Ну что ты застыла? Тарелку давай. Нет, блюдечка хватит. Давай блюдечко.
В комнате резко запахло скипидаром. Смешав его с конопляным маслом, Марфа Харитоновна долго и тщательно натирала Андрюшку. Спину, бока, грудь. И приговаривала:
— Потерпи маленько, счас полегчает… Полегчает… Мы хворь твою выгоним, выгоним…
Марфа Харитоновна выдохлась, умолкла. Укутала детские ноги старой, изъеденной молью пуховой шалью, накрыла поверх одеяла его полушубком. Андрюшка лежал притихший. Вскоре засопел.
— Уснул касатик. Теперича до завтрева будет спать крепко. Федька мой, ишо меньше был, в прорубь угодил. Принесли его мокрого, как курицу. Тож так натерла спинку, и грудку, и ноги. И отошел, через день опять бегал. А Андрюшка твой тож парень крепкий, почти нашенский, уральский.
Марфа Харитоновна устало прислонилась к печной трубе, отогревая спину. Лиза взяла блюдце, в котором еще находилась пахучая смесь.
— А это куда слить?
— Эх, Лизонька, спина у меня заревматизила, прямо дыхнуть не дает, — произнесла виновато Марфа Харитоновна и попросила: — Будь ласкова, потри ее, а то я завтра и не подымусь.
— Конечно, конечно, — охотно согласилась Лиза, не зная, как отблагодарить хозяйку.
Глава четвертая
1
Позади осталась Плюсса. От нее до Стругов Красных по прямой менее трех десятков километров. Но Григорию Кульге не суждено было штурмовать этот городок. Его обошли с востока, используя проселочные дороги, гати на болотах, нацеливаясь на Псков. Танковый батальон, в котором служил Кульга, был на самом острие клина наших наступающих войск. У него была четко определенная командованием задача: не ввязываться в затяжные бои, а смело врезаться в глубину обороны противника, наводить панику, уничтожать тылы и вести непрерывную разведку.
Танкистам помогали партизаны. Они выделяли опытных проводников, чтобы скрытно, обходя опасные трясины, продвигаться вперед по лесным чащобам. Погода стояла мерзкая. То морозы, то метели, то вдруг наступала весенняя оттепель, снег раскисал, лед терял устойчивость, и танки буквально ползли, утопая по самое днище в месиве снега и грязи. Тылы отставали, доставка горючего и боеприпасов происходила с перебоями.
Так было и сейчас. Батальон расположился в лесу. Столетние сосны стройными красноватыми мачтами тянулись вверх, в небо, держа там зеленые зонты пушистой хвойной кроны. На поляне стоит ель-красавица, завернулась в пуховую снежную шаль. За елью, надвинув снежную шапку по самые окна, приютилась избушка лесника. Война прошла стороной, но и здесь побывали оккупанты. Стекла в окнах выбиты, двери сорваны с петель, имущество разграблено.
Танкисты входили в избу, молча смотрели, стягивали шлемы и, хмурые, возвращались к своим машинам. Галия прижалась к плечу Григория, закусив варежку. Она на фронте видела всякое. Смерть и разрушения. Кровь и слезы. Разлагающиеся трупы и разорванные взрывами куски человеческих тел, раздавленных танками и повешенных. Казалось, что уж ко всему притерпелась…
Здесь, в небольшой горнице, в углу у окна, примостился стол. На нем возвышалась молодая елочка, обвешанная самодеятельными бумажными игрушками. Вместо деда-мороза стояла полинялая кукла-матрешка с приклеенной ватной бородой. За елкой на тесаных бревнах стены следы автоматных пуль. Стреляли по желтым любительским семейным фотографиям. На полу возле стола — разбросанные, раздавленные сапогами самодельные тряпочные куклы, битая посуда, перевернутая табуретка — все густо обсыпано перьями распотрошенной подушки. У печки, на которой краснели щербатины от пуль, неловко прислонившись боком, обняв руками ребенка, словно пытаясь его защитить своим телом, скорчившись, застыла нестарая женщина с седыми волосами. На ногах — носки из грубой пестрой шерсти, а сверху — стертые глубокие калоши, подвязанные веревками. Тут же, на полу, немного откатившись, валялся моток такой же шерсти, спицы из ржавой проволоки, воткнутые в начатый детский носок. Голова женщины, повязанная ситцевым линялым платком, вся в кровавых сгустках. Ее, видимо, били прикладами.
Ребенок, истощенный, крохотный, обхватил женщину ручонками и навечно застыл с расширенными от ужаса голубыми глазами и раскрытым ротиком. У него на худенькой спине, на вылинялой клетчатой рубашонке — запекшаяся кровь. Следы автоматных очередей. Полоснули крест-накрест.
— За что же их, Гриша, а? — прошептала побелевшими губами Мингашева.
— Искали, наверное, партизан.
— Каратели, — глухо произнес сержант Илья Щетилин, командир танкового орудия. — Их работка. У-у, га-ады!
Он стоял за спиною у Кульги, в расстегнутом потрепанном полушубке, шапка-ушанка сдвинута на затылок, видны светлые, как солома, прямые волосы.
Юстас, бледный как мел, комкал в руках снятую шапку. На его худощавом продолговатом лице легли складки. Угрюмо сдвинулись брови. Слеза скатилась по щеке, оставляя след.
— Как моя… Марите, сестренка младшая… Ее тоже нет уже…
Юстас вытер кулаком глаза, размазав влагу по щеке, длинно вздохнул. Илья Щетилин стянул с головы свою ушанку и, тронув Юстаса за руку, спросил сочувственно:
— Сестренку твою… фрицы?
— Они самые. Бомбили город… Прямое попадание в дом. Ничего не осталось… И мать и сестренка сразу… Даже хоронить нечего было.
Угрюмо смотрели танкисты на женщину и ребенка, на новогоднюю елку с самодельными бумажными игрушками, на простреленные фотографии.
Щетилин в сенцах нашел лопату. Юстас принес свою, с короткой ручкой. Кульга тоже взял лопату. Но подошедшие танкисты, давно в душе возненавидевшие эту надоевшую за войну работу, отобрали ее у младшего лейтенанта.
— Мы сами, товарищ командир, сами управимся…
Промерзлая земля поддавалась трудно. Щель вырыли не особенно глубокую. Положили женщину и ребенка головами в сторону восхода. Мингашева накрыла их лица детским пальтишком, и танкисты принялись лопатами осторожно кидать землю, словно боясь, что мерзлые комья могут причинить мертвым боль. Невысокий бугорок плашмя прихлопали лопатами, подровняли могилку.
Постояли, обнажив головы.
Где-то вдалеке, за лесом, тихо опускалось к закату неяркое февральское солнце, и по снегу от высоких сосен легли длинные синие тени. Звонко стучал дятел, выбивая бесконечную морзянку, состоящую из одних сплошных точек. Стайка синичек прилетела на ель. А через минуту, чего-то испугавшись, птички шумно вспорхнули, стряхнув с веток снежный водопад. Высоко в небе проплыли двухмоторные пикирующие бомбардировщики с красными звездами на крыльях. Самолеты ушли в сторону заката.
2
Наконец-то из-за поворота проселочной дороги выплыли одна, а за ней еще две грузовые машины. Их сразу узнали. Первым двигался, уверенно урча, побитый, поцарапанный осколками, но все еще сохранявший свой первоначальный франтоватый вид, американский «форд», подвозивший боеприпасы. А за ним, на дистанции, катили два массивных зеленых новых «студебеккера», в их объемистых кузовах рядами стояли темные железные бочки с горючим.
— Едут, родимые!
Танкисты сразу повеселели.
У «студебеккеров» открыли задние борта, поставили широкие доски и стали осторожно, поддерживая с двух сторон, скатывать железные бочки, наполненные соляркой.
А «форд», лихо лавируя по разбитой танковыми траками дороге, подкатывал к каждой «тридцатьчетверке» и на несколько минут замирал. Старшина Колобродько, пожилой вислоусый запорожец в замызганной ватной стеганке, перепоясанный кожаным командирским ремнем довоенной выделки, со звездой на пряжке, отмечал в своей книжке огрызком химического карандаша, записывая цифры негнущимися задеревеневшими на холоде пальцами, и потом отпускал каждому положенный боекомплект. Танкисты сами сгружали ящики со снарядами, пулеметными лентами и патронами для автоматов.
Григорий Кульга, получив свою норму, вскочил на подножку грузовика и, заглянув в кузов, присвистнул. Боеприпасов было много. Значит, надо запасаться впрок. И подмигнул снабженцу:
— Жмотничаешь, земляк?
— Та мени ни жалко, товарищ младшой лейтенант! Я ж по норме выдаю, як положено, — равнодушно ответил пожилой запорожец, привыкший к подобным просьбам, и как бы между прочим с уважением подчеркивая новое воинское звание, которое было недавно присвоено Кульге.
— Будь человеком, прибавь еще хоть ящик снарядов!
— Куда ж ще? Бильше ни войде в твою машину, товарищ младшой лейтенант.
— Не твоя, земляк, забота. Для снарядов всегда найдем местечко, — и Кульга добавил многозначительно: — Надо ж нам, земляк, дорогу пробиваты на ридну Вкраину, чи ни надо?
И артснабженец Колобродько, и командир танка Кульга хорошо знали, что части их ведут наступление далеко не на Украину, а в сторону древнего русского города Пскова, а там наверняка пойдут в Прибалтику. Тут, как говорится, и слепому видно. Но оба понимали, что, чем скорее добьются они успеха здесь, на своем участке фронта, тем легче будет в какой-то мере нашим войскам, которые ведут наступательные бои на юге, на Украине.
— Вот ты, Григорий, завсегда так. Все посверх нормы просишь. То горючего подбрось, то снарядов добавь… Прямо с ножом к сердцу пристаешь. Давай, и только! А у мэнэ ж душа не собачья, а чоловичья, хотя и на казенной военной службе, — сказал артснабженец и закончил коротким деловым тоном: — Хай буде по-твоему. Бери, Гриша, да поскорийше.
— Спасибо, батько!
Кульга легко подхватил тяжелый снарядный ящик и передал Илье Щетилину:
— Загружай скорее!
3
Темп наступления нарастал.
Прорвав оборону противника, далеко вклинившись в нее, наши войска продолжали расширять и углублять этот самый клин в направлении Пскова, преодолевая яростное сопротивление гитлеровцев. Танковый батальон капитана Шагина, обходя укрепленные районы, все дальше и дальше забирался в глубь вражеского тыла. Партизаны, хорошо знающие местность, помогали танкистам появляться в самых неожиданных для врагов местах.
…На рассвете танки Шагина внезапно ворвались в небольшую деревеньку. Окруженная с северной стороны полукольцом укреплений, сооруженных из бетона, бревен и земли, она считалась приличным тылом. Здесь, естественно, никак не ожидали появления русских танков, да еще с южной стороны, иными словами, со стороны глубокого тыла, со стороны Пскова, где расквартировался не только штаб армии, но и штаб группы армий «Норд».
Еще вчера вечером гитлеровцы чувствовали себя в Цапельке полными хозяевами. Офицеры местного гарнизона шумно отметили день рождения своего начальника, который к тому же получил накануне из рук самого генерал-фельдмаршала боевую награду — Железный крест за успешную борьбу, как сказано в приказе, «с бандитскими бандами партизан», а на самом деле за жестокое обращение с мирным населением, за массовые казни ни в чем не виновных людей, главным образом женщин, стариков и детей. Впрочем, прыщеватый двадцатипятилетний майор не был уж таким тупым и глупым солдафоном, как могло бы показаться. Он действовал с обдуманной жестокостью, стремясь очистить, как потом прочитали в его дневнике, «жизненное пространство от славянских и еврейских элементов для вечного счастливого торжества расы чистокровных арийцев, торжества великой Германской империи».
Но и сам на этом «жизненном пространстве» не смог удержаться.
Партизаны, те самые, за успешную борьбу с которыми он получил Железный крест, ворвались в Цапельку вместе с танкистами. В окна домов, где квартировали гитлеровцы, полетели гранаты. Уцелевшие офицеры рейха выскакивали с поднятыми руками и перекошенными от страха лицами. Влетела граната и в комнату, где спал после попойки прыщеватый майор. Он не слышал, как тонко дзинькнули разбитые стекла. Но взрыв оглушил его и сбросил с теплой кровати. Однако майор уцелел. Его спас дубовый стол. Граната взорвалась под ним, и он, словно щит, и принял на себя все осколки.
Перепуганный насмерть «очиститель жизненного пространства», мгновенно отрезвевший, пулей выскочил на улицу, на вьюжный морозный ветер, босиком и в тонком шелковом нижнем белье, забыв и меховую обувь, и мундир с новым орденом, и личное оружие. Только убежать ему далеко не удалось. Возмездие свершилось. Автоматная очередь настигла его. И майор рухнул лицом вниз, широко раскинув руки.
В пылу атаки никто не обратил внимания на убитого немца, выбежавшего под партизанские пули в нижнем белье. Не один он в тот яростный час нашел смерть под меткими пулями. Их было много. И солдат, и офицеров. А те, что уцелели, тряслись от мороза и жуткого страха, жались к стенам домов с поднятыми руками. Иные цепляли на палки нательные рубахи и размахивали ими наподобие белых флагов.
Все произошло быстро. Пальба прекратилась так же внезапно, как и началась. Только слышались в притихшей Цапельке выкрики команд, стоны раненых да рокот моторов. А через минуту, заслышав русскую речь, из подвалов, из землянок, вырытых на огородах, из ям, в которых еще недавно хранили картофель, из развалин стали выбираться уцелевшие жители. Что тут началось! И слезы, и крики радости, и рвущиеся из сердца слова благодарности…
— Наши пришли! Наши!!
Мальчишки, ошалелые от радости, носились как угорелые, лезли на танки, помогали собирать оружие, сновали среди партизан. Девушки и женщины, уцелевшие от угона в Германию, со слезами на глазах обнимали, целовали бойцов и партизан. Седая женщина в чиненых валенках, в старом легком пальтишке, в сбитом набок сером дырявом платке стояла на углу, держась за выступ стены, и осеняла крестным знамением и танкистов, и партизан, и боевые машины, шепча беззубым ртом слова молитвы.
Пленных тем временем группами и в одиночку сгоняли на площадь, где около кирпичного дома, бывшей конторы совхоза, на широкой потемневшей перекладине висели казненные. Их было пятеро. Седой щуплый старик с всклокоченной заледенелой бороденкой, запорошенной снегом, двое пожилых мужчин в промасленных железнодорожных спецовках, молодая рослая, полногрудая женщина и вихрастый мальчишка лет тринадцати. Все были босые, со следами пыток, с кровоподтеками на лицах. У женщины, почти обнаженной, на посинелом замерзшем теле темными длинными рубцами синели следы ударов, а на левой груди виднелись большие широкие раны. Выступившая алая кровь так и застыла темными рубиновыми капельками. У каждого висела на груди фанерка, на которой черными буквами было выведено: «Партизан». Старик и парнишка были свои, местные, а мужчины и девушка — никому не известные, поговаривали, что они разведчики, засланные из осажденного Ленинграда.
Пленные, стараясь не глядеть на казненных, отводили глаза, кучно топтались, жались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Над ними струился чуть заметный пар.
Капитан Шагин, расстелив на броне танка карту, водил по ней пальцем и что-то пояснял командиру партизанского отряда, человеку высокорослому, богатырского сложения, с русой подстриженной бородкой. Тот согласно кивал, а сам все искоса поглядывал на сани, в которые складывали трофейные немецкие винтовки, автоматы, тесаки. Отдельно клали гранаты с длинными деревянными ручками. Оружия в отряде маловато, а тут сразу столько привалило! Молодые партизаны, с автоматами на груди, весело переговаривались, толпились вокруг саней.
«Тридцатьчетверка» Кульги стояла чуть в стороне, на краю площади, возле кирпичных развалин. Галия, открыв люк, сухими глазами смотрела на повешенных. Они тихо качались под напором ветра. Галия еще не остыла от боя. Еще видела перед глазами вздыбленную разрывами землю, дым и пламя горящих бронетранспортеров, грузовиков, скрежет раздавленных пушек, бегущих, падающих вражеских солдат… И теперь перед нею чуть покачивались заледенелые трупы казненных. Мингашева закусила губу, чувствуя, как тает в груди радость победы, а на смену приходит горькое ощущение собственной вины, словно именно она запоздала, задержалась, прикатила на танке слишком поздно и не успела, не вызволила их. А они, наверное, ждали и надеялись до самого последнего мгновения. Редкие колючие снежинки падали на разгоряченное лицо Мингашевой и тут же таяли.
— Не успели, — грустно произнесла она.
Из-за развалин к площади торопливо бежала женщина, словно боялась опоздать. Без платка, русые волосы всклокочены, космами развевались у нее за спиной. Лицо у нее было какое-то странное, черное, костлявое и тяжелое, словно отлитое из чугуна, только глаза воспаленно, неестественно блестели. Она бежала широко, по-мужски, стремительно врезалась в толпу, и местные жители как-то спешно перед ней расступались.
Женщина, не меняя шага, свернула к повешенным. Подбежав, остановилась, обхватила двумя руками ноги мальчишки, прижалась к ним лицом, и над площадью, над толпой, заглушая говор и рокот моторов, взвился ввысь ее жалобный, отчаянный крик:
— Ми-ишень-ка-а!! Мой мальчик!! Единственный!..
И вдруг она смолкла, словно где-то внутри у нее оборвалась натянутая струна. Секунду-другую смотрела невидящими глазами на жавшихся, притихших пленных, что-то пытаясь понять. Потом перевела тяжелый свой взгляд на сани, на которые горой складывали немецкое оружие.
— А-а, убийцы!..
Длинными прыжками она подскочила к саням, схватила немецкий автомат с длинным рожком. Неумело приставила его к животу, направляя дуло на пленных. Гитлеровцы в страхе отпрянули от нее, сжались, парализованно следя за женщиной.
— За Мишеньку! За кровиночку мою!..
Командир партизанского отряда рывком бросился к ней, но не успел. Грохнули выстрелы, пули веером брызнули по снегу. Один фашист сразу же упал как подкошенный, второй забился на вытоптанном снегу, выгибаясь дугой, окрашивая снег алыми пятнами. Толпа гитлеровцев, словно вспугнутая воронья стая, шумно, жалобно залопотала, кинулась врассыпную. Раненые, выкрикивая непонятные слова, отползали на карачках, спеша уползти от страшной русской.
— Стой!.. Прекратить самосуд! — кричал Шагин срывающимся голосом. — Прекратить!
А женщина, согнувшись под толчками приклада, чему-то неестественно улыбаясь, обнажая зубы, дико выкрикивала и слепо шпарила длинными очередями куда попало.
— Держите ее!..
Два партизана, опередив командира, навалились на женщину, но она устояла, вывернулась. Патроны как-то враз кончились, но она, захлебываясь в плаче, все давила и давила на спуск.
Партизаны свалили ее, вырвали уже не страшный автомат. А мать повешенного парнишки, изловчившись, выскользнула из-под них, вскочила на ноги. И, вскакивая, она успела выхватить, вернее, сорвать с пояса у одного из партизан немецкую гранату с длинной деревянной ручкой. Все сразу шарахнулись от нее в разные стороны. Свои и пленные. Женщина неумело замахнулась.
— Ложись! — раздался чей-то предостерегающий выкрик.
Многие тут же попадали, вдавливаясь в вытоптанный снег. Граната, пролетев несколько метров, шлепнулась и завертелась на гладком льдистом снегу. От нее, ползком и на четвереньках, врассыпную удирали пленные. Прошла секунда, другая. Но взрыва не последовало.
— Так граната ж у меня без запала! — вдруг вспомнив, обрадованно закричал партизан.
Женщину схватили, крепко держали, а она билась, вырывалась, голосила. Командир партизанского отряда, сбросив рукавицы, хватал пригоршнями снег и тер им ее воспаленное лицо.
— Не гоже самосуд чинить, не гоже!.. Недопустим!.. Судить их будем по всей строгости закона… Не надо так, мать, успокойся!.. Успокойся, пожалуйста!..
Женщина перестала вырываться, обмякла, озираясь вокруг воспаленными глазами. Судорожно хватала открытым ртом морозный воздух. Подбежали другие женщины, подхватили ее под руки. А мать повешенного схватилась за голову руками, снова зашлась в плаче. И женщины, державшие ее, голосили вместе с нею.
Глава пятая
1
Итальянец Пончетто был чем-то похож на бельгийца Камиля Дюмбара, по прозвищу Рыжий Тигр, с которым Миклашевский работал на ринге в позапрошлом году в Антверпене, где познакомился с нашей радисткой. И эту похожесть Миклашевский сразу уловил, едва взглянул на итальянца, хотя, казалось, внешне они были совершенно разные люди. Рыжий Тигр, любимец портовых грузчиков Антверпена, типичный северный европеец: рыжеволосый, голубоглазый, с крепким белым сильным телом. А Пончетто, наоборот, был типичным южанином — смуглолицый, с копной непокорных черных, как воронье крыло, вьющихся волос, с темными, как маслины, большими глазами, весь загорелый, словно насквозь прожаренный лучами знойного итальянского солнца. И все же между этими разными боксерами было нечто общее. Пончетто, как и Рыжий Тигр, перед началом поединка энергично двигал левым плечом, слегка касаясь своего подбородка, выбритого до синевы, пружинисто покачивался из стороны в сторону на слегка кривых жилистых ногах.
Миклашевскому сразу как-то сделалось легко и свободно, как будто бы перед ним находился давно знакомый соперник, бой с которым не таил в себе особых неожиданностей. Эту похожесть между итальянцем и Рыжим Тигром уловил и тренер. Карл Бунцоль, ладонью поглаживая Миклашевского по спине, сказал об этом, не упоминая имени бельгийца:
— Помнишь Антверпен? — и добавил: — Седьмой раунд?
Игорь кивнул. Он понял тренера. В Антверпене именно в седьмом раунде Миклашевский свалил Рыжего Тигра. Встречным справа. Ударил автоматически, послал в открывшуюся цель кулак. Даже не думал, что нокаутирует. Но удар сделал свое. Игорь запомнил удивленное выражение, промелькнувшее в глазах бельгийца. Он рухнул под ноги Миклашевскому и растянулся плашмя на ринге, не слыша возмущенного рева своих почитателей.
— Повтори и здесь, — сказал Бунцоль, продолжая ладонью поглаживать и мягко разминать мышцы спины. — Повтори седьмой раунд.
Игорь понимающе кивнул. Он мысленно уже видел рисунок боя, волнообразные броски итальянца и свои отходы с ударами.
И после гонга, едва только судья подал команду «бокс», итальянец, действительно, как и Рыжий Тигр, спрятав подбородок под высоко поднятое левое плечо, двигая полураскрытой перчаткой перед своим длинным носом, защищая его, сразу пошел в атаку. Нанося вытянутой левой быстрые жесткие прямые удары, Пончетто торопливо прощупывал защиту Миклашевского, ища в ней слабое место, готовясь к броску. Он тыкал своим кулаком, обтянутым пухлой кожаной перчаткой, в разные стороны, вверх и вниз, в голову, плечи, корпус, монотонно и быстро, как бы простукивая прочность оборонительной стены, отыскивая в ней хоть малейшую щель, куда можно было бы вогнать клин, потом расшатать его, расширив брешь, и в него, в этот проем, бросить свои основные силы. Прием не новый, но довольно успешный, проверенный многими боксерами.
Итальянец работал добросовестно, Игорь слышал, как Пончетто старался ритмично дышать. Особенно шумно тот выдыхал через нос, стараясь совмещать выдох с нанесением удара. Так же пыхтел, напоминая паровоз, в первых раундах боя и Рыжий Тигр. Игорь, легко парируя удары, чуть улыбнулся уголками губ, про себя, как бы говоря сопернику: «Давай, давай, действуй!» Но он и предположить не мог, что его короткая улыбка окажется спичкой, поднесенной к пороховой бочке.
А именно так и произошло. В темных глазах итальянца, где-то в самой глубине, как в степном колодце, куда нежданно упал луч солнца, вдруг вспыхнул огонь. Пончетто что-то выкрикнул — то ли ругательство, то ли боевой клич — и кинулся на Миклашевского. Это был не бросок и не сумбурная атака, а какой-то вихрь атак, африканский смерч, помноженный на темперамент южанина. На Миклашевского обрушился град ударов, один сильнее другого, словно на него вдруг высыпали мешок с булыжниками. Игорь вынужден был защищаться, но все равно не успевал парировать летящие кулаки итальянца, принимая их на плечи, подставленные руки, невольно ощущая напряженными мышцами их тяжелую каменную силу. А в зале, казалось, только и ждали этого вихря атак. Особенно усердствовали земляки Пончетто, солдаты итальянской дивизии, которые после переформирования и пополнения перед отправкой на Восточный фронт ненадолго остановились под Лейпцигом. Они-то и подбадривали своего боксера и топотом ног, и свистом, и аплодисментами, и выкриками. Черноусый широколицый капрал жестикулировал руками, стремясь дирижировать неуправляемым хором.
Миклашевскому было трудно. Он отступал, ощущая спиной канаты ринга, обжегшие ему спину, отскакивал, уклонялся, нырял под летящий кулак, отбивал и принимал на себя удары. А они все сыпались и сыпались, без остановки, без передышки, одним сплошным бурным потоком, прорвавшим плотину и все сокрушающим на своем пути. Его не удержать, от него нет спасения. Особенно сильными были коварные и неожиданные удары снизу, те самые апперкоты, о которых говорил Бунцоль.
Миклашевский едва успевал уворачиваться, защищаться, отвечая хлесткими встречными ударами, но итальянец, казалось, был к ним не чувствителен, и Игорь никак не мог остановить соперника, сбить бешеный натиск. Миклашевский тяжело дышал и уже подумал о том, что Пончетто не похож на Рыжего Тигра. С тем работать на ринге было легче. Итальянец и по мастерству, и по тренированности, и по опыту явно был выше бельгийца на голову. Профессионал ринга с довоенным стажем. Игорь напрасно ожидал коротких перерывов между бросками, между атаками, когда боксер делает краткую передышку, чтобы набрать в грудь побольше воздуха и снова ринуться вперед. Обычно именно в эти-то мгновения и ловил Миклашевский своих соперников, не давал им передышки и проводил свои сокрушительные серии ударов. Но на сей раз ему попался очень хорошо тренированный профессиональный боец, с отлично отработанным дыханием, сам умеющий подавлять и сокрушать. И поэтому вся надежда у Игоря была на свои ноги. На быстроту передвижения, на их пружинистую силу и выносливость. Отстреливаясь одиночными ударами, думал лишь об одном — дотянуть до конца раунда, вынырнуть из захлестнувшего водоворота атак, отдышаться, а главное, осмотреться, осмыслить весь этот губительный сумбурный натиск и найти против него действенное средство, путь к победе. О поражении он и не помышлял, как бы ему тяжело ни приходилось.
Он просто не имел права проигрывать.
Он должен победить этого итальянца и вообще выиграть весь турнир. Выиграть во что бы то ни стало! Стать бесспорным победителем. Чтобы о нем, о Миклашевском, сообщили газеты. Хоть чуть-чуть, хоть строчку, лишь бы упомянули фамилию. В этом и заключался его шанс, единственный шанс на выход к своим, на установление заново связи с Центром. Дать о себе знать. Так договаривались еще в Москве. И сейчас это было важно. Миклашевский уже несколько месяцев, можно сказать, «без работы». Связь со своими людьми как-то сразу оборвалась. Что произошло с ними, он не знает. Может быть, и самое страшное — провал… Все могло случиться. Война есть война. Может быть, в Центре, в Москве знают. И в Центре по газетам определят, что он, Миклашевский, жив, что он в строю. Миклашевский помнит напутствие полковника Ильинкова: «Наши люди тебя найдут, но и ты сам не теряй времени, дай о себе знать. Через печать. Выступи так, чтобы о тебе появилось хоть несколько строчек в газете». Так что проигрывать поединок Миклашевский не имеет никакого права. Надо выстоять и победить. Разве там, под Сталинградом, его товарищам было легче? А они не только устояли, но и одолели, опрокинули врага. Да так, что эхо прокатилось по всему миру! И в прошлом году летом под Курском… И итальянцев тоже били, от их хваленой «голубой дивизии» летели пух и перья. И от этого Пончетто должны полететь и пух и перья.
«Главное в нашем деле, как говорил Гриша Кульга, не теряться. Безвыходных положений не бывает». Шаг назад — и удар. Еще шаг — и удар. Не нравится? Еще получай!.. Бить надо встречными. Как на тренировке. Раз, два — и отход. Раз, два — и отход. Отходить с умом. Ближе к своему углу. Раунд должен же когда-нибудь кончиться! Еще шаг. Назад и в сторону. Назад и в сторону. И он прозвенел, спасительный гонг. Судья встал между боксерами, энергично разводя руки:
— Брэк!..
Пончетто, чертыхнувшись, направился в свой угол.
Игорь не сел, а плюхнулся на подставленный тренером табурет. Как хорошо, что он в своем углу! Со стороны может показаться, что боксер специально рассчитал время и в самые последние секунды оказался именно в своем углу. Что ж, пусть думают так. Игорь откинулся на жесткие подушки и, расслабившись, положил руки на канаты, хватая воздух широко раскрытым ртом. И чуть было не задохнулся. Карл Бунцоль подсунул ему в лицо полотенце, закрывая рот и нос. Игорь, мысленно ругнув тренера, возмущенно замотал головой, стремясь высвободиться. Но тут же успокоился. Карл знал свое дело. Старый боксерский волк не хотел демонстрировать, что вынужден совать своему подопечному пузырек со спасительным нашатырным спиртом. Бунцоль, едва ударил гонг, полфлакона разбрызгал на влажное полотенце и теперь как бы небрежно обтирал им лицо боксера, суя под нос те части мохнатой материи, которые густо смочены нашатырем.
— Дыши глубже… Дыши глубже… Гут, гут. Все идет хорошо, — в голосе тренера Миклашевский не уловил ноток тревоги, и это отчасти тоже успокаивало боксера.
Карл Бунцоль влажной прохладной губкой водил по затылку, а второй рукой обмахивал полотенцем, нагнетая воздух в легкие, помогая схватить побольше живительного кислорода. И как бы между прочим, как о самом обыденном деле, тренер короткими репликами анализировал ход поединка, оценивал бой.
— Он типичный агрессор, его мощь в напоре и натиске. Не принимай его темпа, не надо, — говорил Карл и тут же советовал: — А ты попробуй сам наступать. Посмотри, как он умеет работать на отходах. Сам атакуй! Не давай ему двигаться вперед. И следи за правой, за ударом снизу. Сам диктуй, будь хозяином ринга. Только вперед!..
Игорь уже иными глазами смотрел на итальянца. Бунцоль прав. Как же он сам не догадался? Задачка не такая уж сложная, вернее, задачка сложная, да решение простое. Агрессивные бойцы часто не такие грозные, когда их самих заставляют двигаться назад, или, как говорят, спиной вперед.
А в противоположном углу Пончетто, вальяжно развалившись на табурете, закинул ногу на ногу и, повернувшись, словно бы он не устал, словно у него за плечами не было трудного раунда, с улыбкою на блестевшем от пота лице о чем-то переговаривался со своим тренером. Тот лениво помахивал полотенцем где-то около головы боксера. На их лицах светилась гордая самоуверенность победителей, словно бой досрочно окончен и осталось только ждать решение судей.
2
Едва прозвучал гонг, извещающий о начале второго раунда, в темном накуренном зале кто-то удивленно крякнул, кто-то присвистнул, увидев, как русский, который еще минуту назад убегал от наседающего на него итальянца и чуть ли не тонул в вихре его ударов, сам пересек прыжками по диагонали ринг и очутился перед оторопевшим Пончетто, готовый ринуться на противника, ожидая команды судьи, который почему-то медлил и не произносил положенного сигнала. Судья, в свою очередь, не скрывая удивления, взглянул на русского, решительно застывшего в боевой стойке около угла итальянца, и, взмахнув рукой, выдохнул:
— Бокс!
Пончетто и его тренер, естественно, не ожидали таких решительных действий со стороны почти поверженного русского. Они даже и предположить не могли, что тот отважится сам идти на сближение. В глазах итальянского профессионала мелькнуло недоумение. Этот ли русский находился на ринге в первом раунде, или за перерыв его подменили другим? Пончетто узнавал и не узнавал Миклашевского. Что-то здесь неладно. Тренер подтолкнул его в плечо, как бы говоря: ну, что стоишь, работать надо!
Пончетто криво усмехнулся: мол, видали и не таких! Мгновенно сбычился, спрятав подбородок под поднятое угловатое левое плечо, и, выставив вперед левую руку, уверенно пошел на сближение, надеясь, как и в первом раунде, засыпать градом ударов, особенно ударами снизу, заставить русского снова попятиться и вытирать спиной канаты ринга.
Но русский не дрогнул, не попятился. А смело принял вызов. И на вихрь ударов ответил не менее мощным вихрем. Серией на серию, комбинацией на комбинацию. И Пончетто почувствовал, что его перчатки попадают или в воздух, или в стену, а у его соперника под пухлой кожаной перчаткой таятся не просто железные кулаки бойца, а настоящие бронебойные снаряды. Спасаясь, Пончетто рывком отскочил в сторону, стремясь оторваться от наседающего русского. Откуда только немцы его вытащили, где разыскали? У русских же нет профессионального бокса, а этот, судя по всему, из когорты профессионалов, да еще из тех, тертых-перетертых! «Задурил мне голову в первом раунде, а вот сейчас показал свое настоящее лицо. А может быть, все это и не так, может быть, мне только показалось? Чего испугался? Санта Мария, благослови и пошли удачу». Сделав финт, обманное движение корпусом, Пончетто рывком сблизился с Миклашевским и вошел в ближний бой, надеясь на свои апперкоты, мощные удары снизу, не раз приносившие ему успех. Итальянские солдаты дружно поддержали земляка.
Но Игорь был начеку. Он ждал этих ударов. Отработал с тренером защиту. Два первых поймал на подставленные раскрытые перчатки, как говорят, на ладони, последующие — отбивал, принимал на руки, закрывая ими свой живот, солнечное сплетение. Пончетто вошел в азарт. Ему показалось, что именно здесь наконец он сломит упорство русского, если в первые секунды ближнего боя тот лишь защищается. И со стороны казалось, что преимущество итальянца опять стало бесспорным. Он диктует ход боя, он владеет инициативой. Только было непонятно знатокам бокса и боковым судьям, почему же русский не уходит от невыгодного, даже губительного для него ближнего боя? Почему не спасается отходом? Шаг назад или в сторону, и ты в безопасной зоне.
— Ваня, держись! — кто-то прокричал с галерки.
На афишах, оповещающих о боксерском турнире, имени не указывали, а только звание, инициалы: «Боксмайстер И. Миклашевский, чемпион Ленинграда». Русское имя Иван сразу пристало к Игорю, и даже судьи его так называли. Итальянцы на этот одинокий русский выкрик ответили дружным хором. Они топали и скандировали:
— Пон-чет-то!.. Пон-чет-то!..
Итальянец, выставив голову вперед, чуть ли не упираясь ею в плечо Миклашевского, бил, бил и бил. Он работал руками, как заведенный автомат, безостановочно, бесконечно длинной серией, как скорострельная пушка. Расчет был прост и проверен на многочисленных соперниках. Удары по корпусу сбивают дыхание, сковывают и парализуют противника, если только тот вовремя не выскользнет из ближней дистанции, не отскочит назад. А русскому и отскакивать некуда, за спиною — канаты. Пончетто теснил Миклашевского к канатам, к своему углу. Казалось, что еще секунда-вторая, и все будет кончено.
Так действительно и произошло. Только на полу лежал Пончетто. Он свалился мягко, вернее, осел на серый брезент ринга, словно из его тела вдруг вынули железный стержень, и он потерял внутреннюю опору для всей массы жил и мышц. Все произошло так быстро, что многие ничего не поняли. Как же так? Пончетто неистово колотил русского, и этот же Пончетто опустился на пол. Что же произошло? Он сам себя нокаутировал, что ли? Удар Миклашевского видели немногие. Удар сбоку, или, как его называют на западе, хук. Короткий и точный. В тот миг, когда Пончетто слегка опустил правую руку для небольшого замаха, чтобы провести свой коронный апперкот, и открыл подбородок, в этот самый миг Миклашевский, опережая соперника, резко поворачивая корпус, послал кулак. Он промелькнул, как черная молния. В нем, в этом классическом хуке, было столько силы, столько стремительности и точности! В зале стало тихо. С галерки тот же русский голос удивленно выкрикнул:
— Вот дал!
Судья жестом указал Миклашевскому на нейтральный угол. Игорь, не оглядываясь, повиновался. Судья на ринге широко взмахнул рукой, открывая счет:
— Раз… Два… Три…
При счете «шесть» Пончетто чуть приподнялся, оперся руками о пол и удивленно уставился на судью, как будто бы не понимая, для чего тот взмахивает перед ним своей рукой. Потом, тряхнув головой, как бы сбрасывая навалившуюся на него тяжесть, быстро все понял. Истекали последние секунды счета. Едва судья выкрикнул «восемь», Пончетто, словно подброшенный пружиной, вскочил на ноги и принял боевое положение. Опытный мастер ринга знал хорошо и правила и законы бокса. Проигрывать никому не известному русскому он не хотел. Это не входило в его планы. Отнюдь не за этим он приехал из Неаполя. Годами тренированное тело снова было послушным. Болельщики дружно приветствовали Пончетто аплодисментами.
— Бокс! — подал команду судья.
Пончетто, демонстрируя свою свежесть и выносливость, очертя голову бросился в сумбурную атаку на Миклашевского. И этим облегчил русскому решение задачи. Дальнейшее было делом техники. Уклонившись от размашистого бокового удара, Игорь послал двойку, два почти спаренных прямых встречных удара: один по корпусу, по солнечному сплетению, а второй — в открытую, гладко выбритую челюсть… Но Пончетто устоял на ногах. Он не упал, хотя и на какие-то секунды потерял сознание. Это было редкое явление в боксе — стоячий нокаут. Боксер в тяжелом состоянии «гроги». Он медленно и бессмысленно двигался по рингу, опустив руки и мотая головой из стороны в сторону. Рефери, забежав спереди, перед его лицом растопыренными пальцами обеих рук показывал счет и громко выкрикивал цифры:
— …Шесть… Восемь…
Отсчитав положенные секунды, судья выдохнул убийственное слово: «Аут!» — и, подхватив боксера под мышки, слегка подталкивая его, помог добраться до своего угла. Лишь после этого он направился к Миклашевскому и небрежно поднял, как положено, руку победителя.
Зал отозвался неодобрительным ревом, свистом, топотом…
Карл Бунцоль, накинув на потные плечи Миклашевского мохнатый халат, поспешно увел его со сцены.
А в раздевалке возмущался Пончетто вместе со своим тренером. Придя в себя, наскоро обмывшись в душе, рассерженный итальянец в сопровождении тренера ворвался в комнату, где располагалось жюри боксерского турнира, и устроил шумный скандал. Пончетто, энергично жестикулируя, сыпал словами, как из пулемета, перемежая свою речь итальянскими и немецкими ругательствами. Он возмущался, негодовал, призывал в свидетели самого Всевышнего, обвинял, грозил, требовал наказать виновных. Тех самых, которые его, Пончетто, первую перчатку великой Италии, матчи которого смотрит сам дуче, посмели так подло обмануть. Он, Пончетто, этого не оставит, он добьется своего, будет жаловаться самому дуче, самому Муссолини! А могущественный дуче — первый друг фюрера, великая Италия — первый союзник великой Германии! Как же посмели немецкие друзья обмануть своего верного друга и союзника? Он, Пончетто, тренировался на своей вилле под Неаполем и готовился к трудному поединку на профессиональном ринге за титул чемпиона Европы, о котором уже разафишировано еще три месяца назад, когда вдруг к нему заявились немецкие спортивные эмиссары и пригласили на этот самый проклятый Богом паршивый турнир, обещая золотые горы наград, легкие победы над любителями. И он, размазня, поверил этим сказкам, поверил уговорам и поехал в Лейпциг. А здесь, на ринге, ему подсовывают одного профессионала за другим и, наконец, этого самого русского Ивана, профессионала из профессионалов, фамилию которого он выговорить не может, ибо она для него звучит хуже самого оскорбительного ругательства. С русскими вообще связываться опасно! Эти азиаты полны коварства. Великая Германия при самом активном содействии великой Италии не может их сломить. Русские — сплошные фанатики! Они на фронте предпочитают погибнуть, но не уступить, и на ринге — в том он, Пончетто, сегодня сам убедился — стоят насмерть, бьются не по правилам и не по законам, а судьи не смотрят, делают вид, что ничего не замечают, и даже открыто подсуживают. Где это было видано, чтобы рефери открывал счет боксеру, стоящему на обеих ногах, и засчитывал поражение нокаутом? И под конец Пончетто выпалил в самой категоричной форме свой ультиматум: если нельзя пересмотреть решение судей, то немедленно изъять из печати, из спортивных репортажей описание сегодняшнего полуфинального поединка, чтобы его имя не полоскали в грязной воде и не пострадал его высокий авторитет классного профессионального бойца накануне важного и очень ответственного поединка за звание чемпиона Европы.
3
Утром Карл Бунцоль в первом же киоске около гостиницы накупил газет, местных и центральных, сунул их небрежно в карман пальто и, немного прогулявшись по улице, с довольным видом вернулся к себе в номер. Не раздеваясь, вынул газеты и стал их просматривать. И чем больше он читал, тем мрачнее становился. В газетах ничего не было. Ни строчки. Ни о нем, ни о Миклашевском. Словно и не было второго полуфинального поединка. В пространных спортивных репортажах и коротких информациях досужие журналисты расписывали лишь первый полуфинальный бой между чемпионом Франции, парижанином Жаком Пилясом, и первой перчаткой Венгрии, будапештцем Яношем Кайди. Поединок между ними был трудным, протекал с переменным успехом в обоюдных бесконечных обменах тяжелыми ударами, и до самого конца последнего раунда ни один из боксеров в этакой «рубке» не добился значительного преимущества. Определить победителя в таком сумбурном, напряженном бою, когда оба противника равны и по силам, и по мастерству, весьма трудно, и судьи разошлись в оценках, однако большинством голосов победу присудили французу…
Бунцоль недоуменно посмотрел на газеты. Он ничего не мог понять. Что же произошло? Почему замолчали драматическую встречу между итальянцем и русским? Загадка какая-то, да и только. Карл сел и еще раз пробежал глазами заголовки газет, вчитываясь в дату. Нет, число сегодняшнее и месяц. Все правильно. В киоске ему продали свежие газеты. Он еще раз перечитал отчеты спортивных журналистов более внимательно, вчитываясь в каждую фразу, как бы прощупывая каждое слово. Даже в лейпцигской газете ни строчки. А ведь в этом городе его, Карла Бунцоля, знают и помнят. Именно здесь он начинал свою боксерскую карьеру. И вчера перед поединком Миклашевского и Пончетто с ним на эту тему беседовала симпатичная бойкая журналистка, дотошно выспрашивая о тех далеких и славных победах. Она так искренне улыбалась и обещала написать о нем, говоря, что лейпцигцам будет весьма приятно прочесть о своем прошлом кумире. Странно, но и она в своем большом, на две колонки, репортаже не упомянула ни о нем, ни о полуфинальном бое.
Карл отодвинул газеты и задумался. Тут что-то не то. Молчание прессы — плохой признак. Это он хорошо знает. Ему стало не по себе. Кто-то невидимый властно повелевает и диктует. И прессой, и его судьбой. Ему стало жарко. Он вытер пот со лба и мысленно чертыхнулся на своих берлинских друзей, которые подсунули ему этого русского. На кой черт он с ним связался?
Бунцоль нервно барабанил пальцами по столу. Что же делать? Как быть? Он чувствовал опасность. Она приближалась. Но не знал, с какой именно стороны ждать ее удара. А что удар последует, он не сомневался. Так уже было. В середине тридцатых годов, сразу же после берлинской Олимпиады. Имена тех гордых немецких спортсменов, которые демонстративно отказались приветствовать Гитлера, мгновенно исчезли со страниц газет. Потом эти парни исчезли и из жизни…
Надо что-то предпринять. Надо действовать, а не сидеть сложа руки, ожидая, когда же тебя стукнут по шее. Пальцы рук как-то сами собой стали выстукивать по столу ритм походного марша. В юности Карл был неплохим барабанщиком, в ту, в Первую мировую войну, служил в полковом оркестре. Лихо отбивал ритмы. Впрочем, не без умысла он освоил искусство игры на маленьком звонком барабане. Работа с палочками укрепляла кисти рук, неплохие дополнительные упражнения для боксера. Может быть, и они помогли ему. Все же в двадцать третьем он выиграл, вырвал победу в десятираундовом бою и получил заветный пояс чемпиона Европы. Славные были тогда времена!
Карл Бунцоль встал, сбросил пальто, раскрыл потертый кожаный чемодан, обклеенный рекламными ярлыками многих европейских гостиниц, порылся и вынул темную бутылку настоящего старого французского коньяка. Подержал ее на весу в ладони. Почти полгода Бунцоль хранил ее в чемодане, ожидая благоприятного случая распить в кругу друзей. Такие бутылки теперь редкость. Довоенного производства. Но жалеть не приходится. Завернул в газету.
Подошел к зеркалу. Оглядел себя. Провел тыльной стороной ладони по щекам. Выбрит хорошо. Костюм нормальный, рубаха чистая. Кажется, все в порядке. Подмигнул сам себе: не вешай носа, Карл!
Он стоял около зеркала, обдумывая, к кому пойти. Надо же узнать истинную причину молчания газет. Мысленно перебрал членов жюри. Главный судья? Нет, этот зажиревший боров с погонами полковника вылакает бутылку и ничего не скажет. Бунцоль знал его хорошо. Тот еще типчик! Его зам, эсэсовец, пройдоха из пройдох. Продаст в два счета. Оставался третий. Генрих Крюг. Он из Берлина. Спортивный деятель. Они знакомы. Надо идти к нему. Бунцоль напряг память, вспоминая, где и при каких обстоятельствах они были в компании, кто был рядом, по какому поводу праздновали.
Генрих Крюг был раздосадован, когда к нему в номер нежданно ввалился Карл Бунцоль. Он только собрался позавтракать. Сварил на спиртовке в алюминиевой посудине кофе. Настоящий кофе. Из своих скромных запасов. А насладиться терпким напитком не успел. Криво улыбнувшись, он вяло ответил на бодрое приветствие старого, некогда знаменитого боксера.
— А вы, друг, богато живете, — сказал Бунцоль, втягивая носом душистый густой аромат, — бьюсь об заклад, что настоящий, а не суррогат!
— Настоящий, — согласился Крюг.
— Бразильский?
— У меня друг в Рио-де-Жанейро, в посольстве.
— Хорошо же умеют люди устраиваться! — выпалил Бунцоль.
— Он тоскует по рейху, пишет, что живет, как в ссылке, — Крюг говорил тихо, внушительно, словно читал нотацию подчиненному. — А служение родине — долг каждого чистого арийца, куда бы его ни послал наш фюрер.
— Да, наш фюрер светлая голова, — согласился Бунцоль и, стремясь скорее переменить тему разговора, выставил на стол свою бутылку, завернутую в газету. — Думаю, что я угадал.
— Что это? — Крюг кивнул на посудину.
— Настоящий, французский. Двадцатилетней выдержки в подвалах. По рюмочке моего коньяка к чашечке вашего кофе. Как вы находите такое сочетание!
Бунцоль развернул газету, и Генрих увидел, как за толстым темным стеклом приятно зазолотилась жидкость. На душе у него отлегло. Бунцоль пришел вовремя. Крюг дружески улыбнулся, хлопнул сухой ладонью тренера по чугунному плечу:
— А ты, старина, все такой же! Годы тебя не берут.
— Нет, Генрих, седею. И даже лысеть начал, — Карл ловко распечатал бутылку. — Я хотел в первый же день чемпионата к тебе заявиться, да как-то не решился. Турнир еще не начался, разное могли бы подумать. Друг в жюри, поэтому, мол, и победу… Я имею в виду других тренеров. А сегодня, в день финала, решился. Теперь, как говорится, все на ладони, со всех сторон видно.
— Хороший у тебя боксер, русский этот.
— Строптивый немного.
— Ничего, ты дрессировать умеешь.
Они сидели в низких креслах, не спеша попивали из рюмок золотистый коньяк и отхлебывали из небольших фарфоровых чашек ароматный темный напиток. Молча наслаждались. Каждый в эти минуты думал о своем, а в общем — об одном и том же: что сидят в приличном номере гостиницы, пьют кофе и коньяк, как в старые довоенные времена. Карл вздохнул и сказал об этом. Генрих подтвердил и грустно добавил:
— Боюсь, старина, что эти времена уже никогда не повторятся.
— Будем всю остальную жизнь вспоминать.
— Если уцелеем, — скептически и откровенно произнес Крюг.
— Не надо мрачных мыслей, Генрих, от них сплошное несварение желудка.
— От действительности никуда не уйдешь, не спрячешься.
— Да, радостей мало впереди. Лучше и не думать, — Бунцоль снова наполнил рюмки. — Мне глупые мысли полезли в голову. Почему-то вдруг показалось, что это наш последний чемпионат.
— А на нем, как и на фронте, побеждает русский дух, — хмуро сказал Генрих.
Бунцоль понял эти слова по-своему. Намекает? И поспешно стал оправдываться:
— Миклашевский наш до мозга костей. Он из остлегиона, медалью награжден за борьбу с партизанами. А его родственник — большая шишка в министерстве пропаганды.
— Да я не о нем, а вообще сказал, — Генрих взял свою рюмку, поднес к глазам, посмотрел на золотистый напиток, покачал его, любуясь переливами света. — Красота!.. Напиток богов!.. А мы с тобой, старина, не боги. И что будет дальше, никто не знает. Что-то, конечно, будет. Но уже без нас. Давай лучше выпьем за что-нибудь хорошее.
— За вечно живой рыцарский дух древних тевтонцев! — бодро выпалил Бунцоль, как бы исподволь намекая на древность рода, к которому принадлежали и все Крюги.
— За рыцарский дух! — подхватил Генрих.
Выпили. Помолчали. Коньяк сделает свое дело, и наступит удобный момент. Карл снова взялся за бутылку, разлил в рюмки.
— За твои успехи в финале, — сказал Генрих, — хотя не очень-то нашим хочется, чтобы победил русский. Но он классный боксер и здорово отделал вонючего макаронника.
Крюг выпил и рассказал, как вчера, после боя, этот самый итальяшка вместе со своим тренером ворвался к жюри и устроил скандал, стал грозить, обещая жаловаться чуть ли не самому дуче и фюреру. Все, конечно, перетрусили, звонили в Берлин, согласовывали, а там, наверху, долго не думают, последовала команда в прессу: снять отчет о поединке.
— Утром мне звонили газетчики и чертыхались, рассказывая, как ночью в типографии вырубали из набранных полос целые куски. Заодно и ты, старина, пострадал, как тренер русского. Но ничего, дружище, завтра будешь радоваться.
У Бунцоля отлегло от сердца. Мир вокруг сразу стал светлее и просторнее.
Глава шестая
День выдался пасмурный, серый, нудный, бесконечно длинный, казалось, без утра и без вечера, с одними сплошными белесыми сумерками. Проселочная дорога, которая петляла в редколесье, вела дальше к станции, это Григорий видел, сверяя карту с местностью. Появление же в одиночестве там, на этой небольшой железнодорожной станции, ничего хорошего не сулило. На карте обозначены и противотанковые рвы, вырытые ленинградцами еще в сорок первом, а теперь превращенные гитлеровцами в узел обороны. А лезть на рожон он не хотел да и не имел права. Приказ он выполнил, дорогу разведал. Надо поворачивать назад.
Справа, чуть в стороне, за редколесьем, поднимался холм, а за ним, невдалеке, тянулась речка, а там, за нею, железнодорожное полотно. Кульга и решил взобраться на холм, оглядеть как следует местность.
— Сворачивай к вершине, — скомандовал он водителю.
Галия задвигала рычагами, притормаживая правую гусеницу, и танк, брызнув веером снега и мерзлых комьев земли, свернул к холму, пошел, подминая кусты и молодые деревца. Мингашева почему-то вспомнила, как училась на танкодроме делать эти самые повороты, как они сначала у нее не получались. «Тридцатьчетверка» поднялась на пригорок и замерла возле молодой пушистой елки, выставив вперед настороженный ствол пушки. Команда «стоп», поданная командиром, прозвучала в тот самый момент, когда она уже нажимала на тормоз. Галия устало улыбнулась, откинувшись на спинку жесткого сиденья, и не снимая рук с рычагов, ног с педалей, а только слегка расслабившись. Хотелось хоть немного передохнуть, размяться, потянуться, глотнуть свежего воздуха. Но их могли заметить немцы, и она напряженно всматривалась в узкую щель и чутко прислушивалась. Кажется, тихо кругом.
Щелкнула крышка верхнего люка, внутрь машины потек густой холодный свежий воздух. Он нес запах снега, хвои, пробуждающейся природы. «Гриша, не спеши!» — хотелось крикнуть ей. Когда открывался верхний люк и Кульга поднимался со своего жесткого сиденья, ей всегда хотелось предостеречь, предупредить Григория, хотя она и знала, что он ее все равно не послушает. Он был слишком самостоятельным и уверенным. Может быть, за эту гордую самостоятельность и мужскую уверенность она еще сильнее любила его. И каждый раз, когда щелкала крышка люка, у Галии томительно сжималось сердце, и она напряженно вслушивалась: только бы ничего не случилось…
— Обзор хороший, хотя видимость и никудышная, — произнес Кульга, настраивая бинокль.
Над поймой и на склонах стояла тишина. Далекие, приглушенные расстоянием отзвуки боя едва доносились сюда откуда-то издалека, из-за леса слева. В той стороне, за лесом, что-то неярко отсвечивало в сером и мутном от низких облаков небе. А может быть, вовсе и не бой это, а гитлеровцы перед отходом спешно жгут еще одно селение, создавая мертвое пространство.
Пойма реки уходила чуть наискось в молочную дымку тумана. Тусклыми мазками темнели густые кустарники, пятнами виднелись заросли камыша над речкой, гривки бурьяна, вылезшего из-под снега. До речки по прямой было с километр, не больше. На берегу кучками росли березы и сосенки. Кульга вспомнил, как ему говорил партизанский проводник, когда они с капитаном Шагиным прорабатывали на карте маршрут разведки: «Берег-то крут там, обрывистый. Мальчонками мы с него шастали в воду, прыгали то есть. Разбежишься — и головой вниз, а руки, вроде крыльев, в стороны разведешь. „Ласточкой“ прыгали, товарищ командир».
Отсюда, с вершины, никакой крутизны у берега не было видно, она лишь угадывалась. На замерзшей реке, по снегу хорошо виднелась зимняя дорога, проложенная прямо поперек по льду. На противоположном низком берегу, за широким лугом, вздымалась железнодорожная насыпь, на фоне неба спичками торчали телеграфные столбы. А за железной дорогой блекло синел лес.
Кульга перевел взгляд на станцию, которая просматривалась. Перед самой станцией горбато выгнулся мост через реку, она там делала поворот и уходила куда-то к западу. Мост с обеих сторон огражден рядами колючей проволоки, он, несомненно, тщательно охраняется, а пространство вокруг конечно же пристреляно, очищено от деревьев. А в пойме, у моста, наверняка топь, танки могут провалиться, намертво засесть в трясину. Но атаковать все равно придется. Обстановка осложнялась еще и тем, что за мостом, близ станции, попыхивал дымком вражеский бронепоезд. Он грозно щетинился жерлами пушек и стволами пулеметов. «На подходах танки могут засесть, а бронепоезд не даст головы поднять нашей пехоте», — невесело подумал Кульга.
Он еще раз посмотрел на замерзшую реку, на берег, железнодорожную насыпь и нагнулся вниз, позвал радиста:
— Как связь?
— Одна момент, — отозвался Юстас.
— Один момент, — поправил его Илья Щетилин. — Эх ты, а еще культурная заграница!
— Хорошо, пусть будет один момент, — согласился Бимбурас, вызывая по рации штаб батальона, и тут же отпарировал заряжающему: — Литва совсем не заграница, а советская республика, знать надо.
— Передай, что подходы к мосту сильно охраняются, а на станции обнаружили бронепоезд, — продиктовал Кульга донесение и тут вдруг подумал: «А что, если самому попробовать!»
От такой мысли ему сразу сделалось жарко. Вступить в схватку с бронированной махиной на железнодорожных колесах. Попытаться уничтожить или хотя бы вывести из строя. И этим уже намного облегчить предстоящий штурм населенного пункта, взятие станции. У бронепоезда не одно орудие, по штурмующим будут шпарить прямой наводкой, одним словом, дадут прикурить. А подходы к станции открыты, наши танки и пехота-матушка перед ними, гадами, будут как на ладони, только успевай щелкай, как орешки. «Так что, товарищ младший лейтенант, тут и размышлять особенно нечего, видно даже слепому, — сказал он сам себе. — А у нас есть шанс. Единственный! И этот шанс — внезапность».
Легкий ветерок остужал лицо, пробирался за расстегнутый ворот гимнастерки. Надвигались белесые сумерки, обволакивая молочной белизной дали. Григорий снова и снова всматривался в бронепоезд. А мысль, как заноза, не давала покоя. Кульга даже не думал о том, казалось бы, о главном — а как же он со своим одним орудием полезет против стольких пушек? Это его не пугало. На войне всякое бывало. А одно орудие — это орудие, а главный козырь, тот самый единственный шанс, на который рассчитывал Кульга, заключался во внезапности удара. В стремительности и внезапности!
Чем больше он рассматривал бронепоезд, железнодорожный мост, подходы к нему, тем больше крепла уверенность в своих возможностях. Кульга мысленно прочертил путь танка к реке, прыжок на лед — а лед за зиму окреп, выдержит! — дальше надо вскарабкаться на насыпь и, развернувшись на пятачке, а Галия это умеет, ударить через мост по бронепоезду. Внезапность — великая сила! Все решают секунды. Пока немцы опомнятся, пока развернут орудийные башни, да и то не все, ибо стрелять вперед по ходу они не очень-то приспособлены, можно наделать тарараму и заставить их поплясать под нашу музыку. После такого концертика немцы как пить дать этой же ночью уведут бронепоезд со станции — если только, конечно, останется что увести, — зная наверняка, что с рассветом прилетят наши краснозвездные штурмовики и добьют его окончательно.
— Мингашева, наверх! — почти по-флотски скомандовал Кульга.
Галия встала рядом, высунулась из люка, обхватив Григория левой рукой, как бы держась за него. Мысленно она была благодарна ему, что он вызвал ее на свежий воздух. Ветер холодил лицо, трепал волосы, забивал снежинки за ворот.
— Впереди крутой берег, обрыв, видишь? — спросил Кульга.
— Вижу.
— Надо прыгнуть на лед и дальше, через речку, на насыпь железной дороги, а там на одной точке развернуться. Шарахнем по бронепоезду.
— А лед выдержит? — спросила Галия, прикидывая расстояние для разгона машины.
— Должен выдержать. Видишь, фрицы зимник проложили, напрямую переправлялись. Значит, лед и нас удержит, куда ж ему деваться.
Галия согласно кивнула. Надо так надо, что за вопрос. Ей не хотелось спускаться вниз, на свое место. Еще бы хоть чуть-чуть постоять вот так, прижавшись к любимому. Она расстегнула шлем, лицу стало прохладнее и свободнее. Галия услышала шорох ветра в кустах. Какая-то пичуга вспорхнула с закутанной снегом елки, и с зеленой ветки мягким водопадом посыпались снежинки.
Речная пойма, расстилавшаяся перед ней, чем-то напоминала уральскую, где среди заснеженных полей текла неглубокая река с крутым берегом. Страшновато было тогда на первых порах прыгать на лед, хотя Галия до изнеможения десятки раз отрабатывала на тренажере этот «высший пилотаж» танкового вождения. Один из курсантов, помнится, произнес: «А на кой черт прыгать на танке? Зачем? Если есть переправа, переправляйся по разведанному и обозначенному маршруту. А снести обрыв, уровнять спуск в общем ничего не стоит. Пару зарядов, направленный взрыв — и откоса не будет, спускайся на лед без риска, веди боевую технику». Инструктор стоял рядом, все слышал. Резко повернулся. Похудевший, с ввалившимися усталыми глазами, дернул обожженной щекой. Но не отругал, а некоторое время молча разглядывал курсанта, а потом дружески произнес: «В бою всякое бывает. Приходится и прыгать, и летать. — И как бы между прочим начал разъяснять основы этого самого прыжка на лед. — С крутого откоса прыгнуть на лед — дело хитрое, но вполне возможное. Я не раз прыгал. Тут главное не только хорошо разогнать машину, а прыгнуть. Пролететь по воздуху, чтобы потом плавно скользнуть по льду. Плавно, понял? А для этого что надо? Поднять нос танка, на скорости поднять. Чтоб с разбега он не плюхнулся, а заскользил. Как на лыжах, понял?»
— Приготовиться к бою, — скомандовал Кульга. — Все по местам! Передать комбату, что впереди бронепоезд и мы атакуем его. Щетилин, заряжай бронебойными!
Сержант Щетилин натренированным движением ловко втолкнул маслянистый снаряд и, захлопнув замок, установил гильзоулавливатель, потертый брезентовый мешок с прямоугольной металлической рамкой, чем-то похожий на приемник для конвертов, в который почтовики опоражнивают почтовые ящики.
— Готово.
— Не снимай спуск с предохранителя, — повелел Кульга и по танковому переговорному устройству приказал: — Полный вперед!
Мингашева плавно тронула машину с места и стала прибавлять скорость. Когда, подмяв куст и миновав елку, выехали из-за прикрытия, танк сразу пошел быстрее, вздымая снежную пыль.
— Фу, черт! — Григорий шепотом выругался, забывая, что весь экипаж его слышит. Спохватившись, громко добавил. — Жми на полную, сержант Мингашева!
Он надеялся на нее. А у Кульги сократился обзор, отчего он и ругнулся. Сломанная зеленая ветка елки попала в смотровую цель и закрыла прицел. Он видел перед собой лишь увеличенные ярко-зеленые иголки хвои, на которых чудом держались снежинки. В прицеле, за хвоинками, мелькали то заснеженная земля, то хмурое небо.
Шум двигателя становился все сильнее. Галия гнала машину вниз по склону. Танк подпрыгивал, его бросало то вверх, то вниз, то в стороны, словно это была не тяжелая могучая машина, а хрупкая лодка на волнах в открытом море.
— Обрыв скоро! — услышал Кульга в наушниках голос водителя. — Приготовиться!
— Жми!
Галия, чувствуя всевозрастающую скорость, что было силы жала ногой на акселератор до отказа. «Тридцатьчетверка» летела, как на гонках, вздымая снежную пыль. Все ближе берег, все ближе момент прыжка. Галия крепче сжала рычаги. Вот и те три березки, росшие кучно, она их заприметила с вершины.
— Держись, ребята!
Танк, словно оттолкнувшись от крутого берега, взлетел. Галия мгновенно, заученным движением, задрала нос танка вверх, потом, бросив рычаги, сама наклонилась вперед, сжимаясь в комок, и, закрыв лицо ладонями меховых варежек, зажмурилась, притаилась в ожидании.
Сильный удар швырнул Мингашеву вперед. Она больно ударилась головой. И все-таки успела схватиться за рычаги. «Тридцатьчетверка» заскользила по льду, который плавно пружинил. Легко, невесомо, как во сне, пролетела Галия несколько десятков метров. Даже подумать успела: «Ой, получилось».
— Ну, Мингашева, ты молодчина! — облегченно выдохнул, радуясь, командир. — Высший пилотаж!
Зеленая ветка отлетела, открыв смотровую щель. Кульга через прицел увидел приближающиеся пики камыша, заросли берегового кустарника. Реку одолели! Но не успел он обрадоваться, как почувствовал: «тридцатьчетверка» мягко пошла вниз, проваливаясь сквозь лед. Внутрь сквозь щели хлынула обжигающая вода.
— Ой, мамочка! Тонем! — по-бабьи взвизгнула от страха Мингашева.
— Сбавь обороты! Убери газ! — выкрикнул Кульга, напряженно вслушиваясь в захлебывающийся рокот мотора, единственного их спасителя.
Танк по инерции промчался по дну реки несколько метров, выскочил на мелкое место, почти у берега, пробив башней и всей своей массой над собою лед. Кроша и ломая его, «тридцатьчетверка», словно ледокол, продвигалась к берегу. Сзади лопались огромные пузыри, клокотали выхлопные газы. По бокам танка плыли большие и малые куски льда, снежное крошево, и, переливаясь радугой, отсвечивала пленка машинного масла.
— Двигаемся! — сдавленным, глухим голосом воскликнул Юстас Бимбурас, радуясь спасению. — Двигаемся!
— Спокойнее, Галя, спокойнее, — наставлял Кульга, напряженно всматриваясь.
Глубина заметно уменьшилась. Вода схлынула с танка, оставив свои следы. Мингашева чуть-чуть увеличила обороты, выбираясь на отлогий берег. Подминая кусты ивняка, танк выехал на заснеженную луговину. Весь экипаж облегченно вздохнул: пронесло!
— Теперь жми на полную железку!
Но их уже заметили гитлеровцы. Справа, вблизи, с характерным, режущим слух, звуком разорвалась бризантная граната, взметнув вверх комья снега и земли. Врезался в лед подкалиберный снаряд-болванка, вздыбив фонтан воды и ледяных осколков. Они глухо застучали по броне, словно сверху кто-то сыпанул лопатой крупную щебенку.
— Вперед! Давай вперед! — командовал срывающимся голосом Кульга, понимая, что теперь все зависит от быстроты маневра машины.
Преодолев луг, «тридцатьчетверка» с ходу перемахнула через ручей и, словно подталкиваемая какой-то невидимой силой, стала проворно взбираться по склону крутой насыпи вверх, оставляя за собой широкий след от стальных гусениц. Взлетев на железнодорожное полотно, мгновенно развернулась на одной точке, на пятачке, и устремилась к мосту, к вражескому бронепоезду. Кульга быстро навел орудие, поймав в прицел орудийную башню.
— Огонь!.. Огонь!..
В нос ударил запах перегара бездымного пороха, сизый едкий туман быстро заполнил танк. Гильзоулавливатель скоро был полон, и Щетилин быстро снял его, заменив пустым. Пот струйками стекал по лицу, глаза слезились. Зарядив очередной снаряд, защелкнув замок, Илья молниеносно поворачивался к перископу, чтобы посмотреть, куда попадал снаряд.
— У-у, гады-ироды! Получайте!..
На бронепоезде не успели даже повернуть стволы пушек в сторону «тридцатьчетверки», неизвестно откуда появившейся вдруг перед ними. Бронепоезд содрогался от взрывов. Его в упор расстреливали огнем из танковой пушки. Языки оранжевого пламени заплясали над бронеплощадками, клубы темного дыма окутали железнодорожное полотно. Стрельба разрасталась, густела, накатывалась. Со станции, с бронепоезда, летели снаряды, шпарили из крупнокалиберных пулеметов трассирующими, посыпали минами. А «тридцатьчетверка», меняя позицию, насколько это возможно на железнодорожном полотне, то вперед двигаясь, то отползая назад, била и била по бронепоезду. Кульга, хватая открытым ртом удушливый воздух, хрипло отдавал команды и, прильнув к прицелу, вел неравную дуэль. Клал снаряд за снарядом точно в цель. То была ювелирная стрельба, точности которой мог бы позавидовать любой снайпер, не только артиллерийский.
— Галя, отходим! Жми к лесу!
Не прекращая огня, «тридцатьчетверка» начала отползать, спускаясь по противоположному склону насыпи. Пули звонко щелкали по броне. Вдруг тяжелый удар потряс машину, словно пытаясь грубо подтолкнуть ее. Все внутри зазвенело, посыпалась краска. Крупный подкалиберный снаряд-болванка угодил в танк, но, на счастье, под большим углом. Скользнул по броне, оглушил экипаж, оставив метку, заблестевшую обнаженной сталью.
— Разворачивай и к лесу!..
Галия задыхалась от порохового перегара, волосы под шлемом слипались, капли пота струились по лицу, а ногам было холодно. В сапогах хлюпала вода, ватные брюки хоть выжимай. Но некогда было думать о себе. Она заученно двигала рычагами, нажимала на педали и уводила «тридцатьчетверку» из зоны губительного огня.
Глава седьмая
1
Марина Рубцова возвращалась к себе в квартиру удрученной. Она продрогла: шел мокрый снег и со стороны моря дул холодный ветер. Она почти полдня колесила по городу, чтобы отвязаться от «хвоста», уйти от слежки, если таковая возникнет. И лишь после этих предварительных мероприятий Марина посетила места, где находились тайники. Но оба тайника — и основной и запасной — были пусты. Как и неделю, как и месяц назад. Пальцы нащупывали лишь старую паутину…
Настроение, и без того неважное, сразу ухудшилось. Рухнула надежда, которой она жила последние дни. Почему-то казалось, что наконец-то о ней вспомнили, что в тайнике будет не только обычная почта для передачи в Центр, но весточка для нее лично. А если и не весточка, то краткая записка с условным знаком на встречу. Так было часто. Марина приходила к условленному месту, где ее встречал Миклашевский и передавал деньги на жизнь. А деньги ей сейчас крайне нужны. Одежда пообносилась, обувь стерлась. И за квартиру надо платить. Последнее время она проходит мимо магазинов, не останавливаясь у витрин, как многие бельгийки, не рассматривает ни платья, ни модную обувь, ни сказочно воздушное нижнее белье, ни манящие взор драгоценности. Если же и бросает взгляд, то главным образом на витрины продовольственных магазинов, где выставлены окорока, колбасы, копченые сосиски. А в овощных чего только нет в эти январские зимние дни: от ананасов, апельсинов, бананов до свежей, словно только снятой с грядки, крупной клубники… Она привыкла к этой сказке, к этому чуду. Всего много, но все дорого. Рядовым бельгийцам не по карману.
По городу разъезжают автофургончики суповаров и чуть ли не около каждого дома звонят в колокол, созывая хозяек. Суп здесь не является, как у нас в России, обязательным первым блюдом, хозяйки его обычно редко варят и предпочитают покупать готовым. Но разве сравнить эту похлебку с домашней куриной лапшой, рисовым мясным супом, макаронами с бараньей грудинкой, не говоря уже о душистом, наваристом украинском борще или густых щах из кислой капусты, которую здесь не умеют солить, как дома, в России: с антоновскими яблоками, тмином, лавровым листом, сливами и клюквой… Марине давно опостылели местные пресные блюда, хотя она и старалась к ним привыкнуть, — видимо, трудно русскому человеку долго воспринимать однообразие пресной еды. Но одно блюдо все же пришлось Марине по душе. Вкусное и, как говорится, любому смертному по карману. Это картофельные ломтики, обжаренные в кипящем масле. Бельгийцы умеют мастерски жарить эту самую картошку, так, что пальчики оближешь. Чуть ли не на каждом углу можно встретить маленькие будочки, в которых ничего нет, кроме очага, двух-трех кастрюль да баночек с приправами. По городу разъезжают желтые домики на колесиках с красными спицами, с чугунными печками внутри и жестяной дымовой трубой, прикрытые сверху ажурной китайской шапочкой из той же жести. Ломтики берут домой к обеду, поедают в харчевнях, запивая пивом, в ресторанах с бифштексами и просто на улице, держа в руке бумажный кулек…
И у Марины сейчас был в руках бумажный пакет. Горячий картофель приятно грел застывшие руки. А ломтики, нежные, пахучие, поджаренные на оливковом масле, слегка присыпанные солью, прямо таяли во рту.
Впереди шли молодые женщины, ели на ходу. Одна громко рассказывала подругам анекдот, который Марина уже не раз слышала: богатая дама спрашивает у своей служанки: «Скажи, милая, а с чем вы дома едите фриты?» «О мадам, — отвечает служанка, — с толченой солью!» Женщины смеялись, а Марина грустно улыбнулась. На мясо и овощи не у всех есть деньги, приходится обходиться просто солью.
Скомкав пакет, Марина бросила его в урну, носовым платочком вытерла пальцы. Скромная еда как-то сразу придала ей силы и подняла настроение. Она бодрее зашагала к центру. Жизнь не такая плохая штука, даже здесь, далеко от Родины. Как бы там ни было, как бы ей лично ни приходилось туго, она может только радоваться, что дожила до этих счастливых долгожданных дней, когда наши войска на всем великом фронте, от севера до юга, бьют и колотят немецкие войска и катятся неудержимой лавиной к фашистской Германии. Наступает время великого возмездия.
Домой возвращаться не хотелось. Можно было, конечно, сесть в автобус и махнуть за город, на виллу Ивонны Ван дер Графт. Дружба между ними продолжалась. Но сегодня Марине не хотелось встречаться с ней. Вообще ни с кем не хотелось встречаться. Марина вышла на набережную. Свинцово-серая вода широкой реки, серый гранит набережной, мрачно-серая, тяжелая, бесформенная на первый взгляд громада древнего замка. И над рекой, тускло блестящей, затуманенной вдали и словно заштрихованной белесым карандашом летящих хлопьев снега, нависли серые низкие тучи, дул холодный, пронизывающий до самых костей ветер. Набережная была почти пуста. По ней прогуливались лишь редкие группы немецких солдат и самодовольных офицеров, с любопытством оглядывающих местные достопримечательности. Солдаты были юные, почти мальчишки, и пожилые, видимо, из резерва.
Марина свернула на улицу, короткую и прямую, и направилась к площади, к собору, который отсюда, со стороны набережной, казался еще более величественным, безраздельно царящим над городом, как его страж и вечный символ, его душа и поэзия, выраженная в камне и строгих линиях готики. Главная башня собора уходила вверх, в серые тучи и, казалось, своей остроконечной вершиной пронзала их.
Марина не верила в Бога, она снисходительно относилась к тем людям, которые, по ее убеждению, запутались в паутинных силках религии. В середине двадцатого века смешно верить в сверхъестественную силу. Но собор, в резном камне которого, казалось, застыло движение времени, покорял ее сердце своим величием и строгой красотой. И всякий раз, когда Марина входила в него, она испытывала странное чувство, разобраться в котором было непросто. Она искренне восхищалась мастерством человеческих рук и разума, создавших этот тяжело стоящий на земле каменный мир. Внутри собор поражающе огромен и пуст, и человек, впервые вступивший под его строгие своды, невольно как-то терялся и ощущал свою бренность и беспомощность перед вечностью. Казалось, что здесь существует свой мир, в котором нет настоящего, сегодняшнего времени с его беспокойствами, тревогами и страхами, а есть только далекое и никогда не умирающее прошлое и рядом с ним бесконечное будущее.
Разные эпохи оживают в разных уголках собора, но все статуи, росписи, лепные украшения, все богатства мира меркнут перед картинами Рубенса. Марина двигалась как заколдованная, ноги сами несли ее к знаменитому триптиху, вернее, к любимой ею главной его части — «Снятие с креста». Трудно найти более естественное и вместе с тем поразительное обрамление для картины гениального художника, чем эта прозрачная, рассеченная чередой стрельчатых арок полутьма собора, чье однообразие и напряженная строгость камня буквально взрываются, как грозовые свинцово-мрачные тучи нежданным солнечным лучом, ярким соцветием пылающих красок. И всякий раз, когда Марина приходила сюда, ей казалось, что только сейчас движение в картине окаменело, замерло, остановилось на миг. И еще казалось, что едва пройдет это «остановленное мгновение», как рухнет на протянутые руки всей своей ледяной тяжестью мертвое тело. И еще ей казалось, что казнили, распяли на кресте не Христа, а какого-то близкого ей товарища, подпольщика, который попал в лапы гитлеровцев и прошел все круги ада и умер в мучениях, не выдав своей главной тайны, умер с твердой верой в неминуемое возмездие и торжество справедливости. И эта вера передавалась и ей, озаряла ее мятущуюся душу, уча стойкости, вселяя уверенность и наполняя силой для борьбы и жизни.
Бросив прощальный взгляд в мглистую глубину собора, где сияют вечно живые краски великого Рубенса, Марина вышла на площадь.
Все также дул резкий порывистый ветер, все также мокрыми хлопьями летел снег. Редкие прохожие, подняв воротники, торопились куда-то по своим делам. Из пивного бара вывалилась шумная группа подвыпивших горластых немецких солдат. «Пока еще живые, — подумала Марина. — Но недолго осталось им ходить по земле. Грядет время возмездия».
На углу, в книжном магазине, Марина купила свежих газет, в том числе и берлинских, мельком полистала дамский журнал и, не оглядываясь, быстро зашагала в сторону набережной. На полпути свернула в боковую улицу. Привычно огляделась. Ничего подозрительного не обнаружила. Она хорошо освоила расположение кварталов и могла, сворачивая чуть ли не на каждом углу, идти в нужном направлении.
Дома, не раздеваясь, зажгла газовую горелку и поставила чайник. Пока закипала вода, Марина быстро просмотрела бельгийские газеты, главным образом спортивные разделы. О Миклашевском нигде не упоминалось. Ни слова, словно его вообще не существовало. Писали о других, в том числе и о Камиле Дюмбаре — Рыжем Тигре, которого Миклашевский так отколотил еще в позапрошлом году. Сейчас газеты сообщали о победе Камила над каким-то профессионалом.
Тонко задребезжала крышка чайника. Марина бросила щепотку чая в фарфоровую чашку, залила кипятком и накрыла блюдцем. Конечно, чай надо приготавливать в фарфоровом чайнике, она это хорошо знала, но по студенческой привычке любила заваривать его в стакане или чашке. Так он почему-то казался вкуснее, ароматнее. Отхлебывая горячий напиток, Марина развернула берлинскую газету. И оторопела: с фотографии на нее смотрел Миклашевский! Он улыбался. Фотография была крошечная, но она сразу узнала Игоря. Жив! Быстро прочитала длинный репортаж о финальном поединке сильнейших боксеров континента, о блестящей победе солдата остлегиона боксмайстера «Ивана Миклашеффского» над чемпионом Франции Жаком Пилясом.
Марине как-то сразу стало тепло и радостно. Миклашевский жив, он только находится далеко. Значит, она не одна в этом чужом мире. Нечего хныкать и раскисать. Просто был вынужденный перерыв в работе. От неожиданностей никто не застрахован. Она смотрела на фотографию, гладила ее рукой. Боксер был третьим ее связным. Только бы с ним ничего не случилось…
2
Эту же берлинскую газету держал в руках и Андрей Старков. Он купил ее, выходя из метро. Дальше Андрей двинулся пешком, направляясь на знаменитую площадь Пигаль, в район злачных мест Парижа: публичных домов, увеселительных заведений, крохотных отелей. Сюда приезжали и приходили тратить деньги и заработать. Залитая огнями площадь, бульвар и погруженные во тьму, слабо освещенные красными призывными фонарями улочки в ночные часы заполнены народом — моряками, военными, туристами, богатыми снобами, проститутками, гангстерами, контрабандистами, разведчиками всех мастей, сыщиками, агентами секретных служб. Четвертый год Париж живет под немецкой оккупацией, а здесь внешне как будто мало что изменилось, лишь убавились толпы туристов и моряков, а прибавились толпы немецких солдат и офицеров.
А за внешним фасадом, если приглядеться, открывалась другая, трудная жизнь. Париж под властью гитлеровцев. Июнь как для русских, так и для французов стал месяцем не начала лета, а начала бед и горестей. Четырнадцатого июня сорокового года гитлеровские войска без боя вступают в Париж, который объявлен «открытым городом». Неделю спустя, двадцать второго, за год до нападения на Россию, в Компьенском лесу состоялась позорная церемония подписания капитуляции Франции. Гитлеровцы извлекли из музея исторический вагон маршала Фоша, тот самый, в котором в восемнадцатом году была подписана капитуляция Германии, и торжествовали в час своей победы.
Париж наводнили немцы. Начались массовые аресты. Появились устрашающие приказы, вывешивались списки расстрелянных… Парижанам запрещено проходить по тротуарам перед всеми зданиями, занятыми оккупационными властями, для них вообще закрыли некоторые улицы, перегороженные колючей проволокой. Знамя со свастикой водружено на Эйфелевой башне. Всюду появились указатели на немецком языке. Введено берлинское время.
На Елисейских Полях состоялся парад победителей. Под визгливые марши, бряцая оружием, проходили полки покорителей Европы, и их с трибуны приветствовал самодовольный фюрер.
В каждом кафе немецкие офицеры, в серых и зеленых мундирах, в нагло заломленных фуражках, распивали пиво и вино, чувствовали себя хозяевами мира. Из Парижа гитлеровцы стали вывозить национальные ценности.
Гитлеровцы вступили в Париж, но не покорили свободолюбивых французов. На заводах и фабриках, где выполнялись немецкие военные заказы, рабочие портили оборудование, выводили из строя станки, а изготовленные мотоциклы, автомобили, авиационные моторы очень быстро выходили из строя. Диверсии на железных дорогах превратились в настоящую «битву на рельсах». Подпольные боевые группы, плохо вооруженные, успешно действовали и в самом центре Парижа, совершали диверсии, выводили из строя электростанции, резали телефонную сеть, уничтожали склады, обстреливали автомашины. Среди бела дня бойцы Сопротивления расстреляли группу эсэсовцев на Елисейских Полях, стреляли в упор на стадионах и в ресторанах… На Больших Бульварах взлетел в воздух кинотеатр с сотней гитлеровцев, взорвалось здание морского министерства, был уничтожен эсэсовский штандартенфюрер, ведавший отправкой парижан на принудительные работы в Германию. Оккупанты стали опасаться ходить поодиночке, в каждом французе им мерещился боец Сопротивления. По главным улицам и площадям почти круглые сутки стали маршировать усиленные наряды патрулей, которые проверяли документы, задерживали каждого, кто чем-то казался им подозрительным. Но никакие репрессии не могли остановить нарастающую волну сопротивления оккупантам. С востока, где полыхало зарево восхода, где на гигантском фронте наступали советские войска, вместе с теплыми лучами солнца веяло ветром скорой свободы. Париж начала сорок четвертого, полуголодный, истерзанный, борющийся и верящий в свое будущее, не был похож на Париж сорокового, сытый, но удрученный безысходной обреченностью. И Андрей Старков, в кармане которого лежали документы на имя француза Андре Моруа, сердцем любил этот город и имел надежные связи с французскими партизанами.
Андрей открыл стеклянные двери в небольшой бар. За стойкой находился Жорж. Они давно не виделись, лишь перезванивались по телефону. В эти дневные часы посетителей в баре было мало. Жорж лениво сбивал коктейль. Увидев Андрея, он просиял. Потом пригласил пройти в дверь за стойкой. За дверью начинался коридорчик, который вел мимо кухни в конторку.
Старков с удовольствием опустился на низкий потертый диван, откинулся на мягкую пружинистую спинку. Взял со стола пачку немецких сигарет, вынул одну, помял в пальцах. Но закуривать не стал. «Слишком много дымлю, нервы шалят, — подумал он. — Надо поберечь хоть легкие». И положил сигарету на место. Отодвинул пачку подальше от края стола, чтоб не соблазняла. Развернул свежую газету, которую купил по дороге. Но просмотреть ее не успел, пришел Жорж.
— Привет, старина, — сказал Жорж, на этот раз крепко, по-дружески пожимая руку Андрею. — Давненько тебя не видал, только слышал твой голос. Выпить хочешь?
— От твоих коктейлей трудно отказаться, — улыбнулся в ответ Андрей и попросил: — Только что-нибудь послабее.
— Сотворю почти без алкоголя, из одних фруктовых соков.
Пока Старков потягивал через соломинку из высокого бокала освежающую жидкость, Жорж по-военному, короткими фразами, докладывая о работе своей группы, как бы между прочим упомянул и о благодарности, полученной от Центра за ценные сведения о расширении немцами производства крылатых ракет. Дела у Жоржа, судя по всему, шли неплохо, группа работала успешно. Но были и свои трудности. Особенно с передачей информации в Центр. Радиста, обещанного еще в прошлом году, до сих пор не прислали, предлагают обходиться «внутренними резервами».
— Андре, сам посуди, какие у нас внутренние резервы, если в группе одна радистка? Да и рация старого образца, громоздкая, ее не так-то просто перебазировать с места на место. Нагрузка большая, информации много, и нет никакой гарантии, что боши не сегодня, так завтра нас не запеленгуют. А если оборвется этот единственный канал связи, наша работа пойдет вхолостую.
— Ну зачем же такие мрачные перспективы, Жорж?
— А я без иллюзий живу.
— В Центр обращались?
— Да.
— Говори дальше.
— Сейчас, — Жорж присел рядом на стул, понизил голос: — Ерундистика какая-то. Советуют установить контакт с радистом, который в Антверпене. А как на него выйти?
Старков допил коктейль, поставил на стол бокал.
— В Антверпене не радист, а радистка — это во-первых. А во-вторых, я ее лично знаю, и, следовательно, установить с ней контакт не так уж трудно. Тем более что она сидит без работы. Как ты уже слышал, в Берлине провал, засветили часть группы. Но на эту радистку боши не вышли. Она осталась в стороне.
— Она работала на берлинскую группу?
— Да, была запасным каналом.
— Понятно.
— Ее знает и боксер, о котором я тебе рассказывал. У него с ней прямая связь. Но он куда-то запропастился, ни слуху ни духу. Боюсь, как бы и с ним чего не случилось, — Старков сел удобнее, вытянув ноги. — Хороший парень, боксер этот, много успел сделать. Центр рекомендует включить его в вашу, парижскую, орбиту.
— С ним все в полном порядке, — сказал Жорж.
— Ты откуда знаешь?
— Из берлинской газеты. Той самой, которую ты в руках держишь.
— Я ее еще не читал.
— Посмотри спортивный раздел. Да и наши, парижские, грустно пишут о поражении чемпиона Франции, который проиграл финал этому русскому.
Старков развернул газету и, едва взглянув на спортивный репортаж о боксе, увидел крохотную фотографию Миклашевского. Фотография и подробный отчет о поединке говорили Андрею о многом. Главное — берлинская группа провалилась не полностью. Надо срочно выяснить, кто уцелел, и, если требуется, помощь оказать немедленно. И еще о том, что товарищи, попавшие в лапы гитлеровцев, держатся. Держатся, несмотря ни на что. А в берлинских казематах умеют выматывать жилы и развязывать языки. Боксер на свободе, о нем пишут в газетах, значит, он вне подозрений. Скорее всего, у него порвалась связь с берлинской группой накануне провала. Он, как и радистка, остался в стороне. О нем уже не раз запрашивал Центр. Надо срочно сообщить, что боксер нашелся.
— Значит, ты, старина, включаешь и боксера и радистку в свою орбиту, — сказал Старков.
— Андре, ты принес хорошие вести. Придется мне делать еще один коктейль, но уже покрепче, — весело произнес Жорж.
— Выпью с удовольствием. А потом? Потом в отель, где потише, возьму номер, который потеплее, да и завалюсь спать. Чертовски устал за последние недели, вымотался вконец.
— А когда в Антверпен?
— Я позвоню.
Жорж хотел сказать, что радистку желательно было бы скорее переправить сюда, во Францию, поближе к Парижу, но в дверь раздался робкий стук и просунулась лохматая рыжая голова молодого официанта.
— Мсье Жорж, простите, вас спрашивают.
— Кто?
— Тот ваш клиент, черный полковник.
— Передай, что сейчас иду.
Но в коридоре уже слышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и, заполняя тесную конторку, ввалился высокий и грузный, краснолицый гитлеровец в лакированных сапогах и черной форме эсэсовских войск.
— Милый Жорж, я не привык долго ждать, когда горло пересохло и жаждет кружки доброго пива, — выпалил он по-немецки.
— Пиво сейчас будет, господин полковник.
— А вы что пьете? Коктейль? Эту парижскую бурду? Лучше доброго пива нет ничего! — полковник, усаживаясь в свободное кресло, бесцеремонно оглядел Андрея Старкова. — Мы, кажется, с вами где-то встречались, ваша личность мне знакома.
— Да, полковник, на приеме у генерала фон Хольтица, — спокойно ответил Старков. — Но там, как мне помнится, вы с большим удовольствием пили коктейли, или, как вы изволили сказать, эту самую бурду.
Упоминание фамилии генерала, пользовавшегося особым доверием Гитлера, подействовало так, словно на полковника вылили ушат холодной воды. Это можно было увидеть по его сузившимся маленьким глазам, в которых мелькнула растерянность. Она продолжалась какой-то миг, но Андрей успел все заметить. Полковник внешне не изменился. Почмокав губами, он произнес:
— Так там же был напиток «Букет цветов», составленный из лучших сортов старых вин!
— И его приготовлял, если вам неизвестно, Жорж.
— Жорж, это правда, или меня разыгрывают? — полковник всем корпусом повернулся к бармену.
— Правда, — сказал Жорж и вздохнул.
В конторку внесли поднос, уставленный кружками пива.
— Радоваться надо, а не грустить, — эсэсовец взял кружку, осушил залпом, взял вторую.
— Да я не об этом, — произнес Жорж.
— Так о чем же, если не секрет?
— Какой секрет, если вся Франция знает, — Жорж показал на газету.
— А что? — насторожился полковник, остановив у рта поднесенную кружку.
— Наш чемпион по боксу в Лейпциге проиграл русскому, — грустно сказал Старков, принимая игру и поддерживая Жоржа.
— Жак Пиляс, кумир Парижа, и вдруг такое, — подхватил Жорж.
— И это все? — полковник переводил глаза то на Старкова, то на Жоржа, стараясь понять, не разыгрывают ли они его, но, убедившись, что оба говорят вполне серьезно, звучно рассмеялся. — Ха-ха-ха!.. Как говорила моя тетушка, мне бы ваши заботы!..
Он выпил еще одну кружку пива. Почмокал губами. Вынул носовой платок, обтер вспотевшее лицо. И, приняв серьезную мину, философски сказал:
— Не зря говорят, что французы — народ легкомысленный. Не обижайтесь, но, видит Бог, факт налицо. Что значит проигрыш какого-то боксеришки по сравнению с тем, что мы, немцы, терпим ради всей вшивой Европы от проклятых русских на Восточном фронте? И то мы не теряем бодрости духа!
— Полковник, вы истинный ариец и, как всегда, правы. Ваше здоровье! — Андрей поднял свой бокал с коктейлем, отпил, потом спросил: — Вы, надеюсь, с транспортом?
— Машина у подъезда. Скажите Гансу, что вы от меня, и он отвезет нас по любому адресу, — важно произнес полковник. — А я здесь еще задержусь, такого пива нет во всем Париже.
Но Старков знал, что полковника здесь удерживает не только свежее пиво, а и другие, чисто коммерческие дела. Полковник связан с интендантской службой. Жорж помогал ему сбывать на черном рынке крупные партии дефицитных товаров начиная от продовольствия и кончая бензином и обмундированием. Прощаясь, полковник ткнул пальцем в берлинскую газету.
— А вы обратили внимание, что на финальных поединках присутствовал сам великий Макс Шмеллинг?
«Ну и шельма, — подумал Старков, — пьянствует, развратничает, грабит страну, а нос держит по ветру, в курсе всех дел». И вслух произнес:
— Макс Шмеллинг — кумир немецкой нации.
— И любимец самого фюрера! — полковник сдул с кружки пивную пену. — Я имел счастье видеть его победный бой с Джо Луисом, когда он лишил этого хваленого американского негритоса звания чемпиона мира. То был поединок! Пятнадцать раундов сплошной мясорубки! Профессиональная работа высшего класса!.. А в Лейпциге, простите, боксировали любители. Будьте здоровы! А Гансу скажите, чтобы машину сразу же пригнал сюда.
Старков хотел было напомнить полковнику о втором поединке между Максом Шмеллингом и Джо Луисом, который состоялся ровно через год. Первую встречу Джо Луис проиграл на пятнадцатом раунде из-за повреждения. А через год взял реванш. Вторую встречу Коричневый Бомбардир закончил в первом же раунде, послав в нокаут хваленого арийца. Но о поражениях немцы не любят вспоминать.
Глава восьмая
1
Появление Макса Шмеллинга в театре было встречено дружными выкриками «хайль!» и бурными аплодисментами. Миклашевский находился в раздевалке и готовился к выходу на финальный поединок. Но и сюда, через стены, донесся восторженный рев публики. Игорь переглянулся с тренером, как бы спрашивая: что там произошло? Бунцоль недоуменно пожал плечами. Потом решил:
— Какая-то важная персона заявилась, — и, снедаемый любопытством, не утерпел: — Ты продолжай разминаться, а я мигом туда и обратно. Только одним глазом взгляну.
Вернулся он нескоро, буквально перед самым выходом Миклашевского на ринг. Сияющий, словно его наградили орденом. Радость так и выпирала наружу. Карл пританцовывал на носочках, словно не Игорю, а ему сейчас выходить на поединок, да притом ему вроде бы уже известно, что противник от боя отказался и победа обеспечена. Тренер, помолодевший на пару десятков лет, прыгал вокруг Миклашевского и, подняв на русский манер вверх большой палец, восклицал:
— О, зер гут! Очень карошо! Приехал великий Макс!.. Он узнал меня!.. О, какой человек!.. Его любит сам фюрер! Пожал мне руку!..
Миклашевский, продолжая разминаться, старался догадаться, что собой представляет этот загадочный Макс, которого так дружно и радостно приветствовала разношерстная публика и который знаком с Карлом Бунцолем и в то же время является и любимцем Гитлера? Генерал? Маршал? Партийный вождь? Одно хорошо, что он знает спорт и, видимо, любит бокс, может быть, сам в молодости занимался, знал в те годы и Бунцоля… Надо как-то самому Миклашевскому выйти на него, такое знакомство может пригодиться. Но как? Через тренера? Нет, Бунцоль вряд ли решится представлять русского боксера этой важной персоне. Надо попытаться самому. Впереди — последний поединок, финал, надо выложиться и окончательно утвердить себя в глазах публики, в глазах этого Макса. Попытка не пытка, а шанс упускать не стоит. Все эти мысли пронеслись в его голове в те секунды, пока тренер восторженно подпрыгивал вокруг Игоря и радостно восклицал:
— О, Макс!.. Он меня помнит!..
Видя, что Миклашевский не разделяет его восторга, Бунцоль грустно вздохнул, как делает учитель перед учеником, плохо выучившим урок или до сих пор не знающим таблицы умножения, и, скрестив руки на груди, высокомерно стал смотреть на боксера. Потом назидательно произнес:
— Вы, русские, не знали ничего о большом спорте, об Олимпийских играх. Я уже не говорю о великих профессиональных спортсменах, знаменитых на весь свободный мир. За время вашего коммунистического режима вы крепко отстали в своем развитии. Ты умный парень, в твоих жилах течет немного и германской крови, но ты, конечно, не виноват, что жил за этой самой железной стеной, — сделав такое вступление, Бунцоль поднял указательный палец и, вздернув вверх свой раздвоенный тупой подбородок, повысил голос: — Но весь мир знает нашего Макса! Великого Макса Шмеллинга!
Услышав фамилию Шмеллинга, знаменитого немецкого боксера-профессионала, Игорь обрадовался. Об этом тяжеловесе ему говорили в Москве, когда готовили за линию фронта, а кинопленки, на которых запечатлены бои Макса Шмеллинга с американским негром Джо Луисом, неоднократно просматривал Миклашевский еще до войны на кафедре бокса в Московском институте физкультуры. Видел Миклашевский и фашистскую пропагандистскую кинохронику, где Макс Шмеллинг запечатлен в военной форме германских десантных войск, и его спуск на парашюте с десантниками во время захвата в Средиземном море острова Крит. Что же касается опасного Восточного фронта, то его, как сообщали Игорю в Москве, знаменитый боксер всячески избегал, предпочитая оставаться в Берлине и находиться в числе приближенных фюрера. Поездка Шмеллинга сюда, в Лейпциг, видимо, санкционирована свыше, министерство пропаганды наверняка приложило руку, и боксерскому турниру придается важное политическое значение. Значит, в печати появятся сообщения, и не исключено, весьма расширенные. Как раз то, что и требуется в данной обстановке. И, заканчивая разминаться, Миклашевский остановился и переспросил:
— Как, вы сказали, его фамилия? Шмеллинг?
— Да, великий боксер Макс Шмеллинг. Ты когда-нибудь слышал о нем?
— Конечно слышал! — и, подыгрывая тренеру, добавил с восторгом: — Он победил американца Джо Луиса, единственный белый боксер, который вырвал победу у Коричневого Бомбардира. Об этом даже наши газеты писали.
— Тогда гордись! Этот великий боксмайстер будет смотреть твой поединок!
Появление в зале Шмеллинга придало остроту боксерским боям, ибо каждый финалист стремился выложиться и показать себя с лучшей стороны, заслужить похвалу, понравиться знаменитому боксеру, фавориту фюрера, человеку, обладающему большими связями, возможностями и немалой властью. Те боксеры, которые уже выступали, были огорчены, что им не удалось показать свое умение перед таким важным человеком, что упустили редкий шанс, а те, которые еще не выходили на ринг, жили радостной надеждой.
Жак Пиляс тоже жил этой надеждой, и, едва прозвучал гонг, извещающий о начале первого раунда, а судья жестом подал команду на поединок, француз бросился в бурную атаку. Высокий, статный, длиннорукий, он умело использовал свои физические возможности. Привстав на носочках и тем самым как бы удлинив свои жилистые ноги, Жак быстро перемещался по рингу, осыпая Миклашевского с дальней дистанции беспрерывным градом прямых ударов, знаменитых английских джэбов. Его стремительная атака была похожа на взрывной старт спринтеров. Но на беговой дорожке исход борьбы решают считанные мгновения, рекорд мира держится в пределах крохотных секунд. А боксерский раунд бесконечно долог, он длится целых три минуты, а за первым раундом боксера ждут еще более долгих два последующих. Так что если не удалось сломить волю соперника и если нет запаса сил, отработанной годами тренировок скоростной выносливости, умения распределять силы на весь период поединка, то такая, мягко говоря, неразумная трата энергии, мышечного пороха, может печально кончиться.
Миклашевский, не принимая предложенного бурного темпа боя, умело уходил от француза. Передвигаясь назад и в сторону, мягко маневрировал, но так, чтобы не разрывать дальнюю дистанцию и давая возможность сопернику выкладываться, как говорят, на полную катушку. На ринге отход назад не есть отступление, а самый распространенный маневр, при умелом использовании дающий великолепные возможности для защиты. Это серии защитных движений корпусом, всевозможных отклонов, наклонов, нырков под летящий кулак противника, небольших поворотов в сторону, когда рука соперника стремительно пролетает мимо, буквально около желанной цели, в каких-то досадных сантиметрах.
А если еще учесть, что все эти защитные приемы Миклашевский делал на ходу, в постоянном перемещении по рингу, не разрывая дистанции, в опасной полосе, то можно понять тот откровенный восторг, который открыто высказывали знатоки и специалисты бокса, в том числе и Макс Шмеллинг. Они видели, что француз весьма умелый боец и титул чемпиона страны носил не зря. Но они видели и еще более высокое мастерство, которое подтверждало главную аксиому этого мужественного вида спорта: умение хорошо боксировать заключается не в том, чтобы уметь правильно и точно наносить удары, а в том, чтобы уметь в бою не получать эти самые удары, уметь заставлять соперника промахиваться.
Жак Пиляс, яростно колотя кулаками воздух, не мог понять причину своих бесконечных промахов, тем более что русский все время находился рядом, на дистанции вытянутой руки, и попасть в него, казалось, не составляло большого труда. Да еще этот русский, по его понятию, слабо отвечал, почти не наносил ответные удары, а больше защищался. Видимо, думал Жак, поединок с итальянцем окончательно его вымотал, и русский еле держится на ногах, все время работает на отходах, спасается за счет ног. Он, Жак, не мог толком понять: над кем смеются зрители и кому так бурно аплодируют. Пиляс не мог видеть себя со стороны, а если бы увидел, то не поверил бы, что смеются над ним, как смеются солдаты-ветераны над новичком, который взял в руки самый скорострельный автомат, а пули почему-то летят мимо цели, не попадая в нее, хотя она и находится на позорно близком расстоянии.
Время шло, но натиск француза не ослабевал, как рассчитывал Миклашевский, а становился все решительнее. Пиляс не был бы профессионалом и тем более чемпионом Франции, если бы не обладал не только физической силой и выносливостью, но и должным мастерством и упорством в достижении поставленной цели. Он работал руками, как хорошо налаженный и отрегулированный механизм, имеющий внутри мощный мотор и солидный запас горючего. Специалисты видели, что в основе его натиска, словно железный стержень, лежит четкая целенаправленность. Можно было не сомневаться, что все эти стихийные на первый взгляд серии ударов были тщательно продуманы и отработаны на мешке, на спарринг-партнерах, доведены в учебных поединках до автоматизма. Во многих жестоких поединках эти серии неизменно приносили успех. И лишь здесь, в Лейпциге, они почему-то не срабатывают. Утешало его только то, что, как казалось Пилясу, инициативу держит именно он и он диктует ход поединка. Ведет бой на своей коронной дальней дистанции.
В минутный перерыв Бунцоль, вытирая влажным полотенцем мокрое от пота лицо Миклашевского, советовал:
— Хватит играть, показывать свое мастерство в защите. Надо бить! Иди на сближение и бей! Нужно вырывать победу, а не ждать присуждения ее по очкам. Иди на сближение и бей!..
Миклашевский знал это и сам. Но как ни странно, именно эту, казалось бы, простую задачу не так-то просто было решить в ходе поединка. Пиляс сам великолепно чувствовал дистанцию и, используя длинные руки, умел держаться на своей коронной дальней, не подпуская к себе соперника. Огородился густым частоколом прямых ударов, пробить брешь в которых не так-то просто. Трижды Миклашевскому удавалось, перехитрив внимательного соперника, войти в среднюю дистанцию, но развить успех не представилось возможным, ибо Пиляс тут же отскакивал от русского, как резиновый мяч от стенки, и бурно осыпал его своими джэбами.
Оба боксера устали, лоснились от пота. Но ни тот ни другой не уступал и четко пресекал всякую попытку изменить ход поединка.
Несмотря на внешний бурный темп, специалисты видели и внутренний, как бы второй план поединка, — очерченный высоким мастерством и продуманной тактикой. Пиляс все так же стремительно наносил удары, почему-то не попадая в Миклашевского, а русский не мог войти не то что в ближнюю, но даже в среднюю дистанцию. В зале воцарилась странная тишина, и многочисленные зрители замерли на своих местах, понимая, что на их глазах зреет развязка, что в эти секунды на ринге должен произойти перелом, ибо темп боя взвинчен до предела и так долго продолжаться не может. И они не ошиблись. Развязка наступила в конце второго раунда.
Пиляс бросился в очередную атаку, а Миклашевский, словно он не на ринге, а в танцевальном зале, как бы вальсируя, вдруг сделал поворот на носочках и очутился сбоку соперника. Он провел знаменитый и трудноисполнимый в бою прием, получивший название «тур-де-вальс». Этот прием великолепно применял лишь Карпантье, знаменитый французский профессиональный боксер, ставший чемпионом мира. Им в свое время восхищался Макс Шмеллинг, и конечно же сейчас он был приятно изумлен, видя, что русский так четко исполнил этот прием. Все длилось считанные мгновения. Макс Шмеллинг подался вперед со своего кресла и, сжав кулак, чуть двинул им по воздуху, как бы желая провести свой знаменитый боковой хук. Именно таким ударом сейчас можно было сразить француза. Зрители затаили дыхание.
А на ринге Миклашевский, словно читая мысли Шмеллинга, без замаха провел боковой удар. Стремительно и четко. Кулак мелькнул в воздухе, словно вспышка черной молнии. Он не ударил со всего размаху, а лишь, как казалось со стороны, задел, чиркнул по открытому подбородку. В зале кто-то выразительно хмыкнул, кто-то неудовлетворенно ахнул, кто-то присвистнул: «И русский не попал! Такая редчайшая возможность и — промахнулся!» Француз, по обыкновению, отскочил, разрывая дистанцию. Шанс упущен. Но в следующую секунду произошло непонятное. Пиляс странно опустил свои руки, которые вдруг повисли как плети, а сам мягко закачался, мягко опустился сначала на колени, а потом растянулся на брезенте ринга. Удар, оказывается, достиг цели! По залу пронесся одобрительный гул. А судья оттолкнул Миклашевского, взмахнул рукой, открывая счет:
— Раз!.. Два!..Три!..
Пиляс лежал и не шевелился. Нокаут был глубоким. Отсчитав положенные десять секунд, судья, выкрикнув «аут!», поднял вверх руку Миклашевского.
Зал взорвался аплодисментами. Игорь посмотрел в сторону жюри и сквозь пот, застилавший глаза, видел, как знаменитый Макс что-то восторженно говорил соседу и, подняв руки над головой, хлопал в ладоши.
2
Поздно вечером, после официального закрытия боксерского турнира, Макс Шмеллинг устроил банкет. И довольно роскошный для военного времени. В театральном буфете были сдвинуты столы, и на роскошных блюдах саксонского фарфора, украшенных искусно вырезанными из свеклы розами, лежала весьма дефицитная тонко нарезанная копченая колбаса, янтарный сыр, шпик, ласкали взор зеленые соленые огурчики, горы салата, батарея пузатых бутылок со шнапсом, несколько посудин с красным рейнским вином. Перед каждым участником пиршества официанты поставили по чашке с горячим гороховым супом, тарелку с двумя поджаренными сосисками и тушеной капустой да по массивной стеклянной кружке с темным пенистым пивом.
Макс Шмеллинг, восхищенный мастерством русского боксера, усадил подле себя Миклашевского и сияющего Карла Бунцоля. Тренер искренне сожалел, что накануне финала поторопился и распил с членом жюри бутылку старого французского коньяка, которую долго хранил в своем чемодане, приберегая для торжественного случая. Как бы она сейчас пришлась к месту, как бы украсила стол! Тот, с кем он распивал коньяк, сидел вдалеке и оттуда с завистью поглядывал на Бунцоля и, чтобы выделиться, обратить на себя внимание, даже провозгласил тост в честь старого боксерского волка, который в молодости блестяще выступал здесь, в Лейпциге, и возвеличил славу германского спорта. Макс Шмеллинг поддержал тост, высказал свое восхищение мастерством Бунцоля, обнял и расцеловал его, а потом выпил до дна рюмку шнапса. Карл на радостях прослезился, шмыгал носом и в свою очередь произнес длинный тост в честь Макса Шмеллинга, самого великого и непобедимого немецкого бойца в кожаных перчатках, прославившего нацию, истинного арийца, верного сподвижника фюрера, человека с добрым сердцем и железными кулаками. Все повскакивали со своих мест и дружно стали скандировать: «Макс, хох-хох!» Шмеллинг, довольный, без рисовки, как должное, принял восхваления и стоя осушил свою рюмку.
Миклашевский, сидевший рядом, присматривался к именитому немцу. Рослый, плотно сбитый, как и положено тяжеловесу, он выглядел довольно спортивно, хотя давно не выступал на ринге. Судя по внешнему облику, можно было догадаться, что Шмеллинг продолжает сохранять свою спортивную форму. Держался за столом он просто, без высокомерия. А лицо Шмеллинга, полное, круглое, с чуть курносым носом, улыбчивыми глазами, показалось Миклашевскому чисто славянским, чем-то издали напоминавшим облик русского знаменитого боксера-тяжеловеса Николая Королева, который, как слышал Игорь еще в Москве, сражается в партизанском отряде. «Такие похожие и такие разные, — подумал о них Миклашевский. — Интересно было бы увидеть их на ринге. Наш Королев наверняка смог бы постоять за себя и дать жару арийцу». И Игорю припомнился напряженный поединок перед войной между Королевыми и Михайловым за звание абсолютного чемпиона страны. Где они сейчас? Где воюют? Живы ли? Поднимая рюмку со шнапсом в честь Шмеллинга, Миклашевский выпил и за русских славных богатырей-тяжеловесов.
Напротив Миклашевского сидели какие-то важные немцы, и среди них выделялся один, белокурый и загорелый, одетый в форму офицера экспедиционных войск армии Роммеля. Этот офицер, внешне ничем не примечательный, как мысленно заметил Миклашевский, «типичный средний немец», бесцеремонно и пристально разглядывал русского боксера, буквально буравя его своими небольшими, глубоко посаженными глазами. Игорь не удержался и тихо спросил Бунцоля, показывая на незнакомца:
— Кто этот человек?
— Ты разве не знаешь? — ответил Карл и, вытерев салфеткой рот, восхищенно произнес: — Чемпион рейха в среднем весе! Хельмут Грубер! Он отличился не только на ринге, но и в знойной Сахаре, в боях против строптивых англичан, за что и награжден Железным крестом… — И поднял кружку с пивом, предлагая и Хельмуту осушить ее: — За твои успехи, Африканская Лиса, за победы на ринге и на фронте!
Грубер в ответ улыбнулся тонкими губами, охотно поднял кружку, но пить не стал. Как заметил Миклашевский, он вообще не притронулся к спиртному. «Трезвенник, что ли? — подумал Игорь. — Редкий экземпляр среди немецких офицеров». И он больше не обращал внимания на Грубера, все время чувствуя на себе его цепкий, буравящий взгляд. А к этому немцу Миклашевскому стоило бы присмотреться. Их пути скоро скрестятся, вернее, уже скрестились…
Все внимание Игоря было сосредоточено на Шмеллинге и его окружении: завязанные здесь знакомства могут пригодиться.
— Никогда не видел русских боксеров, — доверительно говорил захмелевший Макс Шмеллинг, положив руку на плечо Миклашевскому. — А вы мне очень понравились!
— Он не совсем русский, в его жилах течет и немецкая кровь, — вставил слово Карл Бунцоль. — Если бы не война, он мог бы драться за титул чемпиона Европы.
— Не сомневаюсь, что вас там ждал бы успех, — Макс Шмеллинг не снимал с плеча Миклашевского своей руки и говорил, казалось, ему одному, хотя их слышали все сидящие за столом. — У вас отличные природные данные, это, как говорят, от Бога, да плюс хорошая школа… Я видел ваш бой и откровенно восхищен вашей манерой боксировать, особенно великолепной защитой. Такое тонкое и острое чувство дистанции и реакцию не выработаешь тренировками, это от природы… Желаю вам успеха!
Потом он рассказал о себе, что прибыл из Берлина, где его принимал сам фюрер. За столом сразу сделалось тихо, все внимательно слушали Шмеллинга. Он рассказал, что был ранен еще на Крите, во время воздушного десанта, что старая рана недавно дала о себе знать и фюрер, просмотрев медицинские документы, отечески позаботился о нем, помог демобилизоваться и разрешил заняться длительным лечением. Миклашевский слушал с неподдельным вниманием, мысленно улыбаясь, понимая беспокойство кумира немецкого бокса: война движется к бесславному концу и каждый из заправил хочет своевременно выйти из игры. И это в то время, когда по Германии идет тотальная мобилизация, когда под ружье призывают семнадцатилетних мальчишек и стариков, когда медицинские комиссии даже не смотрят в истории болезней и каждому выносят одно решение: «годен». Одним словом, каждому свое.
Поставив на стол кружку с недопитым пивом, Макс Шмеллинг обратился к Миклашевскому и Бунцолю:
— Я понимаю, конечно, у русского могут быть всякие трудности… Скажи, Карл, что я могу для него сделать?
Миклашевский не ожидал таких слов. Где-то в душе он лишь надеялся на установление знакомства, чтобы потом использовать его. А тут Шмеллинг сам предлагает свои услуги. На какое-то мгновение Игорь растерялся. Он не готов был к такому вопросу и даже не знал, что попросить. Конечно, Миклашевский знал, чего он хочет: побольше свободы действий, поменьше обязанностей. Как об этом сказать? Да и сможет ли Шмеллинг выполнить его просьбу? И вслух произнес:
— Мне хочется того же, что и многим вашим поклонникам, которые восхищены талантом великого боксера. Подарите ваш автограф.
— И это все? — изумился Шмеллинг.
— Разве этого мало для настоящего боксера? — в свою очередь удивился Миклашевский. — Только у меня нет даже листка бумаги…
— Давайте ваши документы.
— Вы распишетесь на них? Это можно? — спросил Игорь, доставая свое удостоверение.
— Мой автограф знают все и при любой проверке вам будут лишь завидовать, — с уверенностью произнес Шмеллинг и, вынув авторучку с золотым пером, широко расписался поперек документа. — Вот вам гарантия от всех нападок!
Потом порылся у себя во внутреннем кармане, достал две открытки. На одной фотопортрет Макса Шмеллинга, на другой он снят со знаменитой немецкой кинозвездой белокурой Але Ондре. Поставив широкие разборчивые автографы на обеих открытках, он вручил их Миклашевскому.
— А это от меня на память, — улыбнувшись, добавил: — Это пропуск на свободу в Германии.
Многие, сидевшие за столом, завидуя русскому, спешно вынимали свои удостоверения и протягивали их боксерскому кумиру:
— Битте! Пожалуйста! Битте!..
Карл Бунцоль, взяв новую полную кружку с белой шапкой пены, подал ее Миклашевскому, повторив заплетающимся языком:
— Ты есть сегодня самый счастливый человек!..
3
Утром, когда Миклашевский складывал вещи в чемодан, в номер вошел тренер. Карл Бунцоль уходил оформлять проездные документы и отоваривать продуктовые талоны, полученные на себя и боксера.
Не снимая шинели, Бунцоль уселся на стул, хмуро посмотрел на Миклашевского, словно увидел его впервые. У того шевельнулось недоброе предчувствие. Он знал тренера и умел читать по его лицу невысказанные мысли. Что-то произошло, явно не очень приятное для Миклашевского. Но что именно? Игорь не стал спрашивать. Он знал, что Бунцоль сам все выложит, и продолжал укладывать вещи в чемодан.
— Мы никуда не едем, — произнес холодно Бунцоль. — Достать и надеть спортивную форму.
— Едем тренироваться? — выразил удивление Игорь, догадываясь с облегчением, что неприятности ждут его лишь по спортивной линии.
— Нет, на взвешивание.
— На взвешивание?
— Ты что, забыл правило?
— Не понимаю, для чего? Турнир окончен и…
— Турнир не окончен, — выпалил Бунцоль.
— Как не окончен? — откровенно засмеялся Миклашевский. — Насколько мне известно, и если верить этим газетам, — он показал на пачку свежих газет, лежавших на столе, за которыми утром бегал сам Бунцоль, — вчера состоялся последний финальный поединок, и победитель турнира…
— И победитель турнира будет встречаться с чемпионом рейха, — отрезал Карл Бунцоль.
У Миклашевского пересохло в горле. Он мог ожидать всего, но только не такого поворота событий. Хитро же придумали! Победитель турнира, прошедший многодневный боксерский марафон, будет встречаться со свеженьким чемпионом Германии! Внешне это выглядит весьма благопристойно: сильнейший из европейских боксеров выходит на ринг против сильнейшего германского мастера… Спорить было бесполезно. И Миклашевский только спросил:
— Когда?
— Сегодня.
— Где?
— Там же. Жюри то же. Афиши уже расклеивают по городу.
— Формула боя?
— Шесть раундов.
— Почему шесть? Профессионалы работают по пятнадцать.
— Таково решение жюри. Начальству виднее.
— А Макс Шмеллинг будет?
— Нет, великий Макс уже уехал в Берлин.
Все стало ясным, и Миклашевский задал последний вопрос, который давно висел у него на кончике языка: о противнике.
— С кем?
— Ты его видел. Он сидел на банкете как раз напротив тебя, — ответил Бунцоль. — Ты даже обратил на него внимание, помнишь?
— Помню.
Миклашевский действительно запомнил того белокурого и загорелого «типичного среднего немца», как мысленно его назвал Игорь, одетого в офицерскую форму экспедиционных войск армии Роммеля, который за весь вечер так и не притронулся к спиртному, не сделал ни одного глотка. Теперь стало понятным его поведение, его «трезвость». Он-то наверняка знал, что завтра — важный поединок! Понятным стал и его прилипчивый буравящий взгляд. Игорь чертыхнулся, злясь на самого себя. Как же он мог позволить себе вчера расслабиться? Пил и шнапс, и пиво… Радовался, что ему завидуют… Алкоголь держится в организме почти двое суток.
— Кажется, если мне не изменяет память, его зовут Хельмут?
— Да, Хельмут Грубер, чемпион великой Германии в среднем весе, — сказал Карл Бунцоль таким тоном, словно именно он сейчас тренирует его, этого самого Грубера, а не русского. — Ты увидишь, как он прекрасно боксирует!
Миклашевский почувствовал, что между ним и тренером возникла невидимая стена отчуждения, хотя внешне все оставалось по-старому. А бой предстоял нелегкий. Помощи и советов ждать неоткуда. Рассчитывать надо лишь на самого себя…
Глава девятая
1
Просторный зал оперного театра был заполнен до отказа и гудел, как пчелиный улей. Ярко сверкали хрустальные люстры, тускло отсвечивала позолота лепных украшений на балконах, матово темнел бархат на креслах. И чужеродно выглядели зрители, одетые в основном в походную армейскую форму. Гражданских и женщин было очень мало, и они печально выделялись на общем серо-зеленом фоне. На балконах и даже галерке, где обычно располагалась бедная молодежь, тоже темнела однообразная серо-зеленая людская масса. Организаторы поединка, не мудрствуя, нагнали в театр солдат — необстрелянных новобранцев, в основном из маршевых батальонов и учебных подразделений, устроив им своеобразное культурное мероприятие, чтобы они перед отправкой на фронт воочию убедились в торжестве германской нации, чтобы они своими глазами увидели, пусть и на ринге, победу немецкого ума и кулака над грубой русской силой.
Вполне естественно, что выход Миклашевского был встречен жидкими вежливыми аплодисментами и откровенно презрительным свистом. А появление на ринге самоуверенного и улыбающегося Хельмута Грубера, жующего резинку, вызвало восторженную бурю аплодисментов, которую можно было сравнить лишь с гулкой каменной лавиной. Зрители неистовствовали так, словно Грубер уже победно провел поединок и судья поднял его руку.
Миклашевский из своего угла рассматривал Грубера, пытаясь за эти секунды по внешнему облику понять его боксерский характер и угадать манеру ведения боя, чтобы хоть как-то, в общих чертах, хоть схематично наметить рисунок боя. Игорь не сомневался, что немцу рассказали, вернее, выложили все о Миклашевском, что тренеры проанализировали и наметили ему линию поведения, что Грубер смотрел его поединки. Это было видно по тому, как тот держался на ринге — самоуверенно и бойко, словно выходил на встречу с хорошо известным и изученным соперником, с тем, с которым боксировал не один раз. А что знал о нем Миклашевский? Почти ничего, если не считать тех газетных и журнальных статей, которые ему дал прочесть Бунцоль сегодня утром, «случайно достав» их у одного знакомого. В этих статьях журналисты больше восхваляли немецкого чемпиона, его волю к победе, могучий «арийский дух», удивительные по силе удары, сокрушающие соперников… Одним словом, пространные спортивные репортажи, статьи и отчеты о боях мало что могли рассказать о манере боксирования, об арсенале средств, о технических приемах и тактических особенностях. Игорь тщательно рассматривал помещенные фотографии, моменты боев, они говорили больше, чем слова. Анализируя их, Миклашевский сделал предварительное заключение, что Грубер — боксер опытный, выносливый, ведет бой агрессивно, стремится подавить противника натиском и сильными ударами с обеих рук. И сейчас, на ринге, рассматривая немца, убеждался, что не ошибался в своих предварительных оценках. Грубер был примерно одного с ним возраста, крепкотелый, мускулистый, загоревший под жгучим африканским солнцем. Он крепко стоял на жилистых ногах. Весь его облик говорил о силе и выносливости, а длинные, не по росту, руки давали ему сразу некоторое преимущество в бою на дальней дистанции. Справиться с таким будет не так просто, подумал Миклашевский, не имея никакого определенного плана на поединок, ибо все основные вопросы и разгадывания «секретов» придется разрешать в ходе встречи, в бою. И Грубер, словно читая мысли русского, надменно улыбался, продолжая двигать крепкими челюстями, жуя резинку. Два секунданта стояли с полотенцами, тренер торопливо что-то говорил ему, стремясь в оставшиеся секунды перед ударом гонга дать последние наставления. Фоторепортеры щелкали аппаратами, словно молния, сверкали вспышки блицев, озаряя ярким светом боксера, привыкшего позировать.
Удар гонга вытолкнул его из угла. Приняв боевую стойку, Грубер поспешил к русскому. Бунцоль, подтолкнув ладонью Миклашевского, выдохнул:
— Вперед! Покажи, что умеешь!..
Но Миклашевский хорошо знал: именно сейчас нельзя идти вперед и показывать «что умеешь». Надо сперва раскусить противника, понять его, оценить и лишь потом принимать решения. Они сошлись в центре ринга и закружили, словно заранее договорились и отрепетировали замысловатый танец. В зале стало тихо, слышно было, как поскрипывала канифоль под подошвами боксеров. Ни тот ни другой не нападал, а каждый старался запутать, сбить с толку соперника, ошеломить возможными вариантами ударов и в то же время был начеку, зорко следил за каждым движением, готовясь мгновенно отреагировать на любую опасность. В эти короткие секунды первого раунда Миклашевский как-то сразу почувствовал уверенность в себе. Грубер осторожничает. Хваленый немец, имея такую фору, не идет напролом! И это неспроста. Видать, предыдущие убедительные победы русского над серьезными соперниками сыграли свою роль. Как бы его, Грубера, ни настраивали, ни подготавливали, а, выйдя на ринг против Миклашевского, встретившись лицом к лицу, германский чемпион не спешил выкладывать свои козыри, не торопился лезть под кулаки русского. Человек остается человеком, и в критические мгновения, встречаясь с опасностью, срабатывает природный инстинкт самосохранения. Психологическая борьба, которая завязывается в первые мгновения поединка, обычно непонятная зрителям, но очень важная для обоих соперников, шла полным ходом. В эти первые секунды боя закладывается основа всей последующей встречи. Бурное невидимое столкновение силы духа и воли одного с волей и силой духа другого, когда боксеры чувствуют друг друга каким-то шестым чувством, воспринимают кожей тела, зрачками глаз, — эта борьба безжалостна, она не знает компромиссов. В эти мгновения, еще до нанесения первых ударов, определяется лидер, который и диктует ход поединка. Об этом редко говорят даже сами боксеры, судьи не всегда замечают, лишь вдумчивые тренеры да старые боксерские волки, по опыту прежних своих боев, могут определить духовного лидера. Но духовная победа не всегда приводит к победе физической. Дальше наступает пора единоборства воли, силы, знаний, умения, выносливости и многих других важных частей, составляющих сложный комплекс боксерского искусства. Миклашевский выиграл эти первые мгновения и почувствовал, что одержал верх над хваленым немцем, что тот где-то внутри дрогнул, что Грубер не особенно уверен в конечном победном результате, хотя знал, что и судьи и зрители на его стороне. И победа духа влила новые силы Игорю, укрепила надежду. А внешне ничего не изменилось на ринге. Боксеры все так же кружили и плели тонкую паутину обманных движений…
— Бокс! — властно выкрикнул рефери, как бы подталкивая соперников к активным действиям.
«Пора начинать», — решил Миклашевский, понимая, что если судья на ринге и будет наказывать боксеров за неведение боя, то в первую очередь объявит предупреждение именно ему, русскому. А боксерские правила суровы: после трех предупреждений дисквалификация… Надо не давать лишних козырей в руки судей, на объективность которых сейчас рассчитывать не приходится.
И он пошел вперед. Легко и непринужденно, как на тренировке, начал атаку. Сделав ложные движения, послал два прямых длинных удара. Но Грубер, защитившись подставками, мгновенно ответил тем же. Начались, как говорят, активные действия. Грубер, быстро перемещаясь по рингу, хитрил, и Миклашевский получал в ответ не меньше, чем наносил. Удары жесткие, сухие, хорошо отработанные. Но Миклашевский шел вперед. Боксеры кружили, схлестывались и отходили. Так схлестываются в океане две встречные волны и, выбросив вверх сноп брызг, шумя и пенясь, откатываются назад, чтобы через секунды снова столкнуться с еще большей силой и яростью. Ни тот ни другой не уступали. Сражались на равных. Миклашевскому это было невыгодно. «Так, пожалуй, можно и проиграть, — мелькнула мысль, обдав холодом, когда Игорь, завершив атаку, снова отскочил на безопасную дистанцию. — Надо менять тактику». И в следующем броске, после прямых, пошел на сближение, в среднюю дистанцию. Но Грубер охотно принял вызов и осыпал его градом ответных хуков и апперкотов. Он работал, как автомат, четко и быстро, выпуская одну отработанную серию ударов за другой. Миклашевский успешно защищался, призывая все свое умение и мастерство. Прорывались лишь отдельные удары, получать которые было не очень приятно. А зал ожил. Немецкого чемпиона подбадривали аплодисментами.
— Бей русского!
— Вали его!
Темп поединка нарастал. Миклашевский попытался прижать Грубера к канатам, но тот ловко увернулся. Чуть было не загнал немца в угол, однако в самый последний миг тот легко выскользнул из опасной зоны, не забыв при этом, под одобрительный рев публики, наградить русского парой ударов. Удары были не сильные, но звонкие и эффектные. Стиснув зубы, Миклашевский сдержался и не полез с ответными, ибо легко мог попасть в заранее приготовленную ловушку. Перед ним был опытный и хитрый профессионал, к тому же еще и с завидным хладнокровием. Он не вспыхивал и не загорался, а работал, как машина. Лишь в глубоко посаженных глазах колюче светилась открытая ненависть. И затаенный страх. Страх перед возмездием. Если б только была возможность, Грубер, не задумываясь, растерзал бы русского. Но такой возможности у него пока не имелось. Русский был с кулаками, которые били точно и страшно, как русские пушки по немецким танкам. А Груберу не хотелось валиться под ноги русскому, ему нужна победа. Убедительная победа. И он, терпеливо выжидая, надеялся на случай, используя каждую малейшую ошибку русского. А идти самому вперед не хватало духу. Он лишь методично расшатывал оборону, сбивал дыхание, издалека готовился к главному штурму. Он, этот штурм, наступит потом, к концу поединка, когда русский выдохнется, когда израсходует пороховой запас своих мышц и станет легкой добычей, открытой мишенью для его безжалостных кулаков.
Боксеры снова закружили, хотя и не так слаженно и не так непринужденно. Минуты напряженного боя давали себя знать. Кончался второй раунд. Оба вспотели и, обмениваясь одиночными ударами, перестреливаясь на дальней дистанции, старались отдышаться, побольше набрать спасительного кислорода. Миклашевский смахнул перчаткой капли пота со лба, с неприязнью и невольным уважением оглядывая Грубера. Орешек оказался крепким, не раскалывался. «Попробуем все-таки еще и ближний, — решил Игорь, ища слабое место у соперника. — Как поведешь себя вблизи?»
Грубер, который только что умело выскальзывал и убегал от канатов, оказывается, ничего не имел против ближнего боя на середине ринга. Расставив шире ноги и упершись головами друг другу в левое плечо, боксеры стали обмениваться ударами. Миклашевский слышал хрипловатое дыхание немца и успевал вовремя перехватывать его кулаки. Но и Грубер довольно успешно парировал серии Миклашевского. Борьба и вблизи шла на равных. Преимущество русского было лишь в том, что он задавал тон и диктовал ход боя. Но желанной победы это преимущество пока не приносило. «Так что же все-таки с ним делать? — разгоряченный схваткой, думал Миклашевский. — Не может же он быть неуязвимым?» Но ничего не успел придумать, как гонг прервал размышления. Судья, встав между противниками, руками растолкал их по своим углам.
Миклашевский с радостью опустился на табуретку. Теперь можно целую минуту подумать спокойно. Тренер торопливо обмахивал боксера влажным полотенцем, создавая воздушный вихрь. Его излишняя старательность лишь затрудняла дыхание. Игорь ничего не сказал, не возразил. Он и не вслушивался в советы Бунцоля. Думал свою думу. Сам анализировал ход поединка. Первые два раунда он не проиграл, но судьи наверняка запишут их в пользу немца. По очкам Миклашевский боя не выиграет. Надо добиваться чистой победы. Только чистой победы. Но именно это понимал и Грубер. Он все время начеку. Его на мякине не проведешь. Не зря на банкете Бунцоль назвал его Африканской Лисой! Но и мы не лыком шиты. Посмотрим еще, кто кого! В технике Африканская Лиса сильна. Переиграть не удалось. Ладно. А в тактике? Надо перехитрить в тактике.
Удар гонга поднял его с табурета. Миклашевский и Грубер сошлись в центре ринга, закружили, обстреливая друг друга с дальней дистанции одиночными прямыми. Сделав финт, Игорь шагнул вперед. Грубер не отскочил, принял предложение русского. Боксеры снова схватились в ближнем бою, упершись головами в левое плечо друг другу, быстро заработали руками. Только теперь Миклашевский делал вид, что у него ничего не получается, он едва успевает парировать удары немца, только защищается. Грубер тут же понял свое превосходство и быстрее заработал руками, спеша набрать очки. Сыпал и сыпал, как горох из чашки. И все по корпусу. За челюсть, за открытый подбородок Миклашевский был спокоен: от грозного удара правой его надежно защищала голова немца. Впрочем, и Грубер был спокоен за свой подбородок, ибо сам Миклашевский своей головой прикрывал его. Судья, остановившись, чуть нагнулся, следя за руками, вернее, за мелькающими кулаками, обтянутыми в черные перчатки. В зале накалялась атмосфера и стоял сплошной гул голосов. Миклашевский несколько раз делал попытки выхода из ближнего боя, но Грубер всякий раз сохранял дистанцию, в которой он, как ему казалось, имел преимущество. Судя по всему, Грубер был доволен: он больше наносил ударов и имел, как несомненно ему казалось, отличные шансы выиграть и весь бой.
— Хельмут, хох-хох! — гудели охрипшие голоса.
Поединок приобрел принципиальный характер, не узко спортивный «кто — кого?», а более широкий: «русский или немец?».
Грубер прилип, как пиявка. Зал гудел. И в самый напряженный момент Миклашевский решительно сделал вид, что спешит выйти из опасного ближнего боя. Быстро перекрыл левой обе руки противника так, что тот, на какое-то мгновение, не в состоянии был ударить, и слегка откинулся корпусом. Обычный, надежный и часто применяемый прием для выхода из ближнего боя. Грубер и сам был не прочь передохнуть и, сопя как паровоз, рывком отодвинулся назад. На какую-то долю секунды его голова оказалась открытой. И Миклашевский поймал этот момент. Выпрямляясь, он несколько снизу и сбоку ударил правой по гладко выбритому подбородку. Голова немца как-то неестественно дернулась вверх, а руки, защищая ее, инстинктивно тоже поднялись, открыв туловище. И Миклашевский тут добавил левым снизу, по солнечному сплетению. Грубер согнулся и рухнул на пол, как мешок. В зале кто-то ахнул, кто-то удрученно присвистнул, и наступила тишина. Такая, словно в театре никого, кроме боксеров, не было.
— Брэк! — неестественно резко выкрикнул оторопевший судья, грубо отталкивая русского.
Миклашевский и сам направился в дальний нейтральный угол, давая возможность судье открыть счет. Но не успел он сделать и двух шагов, как послышалась новая команда рефери:
— Стоп!
Миклашевский, ничего не подозревая, остановился. Грубер все еще лежал неподвижно. «Нокаут, кажется, чистый», — устало подумал Игорь, глотая горькую густую слюну. В горле пересохло. Пот струился по лицу, слепил глаза. Однако рефери, к удивлению всех, не спешил открывать положенного счета. Он спасал поверженную знаменитость. Подошел к одному боковому судье, перебросился с ним несколькими фразами, потом направился к другому. Зал напряженно следил. «Что он выясняет?» — недоумевал Миклашевский. А рефери выгадывал время, давая возможность Груберу прийти в себя. И когда тот привстал на колено, хватая воздух открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, рефери шагнул к Миклашевскому. На лице строгость и непреклонность. Жестом он показал русскому, а вернее, сказал всему залу, что удар нанесен… ниже пояса! Это, мол, грубое нарушение правил. И рефери, подняв указательный палец, выкрикнул:
— Предупреждение! Первое предупреждение!..
Миклашевский, не понимая, уставился на судью, как бы спрашивая: за что? Он же не бил ниже пояса. Это неправда! Удар нанесен в солнечное сплетение, значительно выше линии трусов. Спросите у самого Грубера. Пусть он сам скажет, куда получил удар.
Однако судья, не смущаясь обманом, откровенно играя на публику, настроенную против и мало разбирающуюся в тонкостях бокса, глубоко, театрально вздохнул и весьма выразительно покачал головой, как бы говоря: нашкодил, а теперь выкручиваешься… И снова нахмурился, принял суровое выражение лица. Подошел к русскому, жестом показал, что удар был нанесен ниже пояса, что это видели и подтверждают боковые судьи. Он говорил громко и закончил тирадой, что боксеру не положено пререкаться с судьей на ринге, мнение которого окончательное и, согласно правилам, отмене не подлежит. Всем своим обликом он как бы доказывал Миклашевскому, что тот, как русский, по своей дикости и некультурности, не умеет быть дисциплинированным и ради личных выгод грубо нарушил правила. Зрители, естественно, были на стороне судьи и дружными выкриками поддерживали его решение. Рефери продолжал разыгрывать свою неподкупность и строгость. Миклашевский растерялся. Еще никогда за всю его боксерскую карьеру ему не приходилось встречаться с таким наглым обманом. А рефери, как нашкодившего ребенка, взял ошарашенного Миклашевского за кисть, сжал цепкими холодными пальцами, словно тот пытался вырваться, и, поворачиваясь к каждому боковому судье, показал два пальца:
— Второе предупреждение! За пререкание!..
В зале как будто взорвалась бомба. Стены, казалось, не выдержат рева и грохота. Солдатская масса орала, ревела, свистела, гневно топала ногами. Кто-то из ярых болельщиков не выдержал и, выхватив пистолет, открыл пальбу. К нему, расталкивая зрителей, бросились патрульные. Толпа неистовствовала. Она верила судьям и готова была разорвать ненавистного русского. Еще чуть-чуть, и, казалось, ошалелые солдаты начнут ломать и крушить мебель, швыряя ее на сцену…
Жюри, основательно перепуганное, спешно объявило о «дисквалификации Миклашевского» и, естественно, о присуждении победы Хельмуту Груберу. Рефери вывел на середину ринга шатающегося и еще полностью не пришедшего в себя чемпиона и вздернул вверх его руку. Зал ответил ликующим ревом, одобряя «справедливое» решение жюри…
2
В раздевалке Миклашевский, разгоряченный боем и несправедливостью судей, зубами развязал шнурки и, стянув перчатки, в сердцах швырнул их в угол. Бунцоль даже не пытался его успокоить. Тренер, кусая карандаш, сел за стол и накатал протест в жюри. Миклашевский, немного успокоившись, взял исписанный лист, не читая сложил его и разорвал.
— У нас, в России, говорят, что плетью обуха не перешибешь. А немцы, кажется, говорят, что головой стенку не пробить, так?
Бунцоль молчал. Он и сам понимал, что его протест, его самые убедительные доводы никто рассматривать не будет. Свершилось то, что и должно было свершиться. Но победу Грубера можно было бы обставить более пристойно, и не так грубо. Судья на ринге, конечно, поторопился…
В раздевалку без стука вошел со свертком в руке француз Пиляс и с ним высокий светловолосый финн Тойво, проигравший французу в четвертьфинале. Финн говорил по-русски:
— Ты победил. Все мы говорит, что ты есть победил! Удар был хорош, в самый яблочка. Чистый! — финн положил ладонь на плечо Миклашевскому. — А рефери человека плохо. Он нет спортсмен, он есть политика. Бокс здесь нет, а есть одна политика! Это очень плохая игра. Ты меня понимал?
Француз развернул сверток и вручил Игорю большую бутылку красного французского вина. Финн, хлопая Миклашевского по спине, говорил и улыбался:
— Не надо плохо думать. Мы есть боксер профессионал, политик у нас нет. Мы есть все друзья!..
— Надеюсь, мы останемся друзьями, — сказал по-немецки Пиляс, пожимая руку Игорю. — Если не откажетесь, то предлагаю в Париже устроить матч-реванш.
— А мы с тобой в Хельсинки, — вставил словоохотливый Тойво. — Будет много-много зрители и много денег. Бокс у нас очень любят!
Миклашевский положил руки им на плечи, обнял и сдвинул дружески головы, прижав к своей:
— Спасибо, друзья!.. Спасибо!..
3
А ночью была бомбежка. Рев сирен воздушной тревоги поднял Миклашевского с постели. В номере гостиницы он был один. Бунцоль ушел сразу же, едва они вернулись из театра. У тренера в Лейпциге много друзей и знакомых. Игорь отдал ему бутылку вина, подаренную французом. Карл был растроган. Он вручил Игорю проездные документы, и они договорились, что утром Миклашевский сам отправится поездом в Берлин, где его ждет родственник (пришла правительственная телеграмма от Зоненберга-Тобольского, в которой тот поздравлял племянника с победой и приглашал в гости), а Бунцоль дня три проведет здесь, в Лейпциге, и потом заедет за ним.
Не зажигая света, Игорь привычно быстро оделся и спустился вниз. На улице была паника. Толпы людей — стариков, женщин, детей, — полусонных, растерянных, с чемоданами, сумками, узлами спешили в ближайшие убежища. Плач грудных младенцев, причитания старух, тревожные возгласы женщин, мужская ругань, лай собак сливались и тонули в неистовом реве сирен… Сигнал тревоги запоздал, налет уже начался…
Миклашевский прислонился спиною к кирпичной стене здания, уступая дорогу перепуганным жителям, посмотрел вверх, в иссиня-темное небо, по которому уже рыскали желтые лучи прожекторов. Оттуда, с неба, доносился гул моторов. Игорь определил: не наши, союзники. Торопливо забухали зенитные пушки, захлебываясь, били длинными очередями тяжелые пулеметы. С надрывным воем неслись к земле фугасные бомбы. Земля под ногами и кирпичная стена дома вздрагивали от взрывов. «Пятисотки и тысячекилограммовые», — привычно определил Миклашевский, и ему стало вдруг легко и радостно, как будто и не было никакого тяжелого боя на ринге. Он вдыхал холодный ночной воздух и улыбался. Словно градины, падали на асфальт осколки от разрывавшихся в небе зенитных снарядов. В двух местах, неподалеку от гостиницы, вспыхнули пожары, и языки пламени освещали улицу. Он видел, как на той стороне улицы бомба пронзила пятиэтажный дом, и земля глухо вздрогнула от тяжелого взрыва. Массивный дом, озаренный на миг изнутри, начал распадаться и рушиться, обваливаться.
Игорь повернулся и быстро спустился в бомбоубежище. Там было душно, тесно и почти темно, надрывно плакала маленькая девочка, громко кашлял больной старик и навзрыд рыдала пожилая женщина, ее успокаивали, но она не унималась.
— Проклятые русские! Бомбят мирных жителей! — услышал Миклашевский за спиною раздраженный мужской голос.
— Это не русские, — ответил Игорь не оборачиваясь. — Это американцы.
Хотелось повернуться и посмотреть на раздраженного обывателя, который возмущался «войной не по правилам», и спросить его: а разве немцы думали о мирных жителях, когда ночами бомбили Ленинград, когда подожгли продовольственные склады и сотни тысяч ленинградцев были обречены на голод?.. Но Игорь сдержался. Словами ничего не докажешь. Война пришла в Германию, туда, откуда начиналась. Наступало время возмездия.
Глава десятая
1
Андрей Старков в новом «мерседесе» спешил в Антверпен. Нужно было срочно перебазировать радистку в Париж. Для безопасности ехал кружным путем, с заездом в Германию. За годы жизни на Западе и по опыту своей нелегкой работы он хорошо освоил старое золотое правило, проверенное многими разведчиками, которое гласило: прямой путь не всегда есть самый короткий и самый лучший. Это правило можно было бы пересказать и русской пословицей: береженого Бог бережет. Документы и французский паспорт у него были в полном порядке, а удостоверение немецкой контрразведки помогало ему беспрепятственно проходить любые проверки и вне очереди заправлять горючим машину.
Согласно документам Старков, вернее, инженер Андре Моруа, является представителем крупной французской машиностроительной фирмы, занимающейся поставками вооружения в германскую армию, и едет он в Германию и Бельгию с важным поручением. Впрочем, это так и было в действительности. Французские заводы выполняли срочные заказы немецкого министерства вооружения и главного командования сухопутных войск, изготавливали, например, и узлы для самолетов-снарядов, крылатых ракет, «оружия возмездия», получивших название ФАУ-1. На севере Франции с лета прошлого года начались и интенсивно ведутся грандиозные строительные работы. Днем и ночью десятки тысяч рабочих, военнопленные, мобилизованные местные жители рыли котлованы, сооружали подъездные пути, бетонные колпаки и бункеры. Строители полагали, что они возводят укрепления разрекламированного печатью «атлантического вала», или секретные подземные заводы. Но военные руководители и отдельные ведущие специалисты фирм знали, что здесь создаются стартовые позиции для ракетного оружия, серийное производство которого, несмотря на технические неполадки и недоработки проекта, уже началось. Грандиозные планы изготовления «оружия возмездия», а следовательно, и гигантские прибыли, привлекли внимание крупнейших монополий немецкого военно-промышленного комплекса и сотен различных фирм как внутри Германии, так и в союзных странах.
Гитлеровцы спешили. Сокрушительный разгром немецких войск под Курском и последующее мощное наступление русских ставили Германию перед пропастью катастрофы. Стратегическая инициатива была утеряна. Фашистский блок трещал по всем швам. Сателлиты Третьего рейха начали лихорадочно искать спасительные пути выхода из войны или хотя бы ослабления связей с Германией. Испанский диктатор Франко спешно отозвал с Восточного фронта остатки «голубой дивизии». Венгерское правительство, за спиной у немцев, усилило попытки завязать контакты с Англией и США. Правительство королевской Румынии, потеряв обширные области на востоке, подаренные Гитлером, опасалось за свою страну и открыто выражало недовольство своим германским союзником.
Победоносное наступление Советской Армии летом и осенью 1943 года произвело большое впечатление на нейтральные страны. Правящие круги Турции окончательно убедились, что не следует связывать свою судьбу с Германией. Шведское правительство, как бы опомнившись, с середины августа громко объявило о «прекращении перевозок немецких военных материалов через территорию своей страны». В порабощенной Европе ширилось и крепло движение Сопротивления. В самой Германии росло недовольство войной и фашизмом.
В этой обстановке было видно, как верхушка гитлеровской Германии во главе с фюрером цеплялась за новую стратегическую концепцию, которая сводилась в основном к следующему: всемерно сдерживать продвижение советских войск и в то же время сосредоточить достаточные силы на Западе для успешного разгрома крупного десанта союзников в Западной Европе, который гитлеровцы ожидали предположительно в середине сорок четвертого года.
Верховное командование вермахта считало, что разгром этого десанта союзников будет иметь тяжелые политические и военные последствия для англо-американского руководства и заставит США и Англию отказаться от планов открытия второго фронта в Западной Европе и создаст предпосылки к началу переговоров. Но, чтобы склонить Англию и США к переговорам при сложившемся после Курской битвы соотношении сил, надо было кроме дипломатических мер располагать какими-то средствами военного давления, которые могли бы произвести должное впечатление на лидеров западных держав. Такое средство фашистское руководство и видело в беспилотных самолетах-снарядах, в ракетах дальнего действия, особенно в баллистической ракете ФАУ-2.
Советской разведке стало известно, что германское командование готовится к массированным ракетным ударам по Англии, в первую очередь по Лондону, по его центру, по густо населенным районам. В дальнейшем планировалось обстреливать ракетами Москву, Ленинград и крупнейшие промышленные города Советской России вплоть до Урала. Фашисты рассчитывали на внезапность. По благодарности, полученной из Центра, Старкову было видно, что переданные ценные сведения подтвердили важную информацию, полученную из других источников, и Ставка Верховного Главнокомандования принимает необходимые меры по защите промышленных городов страны от возможных ударов беспилотных средств воздушного нападения противника.
Шла война явная и тайная. О второй, тайной, не писали в газетах. Это был фронт без линии фронта. Но и здесь были свои победы и поражения. Бои были напряженными, хотя на этом фронте не гремели залпы артиллерии и не слышались пулеметные очереди. Сражения шли в едва уловимом треске и шорохе ночного эфира. Не воздушные армады, а одинокие самолеты с приглушенными моторами двигались в ночном небе на большой высоте и обходили стороной военные объекты и города, сбрасывая не бомбовый груз, а одиночных парашютистов или небольшие группы людей. Правда, выстрелы и взрывы иногда звучали и на тайном фронте, но не они были решающими. Очень часто небольшой клочок бумаги со столбиком цифр оказывался сильнее атаки танковой дивизии, и два слова, брошенные вполголоса, решали судьбы многотысячных армий.
2
День выдался не по-зимнему солнечный и ясный. По синему небу медленно двигались редкие бело-пеиные облака, чем-то похожие на взбитые сливки.
Ровное широкое шоссе, казалось, само стелилось под колеса машины. По обеим сторонам бежали ряды деревьев, посаженных по линейке. До Берлина оставалась сотня километров, и Старков стремился быстрее преодолеть их, чтобы успеть за сегодняшний день не только устроиться в столице, что не так просто сейчас, когда почти ежедневно Берлин подвергался массированным налетам авиации и многие кварталы превратились в руины, но и нанести несколько официальных и неофициальных визитов. Асфальтовая лента шоссе бежала через поселки, мимо чистеньких аккуратных домиков под крутыми черепичными крышами. Размышляя о своем, Старков чуть было не налетел на полосатый шлагбаум с короткой надписью: «Ремонт. Объезд три километра». Дорога впереди и поселок основательно разбиты, видны следы недавней бомбежки. Время приближалось к полудню. Старков свернул и, следуя стрелкам указателей, объехал разбомбленный поселок. Выбравшись на шоссе, дал полный газ. Но не успел отмахать несколько десятков километров, как перед мостом через канал снова остановка. Заградительный отряд.
— На ту сторону проезд закрыт! — к машине уверенно подошел долговязый молодой ефрейтор из отряда фольксштурма.
Новая армейская форма на нем сидела мешковато, из широкого воротничка торчала тощая мальчишеская шея. На вид ему было не больше шестнадцати-семнадцати лет. Но держался он не по возрасту уверенно, гордый своим назначением и службой.
— Сворачивайте в тень, не демаскируйте военный объект!
«Военный объект» — это мост. Слева и справа, по обе стороны шоссе, под деревьями стояло с десяток автомашин. Вдали, за каналом, над железнодорожной станцией, стелился дым, в небе мелькали крошечные самолеты, гулко доносились взрывы бомб и торопливый грохот зенитных орудий. «Задержка может быть долгой», — подумал Старков и вслух резко произнес, обращаясь к безусому ефрейтору:
— Кто здесь старший? Позовите сюда!
Парень, лихо козырнув, побежал к дому на противоположной стороне. Вскоре он вернулся с кряжистым, неторопливым стариком в форме фельдфебеля. Старков воочию мог убедиться, что созданные и широко распропагандированные Геббельсом отряды фольксштурма состояли в основном из призывников семнадцати и шестнадцати лет и людей пожилого возраста.
Увидев за рулем штатского, фельдфебель нахмурился:
— Приказ для всех одинаковый!
Старков молча стянул с рук узкие замшевые перчатки и, вынув из кармана удостоверение контрразведки, протянул фельдфебелю. Тот, подслеповато щурясь, уставился на документ. Потом не спеша достал и водрузил себе на нос очки в жестяной оправе.
— О! Контрразведка… Он из контрразведки! — восхищенно зашептали мальчишки в солдатской форме.
Фельдфебель наконец разобрался, в чем дело. Вытянулся.
— Только там, — он махнул на ту сторону канала, — должен доложить вам, сейчас очень опасно… Вы сами видите, налет вражеской авиации…
— А на передовой, думаете, не опасно? — спросил, улыбаясь, Старков, поворачивая ключ зажигания.
Шлагбаум медленно поднялся, открывая проезд на мост. Старков, не оглядываясь, на полном ходу повел машину на ту сторону канала. С высокой насыпи он увидел, как пламя охватило здание станции, как горели вагоны. Сбавляя скорость, к пригородной станции приближался пассажирский экспресс. Разбомбив эшелоны, американские бомбардировщики — Старков по внешнему виду определил союзников — пошли на Берлин. Осталось лишь два самолета, и они, сделав разворот, атаковали приближающийся пассажирский поезд. Крупнокалиберные пули дырявили крыши вагонов, прошивая их насквозь. Над двумя вагонами вспыхнуло пламя…
Старков, свернув с шоссе, спешил миновать опасное место. Берлин был почти рядом. Над городом густой пеленой висела серая мгла, закрывая солнце. Замелькали светофоры. Увеличился поток машин. То там, то здесь виднелись следы бомбежек. У перекрестка вынужденная остановка: дорогу преградил опрокинувшийся трамвай. Два тяжелых грузовика и трактор, подцепив трамвай тросами, стягивали его с проезжей части. Находясь в Париже, Старков даже и не представлял, что жизнь в столице Третьего рейха все больше становилась похожей на кошмарный сон. Огромный город чуть ли не каждую ночь вздрагивал от ударов авиации Советской Армии и союзников. Разбитые витрины и окна темными провалами пустых глазниц уныло смотрели на улицы, еще совсем недавно щеголявшие знаменитой немецкой чистотой. Команды истощенных военнопленных и угнанных на работу мирных людей, с нашивками «Ост» на груди, лениво разбирали завалы, очищали проходы. И все же разрушений было не так много, как хотелось бы. Город, как старая кокотка, старался скрыть свои изъяны. Ближе к центру разбитые дома прикрывались фанерными щитами с изречениями Гитлера, призывавшими бороться до полной победы. Когда Старков поворачивал к набережной, ему бросился в глаза старый плакат, прикрепленный к фасаду разрушенного дома: «Мы приветствуем первого строителя Германии — Адольфа Гитлера». Это в свое время потрудились сотрудники ведомства пропаганды. Старков невольно улыбнулся. Еще год-полтора такой «деятельности», и этот «строитель» превратит Берлин в груду развалин…
Около моста у станции метро Старков притормозил машину. Неподалеку от входа в метро стоял старый газетный киоск. Выйдя из машины, к нему и направился Старков. На стенках киоска висели различные рекламы и объявления, обложки журналов с полуобнаженными девицами и солдатами, большой плакат, на котором изображен человек в темных очках и шляпе, с поднятым воротником пальто, поднесший палец ко рту. «Тс-с! — предупреждала надпись. — Молчи! Тебя может подслушать вражеский шпион!» Внешне киоск не изменился, ничего подозрительного. Но, присмотревшись, Старков сразу же обратил внимание на одну деталь и замедлил шаги: обложки журналов, рекламы и объявления, разноформатные сами по себе, не составляли единую условную прямую линию. Нарушена была и композиция расположения материалов. Сразу два предупредительных условных знака. Они еще издали как бы кричали: не подходи, опасность!
И в киоске не было ни знакомой фигуры тощего и добродушного Ганса, с черной повязкой на глазу, ни его жены Эрики, женщины грузной, приветливой, которая иногда подменяла мужа. Они появились в Берлине задолго до начала войны. Старков не знал их настоящих имен, знал только, что они люто ненавидят фашизм и что у них есть единственный сын, который находится в концлагере… Два года назад Старков часто бывал в Берлине, приходил сюда и, покупая газеты, передавал бумажную марку, сложенную вчетверо. Ганс приветливо кивал головой, брал марку. В деньги Старков заранее заворачивал коротенькую папиросную бумажку со столбцами цифр. У Ганса имелась связь с радистом. А может быть, на ключе работал кто-то из них, Ганс или его Эрика. Такими деталями Андрей не интересовался. Это не его дело. Здесь чем меньше знаешь, тем лучше. Главное, что радиосвязь была надежной и четкой. Они были прикомандированы к берлинской группе. И теперь их нет. В киоске сидит подсадная утка — молоденькая смазливая немка, которая по годам могла бы сойти и за дочку Ганса и Эрики. Мимо киоска снуют люди, редкие прохожие останавливаются, чтобы купить газету или журнал. Подсадная утка томится от безделья, незаметно зевает, нехотя прикрывая рот рукой. Она старается добросовестно выполнить поручение своих хозяев, играть роль киоскерши…
Старков, не останавливаясь, прошел мимо киоска.
3
В бывшем немецком блиндаже стояла духота. Юстас, присев на корточки, щедро подкладывал дрова, и чугунная печка дышала жаром. В ведерной немецкой алюминиевой кастрюле, распространяя приятный духовитый мясной аромат, булькало варево. Галия готовила из доброго куска конины какое-то замысловатое башкирское блюдо, название которого Юстас никак не мог запомнить. Положив в огонь смолистые полешки, он виновато посмотрел на Мингашеву:
— Опять забыл…
— Кабырга… — повторила Галия, продолжая ловко чистить картошку острой финкой. — Кабырга называется. Совсем не трудно запомнить.
— Кабырга, кабырга, — Юстас привстал, вытянув шею.
— Если бы муки достать и хоть пару яичек, я бы настоящий бешбармак сготовила, — задумчиво произнесла Галия, опуская в ведро с водой очищенную картофелину. — Ты ел когда-нибудь бешбармак?
— А что это такое? — в свою очередь поинтересовался Юстас.
— Очень вкусное, скажу тебе, такое блюдо. Наше национальное, башкирское. Ну как тебе объяснить? Немного похоже на русскую лапшу, только совсем по-другому. Бульон подают в чашках отдельно, а вареное тесто и мясо, посыпанное луком, перцем, приправами, — на большом подносе.
В блиндаж, пахнув облаком холода, вошел Кульга. Стянул с головы меховой шлем, потянул носом.
— Вкусненько!
— Скоро будет готово, Гриша, — сказала Мингашева, моя в ведре очищенную картошку. — Только красного перцу нету и сметаны…
— Ну, ты хочешь, как в ресторане… Сойдет и так! — Кульга скинул замасленный полушубок, расстегнул ворот гимнастерки. — Жарко натопили, хоть баню устраивай, — и перешел на деловой тон: — Горючим заправились, полные баки под завязку. И боекомплекты уложили. А где Илюха?
— Так он вместе с тобой ушел, — ответила Галия, пробуя ложкой варево. — Юра, подай банку с солью.
— Шляется черт знает где и без разрешения, всыплю я ему, — беззлобно произнес Григорий и добавил: — К обеду гость придет. Земляк мой, как после боя выяснилось…
— Этот отчаянный лейтенант из пехоты? — уточнила Мингашева.
— Он самый. Костя Рокотов. Поговорить надо. Он, оказывается, из госпиталя домой, в Донбасс, наведывался.
— А ты его вчера отругал, — прыснула Мингашева. — Ласково приветствовал, одним словом, земляка своего.
— Так то же в бою!.. Он же на рожон лез, прямо куда не надо и без оглядки, — сказал Кульга. — Злости у него много накопилось, когда дома побывал да увидал, что осталось… Вот и безрассудничает отчаянно.
Пехотинцы Рокотова с позавчерашнего дня воюют вместе с танкистами. А с десантом на броне действовать легче и увереннее. Сделав стремительный бросок в тыл врага, танкисты с десантниками вчера на рассвете ворвались в это небольшое село и с ходу выбили гитлеровцев, которые не ожидали удара с тыла. А потом, через пару часов, фашисты пять раз атаковали, лезли напролом, пытаясь вернуть утерянные хорошо укрепленные позиции. Бой шел весь день с переменным успехом, лишь к ночи, когда подошла подмога, гитлеровцев отбросили окончательно. Поле перед деревушкой усеяли десятки трупов, чадили в небо два транспортера, и грудой металлолома застыли три подбитых танка…
В блиндаж, пахнув холодом, шумно спустился Илья Щетилин, неся в охапке небольшой немецкий брезентовый мешок:
— Принимай, братцы, трофеи к нашему котлу!
— А ну-ка объясни сначала, где был? — нахмурился Кульга.
— Так я у друзей-десантников. Царица полей, пехота наша, разнюхала в штабном блиндаже склад какой-то небольшой. Поделились по-братски, — Илья, чумазый, перепачканный пороховой копотью и сажей, озорно блестел белками глаз и крепкими зубами, выкладывал на стол колбасу, куски сала, немецкие консервы, галеты в пачках, две бутылки шнапса.
— Ты бы хоть вывеску свою снегом обтер, а то в темноте за черта принять можно, — сказала Галия.
— Это мы мигом, счас сделаем, — сержант улыбнулся и, засунув руку за пазуху, вынул два небольших краснобоких яблока. — А это персонально для вас!
Галия всплеснула руками, глаза ее радостно заблестели:
— Ой какие!
— Персонально для вас, самой смелой и самой красивой боевой подруги советских танковых войск! Немцы вывезли яблочки из какого-то райского сада, доставили самолетом, а мы, мягко говоря, побили их, выполнили свою высокую миссию, а райские яблоки доставили по адресу.
Мингашева с благодарностью посмотрела на Илью. Тот смутился и опустил глаза. Кульга нахмурился. «Ну, ухажер самозваный, погоди, я тебя взгрею так, что забудешь маму родную», — подумал Григорий и вслух громко произнес:
— Принес и хорошо! Хватит дурачиться.
— Такие яблоки у нас в Каунасе растут, — вставил слово Юстас. — Они могут до весны свежими лежать.
— Где тут мой земляк живет? — в блиндаж с облаком пара ввалился крупный, под стать Кульге, пехотный лейтенант. — Тот самый, который матюкается красиво.
— Заходи, заходи, — Кульга встал навстречу.
— Ого! А у вас и красавица черноглазая! — Рокотов стрельнул острым взглядом на Галию, щелкнул каблуками, представился: — Лейтенант Константин Рокотов! Почти тот самый, о котором в кино «Два бойца» песню поют, помните? Только петь надо «обожают Костю-шахтера», хотя это немножечко не в лад.
— Знакомься, Константин, наша боевая подруга, механик-водитель, невеста моя Галя, — Кульга сразу предупреждал, чтоб в дальнейшем не было пустого ухаживания. — А танк у нас, скажу тебе, подарочный, сделан на заводе ее друзьями-комсомольцами.
— Богато живешь, земляк! — Рокотов снял шинель. — Тепло у вас, как в Ялте.
— Садись к столу.
Галия быстро ставила тарелки с едой. Юстас помогал ей, нарезая кусками колбасу, сало, хлеб. Илья тесаком вскрывал консервы. Отдельно в железной миске Галия выложила варенное крупными кусками мясо. Бульон разлила по кружкам, консервным банкам.
— Что ж ты наделала? — рассерчал Кульга. — Посудины заняла своей юшкой, а горючее из чего пить будем, а?
— На голодный живот пить нельзя, — отрезала Мингашева. — Скушайте сначала чего-нибудь.
— Сразу видно, что есть в доме хозяйка! — весело произнес Рокотов, доставая объемистую флягу и отвинчивая пробку. — Сделаем из горлышка по глотку перед закусом, а там само пойдет! — Протянул Кульге флягу: — На, земляк, начинай!
Выпили, закусили. Хвалили наваристый бульон, башкирское блюдо, ели горячее мясо, удивляясь, как из конины можно приготовить «такую вкуснятину». Выпили за скорую победу, за полный разгром немцев, за родной Донбасс.
— А в Донецке ни одной целой шахты, ни одного завода, сплошные развалины, — Рокотов вздохнул, положил на стол свои крепкие кулаки. — Смотреть больно! Понимаешь, Гриша, сердце кровью обливается. А сколько людей наших перебили, погубили… Мирных, понимаешь? Не брал бы я их в плен, зверюг, ни в коем случае!..
Рокотов рассказал Кульге и о его родном Мариуполе. Косте не удалось там побывать, но слышал от очевидцев. Порт разрушен, завод разбит, красавец «Азовсталь» в руинах.
Григорий мысленно был в родном Мариуполе. Много он видел разрушений и смертей, но почему-то не хотелось верить, что его милый город у ласкового моря разбит и разрушен, в развалинах. Он шумно вздохнул, стукнул кулаком по столу, звякнули тарелки, закачалась посуда со шнапсом.
— Ну-у, гады!.. Ну-у, га-ады!..
— Выпьем, Гриша!
— Нет, Костя, не хочу… Душа стонет… А когда там, внутри, у сердца, открывается рана, ее водкой не зальешь и не вылечишь. Нет!.. Тут другое средство нужно, — Кульга повернулся и положил свою руку на плечо лейтенанту, посмотрел в глаза. — Но их времечко кончилось, и навсегда! Ты прав, Костя, давить их надо… Пощады от нас не будет!..
— И не было, — вставила Галия. — Как в песне: били, бьем и будем бить! — и перевела разговор на другую тему: — Чай закипел. Шнапс убирать?
— Убирай, — согласился Григорий.
— У меня от всей родни всего несколько человек в живых. И жена целая и невредимая, с годовалым пацаном… Валеркой звать, — Рокотов достал из нагрудного кармана фотографию. — Вот бутуз мой, Валерка, посмотри.
— Так с этого и начинать надо бы, — Кульга взял фотографию.
— Счастьем не хвалятся… Время такое, кругом, сам видишь…
— А пацан ничего! — оценил Кульга. — Геройский хлопец!
Фотокарточка пошла по рукам. Галия долго и с нежностью смотрела на ребенка, с завистью посмотрела на Рокотова. «У них есть свой Валерка, — подумала она. — А у нас когда будет? Скорей бы проклятая война кончилась, скорей бы…»
Кульга достал свои фотографии, как он называл, «фотки». Среди них была и та, где он снят с Миклашевским. Рокотов долго ее рассматривал, потом спросил:
— А это кто?
— Игорь Миклашевский, мой закадычный дружок, чемпион Ленинграда и округа. Сильный боксер!
— Я видел его, если не ошибся.
Кульга насторожился. Впервые за всю войну он встречает человека, который видел Игоря. У Григория из головы не выходили слова его жены, Лизаветы, ее слезы, строчки письма, где соседка сообщала подробности, как боксера забирал патруль…
— Когда ты с ним виделся?
— Весной сорок второго, еще до первого ранения. Переходил линию фронта на моем участке, — сказал Рокотов и осекся, мысленно ругнув себя за болтливость, вспомнив строгое наставление чекистов.
— Выходит, Игорь живой! — обрадовался Кульга.
— Сейчас не знаю, а тогда был живым, — сказал Рокотов, потом добавил, не раскрывая деталей, придумывая на ходу: — К партизанам ушел дружок твой… С группой ушел. У меня в блиндаже до ночи отсиживались. Вот я и запомнил его, сам не знаю почему.
— Я сейчас же Лизавете напишу, что вы видели ее Игоря, — живо произнесла Галия. — Обрадовать надо ее, а то она совсем извелась. Понимаете, Константин, ни одного письма, как это случилось…
Она умолкла, видя, как Григорий показал ей кулак.
— А что с ним случилось? — в свою очередь заинтересовался Рокотов.
— Ну это… на фронт послали, — нашлась Мингашева, чувствуя, как жаром полыхнули щеки.
— Так он же в тыл, к партизанам ушел. Со спецгруппой! А оттуда какие письма? — Рокотов развел руками. — Жив будет, сам явится. Это точно!
Глава одиннадцатая
1
Поезд быстро набирал скорость. За окном ничего не было видно, в Берлине сплошное затемнение. Лишь на фоне неба просматривались еще более темные очертания многоэтажных зданий, тускло отсвечивали стекла заводских корпусов, фабрик, словно гигантские карандаши, торчали трубы, высокие и маленькие, выбрасывая в воздух клубы еле заметного дыма. Но их едкий запах — в столице туго было с топливом и в ход шло любое горючее и низкие сорта угля — смешивался с запахами железа, окалины, гари, дерева, выхлопных газов, составляющими в общем единый, трудный для непривычного человека городской воздух, царапающий глотку и затрудняющий дыхание. Миклашевский, уже вторую зиму проводящий на Западе, никак не мог привыкнуть к тяжелому зимнему воздуху прокопченных европейских городов. Чем крупнее город, тем хуже воздух. Коптили небо не только фабрики и заводы, густо выбрасывали дым и трубы каждого дома. Центральное отопление многоэтажных жилых зданий отличалось от московского тем, что в каждой квартире имелся свой небольшой камин, своя печурка, топить которую, а следовательно и греть воду системы отопления, нужно было самим жильцам. Одним словом, и здесь действовал, как не раз отмечал Игорь, волчий закон жизни: каждый для себя и за себя…
— С нами Бог, — сказал Фрицке, тяжело отдуваясь, — а начальство осталось в Берлине. Выпьем без его всевидящего глаза.
— Их глаза повсюду, — ответил Зоненберг-Тобольский, отпивая прямо из бутылки.
Как только они тронулись, Зоненберг-Тобольский сразу же завалился спать. Улегся на койку и Фрицке, толстый полковник из ведомства пропаганды. Двое охранников лениво дымили сигаретами и о чем-то тихо беседовали, не обращая внимания на Миклашевского.
За окном вагона проплывали очертания пригорода, а прокопченный дымный воздух никак не выветривался. Миклашевский, прислонившись лбом к холодному стеклу, смотрел на мелькавшие за окном затемненные дома и думал грустную думу, старался осмыслить свое новое положение, а вернее сказать, возврат к прошлому, к исходным позициям. Он так и подумал: «возврат к исходным позициям». Позавчера из Лейпцига пришло подтверждение, что Карл Бунцоль числится в списках погибших под бомбежкой, труп откопали в развалинах дома, в который попала бомба. Тренера нет в живых. Неделю назад, уезжая из Лейпцига, Миклашевский радовался предоставленной ему свободе. А в итоге получилось совсем не так, как хотелось, как думалось. Все планы рухнули.
В столице рейха никого не интересовали его боксерские выступления. Берлин жил лихорадочным ожиданием надвигающейся неуловимой расплаты, страхом перед возмездием. И русский боксер никому не был нужен. Ни ведомство пропаганды, ни «Русский комитет», ни русский отдел германской контрразведки больше не проявляли интереса к Миклашевскому. Был бы жив Карл Бунцоль, то по инерции еще некоторое время Миклашевский мог бы, как записано в его документах, «в пропагандистских целях и интересах великой Германии», выступать на профессиональном ринге. А сейчас… Его принимали, учтиво и вежливо выслушивали, восторгались и завидовали автографу и фотографиям знаменитого Макса Шмеллинга и так же учтиво выпроваживали, рекомендуя обратиться в другое ведомство, которое «занимается подобными вопросами». Миклашевскому ничего не оставалось делать, как вернуться назад в остлегион, к месту своей основной службы…
Не помог и высокопоставленный родственник. Зоненберг-Тобольский проявил завидное рвение, использовал свои связи, но и его результаты были необнадеживающими. Зоненбергу-Тобольскому, возглавлявшему радиостанцию, ведущую передачи на Советскую Россию, предложили взять боксера «в свою команду». Но такое решение вопроса не устраивало самого Всеволода Александровича. На то у него имелись свои причины. Не политические, а чисто бытовые. Точнее скажем, семейные. Свою жену, двоюродную тетку Игоря, Всеволод Александрович еще полгода назад отправил куда-то в глубь Германии и вел свободный, а сказать точнее, разгульный образ жизни. Кутежи, оргии… И ему не хотелось, чтобы Игорь все видел. Так что на предложение взять боксера «в свою команду» Зоненберг-Тобольский пространно объяснял своим покровителям разницу между искусством кулачного боя и театральным искусством. Миклашевский, разумеется, в такие «тонкости» не посвящался. Всеволод Александрович лишь продлил родственнику срок пребывания в столице. Игорь познакомился с деятельностью радиостанции, с персоналом, с теми, кто готовил пасквильные передачи, кто вещал на Родину. Тут были и белоэмигранты, и перебежчики, прочий сброд. «Запомнить, запомнить лица предателей, — думал Миклашевский. — Документы они могут раздобыть разные, а вот физиономию не переделать. Судить их будем по всей строгости». И улыбался, чокался рюмкой, пожимал руки, вежливо, с силой, так, что многие торопливо отдергивали свои ладони, спешно разминали онемевшие пальцы…
В эти дни выяснилось, что Зоненбергу-Тобольскому необходимо срочно по служебным делам выехать в Штутгарт. Он «по-родственному» взял с собой и Миклашевского, включив его в свою командировочную группу.
— Довезу до Дюссельдорфа, а там будешь сам добираться к своей части, — сказал Зоненберг-Тобольский. — Мы поедем вниз по Рейну, а там к Штутгарту, а ты прямиком в Бельгию…
Накануне отъезда провели вечер в роскошном ресторане в центре города. Игорь был удивлен, что в этом ресторане не требовали продуктовых карточек, а в меню есть все то, что он видел лишь до войны. У Миклашевского прямо слюнки потекли, когда мимо столика, за которым они сидели, расторопные официанты проносили блюда в ниши, где разместились избранные гости.
— Тот, который с краю, у стены, лейб-медик самого фюрера, — шепнул Всеволод Александрович Игорю, показывая глазами на плотного мужчину, на тужурке которого поблескивал золотой партийный значок. — Мы с ним встречались. Он должен меня помнить.
Не успел Миклашевский разглядеть лейб-медика, как из ниши поднялся уже изрядно захмелевший крупный мужчина. Миклашевский сразу узнал его. То был Макс Шмеллинг. Знаменитый боксер некоторое время пристально рассматривал Игоря, силясь что-то припомнить, потом широко улыбнулся:
— Мой друг! Мой боксерский друг!..
«Надо обратиться к нему за помощью. Он поможет устроиться», — решил Миклашевский, выпивая рюмку, налитую Шмеллингом. Лейб-медик тем временем узнал Зоненберга-Тобольского, и Всеволод Александрович засиял от счастья. Но радость омрачил тоскливый вой сирены, оповещавшей о воздушной тревоге. Миклашевский почему-то подумал: «А хватит у этих господ мужества продолжать пировать во время налета?»
Все бросились к выходу. Зоненберг-Тобольский и Миклашевский последовали за ними. Шмеллинг усадил их в свой автомобиль, и они помчались к бомбоубежищу. Перед воротами дворца машины притормозили. Лейб-медик выскочил первым. Перед ним распахнули парадный подъезд. Вся компания, увлекая и Миклашевского, пробежала через небольшой двор. Прикрытая сверху синяя лампочка тускло освещала вход в подвал. Спускались по крутой лестнице, шли коридором, перед ними открывались массивные стальные двери. Спустились еще ступенек на сорок вниз. Вошли в небольшой подземный зал. Игорь с удивлением рассматривал толстые ковры под ногами, мягкие кресла, столики, накрытые белоснежными скатертями, официантов в черных костюмах, накрахмаленных сорочках, в белых перчатках. В вазах — свежие фрукты, шоколадные конфеты. Принесли фарфоровые блюда, на которых ласкали глаз великолепно оформленные бутерброды. Игорь не верил своим глазам: ветчина, янтарный сыр, розовая лососина, черная икра… Шмеллинг сам откупоривал бутылки французского коньяка.
— Ну как, нравится?
— Великолепно! — ответил, опережая Игоря, Зоненберг-Тобольский. — Здесь не страшны никакие начиненные подарки, падающие с неба!..
— Разве это великолепно? Второй сорт… По сравнению с большим бомбоубежищем, которое рядом с личным бункером фюрера, здесь так себе… Спартанская обстановка… Но жить можно!
Сюда не доносились ни грохот бомбардировки, ни пальба зенитных орудий. Уют и комфорт. Игорь, чувствуя, что хмелеет, налегал на закуску. Ни о каких серьезных разговорах не могло быть и речи. Пили, ели, курили… Противно было смотреть на родственника, который раболепно извивался перед именитыми гитлеровцами, преданно заглядывал им в глаза.
На рассвете, когда прозвучал отбой, поднялись наверх. Вернее, крепко захмелевшего Зоненберга-Тобольского и Миклашевского слуги проводили к выходу. Прошли немного пешком. За домами, неподалеку, в рассветное небо поднимались языки пламени. «Еще бы чуть-чуть, и бомба могла угодить в Имперскую канцелярию», — подумал Игорь, разглядывая серое массивное здание, над высоким подъездом которого была укреплена огромная эмблема гитлеровского рейха: орел, раскинув крылья, вцепился когтями в лавровый венок, в центре которого помещена свастика. В полированных перьях орла — маленьких зеркальцах нержавеющей стали — вспыхивали красным отсветом блики пожара. Казалось, что хищная птица ожила, и холодные блестящие глаза жадно смотрели на город, на бегущих людей, словно выбирали себе очередную жертву…
2
На рассвете поезд попал под бомбежку. Машинист резко затормозил, пассажиры посыпались с верхних полок. Зазвенели разбитые стекла. Где-то впереди грохнули два взрыва. Миклашевский, падая, ушиб плечо. Он, еще окончательно не проснувшись, действовал механически, торопливо одевался, натянул на себя куртку, сунул ноги в сапоги. Охранники выскочили в коридор.
— Впереди горит станция, — услышал Игорь взволнованный голос одного из них.
— Заходят на второй круг! — крикнул второй. — Пропали мы!..
Послышался надсадный свист бомб, раздался взрыв, второй, третий, вагоны задрожали, а по жестяной крыше, словно на нее сыпанули камнями, гулко затарахтели крупнокалиберные пули. Толстяк Фрицке, без мундира, натянув сапоги, инстинктивно бросился к дверям, схватился за ручку. Но его грубо оттолкнул Зоненберг-Тобольский. С вытаращенными от страха глазами, матерясь по-русски и по-немецки, он выскочил в коридор и устремился к выходу, где под гул и грохот дико орали и давили друг друга перепуганные пассажиры. Слышались отчаянные вопли раненых.
Миклашевский, прислонившись спиною к дверному проему, секунду раздумывал: бежать к дверям или лучше выпрыгнуть в окно? Снова послышался рев мотора, прогрохотали крупнокалиберные пули. Звякнула недопитая бутылка с коньяком, разбрасывая вокруг столика веер брызг. Миклашевский невольно повернулся на звон разбитой посуды. На диване, из-под подушки, где только что лежал Фрицке, торчала рукоятка пистолета. В панике тот забыл свое оружие. Игорь, не раздумывая, сунул его в карман. Почему-то вспомнилось, как в Подмосковье, в учебном тире, Миклашевский выиграл пари. Положили поллитровую бутылку на подставку, и Игорь с двадцати пяти метров попал точно в горлышко.
В разбитое окно вагона Игорь увидел, как Зоненберг-Тобольский, проворно сбежав с насыпи, перемахнул неширокую канаву и побежал к лесу, встававшему темной стеной. Решение пришло мгновенно, хотя об этом он раньше и не помышлял. «Такой удобный случай… упускать никак нельзя!» — Миклашевский выбил остатки оконного стекла и выпрыгнул на насыпь. К лесу бежали многие пассажиры. Игорь, не упуская из виду грузноватую фигуру Зоненберга-Тобольского, устремился следом за ним.
В лесу остановился, оглянулся назад. Два передних вагона и паровоз горели одним костром. В середине и хвосте состава дымили еще по вагону. Слева, невдалеке, на небольшой железнодорожной станции творилось что-то невообразимое. Плясали гигантские языки пламени, в небо уходили густые космы черного дыма, что-то гулко взрывалось, вверх взметались огромные снопы искр, летели по воздуху доски, обломки вагонов, комья земли… Нетрудно было догадаться, что разбомбили эшелон с горючим.
Зоненберг-Тобольский скрылся в лесу. Эсэсовцев его личной охраны нигде не было видно. «Такой редкий случай!.. Они, наверно, — решил Игорь, — выпрыгнули из вагона в другую сторону». Над краем леса, снизившись, промчался пикирующий двухмоторный бомбардировщик, осыпая бегущих градом крупнокалиберных пуль. «Бостон», — машинально определил Миклашевский, прижимаясь к толстому стволу сосны. Послышались вопли раненых…
Игорь метнулся следом за предателем. Не уйдешь! Но Зоненберг-Тобольский словно провалился. Был и исчез. Нигде никаких следов. Под ногами пружинила многолетняя осыпавшаяся хвоя. Пахло прелью, сосновой смолой, хвоей. Лес чем-то напоминал наш, подмосковный. Высокие сосны, разлапистые мохнатые ели. Игорю было не до красот и не до сравнений. Он лишь машинально отметил эту похожесть и, углубляясь в чащу, спешно искал Зоненберга-Тобольского. Не мог же тот далеко уйти!
Миклашевский, как на кроссе, устремился в одну сторону. Пробежав с сотню метров, повернул назад. «Я, наверное, обогнал его, — подумал Игорь. — Какой из него бегун?» В чаще тихо и сумрачно. Одиноко стучал дятел, выбивая свою морзянку. Со стороны железной дороги глухо доносились человеческие голоса. Во рту пересохло, хотелось пить. Так же хотелось пить и стояла противная сухость во рту двенадцать лет назад, когда дядя Сева взял четырнадцатилетнего Игоря с собой на охоту. Игорь с непривычки отстал, тяжелое одноствольное ружье затрудняло движение, ремень натер плечо. Стояла чудная солнечная осень. Лес вокруг играл яркими красками. Игорю жалко было стрелять в таких чудесных уток, которые сели невдалеке на озере… Дядя Сева потом смеялся над ним. Игорь никак не мог есть этих самых уток, которых видел живыми, потом окровавленными, трепыхающимися в предсмертной агонии… Как давно это было! Даже не верится, что было в действительности.
Миклашевский двигался беззвучно. Но чуткое ухо Зоненберга-Тобольского уловило чуть заметный шорох и хруст мелких веточек. Он повернулся, и они одновременно увидели друг друга. Всеволод Александрович сидел на поваленном стволе сосны и хватал воздух открытым ртом.
Тонкие крылья ноздрей вздрагивали. Правой рукой он прижимал к щеке носовой платок с пятнами крови. Тонкая красная струйка сбегала к подбородку и капала на белую рубаху. В светло-серых глазах Зоненберга-Тобольского напряжение и затаенный страх сменились радостным блеском. Чуть припухлые губы вытянулись в страдальческую улыбку. Он замахал левой рукой:
— Сюда!.. Сюда!.. Я здесь…
Игорь чертыхнулся про себя. Он же пробегал мимо этого места, как же раньше не заметил! Не думал, что тот может сесть. Судил по себе, искал бегущего, двигающегося человека. Игорь словно впервые почувствовал, как пистолет оттягивал карман. Но сунуть руку, взять «вальтер» почему-то не решался. Неприятная сухость во рту усилилась. Как же он будет стрелять в беззащитного? «Предатель он! Предатель», — стучала в висках кровь. Игорь глотнул густую слюну. Ему еще не приходилось самому расстреливать, хотя за годы войны насмотрелся всякого.
— Ну, что уставился? Крови не видел, что ли? — Зоненберг-Тобольский смачно выругался. — Сопляк! Иди сюда, меня ранило.
«Действительно, сопляк. Растерялся! Нюни распустил, — Миклашевский выругал себя. — Смелей! Сейчас или никогда». Подошел ближе, ломая ветки, раздвинул куст. Пальцы замерли, обхватив теплую рукоятку пистолета.
— Меня в щеку… Осколком! Помоги перевязать. В правом кармане пакет… — Зоненберг-Тобольский осекся, увидев перед собой дуло пистолета, качнулся назад. — Ты!.. Ты… Что делаешь?!..
— Встать! — выкрикнул Миклашевский, не слыша своего голоса.
Зоненберг-Тобольский все понял. В ужасе расширились вдруг потемневшие глаза. Он не встал, как требовал Миклашевский, а повалился перед ним на колени. Из раны обильно хлынула кровь по всей щеке. Зоненберг-Тобольский потянул трясущиеся руки.
— Умоляю!.. Пощади… Все сделаю!.. Моя жизнь может пригодиться… Пощади!..
Миклашевского била крупная дрожь. Он не мог стрелять в ползающего перед ним на коленях человека, пусть предателя. Не хватало сил нажать на курок.
— Встать! — повторил он, сам не зная зачем, свой приказ.
«От имени Родины! Смерть предателю!» — Миклашевский глотнул воздух, готовясь произнести свой приговор.
Черная тень пронеслась над головами, яростно проревели моторы. Хлестнула пулеметная очередь, сбивая листья и ветки. И стало тихо. Игорь, отпрянув под дерево, оглянулся: Зоненберг-Тобольский падал навзничь, раскрыв рот и роняя выхваченный пистолет.
— Все! Собаке — собачья смерть!.. — тяжело выдохнул Миклашевский, скорее для самого себя, чем для Зоненберга-Тобольского, который вряд ли услышит эти слова, и вытер рукавом пот со лба. — Все!
Миклашевский немного постоял, успокаивая себя. Поднял браунинг. «Надо уходить! Надо уходить!» — твердил он сам себе, но ноги почему-то не слушались. Давила усталость, словно он провел пятнадцатираундовый поединок.
Миклашевский повертел в руках тяжелый «вальтер», не зная, что с ним делать. Швырнул в кусты и, не оглядываясь, быстро, почти бегом, заторопился к разбомбленной горящей станции. Надо уходить. Эсэсовцы из личной охраны Зоненберга-Тобольского наверняка уже хватились своего исчезнувшего шефа. Встреча с ними не предвещала ничего хорошего. Игорь помнил, как они бесцеремонно и грубо обыскивали его, отбирая оружие, когда пропускали в кабинет начальника радиостанции. «А ты не обижайся, у них служба такая: охранять меня, — с нескрываемой гордостью говорил тогда Зоненберг-Тобольский и откровенно добавлял: — Трижды уже покушались на меня. Трижды! И что же? Как видишь, я живой, а те болтаются на перекладине».
Не доходя до станции, Миклашевский вышел на шоссе. Сел на попутный грузовик. Узнав, что он из разбомбленного пассажирского поезда, шофер дружески посоветовал Игорю не соваться на станцию, где сплошная неразбериха и все охвачено пламенем.
— Цистерны с бензином лопались с гулом и ревом, это, скажу я вам, пострашнее, чем бомбы, — признавался ефрейтор. — Ад сущий! — он любезно согласился подвезти Миклашевского дальше, до следующего разъезда, тем более что вез груз именно в ту сторону. — А там сядете на пригородный поезд, они ходят часто, и доберетесь до узловой станции. В нашем солдатском деле главное — вернуться вовремя в часть.
3
Марина Рубцова, выйдя из дому, направилась к центру. По чистому синему небу плыли редкие пушистые облака, и солнце в этот первый весенний день светило, казалось, по-особенному, щедро разливая свет и тепло. Город, вымытый дождями, как будто помолодел. На деревьях набухали почки, готовясь брызнуть зелеными листочками, а на газонах уже пробилась первая травка. Горожане высыпали на улицы. Старики важно восседали на скамейках, подставив лица солнцу, дымили трубками. Женщины вязали, следили за детьми. Приятно коптили фритюрни, распространяя аромат жареной картошки. Весело чирикали воробьи, дружно, в драку склевывая брошенные им теплые ломтики подрумяненного картофеля.
Марина свернула за угол и вошла в большой универсальный магазин. Не спеша направилась к парфюмерному отделу. Ей нужно купить мыла. Туалетного мыла, разумеется, недорогого. Но разве женщина откажет себе в удовольствии потрогать, понюхать дорогие духи, помечтать хоть немножко, держа в руках роскошную коробку? Марина не была исключением из общего правила. Она держала в руках свои любимые французские духи «Шанель № 5». Мечтательно полузакрыв глаза, поднесла к носу, не спеша вдыхая нежный, тонкий аромат, который слабо пробивался сквозь плотную упаковку.
— Простите, мадам, вы, я вижу, хорошо разбираетесь в духах. Не откажите в любезности и помогите мне выбрать подарочный набор.
Мужчина стоял рядом. Говорил он по-французски. Но голос, голос его был ей очень знаком. Марина застыла в напряжении, боясь пошевелиться. Она пыталась вспомнить и никак не могла, хотя точно знала, что где-то встречалась с этим человеком. Но где именно и когда? А главное, она пыталась решить, как ей себя повести дальше. Уйти молча или заговорить? А если ответить, то что повлечет за собой разговор? Ненужное знакомство? А вдруг, еще хуже: ее выследили? От таких мыслей у нее мурашки пробежали по спине.
— Так вы не откажете в любезности мне помочь? — продолжал тот и обратился к продавщице, показывая на дорогой набор: — Будьте любезны, покажите вот это.
Марина, не поворачиваясь, краем глаза взглянула на мужчину. Сердце полыхнуло огнем. Она чуть не вскрикнула от радости. Марина узнала, узнала его! Это же он, Андре, тот самый, который полтора года назад, после гибели Вальтера, вывез ее из пригорода Брюсселя и поселил здесь, в Антверпене, доставил рацию. У Андре в руках уже были какие-то покупки.
— Набор великолепный, — сказала она сдержанно, — но я бы лично купила не «Клема», а «Шанель». Но это дело вкуса.
— Ваш совет принимается с благодарностью, — Андрей Старков попросил продавщицу подать коробку духов «Шанель». — Выглядит вполне прилично, а насчет аромата ничего сказать не могу.
— Лучшие парижские духи, — сказала продавщица, чувствуя денежного покупателя. — Вы только понюхайте! А как оформлено? Ваша дама, скажу откровенно, будет весьма и весьма вам благодарна.
Андрей расплатился, подождал, пока завернут подарок. Марина, не оглядываясь, пошла к выходу. Старков догнал ее у самых дверей.
— Куда же вы спешите? Я должен вас искренне поблагодарить за добрый совет, — он все еще не был уверен в том, что она его узнала, и, наклонившись, прошептал на ухо по-русски: — Привет от Кости-парашютиста!
— Я вас узнала сразу… Андре! Кажется, так вас звать? — спросила Марина и, понизив голос, добавила: — Не говорите здесь по-русски. Возьмите меня под руку.
— У вас хорошая память. Имя мое не забыли.
Они вышли из магазина. Солнце улыбалось с высоты. Вокруг сновали люди. Марина была счастлива. Наконец-то кончились долгие месяцы ожидания.
— Такой чудесный день! — громко произнес Старков.
— Первый день весны, — сказала Марина.
— Это вам, — он протянул ей набор парижских духов.
— Ну что вы! Зачем? Такие дорогие духи, — пыталась сопротивляться Марина. — Вы же выбирали их для подарка?
— Для подарка, это точно. Поручили мне поздравить вас с женским праздником Восьмое марта, а я вот прибыл немного раньше. Так что принимайте!
— Спасибо, — ласково улыбнулась Марина и доверительно призналась: — Я о таких и не мечтала!
Старкову было приятно идти с ней, молодой и симпатичной. Два дня, которые он потратил на то, чтобы так «нечаянно» встретиться, были не в счет. Хотя вчера вечером, после целого дня ожидания, Андрей мысленно укорял Марину за затворничество. Являться же на квартиру он не решился по двум причинам. Во-первых, неизвестно, живет ли она там или нет, прошло столько времени, и всякое могло случиться. А во-вторых, на ее квартире находится радиопередатчик. Следовательно, квартира должна быть вне подозрений. Появление же мужчины в квартире одинокой женщины невольно бы привлекло внимание соседей, а может быть, еще и других «заинтересованных» лиц.
— Куда ж мы пойдем? — спросил Андрей. — Вы здесь хозяйка.
— Ко мне нельзя, хотя это был бы самый лучший вариант, — Марина примолкла, задумалась. — В ресторан тоже не пойду… В таких заведениях я не бываю, следовательно, не стоит нарушать мою легенду.
— У меня за углом машина, — сказал Старков. — Можно выехать за город, там много скромных отелей.
— Можно, только не сегодня. В три часа привезут белье из прачечной.
— С деньгами туго? — спросил Андрей.
— Хуже не может быть… Чудом держусь на поверхности.
— Понятно, — произнес Старков и протянул ей небольшой пакет. — Возьмите.
— Что вы? Не надо, — запротестовала Марина.
— Не привлекайте внимания прохожих, — тихим голосом, но сухо и твердо произнес Андрей. — Слушайте внимательно. Мы сейчас расстанемся. В пакете деньги. Рассчитывайтесь с долгами и приготовьтесь к отъезду. Взять только самое необходимое.
— Понимаю, — согласно кивнула Марина.
— Как машинка? — он имел в виду рацию.
— В полном порядке, — ответила она.
— Начало сеанса?
— Первый в двадцать.
— Сегодня сможете передать?
— Смогу.
— Письмо под деньгами, — сказал Старков и остановился около цветочного павильона, обратился к молоденькой продавщице: — Составьте букет из красных и белых гвоздик.
— Знакомство и любовь? — многозначительно произнесла девушка, складывая цветы.
— Именно так. Вы угадали.
Цветы Андрей вручил Марине. Она признательно улыбнулась. У нее сегодня настоящий праздник. И духи, и цветы и, главное, долгожданная встреча. Даже чересчур много для одного дня.
— Спасибо вам, Андре. Вы такой милый и внимательный!
— А вы такая симпатичная, прямо прелесть. Как же я в тот раз вас не разглядел?
— Не надо комплиментов, я их не выношу.
— Вот совпадение! Я их тоже не терплю и потому говорю вполне серьезно, — Андрей сделал паузу и смотрел на нее ласково, улыбался так, что со стороны можно было бы подумать, что он в эти секунды говорит женщине приятные вещи. А на самом деле он произносил тихим голосом совсем другое: — Закончите сеанс, сразу же упакуйте машину. И вынесите чемодан. Жду за углом вашего дома в двадцать один ноль-ноль. Такое время устраивает?
— Да, я успею. Все успею.
— Тогда до встречи, — он посмотрел по сторонам, ища такси. Увидел свободную машину, поманил рукой. — Садитесь, время дорого. — И галантно раскланялся: — До свидания, дорогая.
— До встречи, милый, — вполне искренне ответила Марина.
4
На них никто не обратил внимания. Прохожие спешили по своим делам. Дети играли. Старики грелись на солнце. Лишь на противоположной стороне, в ресторане, у окна сидела за столиком одна молодая женщина и все видела. То была Ивонна Ван дер Графт. Она пришла в ресторан на заранее обусловленную встречу с офицером германской службы безопасности. Офицер не отличался аккуратностью, и Ивонна заказала себе уже вторую чашку кофе. Скучая, она разглядывала прохожих. Невольно остановила свой взгляд на Старкове, который ростом, фигурой, статностью напоминал ее мужа. И покупал он у цветочницы — случайное совпадение! — точно такие же красные и белые гвоздики, какие часто дарил Ивонне муж. В сердце женщины шевельнулась обыкновенная зависть. Кому же он подарил букет? Ивонна чуть не вскрикнула от удивления, когда узнала свою приятельницу по зоопарку: «Вот так скромница! С моими офицерами водиться не захотела, а у самой, оказывается, имеются знакомые мужчины, которые дарят ей цветы».
— Так-так, очень интересно, — произнесла Ивонна, ни к кому не обращаясь.
Глава двенадцатая
1
Генерал Ильинков встал из-за письменного стола, заваленного папками, подошел к окну. Первый весенний мартовский день, солнечный и морозный, давно кончился, и синие сумерки опустились на Москву. Генерал открыл форточку и, чуть подавшись вперед, с наслаждением вдыхал морозную свежесть. Только что в его кабинете закончилось совещание. Конечно, как всегда, надымили так, что хоть вешай топор. И сам Семен Васильевич курил. В трудное лето сорок второго не утерпел, когда пришла шифровка, сообщавшая, что передовые немецкие части прорвались к Волге. Несколько затяжек папиросы, и вроде бы стало легче. Потом он не раз корил себя за допущенную слабость. Но с тех пор папиросы всегда лежали на столе.
Генерал стоял у окна, смотрел на ночной город, а пальцы привычно разминали папиросу. «Нет, не закурю, — сказал сам себе Ильинков и, вздохнув, положил папиросу обратно в пачку. — С мая надо бросать». Вспомнил своего старого друга Телеверова, который накануне войны, когда врачи (как тот шутил) произвели ему «полный капитальный ремонт без замены основных агрегатов» и категорически запретили курить, нашел в себе силы бросить. И в блокаду не закурил. А нагрузка у ленинградских чекистов была выше всех допустимых норм, работали буквально на пределе человеческих возможностей. Сегодня утром Семен Васильевич звонил своему другу в Ленинград, поздравлял с наградой, с орденом Красного Знамени.
— Поздравляю, Никола! Указ уже подписан, завтра получите. Там и твои орлы заслужили награды. Только сам знаешь, в газетах публиковать не будут. Поздравь своих ребят.
— Спасибо, дружище Сеня. От всех ленинградцев спасибо! — и добавил: — А тебе, брат, надо бросать курить.
— Ты доктор, что ли? — удивился Ильинков. — Или они тебе это подсказали, чтоб на меня воздействовать?
— Нет, просто по голосу слышу. Хрипишь, Сеня, хрипишь. Нету твоего боевого тембра. А все это от курева, — и бодро закончил: — От души и сердца спасибо за поздравления!
«С мая надо бросать, — повторил про себя Ильинков. — Надо бросать. Николай прав. — Подошел к столу. Свет от настольной лампы падал желтым пятном на стекло, которым покрыт стол, на угол красной папки. — Выпью стакан крепкого чая с лимоном, — подумал он, нажимая на кнопку. — И снова за дела!»
Наступление наших войск заставляло чекистов работать с удвоенной энергией. В победах на фронтах был немалый вклад и советских разведчиков. Летом сорок третьего гитлеровцам не удалось повторить победный рывок сорок второго, когда немецкие танки, прорвав оборону, развили успех и вышли к Сталинграду. Чекисты своевременно предупредили советское командование о готовящемся наступлении, сообщили место и время нанесения главного удара операции «Цитадель». Гитлеровцам не удалось взять реванш за поражение под Сталинградом. Величайшее сражение под Курском закончилось победой Советской Армии. Операция «Цитадель», на которую Гитлер возлагал большие надежды, окончилась провалом, а небо Москвы впервые озарилось артиллерийским праздничным салютом в честь доблестных советских войск, освободивших Орел и Белгород. Окончились провалом и другие операции, тщательно разработанные в германских штабах. Тайная война приобретала все более острый характер.
Ильинков, размяв ложечкой лимон в чайном стакане, с удовольствием сделал несколько глотков. Раскрыл папку, углубился в чтение, делая пометки карандашом. Приглушенно зазвонил телефон. Семен Васильевич знал «голоса» своих шести аппаратов. Генерал взял трубку с черного:
— Слушаю!.. Что?.. Из Бельгии?.. Очень хорошо… Да, да, сейчас же! Жду.
Семен Васильевич улыбнулся, потер ладони. Замысел, который родился в этом кабинете, осуществляется. От Марины Рубцовой пришли радиограммы. Значит, полковник Старков сам вышел на радистку. Очень хорошо! Теперь парижская группа включит ее в свою орбиту. Генерал, придерживая ложечку пальцем, отпил еще несколько глотков чая.
— Разрешите, товарищ генерал?
В дверях стоял высокий подтянутый брюнет с орденскими планками на груди.
— Входите, товарищ подполковник.
Подполковник двинулся к столу, слегка прихрамывая. Три месяца назад, при выполнении задания, он был ранен. Из госпиталя прибыл совсем недавно. Подполковник положил на стол расшифрованные телеграммы.
— Только сейчас получили, товарищ генерал.
Ильинков, отодвинув стакан, раскрыл папку и прочел отпечатанные на машинке короткие расшифрованные донесения:
В секретных подземных лабораториях разрабатывается новая двуступенчатая ракета ФАУ-9. Дальность действия свыше 4 тыс. км. Руководит всеми работами Браун. Экспериментируется новая радиоаппаратура, позволяющая наводить ракету на цель. Готовится операция «Эльстер». Перед началом обстрела Нью-Йорка ракетами немцы заранее объявят, что Эмпайр Стейт Билдинг будет разрушен в определенный день и час. Икар.
Второе донесение:
На танкостроительном заводе «Порше и К о», конструктор Шилленбург разрабатывает новый сверхмощный танк «королевский тигр». Икар.
Третье донесение было коротким:
Машина с шофером выехала по маршруту. Икар-8.
Два первых донесения (а они были от берлинской группы) генерал положил в алую папку, для информации советскому командованию. Последнее — в зеленую папку, для доклада своему непосредственному начальству.
Ильинков вынул папиросу. «Все идет по плану, так что можно и закурить», — нажал зажигалку, поднес огонек к папиросе. — Молодец Старков! «Машина с шофером» — радиопередатчик и радистка. «Выехали по маршруту» — значит, отправились в Париж. А подпись «Икар-8» показывала, что перевоз передатчика согласован с берлинской группой.
Сделав три затяжки, Семен Васильевич утопил папиросу в серой мраморной пепельнице, раздавил окурок пальцами. «Хорошего понемножку», — сказал он сам себе, раскрывая папку, в которой лежали две немецкие газеты и перевод спортивных репортажей, отпечатанный на машинке. Пробежав глазами текст, развернул газету. С небольшой фотографии, обведенной красным карандашом, ему улыбался Игорь Миклашевский. Генерал несколько минут смотрел на боксера, мысленно разговаривая с ним: «Вот ты и нашелся, Игорь! Молодец, дал о себе знать. Главное, жив! И вне подозрений. Тебе трудно, понимаю, связи оборваны. Потерпи немного еще, и все наладится. Андрей Старков включил тебя в парижскую группу. А там ребята опытные. Насчет семьи не волнуйся. Дома все в порядке». Открыв блокнот срочных дел, размашисто записал:
1. Послать поздрав. телегр. Елизавете Миклашевской с празд. 8 Марта от мужа с припиской: «Дорогая женушка, чувствую себя хорошо».
2. Поручить уральским товарищам доставить ей на квартиру дефиц. прод. как «паек на мужа».
Последнюю строчку дважды подчеркнул.
2
Миклашевский добрался до Антверпена. Документы были в полном порядке, и проверки проходил легко. Помогал автограф Макса Шмеллинга и подаренные им фотографии. Немцы не только обожали своего кумира, но знали, что великий боксмайстер имеет доступ к самому фюреру.
Остановился в гостинице неподалеку от центра, в которой его знали. Здесь он жил и тренировался в частном спортивном зале, когда проводили матчи на профессиональном ринге. Так что возвращение боксера не вызвало никакого подозрения. Тем более что газеты, в том числе и берлинские, публиковали пространные спортивные репортажи о боксерском турнире в Лейпциге и, естественно, писали о победе Миклашевского.
Оставив небольшой чемодан в номере — по дороге пришлось обзаводиться некоторыми вещами, в том числе и чемоданом, чтобы не вызвать подозрений, — как-никак, а боксер возвращается после турнира, едет издалека, — Миклашевский спустился вниз. Зашел в ресторан. В этот час посетителей было мало. Игорь выбрал столик у окна. Не успел сесть, как из-за стойки выкатился хозяин заведения. Невысокого роста, круглый, как шар, со шкиперской бородкой, он проворно передвигался. И улыбался издали, излучая доброту и приветливость:
— Мы рады снова видеть вас у себя! Мы гордимся, что вы, знаменитый боксер, живете именно у нас, господин Миклашевский, а не в другом отеле!
В том, что в Бельгии любят спорт, Игорь убеждался не раз. Листая рекламные справочники, с удовольствием отмечал спортивные названия кафе и ресторанов. То и дело попадались на глаза вывески с названием «Спортивная доблесть», «Здоровье в спорте», «Спортсмен-любитель», «Ринг», «Гонка по кругу» и т. п. В окнах многих кафе — фотографии знаменитых спортсменов, боксерских поединков, велосипедных гонок, а то — просто плакат, оповещающий, что здесь можно узнать «все спортивные новости». Как рассказывали Миклашевскому, история таких плакатов уходит в старину, когда не было ни газет, ни радио, и люди шли в кафе, чтобы выпить кружку пива и узнать самые последние новости, которые хозяин писал мелом на специальной черной доске, похожей на школьную, только меньше размером. Времена черных досок ушли в прошлое, а традиции сохранились. Спортивные новости слушать в одиночестве нельзя. Неинтересно. Их слушают всегда на людях. Бельгийцу никакая новость не в новость, если он лишен возможности выдать свои комментарии соседу-болельщику. Важно также, чтобы под рукой было еще и что выпить — за победу или утешиться в случае поражения любимой команды.
— С вашего позволения, господин Миклашевский, я собрал все газеты, в которых описаны ваши великолепные победы на ринге, — продолжал толстяк, — и, если вы не возражаете, я выставлю их на самом почетном и видном месте, разумеется, с вашей увеличенной фотографией.
Возражать в таких случаях бесполезно. Хочет он или не хочет, а хозяин сделает то, что задумал. Как-никак, а имя боксера послужит хорошей рекламой.
— Мне приятно слышать ваши слова, — поблагодарил Миклашевский, думая о том, что отсюда надо сматываться, и побыстрее, переселиться куда-нибудь на окраину, где его не знают в лицо, и скромно добавил: — У меня только небольшая просьба.
— Пожалуйста.
— Повремените с фотографией. Поймите меня правильно. Меня будут узнавать ваши постоянные посетители, и я буду чувствовать себя скованно. И мне не хотелось бы менять отель…
— Ваша скромность выше всяческих похвал!
Пока все идет хорошо. Именно пока. Но Игорь каким-то шестым чувством ощущал приближающуюся опасность. Так бывает в затишье перед грозой: на небе ни облачка, лишь вдалеке чуть показалась белая безобидная тучка, сияет солнце, воздух застыл в безветрии, даже травинка не поколышется, а в наступившей духоте чувствуется, как надвигается что-то грозное и неумолимое. Миклашевский кожей спины ощущал дыхание погони, идущих по пятам преследователей. Он не сомневался, что труп Зоненберга-Тобольского уже нашли и отыскали брошенный пистолет, выкраденный им у немца. Подозрение, конечно, легло на него. Игорь ругал себя за поспешность. Зачем бросил пистолет? На нем, конечно, остались отпечатки его пальцев. Зачем убежал? Нужно было вернуться к поезду и принять участие в поисках «исчезнувшего» начальника радиостанции… Но прошлого не вернуть, ошибки не исправить. Миклашевский утешался тем, что его ищут и ждут в расположении остлегиона, куда, судя по документам, он должен явиться. Но Игорь не намеревался возвращаться в остлегион, а хотел установить контакт и уйти к партизанам, в отряд Сопротивления.
— Я рад вам объявить свое решение, принятое на нашем семейном совете, — сказал важно хозяин, хотя за этот короткий промежуток, как Миклашевский прибыл в гостиницу и спустился в ресторан, вряд ли ему удалось собрать свою семью для совета, но не в этом дело. Хозяин повысил голос, чтоб его слышали и редкие посетители, сидевшие в зале, и сообщил решение: — Отныне и всегда, до конца вашей жизни, глубоко нами уважаемый господин Миклашевский, вы имеете ежедневно и бесплатно, подчеркиваю, и бесплатно кружку лучшего свежего пива, и порцию жареного картофеля!
Миклашевскому ничего другого не оставалось, как поблагодарить толстяка за «щедрость», хотя он хорошо знал, что кружка лучшего пива стоит копейки. Но — реклама!
Перед Миклашевским на столе появилась литровая кружка толстого зеленого стекла с белой шапкой пены, наполненная свежим пивом, и тарелка с горячими, поджаренными в масле розовыми палочками картофеля.
— Ваша кружка и ваши фриты!
— Еще раз благодарю вас, но… но! — Миклашевский выразительно развел руками и решительно отодвинул соблазнительную вспотевшую кружку с шапкой из белой пены. — Режим… А вот от картофеля и от бифштекса не откажусь!
Хозяин на минутку присел рядом и сам с удовольствием выпил пиво. Вскоре принесли бифштекс. Он выдался на славу! Отличный кусок телятины, величиной с саперную лопатку, нежный и сочный. Миклашевский признался, что давно такого не едал.
Пообедав, Игорь поднялся к себе в номер. Надо срочно что-то предпринимать. Сунул в карман браунинг, потом передумал и спрятал оружие под матрац. Внимательно оглядел себя в зеркале. Одежда в порядке. Провел ладонью по щеке. Выбрит гладко. Спрятал в нагрудный карман деньги и документы. На всякий случай, а вдруг больше сюда не вернется. Прошелся по комнате. У двери остановился. Подумал. Вынул из-под матраца браунинг и положил в боковой карман. С оружием спокойнее.
К вечеру он вернулся. Поход оказался неудачным. На окраине города военных было еще больше, чем в центре. Дважды напарывался на патрулей. Немцы, видимо, опасаясь высадки десанта союзников, беспокоились за крупнейший порт. Из прибывших транспортных судов выгружалась боевая техника. В небе, охраняя подступы к Антверпену, патрулировали истребители. «Надо уходить из города», — решил Миклашевский. Эта мысль утвердилась, когда он посетил места, где находились тайники, запасной и основной. Оба оказались пустыми. Об этих тайниках радистка не знала. Для связи с ней имелись другие тайники. А сюда клали «почту» лишь в том случае, если боксер выезжал на матчи и отсутствовал некоторое время. Миклашевский не был здесь с осени. Неужели за этот период не приходила «почта» из Берлина? Ему стало не по себе. Ощущение опасности усилилось.
Миклашевский сбросил шинель и, не раздеваясь, повалился на кровать. Приятно было лежать, закинув уставшие ноги на невысокую деревянную спинку. Ходил он сегодня много. И напрасно. Зря вымотался. Игорь закрыл глаза, заложил руки за голову. Часы монотонно тикали около уха, чем-то отдаленно напоминая стук вагонных колес. Сейчас бы ту кружку холодного пива, которую днем предлагал хозяин, как бы она освежила! Сумерки быстро сгущались, и в комнате стало почти темно. Часы тикали, отмеряя время. Его время. Закрыв глаза, он явственно, почти физически, чувствовал, как оно, его время, уходило и таяло без следа, уменьшая отпущенный ему срок для жизни. Он хотел ухватить этот поток, остановить его, но не мог. Дыхание стало ровным и спокойным. Вокруг него — тишина. И лес. Высокие сосны, поют птицы. Рядом жена Лизавета и сын… Лизавета улыбается, срывает цветы и плетет венок. Андрюшка бегает по траве и смеется звонко. Игорю и приятно и хорошо. Вдруг он увидел Зоненберга-Тобольского. Тот приближался к нему, все заслонив собою, протягивая когтистые руки. Лицо страшное. Все в крови и прилипших хвоинках. И глаза. Жуткие глаза. «Игорь! Игорь! — закричал Зоненберг-Тобольский, стремясь ухватить его руками за шею. — Ты будешь повешен!.. Повешен!.. Завтра!.. Завтра!..» Миклашевский, стремясь высвободиться, метнулся в сторону и — проснулся. В комнате темно. Сердце отчаянно колотилось в груди.
Миклашевский сел на кровати, спустил ноги. Перевел дух. «Надо же… приснилось!» — чертыхнулся про себя. Размял затекшую руку. За окном, внизу по улице прошла группа пьяных немцев, горланя песню. Игорь взглянул на часы: стрелки показывали половину девятого. Еще так рано. Спал он недолго, всего-навсего около двух часов.
Не включая свет, прошел в ванную. Расстегнул ворот. Открыл кран, сунул голову под струю. Стало легче. Насухо вытерся полотенцем, растирая лицо, шею. «Хватит самодеятельности, — сказал он сам себе. — Хватит!» Он уже не раз думал о том, как придется оправдываться перед Ильинковым. Снова и снова на память приходили слова полковника, сказанные еще в тот первый день, когда Миклашевскому стало известно, что родственник добровольно служит гитлеровцам. Игорь обещал его «своими руками», но полковник предостерег: «Этого делать не следует. Предатель получит по заслугам. Мы будем судить его народным судом». А в жизни получилось не так. Совсем не так! Не утерпел Миклашевский, не утерпел. Хотел сам, своими руками… И все… Теперь, кажется, совсем «вышел из игры». Никаких связей, все нити как-то еще с осени враз оборвались. Или, может быть, там, в Берлине, провал? Не хотелось об этом думать, но против фактов, как говорится, не попрешь. В тайниках — ни одной весточки. «Почтовый ящик» — пустой. Сам себе хозяин, вернее, один в поле… Один, но все же воин! И потому действуй согласно создавшимся условиям и по обстановке. Он так и подумал: «Действуй согласно создавшимся условиям и по обстановке». Разминаясь, провел несколько ударов по воздуху, по воображаемому противнику. Попрыгал на носочках, перенося вес тела с ноги на ногу. Вспомнил Карла Бунцоля. С ним было легко. Жалко, что ни говори, человек. Остался в Лейпциге себе на погибель. Неплохим тренером был. Даже можно сказать, вполне приличным. Игорь снова провел серию ударов по воздуху. А потом снизу, как учил Бунцоль. И остановился. Словно уперся в невидимую стену. Да что же я как мальчишка? С боксом покончено. Никому он больше не нужен. Чего жду?
Миклашевский накинул на плечи шинель, затянулся потуже ремнем. Он знал, где живет радистка, но никогда не поднимался в ее квартиру. И сейчас не собирался появляться у нее. Хотел лишь удостовериться: здесь ли она? Для этого нужно совсем немного: подойти к дому, перейти улицу и с противоположной стороны взглянуть на ее окно, вернее, на занавеску. Если она ровно закрывает окно, значит, все в порядке. Если открыт левый угол — это знак опасности. Так они давно условились с радисткой. Игорь часто приходил сюда вечерами и смотрел на окно. Если нет опасности, значит, можно действовать. Он шел к тайнику и закладывал в него «почту» для последующей передачи в Москву, в Центр.
К ночи погода испортилась. Подул с моря ветер, нагнал тучи, и заморосил мелкий противный дождь. Улица была пустынной. Еще за квартал до ее дома Миклашевский перешел на другую сторону. Издали увидел, что на нужном этаже светятся три окна, в том числе ее. Присмотрелся — знака опасности не увидел. Занавеска неровно закрывала все окно. Он не обратил на эту мелочь внимания. Главное — закрывала! Значит, все в порядке. Связь с Центром действует. Можно класть в тайник послание, Игорь мысленно писал донесение в Центр, обдумывая каждую фразу.
Глава тринадцатая
1
Миклашевский прошелся около дома. Постоял на перекрестке. Из переулка был виден ее балкон, затянутый пожухлыми листьями плюща. Дождь перестал. Игорь не уходил. Смотрел на дом и думал. Какой же сегодня день? С утра была среда. Значит, только послезавтра, в пятницу, радистка посетит тайник. Она приходит к нему по средам и пятницам. А к запасному — по воскресеньям. Так или иначе, а надо ждать. В лучшем случае только через двое суток радиотелеграмма попадет в Центр. Да и там, в Москве, им подумать надо: как и куда направить его, Миклашевского. А время не терпит. Не только день, каждый час дорог. Игорь снова посмотрел на окно. Светится. Не спит, выходит.
Снова прошелся около дома, оглядывая подъезд. Дверь открыта. Кажется, никакой опасности. Кругом пусто. Ни души. «А что, если сейчас? Всего на минутку, не больше. Скажу несколько слов и — ходу, — Миклашевский боролся сам с собой, понимая, что нарушает закон конспирации. — А выигрыш какой? Целых двое суток! Надо рискнуть. Она поймет. Так сложились обстоятельства, и у меня нет другого выхода». Радистка чем-то похожа на его жену, на Лизавету. Это он приметил еще при первой встрече. «Как они там, мои родные, Лизавета и Андрюшка? Андрюшка, пожалуй, и не узнает меня, как встретимся…»
Миклашевский остановился. Улица пустынна. В домах гасли огни. Сердце почему-то учащенно забилось. Усмиряя волнение, он вошел в подъезд, слабо освещенный тусклой электрической лампочкой. Что-то удерживало его, словно на ногах появились пудовые гири. Но он не прислушался к самому себе, не поверил предчувствиям. Не очень внимательно смотрел на окно. Оно было закрыто занавеской, но далеко не так, как это делала Марина Рубцова. Ее вообще не было в квартире. Марину увез Старков. Уходя, Марина не то что открыла левый угол, а раздвинула занавеску, открыв пол-окна. Чтобы еще издали было видно: приближаться опасно!
Гестаповцы нагрянули буквально через час после того, как Рубцова вышла в эфир. Но они опоздали. На стук в дверь им никто не ответил. Не поднимая шума, они отмычкой открыли дверь. Но той, которую искали, дома не оказалось. Вещи на месте, одежда висит в гардеробе. Казалось, что жиличка вышла по каким-то своим делам и скоро вернется.
Гестаповцы произвели обыск. Но он ничего не дал. Никаких улик. Тогда устроили засаду. Время шло, а жиличка не появлялась. Один из гестаповцев, их было двое, так, на всякий случай, чтоб из окон дома напротив не смогли заглянуть в комнату, задернул занавеску.
2
Миклашевский, стараясь не шуметь, на носочках поднялся на этаж выше и остановился на лестничной площадке. Перевел дух, осмотрелся. Кругом тишина. Дом, казалось, вымер. Только сердце почему-то колотилось в груди. Улыбнулся. Как-никак, а идет к женщине, и довольно симпатичной, такой же одинокой, как и он. При встречах — а они встречались очень редко, за полтора года всего несколько раз — Марина с нежностью и восхищением в глазах смотрела на боксера, сочувственно спрашивая: «А вам не больно? Когда деретесь на ринге, ведь и вам достается? — и откровенно возмущалась: — Неужели в Москве не могли другой легенды вам подобрать, не такой жестокой?» Миклашевский ее успокаивал, утверждая, что ему совершенно не больно, что в боксе главное — это уметь не давать себя бить, одним словом, не получать удары. Но его доводы ее мало удовлетворяли. Она, ласково и сочувственно улыбаясь, повторяла: «Понимаю, я все понимаю. Но и вам ведь достается, я же сама видела».
Миклашевский подошел к двери и, не снимая кожаных перчаток, нажал на кнопку звонка. Раздался легкий, приглушенный звук. Игорь прислушался, уловил быстрые шаги. Щелкнул замок, и дверь открылась внутрь. В прихожей темно. Миклашевский быстро вошел, закрывая за собой дверь. В лицо пахнул прокуренный воздух, он нес опасность: Марина не курила!
Миклашевский качнулся назад, но почувствовал, как в спину, промеж лопаток, уткнулся ствол пистолета.
— Руки! Хенде хох! Руки вверх! — послышалась команда на немецком языке.
Миклашевский остолбенел. «Все! Влип! — пронеслось молнией в голове. — Сам напоролся!» Поднял руки. На уровне плеч. В спину резко толкнули дулом.
— Проходи!
Вошли в комнату, освещенную электрической лампочкой. Повсюду — следы обыска. Ящики комода выдвинуты, постель перевернута, скомкана, дверцы шкафов распахнуты. На столе — раскрытая газета, в пепельнице и вокруг на скатерти — окурки. «Давно сидят», — машинально отметил Миклашевский.
Навстречу ему, с папиросой в зубах, поднялся со стула рослый гитлеровец. Рука на кобуре. Вглядевшись пристально, он вдруг улыбнулся боксеру как старому знакомому: — О! Да я вас знаю! Вот не ожидал, что встретимся… Я, знаете, даже за вас болел, когда дрались с этим, с местным грузчиком, с Рыжим Тигром… Ганс, нам повезло! Птичка попалась важная!
— Выходит, не зря торчали здесь, — отозвался глухим голосом гестаповец за спиною у Миклашевского, снова ткнув пистолетом: — Проходи, не стесняйся!
Из дальней комнаты никто не вышел. Если бы были еще, наверняка бы вышли. Значит, их всего двое. Миклашевский остановился посреди комнаты, как раз напротив трюмо. Ему хорошо стал виден Ганс, тот, который за спиной, с пистолетом. Он был ниже Игоря, плотный, в расстегнутом мундире, тыкал пистолетом, вытягивал руку. Гансом звали одного из трех немецких диверсантов, переодетых милиционерами, с которыми Игорю пришлось столкнуться в самом начале войны в лесу под Лугой. Тогда их было трое. И руки у Миклашевского были связаны. А здесь — только двое. Игорь поборол волнение. «Только спокойнее! Спокойнее, — приказал он сам себе. — Бить наверняка!» И вслух сказал, вкладывая в свои слова как можно больше обиды и возмущения:
— Своих не узнали? Солдату-фронтовику и к бабе зайти нельзя, что ли? Нет такого закона, и по уставу не запрещено в свободное время посещать женщин…
— Ага! — оживился гитлеровец с папиросой в зубах, он, видимо, был старшим. — Значит, знал, что здесь проживает женщина?
— Ну, знал, — признался Миклашевский, продолжая разыгрывать свою роль.
— Ходил к ней?
— Ходил, — подтвердил Игорь. — Ночевал даже.
— Так, так… Понятно, — гестаповец затянулся, выпустил через нос струйку дыма. — Ночевал, говоришь?
— Не раз, — соврал Миклашевский, выигрывая время.
— Так, так… И как давно ходишь сюда?
— Давно, с осени позапрошлого года. Когда победил того самого Рыжего Тигра, — ответил Миклашевский и ругнул себя: «Зачем болтаю? А если она у них в руках?» — Его настоящая фамилия Камиль Дюмбар. В седьмом раунде я его послал в нокаут, если помните?
— Так, так… Помню, как же! Красиво свалил! — гестаповец снова затянулся, выпустил дым. — Какая-то красивая женщина тебе даже цветы поднесла.
— Было такое, — подтвердил Миклашевский, улавливая в словах немца главное: он не знает радистку в лицо. Не знает. Если бы знал, то не сказал бы «какая-то женщина», а назвал бы конкретно, по имени. Ему стало как-то сразу легче. Значит, они ее не схватили. Значит, радистка на свободе. Так ли? Как проверить? И вслух сказал: — Она самая. Тогда и познакомились.
— Нам-то она как раз и нужна, — вставил слово Ганс и выругался. — Вторые сутки околачиваемся здесь, и все на сухом пайке…
Значит, Марина не у них. Миклашевский облегченно вздохнул.
— А когда был здесь в последний раз? — допытывался гитлеровец с папиросой.
— Полгода назад, перед тем как в Лейпциг поехать, на боксерский турнир. Я жаловаться буду! Меня сам Макс Шмеллинг там поздравлял, а вы!.. Не тычь пистолетом, никуда не убегу! — Миклашевский перешел в наступление. — Я с поезда только, бросил вещи в гостинице и забежал к знакомой женщине, одинокой и безмужней… Солдату не запрещается. Я на Восточном фронте кровь за фюрера проливал, у меня медаль!.. Проверьте документы, убедитесь… Вон на столе и газета, где обо мне написано и портрет мой… А вы?..
— Ладно, не кипятись. Знаем тебя, как же. Документы проверим, за этим дело не станет. Но и задержать обязаны. Такой приказ у нас. Всякого, кто бы ни был, — и добавил, стараясь говорить построже: — Обыщем, как положено. А придет смена, препроводим в нашу контору. Пусть там сами разбираются — отпускать или нет.
Отправляться в «контору» к гестаповцам Миклашевский не намеревался.
— Но пистолетом зачем тыкать? Убегу я, что ли?
В трюмо было видно, как Ганс, буркнув ругательство, опустил оружие. «Сейчас самый момент, — решил Игорь. — Только спокойнее! Бить наверняка!»
Дальнейшие события произошли молниеносно.
Поворачиваясь, Миклашевский носком сапога со всей отчаянной силой нанес удар по ногам стоявшего рядом гитлеровца с папиросой в зубах и добавил прямым по челюсти. Гитлеровец глухо охнул и рухнул на пол как подкошенный, задев, падая, стул. Тот с грохотом повалился на спинку.
Миклашевский рывком повернулся и очутился возле Ганса, который успел отскочить к стене и поднять пистолет. Игорь метнулся влево, чуть приседая и опережая на какое-то мгновение гитлеровца, нанес удар ребром раскрытой ладони по вытянутой руке с оружием. Но Ганс успел нажать на курок. Грохнул выстрел, и со звоном разбилось зеркало. Миклашевский, разворачиваясь, чуть снизу и сбоку провел правой крюк по подбородку и добавил левой по солнечному сплетению. Ганс, словно его сломали пополам, согнулся и упал, уткнулся лицом в боковую стенку платяного шкафа, не выпуская на рук оружия. «Чистый нокаут!» — машинально отметил Игорь.
Выхватив свой браунинг, Миклашевский метнулся к двери. Решали секунды. Обернувшись, он увидел, как тот, который был с папиросой, пришел в себя и, лежа на боку, вытаскивал из кобуры пистолет. Миклашевский, почти не целясь, выстрелил в него дважды. Нагнулся, вырвал из рук немца оружие, шагнул к двери. Вынул ключ из замка, вышел на площадку. Кругом тихо, словно ничего здесь и не происходило. Запер дверь и, держась за перила, как когда-то в школе, на носочках устремился вниз. Выскользнув из подъезда, перебежал на противоположную сторону.
Из-за угла выскочил патруль. Пучок света от карманного фонаря ударил Миклашевскому в глаза.
— Ни с места! Предъявить документы!
Миклашевский показал. Документы у него были в полном порядке. Старший, возвращая их, спросил:
— Где стреляли?
— Мне кажется, в том доме. — Миклашевский показал на соседний семиэтажный каменный дом. — Два раза…
Гитлеровцы кинулись в подъезд.
3
Ганс, после знакомства с кулаками боксера, обтянутыми не пухлыми перчатками, а всего лишь обычными кожаными, не скоро пришел в себя. Но едва очнувшись, он ползком добрался до окна, разбил стекло и поднял тревогу.
Шеф гестапо пришел в ярость, когда узнал, что его подчиненные упустили «исключительно важную птицу», Именно так он и назвал знаменитого боксера, солдата остлегиона Игоря Миклашевского. А если учесть, что на промышленных предприятиях усилились акты саботажа, что в его провинции появился отряд Сопротивления, что два дня назад его люди проморгали и разведчицу-радистку (агенты службы безопасности при более тщательном обыске квартиры обнаружили на балконе в переплетении пожухлых стеблей плюща умело замаскированную проволочную антенну), которая выскользнула у них буквально из-под рук, то состояние шефа можно понять. Он знал, что за такие «успехи» его хвалить не будут. Тем более что «исключительно важную птицу» упустили именно на квартире радистки. Он сам пришел туда поздним вечером. Следовательно, они и раньше были знакомы, имели контакт. Сопоставив эти факты, нетрудно прийти к выводу, что русский Миклашевский приходил к русской радистке и именно отсюда, из Антверпена, велись передачи в Москву…
В гестапо составили словесный портрет Марии Тортенберг. В службе безопасности, как оказалось вскоре, имелся ее фотоснимок, сделанный совсем недавно с помощью Ивонны Ван дер Графт. Снимок тут же размножили и разослали по всем провинциям и контрольным пунктам на границе. Вместе с этим снимком послали и увеличенную фотографию Миклашевского, пересняв ее со страниц газет. На ноги были подняты все тайные и явные агенты гестапо, службы безопасности и контрразведки, а также полиция, жандармерия и военные комендатуры.
4
Прорваться сквозь такую густую заградительную сеть было нелегко. Но Миклашевскому везло. Он благополучно добрался до Брюсселя. В этом красивом большом городе знакомых у него не было. Миклашевский хотел добраться до центра, выйти на знаменитую площадь, которую окружают золоченые фасады пышных старинных гильдийских домов. Он любил эту площадь, она особенно красива в предвечерние часы, когда лучи заходящего солнца, как светом прожектора, высвечивают затейливые узоры каменных кружев и четкую строгость прямых линий, заставляя сиять и переливаться яркими красками замысловатые орнаменты и цветные витражи окон. Нравилась ему и строгая готическая красота кафедрального собора с его башнями. Под его сводами, гулкими и сумрачными, как бы перестаешь чувствовать быстротечный бег времени и остаешься один на один с вечностью.
Но исполнить свое намерение он не решался. Слишком мало времени. Побродив около вокзала, он обнаружил, что за ним буквально по пятам следует «хвост». А может быть, ему только показалось? Игорь зашел в ближайшее кафе, устроился у окна и заказал пинту пива и традиционный бифштекс с фритами. Следом за ним в кафе ввалились военные. Они шумно разместились и велели подать дюжину пива. Поглядывая в окно, Игорь обратил внимание, что полицейский на перекрестке время от времени вынимал из кармана бумажку, возможно, фотографию, и пристально оглядывал приезжих, выходящих из здания вокзала. И эсэсовский патруль, перегородив дорогу, проверял документы чуть ли не у каждого.
Миклашевский быстро поел, осушил кружку пива. Кого-то ищут. Факт. И словно толчок в спину, догадка: а не меня ли?! Положил деньги за еду и питье под кружку, не спеша направился к выходу. Ноги сами несли вперед. Он знал подходы к вокзалу и пошел кружным путем. На вокзале всегда людно. Миклашевский смешался с толпой. Взял билет на экспресс Брюссель — Париж. По перрону рыскали сыщики и тайные агенты, заглядывая в лица отъезжающих.
Игорь купил букетик тюльпанов, стал изображать из себя провожающего. Помог старушке донести увесистый саквояж и чемодан к поезду.
— Какой у вас вагон?
— Пятый, сынок, пятый, — благодарно затараторила старушка. — Военные люди отзывчивые, мой внук тоже служит в германских войсках. Может, встречали его, Карлом зовут?
Миклашевский на глазах у сыщиков и охранников поднялся в вагон, усадил старушку и, прощаясь, вручил ей цветы:
— Счастливого пути, мамаша!
— Спасибо, сынок, спасибо… Иди, а то сейчас поезд тронется.
Миклашевский направился к выходу. Перешел в другой вагон. Раздался паровозный гудок, и экспресс тронулся, уверенно набирая скорость. Миклашевский почувствовал себя почти в безопасности. Он шел из вагона в вагон, подолгу останавливаясь в тамбурах, около окон. Кончился пригород, и начался лесной массив. Высокие сосны и мохнатые ели подступили чуть ли не к железнодорожному полотну. Миклашевский знал, что в лесных массивах скрываются партизаны, действуют отряды Сопротивления. Но где они? Как к ним добраться?
Переходя в следующий вагон — надо же занять свое место! — Миклашевский чуть не столкнулся нос к носу с тремя гестаповцами. Они, видимо, кого-то искали, бесцеремонно заглядывая в каждое купе. Его охватило недоброе предчувствие. Игорь юркнул в туалет, закрылся. Но долго здесь не просидишь. Надо уходить. Миклашевский открыл окно. Тугая струя воздуха, смешанного с паровозным дымом, ударила в лицо. Игорь высунулся. Железнодорожное полотно делало плавный поворот, огибая поляну, которую со всех сторон обступал лес. Прыгать здесь рискованно: увидят сразу и не из одного вагона. Но и оставаться опасно. В дверь настойчиво стучали. Миклашевский, цепляясь за выступы, выбрался через окно наружу и ухватился за край крыши. Встречный поток воздуха сковывал движения. Миклашевский напрягся и, оттолкнувшись об оконный выступ, рывком бросил тело наверх. Очутившись на покатой крыше, он сразу же откатился вперед. И вовремя. В туалет ворвались гестаповцы и, не обнаружив там пассажира, поняли: ушел через окно. Зазвучали выстрелы, пули снизу вверх дырявили жестяную крышу, прошли буквально рядом с ним. Миклашевский торопливо отполз и, вскочив на ноги, пригибаясь, побежал вперед, к паровозу. И это была его роковая ошибка. Бежать вперед было рискованно. Как он ни старался бежать на носочках, топот все равно был слышен в каждом вагоне. Да к тому же его увидели охранники, находившиеся в почтовом вагоне. Они, заслышав выстрелы, сами начали палить из пистолетов по живой мишени.
Поворачивать назад было поздно. Оставалось одно: прыгать… Миклашевский, ухватившись руками за край крыши, повис над тамбуром, уперся ногой в какой-то выступ. Ветер бил в лицо, слепил глаза, рвал одежду. Миклашевский выбирал место для прыжка и никак не мог решиться на бросок вниз. Но гестаповцы уже сорвали стоп-кран, и состав, дернувшись, стал сбавлять скорость. Миклашевский не удержался, сорвался, воздушный поток оттолкнул его от вагона, и он полетел под откос, кувыркаясь и переворачиваясь. Но боли не чувствовал. Главное, живой! Вскочив на ноги, петляя, побежал к спасительному лесу. А сзади, из вагонов, палили по нему из пистолетов, захлебываясь, торопливо застрекотал автомат.
Миклашевский почувствовал хлесткий удар по правой ноге. Упал. Рука повисла плетью. Не ощущая боли, вскочил и сделал еще несколько шагов к спасительному лесу. Горячие иглы пронзили его тело насквозь, сразу в нескольких местах. Это было последнее, что он помнил, упав на небольшую копну сена, проваливаясь куда-то в темную пустоту…
Он не видел, как с поезда соскочили гестаповцы, как они подбежали к нему, как для верности всадили в лежащего без движения еще несколько пуль… Как они шарили по карманам, забирая документы и громко радуясь, что именно им посчастливилось прикончить «русского шпиона».
5
Лизавета встала рано, намного раньше обычного. Подошла к окну. Утро едва занималось, и за окном стояла чуть поблекшая синяя мгла мартовской ночи. Неделю гуляла метелица, завывала глухо, плакала, пела и сердилась, наметая и разметая сугробы, А вчера день выдался редкостный, близко к полудню открылась среди тучек прогалинка, сверкнуло весенней синевой вымытое небо, и оттуда, с высоты, словно в распахнутую дверцу, кинулся вниз к земле светлый и теплый оранжевый солнечный луч. Он был как улыбка радости, как вестник надежды. Пробежал по улицам, и город словно преобразился, слетела с него хмурая суровость серых будней. Одним словом, пришел март, месяц света и начала весны.
Набежавшие тучки скоро закрыли солнце, снова воцарилась серая безликость, однако все же пахнуло чуть слышным теплом. С сосулек первые капли соскользнули в снег, пробивая ямки. А к ночи мороз ударил, ветер налетел да к рассвету утих. Деревья застыли в седом инее, словно нарисованные серебряной краской на синей эмали ночи.
Лизавета, стоя у окна, так и подумала — и самой эти слова понравились, даже не верилось, что она сейчас их составила, придумала, и они легли, как строчки из стихотворения. Она улыбнулась, потому что и у нее, как и у всего живого на земле, душа просыпалась навстречу весне и близкой радости.
Вчера письмо получила от Григория Кульги и Галии Мингашевой, написали они ей о том, что встретили на фронте человека, лейтенанта Рокотова, который видел ее Игоря, встречал его, а вернее, провожал, потому как Игорь уходил с группой на важное задание. Письмо принесло радость и надежду. Лиза подошла к кровати, посмотрела на сына. Тот безмятежно спал и во сне улыбался чему-то хорошему. Лизавета поправила одеяло: «Спи, сынок, набирайся силы, расти быстрее…»
Лизавета затопила печь, поставила кастрюлю с водой. До выхода на работу решила она простирнуть Андрюшкины штаны и рубашку да заодно и свое бельишко, изрядно поизносившееся и не единожды латанное.
Сама не помнит, как и зачем подошла к комоду, тронула синюю стеклянную вазу с надбитым краем. Цена вазы той была небольшая, да и щербатина, можно сказать, красоту портила. Но дорога она, ваза эта синяя, была Лизавете не ценностью, а памятью. Подарили ее им с Игорем в день свадьбы, любил ее Игорь, и после боев на ринге в эту вазу он всегда ставил цветы, поднесенные ему как победителю. Лизавета, уезжая из Москвы в далекий уральский город, многие нужные и ценные вещи оставила в своей квартире, а вазу взяла с собой.
Так вот, тронула она эту синюю вазу, а может, лишь чуть прикоснулась, но та вдруг соскользнула вниз и звучно разбилась, словно ее нарочно грохнули об пол. Охнула Лизавета в удивлении, присела, собирая осколки. «Ой, мамочки… Не случилось ли с Игорем чего?..»
Как-то сразу пропала, улетучилась утренняя ее радость, все вокруг поблекло, а сердце захолонуло в нехорошем предчувствии. Слезы как-то сами навернулись, и Лизавета, не сдерживаясь, тихо заплакала… И беззвучно, словно причитая, шептала побелевшими губами: «Только бы живой остался… Пусть будешь раненый-перераненый, только живой был бы… Мой милый и родной! Жизнь без тебя не в жизнь, свет без тебя не свет! Только сохранись, только уцелей!»
Проснулась Марфа Харитоновна, накинув на плечи платок, в ночной длинной сорочке, босыми ногами прошлепала по холодным половицам, молча подошла к Лизавете, обняла ее, прижала к своей груди и, словно дочку, гладила шершавой ладонью по растрепанным волосам, по голове:
— Ну, чего ты, милая, так-то?.. Ну чего раскисла?..
— Ваза… Ваза… Сама, понимаете, я ее чуть тронула… а она… сразу и на осколки… Ой, мамочка моя родная! К несчастью такое… К несчастью!..
— Примета, она, конечно, есть такая… Стекло — оно бессловесное… Так-то оно так, — успокаивающе говорила Марфа Харитоновна. — Да только еще неизвестно к чему, к несчастью или счастью. Поживем — увидим, а загодя, авансом нечего раскисать.
— К несчастью… К несчастью, — не унималась Лизавета. — Я знаю, потому что дурная примета…
— Эхма, родная моя, ты лучше делом займись! Работа, она что твой доктор: успокаивает душу, бабскому горю нашему помогает.
Марфа Харитоновна ссудила ей кусочек мыла («Получишь по карточкам, отдашь!»), принесла из сеней корыто, плеснула воды, в кастрюле нагретой. Лизавета, шмыгая носом, начала свою быструю постирушку. Утро раннее в окна заглядывало первым светом, в печке потрескивали дрова. Начинался еще один день жизни с привычными заботами и хлопотами.
А когда Лизавета развешивала во дворе на веревке на просушку стираные вещи, ее окликнула почтальонша:
— Письмо тебе оцененно, с сургучной печаткой!
Лизавета, замирая на ходу, взяла тонкий конверт, стрельнула глазом по адресу: из Москвы, из отдела, которому подчинялось и ее конструкторское бюро. Помнят, подумала, не забыли. Разорвала конверт, пробежала строчки, отпечатанные на машинке, и сама не поверила. Прижала письмо к сердцу, закрыла мечтательно глаза.
— Ну чего там, сказывай? — любопытно интересовалась почтальонша.
— Вызов пришел! — выдохнула Лизавета и бегом кинулась к дому.
Марфы Харитоновны уже давно не было, бригадир грузчиков уходила на завод чуть свет. Лизавета разбудила Андрюшку, целуя его и плача от радости.
— Вызов пришел, понимаешь! Вызов! Нас в Москву навсегда вызывают, домой поедем! Домой, домой… Там прямо в кухне водопровод, и еще ванна есть. Ты помнишь, как тебя купали?..
6
Два бельгийских крестьянина, чертыхаясь на своего бургомистра, который в такой ненастный день именно их послал закопать в землю какого-то расстрелянного, добирались на повозке, запряженной лошадью, по лесной дороге к тому месту, на какое им указал немецкий жандарм с бляхой на груди, попивавший пиво вместе с бургомистром. Впрочем, чертыхался больше молодой, а старый, его дядя по материнской линии, молча посасывал трубку и не особенно усердно погонял лошадь.
Выбравшись из леса на луговую пойму, они сразу увидели следы человеческих ног, протянувшиеся с железнодорожной насыпи. Вскоре, у небольшой копны позапрошлогоднего сена, увидели и труп в солдатской шинели, стоптанных сапогах. Убитый лежал лицом вниз, обхватив руками копенку и поджав левую ногу, а на спине его, продырявленной во многих местах пулями, темнело одно сплошное большое кровавое пятно.
— Жандармы и гестаповцы сами своих дезертиров убивают, а мы для них могильщики, что ли? — снова ругнулся молодой, доставая с повозки лопаты.
— Не дезертир он, а, бургомистр сказал, важный государственный преступник, — произнес пожилой.
— Преступников по закону судить надо, а не убивать вот так, как они сделали… Палили, видать, по бегущему. Он, наверное, с поезда сиганул, — размышлял племянник и, увидев нарукавную нашивку остлегиона, понимающе закончил: — Оно видно, какой преступник. — В слово «преступник» он вложил иной смысл. — Русский это! А они для германцев все враги и преступники.
— Русский? — пожилой как-то уважительно посмотрел на распростертого и бездыханного солдата и добавил: — Надо его по-человечески похоронить. Здорово они германцам по шеям надавали на своем Восточном фронте, здорово!
— Жандармы все карманы повыворачивали, все, сволочи, унесли, — чертыхался молодой. — Давай перевернем его, может, во внутренних что осталось. — И, понизив голос, словно его могли подслушать, произнес: — Из отряда просили, что если попадутся какие документы и военные бумаги, так чтоб сразу к ним, в лес.
Перевернули расстрелянного. Никаких документов, кроме фотографии Макса Шмеллинга, не обнаружили.
— Странно, — сказал задумчиво пожилой, — не окоченел еще окончательно, вроде даже теплый немного… Словно недавно его убили. А жандарм говорил, что три дня назад…
— Ну? А может, он вовсе и не мертвый? — племянник, отбросив лопату, склонился над телом Миклашевского. — Стекло бы сейчас… Дай нож, он у тебя шире!
Пожилой вынул свой тесак, начищенный до блеска. Молодой вытер его рукавом, для верности, и приложил к ноздрям расстрелянного. Плоскость тесака сразу припотела, появились малюсенькие капельки влаги.
— Видал? — племянник вопросительно посмотрел на дядю. — Дышит… Весь продырявлен, как решето… А дышит еще! — он снова приставил тесак к носу, и тот снова запотел. — Живой, выходит… Что ж делать нам, а?
Пожилой засопел трубкой, нахмурился. Облокотившись на лопату, долго молчал. Выпустив клубы дыма, произнес:
— Могильщиками они еще могли нас сделать, но палачами мы не станем. Живых закапывать не будем. Так-то, Лео! Стели сено на повозку.
— Ты прав, дядя Анри, — племянник сразу оживился, поняв родственника с полуслова. — В отряде там русские есть. Хорошие ребята! Отчаянно храбрые. И доктор туда из города наведывается. А дорогу я знаю.
Глава четырнадцатая
1
Летом сорок четвертого советские войска, успешно форсировав полноводную Вислу, закрепились на ее западном берегу. Следом за передовыми частями ночью, по наведенному понтонному мосту, переправился танковый батальон капитана Шагина. Командование поставило батальону задачу: не только удержать плацдарм, а по возможности расширить и углубить его.
Не теряя времени, танкисты готовились к трудному бою. Заправлялись горючим, пополняли боекомплекты. Старшина Колобродько в замасленной гимнастерке, на которой сверкал новенький орден Красной Звезды, химическим карандашом отмечал в своей замызганной толстой тетради номера боевых машин и отпущенный боекомплект. Танкисты сами сгружали ящики со снарядами, пулеметными лентами и патронами для автоматов.
Григорий Кульга, переправлявшийся через Вислу одним из последних, подкатил на своей «тридцатьчетверке» почти к пустому «форду». Кульга по привычке вскочил на подножку грузовика, заглянул в кузов и удрученно присвистнул:
— Что ж ты нам оставил, земляк?
— Что и положено, — отозвался артснабженец загадочным тоном и, приподняв брезент, показал на два ящика. — Всим выдавав по одному, а тоби припас вот парочку. Якись новы громебойны, товарищ младшой лейтенант. Их для пробной проверки из самой Москвы самолетом прислали.
— У меня за проверкой дело не станет, — ответил довольный Кульга, снимая тяжелые ящики.
— Так я то ж и говорю, что ты у нас танковый первый снайпер, для тэбэ и припас.
Не успел Кульга уложить боекомплект по ячейкам, как его вызвали в штаб. В землянке, слабо освещенной фонарем «летучая мышь», были в сборе все командиры танков. У стола, составленного из снарядных ящиков, разостлана карта. Рядом с комбатом Шагиным стоял командир полка.
— Все в сборе? Тогда приступим, — сказал полковник и посмотрел на танкистов. — Из штаба фронта сообщили, что нашей разведке удалось раздобыть важные сведения. Немцы на нашем участке собираются применить новые секретные танки. Что это за машины, какова их огневая мощь, нам неизвестно. Неизвестно и количество этих вражеских боевых единиц. Неизвестно пока и место, где именно их применит противник. Так что прошу вас, орлы, быть предельно внимательными и, если только обнаружите немецкие танки, чем-то отличающиеся от обычных, немедленно сообщите в штаб. Называйте их самоварами.
— А бить по ним, по тем самоварам, можно? — спросил Кульга.
Танкисты дружно засмеялись. Улыбнулся и полковник:
— Не только можно, но и обязательно! Вашему батальону мы передали и запас спецснарядов, присланных из столицы.
— Тогда постараемся, товарищ командир полка!
Тут же, склонившись над картой, помечая ее синим карандашом, комбат расставлял свои боевые машины на плацдарме. Кульге достался рубеж на правом фланге, у польской деревушки. Не теряя времени, Григорий повел боевые машины на передний край. До рассвета надо занять позицию, замаскировать «тридцатьчетверки» и приноровиться к местности, на которой придется вести бой. Танкисты не подозревали, что они на самом острие тщательно подготовленного гитлеровцами мощного контрнаступления. Перед ними в польской деревне находился бронированный кулак — особый батальон секретных танков.
Это были мощные танки, построенные по личному указанию Гитлера. Фюрер питал страсть к стальным чудовищам, изрыгающим огонь и смерть. Генералы и фельдмаршалы, связавшие свои судьбы с танковыми войсками, пользовались личным покровительством Гитлера. Высшие офицеры генерального штаба, хорошо знавшие пристрастие фюрера к бронированным машинам, разрабатывая боевые операции, тщательно рисовали на картах контуры танковых соединений, которые прорывают оборону противника.
Но особой заботой и вниманием фюрера были окружены доктор Порше, владелец нескольких танкостроительных заводов, глава фирмы «Порше и К о», и главный конструктор этой фирмы прусский барон Вильгельм фон Шилленбург, которого в танковых соединениях вермахта с почтением называли отцом танков. В сокровенных беседах Гитлер развивал перед ними свои идеи: создать сверхтанк. Он должен иметь сверхсильное оружие, сверхтолстую непробиваемую броню и сверхмощный мотор.
— Дайте нам пятьдесят таких сверхтанков, — убеждал Гитлер доктора Порше и конструктора фон Шилленбурга, — и мы остановим наступление русских!
Доктор Порше и фон Шилленбург принялись воплощать мечту фюрера в жизнь. Разведчики многих стран пытались проникнуть в секретную лабораторию, заглянуть в сейф конструктора, но агенты службы безопасности тщательно оберегали тайну танкостроительной фирмы.
К лету 1944 года на подземном заводе был изготовлен опытный образец. Сверхтанк отвечал всем требованиям, предъявленным Гитлером. Испытания на полигоне прошли успешно. Срочно были изготовлены пятьдесят машин.
В начале июля доктор Порше и фон Шилленбург прибыли в Берлин, в ставку фюрера, для доклада. Хмурые эсэсовцы, тщательно проверив предъявленные документы, быстро распахивали перед посетителями бронированные двери, пропускали в подземный бетонированный бункер — штаб-квартиру Гитлера.
Фюрер, просмотрев киноленту, заснятую во время испытаний, пришел в восторг. Новые сверхтанки по своим боевым качествам превосходили мощные танки «пантера» и «тигр». Новым бронированным чудовищам дали громкое название «королевские тигры». Гитлер пожелал немедленно опробовать машины в бою. Он лелеял надежду, что «королевские тигры» помогут остановить наступление русских, внесут перелом в ход войны. Фюрер подошел к карте и ткнул пальцем в западный берег Вислы, где советские войска развивали наступление.
— Здесь мы остановим большевиков!
Конструктор «королевских тигров» Вильгельм фон Шилленбург изъявил желание лично участвовать в историческом контрнаступлении и в ходе боев проверить все качества своих боевых машин. Побледневший доктор Порше робко возразил — ему не хотелось рисковать конструктором, — но Гитлер уже торжественно вскинул руку, разрешая фон Шилленбургу ехать на фронт…
На передний край вместе с особым батальоном секретных «королевских тигров» прибыл и их конструктор Вильгельм фон Шилленбург. Командир батальона и начальник личной охраны конструктора пытались удержать знаменитого «отца танков» от участия в наступлении, но фон Шилленбург высокомерно заявил:
— Не рассказывайте мне сказки. У вас устаревшие представления о войне. Броня «королевских тигров» непробиваема. Вперед, и только вперед! — и, жестом отстранив рослого начальника охраны, который встал на его пути, уверенным шагом хозяина подошел к головной машине и влез в нее. — Господа офицеры, первую машину я поведу сам!..
Офицеры-танкисты сдержанно молчали. Командир батальона неопределенно пожал плечами, а начальник личной охраны конструктора, подозрительно посмотрев на офицеров, полез вслед за своим шефом в бронированное чудовище.
На рассвете батальон «королевских тигров» выступил на восток.
2
Июль в Париже — месяц большого тепла и звонких ночных гроз. В распахнутое окно госпитальной палаты, находившейся на втором этаже, заглядывали зеленые ветки каштана. Аромат зелени мешался с обычными госпитальными запахами. Койка Миклашевского, а находился он в немецком военном госпитале под именем лейтенанта Фрица Роденбаха, стояла возле стены у окна, так что раненый «боевой офицер вермахта», придя в себя после многочисленных операций, мог часами смотреть на пробуждающуюся зелень, на первые листики, на птиц, которые порхали по веткам, вдыхать запах расцветающих белоснежных каштановых свечек.
Миклашевский не помнил, как он очутился в этом госпитале, как попал в Париж. Но он ничему не удивлялся. Он смутно помнил, как пришел в себя где-то в лесу, как над ним склонялись люди, переодевая его в офицерскую форму, и как они назойливо повторяли ему в ухо его новое имя: «Ты теперь Фриц Роденбах! Запомни, Фриц Роденбах!» Говорили они, эти люди, почему-то на родном русском языке, были они вооружены.
Не знал Миклашевский и того, что бойцы бельгийского отряда Сопротивления совершили крупную диверсию на железной дороге, пустили под откос пассажирский поезд, в котором гитлеровцы спешно перебрасывали воинскую часть к морскому побережью для усиления обороны от возможного десанта союзников. Миклашевского переодели в форму пехотного офицера вермахта, награжденного боевым орденом, и удачно переправили в санитарный поезд, который подбирал раненых немцев, оставшихся в живых после крушения.
Но в том же поезде, как стало известно много лет спустя после войны, погибли Андрей Старков и Марина Рубцова, направлявшиеся во Францию под чужими именами…
В Париже, в госпитале, над ним, фронтовым офицером, изрешеченным «подлыми партизанами», врачам пришлось основательно потрудиться, спасая его от верной гибели. Жизнь его висела на волоске. Главный хирург, разводя руками, восхищенно удивлялся:
— Семнадцать пулевых ранений! И все — только подумать! — главным образом в области грудной клетки и одно, очень опасное, — в шею. А он — живой! Сколько крови потерял… Да таких ранений хватило бы, чтобы добрый десяток человек отправить на тот свет. Вот, скажу я вам, что значит спортивная тренировка и закалка организма!
После операций, прошедших успешно, боевой офицер вдруг начал сдавать. Потерял сознание, стал бредить. Сиделка не отходила от постели. Пичкали уколами, меняли повязки. Но лекарства не помогали. Раненому на глазах становилось все хуже и хуже. Пульс еле прощупывался. Лицо осунулось, глаза ввалились, он весь страшно исхудал.
— Что мы его мучаем голодом? — сурово сказал хирург, видя нетронутую еду. — Трубку в нос — и кормите бульоном. Офицер фюрера, который хорошо воевал, имеет право на персональную опеку!
Но в нос резиновая трубка не лезла. У Миклашевского еще до войны нос был сломан в боксерском поединке. Через правую ноздрю он не мог дышать.
— Что вы возитесь? — рассердился хирург. — Не входит в правую, так вводите трубку в левую! И лейте дозу коньяка!
Десять дней его кормили через трубку, вставленную в ноздрю. Постепенно молодой и крепкий организм стал одолевать недуги. Раны затягивались, рубцевались, срастались. Шло время, и Миклашевский начал поправляться. Его перевели из одиночной палаты в эту светлую и солнечную, где кроме него находились еще трое раненых немецких офицеров. Через два месяца Миклашевский стал подниматься с кровати, потом начал ходить.
За эти месяцы он как-то незаметно сблизился с санитаркой, пожилой женщиной, которую все звали просто Мари. Игорь узнал, что она русская. Узнал совершенно случайно. Как-то в конце мая Мари, моя окна, чуть слышно напевала старинную русскую песню. Игорь сначала насторожился: не провоцируют ли его? Но потом, со временем, присмотрелся к санитарке и понял, что никакой провокации не было. Ему удалось узнать, что Мари действительно русская; Мария Дмитриевна Вишнякова эмигрировала из России в восемнадцатом году вместе с мужем, известным профессором, больным туберкулезом. Муж умер давно, началась война, и друзья-французы помогли ей устроиться в госпиталь. Она привязалась к Фрицу Роденбаху, который напоминал ее мужа в молодости. Она свободно говорила по-французски и довольно сносно по-немецки.
— Он у меня тоже в студенческие годы гири поднимал и говорил, что это полезно для накачивания силы в руках.
Ни с кем из палаты Миклашевский близко не сходился. Он избегал откровенных разговоров и больше отмалчивался. На него стали косо поглядывать другие раненые.
Миклашевский жил в постоянном напряжении. Он боялся разоблачения. Могли появиться друзья Фрица Роденбаха, сослуживцы, знавшие того, настоящего, в лицо. А покинуть военный госпиталь, который тщательно охраняли, было почти невозможно. Да и сил для самостоятельного бегства у Миклашевского еще не имелось. Он передвигался с трудом, опираясь на палочку. Рана на ноге заживала, но не так, как хотелось. Игорь делал специальные упражнения, тренируя ногу.
Беда нагрянула совсем не с той стороны, откуда ее ожидал Миклашевский. На дневном обходе главный хирург, улыбаясь, остановился около кровати Игоря и сообщил «приятную» новость:
— Я с большим удовольствием, дорогой Фриц, сообщаю вам радостную весть! Ваша жена, фрау Роденбах, наконец отыскала вас, и завтра она прибывает в Париж! Мы вышлем на вокзал машину, чтобы ее встретить.
Игорь опешил. Он никогда не видел «своей жены». По спине пробежали мурашки. Но он заставил себя улыбнуться, изобразить «искреннюю радость»:
— Благодарю вас от всего сердца! Вы не представляете, доктор, как вы меня обрадовали!
Главный хирург распорядился, чтобы боевого офицера одели в свежее белье, в палату поставили цветы. На прощание он помахал Миклашевскому рукой, советуя не особенно волноваться в эту ночь, потому что чересчур бурные радостные эмоции могут отрицательно сказаться на процессе выздоровления. А у Игоря внутри уже бушевал огонь. Что делать? Как избежать встречи с «любимой женой»? Выхода, казалось, не было. На побег у него не хватало сил.
Пришла санитарка Мари и, радуясь за офицера, принесла букетик цветов, поставила их на тумбочку у изголовья. «А что, если…» — мелькнула у Миклашевского спасительная мысль. Риск, конечно, большой. Он прикрыл глаза. Не все ли равно, когда умирать? Днем, раньше, днем позже… В палате никого не было. Раненые офицеры ушли на прогулку в сад.
— Дайте, пожалуйста, мне листок бумаги, — обратился он к Вишняковой.
Санитарка подала ему блокнот и карандаш. Игорь быстро написал: «Я русский. Мне нужна срочно гражданская одежда». Вырвав листок, протянул ей записку, добавив:
— Прочтите и при мне порвите.
Санитарка сначала недоуменно смотрела на русские буквы, потом, прочтя, уставилась на Миклашевского, пристально вглядываясь ему в глаза. Он выдержал взгляд. Глотнув воздух, утвердительно кивнул, как бы подтверждая, что в записке — правда. Тихо сказал по-русски:
— Порвите! — и тут же передумал: — Лучше сжечь.
Чиркнул зажигалкой и протянул руку. Санитарка поднесла к язычку пламени записку. Бумага вспыхнула.
— Постараюсь помочь вам, — сказала она.
Больше ничего не добавив, санитарка удалилась. Миклашевский видел в окно, как вскоре она быстрыми шагами направилась к воротам госпиталя. Оставалось одно: ждать. Если санитарка связана с гестапо или службой безопасности, его схватят сегодня же ночью… Если она не поможет, то его разоблачение отодвигается до утра, вернее, до прибытия берлинского поезда.
3
Танк Кульги занял боевую позицию на краю оврага; замаскировались в кустах и стали ждать. Летняя ночь кончилась. Под покровом темноты в деревню въехали грузовики с эсэсовцами. Солдаты стали прочесывать дворы. Послышались отчаянные вопли женщин и детей. Эсэсовцы согнали всех жителей к машинам, посадили на машины и увезли куда-то в тыл. В деревне снова воцарилась тишина, но танкисты уже были настороже. Каждый из них понял: гитлеровцы что-то замышляют.
Башенный стрелок сержант Щетилин пошел в разведку. Через час вернулся и доложил: в деревню прибыла колонна тяжелых танков.
— Сорок штук, товарищ младший лейтенант, — докладывал сержант. — Новенькие, прямо с завода… Вроде бы похожи на «тигров», но не совсем такие, крупнее.
— Наверно, «пантеры»? — спросил Кульга.
— Совсем нет, «пантер» я хорошо знаю, били мы их еще под Курском. Эти совсем другие.
— В темноте все кошки серы, — сказал стрелок-радист Юстас, и все засмеялись.
— Да нет, ребята! Ей-богу, не вру, — запальчиво ответил Илья Щетилин. — Там не «тигры» и не «пантеры». Совсем другие танки!
Кульга насторожился. А не те ли боевые машины, о которых предупреждал командир полка? Вполне может быть. Но сообщать в штаб не стал. По двум причинам: эфир прослушивается и немцами, так что не стоит раскрывать себя. Да и полной уверенности, что «самовары» появились именно здесь, пока не было. Он решил подождать до утра.
А Илья, поманив к себе Галию, небрежно вынул из-за пазухи ветку, усыпанную поспевшими яблоками:
— За неимением цветов пришлось сорвать веточку!
Галия взяла яблоки и поблагодарила. Кульга нахмурился. Он видел, что его строгие внушения не действовали на сержанта. Придется с ним по-мужски поговорить, решил Григорий.
Вдруг в предрассветной тишине послышался отдаленный гул моторов. Он становился все сильнее. Наконец стали видны силуэты первых танков.
— Идут! — сообщил сержант Щетилин, считая танки. — Четырнадцать штук!
Танки приближались. Под их тяжестью чуть вздрагивала земля. Таких машин Кульге никогда не приходилось видеть. Да, сержант Щетилин оказался прав: это были не «тигры» и не «пантеры», а какие-то новые танки.
— Юстас, передай в штаб: появились «самовары», четырнадцать штук. Принимаю бой, — приказал Кульга радисту.
— А может, просто новые танки, товарищ командир? — спросил Юстас.
— Передавай, как приказано, — Кульга повысил голос. — Противотанковыми, новыми, заряжай!
Танки приближались. В «тридцатьчетверке» все замерли на своих местах.
— Пора, — подала голос Галия.
— Спокойно! В лоб этих буйволов не возьмешь, — сказал Григорий. — Пусть подойдут ближе и подставят бока.
Дорога из деревни шла к оврагу и, свернув, тянулась вдоль обрыва. Кульга надеялся, что гитлеровцы на своих огромных тяжелых машинах не решатся штурмовать глинистый овраг. Так и произошло. Головной танк подошел к оврагу. Открылся люк, и из танка высунулся фашист.
— Я его сейчас подстрелю, как куропатку, — Щетилин схватил автомат.
— Отставить!
Сержант нехотя опустил автомат. Фашист скрылся в танке, и бронированная машина, круто повернув, двинулась вдоль оврага. За ней последовали остальные. На грязно-серых бортах виднелись черные кресты, обведенные белым кантом.
— Еще чуть-чуть. Пусть подойдут ближе…
Танки, гудя моторами и грохоча гусеницами, быстро двигались вдоль оврага. У танкистов нервы натянулись до предела. Каждый застыл на своем месте. Пушка «тридцатьчетверки» медленно двигалась вслед за первой машиной. Когда головной танк сравнялся с нашей позицией, Кульга выдохнул, нажимая спуск:
— Огонь!
Сухо грохнул выстрел, и над головным танком искристым фонтаном взметнулось пламя взрыва. Снаряд угодил под самую башню и заклинил ее.
— Есть! — радостно крикнул Щетилин, быстро заряжая орудие.
Новые снаряды, полученные перед выходом на позицию, делали свое дело. Хваленая крупповская сталь не выдержала. Второй снаряд, пробив бортовую броню, попал в снарядный ящик. Раздался оглушительный взрыв. Плоская квадратная башня с тяжелой длинной пушкой, подброшенная взрывной волной, отлетела в сторону. Танк охватило пламя. Огонь безжалостно уничтожил останки конструктора и рослого эсэсовца, начальника его личной охраны. Да, в тот момент танкисты даже и не подозревали, что точным попаданием нанесли такой непоправимый урон фашистскому танкостроению.
— По второй машине! Огонь!
Дым и бурое пламя плеснули из второй машины.
— По третьему! Огонь!
И третий танк запылал, словно он был сделан не из сверхпрочного металла, а из дерева и пакли. Гитлеровцев охватила паника. Они стали выскакивать из машин и спасаться бегством. Несколько последних танков, замыкавших колонну, поспешно дали задний ход. Но в четвертом танке, остановившемся чуть наискосок от нашей «тридцатьчетверки», решили принять бой. Развернули башню, и тяжелый одноглазый ствол начал шарить по кустам, ища замаскированного врага. Исход боя решали секунды.
— По четвертому!
Но из жерла пушки противника выплеснулось яркое пламя. Земля качнулась под «тридцатьчетверкой». Осколки и комья земли застучали по броне.
— Гусеницу перебило! — услышал Кульга в шлемофоне голос Мингашевой. — Левую гусеницу!
«Врешь, не уйдешь, — Григорий, стиснув зубы, быстро наводил орудие. — Врешь, скотина».
Они выстрелили одновременно. Кульга, может быть, на какую-то долю секунды раньше. Он видел, как снаряд попал, разворачивая броню. И в то же мгновение страшный взрыв подбросил тяжелую машину, огненный смерч ворвался в танк, а что-то горячее и острое вошло в тело Григория, обжигая кипятком. Он потерял сознание…
Гитлеровские танки, выпустив еще несколько снарядов, больше не сопротивлялись. Они попятились назад, в деревню.
Илья Щетилин, придя в себя, сразу же почувствовал, что задыхается в дыму. Танк горел. Надо скорее выбираться из него! Он схватил командира за плечи и с ужасом почувствовал, что тело Кульги стало неестественно легким. И тут же сообразил, что тянет лишь верхнюю часть туловища…
Щетилин, не чувствуя, как языки пламени охватили его со всех сторон, спустился вниз. Плечо Мингашевой было в крови. Она была без сознания. Открыв люк, Щетилин, напрягая последние силы, стал вытягивать обмякшее тело механика-водителя.
Едва он вытащил ее из танка и отволок в сторону, как раздался мощный взрыв, и «тридцатьчетверка» превратилась в огненный факел. «Взорвались баки с горючим», — машинально определил Илья, а потом пошли рваться снаряды, и огненный факел вздрагивал, как живой. Стянув с себя дымящуюся куртку, Илья стал ею сбивать пламя с Мингашевой. Сбив пламя с Галии, Илья повалился на землю и стал кататься по траве, гася на себе огонь… Он видел, что на подмогу им, стреляя на ходу, шли «тридцатьчетверки» батальона Шагина.
Тайна грозных «королевских тигров» перестала существовать.
А после войны, когда разбирали архив последней штаб-квартиры Гитлера, стало известно, что офицеры генерального штаба так и не решились доложить фюреру о разгроме особого батальона тяжелых танков и о бесславной гибели конструктора «королевских тигров», зловещего «панцерфатера» — «отца танков» — барона Вильгельма фон Шилленбурга.
4
Миклашевский заснул лишь перед рассветом. С вечера он напряженно ждал, вслушиваясь в каждый посторонний звук: не стучат ли по коридору кованые каблуки казенных сапог? Потом понял: нет, не предала. Оставалось ждать утра — поможет или нет?
За окном весело чирикали воробьи, и какая-то пичуга, примостившись на ветке, подавала свой голос. Госпиталь ожил. Задвигались ходячие больные. Приятным и вкусным пахнуло из кухни. Наконец в палату вошла санитарка Мари. Необычно хмуро поздоровавшись, ни на кого не глядя, стала двигать мебель, вытирая шваброй пол. Миклашевский напряженно ждал. Вот она подошла к его кровати. Быстро шаркая влажной тряпкой, протерла под койкой. На лице — каменное выражение. Кончив свою работу, взяла ведро и вышла. У Игоря опустились руки. Он отвернулся к стене, закрыл глаза: будь что будет!
— Больные, пора умываться, делать утренний туалет, — пропела мелодичным голосом дежурная сестра. — Ходячие идут сами, а лежачим сейчас принесем воды, мыло и полотенца.
Миклашевский, накинув на плечи больничный халат, двинулся к выходу, опираясь на палочку. В конце длинного коридора санитарка Мари вытирала тряпкой подоконник. Ему показалось, что она кого-то ждала. Опять мелькнула надежда. Миклашевский направился в ее сторону. Когда поравнялся и хотел открыть рот, женщина, не оглядываясь, тихо произнесла по-русски:
— Идите скорее вниз, к кухне. Там ждет садовник.
Миклашевский хотел произнести слова благодарности, но санитарка, повернувшись к нему спиной, пошла по коридору. Игорь, смиряя волнение, направился к лестнице. Спустился вниз и в подъезде лицом к лицу столкнулся с главным хирургом. Тот входил в госпиталь в военной форме, которая сидела на нем чуть мешковато, держа в руке пухлый кожаный портфель и пачку свежих газет. Увидев Миклашевского, остановил его:
— Мой дорогой Фриц, я бы не рекомендовал вам делать прогулку в такой ранний час. Потрудитесь вернуться в свою палату!
— Хорошо, доктор. Вы правы, — ответил Миклашевский, мысленно посылая его ко всем чертям. — Я только сделаю свои триста шагов и тут же вернусь.
— Тренируете ногу?
— По вашему совету.
— Да вы бы и без меня занимались тем же! — и уже другим, более человеческим тоном добавил, намекая на фронт: — Неужели вам плохо у нас, что вы так рветесь туда, откуда вас привезли чуть живым?
— Я привык к опасностям, доктор.
— Но длительную прогулку я все же запрещаю, — хирург двинулся к лестнице.
— Благодарю, доктор, — ответил Миклашевский. — Вы меня вернули к жизни!
— Да, чуть не забыл. Могу сообщить еще одну приятную для вас новость, — хирург, стоя на лестнице, повернулся к Игорю. — В газетах сообщают, что уничтожена банда партизан. Тех, что вас изрешетили. Так что возмездие свершилось! — и добавил: — Я распорядился послать машину на вокзал за вашей женой.
Помахав рукой, он направился вверх по лестнице. Миклашевский молча посмотрел на его широкую спину. От «новостей» главного хирурга Игорю стало не по себе. Жаль было славных ребят. Может, это они спасли его, переодев в форму немецкого офицера.
Около кухни, энергично орудуя ножницами, подстригал кусты садовник Жорж. Он кивнул Миклашевскому как старому знакомому и указал глазами на сарай, где стояла крытая оранжевая машина для вывозки мусора.
В сарае его ждали два француза, вольнонаемные рабочие. Они помогли Миклашевскому одеться в такой же замызганный комбинезон, как и у них, нахлобучили на голову кепку.
— Шнель, — сказал один из них по-немецки и виновато улыбнулся, как бы говоря: «Прости, что не знаю по-русски». Потом добавил: — Камрад! Москва!
Игорь послушно нырнул в раскрытую дверь машины. У ворот охранники задержали мусорщиков, пропуская шикарный «мерседес» главного врача. Рядом с шофером сидела моложавая белокурая женщина. «Мерседес» двинулся к главному подъезду, а машина по вывозке мусора, выехав из ворот, прибавила скорость и скрылась за первым поворотом…
Часть вторая Наследники (через двадцать лет)
Глава первая
1
Игорь Леонидович Миклашевский, тренер команды, не отходил от Валерия Рокотова. На то были свои причины. Валерий впервые выступал на зарубежном ринге. Да к тому же противник ему достался нелегкий. Джефферсон — чемпион Великобритании, боец опытный, умный, выносливый и с хорошо поставленным ударом. Находится в отличной спортивной форме. Об этом свидетельствовали его убедительные победы на турнире.
Что о нем знал Миклашевский? Не так уж много, главным образом из печати. Африканец по рождению, англичанин по паспорту, Джефферсон буквальным образом кулаками пробился к известности, к относительно независимому состоянию, как принято писать, к «материальному благополучию». И свое будущее связывает с победами на ринге. Одним словом, бокс, в данной ситуации пока любительский бокс, не увлечение, а его основная профессия. Да и сам Джефферсон, давая многочисленные интервью, не скрывал этого. Чернокожий парень честно говорил, что бокс его единственный источник жизни.
А Валерий? Игорь Леонидович был уверен в нем. И на заседании тренерского совета, в Москве, когда обсуждали состав сборной команды страны, горячо отстаивал кандидатуру Рокотова, молодого чемпиона Советского Союза. В тренерском совете разгорелся спор. Противники Рокотова доказывали, что чемпионом Валерий стал, мол, случайно, потому что не выступал многократный победитель первенства страны и чемпион Европы Алоис Позднявичус, что его, Рокотова, еще не обстрелянного на матчевых встречах с иностранцами, не резон посылать в Англию на такой ответственный международный турнир. Тренерский совет к единому мнению не пришел, рекомендовал обоих спортсменов в состав сборной команды. Окончательное решение, вернее утверждение состава команды, происходило на расширенном заседании президиума Федерации бокса СССР. Миклашевский попросил слова. Ветерана войны и бокса уважали, к его словам прислушивались. Миклашевский весьма убедительно показал разницу между Позднявичусом и Рокотовым. Отдав должное чемпиону Европы и страны, подтвердив, что Алоис действительно заслужил полное право на ответственную поездку, Миклашевский выложил главные козыри: Позднявичус достиг своего спортивного пика, ему двадцать семь лет и не резон рисковать таким опытным мастером ринга накануне чемпионата континента. А Рокотов молод, как чемпион страны он имеет законное право находиться в составе сборной, и, главное, надо думать о будущем, о надежной смене и заранее готовить возможных кандидатов на Олимпиаду, обстреливать на международных турнирах молодежь.
— Миклашевский прав, надо думать не только о сегодняшних победах, но и смотреть в будущее. А Олимпийские игры не за горами, — сказал председатель федерации и, как бы подводя итоговую черту под обсуждением, предложил голосовать по каждой кандидатуре отдельно.
Незначительным большинством голосов в состав сборной команды страны был включен Валерий Рокотов.
И вот они в Лондоне. Разместились в центре, в гостинице неподалеку от полноводной Темзы. Ночью от реки веет прохладой и слышны басистые гудки больших пароходов, самоходных барж и торопливые голоса буксирных катеров… Погода, как по заказу, солнечная, теплая. Днем боксеры совершили экскурсию по столице Англии, посмотрели на смену караула у Букингемского дворца, резиденции королевы, сходили на мост Ватерлоо, посетили Британский музей, отдохнули в тенистом Гайд-парке. Потом, как всегда, боксеров взвешивали, осматривали врачи, тянули жребий руководители делегаций, по этим номерам судейская коллегия составляла пары. Вечером — торжественное открытие традиционного турнира, первые бои на ринге. Первые победы. Рокотов оправдывал надежды. И вот теперь серьезное испытание — поединок с чемпионом Великобритании.
— Ты не думай о бое, — советовал Миклашевский, помогая Валерию бинтовать кисти рук, хотя сам знал, что в эти минуты тот не мог не думать о поединке. — Отвлекись. Расслабься…
2
Рудольф Фридрих фон Шилленбург, или, как его любовно называли репортеры западногерманских газет, Рудольф Железный, чемпион Федеративной Республики по боксу в полутяжелом весе, расслабив сильное мускулистое тело, небрежно полулежал в низком модном кресле. Темно-бордовый стеганый халат с широким светлым воротом мягко облегал покатые бугристые плечи; холеное, типично прусское лицо — с открытым лбом, прямым носом и надменно закругленным подбородком — чем-то напоминало, если смотреть сбоку, профиль римских легионеров.
Он гордился этим сходством, ибо оно наглядно подчеркивало древность рода фон Шилленбургов, и после очередной победы на ринге, когда репортеры осаждали его, с удовольствием позировал, стараясь развернуться профилем к объективу фотоаппарата. Злые языки поговаривали, что баронский отпрыск красуется, более сведущие утверждали, что у Рудольфа Железного была дважды повреждена левая бровь, отчего его породистое чело пересекает небольшой шрам. Поэтому-де он и вынужден позировать в три четверти или же в профиль. Впрочем, мужчины на его брови не обращали ровно никакого внимания, а женщины находили такую асимметрию весьма пикантной деталью мужественного лица.
Рудольф отдыхал, удобно расположившись в просторном холле трехкомнатного номера. Неслышно работала установка кондиционирования воздуха, наполняя холл терпковатыми запахами соснового леса. Рудольф всегда, когда приезжал в Лондон, останавливался в этом отеле и именно в этом номере с полуовальным холлом, окна которого выходили на Темзу. И не только он один, все Шилленбурги, посещая английскую столицу, как правило, снимали номера в этой гостинице.
— Пора включать, — предложил тренер, взглянув на часы.
— Только звук убери, Хельмут, раздражает…
— Хорошо.
Хельмут Грубер, насвистывая походный марш африканских стрелков, шагнул к телевизору. Среднего роста, средней полноты, среднего возраста и, как он сам о себе говорил, «типичный средний баварец», мысленно добавляя «чистейшей арийской крови». Правда, до мая сорок пятого последнюю часть фразы он произносил вслух, с должным достоинством и апломбом. Ныне же он говорил ее лишь в кругу друзей-единомышленников… Найдя нужную программу, Хельмут повернул экран к Рудольфу.
— Видно?
— Чуть наклони, Хельмут, и дай светлее, — приказал Рудольф и, всмотревшись в цветное изображение на экране, лениво добавил: — Рановато включил, сейчас легковесы боксируют…
— Ничего, тебе полезно посмотреть, как работают другие, — ответил Хельмут, высветляя изображение. — Ты же почти не видел турнира. Смотри, смотри, а этот, в красных трусах, ничего… Как он делает уходы с ударом! Хорошее чувство дистанции. Цепкий… Двойной справа! Отлично!..
— Нигер, — полунасмешливо-полупрезрительно заметил Рудольф.
— Араб, — уточнил тренер.
— Один черт, африканец! По последним биологическим и антропологическим исследованиям, у людей африканской расы кости в черепной коробке значительно толще, чем у европейцев. Вполне понятно, почему они легче переносят удары. Отсюда и все остальное.
— Мастерство боксера как раз в обратном, в умении не получать ударов. Что ни говори, а араб хорош! Третий раунд, а как держится… Был я у них… В армии Роммеля. Если бы тогда эта дубина Паулюс не сломал себе шею под Сталинградом, мы бы победоносно завершили поход. Каир! Александрия! Пирамиды!..
Губы у боксера чуть дрогнули, и кончики их насмешливо поползли вниз, как бы говоря: «Давай, давай, заводи старую песенку». Тренер увлекся воспоминаниями. Какое время! Рудольф неожиданно попросил:
— Хельмут, выпить что-нибудь?
Тренер вздохнул, возвращаясь к действительности, и тихим голосом спросил:
— «Восстановитель» или «Энергию»?
— «Энергию».
Хельмут кивнул. «Восстановитель» и «Энергия» — два напитка, состав которых был разработан для боксера по специальному заказу в биохимической лаборатории института питания, — содержали быстро усваиваемые высококалорийные белковые соединения с прекрасными вкусовыми качествами. Тренер направился в свою комнату и вскоре вернулся, держа в руке высокий бокал, наполненный искрящейся темно-золотистой жидкостью:
— Почти шампанское!
Боксер взял бокал и, откинувшись на спинку кресла, стал тянуть через соломинку сладкий нектар, изредка поглядывая на экран телевизора. Там, словно в немом цветном кинофильме, двигались, разговаривали, боксировали. Полуфинальные соревнования шли своим ходом, одна пара сменяла другую. Турнир, организованный английской Федерацией бокса под громким названием «Чемпионат чемпионов», приближался к самой напряженной, кульминационной фазе.
Рудольф фон Шилленбург был доволен своими выступлениями на лондонском турнире. Хотя в его весе собрались сильнейшие мастера континента, успех сопутствовал ему. Рудольф трижды поднимался на освещенный квадрат, и три раза судья на ринге раньше положенного времени останавливал бой: два раза ввиду явного преимущества и один раз поднял руку мюнхенца в знак чистой победы — Рудольф в первом раунде нокаутировал чемпиона Португалии.
Сегодня Шилленбург должен был встретиться с итальянцем Джуллети, но утром, во время взвешивания, тренер итальянца заявил, что его боксер работать не будет: «У него повреждена рука…» Конечно, всем стало ясно, что итальянский тренер не пожелал ставить заносчивого римлянина под кулаки Рудольфа Железного.
Рудольф хорошо знал итальянского чемпиона, они уже трижды встречались на ринге, и каждый раз Робертино Джуллети оказывался на полу. Шилленбург не особенно огорчился тем, что ему не удастся и в четвертый раз продемонстрировать превосходство германской расы, и был вполне доволен выходом в финал без боя.
Получив передышку — целый день отдыха! — Рудольф не терял понапрасну времени и детально готовился к завтрашнему поединку. Правда, он еще не знал, с кем ему придется боксировать. Противник определится после полуфинальной встречи, которая вот-вот должна состояться между трехкратным чемпионом Великобритании негром Джефферсоном Меллом и русским парнем, впервые выступающим на большом международном турнире… Рокотов…
— Думаю, ты завтра отлично сработаешь с Джефферсоном, — сказал тренер, как бы читая мысли Рудольфа. — Русский ему не подарок. Он сегодня нахватается и к финалу вряд ли сможет восстановиться.
Рудольф хотел что-то ответить, но неожиданно замер: на экране телевизора он увидел, как служащий, одетый в зеленую, расшитую золотыми кантами униформу, снял в синем углу норвежский флаг и на его место укрепил маленькое красное знамя. С Рудольфа слетело сонное оцепенение. Он подался вперед и выдохнул:
— Хельмут, начинается!
Грубер, который возился у журнального столика, устанавливая портативную киноаппаратуру, схватил стул и примостился рядом.
— Включить звук?
— Не надо. Так лучше.
Рудольф уселся поудобнее. Что он знал о своих соперниках? О Джефферсоне буквально все. Спортивные репортеры до пикантных подробностей описали на страницах своих газет жизнь знаменитого боксера. Его бои на ринге запечатлены на многочисленных кинолентах. Что же касается русского, то он был «темной лошадкой». До этого турнира его мало кто знал. В программе соревнований о Валерии Рокотове приводились лишь сухие официальные данные: возраст — двадцать три года, профессия — офицер, лучшее спортивное достижение — чемпион СССР.
Рудольф ни разу не видел его на ринге. Случилось так, что во все дни турнира русский боксировал в следующей паре, и, пока Рудольф после поединка принимал душ, переодевался, Рокотов тем временем уже успевал закончить свою встречу. Он, как и Рудольф, одерживал победу раньше установленного времени, заставляя своих соперников или отказываться от продолжения поединка, или вынуждая судей останавливать бой и открывать счет.
Фон Шилленбург самодовольно усмехнулся: русскому также не пришлось посмотреть и его, Рудольфа, на ринге. В то время как Рудольф боксировал, Рокотов находился в раздевалке, готовясь к выходу на помост. А это кое-что да значит, особенно сейчас! На ринге, как и на войне, знать противника необходимо заранее. Рудольф приготовился смотреть…
3
Первым на помост поднялся Рокотов. Оператор показал его крупным планом. Рудольф всмотрелся. Загорелое, слегка скуластое, типично русское лицо. Волосы темные, волнистые. Лицо не отличалось особой красотой, но невольно вызывало симпатию. Этому немало способствовали живые, с веселой искоркой, карие глаза и мягкая, чуть застенчивая улыбка. В улыбке Рокотова было что-то знакомое. Рудольф вспомнил портреты первого космонавта Юрия Гагарина и скривил губы: похож!
Рудольф продолжал рассматривать русского — тот о чем-то разговаривал со своим тренером, — ничего боксерского в его облике не нашел, не было даже обычных «боксерских примет» — следов, оставляемых на лице жесткими ударами: брови целые, без шрамов, значит, не знал ранений; нос правильный, не деформирован; губы четко очерчены, без характерной припухлости и следов травм. Странное какое-то лицо, не боксерское, слишком уж чистое. Такие чистые лица, без профессиональных «штрихов», можно встретить разве что у боксеров малых весовых категорий, у «мухачей», легковесов. Но Рокотов боксирует в полутяжелом весе, где даже у среднего мастера сила удара достигает пятисот килограммов, не говоря уже о спортсменах экстра-класса. Странно…
И, как бы в противоположность Рокотову, негр Джефферсон Мелл на своем круглом лице имел все приметы, какие только мог оставить человеческий кулак, спрятанный в пухлой боксерской перчатке. Черный цвет кожи, иссиня-черный, в какой-то мере выполнял роль грима, приглушал и стушевывал рубцы и шрамы. При первом взгляде на Джефферсона в памяти оставались его белые, как снег, белки больших глаз и два ряда крепких зубов. Лишь присмотревшись внимательнее, можно было прочесть на лице боксера следы суровой и опасной спортивной профессии. Он хорошо помнил убийственный ответ одного олимпийского чемпиона. На вопрос незадачливого журналиста: «В чем вы видите разницу между боксером-любителем и боксером-профессионалом?» — тот ответил, и его слова облетели страницы многих спортивных газет: «Нагрузки одинаковые, а вознаграждение — разное!»
«Да, — думал Рудольф. — Статус любительства, записанный в Олимпийской хартии полвека назад, давным-давно устарел, утратил связь с реальным миром и стал прогнившим фиговым листом, которым все еще стараются заслонить трудно скрываемый профессионализм. Результаты и достижения в спорте так возросли, что просто немыслимо подняться на пьедестал почета без серьезной многолетней работы. Чтобы стать мастером ринга, надо потратить пять-шесть лет молодости, а в некоторых видах спорта, как, например, в фигурном катании и плавании, необходимо начинать чуть ли не с пеленок. Так какое же тут любительство? Наоборот, ранний профессионализм… Как в искусстве. Чемпионом стать потруднее, чем солистом в балете или в опере».
Не отводил глаз от угла ринга и Хельмут. Он узнал тренера Рокотова. Неужели это тот самый русский, с которым он боксировал в сорок четвертом, в Лейпциге? Наши пути опять переплелись…
Гонг прервал его размышления. На середину ринга вышел высокий седоголовый судья, одетый в традиционный белый наряд, и взмахнул рукой, — первый раунд.
— Рядом с черным крокодилом русский выглядит щенком, — заметил Рудольф, когда соперники сошлись в центре ринга.
— Не хотел бы я, чтобы ты оказался в зубах такого щенка, — парировал Хельмут.
— Распотрошу в первом же раунде!
Почти без подготовки, без разведки схлестнулись противники на дальней дистанции и закружились, как истребители в яростном воздушном бою. Рудольф, вцепившись в подлокотники кресла, хищно следил за перипетиями схватки. Сосредоточенный взгляд, напряженное внимание расширенных зрачков, которые, словно объективы кинокамер, схватывали и фиксировали в памяти каждую деталь полуфинального поединка, чтобы потом, перебирая и осмысливая ход предстоящего боя, найти уязвимые места и наметить пути к победе. Боксеры непрерывно атаковали. Темп нарастал.
— Смотри внимательнее! — Хельмут подвинулся к экрану телевизора.
Джефферсон легким красивым движением тела неожиданно уклонился от атаки русского и стремительно, со скачком вперед, нанес ему свой коронный, длинный крюк слева. Рокотов качнулся и, словно бы ему подставили подножку, мягко свалился на обтянутый жестким брезентом пол ринга.
— Все! Можно выключать, — произнес Рудольф и повернулся к тренеру. — Давай прокрутим пленки! Надо продумать схему боя.
— Не торопись!
И как бы в подтверждение слов тренера Рокотов неторопливо, словно он упал не от удара, а случайно споткнулся по дороге к противнику, приподнялся и стал на одно колено, опершись руками о пол. Судья, слегка наклонившись, прямо перед лицом русского растопыривал свои узловатые пальцы, показывая счет секунд:
— Четыре… шесть…
Операторы показали русского крупным планом. В глазах — ни отчаяния, ни страха. При счете «восемь» Рокотов пружинисто вскочил и поднял руки в боевое положение. Дальнейшие события произошли с молниеносной быстротой. Джефферсон, понимая, как важно не упустить момент и скорее закончить бой в свою пользу — ведь завтра в финале предстоит трудная схватка с опытным тигром ринга фон Шилленбургом, — бросился на русского, осыпая его градом могучих ударов. Это был ураган, смерч, готовый снести, сокрушить все на своем пути. Лицо негра пылало вдохновением и азартом боя. Глаза блестели.
Русский утонул в этом вихре, он еле успевал защищаться. Все ждали момента, когда боксер, не выдержав натиска, рухнет поверженным. И вдруг все кончилось. Многие даже не успели заметить, как это произошло. На ринге стоял один лишь Рокотов. Он стоял, чуть подавшись вперед и наклонив голову, словно дуб, встречающий порыв бури. Смущенно улыбался, как бы извиняясь и говоря: «Простите, я не хотел этого, но уж так получилось…»
А Джефферсон, могучий Джефферсон, трехкратный чемпион Великобритании, обладатель многих титулов, лежал огромной черной глыбой у ног русского. Он упал так неожиданно, словно у него из-под ног выбили почву.
Но Рудольф, его тренер Хельмут и те знатоки бокса, которые находились возле ринга или смотрели телепередачу, видели все.
Это был мастерский прием! Русский применил полузабытый и давно не применявшийся способ защиты — отбив ребром ладони перчаток противника, с одновременным, жестким и быстрым, словно вспышка, ударом. Рудольфу врезалось в память мгновенное движение плеча и взлет кулака. Если бы Рудольфа попросили назвать удар русского, то он наверняка бы задумался: как квалифицировать такой удар? Ибо он не был ни прямым, ни крюком, а чем-то средним, комбинированным, полукрюком, полупрямым. Но снайперским по точности и пушечным по силе…
Рудольф с неожиданным удивлением и настороженностью всматривался в русского. Тот по-прежнему извиняюще улыбался; грудь дышала ровно и спокойно, словно и не было напряженных драматических минут. От недоброго предчувствия у Рудольфа вдоль спины пробежал холодок.
Судья на ринге жестом указал русскому на нейтральный угол. Выждав, пока Рокотов отойдет, судья поднял руку и стал медленно, нарочито медленно отсчитывать время. Как он ни старался, его непомерно длинные секунды не помогли поверженному чемпиону. Тот очнулся слишком поздно. Рокотов подошел, дружески помог Джефферсону подняться. Спотыкаясь на ватных ногах, боксер побрел в свой угол.
Тренер Джефферсона — длинноногий ирландец — что-то кричал негру, но тот устало махнул рукой, как бы говоря: «Все кончено…» Тогда тренер, неизвестно зачем и почему — бой проигран, судья отсчитал — выбросил на ринг полотенце, знак отказа от продолжения встречи.
Глава вторая
1
Не успел Рокотов сойти с ринга, как сразу же попал в окружение репортеров. Они плотным кольцом окружили русского. До сегодняшнего вечера представители прессы не баловали Рокотова своим вниманием, а сейчас, раздувая сенсацию, ринулись как осы на мед. Нагловатые фотокорреспонденты, толкаясь и мешая друг другу, спешили запечатлеть на пленку рождение новой знаменитости, вспышки блицев следовали одна за другой. Бойкие радиожурналисты, наладив портативные магнитофоны, совали к губам Рокотова микрофоны, а спортивные репортеры бросились торопливо заполнять страницы своих пухлых блокнотов.
Валерий, разогретый поединком, еще весь во власти пережитого боя, был застигнут врасплох. Он чуть не дрогнул под натиском перекрестных вопросов, с виду весьма безобидных, но таивших скрытую взрывную силу. Хорошо, что ему на помощь поспешил тренер Игорь Леонидович Миклашевский, привыкший отражать натиски прессы и у себя на родине, и за рубежом. Высокий, седой, не по возрасту подвижный, он умело держал себя в любой обстановке. На вопросы отвечал легко и с достоинством, бесцеремонно разоблачал каверзы, ставил на место наиболее зарвавшихся, парировал наскоки, улыбался, шутил. Переводчик Костя, поднаторевший на подобных стихийных пресс-конференциях, нес на себе основную часть нагрузки, переводя ответы и вопросы.
Не успел Рокотов освоиться, «войти в форму», как толпа журналистов стала быстро редеть. Репортеры спешили к телефонам и телетайпам, торопясь передать своим редакциям последние новости боксерского турнира. И тогда Валерий увидел, что невдалеке стоит «мухач» Аркадий Беленький, поглядывая на Рокотова, что-то оживленно рассказывает полному представительному мужчине в темном строгом костюме и молоденькой леди с пышными белокурыми волосами. Леди была стройна, изящна и ослепительно красива. Она бесцеремонно разглядывала Рокотова.
Валерий нахмурился и отвернулся. Он еще не переоделся и стоял, как сошел с ринга, в трусах, в майке, с накинутым на плечи халатом. «Опять Аркашка что-то мелет», — недовольно подумал Рокотов.
Боксер легчайшего веса «мухач» Беленький, весельчак и заводила команды, был автором всевозможных розыгрышей и хохм. Он вечно над кем-нибудь подтрунивал. Особенно часто от него доставалось тяжеловесу Василию Тишканову, медлительному и добродушному силачу с Волги. Правда, тот на шуточки Аркадия лишь снисходительно улыбался да отмахивался. Он давно дружил с «мухачом», и на тренировочных сборах, на соревнованиях их видели вместе: они жили в одной комнате, питались за одним столом. У Беленького перед взвешиванием обычно обнаруживался лишний «почти килограмм» и он «гонял вес»: соблюдал строгий питьевой режим, парился в бане, ограничивал себя в еде, а его порции с удовольствием поглощал Тишканов, у которого аппетит был «на уровне».
Но за день до отъезда в Англию Беленький, неожиданно для всех, своими шуточками довел-таки флегматичного Василия до белого каления. Тяжеловес, пыхтя, грузно топая, гонялся за Аркадием по стадиону и рычал: «Поймаю — убью!» Однако поймать расторопного «мухача» ему было не под силу. Набегавшись по гаревой дорожке и футбольному полю, Аркадий помчался в угол стадиона, где за волейбольной площадкой штабелями стояли железобетонные плиты, привезенные для строительства спортивного зала. Тяжеловес, поняв маневр, бросился наперерез. Аркадий, чтобы не попасть к нему в лапы, с ходу нырнул в одну из щелей между плитами. Не раздумывая, Василий ринулся за обидчиком и — застрял! Ни туда, ни сюда. Попытки раздвинуть плиты ни к чему не привели. Почувствовав себя в полной безопасности, хитрый «мухач» вылез с противоположной стороны и долго читал мораль своему другу: «Не злись на шутки и будь человеком», пока Василий не взмолился и не запросил пощады. Тогда Беленький позвал товарищей, и они сообща помогли тяжеловесу выкарабкаться из западни.
И вот сейчас, как показалось Рокотову, «мухач» что-то мелет иностранцам. Валерий поправил сползающий с плеч халат.
— Ну, я пошел, — сказал он тренеру.
Аркадий остановил Рокотова, который направился в раздевалку:
— Валера, постой, не уходи!
Рокотов остановился. Беленький, не обращая внимания на весьма выразительный взгляд товарища, — «Неужели не можешь подождать, пока оденусь?» — подвел к Рокотову представительного англичанина и его спутницу.
— Валера, познакомься! Мистер Фрейд Грэндисон, судья международной категории по боксу. А это его племянница Джоан.
— Очень приятно, — произнес Валерий, по очереди пожимая им руки.
— Мистер Грэндисон наш старый знакомый. Помнишь, я рассказывал про одного судью, который на чемпионате Европы… Ну, помнишь? Так это он и есть! Честнейший! Любит справедливость. И к нам хорошо относится, хотя и капиталист. У него в Ливерпуле свой ресторан, — быстро пояснил Беленький. — Его племянница — журналистка, по-русски немного знает. Без нее мы с мистером Грэндисоном ни в зуб ногой…
— Простите, мистер Рокотоф, — начала Джоан и наградила Валерия долгим взглядом. — Я, может, плохо изъясняюсь, простите. Мы восхищение ваш победой. Отшень красивый нокаут. По-русски тоже будет нокаут?
— Конечно, — Беленький опередил Валерия. — Нокаут — это международное слово!
Джоан даже не повернулась к Беленькому, словно его и не существовало, и обращалась лишь к одному Рокотову:
— Простите, мистер Рокотоф. Вы разрешайте, я буду делать у вас маленькое интервью… Несколько слова для наш журнал.
— Пожалуйста, — ответил Валерий, ему понравилась молодая англичанка, смешно говорящая по-русски.
Беседу прервал тренер. Игорь Леонидович, поздоровавшись с судьей и его спутницей, велел Валерию тотчас же отправляться в раздевалку.
— Прошу прощения, господа, но у него завтра финал!
— О! Финал. Мистер Рокотоф… прима-майстер вери гуд! — Фрейд Грэндисон, широко улыбаясь, поднял кверху большой палец. Джоан не отпускала Валерия:
— Простите, одна минут… Делать интервью…
— Отпустите его, пусть оденется. Так неудобно же, — тренер легонько подтолкнул Валерия в плечо. — Я отвечу на все вопросы.
— О! Мистер тренер… Благодарью. Отшень рада. Но я… Но мы, простите… хотель мистер Рокотоф.
— А Рокотов будет завтра. Завтра! После финала.
— Пусть будет зафтра, — согласилась Джоан. — Я отшень будут ждайт!..
2
— Вот тебе и щенок! — произнес Хельмут, напоминая Рудольфу слова, сказанные им перед поединком. — Распотрошил в первом же раунде.
Рудольф, поглощенный своими мыслями, молча смотрел на выключенный экран телевизора.
Зазвонил телефон. Тренер снял трубку.
— Алло! Да, да, это я, Хельмут… Что? И главный судья тоже?.. Великолепно, герр Бломберг! Конечно, конечно… Все будет в порядке. Желаю удачи!
Положив трубку, тренер прошелся по комнате, потирая от удовольствия руки.
— Ты слышал? Клюнули… Ха-ха! Молодчина Бломберг, побольше бы таких судей! Собрал на «чашку кофе» заправил федерации и, самое главное, вытащил председателя жюри с коллегами… К кофе полагается коньяк, а там и клятвы в верности… Сувениры… Не сувениры, а целые подношения. Кто устоит! И все накануне финала. Великолепно!
— А что им еще остается делать? — прервал его Рудольф. — Через несколько месяцев первенство Европы, и оно должно состояться в Берлине. Так что тут особой заслуги Бломберга и не видно. Просто люди смотрят в будущее и понимают, что настала пора Западу объединить свои усилия против Востока.
— В тридцатых годах тоже объединялись, — мрачно заметил тренер. — А что из этого вышло? Расплачиваться пришлось нам, немцам…
— Теперь такое не повторится. Америка с нами!
— Дай Бог победы над русским! Сначала спортивной, потом и… — Хельмут, не договорив, мечтательно поднял глаза к потолку.
Рудольф рывком выпрыгнул из кресла и закружил по ковру, нанося удары с обеих рук по воздуху, мысленно представляя перед собой русского чемпиона.
— Отлично! Повтори контратаку… Еще раз! С шагом в сторону… Превосходно! — Хельмут Грубер снова становился тренером. — Меллу Джефферсону давно пора дать под хвост. Все закономерно, и в победе русского никакой сенсации нет. Сенсация будет завтра! Ха-ха-ха!
Шилленбург сбросил халат и, все более увлекаясь, продолжал бой с тенью, с воображаемым противником.
Поглядывая на часы, Грубер следил за бегом секундной стрелки.
— Тайм! Время! — он жестом остановил боксера и направился к журнальному столику с установленной на нем киноаппаратурой. — Пленку с сегодняшним боем принесут только завтра. Но у меня приготовлен сюрприз, — он сделал паузу и посмотрел на Рудольфа, — два ролика! Личное первенство красной России.
В сузившихся глазах Шилленбурга запрыгали огоньки, как у пантеры перед прыжком.
— И там есть он? — вздрогнув, спросил Рудольф.
— Только он! — утвердительно сказал Хельмут. — Сотрудники посольства в Москве сумели заснять все первенство. По моей просьбе в фильмотеке сделали монтаж. А сегодня утренним самолетом из Бонна киноленту доставили нам…
— Парни из посольства не зря едят хлеб, — Рудольф, накинув халат, уселся в кресло. — Умница, Хельмут!
Грубер погасил свет. Аппарат тихо застрекотал, на стене появился светлый квадрат. Тренер подправил фокус, и сразу же пошли кадры боксерского поединка.
Глава третья
1
Игорь Леонидович, помогая массажисту, склонился над Рокотовым, который распростерся на низком гимнастическом столе. В четыре руки тренер и массажист тщательно проминали каждую мышцу и связку, разогревали их, заставляя живее двигаться поток крови по жилам. От их теплых, грубовато-ласковых ладоней и пальцев исходила энергия, которая вливалась в тело боксера, пробуждая дремавшие в клетках силы.
Валерий, упершись подбородком в свои тяжелые кулаки, сосредоточенно смотрел перед собой и видел не край гимнастического стола, а ринг, мысленно он уже вел поединок с пруссаком, с фон Шилленбургом. Рокотова нисколько не беспокоило то обстоятельство, что его противник оказался в более выгодных условиях и накануне финала имел день отдыха. На турнире всякое бывает. Мучила досада, что за время соревнования ему так ни разу и не удалось посмотреть знаменитого западногерманского чемпиона в бою. Как сложится встреча? С какой стороны ждать подвоха? Какой «подарочек» готовит ему баронский отпрыск? Наверняка уже все продумал, взвесил и подготовился… А Валерию придется все взвешивать и решать на самом ринге.
— Готово! — тренер ласково хлопнул боксера по плечу. — Одеваться.
Иван Никандрович, массажист, подал красную, из тонкой шерсти, майку с гербом на груди, белые шелковые трусы и заботливо накинул на плечи боксера халат:
— Тепло не теряй…
— Попрыгай немного. Только без напряжения, — велел тренер и, читая мысли Рокотова, добавил: — Расслабься! И не думай так напряженно… Ничего страшного он из себя не представляет. Не зарывайся и следи за его правой. Русские прусских всегда бивали!
Миклашевский, в который уж раз, стал повторять тактический план предстоящего поединка. Он видел Шилленбурга на Олимпийских играх.
Валерий слушал, кивал и, мягко скользя на носочках, боксировал с воображаемым противником, вел «бой с тенью». Раздевалка просторная, места много, не то, что в первые дни турнира, когда здесь и повернуться негде было. Бодрый тон тренера, его спокойствие рассеивали волнения, вселяли уверенность. Побеждает не тот, кто умеет беспрестанно атаковать и наносить сокрушительные серии ударов, а тот, у кого более гибкая тактика, кто умеет мыслить на ринге. Не самый сильный, а самый умный.
— Главное, следи за его правой, — повторял тренер.
Раздевалка находилась в дальнем конце коридора, но и сюда, сквозь стенки и перегородки, глухо, тревожно доносился спрессованный гул голосов. Этот гул будоражил нервы, мешал сосредоточиться.
— Рокотов! — в дверях показался молодой длиннолицый парень — судья при участниках, — с уважением глядя на русского мастера, улыбнулся: — Ринг!
— Пошли, — сказал Игорь Леонидович и положил Валерию руку на плечо.
— Ни пуха ни пера! — массажист подмигнул и сплюнул через левое плечо.
Прежде чем шагнуть в гудящий зал, боксер попадал в небольшую комнату, где получал новые пухлые перчатки и эластичные бинты, а придирчивые судьи проверяли его экипировку. Таков порядок…
В первый день турнира Рокотов в этой комнате встретился со своим соперником, бельгийским боксером. Бельгиец, видимо желая произвести устрашающее впечатление, ни с того ни с сего начал размахивать руками, проделывать нелепую, замысловатую гимнастику. Валерий, чтобы не остаться в долгу, тоже стал делать замысловатые упражнения. Так они состязались несколько минут, пока бельгиец не выдохся первым. И потом, на ринге, видимо уверовав в превосходство русского, он только защищался.
Судья при участниках открыл дверь. В комнате уже находился Шилленбург. Соперники встретились взглядами и некоторое время молча рассматривали друг друга. Валерий тут же отметил, что немец на полголовы выше, мужественное волевое лицо, хорошо сложен, широк в кости, накачанные бугристые мышцы таят в себе запасы недюжинной силы, ноги жилистые, сухие, выносливые. Одет Шилленбург в белую майку с квадратным гербом на груди, атласные короткие трусы с красивым маленьким вырезом на бедрах.
Валерий дружески улыбнулся, хотел было сказать «гутен абенд» — он знал несколько слов по-немецки, но холодный взгляд соперника остановил его. Презрительно скривив губы, Шилленбург демонстративно отвернулся и стал что-то по-английски говорить судье.
«Ну и черт с тобой! — подумал Рокотов и впервые остро почувствовал невыгодность своего положения. — О чем они там переговариваются? Жаль, что по-английски не понимаю. А мог бы знать, была возможность. Если бы тогда, в военном училище, или еще раньше, в школе, кто-нибудь намекнул: смотри, Валерка, придется побывать за границей и станешь там ушами хлопать, ничего не понимая, — ночи не спал бы, выучил. Но разве человек знает, что его ждет впереди?»
2
Огромный клокочущий зал погружен в полутьму, и лишь в центре, где возвышался помост, с потолка свисала квадратная люстра, заливая ярким светом белоснежный ринг. Густой, разогретый дыханием многотысячной толпы воздух был насыщен дымом крепкого табака, запахами алкоголя и мужского пота. Дюжие полицейские, выстроившись в две шеренги, сдерживали напор зрителей. Когда Рокотов в сопровождении тренера поднялся на помост и разноязыкий гул приветствия начал спадать, откуда-то сверху прорвался сильный русский басок:
— Валера! Держись! Морячки с тобой!
Судья на ринге — весь в белом, поджарый, хлыщеватый, средних лет, с черными, блестящими от бриллиантина волосами, — жестом пригласил соперников в центр ринга.
Боксеры, не снимая халатов, приблизились и пожали друг другу руки. Шилленбург растянул губы, обнажая верхний ряд зубов. Издали это было похоже на улыбку. Многочисленные западногерманские туристы, кучно сидевшие в центре зала, дружно зааплодировали. Судья сказал несколько слов, смысл которых сводился к тому, чтобы партнеры уважали друг друга и строго соблюдали правила. Валерий, пока судья говорил, пристально смотрел на противника. Тот по-прежнему изображал улыбку, а в его потемневших зрачках прыгали острые и холодные, как края сломанных льдин, злые блестки. Рокотов насмешливо кивнул, как бы говоря: «Мы и не таких видали!» Шилленбург, вздернув вверх массивный подбородок, круто повернулся и пошел в свой угол.
Глухой звук электрического гонга снова свел их в середине квадрата, на сей раз оба были уже без халатов. И Шилленбург, спрятав свой округлый подбородок под выставленное вперед левое плечо, первым начал атаку с дальней дистанции.
— Рудольф, хох-хох! — дружно прокричали немецкие туристы.
Западногерманский чемпион выглядел эффектнее. Немец был выше, и это превосходство в росте подчеркивалось еще и тем, что Шилленбург передвигался на носочках. Его атлетическая фигура с рельефными мышцами, пружинисто перекатывавшимися под тонкой, лишенной жировых прослоек холеной кожей, говорила о многолетней упорной тренировке. Все, что только можно было развить физическими упражнениями, у немца было развито и доведено до совершенства. Это была живая скульптура белокурого арийца, над созданием которой много лет трудились тренеры, врачи и массажисты. Это был боксер с огромным опытом международных соревнований, грозный боец ринга, который за последние годы не знал горечи поражения. Победы рождали уверенность в себе, укрепляли веру в непобедимость.
Рудольф фон Шилленбург начал боксировать легко, непринужденно, в быстром темпе, демонстрируя перед своими многочисленными поклонниками и поклонницами разнообразие технических приемов, в которых они вряд ли разбирались. Но это были прощупывающие удары, удары разведчика, искавшего тайные щели в кольцевой обороне противника. Со стороны бой походил на красивую, напряженную игру. Многие западногерманские почитатели Рудольфа хотели видеть в этой игре забаву кошки с пойманной мышью. В облике своего любимца они читали уверенность и затаенную силу, которая на их глазах росла, накапливалась и готова была вот-вот обрушиться всесокрушающей лавиной. Ослепленные любовью к своему кумиру, они не замечали того, что видели и оценивали немногочисленные знатоки боксерского искусства, тренеры, судьи: на ринге шла острая схватка, война нервов, борьба за овладение инициативой, за право диктовать темп и ход поединка.
Русский чемпион выглядел далеко не так просто, как кое-кому казалось. Его победы на пути к финалу служили этому веским доказательством. Внешне Рокотов несколько проигрывал западногерманскому боксеру, как проигрывает юноша рядом с мужчиной. Он был ниже ростом, тоньше в талии, мышцы не выступали так рельефно, да и к тому же их скрашивал и смягчал ровный бронзовый загар, хорошо сохранившийся с прошлого лета. Но глаза специалистов видели не узкую талию, а броневой щит брюшного пресса, не тонкие, по сравнению с соперником, руки, а длинные боксерские мышцы, таящие неисчерпаемые запасы энергии. Каждое движение целеустремленно, рассчитанно. Спокоен, собран, решителен. Техника защиты и атак отработана до виртуозности. Да, Шилленбург непрестанно наносит удары, но все они легко парируются, не доходят до цели: ведет бой не мальчишка, не новичок ринга, а молодой лев, вышедший на единоборство с тигром…
Все чаще мелькали перчатки, глухо щелкали удары. Боксеры кружились по рингу, словно исполняли замысловатый, только им одним известный, загадочный танец. Как легко они скользили на носочках, как стремительно меняли позиции! Глядя на них, трудно было поверить, что ведут бой боксеры-полутяжи, что у каждого из напарников чистый вес превышает восемьдесят килограммов. Но об этом зрителям напоминали двухдюймовые доски, из которых был сделан помост ринга. При каждом шаге соперников они пружинили и тонко поскрипывали.
Нетерпение болельщиков росло. Не слишком ли затянулась разведка боем? Не пора ли бить по-настоящему? Гул голосов, перекатывавшийся над плотными рядами людей, нарастал и переходил в тревожный рокот. Чаще стали звучать выкрики. Особенно старались западногерманские туристы.
— Руди, дай ему под ребро!
— Ударь красного!
Хельмут Грубер изредка поглядывал в противоположный угол, где находился тренер русского. «Интересно, узнал он меня или нет? Я его сразу узнал, он мало изменился, только поседел. Жаль, что тогда я ему не смог наподдать как следует… Зато теперь Рудольф отколошматит русского».
Удар гонга развел боксеров по своим углам. Короткий, минутный отдых. Рудольф не сел на подставленный тренером табурет, а остался стоять, положив уставшие руки на верхний канат ринга. Он как бы демонстрировал, что раунд боя для него ничего не значит, запас сил у него есть и выносливости хватит.
Рокотов тоже хотел остаться на ногах — раунд кончился так быстро! Но Миклашевский оборвал благодушное настроение:
— Садись, ты не на конкурсе красоты! — и когда Валерий уселся на табуретку, расслабился, тренер протер мокрым лохматым полотенцем его разгоряченное лицо, затылок, провел по груди и стал коротко анализировать ход поединка. — Переигрываешь… Зря принимаешь его темп. Закрутит он тебя и обманет. Так и проиграть можно… Следи за финтами и за правой… Особенно за правой! — Последние слова тренер сказал уже после удара гонга, когда Рокотов встал и, торопливо потерев подошвы в канифоли, шагнул вперед.
Соперники по диагонали пересекли помост и, не реагируя на требования зрителей, снова закружили в середине ринга, быстро обстреливая друг друга с дальней дистанции. Казалось, боксеры сговорились между собой и заранее отрепетировали атаки и защитные варианты. Слишком все легко и просто у них выходило! Но так только казалось непосвященным. За канатами, на небольшой площадке шла упорная борьба, и накал ее возрастал, хотя внешне оба противника сохраняли завидное спокойствие. И вдруг наступил перелом. Танец оборвался в самом неожиданном месте. Рокотов, на какую-то долю секунды опережая соперника, шагнул в сторону и нанес два догоняющих друг друга прямых в голову. Под подошвами его боксерок натужно скрипнула канифоль.
Рудольф фон Шилленбург, казалось, только и ждал такого выпада. В потемневших зрачках пруссака мелькнула жадная радость зверя, долго таившегося в засаде. Приняв на подставленное плечо атаку русского, он тигриным пружинистым скачком рванулся вперед, нанося хлесткие боковые удары с обеих рук. Болельщики западногерманского чемпиона повскакивали со своих мест.
— Бей русского!
Перекрывая гул, снова раздался басистый голос:
— Валера, держись!
А Рокотов и не намеревался отступать. Его не так-то легко было захватить врасплох. Конечно, он ждал этой ответной атаки, был готов ее встретить. Отразив бешеный наскок немца, Рокотов схлестнулся с ним на опасной средней дистанции. И тут применил свою коронную комбинацию. Неожиданно и в то же время легко и красиво отбив летящую прямо на него руку западногерманского чемпиона, Рокотов дернул плечом, вкладывая в ответный удар все свои восемьдесят килограммов, помноженные на реактивную скорость. Сколько прославленных мастеров ринга рухнуло под таким ударом, который нельзя было назвать ни прямым, ни боковым! Это был его, рокотовский удар, его прием, отработанный до совершенства.
Но… удар не достиг цели. Там, где еще мгновение назад находился подбородок Рудольфа фон Шилленбурга, оказалась пустота. Это произошло так внезапно, что Рокотов, вложивший много энергии и надежд в свой удар, не только промахнулся, но, как говорят боксеры, «провалился» — ему стоило больших усилий удержать равновесие, устоять на ногах.
Считая свой промах чистой случайностью, Рокотов дважды входил в среднюю дистанцию, и дважды западногерманский чемпион, словно кем-то заранее предупрежденный, вовремя успевал приседать, отскакивать в сторону и наносить удары.
Удачная защита Шилленбурга, которому удавалось избегать грозных ударов русского, вызывала бурную реакцию в рядах зрителей. Туристы из ФРГ вскакивали со своих мест и, стараясь перекричать всех, дружно скандировали:
— Рудольф! Хох-хох!
Обескураженный неудачей, Валерий стиснул зубы и снова пошел в атаку: он заставит баронского отпрыска принять его темп и там, в вихре сменяющихся комбинаций, вновь проведет свой прием!
Председатель жюри, седой, чопорный англичанин, все дни полусонными глазами взиравший на ринг сквозь толстые стекла очков, давно уже ничему не удивлялся и ничем не восторгался. Его память хранила тысячи всевозможных поединков самых крупных и блистательных боксерских звезд. На сей раз сонное оцепенение слетело с бесстрастного лица старика. Протерев очки, он подался вперед, стремясь не упустить ни малейшей детали великолепного зрелища: схватка на ринге достигла своего апогея!
Тренеры и специалисты по боксу из многих стран, протиснувшись к рингу как можно ближе, нацеливали на боксеров объективы кинокамер, спешили запечатлеть на пленку редкий по красоте и накалу поединок.
Миклашевский, подавшись вперед, следил за ходом боя. И в то же время видел тренера немца. Конечно, он узнал его. Узнал в первый же день. Но не подал вида. Он хорошо помнил коварные приемы Хельмута Грубера и был убежден, что тот постарается передать свой «арсенал» Рудольфу. Потому Игорь Леонидович не спускал глаз с немца.
Звук гонга, возвестивший об окончании второго раунда, был почти не слышен. Судья на ринге, отталкивая боксеров друг от друга, втиснулся между ними и развел руками:
— Тайм! Время!
Валерий устало опустился на подставленный тренером табурет. Насыщенный табачным дымом, спертый воздух царапал горло, усиливал жажду. Тренер заботливо приложил губку, она, смоченная в воде, скользнула по затылку, по разгоряченным вискам. Валерий чувствовал себя отвратительно. Нет, его беспокоила не усталость. Удары Шилленбурга хотя и были тяжелы, но не потрясали его. Рокотов снова и снова возвращался к прошедшему раунду, искал причину провала своих атак. У него было такое состояние, словно его предали, словно сопернику стали известны его излюбленные комбинации!
Приложив губку к затылку, Игорь Леонидович стал энергично махать перед лицом боксера полотенцем.
— Отлично! — сказал тренер, оценивая поединок. — Так и держать!
Валерий от удивления приоткрыл глаза: не ослышался ли он?
— Отлично, — повторил Миклашевский. — Инициатива в твоих руках. Ты диктуешь ход поединка. А что не удалось провести комбинацию, так огорчаться не стоит. Пруссак наверняка готовился против тебя, изучил твою манеру. А все равно у него ничего не выходит. На ринге диктуешь ты!
Валерий подумал было, что Игорь Леонидович просто его успокаивает, но обступившая его угол толпа фоторепортеров подтверждала правоту слов тренера, фоторепортеров не проведешь, они заранее чувствуют, где и когда надо снимать.
Третий раунд боксеры начали бурно. Оба спешили. Каждый понимал, что добиться чистой победы уже не удастся, и поэтому торопился набрать как можно больше очков. Удар, любой удар, даже легкое прикосновение, только правильно нанесенный сжатым кулаком и достигнувший цели, давал очко. Боковые судьи, сидящие у самого помоста за маленькими столиками, зорко следят за ходом боя и фиксируют каждое очко.
Рудольф фон Шилленбург, усилием воли сохраняя на потном лице подобие улыбки, петлял по рингу, уходил от русского и торопливо работал обеими руками. Дальняя дистанция — его дистанция! Продержаться так до конца раунда — значит победить!
Валерий, стремясь сократить расстояние между ними, преследовал ускользающего пруссака. Но тот, словно пойманная рыба, одним боковым шагом, резким движением туловища выскальзывал, избегал сближения и снова прятался за частокол прямых ударов. А когда Рокотову все же удавалось сблизиться, Шилленбург не принимал ближнего боя. Он обхватывал русского, прижимался к нему мокрым от пота телом, цепко хватался за руки. Валерий, щекой и шеей чувствуя его тяжелое, горячее дыхание, движением плеч стремился сбросить, освободиться от повисшего на нем немца. И когда ему удавалось оттолкнуть противника, тот, отпрыгивая, успевал наносить один-два быстрых удара.
В зале стоял невообразимый гул. В том месте, где находились западногерманские туристы, вспыхнуло несколько карманных фонарей. В скрещенных лучах стоял полнощекий лысеющий немец с вытаращенными глазами и, яростно размахивая трехцветным флагом, дирижировал хором:
— Рудольф! Хох-хох!
В середине раунда Шилленбург стал нарушать правила: защищаясь, он пропускал перчатку боксера рядом со своим телом и зажимал ее локтем, придерживал, в то же время стараясь нанести как можно больше ударов. Судья на ринге тут же среагировал.
— Стоп! — и, подойдя к Рокотову, поднял его руку: — Предупреждение за удержание!
Валерий от удивления рот открыл. За что? Держал-то совсем не он! Волна негодования прокатилась над дальними рядами зрителей. Раздались свист и топот. Валерий попытался было объяснить, что тут явное недоразумение, но рефери его больше не слушал.
— Бокс!
Пошла последняя минута поединка. Тренер Шилленбурга вытащил из кармана маленькую детскую свистульку и, ко всеобщему удивлению, разразился залихватской трелью. Кое-где в зале раздался смех, который тут же погас. Свист был условным сигналом. Шилленбург преобразился. Он, так старательно избегавший сближения, вдруг ринулся в атаку. Она была похожа на взрыв. Но Рокотов не дрогнул. Он сам жаждал ближнего боя. Тут он чувствовал себя как рыба в воде. Легко ориентируясь в обрушившемся на него водопаде ударов, Валерий работал с вдохновением, четко и красиво защищался — движением тела, подставками, заставляя противника промахиваться или, перемещая вес тела на другую ногу, отклонялся так, что кулак в перчатке не доставал до желаемой цели всего нескольких сантиметров. Это была опасная и рискованная игра на самом высшем уровне мастерства. Он шел, зная, что идет по лезвию ножа, по краю пропасти, где один неверный шаг может привести к поражению. В эти секунды поединка он выкладывал все, что еще оставалось и на что еще был способен.
Когда же наконец прозвучал гонг, которого давно ждали и который тем не менее прозвучал неожиданно, в самый разгар борьбы, противники, расслабившись, повисли друг на друге и несколько секунд стояли, жадно хватая ртом воздух. Ни тот ни другой не решался разжать рук, боясь, что не удержится и свалится от усталости. А со стороны казалось, что они обнимаются под рев беснующейся публики.
Рефери обошел боковых судей, собрал судейские записки. Председатель жюри, поправив очки, долго рассматривал их, чмокал бескровными губами. «Двое против троих… Да-а…»
— Победил Рудольф фон Шилленбург!
Рефери торопливо вскинул руку западногерманского чемпиона. Над плотными рядами прокатился вопль то ли радости, то ли негодования. Топот, свист, крики. Туристы-немцы прорвались к рингу и на руках понесли своего кумира в раздевалку.
Глава четвертая
1
Джоан, вернее, Ида Мария Бартон, таково ее настоящее имя, готовилась к банкету. Только что закончились финальные поединки «чемпионата чемпионов». Участникам, судьям и тренерам было шутя объявлено, что им дается ровно «двадцать раундов, чтобы привести себя в порядок». Ида также решила использовать эти раунды. На своей машине она помчалась домой.
— Что же выбрать? — задумчиво произнесла Ида, нажимая кнопку стенного шкафа.
Полированная дверца бесшумно скользнула в сторону, открывая широкий гардероб. Ида прошлась вдоль строя своих нарядов. Она хорошо усвоила, что появление в обществе — это выход на линию огня. В наши дни одежда не только подчеркивает достоинства женщины и скрадывает ее недостатки, но в умелых руках является и мощным наступательным оружием. Модный, элегантный наряд бесшумным залпом убивает соперниц, помогает покорять мужчин…
Телефонный звонок прервал ее раздумья. Слушая далекого собеседника, она недовольно повела плечами, но вслух сказала:
— Да, полковник… Через тридцать минут.
Ида Мария Бартон не была удивлена неожиданным вызовом к шефу. Впрочем, «удивлена» не то слово, ибо с тех пор, как она связала свою судьбу с разведывательным управлением, отвыкла чему-либо удивляться. За четырнадцать лет службы привыкла ко всему: к срочным вызовам, неожиданным командировкам, ко всевозможным резким поворотам в сложной работе разведчицы.
Где бы она ни находилась, Ида Бартон всегда следила за своей внешностью, за лицом и телом, постоянно тренировалась и находилась в хорошей спортивной форме. Она была вынослива и ловка, умела бегать и плавать, знала боевые приемы японской борьбы каратэ и русской системы самозащиты, прилично стреляла, могла скакать на лошади, управлять автомашиной и моторной лодкой. По уровню своей разносторонней подготовленности Ида могла бы соперничать с офицером морской пехоты из экспедиционного корпуса специального назначения.
Наделенная от природы красивым телосложением, Ида сумела довести его до совершенства. Когда она появлялась на золотых пляжах, всюду за ней следовала толпа восторженных поклонников. Эти «идиотики», как она их презрительно именовала, и помогали ей выполнять ее самые авантюрные задания. И в то же время Ида всюду находилась под обстрелом завистливых женских глаз, полных скрытой ненависти, в зрачках которых можно было читать только одну, чисто женскую мысль: «Кто разрешил выставлять напоказ такую красоту?»
Ида жила замкнуто. Ни братья, ни сестры не знали о ее службе. Лишь один отец, которого она любила и которому доверяла, — дряхлеющий полковник колониальных войск Стэнли Бартон — был посвящен в тайну и гордился дочерью.
В последние годы Ида специализировалась по доставке разведывательных материалов из различных стран. Эти трудные и рискованные операции она проводила успешно, с должным профессиональным блеском. Опытная разведчица беспардонно использовала Олимпийскую хартию. С одними делегациями она ездила в качестве переводчицы, с другими — в скромной роли «дочери» или «племянницы» завербованного разведкой тренера или судьи.
Второй год подряд Бартон посещает боксерские соревнования, отлично играя роль «племянницы» судьи международной категории Фрейда Грэндисона. Ей многое удалось сделать: встретилась с резидентами, руководителями тайных организаций, привезла им инструкции, вывезла ценные бумаги, фотопленки, за что и получила несколько крупных денежных вознаграждений, а также чин капитана.
На лондонском боксерском турнире Ида Бартон не теряла времени даром. Она хорошо изучила спортивный мир и знала, что даже самые великие деятели вне ринга, вне стадиона, случалось, были мелкими торгашами, жалкими пронырами-спекулянтами. Ида презирала их.
Русские держались особняком, выделяясь в этой пестрой толпе. Они — Бартон наблюдала за ними во многих странах — не занимались бизнесом, не шныряли по универсальным магазинам, а жадно интересовались достопримечательностями, историей, искусством, посещали музеи, картинные галереи. Русские парни — от боксера до тренера и массажиста — выгодно выделялись своей культурой, начитанностью, эрудицией. Ида с раздражением и завистью видела, что за плечами каждого солидный багаж знаний, учеба в университете или в ином высшем учебном заведении. Вместе с тем они не чванились, не кичились знаниями и достижениями, держались просто, непринужденно, но с достоинством. Работать с ними было невозможно: дальше вежливой любезности и учтивости дело не шло.
Неожиданный вызов к шефу был весьма некстати. Ида знала по опыту: это новое задание. Опять куда-то надо ехать. Покидать Лондон сейчас ей не очень-то хотелось: только начала наконец налаживать контакт с русскими.
2
Ида Бартон поднялась на третий этаж. Выйдя из лифта, предъявила документы дежурному и пошла по пустынному коридору, освещенному лампами дневного света. На дверях кабинетов таблички с номерами. Мягкий ковер из синтетической ткани на полу.
У кабинета номер пять Ида Бартон замедлила шаги, открыла маленькую сумочку и, взглянув в зеркальце, критически осмотрела лицо: тушь на ресницах, модная прическа… Кажется, все в порядке. Перед своим начальством капитан Бартон тоже привыкла появляться в полном блеске женской обаятельности. Нет, она не стремилась покорить холодное и расчетливое сердце шефа. Это не входило в ее планы. Интимные узы не всегда способствуют карьере. За годы ее службы в отделе сменилось несколько начальников, и многие из них отнюдь не пошли вверх по служебной лестнице.
В приемной, едва Ида Бартон показалась в дверях, из-за небольшого стола выскочил адъютант полковника. Гладко выбритый, с ровным классическим пробором на овальной, как кокосовый орех, голове, лейтенант был ее давним и нудным обожателем.
— Очаровательная мисс Ида!
— Капитан, — поправила Бартон. — Кто у шефа?
— Очаровательнейший капитан!
Адъютант приблизился к ней и склонил голову (он был выше ее ростом) и, как всегда, доверительно зашептал, сообщая капитану Бартон о настроении шефа, о предполагаемом задании и о людях, находящихся в кабинете.
— На этот раз что-то связанное с Россией… Шеф вызвал к себе специалистов по русским вопросам. И Билтс из контрразведки.
Ида Бартон улыбнулась в награду за информацию и протянула руку. Адъютант быстро наклонился и поцеловал ее.
— Рука моей судьбы…
Ида шагнула к дверям шефа.
Полковник Чарльз Лоусон расхаживал по просторному кабинету. Невысокий, плотный, с крупной головой, на которой редкие волосы, тщательно зачесанные набок, плохо скрывали крупные залысины. Он кивком ответил на приветствие и предложил мягкое кресло около стола.
— Срочное задание! К нам залетела птица, начиненная ценной военной информацией. Ее нельзя упускать.
Ида опустилась в кресло. Напротив нее, через стол, сидел в таком же глубоком кресле рослый Билтс и, поблескивая стеклами очков, не сводил восхищенных глаз с Иды. Он, казалось, совсем не слушал полковника. Перед ним на серебряном подносе стояла открытая бутылка виски, новозеландский ром и сифон с содовой, высокие бокалы, на тарелочке свежие сандвичи. Билтс нацедил несколько капель рома в бокал, дополнил содовой водой и предложил Иде.
Специалисты по русским вопросам молча сидели в дальнем углу у стола, на котором стоял магнитофон.
— В номерах отеля, где остановились участники сегодняшнего турнира, как вам известно, вмонтированы микрофоны. Утром, разбирая пленку, переводчик обнаружил зерна ценной информации, — полковник повернулся к специалистам по русскому вопросу: — Включите!
Послышалась русская речь. Ида сразу узнала голос Аркадия Беленького.
«…Так ты спрашиваешь, почему за мной гонялся тяж? Это была умора!..»
Чарльз Лоусон жестом велел остановить магнитофон. Он, видимо, не раз прослушивал ленту и хорошо усвоил содержание.
— Прогоните эту болтовню… Интересное дальше, в конце.
— Разрешите прослушать все, полковник? — попросила Бартон. — Мне важно…
Зашелестела лента, и снова зазвучал голос Аркадия Беленького:
«…почему за мной гонялся тяж? Это была умора!.. Мы играли с ним в шахматы… Спать после обеда не хотелось…»
Магнитофон зашипел, голоса удалялись, очевидно, говорившие переходили в другую комнату. Пока автоматически включалась вторая линия, история «почему тяж гонялся за „мухачом“», видимо, подошла к концу. Послышался чей-то другой голос.
«За такие шуточки я бы тебя тоже вздул», — в голосе звучало осуждение.
«Я думал, Валера, ты понимаешь шутки, — оправдывался Беленький, и Ида Бартон догадалась, что второй голос принадлежит Рокотову. — Без шуток скучно. Сдохнуть можно… Да… У-у! — вдруг удивленно произнес Аркадий. — И это тебе одному? Кто бы подумал?.. Столько телеграмм… Можно прочесть?»
«Читай».
«Из Донецка… ясно, от земляков… от шахтеров, от горкома комсомола… Военное училище… Помнят тебя… А это что за фиговина? Шарада какая-то… Гм… „Бьем точно квадрат. Получили пятерки. Ждем победой квадрате ринга. Сослуживцы“. Ну и ну! Какие такие сослуживцы? Насколько мне известно, вы, товарищ Рокотов, — лейтенант ракетных войск…»
«Не болтай чего не следует», — оборвал его Рокотов.
«Нет, нет, ты скажи!»
«Здесь не место для подобных разговоров…»
«А хочешь, я расшифрую телеграммку?»
«Замолчишь ты или нет?»
«Ах да, понимаю! — поддразнил Беленький. — Мы в чужой стране. Надо проявлять бдительность… Где тут микрофон?»
«Давай-ка лучше спать… У меня завтра тяжелый бой…»
«Ладно, я потопал…»
Магнитофон умолк. Ида Бартон сразу оценила обстановку. Отпив глоток из бокала, она как бы между прочим сказала полковнику, что уже установила контакт с русским лейтенантом и тот обещал с ней встретиться, дать интервью.
— У вас чутье на людей, — удивленно похвалил ее полковник и, подойдя к письменному столу, сказал тоном приказа: — Ракетчика надо задержать. Давайте обсудим возможные варианты. Майор Билтс, выкладывайте ваши соображения.
3
— Прогуляться, Игорь Леонидович, — сказал Аркадий, отвечая на немой вопрос тренера. — Пошли, Валера!
— Далеко не отлучаться, — Миклашевский посмотрел на часы. — Через двадцать минут быть здесь.
Валерий и Аркадий двинулись к стеклянному подъезду. Участники банкета только съезжались. В огромном вестибюле гостиницы, похожем на просторный вокзальный зал, в этот вечерний час, кроме спортсменов, почти никого не было. Рокотов все еще переживал поражение и не хотел ни с кем ни встречаться, ни разговаривать. Тренер и ребята по команде утешали, говорили, что второе место на таком большом турнире всегда почетно, тем более для него, по сути дела, новичка на международном ринге.
Валерий угрюмо молчал. Думы одна другой мрачнее в голове. Ничего себе, хороший подарок привезет он в свой гарнизон! Двадцать лет назад его, Валерия, отец — капитан Рокотов по главе батальона штурмовал Берлин. Может быть, в уличном бою… какой-то фон Шилленбург. А он проиграл нацисту…
Валерий почти не помнил своего отца… Хранил его письма. Последнее датировано апрелем сорок пятого. А через несколько дней, в мае, пришла похоронная… Потом посылка с вещами, документами, орденами… Валерий старался во всем быть похожим на отца. Он ждал того времени, когда наконец вырастет, достигнет отцовского возраста. И вот они — почти одногодки.
— Я же мог выиграть!.. — с болью вырвалось у него.
— Серебряная медаль на таком турнире, будь уверен, вес имеет, — успокаивал его Аркадий. — Идем-ка лучше встречать нашу красотку Джоан. Грэндисон мне обещал, что обязательно приведет на банкет свою племянницу. Только ты не будь деревом… Скоро первенство Европы, и Грэндисон наверняка будет там судить. Понял? Так что будь погалантней.
— Постараюсь…
— У тебя шиллинги остались? — неожиданно спросил Аркадий.
— Ну, есть несколько.
— Давай сложимся и цветы купим. Джоан тебе подарила, а ты и спасибо не сказал. Надо же и нам быть на высоте.
Рокотов вынул деньги. В небольшом цветочном магазине, который они нашли за углом, несколько минут осматривали букеты, изучая таблички с ценами. Цены были безбожными.
— Ну и дерут, черти! — невольно вырвалось у Аркадия. — Сразу видно — февраль месяц…
В магазине их встретила миловидная женщина. Она, приветливо улыбаясь, быстро затараторила. Боксеры не поняли ни слова. Рокотов выложил деньги и сказал по-русски:
— Вот деньги. Пожалуйста, один букет.
Продавщица оценивающим взглядом окинула покупателей, задержала взгляд на маленьком красном значке, который был приколот у Беленького на лацкане легкого полупальто.
— Совьет? — удивленно спросила она. — Москва?
— Совет! Совет! — Аркадий снял значок и протянул женщине. — Сувенир…
Та взяла значок, благодарно закивала и стала считать деньги. Их, конечно, было позорно мало. Рокотов полез в карман, вынул последнюю бумажку.
— Все! — он выразительно развел руками. — Больше нет.
— Нам надо букет. У него леди… Понимаете, леди! — Аркадий, входя в роль, рисовал в воздухе руками женскую фигуру.
— О! Леди! — продавщица понимающе закивала. — Момент, момент!
Она спрятала деньги и направилась к вазам, в которых стояли срезанные цветы. Составила два небольших, но весьма симпатичных букета, вложила их в целлофановые пакеты. Боксеры переглянулись: цветы стоили дороже, чем они дали. Рокотов порылся в карманах.
— У меня ни копейки.
— У меня тоже, — сказал Аркадий и добавил: — Влипли…
Но женщина что-то весело затараторила, заулыбалась, вручила боксерам по букетику и проводила до дверей.
На улице друзья почувствовали себя свободно, облегченно вздохнули и поспешили к гостинице. У подъезда уже толпились боксеры, тренеры, судьи. Сквозь широкие стеклянные двери было видно, что в вестибюле тоже прибавилось народу. К подъезду одна за другой подкатывали длинные стреловидные машины. Сначала выходили солидные мужчины, потом дамы. Дамы были в дорогих мехах. Они проходили, ни на кого не глядя, гордые, уверенные, распространяя вокруг себя тонкий аромат дорогих духов.
— Ты оставайся здесь, а я проверю там, — предложил Аркадий. — Как бы нам не пропустить…
Рокотов обратил внимание на молодую пару, которая робко приближалась к ярко освещенному подъезду. Оба темнокожие. Одеты скромно, если не сказать бедно. Они настороженно озирались, словно боялись переступить какую-то незримую черту, и нежно держались за руки. Перед самым подъездом остановились, словно решая, идти им дальше или нет. Над ними, вдоль стены здания, вспыхнули, запрыгали неоновые огни рекламы, и в их свете Рокотов сразу узнал негра. Это был его вчерашний соперник, чемпион Великобритании.
— Джефферсон! — громко и радостно воскликнул Валерий. — Джефферсон!
Негр и негритянка от неожиданности замерли, сжались. На них со всех сторон смотрели белые. Рокотов широким шагом подошел к Меллу.
— Привет, дружище!
Мелл, узнав русского, сразу преобразился, в глазах исчезло тревожное напряжение, а на больших губах заиграла улыбка.
— Валле! Рокотоф! — он цепко сжал протянутую руку. Потом, склонившись к своей спутнице, стал что-то быстро ей объяснять.
— Твоя леди? — спросил Валерий.
Мелл ткнул себя пальцем в грудь, затем на негритянку, как бы говоря, что это его жена, назвал ее Нэнси и добавил, заканчивая пояснения:
— Нэнси… Джефферсон, — он выразительно показал ладонью у своего колена, — Боб… Боб Мелл.
— Ясно, сынок! — Рокотов закивал. — Счастливые!
— Валера! — послышался за спиной голос Аркадия. — Тебя Игорь Леонидович зовет.
Рокотов протянул свой букет жене боксера. На лице негритянки появилось выражение удивления и восхищения. Она, отказываясь, замахала руками, сделала шаг назад, словно прячась за мужа, но Валерий успел галантно вручить ей цветы.
— Встретимся за столом! — он похлопал негра по плечу. — Вери гуд! Очень хорошо!
Банкетный зал находился на пятом этаже. Приглушенно играл джаз. Вдоль стен стояли длинные столы, покрытые белоснежными скатертями. На столах — бутылки с коньяком, виски, вином, сифоны, на подносах — бокалы и фужеры. Тут же легкая закуска: обилие аккуратненьких, художественно выполненных бутербродиков. Около столов небольшими группками собирались приглашенные: дамы в вечерних платьях, мужчины в черных костюмах, белоснежных рубашках. По залу, в сопровождении галантных мужчин, важно расхаживали элегантно одетые дамы, чопорно здороваясь друг с другом, величественно протягивая мужчинам ручку для поцелуя.
Валерий впервые присутствовал на торжественном банкете, он скептически оглядел столы, особенно закуску. «Ну и заграница!» Засосало под ложечкой. Обедал давно, готовился к поединку, а потом, после финала, лишь сжевал полплитки шоколада. Есть хотелось зверски. Тем более сейчас, когда соревнования позади, когда не надо думать о весе, об ограничениях.
Рокотов хотел что-то сказать Игорю Леонидовичу, но у противоположной стены раздвинулись портьеры, открылась дверь, и вошел высокий, седой, с пышными бакенбардами, пожилой мужчина. Одет он был, как на старинных картинах, — в чулках и камзоле. Все сразу притихли, бесшумно двинулись к нему, не дойдя нескольких шагов, остановились. За спиной странно одетого господина ярко горели свечи, виднелись, словно нарисованные, столы с обилием еды, сверкал хрусталь, тускло отсвечивал фарфор, на вазах громоздились фрукты. Валерий сразу повеселел.
— Ну, топай же! — тренер легонько подтолкнул его в спину.
Валерий недоуменно посмотрел на Игоря Леонидовича, как бы говоря: «Почему это я должен идти первым?» — как снова раздался голос странно одетого господина:
— Мистер Валери Рокотофф!
Оказывается, к столу приглашали. Его вызвали вторым, вслед за Рудольфом фон Шилленбургом. Это была большая честь, ибо первыми по традиции приглашались чемпионы. Тренер и Беленький подтолкнули вперед смущенного Рокотова.
Через несколько минут за столами, установленными в виде гигантской буквы «п», стало тесно. Президент произнес первый тост, зазвенели бокалы, Рокотов осмотрелся и напротив, в дальнем конце стола, увидел Джефферсона. Тот был почему-то один, без жены. Мелл сидел, низко опустив голову. Остальные боксеры были с женами или девушками. Шилленбурга окружали сразу четыре девицы и наперебой ухаживали за молодым бароном.
— Вставай! — Валерий толкнул локтем Аркадия. — Выйдем на минуту.
— Куда вы? — остановил их тренер.
— Сейчас вернемся, — ответил Рокотов, увлекая за собой Беленького.
В вестибюле негритянки не было. Не одеваясь, боксеры вышли на улицу. Надвигалась ночь, мелко моросил дождь. Улица была пустынной. Редкие прохожие, под зонтами или подняв воротники, торопливо шагали по тротуару. По блестящей ленте шоссе с шуршанием проносились автомашины.
— Неужели ушла? — вслух подумал Валерий.
— Не может быть. Давай заглянем за угол. Одна она не решится ехать через весь город. Наверняка живут где-нибудь на окраине.
За углом, возле цветочного магазина, огни в котором были погашены, заметили одинокую женскую фигурку.
— Нэнси! — громко позвал Рокотов. — Нэнси!
Женщина вздрогнула, настороженно оглянулась, но, узнав Рокотова, облегченно вздохнула:
— О! Рокотоф!
А через несколько минут, сдав пальто в гардеробную, они втроем подходили к двери скоростного лифта. Толпа лощеных мужчин и женщин тут же перекочевала к другой двери. Валерий и Аркадий многозначительно переглянулись… Валерий оглядел Нэнси. Она выглядела прелестно. Стройная, тонкая в талии. Аккуратное, сшитое по моде вечернее платье подчеркивало изящную фигуру и как нельзя лучше гармонировало с ее темной кожей, приятного густо-шоколадного оттенка.
Перед банкетным залом Рокотов нежно взял Нэнси под руку. Почувствовал ее волнение. Нэнси, как натянутая струна, дрожала от нахлынувшей радости и страха. Все головы сразу же повернулись в их сторону, когда Нэнси, как королева, в сопровождении двух русских боксеров, вошла в зал. Полусонная чопорная торжественность, царившая за столом, мгновенно испарилась, лица у многих вытянулись, словно они проглотили муху. Две дамы, выразительно звякнув вилками о тарелки, встали и, гордо вскинув подбородки, двинулись к выходу. В наступившей тишине Рокотов подвел негритянку к своему месту. Болгарские боксеры, сидевшие рядом, вскочили, уступая место женщине. Темное лицо Джефферсона осветилось восхищением и благодарностью.
Президент, лицо которого оставалось бесстрастным и непроницаемым, поднял бокал и, словно ничего не произошло, предложил очередной тост.
Глава пятая
1
Рудольф фон Шилленбург покинул банкетный зал в самый разгар пиршества. Все видели, что молодой барон еле держался на ногах. Две дамы и тренер Хельмут Грубер, поддерживая знаменитость под руки, проводили его к лифту. Рудольф, что-то несвязно бормоча, обнимал женщин, те наигранно повизгивали и громко хохотали. В лифте боксер сразу стал другим.
— Машина? — тихо спросил он тренера.
— Пришла. Ждет внизу, — так же, одними губами, ответил Грубер.
— Адрес?
— За рулем Арнольд. Он все знает.
Если бы экстравагантные дамы, которые так любезно ухаживали за чемпионом, и другие участники банкета смогли бы очутиться внизу, они наверняка бы изумились: неужели так быстро можно протрезветь? Рудольф фон Шилленбург вышел из кабины лифта и твердым, уверенным шагом направился к выходу.
Роскошный черный «форд», последний крик моды, стоял у подъезда.
Молодой мужчина, одетый в черную кожаную куртку и кожаные брюки, пружинисто выскочил из машины и услужливо распахнул дверцу перед Рудольфом.
Через минуту «форд» бесшумно мчался по опустевшей улице английской столицы. Грубер открыл саквояж.
— Один? — спросил тренер.
— Два, — ответил боксер.
Хельмут вложил два лимона в ручную соковыжималку.
Рудольф, не торопясь, с наслаждением выпил стакан освежающей жидкости.
Несколько минут ехали молча. Черный длинный «форд», как стрела, летел по широкой магистрали. Разноцветные огни рекламы освещали улицу, хотя центр города давно остался где-то позади.
— Арнольд, сколько осталось? — Рудольф тронул водителя за плечо.
— Немного, — Арнольд взглянул на тускло светящиеся стрелки хронометра. — Минут восемнадцать — двадцать.
Миновав мост через Темзу, машина некоторое время мчалась по набережной, потом, проскользив по лабиринту слабо освещенных улиц, выскочила на загородное шоссе. Вскоре по обеим сторонам шоссе, на темном фоне уснувших садов и парков замелькали красивые белые виллы и роскошные особняки, обнесенные каменными заборами.
— Подъезжаем, — предупредил Арнольд и, сбросив скорость, легко свернул на боковую аллею.
Впереди, в зарослях деревьев, возвышался трехэтажный дом с колоннами и широким подъездом. У подъезда стояло несколько автомашин. Высокие окна нижнего этажа светились. По фасаду здания прыгали зеленые, красные, желтые буквы. Рудольф издали прочел название загородного ресторана: «Серебряный дельфин».
«Форд» подкатил почти к самому подъезду.
— Пистолет, — Рудольф протянул руку к тренеру.
Грубер вынул из кармана и передал небольшой пистолет.
— Заряжен. Один в стволе, семь в обойме.
Рудольф поставил на предохранитель, опустил оружие в боковой внутренний карман пиджака.
— У него, — он кивнул на сидящего за рулем, — тоже бесшумный?
— Да.
— Предупреждаю! Без моей команды оружие не применять, — тоном приказа сказал фон Шилленбург. — Пошли!
Втроем они вошли в ресторан. Их встречал швейцар — рослый, слегка заплывший жиром, но еще сильный мужчина с типичным боксерским носом на одутловатом лице. «Вышибала», — подумал Рудольф и вслух произнес:
— Нам нужен отдельный кабинет.
Швейцар скользнул оценивающим взглядом по одежде. Узнав водителя, который, видимо, тут бывал не раз, расплылся в улыбке.
— Мистер О’Брейли у себя. Он все устроит, — прохрипел он простуженным басом и добавил, обращаясь к Арнольду: — Я бы посоветовал посидеть сначала в зале. Сегодня Лизи танцует. Вы же знаете ее. Огонь! А ножки! Класс!
Рудольф, не глядя на швейцара, шагнул к лестнице. Грубер и Арнольд двинулись следом.
— На каком? — тихо спросил Рудольф.
— На третьем, — также тихо ответил Арнольд. — В начале коридора, вторая дверь с левой стороны.
Быстро поднялись на третий этаж. Яркая ковровая дорожка, которой были устланы лестница и коридор, скрадывала шум шагов. Около двери в кабинет хозяина заведения остановились. Рудольф окинул взглядом коридор — он был пуст.
— Ты остаешься здесь, — шепотом приказал водителю Рудольф. — Никто нам не должен мешать.
Арнольд кивнул. Сунув руку в карман, где лежал пистолет, он небрежно прислонился к стене.
— Входим, — Шилленбург взялся за ручку. — В случае сопротивления вариант номер два.
2
Владелец загородного ресторана «Серебряный дельфин» Герберт О’Брейли не ждал гостей в столь поздний час и, расположившись на диване, отдыхал, рассматривая в иллюстрированном журнале женские фигуры. Это был человек далеко не старый, но в возрасте, среднего телосложения, слегка располневший с годами, но еще плотный, сильный. Небольшая, круглая, как футбольный мяч, голова с узкими щелками глаз, казалось, была прикреплена к телу без шеи.
Рядом с диваном стоял низкий журнальный столик, на нем лежал массивный альбом в дорогом кожаном переплете, ножницы и баночка с клеем. Вокруг — на столе, на полу и диване — валялись бумажные обрезки.
Герберт О’Брейли увлекался коллекционированием цветных фотографий молодых красивых женщин всех типов. Здесь были и порнографические фотографии. В его альбомах хранились иллюстрации, вырезанные из журналов различных стран.
Собирать изображения женских фигур О’Брейли начал давно, почти четверть века назад, когда его приговорили за шпионаж к длительному сроку тюремного заключения.
Холодным туманным вечером, в конце сентября 1943 года, имея на руках фальшивый паспорт на имя англичанина Джона Томпсона, он был высажен гитлеровской службой безопасности из небольшой подводной лодки, всплывшей почти у самых меловых скал побережья. Он имел задание — собрать сведения о размещенных в Англии и Ирландии англо-американских войсках, которые готовились к вторжению на Европейский континент.
«Агент СД № 7484» — так числился О’Брейли в секретных документах фашистской имперской службы безопасности — ничего не мог сделать. Едва он успел зарыть в разных местах два увесистых водонепроницаемых рюкзака, туго набитых ценностями и пачками английской валюты, и забросать камнями резиновую лодку, как был схвачен патрулем береговой охраны.
Летом 1945 года Герберту удалось бежать из тюрьмы. Он выкопал свой клад, золото и резиновый мешок с бриллиантами, перепрятал ценности в надежное место, а бумажные деньги с помощью друзей и знакомых передал в различные банковские учреждения. Через месяц О’Брейли был снова схвачен и водворен в тюремную камеру. Но он не унывал. В камере он и увлекся коллекционированием женских фотографий, выдирая страницы иллюстрированных журналов.
Три года назад, очутившись на свободе, Герберт О’Брейли кинулся в бурное море наслаждений. Он исколесил многие страны, посетил Австралию, Африку, Америку. Вскоре он устал мотаться по свету, вернулся в Англию и в аристократическом пригороде Лондона купил ресторан «Серебряный дельфин». Коллекционирование красоток, к которому он пристрастился в тюрьме, О’Брейли продолжал и на воле. Дела его шли хорошо, и он надеялся спокойно дожить свой век на деньги, полученные для шпионской и подрывной деятельности. Фашистская Германия была разгромлена, и его шефы попали на скамью подсудимых как военные преступники. О’Брейли мысленно перечеркнул свое прошлое и благодарил судьбу. Но он глубоко заблуждался.
Прошлое не забыло агента СД № 7484. Оно явилось к нему в образе Рудольфа фон Шилленбурга и Хельмута Грубера.
— Что вам угодно? — как можно суровее, смиряя внутреннюю дрожь, произнес О’Брейли.
— Вы Герберт О’Брейли? — спросил Рудольф, не вынимая рук из кармана.
— Да, — сухо отчеканил О’Брейли, принимая надменную позу.
— Мы привезли вам привет от старых друзей.
— Я вас не знаю!
Щелки глаз владельца ресторана стали еще уже. Недобрые предчувствия шевельнулись в груди. Он, не сводя взгляда с непрошеных гостей, неожиданно метнулся к письменному столу. Там имелась тайная кнопка сигнала в полицию. Но Рудольф опередил его. Длинным прыжком он достиг письменного стола и преградил путь.
— Спокойно! В таком возрасте рискованно делать физические упражнения. Поберегите сердце! — черный глазок пистолета смотрел в упор на побагровевшего от бессильной ярости О’Брейли. — Руки за голову! Ну! Живо!
Скрипя зубами, О’Брейли поднял руки. «Застали врасплох… воры… бандиты! — тревожно забилась мысль. — Как предупредить полицию?»
— Хельмут, обыскать!
Грубер с профессиональным проворством обшарил карманы владельца ресторана. На стол лег миниатюрный браунинг, тугой бумажник, набитый валютой, связка ключей.
— Можете опустить руки, — сказал Рудольф, пряча пистолет, и презрительно добавил: — Мы не те, за кого вы нас принимаете. Садитесь в кресло и давайте начнем все сначала.
О’Брейли, косясь на Хельмута, который все еще стоял с пистолетом, опустился в кресло.
— Слушаю…
— Так вот, мистер О’Брейли, — Рудольф сел на угол письменного стола. — Как я уже сказал, мы привезли вам привет от старых друзей. Хельмут, вручи письмо!
Распечатав пакет, владелец ресторана впился глазами в бумагу. Через полминуты пальцы, сжимавшие послание, мелко задрожали. Пухлые щеки О’Брейли из багровых постепенно стали серыми.
— У меня… меня надули… Те фунты стерлингов были фальшивые…
— Бросьте валять дурака! — произнес фон Шилленбург. — Вы получили в управлении имперской службы безопасности…
— Фальшивые… Все банкноты оказались фальшивые!
— А золото и бриллианты? — грубо оборвал его Рудольф, — те самые, что находились в резиновом мешочке, они что, тоже были фальшивые?
Нет, золото и бриллианты были настоящие. Это О’Брейли знал хорошо и берег пуще глаза черный резиновый мешочек. На покатом лбу хозяина ресторана выступили капли пота, когда Шилленбург потребовал возвратить всю сумму, включая и ценности, полученные от службы безопасности.
— Вернуть все до последнего пенса! — властно повторил Рудольф.
— Нет! Нет! — зарычал О’Брейли срывающимся голосом и наотрез отказался выдать требуемую сумму.
Тогда Шилленбург предупредил, что сохранились подлинные документы, изобличающие владельца ресторана в шпионских действиях против страны, в которой тот проживает, а также собственноручная расписка агента СД № 7484 о получении денег и ценностей.
— А если заговорю я, некоторым весьма влиятельным и уважаемым господам, сидящим очень высоко, не удержаться в своих креслах! — злорадно выпалил О’Брейли. — А эти господа не любят, чтобы копались в их прошлом!
Он тут же осекся, заметив, как по надменному лицу молодого немца пробежала тень, а у его пожилого помощника плотно сжались крупные бесформенные губы. Такие мысли не высказывают! Герберт судорожно глотнул воздух. Перед его глазами встали страницы газет, рассказывавшие о «таинственной смерти» эсэсовца Вернера Хейде, который после неудавшегося побега из тюрьмы озлобился и стал угрожать «выложить все на суде». Февральским утром, за несколько часов до начала процесса, тюремщик заглянул в камеру и обнаружил маститого эсэсовского полковника без признаков жизни лежащим на полу камеры.
У О’Брейли по спине заскользил неприятный холодок. Тайная организация бывших нацистов не щадит своих крупных офицеров, а с ним, рядовым агентом, считаться не будет. И, словно читая мысли владельца ресторана, Рудольф многозначительно произнес:
— Такие фокусы в наши дни не проходят! — повернулся к Хельмуту: — Вариант номер два!
О’Брейли съежился, как от удара, понимая, что очутился в западне, из которой ему уже не выкарабкаться. Мозг лихорадочно работал, ища выхода. Но выхода не было. Эсэсовцы не выпустят его из своих когтей, найдут в любом закоулке земного шара.
— Не надо, не надо… Остановитесь! — дрогнувшим голосом обреченно выдохнул О’Брейли и показал на книжный шкаф. — Там… Отодвиньте шкаф… Там в стене мой секретный сейф…
Нежданные ночные гости ушли, унеся с собой резиновый мешочек с золотом и алмазами, лежавшую в сейфе валюту и чек почти на все его состояние.
— За вами еще остается, — Шилленбург назвал четырехзначное число. — Вы должны их возместить и отработать на великую Германию. Она возрождается!
Несколько минут после их ухода О’Брейли, опустошенный и подавленный, сидел в кресле, бессмысленно вертя шариковую ручку, которой подписал чек. Он сразу постарел на несколько лет и обмяк, словно у него из тела вынули стержень. Герберт проклинал тот день и тот час, когда связал свою судьбу с германской разведкой и исковеркал себе жизнь… Тонкая модная ручка, ломаясь, захрустела в его пальцах.
Глава шестая
1
Миклашевский только что разговаривал с Москвой, с женой. Дома все в порядке. Андрей заканчивает работу над дипломом — скоро станет инженером. Мама болеет, опять грипп…
Утро выдалось хмурым, туманным. Игорь Леонидович несколько минут стоял у открытого окна, вдыхая сырой холодный воздух. «Не зима и не весна», — подумал тренер, смотря вниз. Там, по шоссе, неслись автомобили, по тротуару торопливо шагали пешеходы с поднятыми воротниками.
Взяв пачку сегодняшних газет, Игорь Леонидович направился к Рокотову, который жил через два номера. Валерий был не один. У него сидел переводчик Костя. На столе — ворох газет.
— Изучаете? — спросил Миклашевский, пожимая им руки. — Ну и как?
— Просматриваем, — Рокотов только что побрился, умылся и, налив на ладонь одеколона, поднес к лицу. — Фу! Дерет!.. Про бокс много пишут…
Костя шелестел пухлыми газетами, отбирал страницы со статьями, раскладывал их на столе. Он то улыбался, то хмурился, то недоуменно пожимал плечами, бегло знакомясь с содержанием. Мимика и жесты его были весьма выразительны. Игорь Леонидович, положив свои газеты в общую кучу, стал вместе с Валерием рассматривать фотоснимки финального поединка. Почти все газеты на видном месте помещали снимки эпизодов боя Рокотова с Шилленбургом.
— Как с билетами? — спросил Валерий у тренера.
— В порядке. Еще вчера принесли.
— Значит, сегодня?
— Да. Теплоход «Узбекистан» отплывает в два тридцать. Обедаем в час — и в порт.
— А до часу можно побродить по Лондону, — Рокотов подошел к зеркалу и стал завязывать галстук. — До часу, Игорь Леонидович, меня не трогайте, это мое время. Я ведь Лондона почти не видел. Нигде еще не был… Дома никто не поверит, что все дни торчал в спортзале и в гостинице.
— Все! Разобрал! — сказал Костя и показал на страницы, лежавшие справа. — Здесь положительное… Высказываются крупные специалисты, признают поединок редким по красоте и динамике. Валерку считают новой боксерской звездой. А здесь, — он положил ладонь на несколько тощих страниц, — льют помои. Связывают спорт с политикой и победу западногерманского чемпиона расценивают с реваншистских позиций.
— Между прочим, — вставил Игорь Леонидович, — побеждать надо так, чтобы ни у кого не возникало сомнений. А это будет, как говорил Маяковский, лучшим доказательством нашей чистоты и силы.
— Не сыпьте соль на рану, — полушутя-полусерьезно ответил Валерий, — и так покоя нет…
— Соль — штука полезная. Без нее нет жизни.
Раздался приглушенный телефонный звонок. Валерий снял трубку.
— Да, да, Рокотов у телефона… Кто?.. Джоан? Добрый день, Джоан. Вернее, доброе утро… — Валерий прикрыл трубку ладонью и посмотрел на тренера. — Это та корреспондентка… Что делать?
— Обещание принято выполнять.
— Костя, выручай, — боксер умоляюще взглянул на переводчика. — Вдвоем мы ее быстро спровадим… А то я Лондона так и не увижу!
— Не больше десяти минут, — ответил за переводчика Миклашевский. — Костя нужен делегации. А леди вполне сносно болтает по-русски. Ты и сам, без помощников, справишься.
— Алло!.. Да, да… Пожалуйста… У себя… — сказал Валерий в трубку. — Можете подняться… Сто пятая…
Ида Бартон появилась в дверях неожиданно, обворожительно красивая, уверенная. Сделав шаг в комнату, она остановилась, холодно всматриваясь большими голубыми глазами в лица мужчин, как бы спрашивая, «не ошибаюсь ли?». Увидев Рокотова, «племянница» судьи Фрейда Грэндисона улыбнулась тепло, доверительно:
— О! Мистер Валери!
Она пришла одна. Из ее слов можно было понять, что у «дядюшки» Фрейда свои дела, он с друзьями-судьями отправился бродить по городу, а она должна трудиться — «делать свой бизнес», выполнять поручение редакции журнала. С ее приходом в комнате как будто стало уютнее, светлее. Журналистка, не теряя времени, достала блокнот и засыпала вопросами не только Валерия, но и тренера, и Костю-переводчика. Вопросы ее были целенаправленны и говорили о том, что в спорте она разбирается, хотя разговор шел в основном вокруг боксерской биографии Рокотова.
Все так увлеклись, что не обратили внимания на легкий стук в дверь.
— Простите за вторжение, — сказал незнакомый мужчина на чистом русском языке. — Надеюсь, я вам не помешал?
Он был среднего роста, плотный, в годах, одет в серый поношенный костюм спортивного покроя. Квадратное, ничего не выражающее лицо делового человека, любезное и холодное.
— Слушаю вас, — Валерий шагнул к незнакомцу.
— Не ошибаюсь, вы — товарищ Валерий Рокотов!
Слово «товарищ» он выделил интонацией, оно прозвучало довольно весомо, но в то же время странно для заграницы. Валерий насторожился. Любезно и вполне корректно ответил. Игорь Леонидович и переводчик Костя рассматривали вошедшего.
Если бы они повернулись и посмотрели на «племянницу» судьи Грэндисона, то наверняка бы удивились, заметив ее властный, требовательный взгляд, устремленный на незнакомца, взгляд начальника на опоздавшего подчиненного.
— Разрешите представиться! Роберт Мак-Гайер, специальный репортер рабочей газеты, — громко и с какой-то внутренней гордостью произнес гость и протянул документ. — Вот мое удостоверение личности.
— Приятно познакомиться, — Валерий дружески пожал протянутую руку, представил тренера, переводчика и подвел к Иде Бартон. — А это ваша конкурентка, журналистка Джоан Грэндисон. Вы знакомы?
— Первый раз вижу, — сказала Ида. — Мы незнакомы. Наш журнал без политики. Популерейшен спорт. Чистый спорт!
— Друзья! — Игорь Леонидович обратился к журналистам. — Приглашаю всех вниз. Давайте продолжим нашу беседу в ресторане. Пора завтракать. Прошу!
— О, мистер треньер! Благодарю, — Бартон спрятала в сумочку блокнот и ручку. — Я должен редакция… Надо делайт матерьял…
Уговорить ее не удалось. Валерий проводил журналистку к лифту, попрощался.
За завтраком Роберт Мак-Гайер выпил, оживился, рассказал свою биографию. Во время войны он был стрелком-радистом на бомбардировщике дальнего действия. Однажды во время ночного полета самолет подбили, пришлось прыгать с парашютом. Семь месяцев находился в плену, в концлагере, близко познакомился с русскими, вместе с ними принял участие в побеге. Двадцать пять дней пробирались на восток, к фронту. В Польше присоединились к партизанскому отряду, которым командовал майор Василий Федоров. В партизанском отряде англичанин Роберт Мак-Гайер пробыл более двух лет, выполняя задания, ходил в разведку, принимал участие в боях. У него было много русских друзей.
— Вы, наверное, догадались, я прибыл к вам не только, чтобы знакомиться, но и для дела, — Роберт Мак-Гайер допил кофе и поставил на блюдце чашку. — Небольшая просьба. Наша газета желает поместить фотографии русских боксеров. Фотографии боев имеются. Редактор поручил мне организовать один снимок на кладбище у могилы товарища Карла Маркса. Мы очень хотели, чтобы там был товарищ Рокотов. Цветы уже приготовлены. Наш фотограф ждет.
— Вообще-то мы не против, но времени нет, — сказал тренер. — Сегодня уплываем домой.
— Только один час, рабочая газета просит русских друзей, — настаивал Роберт, трогая Миклашевского за руку. — Только один час! Вы понимаете, это важно… Машина к вашим услугам. Разрешите взять товарища Рокотова? Я сам отвезу его туда и обратно.
— Понимаю, дорогой, все понимаю. Но я должен зайти в посольство, — тренер рассуждал вслух. — Костя с боксерами отправляется в музей восковых фигур. Билеты уже есть… Как же нам быть?..
— Вот что, — Костя посмотрел на Рокотова, — Валера, может, ты один съездишь? А? Проявим дух солидарности!
Валерий бросил умоляющий взгляд на тренера.
— Игорь Леонидович, мы же с вами договорились…
— Я об этом и говорю. Заодно и Лондон посмотришь, — поспешил Костя и обратился к журналисту: — Покажете ему столицу?
— Вы первый раз в Лондоне? — спросил Мак-Гайер у Рокотова и стал уверять, что фотографирование займет считанные минуты и что он рад быть гидом, оказать услугу русскому товарищу, он покажет всю столицу, все достопримечательности и даже то, что обычно иностранцам не показывают.
— Договорились! — Валерий встал. — Я сейчас вернусь, только сбегаю за фотоаппаратом.
Миклашевскому не хотелось отпускать Рокотова одного. Мало ли что может случиться? Недобрые предчувствия шевельнулись под сердцем. Ему не очень нравился этот журналист. Почему — он не знал сам. Просто чувствовал. Но разве об этом скажешь ребятам? Еще смеяться станут.
— Без четверти час быть здесь, — сказал на прощание тренер. — Прошу без опозданий.
Роберт Мак-Гайер с благодарностью пожал ему руку.
— Большое спасибо!
2
Репортер Мак-Гайер оказался отличным водителем. Умело лавируя в потоке машин, он то стремительным броском выскакивал вперед, то замедлял бег колес, давая возможность русскому боксеру запечатлеть на пленке понравившийся дворец, мост, памятник или просто кусок улицы.
Они кружили по площадям, проехались по набережной, пересекли несколько мостов, постояли у собора Святого Павла, медленно прокатились вдоль величественного здания Вестминстерского аббатства, задержались у Букингемского дворца — резиденции английской королевы, где на часах у ворот стояли бравые гвардейцы.
— Елизавета дома, — сказал Мак-Гайер и насмешливо добавил: — Верноподданные должны радоваться.
— Откуда вам известно, что королева во дворце? — спросил Рокотов.
— Все очень просто. Видите, над дворцом развевается знамя? Его поднимают только тогда, когда порог дворца переступит ее величество.
— Любопытная сигнализация.
— Традиция, — Роберт увеличил скорость. — Предлагаю совершать экскурсию ровно до двенадцати, затем полчаса на посещение могилы Карла Маркса и обратно в гостиницу.
— О’кей! — согласился Валерий, внутренне удивляясь своей беспечности.
В голову полезли всякие нелепости: вдруг откажет мотор или колесо спустит… Как тогда добираться? Времени в обрез, а денег английских в кармане кот наплакал, едва на кружку пива хватит. Но тут же он себя успокоил. Хотелось как можно больше посмотреть. Когда еще придется побывать в столице Великобритании?
Мак-Гайер неплохо знал историю. Они колесили по улицам старого города, любовались роскошными кварталами западного района, где в основном проживают банкиры и промышленные магнаты, крупные дельцы и чиновники, проехали по грязным улицам, где старые прокопченные дома стоят плотно, поддерживая друг друга.
— Пора, — Валерий показал на часы. — Без десяти двенадцать.
— Да, время, — Роберт круто развернул машину. — Фоторепортер там тоскует…
Вскоре подъехали к кладбищу. Тяжелая каменная арка, массивные ворота, высокая ограда. Смутное предчувствие шевельнулось в груди боксера. Он много читал о Лондоне, видел фотографии, смотрел киножурналы, в которых показывали, как русские моряки возлагали венки на могилу Маркса. Вход на кладбище был иным.
— Скорее! — Роберт захлопнул дверцу машины. — Нас там ждут.
На кладбище было удивительно пустынно. Памятники, кресты, склепы, густые заросли низких елок. Вдали одиноко возвышалась белокаменная часовня. Не верилось, что здесь, где похоронен величайший мыслитель, так уныло и безлюдно. Накануне открытия турнира советские боксеры посетили Хайгетское кладбище и возложили венки на могилу Карла Маркса. Валерий в тот день не ходил с командой, у него был лишний вес, и тренер послал его в баню париться. Аркадий Беленький рассказывал, что кладбище, как парк, и народу много. Валерий и сам читал, что Хайгетское кладбище ежедневно посещают туристы из многих стран. Где же эти туристы? Почему не видно ни одной живой души? Сердце учащенно забилось. Куда он идет? С кем? Тревога охватила Валерия. Он ясно почувствовал, что кто-то незримый следит за ним, буквально следует по пятам. «Вернись! Вернись! — кровь застучала молоточками в висках. — Почему доверился человеку, которого видишь первый раз? Вернись, там, впереди, западня!» Подозрительные тени мелькнули за белым мраморным памятником и скрылись в темных зарослях.
— Далеко еще? — спросил Валерий как можно спокойнее.
— Совсем рядом, — ответил Мак-Гайер, и в его голосе можно было уловить нотки победителя. — Еще три минуты.
— А где же цветы? — Валерию хотелось верить, что он ошибается, зря бьет тревогу.
— Цветы? — недоуменно переспросил Мак-Гайер, и Валерий сразу уловил, что тот думает о чем-то совсем постороннем, но журналист тут же выкрутился: — Ах, цветы? Венок уже там, на месте. Фирме уплачено, и можно быть спокойным — не подведут…
Последние сомнения улетучились. Пора действовать. Действовать, не вызывая подозрения. Надо что-то придумать. Во рту стало сухо.
— Подождите! — Валерий остановился. — Фу ты, черт! Я забыл в машине кассеты.
— Ерунда, — Мак-Гайер продолжал шагать по аллее, увлекая боксера. — У нашего фотографа возьмете.
— У меня цветная пленка, — настаивал Рокотов. Он резко повернул и поспешил назад, к воротам. — Я живо вернусь. Минуточку подождите!
Но выбраться с кладбища было не так-то просто. Не успел Валерий сделать и полусотни шагов, как на повороте, из-за темного гранитного памятника-креста, вышли двое. Штатская одежда на мощных фигурах. Черные шляпы низко надвинуты на самые глаза. Встали на аллее, широко расставив ноги. Рослые, плечистые, от них веяло грубой силой и безжалостностью.
Рокотов, не сбавляя шага, шел прямо на них. «Голыми руками не возьмете», — он стиснул зубы, понимая безвыходность своего положения.
— Прочь с дороги!
Тип слева сунул руку в карман и вынул пистолет, наставил его на Валерия. Тип справа достал металлические наручники. Движения были лениво-замедленные, отработанные долгой практикой. Оказывать сопротивление, казалось, не имело смысла. За спиной слышались еще чьи-то тяжелые шаги.
— Что ж, ваша взяла! — произнес Валерий и, подняв руки, шагнул к типам. — Сдаюсь!
Он протянул руки тому, у которого поблескивали наручники, всем своим видом показывая покорность и смирение. Тот щелкнул замком, отпирая наручники, что-то самодовольно пробурчал.
Но дальнейшие события развернулись с кинематографической быстротой. Неожиданно резким косым ударом ребра ладони Валерий выбил пистолет у типа, стоявшего слева, и, не останавливая наступательного движения, нанес в его открытую, незащищенную челюсть прямой справа. Тот рухнул как подкошенный. Мгновенно развернувшись, как сжатая пружина, Рокотов шагнул к другому.
Другой взревел и, отбросив наручники, выхватил нож. Но Валерий опередил его на какую-то сотую долю секунды. Ударил по корпусу, под ложечку, и нанес хлесткий крюк по гладковыбритой выступающей скуле. Тип ахнул и с открытым ртом тяжело повалился прямо под ноги.
«Нокаут», — машинально отметил Валерий и перепрыгнул через распростертые тела. Но тут кто-то тяжелый и сильный прыгнул сзади, ударил в спину, грубо обхватив руками за горло. Валерий еле устоял на ногах. В глазах запрыгали разноцветные круги, перехватило дыхание. Но машинально, не раздумывая, он ухватился за плечи напавшего, вернее вцепился в его одежду, и резко рванул вперед, одновременно пружинисто нагибаясь вниз. Тот, не ожидавший такого приема, не удержался на спине и грузно, как куль с песком, перелетел через Валерия и шмякнулся спиной на каменистую дорожку аллеи.
В распоряжении Валерия оставались лишь считанные секунды, чтобы оценить обстановку, принять решение. По спине пополз неприятный холодок, когда он увидел, как огромные, узорчатые, массивные створки ворот дрогнули и стали медленно закрывать выход. Путь назад был отрезан. Единственная возможность — каменный забор. Но как к нему добраться? Валерий побежал в глубь кладбища. Легко, мягким, пружинистым шагом спортсмена. Он не знал дороги, не знал местонахождения кладбища. Путь угадывал интуицией, чутьем. Только бы приблизиться к забору…
Преследователи торопились, хотя они, конечно, не могли соперничать с ним в скорости. Но на русского смотрели, как на своего пленника, — он в западне! Преследователи медленно, но верно сокращали расстояние. Без криков, в зловещем молчании приближались к Рокотову, слышалось их тяжелое дыхание. Он понял: его не собираются убивать, его хотят взять живым. Кому-то он очень нужен — живой…
Впереди, около низкого белокаменного склепа, преграждая путь, выросли два темных плечистых типа, словно вынырнули из-под земли. Валерий, не сбавляя темпа, тараном устремился прямо на них. Те, отступив на шаг, приняли боевые позы, готовые срезать русского. Но в самый последний момент, когда схватка казалась неизбежной, когда расстояние измерялось считанными метрами, Валерий вдруг круто повернулся, сделав стремительный скачок в сторону, перепрыгнул через мраморную плиту, обогнул склеп и, продравшись сквозь колючие кусты, выскочил на боковую аллею. Тут он сделал стремительный рывок. Перед ним, за крестами и памятниками, над верхушками кустарников вставала массивная, старинной кладки каменная ограда. Валерий ринулся к ней.
Однако ограда находилась не так близко, как ему показалось вначале. До забора по прямой было добрых полсотни метров, а узкая дорожка делала полукруг. Экономя силы, Валерий немного сбавил скорость. Этим тут же воспользовались преследователи. Они, тяжело топая, приближались. Валерий оглянулся: за ним гнались несколько человек, растянувшись цепочкой. Первый, молодой, смуглолицый, с плоским свирепым лицом, был уже метрах в пятнадцати. Выхватив из кармана веревку, он размахивал ею, намереваясь запустить как лассо, набросить петлю на Валерия. Но кусты и низкие ветви деревьев мешали ему закинуть аркан.
«А что, если… — словно вспышка, мелькнула мысль, — прием Спартака?» Он вспомнил страницы из книги, вспомнил тактический прием борьбы, который Спартак применил на арене цирка, — бить по одному… Валерий знал, что этот прием очень опасен, требует смелых и точных действий, любая ошибка, оплошность грозят непоправимой бедой. Но он решился.
Для начала сделал рывок, заставляя преследователей еще больше растянуться в цепи. Смуглолицый не отставал. Валерий чуть сбавил скорость, давая возможность преследователю догнать себя. А когда тот находился в нескольких шагах и, как почувствовал Валерий, уже взмахивал рукой с веревочной петлей, он присел и бросился смуглолицему под ноги. Рокотов видел, как гримаса отчаяния и страха перекосила смуглое плоское лицо. Пролетев несколько метров по воздуху, тот глухо шлепнулся к подножию памятника из гранита и затих.
А Валерий, не теряя темпа, вскочил и ринулся на второго преследователя, который по инерции налетел на боксера. Два встречных удара, и тот, словно его стукнули палкой по ногам, рухнул под железную ограду. Третий тип недоуменно остановился на почтительном расстоянии, видя, как два его сильных и поднаторевших в потасовках дружка валяются по обеим сторонам дорожки. У него пропало желание идти вперед. Он видел по телевизору бой Рокотова и, на всякий случай шагнув назад, застыл, дожидаясь, пока подбегут остальные.
Но Валерий, выиграв спасительные секунды, круто повернулся и что было сил пустился к белеющему каменному забору. Типы бежали следом. Они уже были уверены, что у ограды им удастся настигнуть и наконец схватить этого русского дьявола. Почти трехметровый забор без лестницы…
Однако боксер, на глазах у всех, разогнавшись, у самой стены высоко подпрыгнул, как не раз прыгал у себя в военном городке, преодолевая на полосе препятствий высокую преграду, и уцепился за верхний выступ ограды. Он держался на одних пальцах, выступ был очень мал. Но тут же, на виду у всех преследователей, Валерий легко подтянулся, качнул сильным, тренированным телом и закинул ногу на каменный забор. В следующее же мгновение он сидел верхом на ограде…
3
Валерий затерялся в толпе, но не чувствовал себя в безопасности. Ныло ушибленное плечо, болели сбитые в кровь фаланги пальцев, драться пришлось без боксерских перчаток. Особенно сильно болел большой палец левой руки. Он вспух и покраснел. Рокотов осмотрелся: в стороне, почти под крышей старинного здания, увидел большие часы. Стрелки показывали без двух минут час. Вихрь мыслей пронесся в его голове. В час боксеры пойдут обедать, затем — в порт, на корабль. А он, Рокотов, еще черт знает где. Правильно ли он держит путь?
Возле пятиэтажного серого дома Валерий увидел будку телефона-автомата. Сразу отлегло от сердца. Телефон поможет спастись. Валерий наизусть знал номера телефонов комнат, в которых жили советские боксеры. Достал мелочь. И… Три раза подряд набирал номер в комнату тренера, звонил массажисту, боксерам. Но никто не взял трубки, никто не подходил. Обедают…
Надо у кого-нибудь спросить. Такси? Их не видно. Выбор пал на молодого парня в потрепанной куртке и серой кепке, которая лихо сидела почти на самом затылке. Парень шел впереди по тротуару и на ходу смотрел газету. Валерий узнал спортивную полосу. Он ее уже видел утром, там был помещен репортаж боя Рокотова с Шилленбургом.
Валерий поравнялся с парнем и только тут обратил внимание, что это негр. Парень хмуро глядел большими навыкате глазами. Валерий взял у негра газету, показал пальцем в фотографию, на которой боксер был изображен крупным планом, потом ткнул себя в грудь.
— Это — я… я… Рокотов… Понимаешь? Русский боксер.
Негр недовольно глянул на странного белого, посмотрел на снимок, снова перевел глаза, и его пухлые губы расплылись в дружеской улыбке, обнажая белые зубы.
— О! Боксер! — он узнал Рокотова.
Взяв шариковую ручку, Валерий на газете нарисовал волнистые линии и латинскими буквами написал «Темза». Негр понимающе закивал:
— Темза… Темза! — и рукой изобразил волны.
Рокотов быстро набросал контуры парохода. Негр снова закивал. Тогда Валерий показал беспомощно развел руками:
— Заблудился… Понимаешь?
Но вот этого негр не понимал. Он преданно смотрел большими навыкате глазами и беспомощно пожимал плечами. Валерий дважды принимался объяснять все сначала, и наконец негр понял.
Рокотов обрадованно заговорил:
— Друг, выручай… Темза! Порт!..
Тот все больше хмурился.
Надо выручать хорошего русского боксера, который привел на банкет жену знаменитого Джефферсона и посадил ее рядом с белыми. Об этом сегодня говорит весь город, об этом пишут газеты, одни со злобой, другие с восхищением. Нет, Том сделает все, чтобы русский парень вовремя попал на теплоход!
Он подбежал к автофургону, в котором перевозят продукты, и, яростно жестикулируя, стал что-то говорить водителю. Тот сначала недоуменно таращил на негра глаза, потом сразу оживился.
Негр вернулся и взял Рокотова за рукав, приглашая его следовать за собой. Валерий повиновался. Шофер автофургона — белобрысый, полнолицый, крупного телосложения англичанин — распахнул дверцу кабины.
— Спасибо! — сказал Рокотов, и негр помахал рукой.
Водитель автофургона дружески хлопнул Рокотова по плечу, лукаво подмигнул светлыми глазами и включил скорость. Через полчаса они были в порту…
Вечером, когда теплоход «Узбекистан» бороздил волны, а Валерий в который уже раз рассказывал о своих злоключениях, в каюту пришел радист и протянул Миклашевскому радиограмму. Тренер взял лист и, пробежав глазами текст, прочел вслух: «Мэр города и Федерация бокса приносят господину Рокотову свои самые искренние извинения. Полиция принимает меры, чтобы ликвидировать группу уголовных преступников, которые пытались ограбить русского боксера. Мы надеемся, что неприятный инцидент не повлияет на нашу сердечную дружбу. Желаем счастливого плавания».
Валерий только зло сплюнул в ответ…
Глава седьмая
1
Валерий родился и вырос в Донецке, в семье потомственного шахтера. Отца своего он не помнил, но из рассказов матери, бабушки и многочисленной родни знал, что в конце февраля сорок четвертого его отец, старший лейтенант Константин Рокотов, возвращаясь из госпиталя в действующую армию, восемь дней гостил дома. Валерке тогда было чуть больше года. Отец привез в подарок сыну трофейную высокую белую коляску с витой никелированной ручкой, за которую потом, даже спустя много лет, матери предлагали большие деньги, но она, несмотря на отчаянную бедность, не рассталась с ней. Коляска и сейчас стоит в горнице рядом с зеркальным шифоньером, купленным Валерием на первое офицерское жалованье. В коляске лежат до боли знакомые игрушки — тоже подарок отца — он тогда, к неудовольствию бабушки и матери, истратил на них чуть ли не четверть своей фронтовой зарплаты. Больше игрушек Валерке никто и никогда не покупал, в трудные и голодные послевоенный годы родственникам было не до игрушек, а вдове-матери и тем более, она еле сводила концы с концами.
О тех счастливых восьми днях, когда отец был дома, напоминают фотографии, которые бережно хранятся в старом толстенном альбоме, оклеенном выцветшим синим бархатом. На всех снимках — групповых, семейных — отец сфотографирован вместе с сыном. Мать и бабушка не раз рассказывали, что отец все свободные минуты проводил с Валеркой, таскал его на руках, учил ходить, а однажды, подвыпив, напугал всех — сунул в руки ребенка тяжелый пистолет и показывал, как нажимать на курок. Ничего такого Валерий, конечно, не помнил, но часто, всматриваясь в поблекшие от времени фотографии, смутно ощущал своей щекой жесткое сукно командирской шинели, словно не тогда, а именно сейчас сидит он на коленях отца перед объективом фотоаппарата.
В те дни война уже близилась к победному концу, и фронтовик Рокотов мечтал, когда снова возьмет в руки отбойный молоток и забросит опостылевший автомат. Но восстанавливали шахту уже без отца. Дядя Афанасий, который и сейчас работает бригадиром, показывал Валерию, когда тот подрос и научился читать, отцовские письма, присланные ему с фронта. Врезались в память строчки из одного такого письма: «…Ненависть к врагу велика, но тоска по дому, по забою спать не дает. Иногда бьешь из пулемета, он дрожит в руках, так знакомо дрожит, как будто снова я в шахте сжимаю отбойный молоток…»
Когда Валерию исполнилось шестнадцать лет, он не задумываясь пошел устраиваться на шахту. К тому времени Валерий уже умел хорошо ездить на мотоцикле и прилично водить машину, успешно участвовал в юношеских соревнованиях по фигурному вождению мотоцикла, а инструктор областного автомотоклуба Иван Степанович прочил ему блестящую спортивную карьеру гонщика и настаивал, чтобы он шел работать на автобазу. Однако Валерия тянула к себе шахта, он хотел идти по пути отца. Дядя Афанасий взял парня в свою знаменитую на весь Донбасс бригаду, но только с условием: учебу не бросать! Валерию пришлось записаться в школу рабочей молодежи.
Год спустя молодой шахтер познакомился с боксом и понял преимущество техники над грубой силой. Знакомство произошло банально. В летний субботний вечер. В тот день шахтеры получили зарплату, и Валерий, не желая отставать от старшего поколения, сидел в душной и грязной закусочной, пил модную тогда «кровавую мэри» — водку с томатным соком и слушал воспоминания бывалых горняков, ветеранов шахты. Друг Федька Холод — он был старше на год — предложил «прошвырнуться» на танцульки.
Танцевать как следует Валерий не умел, только начинал осваивать примитивные па, однако держался на площадке нахально смело. Парни его побаивались — он был самый сильный на улице и дрался напропалую по любому пустяку.
Танцы были в полном разгаре, когда подвыпившие дружки заявились туда. На небольшом пятачке, огороженном прочной железной оградой, сотни полторы пар, медленно кружась под звуки оркестра, старательно протирали подошвы о цементный пол.
— Глянь, с твоей Катькой залетный фраер, — Валерка локтем толкнул друга. — Она так и липнет к нему.
Федька насупился. Он был неравнодушен к Катерине, преследовал ее всюду, навязчиво предлагая свою дружбу. Но девушка оказалась с характером и холодно отсекала его ухаживания. Пара проплыла мимо. Федька состроил страшную рожу и показал Катерине кулак. Но та, нарочно не замечая Федьку, смотрела куда-то в сторону. Ее партнер — незнакомый высокий парень — что-то шептал на ухо, и она улыбалась.
— Тряхнем стилягу? — предложил Валерий, хотя, если бы его спросили, почему назвал парня фраером и стилягой, он навряд ли ответил, ибо у того ничего стиляжьего ни в поведении, ни в одежде не чувствовалось.
— В антракте, — ответил Федька и двинулся к выходу. В антракте Холод взял цепкими пальцами парня за руку.
— Идем, потолковать надо…
В глухой темной аллее парень насмешливо спросил:
— Двое? Или еще есть? Так давайте сразу.
— Небось мы и вдвоем тебя разделаем! — Федька смачно выругался и широко размахнулся. — Держись!
Парень не дрогнул, не попятился, а как-то странно пружинисто присел, и Федька промахнулся. Парень выпрямился и, совсем не размахиваясь, от себя, как ребята говорили «с тычка», ударил Федьку. Со стороны такой удар показался бы не очень сильным, но Холод нелепо взмахнул руками и плюхнулся спиной в колючие, остриженные под ежик кусты.
Валерий, взревев, прыгнул на парня, но получил такой удар, от которого у него в глазах замелькали разноцветные круги, в ушах странно загудело, и он провалился в мягкую черноту…
Сколько времени Валерий пролежал на усыпанной гравием дорожке парка, он не знает. Очнулся ночью, когда его тормошил Федька. Тот первым пришел в себя.
— Валера!.. Ты живой?.. — шептал Федька. — Вставай, домой пора…
Валерий сел, опираясь руками. В голове шумело, в горле стояла неприятная сухость. Он облизнул губы.
— Выпить бы…
— Идем. Может, у сторожа гастронома пол-литру купим, — Федька помог другу встать.
— Водки не хочу… Ну ее… — Валерий возразил, вяло махнув рукой. — Мне бы водички… Рот сполоснуть.
Они выбрались из парка, нашли на углу водопроводную колонку и по очереди совали свои головы под сильную холодную струю.
— Здорово дерется, — сказал Валерий, вытирая лицо рукавом. — Наверное, бил по-боксерски…
— Завтра соберем всю нашу кодлу и распотрошим его, — зло произнес Федька. — И бокс ему не поможет.
— Я не пойду, — предупредил Валерий. — На меня не рассчитывай.
— Ну?!
— Вот так.
— Сдрейфил, значит.
— Совсем другое. Он, видно, парень свойский. И смелый, — Валерий размышлял вслух. — С таким подружиться надо. А Катьку ты забудь. Она все равно с тобой не будет. Ищи лучше другую.
На следующий день друзья забрались в гущу сада и там, под кустом смородины, разостлали байковое одеяло. Федька вручил товарищу пинцет.
— Только полегче ты…
Холод разделся и лег на живот. Колючки были маленькие, вытаскивать их оказалось нелегко. Валерию пришлось повозиться. Вытащив занозу, он прижигал ранку йодом. Вскоре спина у Федьки стала пятнистой, как шкура леопарда.
А у Валерия целую неделю болели скулы, не мог глотать и жевать. В столовой брал одни молочные блюда или котлеты с картофельным пюре, с хлеба срезал корку. Валерий здорово переживал. Ему еще ни разу не приходилось быть битым.
— Вот что, — сказал он Холоду, когда мылись в душевой после смены. — Членские взносы в «Авангард» платим?
— Ну, платим, — ответил Федька. — А что?
— Значит, и мы тренироваться имеем право. Топаем во Дворец спорта. Заниматься в боксерский кружок.
Но во Дворце спорта, едва заглянув в боксерский зал, друзья попятились назад. Там, обнаженный по пояс, прыгал вокруг мешка, подвешенного на веревке, тот самый парень и кулаками в пухлых перчатках колотил по мешку. Они его узнали сразу, по кучерявым волосам, хотя в зале спортсменов было порядочно.
— Что же теперь делать? — спросил Федька, когда вышли на улицу. — Может, лучше в футбольную команду? А?
Валерий молча мерил шагами улицу, а потом сказал:
— Нет! Пойдем в боксерский кружок. Только сначала натренируемся. Чтобы устоять против чубатого, если сунется.
— Потренируемся? — Федька даже остановился.
— Да, — коротко и загадочно ответил Валерий.
— Как так?
— Запросто! Складываемся… А можно и не складываться. Короче, в эту зарплату каждый покупает себе боксерские рукавицы. Ну и начнем… Самостоятельно! Для подготовки.
— Законно! — согласился Федька и тут же спохватился: — А где это мы биться станем… Если увидят, засмеют…
— Мы вечером, после школы. Ночи-то лунные.
— Ты гений!
В день получки друзья, к удивлению горняков, нарушили традицию: не пошли в закусочную, а двинулись в спортивный магазин. Рокотов выбрал себе коричневые перчатки, а Холод — черные. Тут же, в магазине, примерили их, загадочно переглянулись.
— Порядок? — спросил Федька.
— Порядок, — ответил Валерий.
Им не терпелось опробовать покупку, и первая «тренировка» состоялась в тот же вечер на глухом пустыре за старым, поросшим травой терриконом, что возвышался, как пирамида. Выбрали небольшую лужайку среди кустов. Для бодрости распили пол-литра водки и, надев пухлые кожаные перчатки, стали друг против друга.
— Сколько раундов? — с видом знатока спросил Валерий.
— Давай без всяких раундов, — сказал Федька. — До первой крови…
— Тогда начинай!
— Нет, ты начинай!
Начинать первому ни тому ни другому не хотелось. Рука не поднималась бить товарища. Бить просто так, ни за что. Даже в боксерских перчатках. В этом было что-то кощунственное.
Они нерешительно топтались несколько минут.
— Давай по команде, — предложил Валерий и отступил на шаг назад. — Считаю до трех. Раз, два… три!
При счете «три» они, словно петухи, налетели друг на друга, яростно размахивая руками. Каждый бил, как умел. Удары сыпались градом. Федька, широко откидывая руки, словно крылья, наносил размашистые, с оттяжкой, увесистые «подарки». У Валерки в ушах стоял сплошной звон. Но и Валерка не оставался в долгу. Он коротко отводил локти назад и после такого пружинистого размаха посылал кулаки вперед, бил от себя, и Федькина голова тяжело болталась из стороны в сторону, как футбольный мяч.
Домой Валерий пришел с синяком под левым глазом. Мать устало всплеснула руками:
— Горе ты мое… Опять подрался!..
— Не… Мы с Федькой боксом тренируемся, — с гордостью показал пухлые кожаные перчатки.
— Еще чего вздумали! Смертоубийством заниматься, — и закончила угрозой: — Я те покажу боксу!.. Враз все забудешь!
Никакие угрозы и репрессии не могли сломить упорство доморощенных спортсменов. Они жаждали овладеть искусством кулачного боя, стать сильными, ловкими и смелыми. Каждый день, вернее, каждый вечер друзья украдкой пробирались на пустырь за старый террикон, натягивали перчатки и, выпив по бутылке пива, при лунном свете нещадно колотили друг друга. Синяки и ссадины украшали их физиономии. Медные пятаки и свинцовая примочка уже не помогали. Лица осунулись, глаза ввалились, в них появился какой-то нездоровый лихорадочный блеск.
На третью неделю стал пропадать аппетит. Появилось странное безразличие и какая-то вялость, работу выполняли без огонька, по принуждению. Хотелось бросить все, завалиться куда-нибудь, прикорнуть и лежать. Федьке несколько раз удавалось продрыхать всю смену. Отлынивал он мастерски. Подойдет к вагонетке, наполненной мелким углем, зажмурится, сунет лицо в пыль, как в воду, и начнет фыркать да дуть. Через минуту чернее негра становится. Поди докажи потом, что не работал в забое. Но бригадир поймал его, вывел на чистую воду.
— Где шлялся? — спросил он Федьку в конце смены.
— Вкалывал, — устало-безразличным тоном ответил Федька и фонарем осветил свое лицо, как бы говоря, смотри, убеждайся, если не веришь.
— Покажь руки! — велел бригадир и направил луч на Федькины ладони.
Руки подвели: они по сравнению с лицом оказались весьма чистыми. Федьке вкатили выговор да еще проработали на общем собрании.
2
— Валера, давай отдых сделаем, — робко предложил Федька в конце четвертой недели. — Перерыв на пару дней. А? Что-то сегодня нет охоты натягивать перчатки…
— А боксоваться есть охота? — допытывался Валерий.
— Вроде бы нет, — тот неопределенно пожал плечами.
— Давай честно. Хочешь или нет?
— Ну, нет.
— Тогда все, прячь варежки. Мы в форме! — радостно воскликнул Валерий. — Понимаешь, я читал… Когда спортсмен долго и с душой тренируется, ну, как мы с тобой, то перед самыми соревнованиями у него даже отвращение к своему спорту появляется. Тренер дает ему день-другой передохнуть, и на соревнованиях спортсмен бьет рекорды или становится чемпионом. Во! И у нас с тобой так…
На твердых, вспухших губах Федора появилось подобие улыбки.
— А я думал…
— Два дня отдыха, а потом идем во Дворец спорта в боксерскую команду, — сказал Валерий тоном, не допускающим возражения. — Пусть тот, чубатый, только сунется!
Через два дня — парни трудились в первую смену, — отмыв угольную пыль, принарядились и вечером пошли во Дворец спорта. В дверях боксерского зала остановились, присмотрелись. Того, чубатого, не было. В зале тренировались подростки. Одни прыгали через веревочку, как девчонки, другие проделывали гимнастику, третьи колотили два подвешенных мешка. В воздухе пахло канифолью и потом. На Валерия и Федю никто не обращал внимания.
— Заходим, — шепнул Валерий и первый шагнул в зал.
— Здравствуйте, пионеры! — громко произнес Федор и встал рядом с Валерием.
Невысокий плотный боксер, явно не пионерского возраста, с рельефными мышцами, подошел к ним.
— Буфет в конце коридора, — сказал он с оттенком иронии. — Не мешайте тренироваться.
— Мы… Мы по делу, — сказал Валерий.
— Нам нужен тренер, — добавил Федор.
— Старший тренер, — поправил Рокотов.
— А! Вы к Павлу Антоновичу?
Ни Рокотов, ни Холод не знали, кто такой Павел Антонович, но оба закивали и дружно сказали «да!».
— Сейчас позову, — сказал боксер и направился в конец зала, где темнела дверь.
Вскоре оттуда вышел темноволосый мужчина в синем потрепанном тренировочном костюме, чуть выше среднего роста, хорошо сложенный, лет тридцати пяти, с усталым лицом.
— Слушаю вас?
— Мы хотели бы наедине поговорить, — несмело сказал Валерий.
Вышли из тренировочного зала в коридор.
Выслушав просьбу, Павел Антонович поинтересовался, почему выбрали бокс, а не иной вид спорта, где друзья работают, учатся, и в заключение сказал:
— Записаться в секцию можно, но сначала необходимо пройти медосмотр, — и, посмотрев на часы, добавил: — Сходите вниз, может, Нина Осиповна еще у себя. Вторая дверь налево. Это наш спортивный доктор.
Друзья сразу повеселели. Оказывается, все так просто! Открыв дверь в кабинет врача, Федор выпалил:
— Доктор, нарисуйте нам справочку на предмет нашего здоровья!
Моложавая полная женщина через толстые стекла очков посмотрела на вошедших.
— За справкой дело не станет. Показывайте свое здоровье, — и предложила раздеться до пояса. — Ну, на что жалуетесь?
— Что вы, доктор! Здоров, как трактор!
Нина Осиповна оказалась несговорчивой. Измерила кровяное давление, считая пульс, придирчиво выслушивала сердце, легкие, заставляя то дышать, то не дышать. Ее лицо мрачнело все больше и больше.
— Какой у вас вид?
— Вид? — переспросил Валерий и, оглядев товарища, пожал плечами. — Вид вроде бы нормальный…
— Какой вид спорта, спрашиваю?
— А-а, спорта… Ну, по боксу мы…
— Давно тренируетесь? — продолжала врач, что-то записывая в толстый журнал.
— Не…
— Странно, — Нина Осиповна недоверчиво посмотрела на одного, потом на другого. — У вас все признаки тяжелой перетренированности… Понимаете, организм устал. Очень устал…
— Да что вы, доктор! — удивился Валерий. — Откуда ему устать-то?
— Мы только хотим заниматься, — сказал Федор.
— Как так «хотим»? — недоуменно спросила Нина Осиповна.
— Обыкновенно, — ответил Федор. — Хотим боксоваться. Записаться то есть. Вот и пришли.
— А Павел Антонович направил к вам за справкой, — уточнил Валерий. — Без врачебной справки, говорит, не приму.
— Ничего не понимаю! — Нина Осиповна положила ручку. — Давайте все сначала. Начнем по порядку. У кого в секции вы тренируетесь?
— Пока ни у кого…
— Не крутите. Я все прекрасно вижу сама. У вас явная перетренированность. Вы больны. Понимаете, больны! И я хочу вам помочь. Отвечайте: в какой секции вы тренируетесь?
— Мы же сказали — ни у кого, — ответил Валерий, не понимая, почему доктор выходит из себя.
— Мы просто сами… Так сказать, самостоятельно, — разъяснил Федор. — Готовились к поступлению.
— Сами? Без тренера?
— Ага! Купили, значит, в получку боксерские перчатки и самостоятельно… Чтоб подготовиться, для приема.
— Гм… Весьма любопытно, — Нина Осиповна снова принялась писать. — И давно вы так самостоятельно тренируетесь?
— Не очень, — сказал Федор. — Почти месяц.
— Четыре недели, — уточнил Валерий.
— Понятно. И сколько раз в неделю проходили ваши самостоятельные занятия?
— Каждый день.
— Без выходных.
— Так, так, — врач подыскивала слова, спрашивала осторожно, боясь спугнуть доверие. — И по сколько минут вы, так сказать, тренировались?
— Мы раундов не считали, — разоткровенничался Федор. — После школы, мы учимся в вечерней для рабочей молодежи, брали перчатки и уходили на пустырь за террикон. Ну и боксовались. Правда, без правил. До первой крови.
— Боже мой! — не выдержала врач. — Таких чудаков вижу впервые. Да вы пьяные были, что ли?
— Да нет, — застенчиво протянул Федор, — мы только так, чуть-чуть.
— Как? Вы перед занятиями пили спиртное?
— Не, спирт не пили. Водку или пиво. Немного, правда, для бодрости.
Нина Осиповна всплеснула руками и заходила по кабинету.
— Ну зачем, зачем вы это делали?
— Так, для азарту.
— И каждый день?
— Ага…
— Вы представляете, что вы натворили? — она села за стол, сжала виски ладонями. — Это же самоубийство!
— Да вы не бойтесь, доктор! — сочувствующе произнес Федор. — Нам было не тяжело. Выдюжили.
— Мы шахтеры! — гордо добавил Валерий.
— Вы пока еще семнадцатилетние мальчишки! Нарочно не придумаешь такое!
Нина Осиповна стала звонить на шахту, в медпункт. Валерий и Федор стояли перед врачом, неловко переминаясь с ноги на ногу, и молчали. Нина Осиповна на непонятном докторском языке, где рядом с обыкновенными русскими словами мелькали иностранные, что-то долго говорила главному врачу. Потом повернулась к парням:
— Вот что, голубчики. Со спортом придется повременить. И не только со спортом. Начнем лечиться, — она быстро написала рецепты и протянула их оторопевшим друзьям. — Порошки перед едой. Капли по три раза в день.
На улице Федька скомкал рецепты и, презрительно свистнув, бросил их в цементную фигурную урну.
— Обойдемся…
Но медицина уже взяла их в свое окружение. Наутро в нарядной, перед спуском в шахту, их задержали, и начальник смены велел немедленно отправляться в медпункт. Там их ждала комиссия. И началось — анализы, рентгены, электрокардиограммы… Человек, когда попадает в руки к медикам, перестает быть самостоятельным… К вечеру начальник шахты подписал приказ — внеочередной двухнедельный отпуск на лечение. Главный врач, вручая Рокотову и Холоду по путевке в шахтерский дом отдыха, расположенный на берегу Азовского моря, сурово сказал:
— Если бы была моя воля, я бы судил тех, кто бессмысленно подрывает свое здоровье. Здоровье — это государственная ценность!
3
После дома отдыха Валерий и Федька снова очутились в руках у медиков, и те единогласно дали заключение: здоровы. Со справками в руках друзья переступили порог боксерского зала.
— Становитесь в строй, если не передумали, — сказал им старший тренер Павел Антонович и тепло улыбнулся, как старым знакомым.
Валерий и Федор заняли место в строю новичков. Перчаток первое время им не давали. Занимались гимнастикой, бегали, прыгали, перекидывались тяжелыми набивными мячами, играли в баскетбол. И постепенно, по элементам, изучали азы боксерского искусства: привыкали к боевой стойке, учились передвигаться по рингу мягкими скользящими шагами, осваивали технику одиночных ударов и защиты от них.
На одном очередном тренировочном занятии парни встретились с тем, с чубатым. Произошло это так. Павел Антонович уезжал в Киев на республиканский семинар тренеров. Он привел с собой в зал кучерявого парня, одетого в тренировочный костюм, и, обращаясь к боксерам, сказал:
— Пока я буду в отъезде, с вами будет работать Николай Васильевич. Он кандидат в мастера и в этом году занял третье место на личном первенстве Украины в среднем весе. Николай Васильевич после окончания горного института прибыл к нам и работает инженером на шахте. Надеюсь, вы с ним подружитесь…
Валерий и Федор одеревенели. Они со страхом смотрели на Николая Васильевича, и каждый думал: «Ну, сейчас он нам задаст». На вид ему лет двадцать пять, хорошо сложен.
Началась тренировка. Боксеры стали в пары и отрабатывали «прямой левой в туловище и защиту подставкой локтя». Валерий и Федор забились в дальний угол зала, подальше от нового тренера. Но тот сам подошел к ним.
— Привет! — сказал он и усмехнулся.
В его усмешке парни прочли угрозу. Валерий сухо, чтобы не показать свою робость, ответил:
— Привет.
— После тренировки не уходите, — сказал тот. — Потолковать надо.
У Валерия и Федора сразу пропала охота продолжать тренировку. Они на собственном опыте знали, чем кончается такое «толкование». Холод предложил «смыться». Но покинуть боксерский зал незаметно им не удалось, казалось, что новый тренер не спускает с них глаз. К тому же раздевалка была заперта, а ключи от нее — в кармане у молодого инженера. Без штанов далеко не уйдешь. Не будешь же топать через центр города в коротких трусиках и в маечке-безрукавке?
— Давай филонить, — предложил шепотом Федор, — экономить силы надо. Отмахиваться будем, если полезет.
Два часа пролетели стремительно быстро, и после легких, расслабляющих гимнастических упражнений молодые боксеры хлынули в раздевалку. Валерий и Федор остались в зале и, не снимая с рук тонких перчаток для работы на мешке, хмуро ждали.
Молодой инженер с забинтованными кистями — не разбинтовывает, пальцы бережет, бить будет! — подошел к ним. Валерий и Федор выжидающе смотрели на инженера.
— Вот что, ребята, у меня к вам просьба, — сказал он, и в спокойном голосе можно было уловить дружескую интонацию. — Оставьте Катерину в покое. Мы с ней дружим почти три года, а познакомились на республиканской конференции. В Киеве. У меня серьезно с ней…
Друзья поняли: инженер предлагает им мир. Избиение не состоится. У них сразу потеплело на душе. Валерий сказал:
— Мы же не знали… Завсегда пожалуйста!
— Катька… Катерина то есть, нам ничего не говорила, — Федор приосанился, ему было лестно, что он соперничал с таким боксером. — А теперь порядок. Слово! А если кто к ней рыпнется, сами рога пообломаем!
— Спасибо, ребята, — инженер протянул ладонь. — Вот моя рука. На дружбу!
— Идет! — выпалил Федор и крепко ее пожал.
Из Дворца спорта вышли втроем и до троллейбусной остановки шли вместе, разговаривали о боксе, о жизни. Так они подружились. А через полгода Рокотов и Холод гуляли на шумной свадьбе и хором пели:
Что ты знаешь о солнце, Если в шахте ты не был…Бокс захватил и увлек Рокотова. Трудности его не пугали. Он строго соблюдал спортивный режим и каждую свободную минуту посвящал тренировкам. Даже на работе, в шахте, во время перерыва уходил за вагонетки и там, в кромешной темноте, взяв в руки по куску тяжелой породы, проделывал специальные боксерские упражнения, вел бой с тенью, с воображаемым противником. Товарищи по работе, особенно пожилые горняки, сначала смеялись над его чудачеством, подшучивали, но потом, когда поняли, что он серьезно работает над собой, когда увидели его первые победы на ринге, — стали относиться к нему с теплотой и уважением.
Валерий возмужал, окреп, мышцы налились силой. Работа в шахте закалила волю, воспитала смелость. Труд горняка — дело опасное. Спускаясь вниз, шахтер не знает, что ждет его в забое, какая опасность подстерегает.
Молодой боксер стал сдержанным, осмотрительным, научился владеть собой. Шахтерские навыки он перенес в боксерский зал и на ринг. Расчетливость и природная смекалка, умение мгновенно оценить боевую обстановку, принять единственно правильное решение способствовали его успехам. Рокотов стал чемпионом города, потом области, а еще через год выиграл звание чемпиона Украины среди юношей.
После окончания вечерней школы Валерий уехал в Москву; успешно сдав экзамены, он поступил в военное училище.
Глава восьмая
1
Из Ленинградского морского порта, едва теплоход «Узбекистан» пришвартовался к пристани и пассажиры сошли на берег, Рокотов отправился в аэропорт. Он торопился к месту службы. Несколько часов летел в роскошном и просторном салоне турбовинтового лайнера, и симпатичные стюардессы разносили на подносах минеральную воду, кормили вкусным завтраком. Затем Рокотов пересел в скромный Ли-2, где усталая стюардесса на взлете и посадке угостила немногочисленных пассажиров леденцами, потом час болтался в тесной кабине вертолета, где его уже ничем не угощали, а в круглые окна была видна щетинистая и заснеженная тайга, до боли знакомая и ставшая родной. Где-то здесь, в хвойной чаще, находится его гарнизон.
Железная стрекоза, взметая снежную пыль, плавно опустилась на ровную площадку. С одной стороны зеленой стеной подступала тайга, с другой, по пояс в снегу, темнели срубы поселка, а за домами — опять тайга.
— За бортом минус тридцать семь, — сказал пилот в темных меховых унтах, критически осматривая парадную шинель Рокотова. — В такой одежонке рискованно появляться в наших краях.
— Должны встретить, — ответил Рокотов.
— А если не встретят, заходите к нам без стеснения. Сам испытал, что значит добираться по тайге на попутном транспорте.
— Спасибо, — поблагодарил Валерий и показал на армейский «газик», который мчался к вертолету. — Ну, это, кажется, за мной.
Шофер, рядовой Пестун, рослый скуластый сибиряк, сразу узнал Рокотова, принес меховой полушубок и валенки.
— С возвращением, товарищ лейтенант! Натягивайте прямо поверх шинельки, теплей будет. С победой вас! Здорово вы их там, по-боксерски…
Рокотов уселся рядом с водителем. В машине было тепло, пахло бензином. «Газик», подпрыгивая на ухабах, помчался по улице. Вскоре поселок остался позади. Пестун вывел машину к замерзшей реке, по ней пролегала санная дорога. Тайга темно-зеленой стеной подступала к заснеженной реке. Столетние сосны, могучие пихты и кедры, стоя по колено в снегу, приветствовали Рокотова, чуть покачивая мохнатыми ветками, на которых тяжелыми лапами лежал снег.
— А в гарнизоне ждут вас, товарищ лейтенант. Ох как ждут! Корреспондент из окружной газеты вторые сутки находится, все о вас расспрашивает, — рядовой Пестун рассказывал о новостях, о жизни в гарнизоне.
И Валерий Рокотов снова окунулся в знакомую армейскую атмосферу, словно никуда и не уезжал.
— Как стрельбы?
— Прошли, да еще как успешно! Сам генерал благодарность объявил всему личному составу.
Рокотов слушал водителя, и к чувству радости и гордости за своих ребят примешивалась легкая зависть, что первые стрельбы прошли без него.
Сколько времени ушло на освоение аппаратуры, на обучение и тренировку солдат. А вот самое главное произошло без него…
— А как Красуля? Приходит?
— Каждый день точно к обеду приходит из тайги. Умная тварь, привыкла к солдатскому распорядку!
Красулей звали молодого лосенка. В прошлом году ранней весной солдаты нашли его в чаще. Он беспомощно лежал на снегу. Мать-лосиха, видимо, ушла на поиски пищи, и там ее задрали волки. Лосенок несколько дней голодал. Солдаты принесли его в гарнизон, по совету врача первые недели отпаивали молоком. Потом кормили жидкой кашей. Лосенок окреп, подрос, привык к новой жизни, доверчиво тянулся к людям. Ракетчики полюбили лосенка, дали ему ласковое имя Красуля. Красуля свободно разгуливал по гарнизону, привык к рокоту машин, нисколько не пугался света фар. К концу лета Красуля незаметно превратился в молодого красивого лося. Он все чаще стал уходить в тайгу, пропадал по несколько дней, потом снова появлялся в гарнизоне и, к радости узбека-повара, приходил к дверям солдатской столовой. Подойдет, постоит, посмотрит крупными блестящими глазами в окно и начнет робко стучать копытом в дверь, как бы говоря: «Я пришел, выносите еду».
В гарнизон добрались поздно вечером. Рокотов устал, утомленный полетом и тряской в машине, хотел спать и есть. На контрольном пункте солдаты громко приветствовали Рокотова и, проверив документы, подняли шлагбаум. «Газик», почувствовав под своими колесами ровную асфальтированную дорогу, помчался стрелой. Освещенные окна домов военного городка приветливо замигали издалека.
Лихо развернувшись на небольшом плацу, Пестун застопорил машину у подъезда приземистого кирпичного здания. Рокотов невольно отметил, что его никто не встречает. Площадь, очищенная от снега, пустынна, у штаба ни души. «Здесь ждут лейтенанта, а не знаменитого боксера», — подумал он, открывая дверь.
Валерий снял полушубок, шинель и, отряхнув валенки, зашагал по широкому коридору. Кабинет командира находился в конце. Вот и дверь, обитая коричневым кожзаменителем. Рокотов одернул китель, поправил галстук и взялся за никелированную ручку.
— Товарищ полковник, разрешите войти!
Рокотов знал начальника гарнизона — рано поседевшего полковника Щетилина — как строгого командира. Его побаивались не только солдаты, но и видавшие виды офицеры. Невысокого роста, кряжистый, внешне похожий на штангиста. За плечами у него — фронт, говорят, горел в танке. Полковник, казалось, редко улыбался и умел только требовать, требовать, требовать…
В кабинете находились несколько офицеров, и среди них майор Иванов, непосредственный начальник Рокотова. Валерий, мельком взглянув на своего командира, с удивлением заметил, что Иванов уже не майор, а подполковник. Подойдя к письменному столу, из-за которого поднялся Щетилин, Рокотов четким голосом доложил о своем прибытии и готовности приступить к службе.
Полковник, выслушав боксера, кивнул. И тут в руках офицеров Валерий увидел новенькие погоны, на которых блестели три золотые звездочки. Неужели ему?
— Поздравляем, товарищ старший лейтенант!
Полковник улыбнулся. Улыбка у него была какая-то солнечная, от нее сразу потеплело в груди. Он долго пожимал руку Валерию, и Валерий видел, что Щетилин, в сущности, добрый человек. И Рокотову стало неудобно от этой доброты.
— Как же так, товарищи?.. Я же не участвовал в стрельбах… За что же мне…
— Все правильно и закономерно, — сказал полковник. — Ваши солдаты, в отсутствие вас, офицера, действовали в сложной обстановке слаженно и показали высокое мастерство. Это ли не хороший показатель выучки и дисциплины? Еще раз поздравляю! Отлично! Ведь мы за вас здесь все болели и переживали, — Щетилин шагнул к Валерию и, обняв его, трижды поцеловал. — А теперь, товарищи, в клуб. Там давно ждут его.
2
Торжество в клубе, где собрались почти все жители гарнизона, продолжалось почти до полуночи. Рокотов рассказывал о боксерских соревнованиях, об Англии, о Лондоне, отвечал на многочисленные вопросы.
Прямо из клуба полковник Щетилин повел Валерия к себе домой. За праздничным столом собрались старшие офицеры со своими женами. Жена Щетилина — полная, с копной седых волос, приветливая смуглолицая женщина — хлопотала на кухне. Ей помогали жены офицеров. За холодными закусками подали жареную медвежатину, затем блюдо с сибирскими пельменями.
Валерий, рассматривая увеличенную фотографию полковника в полной парадной форме и при всех орденах и медалях, спросил Щетилина:
— Расскажите, за что вас наградили орденом Ленина?
— Ешьте, ешьте, пока горяченькие, — полковник подцепил вилкой пельмень, окунул в сметану. — А, про орден рассказать?.. Про какой? У меня три ордена Ленина…
— Расскажите про первый, — выпалил Валерий, хотя ему интересно было узнать и про остальные.
— Ладно, расскажу. Только сначала покончим с пельменями.
Рокотов, а за ним и остальные гости быстро опустошали блюдо. А в дверях показалась жена Щетилина. Валерий невольно обратил внимание на ее руки, вернее, на одну, левую. Руки были обнажены до локтя. На левой — большой шрам, типичный для ожога. «И у плиты можно обжечься, — подумал он. — Огонь везде опасен». В руках у нее было круглое блюдо, на котором горкой лежали свеженькие, только из кастрюли, округлые, янтарные пельмени, и над ними витал легкий ароматный пар.
— Работайте веселее, там еще забросили!.. Скоро вынимать будем, — сказала она, устанавливая на стол блюдо, и обратилась к мужу: — Илюшенька, что-то твои подопечные не поспевают. Выучка не та, что ли?.. Покажи им, подай пример.
— Ой, не одолеем! — взмолился Валерий.
— Но-но! — полегче на поворотах, — сказал Иванов, накладывая в свою тарелку новую порцию. — Товарищ старший лейтенант отвык от родных харчей, в Англии, там все по чуть-чуть, калории считают… Придется ему заново привыкать к родной пище.
— Буду стараться, товарищ подполковник, — ответил Валерий, с удовольствием называя новое воинское звание своего прямого начальника.
— То-то же!
Потом пили чай с лимоном. Лимоны привез Рокотов, берег их всю дорогу, боялся, что подмерзнут. А варенье было разное, своего, домашнего приготовления, из лесных ягод: черники, малины, голубики, брусники, земляники… Тайга щедрая, всего вдоволь.
Полковник вытер губы салфеткой, закусил. Задумался. В комнате все притихли, приготовились слушать. Щетилин редко рассказывал о своем прошлом. Знали только, что он воевал в танковых частях, дошел до Берлина, что на своем танке одним из первых ворвался в Прагу на помощь восставшим.
— Давно это было, жарким летом сорок четвертого, — начал Щетилин и, затянувшись, медленно выпустил дым. — Столько лет прошло, а мне все не верится, что нет в живых командира нашего, младшего лейтенанта Кульги… Григория Кульги. А ведь он тоже боксером был. Не простым. Чемпион города Ленинграда сорок первого года и всего Ленинградского военного округа! Афишу с собой в танке возил, на которой оповещалось о боксерских соревнованиях. Там и фамилии боксеров напечатаны. Так в затишье между боями, когда свободная минута выпадает и настроение подходящее, Григорий Кульга нам про каждого рассказывал. Особенно часто он своего друга, зенитчика, вспоминал. Тоже чемпионом был и Ленинграда, и всего округа. Только судьба его военная как-то не сложилась, пропал он в неизвестности… Кульга, когда танк новый получал, на Урале был, в тылу. И там случайно жену своего друга Миклашевского встретил. Она вся в слезах… Вот, видите, вспомнил! Миклашевский его фамилия. Сколько лет прошло, а как сейчас помню…
У Рокотова от неожиданности кровь прилила к лицу. Он не удержался, перебил полковника:
— Простите… Как, вы сказали, его фамилия?
— Миклашевский, — повторил полковник. — А что?
— Как звать его, не помните? Не Игорь Леонидович?
Щетилин положил папиросу на край пепельницы и повернулся к Рокотову:
— Да, Игорем звали… Точно, Игорем! Игорь Миклашевский. А вот отчество?.. Кульга никогда по отчеству его не называл, возраст не тот был, — и в свою очередь спросил: — Вы о нем слышали что-нибудь?
— Тренер мой, еще с тех пор, как в Москве, в училище был, а потом и в составе сборной страны. Игорь Леонидович Миклашевский. Он действительно был чемпионом города Ленинграда и Ленинградского военного округа… И сейчас с нами в Англию ездил. Меня секундировал. Все мои победы можно на его счет отнести.
— Выходит… он жив? — в свою очередь удивился полковник.
— Жив! Только изранен весь. В тыл его наши засылали с заданием. Он сам нам ничего не рассказывал, от других тренеров мы слышали, которые с детства его знали, боксировали на соревнованиях. Фашисты его то ли пытали, то ли даже расстреливали… Но он живой оказался, и партизаны его спасли. Кажется, в Бельгии или в Северной Франции. Два ордена боевых у него, у Игоря Леонидовича.
— Надо ж такое, а? — невольно вырвалось у Щетилина. — Командир мой, Кульга, о нем горевал, пропал, мол, человек без вести… А он живой оказывается!.. Ну, что б мне с вами, товарищ старший лейтенант, раньше на эту тему поговорить, вы б там, в Лондоне, порасспросили бы у Миклашевского про моего командира, младшего лейтенанта Кульгу. Погиб он летом сорок четвертого… И стрелок-радист Юстас Бимбурас. Литовец, из Каунаса. Нас всех посмертно награждали, а мы с Галиной выжили… — Он кивнул в сторону кухни, где хлопотала его жена. — Она механиком-водителем была. А до фронта на танковом заводе боевые машины испытывала. У нас танк именной был, его комсомольцы сверх нормы сделали, персонально для Галины и Кульги. Мы все тогда от Галины без ума были, и Кульга в первую очередь. По-серьезному, без нынешних шуры-муры… Мы вокруг нее, как ангелы-хранители, экипаж весь наш то есть… И тихо друг друга ревновали, про себя, конечно. — Полковник замолчал, вынул из коробки новую папиросу, помял в пальцах.
А Валерий уже по-иному взглянул на кухню. Так вот, оказывается, какие шрамы у жены командира! Она была в танке, горела. Вот это подруга!
— Гитлеровцы на нашем участке ввели в бой новые танки. Первая пробная партия. Потом, когда нам с Галей награды вручали, мы узнали, что в одном из танков находился и фашистский конструктор барон фон Шилленбург. Уверен был, что его земным броненосцам все нипочем. Но наши бронебойные снаряды разворотили крупповскую броню. Правда, и нам досталось. Как я уцелел, сам не знаю. Очнулся в госпитале. А в соседней палате наша Галя. Из горящего танка ее вытащили чуть живую. Вот с тех самых пор с ней и не разлучаемся.
3
Прошло несколько недель, и Валерий втянулся в хлопотливую будничную жизнь и службу офицера. Дел было много, и всюду он хотел поспеть. Напряженный ритм воинской жизни увлек и подчинил. Валерию порой даже казалось, что он никогда не уезжал и в боксерских соревнованиях не участвовал. Зато он часто вспоминал рассказ полковника о разгроме батальона тяжелых танков, особенно о гибели фон Шилленбурга. Эта фамилия не выходила у боксера из головы. У его соперника такая же фамилия… Не родственники же они?
Наступил март.
Солнце поднялось выше, и в полдень в таежных дебрях, окруживших гарнизон, явственно запахло весной. Еле уловимые приметы близкой весны блуждали и по округе. Все чаще стали появляться в сером свинцовом небе ослепительно голубые окна. Зимний снег приобрел весенние краски и оттенки. Приглядись в солнечный день: на открытой лужайке он то золотисто-розовый, то голубой, а в тени, под кедрачами и елями, густо-синий. И тихими лунными вечерами плывет над снегами нежный опаловый цвет. Идешь на лыжах — и снег вокруг звездами переливается.
Таежные чащи ожили. У волков и лисиц пора свадеб. Пернатые жители стали подавать голоса, робкие, тихие, как бы спросонья. Весна идет! А по утрам еще лютые морозы. Густой иней покрывает деревья так, что сразу не различишь, где березы, клены и осины. Солдаты отрабатывают операции. Лица раскраснелись, глаза блестят. Звучит одна команда за другой.
Рокотов придирчиво наблюдает за подчиненными. В руках зажат секундомер. Офицер прикидывает в уме, где, на каких операциях можно сэкономить секунду-другую. В современной войне время — важный фактор!
И солдаты снова и снова вместе с командиром повторяют приемы. Сколько однообразно-утомительных движений! Но за этими повторами — путь к дорогим секундам, секундам, отвоеванным упорством и выносливостью.
Рокотов поднимает руку, смотрит на часы: пора заканчивать.
Поодаль, среди пушистых молодых елок стоит, как изваяние, Красуля и смотрит, смотрит на солдат своими умными влажными глазами. Он терпеливо ждет перерыва, и тогда сам подходит, ожидая угощения. У Валерия в кармане кусочки сахара.
— Красуля, полакомься!
Лось потянется длинной мордой, осторожно возьмет мокрыми темными губами с ладони белый квадратик сахара и благодарно кивнет головой, на которой поднялись молодые лапообразные рога.
А вечером — тренировка. Небольшой спортивный зал с низким потолком, на котором, защищенные сетками, горят лампочки. Окна до половины занесены снегом.
В зале тесно. Пахнет потом и канифолью. В одном конце трудятся молодые солдаты, те, что отстают по физической подготовке. Они пыхтят на брусьях, прыгают через коня. В другом, подстелив гимнастические маты, тренируются борцы.
У боксеров свой угол. Тут висит самодельный брезентовый мешок, набитый песком и опилками, укреплен деревянный щит для пневматической груши. Желающих заниматься в боксерской секции много, особенно теперь, после возвращения Рокотова.
Валерий тренирует и сам тренируется. Палец давно зажил. Рокотов написал Миклашевскому, своему тренеру, о рассказе полковника, о Кульге, и доложил, что «работает по графику». График, индивидуальный план тренировок, имеется у каждого члена сборной команды страны. Валерий не теряет времени. Кто знает, может, Всесоюзный тренерский совет утвердит его кандидатуру, вызовет на сбор и пошлет на первенство Европы. Чемпионат континента состоится в мае. Надо быть в форме…
После отбоя, когда в казармах тушится свет, старший лейтенант склоняется над конспектами: надо подготовиться к завтрашнему дню, наметить цели занятий. На столе лежат журналы по военной технике, книги, которые надо прочесть, и недописанные письма.
Глава девятая
1
Рудольфа фон Шилленбурга встретили шумно и торжественно. Знаменитый боксер тридцатых годов Макс Шмеллинг, любимец фюрера, чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов, даже после победы над коричневым бомбардиром негром Джо Луисом не знал таких триумфальных почестей.
Едва самолет приземлился на аэродроме и подрулил к массивному зданию аэровокзала, как сводный духовой оркестр грянул боевой марш танкистов. Толпа репортеров различных газет и агентств готовилась к штурму чемпиона. Представители различных спортивных организаций со знаменами и эмблемами вышли, как на парад. Внушительный отряд полиции сдерживал огромную толпу почитателей боксера и просто любопытных.
— Не могу равнодушно слушать боевой марш танкистов, — тихо сказал Рудольф, когда они с тренером спускались по трапу. — Этот марш был любимой музыкой дядюшки.
— Я никогда его не видел, но много слышал об «отце танков».
— Дядюшка Вильгельм погиб геройской смертью на Восточном фронте…
— Великий был человек…
— Ариец! — произнес Рудольф.
Чемпиона приветствовали важный сановник, генерал бронетанковых войск бундесвера, белокурые немки, одетые в старинные прусские наряды, поднесли цветы.
Здесь же, на аэродроме, состоялась летучая пресс-конференция, и Рудольф торжественно заявил в конце:
— Из всех побед считаю самой важной победу над советским чемпионом!
Рудольфа и тренера усадили в роскошную автомашину, украшенную спортивными знаменами и цветами. Праздничный кортеж автомашин сопровождал почетный эскорт мотоциклистов.
В тот же день Рудольф тайно встретился с тучным казначеем неофашистской партии и вручил ему деньги и резиновый мешочек с драгоценностями.
— Родина не забудет ваших услуг, — сказал казначей, запирая массивный сейф. — Зиг хайль!
— Зиг хайль!
Через час фон Шилленбург выступал по телевидению, а потом был почетным гостем на торжественном обеде в ресторане «Золотые фазаны», который часто посещал Гитлер.
Владелец ресторана — тучный, лысый баварец с красным, лоснящимся от пота лицом — вынес на старинном деревянном подносе массивную серебряную кружку работы старых мастеров, до краев наполненную золотистым пивом. Не обращая внимания на американского полковника, владелец ресторана подошел к чемпиону.
— Господа! Из этой кружки пил сам Адольф Гитлер! Разрешите из этой кружки угостить нашего героя Рудольфа фон Шилленбурга нашим национальным напитком! Все до дна! Рыцарский тост.
— Все до дна! Все до дна! — подхватили сидящие за столом.
Рудольф взял кружку. Пиво он не любил, спиртные напитки употреблял весьма редко. Он строго соблюдал режим. Но тут не мог отказать. Сдул пену и поднес кружку ко рту…
— Все до дна!
На просторной эстраде заиграл джаз, и дюжина полуобнаженных девиц в высоких лакированных сапожках на тонких каблуках стали ритмично двигаться, исполняя танец древних саксонок.
К концу обеда к Шилленбургу подошел лакей и, почтительно склонившись, сообщил:
— Ваша машина, господин барон.
Рудольф встал, откланялся, поблагодарил за внимание и честь. Вслед за ним двинулся и Хельмут Грубер.
— Хельмут, ты со мной? — спросил Рудольф, когда вышли из зала.
— Хотелось бы к своей фрау…
— Хорошо. Передай фрау Шарлотте мой поклон.
— С удовольствием!
Шофер распахнул перед Рудольфом дверцу роскошного коричневого «мерседес-бенца».
— С победой, господин барон!
— Привет, Ганс, — Шилленбург уселся на заднее сиденье. — Как мой отец?
— Великолепен, господин барон. Он вчера прибыл из Бонна. С ним приехал сэр Пиллинг. Он теперь стал генералом.
С отцом у Рудольфа были дружеские отношения, хотя тот сначала не очень одобрял его спортивную карьеру, но потом смирился. «Популярность не помешает, — как-то сказал он сыну, но строго добавил: — Только не увлекайся, умей вовремя поставить точку». Рудольф сам понимал это и твердо решил, что после первенства Европы, где он не будет иметь себе равных, прибавит к своему титулу чемпиона континента почетное добавление «двукратный», повесит навсегда боевые перчатки в своем кабинете и примется помогать отцу управлять машиностроительной фирмой.
— Как маман?
— Многоуважаемая фрау фон Шилленбург по-прежнему отдает много сил обществу помощи бывшим беженцам. Все время заседает, хлопочет…
Маман — это Луиза Берта фон Шилленбург, урожденная фон Крюгер, молодая вдова дядюшки, ставшая женой отца Рудольфа.
Ганс вел машину по центральной улице города. Вдали, по проезжей части, медленно двигался людской поток. По ветру развевались национальные знамена. Рудольф присмотрелся. Шли в основном мужчины, одетые в солдатскую форму вермахта. По цвету одежды можно было определить пехотинцев, танкистов, летчиков, артиллеристов… Над головами раскачивались фанерные щиты с надписями. «Старая гвардия зашевелилась», — подумал Рудольф и вслух спросил:
— Что это?
— Демонстрация протеста, господин барон.
Рудольф сразу изменился в лице.
— Они выступают против… против атомного оружия…
Рудольф подался вперед и, вцепившись руками в спинку сиденья, сверлил глазами процессию. Ганс притормозил машину. Шилленбург скользнул глазами по фанерному щиту: «Под Сталинградом нас погибло 300 тысяч! Мы не хотим второго Сталинграда!» Шилленбург пробежал глазами по фанерным щитам и плакатам. «Мы не хотим, чтобы наша земля покрылась атомным пеплом». Рудольф увидел инвалидную коляску, которую катили двое седовласых хмурых ветеранов в форме альпийских стрелков. В коляске сидел безрукий и безногий инвалид и в культяпках рук держал большой щит: «Долой политику реванша!»
На тротуарах толпились любопытные. На перекрестке стояли полицейские.
— Свернуть, господин барон? — спросил Ганс.
— Нет, вперед! Вперед, сквозь вонючую мразь, через гнилые обломки.
Ганс — ярый член неофашистской организации «Коричневая рука», участник многих схваток с красными и налетов на демократические организации — стиснул зубы. Такого ему еще не приходилось делать. Там — свои… Нагнув голову, он медленно повел машину прямо на ветеранов войны.
— Прибавь скорость!
Фронтовики хмуро смотрели на блестящий «мерседес», который двигался на них. Они не дрогнули, им и не такое приходилось видеть. Но, когда машина прибавила скорость, ветераны, изрыгая проклятия, попятились, расступились. Однако седовласые альпийские стрелки не успели откатить инвалидную коляску. Автомобиль крылом задел коляску, она перевернулась. Раздался отчаянный крик. Взрыв негодования охватил бывших воинов фюрера. Пошли в ход костыли, палки, камни. Раздался звон битого стекла.
— Гони! — заревел Рудольф, нагибаясь и закрывая голову руками.
Полицейские кинулись на демонстрантов.
2
«Мерседес-бенц» оказался изрядно помятым. Все стекла, в том числе и толстое лобовое, были разбиты. Ехать в машине оказалось невозможно. Оставив ее на попечение шофера, Рудольф сел в первое попавшееся на глаза такси.
Таксист обрадовался такому клиенту, вернее, дальней поездке. Моложавый, белобрысый, с широкой спиной грузчика, он легко и с шиком вел свой потрепанный «опель».
Город остался позади. Мокрая от растаявшего снега лента шоссе слегка поблескивала и казалась голубой. Закурив, таксист начал разговор:
— Вчера у меня тоже был дальний рейс. Возил двух туристов. Не то поляки, не то болгары. Славяне какие-то. Знаете куда? В Дахау. У них родственника сожгли там. А теперь там тюрьма для американских солдат. Дежурный посмотрел на них, да как захохочет: «И вы поверили красной пропаганде? Ничего такого тут не было… Выдумка коммунистов!» Тогда туристы ему в упор: «А Нюрнбергский процесс тоже выдумка и пропаганда?» Знаете, что он ответил? Он сказал совершенно серьезно: «Нет, Нюрнбергский суд не пропаганда… А еще хуже. На нем коммунисты судили вождей нашей нации».
— Умный парень, — сказал Рудольф, сразу давая понять, на чьей он стороне.
Таксист осекся и замолчал.
Вдали показался старинный замок. Он стоял на холме, его зубчатые башни и готические остроконечные крыши внутренних построек отчетливо вырисовывались на фоне бледного серого неба.
— На развилке сворачивай к замку, — сухо приказал Шилленбург.
Таксист искоса взглянул на пассажира и втянул голову в плечи: только теперь он понял, кого везет.
Проехали по каменному мосту через ров, опоясывающий холм, миновали высокую глухую арку ворот, асфальтированная лента полукружием повела к широким ступеням старинного здания. Второй этаж украшали балконы с массивными чугунными перилами. Рудольф, не глядя на таксиста, бросил ему деньги и выпрыгнул из машины.
По широким ступеням навстречу ему спешила сияющая пожилая женщина в белом переднике и высокой наколке на седеющих волосах. Няня Брунгильда, старая служанка.
— С приездом, мой господин! — она быстро присела и поцеловала руку боксера.
— Добрый вечер! — поспешно сказал Рудольф и побежал вверх по ступенькам, где у колонн его уже поджидал высокий мужчина с крючковатым носом и пышными седыми волосами. — Отец!
— Мой сын! — Рудольф оказался в объятиях старика. Положив сыну руку на плечо, отец повел Рудольфа по широкому коридору, на стенах которого в тяжелых золоченых рамах висели портреты предков, а под ними стояли манекены рыцарей в полном боевом облачении и с копьями в руках.
— Объясни, пожалуйста, что это за шутка? Почему ты приехал на такси? Мы послали машину…
В дверях гостиной Рудольфа встречала стройная моложавая женщина с черными подкрашенными волосами. Черное бархатное платье с глубоким вырезом подчеркивало ее спортивную фигуру. На плечах небрежно накинут горностаевый палантин.
— Рудольф, — пропела она приятным томным голосом. — Мальчик мой!
— Маман! — Рудольф нежно обнял ее и поцеловал.
— Привет, старина! — сэр Пиллинг, старый друг дома, в новенькой форме генерала американских сухопутных войск, которая мешковато сидела на его поджарой фигуре, шагнул навстречу. — Привет победителю чемпионата чемпионов! Мы тебя по телевизору видели. Какой ты теперь стал, а? Выпьешь со стариком коктейль?
— Только фруктовый, — ответил Рудольф, усаживаясь на низкий диван.
Он подробно рассказал, что с ним произошло на центральной улице Мюнхена, изменив лишь главное: не он первый велел ехать на демонстрантов, а демонстранты напали на машину.
— Какой ужас! — Луиза фон Шилленбург сжала ладонями виски.
— Я давно говорю вашему министру внутренних дел, что пора наконец провести решительную чистку, — сказал генерал.
Отец, ничего не говоря, пошел в свой кабинет и стал звонить комиссару полиции.
3
На следующий день ведущие газеты на видном месте поместили снимки Рудольфа фон Шилленбурга и опубликовали репортажи о «теплой захватывающей встрече на родной земле». Многие газеты добавляли, что в тот же день тайные агенты подпольной коммунистической организации спровоцировали нападение на машину, угрожая жизни чемпиона. И добавляли: «Виновники арестованы и скоро предстанут перед судом». О демонстрации ветеранов войны нигде не говорилось ни слова.
Мюнхенские газеты подробно расписали спортивный путь Рудольфа фон Шилленбурга, отдали должное его отцу, с налетом сентиментальности описали, как фон Шилленбург-старший вывез будущего чемпиона из окруженного русскими Кенигсберга на подводной лодке.
Но ни одна газета не рассказала полной правды, не поведала читателям, как бригаденфюрер СС фон Шилленбург, оставив раненых офицеров, в последнюю подводную лодку велел грузить ящики с личным имуществом и ценностями, награбленными в оккупированных странах.
Репортеры, захлебываясь от умиления, поведали читателям и о баронессе Луизе Берте фон Шилленбург, как она, молодая, цветущая женщина, не снимала траур много лет, оплакивая мужа, гениального конструктора, «отца немецких танков», и всю материнскую любовь перенесла на своего племянника, маленького Рудольфа, мать которого погибла под русскими бомбами. Но отец Рудольфа хорошо помнит, как хмурым мартовским утром Анна Мария фон Шилленбург покинула дворец прусских баронов и больше в него не вернулась. Когда Рудольф вырос, «доброжелатели», пожелавшие остаться неизвестными, подбрасывали ему письма, в которых весьма подробно сообщали, что в дни национальной катастрофы красавица Анна Мария фон Шилленбург, прихватив ценности, бежала с молодым полковником авиации в Южную Америку.
Газетчики подробно описали спортивный путь Рудольфа фон Шилленбурга, прозванного Рудольфом Железным, называя его гордостью нации, отдали должное и его тренеру, в прошлом известному боксеру Хельмуту Груберу. Но ни в одной строчке не обмолвились о том, как воспитывался Рудольф Железный, как он стал фюрером молодежной нацистской организации «Коричневая рука» и потом одним из лидеров неофашистской партии. А об этом стоило рассказать…
В учебниках истории, по которым Рудольф учился в школе, не упоминалось о преступлениях нацистов. Там не было напечатано ни одной строки о газовых камерах и массовых зверствах, которые совершили гитлеровцы. Но нельзя сказать, что юный фон Шилленбург ни разу не слышал о Бухенвальде и Дахау. Однако он искренне верил своим учителям, утверждавшим, что за колючей проволокой содержались в основном коммунисты и евреи, которые предали отечество… В учебниках географии он изучал карту страны в довоенных границах.
Настольными книгами молодого Рудольфа были воспоминания бывших генералов о минувшей войне, его библией стала книга «Эсэсовские войска в боях», преподнесенная отцом за хорошую учебу. Он читал эту книгу запоем, выучил наизусть целые страницы и любил часто их декламировать своим одногодкам, особенно те места, где поэтизировалась война.
— «Война — великолепное зрелище! — выкрикивал он неокрепшим голосом. — Война — вид спорта! Чтобы убивать, нужна отточенная техника, и применять ее нужно спокойно и невозмутимо».
Он выучил фашистские песни. Рудольф мог часами сидеть у проигрывателя и заводить одну и ту же пластинку, упиваясь звуками трубы, ударами медных тарелок, треском барабанов и ритмичным завыванием дудок. Полузакрыв глаза, он видел себя в строю эсэсовцев и, вскинув руку, орал до хрипоты «Зиг хайль!». Кровь стучала в висках, а ему мерещился дружный топот кованых сапог…
Отец поощрял сына, когда тот со своими дружками разрисовывал фашистской свастикой дома бывших борцов Сопротивления, спасал от суда, когда они избили двух профессоров, бывших узников Бухенвальда.
Юный барон вскоре возглавил местных «викингов», входящих в молодежную неофашистскую организацию «Коричневая рука». Он организовал нашумевшее факельное шествие накануне дня рождения Гитлера. Его друзьями стали бывшие эсэсовские офицеры.
Рудольф освоил тонкости великосветских манер, научился галантно прикладываться губами к дамским ручкам, но и умел плевать в лица и выкручивать руки. Боксерские знания, отработанные в спортивном зале, он лихо применял вместе со своим тренером в уличных потасовках, спровоцированных молодчиками «Коричневой руки» против молодежных рабочих организаций.
Седой, но еще крепкий, как дуб, барон искренне восхищался успехами сына и, панибратски похлопывая Рудольфа по плечу, восклицал:
— Чудесно! В твоих жилах течет рыцарская кровь фон Шилленбургов!
Обо всем этом газеты, конечно, умолчали. То ли вездесущие репортеры не знали о таких весьма «пикантных» подробностях биографии Железного Рудольфа, то ли еще не настало время говорить о них открыто.
4
Национального спортивного кумира возили по стране. Рудольф выступал перед студентами и призывниками, присутствовал вместе с отцом на закрытом танкодроме, когда там проходили технические испытания новые танки, созданные и оснащенные по последнему слову военной техники.
— Прекрасные танки! — сказал Рудольфу генерал, руководивший испытаниями. — Дело, начатое вашим дядюшкой, находится в хороших руках.
В начале марта чемпион по боксу был почетным членом жюри на финальных соревнованиях ФРГ по «двоеборью на пальцах», т. е. перетягиванию на пальцах. В нем приняли участие более ста человек, представлявших почти все земли республики. Огромное количество зрителей бурно реагировало на ход поединков.
Судья по очереди вызывал пары соперников. Они усаживались за небольшой дубовый стол. Затем по знаку судьи сцеплялись пальцами правой руки и начинали тянуть каждый в свою сторону. Проигравшим считался тот, кто коснется рукой стола. Поражение засчитывалось и тому, у кого с пальца была содрана кожа.
После окончания соревнований Рудольф фон Шилленбург торжественно вручал победителям призы и медали. Спортивная газета поместила интервью с Шилленбургом, который сказал: «Двоеборье на пальцах — чисто немецкий вид спорта. Чем сильнее пальцы, тем сильнее рука. Перетягивание на пальцах укрепляет мышцы рук. А сильные руки сильных людей нужны Германии».
А через день Шилленбург уже сидел на торжественном приеме, устроенном промышленными магнатами и крупными финансистами. Им было приятно чествовать знаменитого спортсмена, который знал тонкости светского этикета и происходил из древнего рода. Молодые дамы не сводили с него глаз.
Рудольф не выпил ни капли спиртного. Поднимая бокал с виноградным соком, он сказал:
— Дамы и господа! Смею надеяться, что вы простите мне такую вольность и разрешите выпить в вашу честь этот напиток, — Рудольф вздохнул и выразительно покачал бокалом. — Впереди у меня трудные бои, и ваш покорный слуга обязан соблюдать строгий режим. Коммунисты хотят отпраздновать двадцатую годовщину нашего поражения. Но я клянусь! — он сделал паузу и обвел взглядом сидящих за столом. — Клянусь рыцарским именем предков, что на чемпионате Европы я, фон Шилленбург, сделаю все для победы! И чтобы для прославления Великого Рейха, в вашу честь, дамы и господа, чтобы в честь немецкого народа на флагштоке подняли наше национальное знамя! Кровь и честь!
— Кровь и честь!
Растроганные мужчины вскочили с бокалами в руках. Поздним вечером в номере гостиницы, где остановился Рудольф, раздался длинный телефонный звонок. Боксер нехотя взял трубку, но, узнав голос Хельмута, сразу сосредоточился.
— Киноленты, на которых засняты бои всех будущих соперников, уже у меня, — докладывал тренер. — Спортивный зал и весь комплекс приведен в боевую готовность. Восемь спарринг-партнеров, боксирующих в манере соперников, прибыли и ждут. Пора!
— Завтра вылетаю, — коротко ответил Рудольф.
Утренним самолетом Рудольф фон Шилленбург вылетел из Бонна в курортный район Баварских Альп, где в горном санатории его ждал Хельмут Грубер.
Глава десятая
1
Заключительный этап подготовки к чемпионату Европы сборная команда Советского Союза по боксу провела на Черноморском побережье, в Сочи, в международном молодежном лагере «Спутник». Лагерь располагался на окраине города в уютной долине у самого берега.
Завхоз лагеря, пожилой полнолицый украинец, хмурился и недовольно ворчал. Он не мог равнодушно смотреть, как в зале, где недавно закончили капитальный ремонт, знаменитые спортсмены дырявили стены, вгоняли в потолок толстые крючья, кувалдой забивали в пол массивные скобы, устанавливая боксерский инвентарь. Но… В кармане у него лежала телеграмма из Москвы, которую вручил ему директор лагеря: «Создать все условия для тренировок»…
Летний туристский сезон еще не начался, и в корпусах международного лагеря жили наши парни и девушки, прибывшие на отдых по путевкам. Они были постоянными зрителями на тренировках.
Море, голубое вдали и кристально-прозрачное у берега, манило к себе, нежно рокотало волнами, перемывая и сортируя полированные камешки. Но вода была еще довольно холодной, купались отдельные смельчаки да жадные до юга северяне.
Валерий Рокотов жил в корпусе номер два на втором этаже в восемнадцатой комнате вместе с бурятом Виликтоном Турановым. С ним Рокотов подружился на личном первенстве страны. И сейчас, когда они встретились в Сочи, бурят предложил:
— Будем вместе?
— Идет! — ответил Рокотов.
Туранов — типичный легковес: среднего роста, плотный, с мягкими мышцами. Ни в скуластом восточном лице, ни в телосложении ничего особенного не было, и, глядя на Виликтона, не верилось, что перед тобой прославленный боксер.
— На Олимпийских играх в Токио меня обходили любители автографов, принимали за своего, — рассказывал он. — Зато донимали журналисты, все допытывались, не японец ли я. О бурятах они не слышали и недоуменно пожимали плечами. В репортажах они называли меня «бурятом монгольского происхождения».
Туранов был на два года старше, учился на последнем курсе в Бауманском. Готовился стать инженером.
Две недели тренировочного сбора пролетели быстро. Свободного времени почти не было. Тренировки в боксерском зале сменялись легкоатлетическими соревнованиями, за игрой в баскетбол следовали состязания в плавательном бассейне, после туристского похода начиналась игра на футбольном поле или катание на шлюпках, где спортсмены, работая на веслах, основательно потели под солнцем. А когда боксеры, надев на головы защитные шлемы, а на руки большие тренировочные перчатки, выходили на ринг, чтобы провести учебный поединок, специалисты усаживались почти у самых канатов и вместе со старшим тренером сборной команды Виктором Ивановичем буквально фотографировали глазами каждое их движение. У тренеров нелегкая задача: основываясь на объективных научных данных и многолетнем субъективном опыте, отобрать в сборную самых лучших, которым и доверить право защищать честь Родины.
…Боксеры жили дружной веселой семьей. Противники, ярые соперники на ринге, они с нежностью няньки заботились друг о друге. Каждый старался помочь товарищу овладеть новым эффектным приемом защиты или смелым тактическим вариантом атаки. В бане они старательно массировали друг друга, добросовестно проминая каждую мышцу. А по вечерам помогали тем, кто учится. Олимпийский чемпион в среднем весе Василий Задонченко и Валерий Рокотов, хорошо умевший чертить, садились рядом с Турановым и разрабатывали дипломный проект. Заядлые танцоры Ричердас Рамулис и Виктор Бакаев учили друзей красивым па модных танцев.
— Не так сосредоточенно! Вы танцуете, а не боксируете! — поучали они. — Свободнее! За границей всякое бывает, даже на официальном приеме могут грохнуть что-нибудь такое. Надо быть ко всему готовыми, чтобы потом не хлопать глазами.
2
Наконец наступил день, когда объявляли состав команды. Боксеры расселись по гимнастическим скамейкам, притихли. Тренеры толпились около стола. Рокотов посмотрел на своего тренера, но Миклашевский отвел глаза. У Валерия полыхнуло внутри, жар бросился в лицо: «Меня не включили!» Но он уже взял себя в руки. Чем он лучше других? Ну, один раз выиграл медаль чемпиона страны. А тут есть более именитые боксеры полутяжелого веса — Алоис Позднявичус, чемпион Европы, и Алексей Кисельков, серебряный призер токийской Олимпиады. Валерий посмотрел на Алоиса. Тот нагнулся и старательно перешнуровывал боксерские ботинки. Взглянул на Алексея. Загорелое лицо москвича было сосредоточенным. «Жаль, что нельзя послать их обоих, — подумал Валерий. — Где же справедливость? Из какой-нибудь страны привезут серого новичка или приедут неполной командой, без полутяжа, а тут тренеры ломают головы, не зная, кому отдать предпочтение… Один лучше другого».
Виктор Иванович постучал ладонью по столу, хотя и так стояла тишина. Рослый, плотный, с сильными руками и могучей грудью, старший тренер чем-то напоминал волжских богатырей-грузчиков. Виктор Иванович хмурил седые кустистые брови и сверлил маленькими глазами притихших боксеров, словно собираясь проникнуть внутрь, прочесть сокровенное. Его уважали, любили и побаивались.
— Вот что, ребята, — начал он тихим голосом. — Если бы нам разрешили, мы смогли бы выставить и три, и четыре равноценных команды, но вы сами знаете, каждая страна имеет право выставить лишь по одному боксеру в каждом весе… Тут тренеры посоветовались, учли рекомендации научной бригады, рекомендации врача… И вот составили сборную. Хотим знать и ваше мнение… Чемпионат Европы — не туристская прогулка… Так что надо самых достойных и самых надежных.
Виктор Иванович не спеша, по весовым категориям, называл кандидатов в основной состав, который должен ехать в Берлин. То и дело раздавались возгласы:
— Правильно!
— Достоин!
Рокотов весь превратился в слух, где-то в глубине сознания таился робкий комочек надежды. Тренер назвал Алоиса Позднявичуса. Валерий качнулся и услышал свой собственный голос:
— Достоин!
— Оправдает! — вторил ему Алексей Кисельков.
Сразу стало легко и свободно. «Так должно и быть, — думал Валерий. — Так должно и быть». Хотя Рокотов не раз на тренировочных поединках с Алоисом невольно фиксировал, что обыгрывает знаменитого боксера. Немного, но обыгрывает. За счет быстроты, за счет координации движений, может быть, молодости…
В дверях показалось длинное лицо массовика.
— Простите, пожалуйста… Рокотов! Вам посылка пришла. Просят зайти, а то завтра наша почта отдыхает, выходной у нее.
Посылка, вернее, не посылка, а небольшая бандероль, пришла от матери. Валерий недоуменно рассматривал пакетик, обвязанный шпагатом и запечатанный сургучом. Он часто получал посылки из дому и когда учился, и теперь, во время службы. Посылки приходили объемистые и тяжелые. В фанерных ящиках, обшитых тканью, мать присылала куски домашнего сала с чесноком и перцем, нежного, как масло, домашнего изготовления колбасу, банки с медом и вареньем, теплые шерстяные носки. Она заботилась о единственном сыне, который служит «на краю земли, в Сибири». Но такой маленькой бандероли он не получал ни разу. Может, шутка чья-нибудь? Он посмотрел на печати, проверил адрес. Нет, все правильно. И почерк ее. Странно!
Валерий сунул бандероль в карман и зашагал в свой корпус. «Слетаю на пару дней домой, в Донецк, к матери, — думал Валерий, — а потом к себе в гарнизон».
Виликтон ходил по комнате, собирал чемодан.
— Думал, мы с тобой везучие, думал, вместе поедем в Берлин.
— Хорошо хоть тебя включили.
— А диплом? А чертежи? Понимаешь, я рад, я хочу ехать. Но декан меня съест… Живого съест!
В комнату бочком протиснулся тяжеловес Василий Тишканов, за ним «мухач» Беленький. Ни тот ни другой не попали в счастливую десятку.
— Что такое не везет и как с ним бороться, — глухо произнес Вася.
— Валера, доставай посылку, — сказал Аркадий. — Люблю пищу домашнего приготовления. Давай пожуем с горя и запьем водопроводной водичкой.
Рокотов вынул из кармана бандероль и положил на стол:
— Ничего особенного, ребята…
— Открывай!
Валерий разрезал шпагат, развернул плотную оберточную бумагу. Внутри был небольшой картонный коробок, обвязанный суровыми нитками. Открыл коробок. В нем лежали какие-то темные клубни, коричневые плоские луковицы и семена.
— М-да! — многозначительно произнес тяжеловес.
— Йе! — тихо присвистнул Виликтон.
— Ребята, ша! — Аркадий поднял палец. — Это — символы. В древности, когда еще не было букв и люди ходили неграмотными, они с помощью семян и кореньев составляли послания. Лихо? А теперь ближе к нашим дням: очаровательная шахтерочка втрескалась в Валерку и решила объясниться в любви таким древним…
— Хватит! — оборвал его Рокотов. — Это от матери.
Под семенами и клубнями лежал листок из ученической тетради, сложенный в несколько раз. Валерий развернул письмо. «Сынок, — писала мать, — дядя Афанасий на праздники Первого мая ездил с шахтерской делегацией в Берлин. Там он ходил на братское кладбище и видел могилку отца, она с правой стороны, сынок, посылаю тебе клубни и семена: садовый мак, гвоздика и фиалка, отец очень любил такие цветы, посади их на могилку, как зайдешь, она с правой руки…»
Валерий протянул письмо товарищам. Те молча прочли корявые строчки, выведенные химическим карандашом.
— Извини меня, — сказал Аркадий.
— Что такое не везет и как с ним бороться, — повторил тяжеловес, почесывая квадратный подбородок.
— Валера, ты… Я тебе друг? — спросил Виликтон, смотря прямо в глаза Рокотову.
— Конечно, друг.
— Тогда слушай. Мой отец был в Сибирской дивизии, — он говорил быстро, глотая концы слов, боясь, что его перебьют. — Начал воевать под Сталинградом… Дай мне цветы, я обещаю. Сам посажу… Думаешь, буряты не умеют посадить цветы?
Рокотов закрыл коробок, перевязал его суровой ниткой и протянул Туранову.
3
Боксеры, не попавшие в основную десятку, разъезжались по своим городам. Рокотову, после получения бандероли, расхотелось ехать в Донецк. Там проходу не дадут, начнутся расспросы-допросы: «Почему да отчего не взяли…» Он решил лететь в Москву, побыть там денек и из столицы отправиться в свой гарнизон.
Самолет на Москву отлетал в двенадцать двадцать. После завтрака Валерий простился с товарищами, пожелал им побед, попрощался с тренерами, врачом, научными работниками. Миклашевский проводил Рокотова до автобусной остановки.
— За тебя большинство тренеров, и Виктор Иванович тоже, — говорил Игорь Леонидович, шагая рядом. — Но сам должен понимать, этот чемпионат особенный. Во-первых, юбилей Победы, и, во-вторых, в Берлине… Проигрывать никак нельзя… А на международном ринге титулы и звания имеют все. Поэтому и решили поставить Алоиса. Чемпион Европы, звучит…
Аэропорт находился в Адлере. Валерий прибыл вовремя, зарегистрировал билет и, ожидая посадки, с чемоданчиком в руках прогуливался по просторному залу ожидания.
— Внимание! Рейс на Москву задерживается до пятнадцати часов. В Москве сильная гроза.
«Не везет, так везде не везет», — вздохнул Валерий. Он купил в книжном киоске газеты, свежий номер «Огонька» и уселся на свободное кресло. Ждать надо было часа три, а то и больше. Он знал по личному опыту, что если в Москве начинается дождь, то он может идти сутки.
— Внимание! — раздался голос диктора. — Совершил посадку самолет из Донецка.
Рокотов отложил журнал и стал наблюдать за прилетевшими. Может, знакомый встретится, земляк. Пассажиры шли торопливо, весело переговариваясь, вели за руки детей. «Счастливые, — подумал Рокотов. — Торопятся к солнцу, к морю». Вдруг в толпе прибывших он увидел знакомую фигуру. Не может быть? Валерий даже встал. Плечистый молодой человек в сером габардиновом макинтоше и кепке стоял спиной. Но широкий затылок с крупной родинкой был слишком хорошо знаком. Рядом с ним, держа его под руку, шла миловидная девушка, круглолицая, с черными глазами.
— Федя! — крикнул Рокотов так, что многие пассажиры обернулись в его сторону.
Федор вздрогнул от неожиданности, недовольно повел плечами — видимо, его давно не называли так на людях — и не повернулся.
— Федя! — Рокотов сам поспешил к нему. — Рано зазнаешься!
У Федора брови взметнулись кверху, лицо от удивления вытянулось.
— Валерка! Ты!
Они обнялись, хлопая друг друга ладонями по спине.
— Ты как тут очутился?
— Я на тренировочном сборе. А ты?
— Я… То есть мы с Настюшкой второй месяц медовый справляем. Профком выделил путевки в Гагры. А ты почему к нам на свадьбу не приехал?
— Не отпустили… Служба! Телеграмму получили?
— Телеграммой захотел отделаться! Ладно, мы еще с тобой потолкуем по-нашему, по-шахтерски. А сейчас познакомься с моей половиной, — он повернулся к жене и представил Рокотова: — Это тот самый знаменитый Валерка, друг детства.
— Старший лейтенант Валерий Рокотов! — Валерий вскинул руку к козырьку и лихо щелкнул каблуками. — Поздравляю и желаю счастливой супружеской жизни!
— Анастасия, — она улыбнулась и пожала руку. — Спасибо.
— Вот что, Валера, теперь ты от нас не отвертишься, — Холод брал инициативу в свои руки. — Сегодня мы устраиваемся в санатории, а завтра милости просим, ждем! Штрафной бокал тебя дожидается. Верно, Настюшка?
— Не могу, — ответил Рокотов. — Сегодня улетаю.
— Тогда мы начнем сейчас, как у нас говорят на шахте, не отходя от кассы. Командовать парадом буду я. Где тут ресторан?
Через несколько минут они сидели за столиком в ресторане «Аэрофлота», и Федор, тыча пальцем в меню, заказывал одно блюдо за другим. Усатый официант торопливо записывал. Валерий попытался возразить, но Холод его не слушал:
— Сегодня гуляют шахтеры. Не пищать! — и снова к официанту: — Первым делом на стол фрукты, цветы и шампанское!
Официант принес вазу с цветами, бутылку шампанского и апельсины.
— Внимание, внимание! — загудел репродуктор. — Пассажир Рокотов, вас срочно просят зайти к начальнику аэропорта! Пассажир Рокотов, вас срочно просят зайти к начальнику аэропорта!
— Даже выпить спокойно не дадут, — чертыхнулся Федор.
— Я сейчас вернусь, — Валерий встал.
Кабинет начальника находился в другом конце здания.
Пожилой загорелый мужчина в форме летчика гражданской авиации произнес осипшим голосом:
— Если вы Рокотов, возьмите трубку телефона. Вас давно ищут.
Валерий пожал плечами. Он знал, что его никто не ищет. И взял трубку.
— Слушаю!
— Алло! Кто это? Валерий! — донеслось из трубки, и Рокотов узнал голос Миклашевского.
— Я! Я, Игорь Леонидович!
— Наконец-то… Заставил старика поволноваться. Поздравляю тебя, ты едешь…
— Я, Игорь Леонидович, никуда не еду и не лечу, погода нелетная, — ответил Рокотов, ничего не понимая.
— Ты едешь! Понимаешь, в Берлин едешь! Скорее возвращайся в лагерь.
— Что? — у Валерия вспотела ладонь, он сильнее прижал к уху трубку. — Что вы сказали? Не понял…
— Едешь в Берлин… Алло! Ты слышишь? Позднявичус сейчас на тренировке повредил ногу… недели на две слег в больницу… Алло! Сдавай билет и возвращайся. Тренерский совет утвердил тебя… Виктор Иванович уже разговаривал с Москвой.
Глава одиннадцатая
1
Май. Берлин. 1965 год.
В столицу Германской Демократической Республики одна за другой прибывают спортивные делегации.
— Ребята, да это же «Юность»! — весело крикнул Виликтон, когда автобус подвез боксеров к отелю.
Светло-серое многоэтажное здание с большими квадратными окнами действительно чем-то напоминало московскую гостиницу «Юность».
— Значит, будем как дома, — сказал Виктор Иванович.
Он произнес эти слова с особой уверенностью, и боксеры поняли своего тренера. Он намекал не только на внешнее сходство. Два года тому назад, на чемпионате Европы, проходившем в Москве, все десять советских спортсменов добились права выступать в финальных боях и установили своеобразный рекорд — завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали. Фактически в финале они выступили против сборной Европы и победили. В словах Виктора Ивановича звучала уверенность, что здесь, в Берлине, не только можно, но и нужно повторить прежний успех.
В отеле уже разместились спортсмены Польши, Венгрии, Англии, Франции. В коридорах и холлах разноязыкая речь, восклицания, дружеские похлопывания по плечам. Встречаются старые соперники и друзья, завязываются новые знакомства, звучат песни, кто-то играет на гитаре. Царит атмосфера подлинного спортивного товарищества. Кое-кому это не по душе, они ходят с надменными физиономиями, с мрачным видом.
Журналисты, едва успев взять интервью у русских мастеров, кинулись к подъезду встречать дебютантов чемпионата — боксеров Турции.
Советские спортсмены разместились на четвертом этаже. Рокотов вставил ключ в замок, открыл дверь, пропустил вперед Туранова и подошел к окну. Он смотрел на остроконечные готические крыши, на новые здания, на зеленые островки скверов и бульваров, а вдали, в сизой дымке не то вечернего тумана, не то дыма вставали скелеты многоэтажных домов с пустыми глазницами окон, без крыши и этажных перегородок, словно гигантские перевернутые ящики. Памятники войны…
Валерий всматривался в дома, в лабиринты улиц. Где-то здесь двадцать лет назад шел во главе батальона его отец. Боксер смотрел на кирпичную стену двухэтажного особняка со следами пуль на фасаде. Здесь дыбилась земля фонтанами взрывов, пули щербатили стены и асфальт тротуаров…
— Валерий, любуешься городом? Ничего, хороший, — Виликтон уже успел переодеться в синий тренировочный костюм с белыми буквами «СССР» на груди. — Только надо поторопиться. Папа сказал, сейчас пойдем в спортзал на разминку, там на весах сделаем прикидку, а потом в баню.
«Папа» — это старший тренер. Так Виктора Ивановича любовно называют боксеры. Его слово — закон! Он не любит, когда кто-либо опаздывает. Дисциплина для всех одна. Валерий стал спешно раскладывать вещи.
Раздался стук в дверь.
— Можно, — сказал Валерий, не поднимаясь, и добавил:
— Битте! Пожалуйста!
В комнату вошел Виктор Иванович, за ним высокий негр. В руках он держал увесистый сверток. Рокотов сразу узнал негра — это был чемпион Великобритании Джефферсон Мелл. Увидев Рокотова, негр заулыбался, обнажая сахарно-белые зубы.
— О! Валле! Сальют!
Они обнялись как старые друзья.
— Ищет тебя по всему этажу, — пояснил Виктор Иванович, — ко мне пристал, давай Рокотова! Подарок, говорит, привез, вручить надо, пока не испортился.
В дверях толпились советские ребята, болгары, немцы. Джефферсон протянул Валерию пакет и быстро заговорил по-английски. В комнату протиснулся высокий смуглолицый болгарин и стал переводить:
— Он говорит, что его мисс… по-русски жена, и такой малый Боб дают сюрприз… Такой птица, — он поморщил лоб, подыскивая подходящее слово, но, не найдя, загоготал, как гусак. — Го-го-го! Понимаешь, га-га-га! На счастье… Такой обычай…
Виктор Иванович, удовлетворяя желание любопытных, развернул пакет. В нем лежал крупный, янтарный от жира, свежезамороженный гусь…
— Что с ним делать? — спросил Валерий, когда они остались одни.
— Не беспокойся, повара знают!
2
Спортсмены обживали боксерскую столицу. Накануне открытия чемпионата их можно было встретить всюду: на улицах, в парках, в залах музеев и картинной галерее. Берлинцы тепло встречали гостей.
Улицы, мосты, площади, памятники…
Вместительный автобус плавно остановился у ворот советского посольства. Женщины вынесли два больших венка, обвитых красными шелковыми лентами.
— Надо помочь, ребята, — велел Виктор Иванович.
Боксеры внесли в машину венки. Сразу запахло сосновой хвоей и розами.
— Один твой, — сказал Рокотову старший тренер, показывая на венки.
— Хорошо, Виктор Иванович, я понесу.
— Ты не понял. Один твой, на могилу отца.
У Валерия перехватило дыхание. Ему? Венок? А он только хотел попросить, чтобы остановили автобус у какого-нибудь цветочного магазина. Валерий с благодарностью посмотрел на старшего тренера.
— Спасибо, Виктор Иванович…
— А ты не меня одного благодари, тут весь наш коллектив руку приложил. И товарищи из посольства постарались.
Впереди на розоватом фоне вечернего неба возникли очертания триумфальной арки — Бранденбургские ворота. На массивной арке четверка металлических коней, впряженная в колесницу, грызла удила.
Водитель нажал на тормоза, и автобус остановился перед часовым на контрольном пункте. Высунувшись в дверцу, он протянул американскому солдату документы.
— О! Боксе! — воскликнул он, восхищенно посматривая через окна на спортсменов, и дал знак ехать. — Битте!
Автобус, лавируя в потоке машин, помчался по шоссе, которое пролегло между парками. Наконец, развернувшись, остановился у входа на братское кладбище.
Спортсмены вышли из машины, вынесли венки. Вместо ворот, по краям входа, огромные, высеченные из красного гранита, печально приспущенные знамена. Зелень, аккуратно подстриженные кусты. Впереди, на высоком пьедестале, знаменитая фигура воина-освободителя, с мечом в одной руке и с девочкой, доверчиво прижавшейся к нему, в другой. Ногами солдат попирал раздавленную свастику. По ясному, словно вымытому, весеннему небу плыли редкие мелкие облака, и лицо воина, освещенное вечерним солнцем, то светлело, озаряясь, то становилось мрачно-задумчивым.
Братское кладбище, расположенное в парке, представляло собой гигантский ансамбль-памятник. Величие подвига запечатлено в камне и граните. Боксеры, примолкшие, сняв головные уборы, несли венки по длинной аллее. Поднялись по широким ступеням к подножию главного памятника и возложили венок. Несколько минут стояли в скорбном молчании. Медленно пошли назад.
Соленый туман застилал Валерию глаза. Слезы навертывались сами. Где-то здесь лежит отец. Сердце гулко стучало, гоня толчками кровь. Нет, он не думал о смерти. Отец, которого он смутно помнил и больше знал лишь по фотографиям, был для него живым. И сын спешил к нему на свидание.
Строгие надгробные плиты, выстроенные в шеренгу, как солдаты на параде. И фамилии, фамилии, фамилии… От четких позолоченных букв рябило в глазах.
Валерий шел от одной плиты к другой. И вдруг, словно кто толкнул в спину, он остановился, замер. По спине заструился холодный пот. Дважды прочел короткую надпись, проверяя каждую букву:
Гвардии капитан
Рокотов К. А.
1922–1945 гг.
У Валерия дрогнули губы. Он не слышал, как подошли товарищи, как положили венок. Сердце, скомканное горем, забилось тяжело и надсадно.
— Здравствуй, папа!..
3
В Берлин для участия в чемпионате прибыло около двухсот спортсменов из двадцати четырех стран. Рекордное количество участников заставило Организационный комитет пересмотреть график чемпионата и начать состязания на один день раньше, чем было запланировано.
Взвешивание боксеров, медицинский осмотр, волнующие минуты жеребьевки — все позади.
Наступил долгожданный час. Вспыхнули юпитеры, заиграли фанфары, и семь с половиной тысяч болельщиков, заполнивших трибуны нового дворца «Вернер-Зееленбиндер-Холле», приветствовали сильнейших боксеров континента, вышедших на парад.
Первыми, по установившейся традиции, шли судьи, одетые в белые брюки и рубашки с черными галстуками-«бабочками», элегантные, строгие. Снежная белизна их одежды как бы подчеркивала чистоту совести и неподкупную объективность.
Следом за судьями, со знаменами, двигались спортивные делегации различных стран. Перед каждым коллективом шагал немецкий юноша и нес квадратный плакат с наименованием государства. Боксеры шли в тренировочных костюмах, стройные, гордые, уверенные, полные надежд.
Фоторепортеры бегали от одного коллектива к другому, торопливо щелкая аппаратами. Зрители узнавали своих любимцев и горячо их приветствовали аплодисментами и выкриками. Берлинский помост собрал лучших боксеров континента. Если же кого-либо из прославленных мастеров кожаной перчатки не было среди участников чемпионата, то они отсутствовали лишь по одной причине — вынуждены были уступить место в команде своей страны другому боксеру, более сильному, лучше подготовленному.
Отзвенели фанфары, произнесены речи, поднят флаг Международной ассоциации любительского бокса.
Чемпионат Европы открыт!
Торжественная церемония закончена. Боксеры ушли в раздевалки. Члены жюри заняли места за длинным столом, стоящим почти у самого ринга. Погасли юпитеры, и лишь от огромной люстры, подвешенной над помостом, хлынул яркий поток света на белый квадрат, очерченный тугими канатами. Пять боковых судей усаживаются за небольшими столиками. Судья на ринге перелезает через канаты, а диктор вызывает первую пару боксеров.
Репортеры раскрыли блокноты. Представители крупных газетных концернов, для которых были установлены личные телефоны, уже диктовали первые абзацы пространных репортажей. В маленьких кабинах, где-то под потолком, начали вести передачи радио— и тележурналисты. Телекамеры, установленные в разных концах дворца, направили свои объективы на белый квадрат ринга.
Валерий и тяжеловес Саша Укосимов остались в зале посмотреть первые бои. Валерию до вызова на ринг надо ждать часа полтора, он боксирует в двенадцатой паре, а Укосимов отдыхал, тяжеловесы начнут работать завтра.
— Другар! Ходи сюда, — болгары узнали русских.
На ринге шли последние приготовления: рефери проверял боксерское снаряжение, диктор представлял соперников. В синем гулу, облокотясь о канаты, стоял плотный, с рельефной мускулатурой, смуглолицый боксер. На белой майке, через всю грудь, цветные полоски цвета национального знамени. В красном углу высокий жилистый португалец Гарсио де Ридаго, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады, разминал подошвами канифоль. Его тренер, грузный, полнолицый мужчина, высокомерно смотрел через ринг на своего коллегу.
— Ваш? — спросил Валерий у болгар.
— Наш, из Пловдива. Вангел Боляров.
— Хорош?
— Молодой. Юниор, — болгарин пожал сочувственно плечами, как бы говоря: куда ему, новичку, до португальца, призера Олимпиады.
Сухопарый медлительный англичанин — судья на ринге, сделал шаг назад и поднял руку.
— Первый раунд!
Болгарин был ниже португальца, плотный, с короткими сильными руками. Нагнув голову с темными кудрявыми волосами, он, явно волнуясь, пошел на сближение. Но Ридаго был начеку. Легко передвигаясь на тонких жилистых ногах, он с дальней дистанции хладнокровно встречал болгарина прямыми, как укол шпаги, ударами. Преимущество в росте и длине рук, помноженное на мастерство, давало ему неоспоримое превосходство.
— Вроде игры в одни ворота, — тихо сказал Валерию Укосимов.
Но парень из Пловдива не спасовал перед грозным титулом. Он сумел быстро справиться со своими нервами. И вот его левая рука начинает беспокоить португальца. Атаки болгарина стали целеустремленнее. Короткая разведка, сближение, пулеметная серия и — быстрый уход. И снова все сначала. Долгое маневрирование, выбор момента. Болгарские спортсмены зашумели, стали криками подбадривать товарища.
— Вангел! Достал! — от прежней неуверенности не осталось и следа. — Вангел!
Во втором раунде стало заметно, что известный мастер уступает парню из Пловдива, уступает в скорости и все время стремится сбить темп, перевести поединок в спокойное русло. Валерий смотрел на ринг и удивлялся: как португалец еще держится на ногах? Ридаго замучил себя накануне первенства сгонкой веса. Ежедневно часами находился в бане, в сухой парилке, и, чтобы усилить потовыделение, обсыпался солью. Виктор Иванович несколько раз, и шутя и серьезно, говорил ему, что так нельзя, но тот лишь усмехался. Не учите, мол, сами знаем.
До конца третьего раунда оставалось совсем немного, когда парень из Пловдива, обманув бдительность Ридаго, вошел в ближний бой и… с короткой дистанции нанес удар. Сильный и точный. Ридаго странно взмахнул руками и опустился на брезент.
— Раз! — судья жестом отстранил соперника.
Болгарин, не веря своим глазам — разве думал он несколько минут назад, выходя на ринг, что нокаутирует чемпиона? — стоял, бессмысленно улыбаясь, и не шел в нейтральный угол.
— Угол! Угол! — Рокотов скандировал вместе с болгарами, к ним присоединились и зрители.
Боксер наконец догадался, чего от него хотят.
Судья, убедившись, что болгарин стоит в дальнем нейтральном углу, неторопливо повернулся и, видимо, понял, что эти секунды, которые он фактически подарил Ридаго, не помогли, что тот все еще лежит и не сможет продолжать бой, спокойным, твердым голосом в наступившей тишине отсчитал секунды:
— Восемь… девять… аут!
Едва рефери кончил считать, как на ринг выскочил врач. Португалец, мотая головой, пытался отстраниться от его руки, державшей пузырек у самого носа. Журналисты, оседлав телефоны, спешили сообщить в редакцию первую сенсацию.
Расталкивая любопытных, к ступенькам ринга подбежала невысокая молодая белокурая женщина в модном летнем пальто.
— Гарсио! — она бросилась к боксеру. — О! Гарсио!
4
Открыв дверь в раздевалку, где находились советские боксеры, Рокотов сразу попал в объятия Миклашевского. Игорь Леонидович прилетел в Берлин с группой тренеров в составе туристской делегации.
— Понимаешь, чуть было не опоздали. В проспектах написано, что открытие завтра… Прямо с аэродрома и сюда… А ты? Как себя чувствуешь? Противника видел?
Валерий еле успевал отвечать. Настроение — прекрасное. Да, видел соперника на взвешивании. Он из Норвегии, моряк торгового флота. Говорят, левша. Вчера на тренировке работал с тяжеловесом Укосимовым, он тоже левша, а ему попался ирландец правша, так что у нас с тяжеловесом был обоюдный интерес.
Миклашевский раскрыл чемодан и достал тренировочный костюм, боксерские лапы.
— Пора разминаться, — он посмотрел на большие квадратные электрические часы, укрепленные над дверью. — Легкая гимнастика, пятнадцать минут…
Виликтон Туранов, закутанный в теплый мохнатый халат, двинулся к выходу. Виктор Иванович, обняв боксера за плечи, шел рядом и что-то говорил на ухо.
— Виля! Ни пуха ни пера! — крикнул Рокотов.
— Топай к черту, — ответил Виликтон, и на его сосредоточенном лице вспыхнула и тут же погасла улыбка, мысленно он был уже не здесь, а там, на ринге.
Валерий машинально проделал гимнастику и взял кусок тонкого кабеля в резиновой изоляции — скакалку.
— Сколько?
— Два раунда. В слабом темпе, — и, улыбаясь, тренер добавил: — Подарок тебе привез: письмо от матери! Оно долго путешествовало. Из военного гарнизона отправили в Сочи, но и там оно тебя не застало.
— Где же оно? Давайте, Игорь Леонидович.
— Наберись терпения. Долго ждал, придется еще подождать, — Миклашевский сделал паузу, посмотрел на Рокотова, и трудно было понять, говорит ли он серьезно или шутит. — Письмо получишь после полуфинала. Выйдешь в полуфинал, сразу получишь.
— А если не выйду, проиграю…
— Ну, тогда, — Миклашевский вздохнул и хитро улыбнулся, отдам только в Москве. Вот так! Точка. Не стой на месте, двигайся!
Каждый боксер по-своему переживает минуты перед ударом гонга. Один становится раздражительно-взвинченным, второй уходит в себя, молчун молчуном, никого не видит, никого не слышит, третий нарочитой веселостью старается прикрыть тревожную взволнованность. У каждого спортсмена свой характер и темперамент.
Легкая взволнованность, цепко охватившая Рокотова, едва он переступил порог Дворца спорта, постепенно нарастала, накатываясь все новыми и новыми волнами, словно где-то внутри у него запылал костер, который становился все жарче, все ярче, и в его пламени отчетливо высветлялся квадрат ринга, который стал центром жизни, а все остальное — второстепенное, не связанное в данные минуты с рингом, — отошло в сторону, заскользило мимо сознания.
Тревожное ожидание нарастало. Но оно не было похоже на переживание человека, идущего на суд, хотя ринг — это место открытого суда, где на глазах тысячной толпы специалисты в белых судейских одеждах решают спортивные судьбы. Валерий переживал по-своему, по-рокотовски, волновался, как солдат накануне парада, ибо для солдата парад, как и бой на ринге, проходит каждый раз по-иному и наполнен новым содержанием. Глухой ропот многотысячной толпы доносится сюда сквозь толщу стен, к нему невольно прислушиваются, ибо он, как барометр, чутко реагирует на ход поединка. По длинному коридору идет долговязый молодой немец с блеклыми навыкате глазами и приветливой улыбкой на губах. В одной руке он держит связку пухлых боксерских перчаток, издали похожих на огромные груши, в другой — листок бумаги. Он бесцеремонно заглядывает в раздевалки, быстро говорит, глотая окончания слов, говорит требовательно, но вежливо и уважительно, и всегда улыбается. Это судья при участниках. Он предупреждает боксеров, раздает перчатки, выводит очередную пару на ринг.
— Рокотоф! — он заглянул в раздевалку, где находилась советская команда. — Битте! Пожалюста!
Миклашевский и Рокотов, закутанный в мохнатый халат, направились по коридору в гудящий зал. Навстречу спешил Виктор Иванович.
— Я за вами… Виликтон молодец! Во втором раунде ввиду явного, — рассказывал он. — Не захотел уходить, остался там, чтобы посмотреть итальянца… Завтра ему с ним работать.
Огромный полутемный зал, словно кратер вулкана, полыхнул горячим, разогретым дыханием толпы, прокуренным спертым воздухом. Вокруг яркого пучка света, падавшего на ринг, плавал сизый табачный дым. В горле першило.
Норвежец был уже на ринге. Высокий костистый блондин с длинными руками. Белая майка и белые трусы с синим поясом подчеркивали белизну кожи. Норвежец то и дело поднимал костистые плечи до самых ушей и правой рукой растирал хрящ носа.
Миклашевский положил ладонь на плечо Рокотова, давая тому понять, что он рядом. От первого боя зависит многое. Все-таки чемпионат есть чемпионат! В свое время Игорь Леонидович и не мечтал выступать на таком ринге. А тот, организованный фашистами, был просто фарсом. И бой с Хельмутом Грубером, который не проиграл… Что ж, тогда победили судьи. Миклашевский был один. Один против всех. А сейчас совсем иная обстановка. Рокотов не один. Друзья и товарищи рядом. Но бокс имеет свои законы. На ринге наследникам не легче, чем было ему. Бой был, есть и будет боем…
— Только не торопись, — Миклашевский подвинул к ногам Игоря широкую плоскую коробку с канифолью. Чаще работай правой!
Судья на ринге — седой бельгиец с обветренным, испещренным морщинами, мужественным лицом, в прошлом известный боксер, боец армии Сопротивления, за руку поздоровался с Виктором Ивановичем и, узнав, похлопал по плечу Миклашевского:
— Салют, товарищ!
Глухо прозвучал электрический гонг, на больших часах зажглась цифра один — первый раунд, и запрыгали, сменяя друг друга, секунды.
— Чаще правой, — Игорь Леонидович легонько подтолкнул Рокотова ладонью.
Норвежец после рукопожатия стал в правостороннюю стойку. Работать с левшой всегда неудобно, тем более если он выше и руки у него длиннее. Черные перчатки, поднятые на уровень глаз, готовы нанести штыковой удар с дальней дистанции.
Валерий, приняв боевую позицию, слегка приподнялся на носочки и стал, подыскивая дистанцию для атаки, плести кружево финтов, обманных движений. От цепкого взгляда судей не ускользнуло ни его спокойное, уверенное выражение лица, ни быстрые движения в плечах, имитирующие начало ударов. Внимание всех было приковано к его перчаткам, готовым любой финт закончить хлестким ударом, готовым вот-вот обрушить лавину атаки.
Но мало кто, за исключением специалистов, видел точную и легкую работу его ног. Со стороны все было просто и обычно. Но именно ноги несли на себе основную нагрузку. «По работе ног, — говорят тренеры, — определяется и класс мастерства».
Рокотов не отвечает на удары, не принимает вызова. Он, уклоняясь или защищаясь подставкой плеча, медленно и настойчиво ищет нужную ему дистанцию, выбирает момент. Он теснит норвежца к канатам, а тот меняет позиции, уходит, кружит по рингу. Но Валерий, как тень, все время рядом. И расстояние между ними постепенно сокращается. Выставив вперед левую ногу, Рокотов быстро и осторожно, словно он ступает по льду, скользит вперед. Весь его облик — обманные движения туловищем, порывистые короткие взмахи рук, — говорят об атаке. Атака готовится, в ожидании ее зрители замерли на своих местах. И сам Рокотов, не скрывая своего намерения, весь устремлен вперед.
Норвежец старается предотвратить атаку русского, опередить его. Но всплески его торопливых ударов, большинство из которых глохнет в воздухе, не меняют положения. Нервное напряжение растет, моряк чутко реагирует на каждый финт, на каждое движение Рокотова, быстро меняет позиции, принимает одну защиту, другую… Он готов встречными ударами отбить атаку, но ее почему-то все нет и нет… Тогда он, не выдержав нервного напряжения, втягивает голову в плечи, сжимается, на какую-то долю секунды застывает на месте. Норвежец стоит на полных ступнях, словно придавлен тяжелым грузом нервозности. Это уже цель. Неподвижная цель.
Рокотов, продолжая финтовать, чуть выдвинул вперед левую ногу, которая сократила расстояние между ними, и тут же, словно вспышка молнии, последовал залп ударов. Все произошло так быстро, что рефери просмотрел основной удар. Судья только видел, как у норвежца подкосились ноги, и, подняв руку, зычным басом подал команду:
— Стоп! — и начал отсчитывать секунды. — Раз… Два…
Норвежец, опершись на канаты, хмуро смотрел перед собой. Он злился на себя: как мог прозевать атаку? И после счета «восемь» стал в боевую позицию.
— Бокс!..
И снова, уже в конце раунда, норвежец просмотрел, как нога русского двинулась вперед, сокращая расстояние, и не только просмотрел, а сам, не подозревая опасности, качнулся навстречу. Рокотов, как бы защищаясь, сделал полшага в сторону и вперед и без замаха, из того положения, в каком находились в тот момент руки, провел стремительную атаку. Удар в голову и в корпус. Молниеносно и четко.
Норвежца и на этот раз спасли канаты. Он устоял.
— Раз, — судья вторично открыл счет, — два, три…
Тренер норвежца, понимая бессмысленность дальнейшего боя, грустно поджал губы и выкинул на ринг мохнатое полотенце — знак отказа от продолжения поединка.
Глава двенадцатая
1
Многодневный боксерский турнир, который журналисты вполне справедливо назвали «марафонским», подходил к концу, к своему кульминационному дню — финальным поединкам. Напряжение росло прямо пропорционально уменьшению количества участников. Правила жестки — проигравший выбывает. Оставались лишь самые лучшие. У Миклашевского не было и свободной минутки, он не отходил от Рокотова, анализировал бои, совместно составляли план на будущие поединки. Миклашевский все свои дела отложил на «потом», на «после турнира». А с Берлином у него были свои отношения. Он узнавал и не узнавал его. Город словно стал просторнее, светлее, приветливее. Где-то здесь жили, если остались живы, друзья-немцы, помогавшие ему. Когда же он с ними встретится?
Закончились предварительные бои. За белые канаты ринга, сквозь частокол боксерских перчаток и дробь ударов, пробились в полуфинал, выдержав экзамен зрелости и мастерства, лишь сорок боксеров. Им и предстояло разделить между собой медали — золотые, серебряные, бронзовые.
Четыре раза поднимался Рокотов на ринг, и четыре раза судья вскидывал его руку. Если в первый день турнира спортивные журналисты не баловали советского чемпиона, дебютанта чемпионата, своим вниманием, то в последующие дни Рокотов завоевал их сердца. Завоевал не столько убедительными победами, сколько рыцарским благородством, уважением к сопернику. Рокотов не подавлял своих противников на ринге своей силой и мощью ударов, а красиво и эффектно обыгрывал их, демонстрируя филигранную технику и точность многосерийных комбинаций, тонкое чувство дистанции.
Его прямой противоположностью был западногерманский чемпион Рудольф фон Шилленбург. Тот тоже победно шел к полуфиналу, заканчивая поединки в первых раундах, шел, как образно написали журналисты, «по спинам нокаутированных соперников». Тяжелый правый кулак фон Шилленбурга после удара гонга обрушивался на противника как бронебойный снаряд, ломая защиту и парализуя волю к сопротивлению. Ярый и яркий представитель напористого силового стиля, фон Шилленбург, насмешливо усмехаясь, заявил группе журналистов:
— Основа бокса — удар, а все остальное — как бесплатное приложение… Потуги слабых скрыть отсутствие природной силы. Кто умеет, тот бьет, а кто не умеет, развлекает публику кривляниями на ринге.
В полуфинале жребий свел Рудольфа с турецким боксером Османом Али-беем. Это был самый короткий поединок, он продолжался всего тридцать три секунды. Смуглый Али-бей, стоя в своем углу, приложил большие пальцы к кончикам ушей, одними губами зашептал молитву, стихи Корана. Зазвенел электрический гонг, и Рудольф прыжками пересек ринг по диагонали. Осман, не обращая на него внимания, молился. Все боксеры, с кем приходилось встречаться Али-бею, на почтительном расстоянии ждали секунду-другую, третью, пока он кончал молитву, а потом начинали бой. Но Рудольф не стал ждать. Он рванул турка за плечо, поворачивая его к себе лицом, и тут же нанес ему удар в живот. Над рядами зрителей пролетела волна негодования.
Турок устоял. Лицо его исказила гримаса. Забыв о защите, с криком «Алла!» он бросился на Шилленбурга. Рудольф зло усмехнулся, сделал короткий замах, и пушечный удар правого кулака отбросил Османа назад, в угол…
С ринга Османа унесли на носилках. Он пришел в себя через час, на больничной койке.
А три тысячи западногерманских туристов, прыгая на своих местах, топотом и ревом приветствовали «успех» своего кумира. К рингу на специальной тележке подкатили весы и попросили Рудольфа взвеситься. Во всем боксерском снаряжении он весил восемьдесят два килограмма триста граммов. Тучный представитель шоколадной фирмы взбежал на ступеньки ринга и, держа микрофон в руках, объявил по-немецки:
— Наша всеми почитаемая фирма поручила мне вручить двукратному чемпиону Европы…
— Позвольте! — перебил его югославский журналист. — Вы предваряете события. Финал будет только завтра!
— У Рудольфа Железного здесь нет достойных соперников! Ни один не смог выстоять даже два раунда! — хвастливо выкрикнул тучный немец с военной выправкой. — Повторяю, господа! Наша всемирно известная фирма поручила мне вручить двукратному чемпиону Европы Рудольфу фон Шилленбургу, в знак уважения и признания его заслуг, набор плиточного шоколада весом восемьдесят два килограмма триста граммов. То есть равный весу чемпиона!
Три тысячи туристов снова запрыгали и заревели от восторга. Служащие фирмы выкатили красиво оформленную тележку, на которой высокими штабелями лежали плитки шоколада.
Тренер Хельмут Грубер от имени Рудольфа и от своего имени поблагодарил представителя фирмы за внимание и сказал, что такое огромное количество шоколада может повредить Рудольфу Железному и поэтому он берет лишь две плитки, а остальной шоколад просит раздать детям и дамам, присутствующим в зале.
2
В полуфинале Рокотов боксировал с парижанином Жаном Долье. Накануне поединка Валерий встретился с Отто Позером, боксером среднего веса из Германской Демократической Республики. Они подружились еще на лондонском турнире. Валерий знал, что отец Позера погиб в Бухенвальде. Отто был серьезным парнем, аспирантом физического факультета. В свободные часы Позер со своими товарищами возил Валерия по Берлину, показывая свой родной город.
— Завтра ты боксируешь с французом Долье, — сказал Отто. — Понимаешь, такой неудобный боксер. Надо очень осторожно. Все время защита, защита…
Француз Жан Долье действительно оказался, как предупреждал Позер, «неудобным» соперником. Это Валерий почувствовал в первом же раунде.
Невысокий, кряжистый, с длинными руками, он как-то странно вел себя на ринге. То ли сказывалась слабая подготовка к турниру, то ли нервозность, и Жан бестолково бегал по рингу, прятался в угол, закрываясь в глухой защите, и изредка, без подготовки, бросался вперед бессмысленно и сумбурно. Рокотов спокойно встречал наскоки француза и одним-двумя ударами тут же охлаждал его пыл. Однако Валерий не знал, что делать, когда тот уходил в глухую защиту.
Миклашевский знал, что надо делать в таких случаях. Но подсказывать нельзя. За это, чего доброго, рефери может боксеру сделать предупреждение, а боковые судьи вычтут набранные очки. Оставалось лишь одно — ждать окончания раунда.
По нашим правилам, судья на ринге в таких случаях останавливал бой ввиду явного преимущества. А здесь сухопарый англичанин во втором раунде остановил поединок и сделал Рокотову предупреждение за «неведение боя».
Получив незаслуженное наказание, Валерий вспылил и шагнул к французу. Тот стоял в глухой защите. Защита его была типичной для профессионалов: Жан держал руки горизонтально, закрывая ими лицо и живот, выставив вперед острые локти. Валерий в горячке провел пулеметную серию, и острая боль обожгла большой палец. «Напоролся на локоть!» — мелькнула мысль, но удержать себя он уже не мог. Один из ударов Рокотова прошел сквозь перчатку француза, которую тот держал у своей скулы.
У Жана слегка дрогнули ноги, и он сам, чуть улыбаясь, опустился на одно колено. Судья-англичанин вынужден был открыть счет.
При счете «семь» француз встал и, не приняв боевой стойки, шагнул к Рокотову, дружески протягивая руки:
— Бокс — но!
Он отказывался от продолжения поединка, его, видимо, вполне устраивала и бронзовая медаль. Жан сам поднял руку Валерия, объявляя его победителем, потом они обнялись и, сопровождаемые аплодисментами, покинули ринг.
А к ночи у Рокотова вздулся палец. Тот самый большой палец левой руки, который был поврежден еще в Лондоне. Ни примочки, ни согревающие парафиновые ванны не помогали. Вся кисть пылала огнем.
Валерий уснул далеко за полночь, да и то после таблеток снотворного.
А Миклашевский и Виктор Иванович, запершись в номере старшего тренера, не спали до рассвета, обсуждая создавшееся положение. Может, не стоит рисковать и нужно запретить Рокотову выходить на финальный бой? Серебряная медаль тоже почетна.
3
Утром, после бессонной ночи, старший тренер в присутствии Миклашевского объявил Рокотову свое решение: на финал не выходить!
Валерий, ничего не понимая, смотрел то на Виктора Ивановича, то на Миклашевского. Потом вскочил и, жестикулируя, стал доказывать, что он хорошо себя чувствует, палец не болит, — Рокотов сжал кулак, показывая, что, мол, все в порядке и он готов боксировать.
— Всего пару месяцев назад ты встречался с Шилленбургом на лондонском турнире, — сухо остановил его Виктор Иванович. — И проиграл. Зачем рисковать сейчас?
Но Рокотов не думал соглашаться с их решением. Он настаивал. Да, тогда он проиграл, но проиграл по очкам в равном бою. Двое из пяти судей дали победу ему, Рокотову. И эти месяцы он готовился к реваншу. Он знал, что их пути скрестятся на берлинском ринге. Разучил новые комбинации, подготовил тактические варианты.
— Валера, все это так. Но ты сейчас, по сути дела, с одной рукой, — Миклашевский говорил с сочувствием. — Левая, с разбитым пальцем, по сути дела, вышла из строя. А бой предстоит тяжелый.
Надеяться, конечно, было не на что. Тренеры взвесили все шансы. Бокс есть бокс. И мечты о победе при создавшемся положении, мягко говоря, выглядят мальчишеством и авантюризмом.
Виктор Иванович так и сказал: «Это пахнет мальчишеством и авантюризмом», когда Рокотов продолжал настаивать. Тренеры знали, что чудес не бывает и за один день никакими компрессами и парафиновыми ваннами кисть полностью не восстановить.
— Серебро у тебя в кармане независимо от того, выйдешь ты на ринг или не выйдешь, — повторил Виктор Иванович. — Зачем рисковать?
— Двадцать лет назад, в мае, тут шли рукопашные, — глухим голосом произнес боксер. — И мой отец был…
— После такого боя кисть и за год не вылечишь, — перебил его Миклашевский. — Понимать надо.
— Тут за каждую улицу… За каждый дом… Вы же знаете! — Валерий вынул из кармана письмо. — Мать пишет…
— Все мы хлебнули в войну. Давай лучше будем думать о будущем.
Разговор был долгим и трудным. Рокотов упрямо твердил свое. Никакие доводы его не убеждали. Виктор Иванович в конце концов махнул рукой:
— Ладно. Только парь кисть до самого вечера. И массируй… Там посмотрим.
А в коридоре, когда вышли из номера, сказал Миклашевскому:
— К вечеру перегорит и станет благоразумнее. Ну, если будет упрямиться, ладно, пусть выходит на ринг, только ты держи полотенце наготове. Понял?
Игорь Леонидович кивнул.
4
Стена, отделявшая раздевалки от огромного зала, не могла заглушить рев трибун, и он доносился, глухой и тревожный, то стремительно нарастая, то вдруг затихая, как далекий гул в горах. Там, за стеной, идут финальные поединки, разыгрываются золотые медали первенства Европы.
В раздевалках пусто. Остались лишь те, кому выходить на ринг, да их тренеры.
В одной из раздевалок — узкой и длинной комнате — около большого зеркала Валерий Рокотов мягко движется на носочках, ведет «бой с тенью». Ему скоро выходить на ринг. Он в боевой форме — в белых трусах и в майке, сверху накинут теплый халат. Валерий нетерпеливо поглядывает на квадратные электрические часы, укрепленные над дверью. Стрелки почему-то движутся очень медленно.
Вчера вечером, перед последними боями, Василий Задонченко, ленинградец, комсорг команды, собрал всех в своем номере.
— Ребята! В Москве мы всей десяткой вышли в финал и завоевали шесть золотых медалей. Здесь, в Берлине, пробиться удалось только нам, восьмерым. Неужели выступим хуже, чем дома?
Пока все идет хорошо. Пятую медаль принес Виликтон Туранов. Сейчас начнет работать Василий, а потом его, Валерия, черед.
Валерий следит за своими движениями в зеркале, словно от чистоты их исполнения зависит исход поединка. Игорь Леонидович, искоса поглядывая на боксера, возится с миниатюрным приемником, стараясь настроить его на московскую радиостанцию. Он мысленно ругает себя за беспринципность, за слабохарактерность, за то, что «идет на поводу у спортсмена». Нужно было настоять на своем, запретить Рокотову выходить на ринг. Утром на очередном взвешивании врачи отстранили бы его без разговоров, а тут… Наконец тренеру удается поймать волну, и сквозь радиопомехи в раздевалку врывается сильный женский голос, величаво-задумчивый и нежный.
— Людмила Зыкина, — говорит Миклашевский, ставя приемник на подоконник. — Мягче двигайся, расслабься…
Рокотов, кивнув, продолжает «бой с тенью». Он смотрит зло и решительно, попеременно нанося удары по воображаемому противнику. Впрочем, воображаемый противник имеет вполне реальные черты.
— Кончай! Пора бинтовать пальцы.
— Душевно поет, — Валерий взял туго смотанные эластичные бинты.
— Давай помогу.
— Не надо. Я сам. Чувствую палец.
Осторожно, чтобы не причинить боли прикосновением, Рокотов обматывает пальцы, кисть левой руки. Кисть глухо ныла, особенно большой палец. Каждое прикосновение отдавалось по всей руке. Лицо боксера было спокойным, он даже пытался улыбнуться. Но Миклашевский, зная, каких усилий стоит это спокойствие, не выдержал:
— Хватит! А ну разбинтовывай.
— Поздно, Игорь Леонидович.
И как бы в подтверждение его слов в раздевалку заглянул моложавый немец с блеклыми навыкате глазами, улыбнулся и протянул ему новые перчатки:
— Рокотоф! Бистро!
Сквозь толщу стены явственно донеслись звуки советского гимна.
— Валера! Слышишь! — закричал тяжеловес. — Вася завоевал шестую! Ура! Ты идешь на рекорд…
Игорь Леонидович сунул в карман пузырек с нашатырным спиртом и, небрежно размахивая полотенцем, с тяжелым сердцем последовал за боксером.
5
Бой складывался явно не в пользу Рокотова. Рудольф фон Шилленбург сразу же после гонга пошел в атаку, тесня русского, забирая инициативу в свои руки. Высокий, длиннорукий, едва касаясь брезентового пола, он летал по рингу и с дальней дистанции осыпал Валерия градом ударов. А что мог сделать Рокотов одной здоровой рукой? Одиночные удары да обманные движения?
Трибуны, на добрую половину заполненные туристами из ФРГ, гудели, как кратер вулкана.
Каждый удар, который Валерий изредка наносил поврежденной рукой, больно отзывался в сердце тренера. В противоположном углу с полотенцем в руках на табуретке сидел Хельмут Грубер. К концу раунда на губах Грубера скользнула улыбка. Она обожгла Миклашевского. Кажется, «лиса пустыни» догадывается обо всем… Игорь Леонидович, сжав полотенце, подался к канатам.
— Держи на дистанции, не подпускай, — советовал он Валерию в короткий перерыв, — держи на дистанции!
Во втором раунде произошло то, чего так опасался Миклашевский. Шилленбург, опережая русского на какую-то долю секунды, провел молниеносную серию из трех прямых и, не опасаясь левой, шагнул вперед, на сближение, нанося со средней дистанции свой коронный крюк справа.
Судья на ринге — сухощавый испанец с редкими, зачесанными набок волосами — оттолкнул мюнхенца и взмахнул рукой.
— Раз!..
Рудольф небрежной походкой направился в дальний нейтральный угол.
До сознания Валерия смутно донесся приглушенный, словно через толщу ваты, шум, который все нарастал и нарастал, становился громче, будто навстречу, грохоча колесами, мчался скорый поезд… Валерий усилием воли поднял слипающиеся веки. Тряхнул головой. Его оглушила неприятная и незнакомая тишина. За белыми канатами ринга в сизой полутьме зала он увидел застывшую напряженную толпу. Прямо перед ним, в первом ряду, вислощекий немец держал пальцы во рту, готовый разразиться свистом, а толстая рыжеволосая дама наводила на ринг черный, как дуло автомата, объектив кинокамеры. У Валерия похолодело в груди: «Неужели нокаут?»
Но тут он увидел над собой сухопарого судью, и по его открывающемуся рту, в котором поблескивал золотой зуб, по выставленным пальцам, Валерий скорее догадался, чем понял, что идет счет секунд:
— Четыре… пять…
Сразу стало легче. Еще не все потеряно… Как он прозевал удар?.. В красном углу Игорь Леонидович, подавшись вперед, делал руками знак, как бы говоря: «Посиди, не торопись, отдохни».
Валерий, встав на одно колено, оперся перчатками в пол. В голове неприятный гул. В горле пересохло. Очень хочется пить. Сжав зубы, он следит за пальцами рефери.
— Шесть… Семь…
Как быстро летят секунды! При счете «восемь» Рокотов вскочил на ноги и, подняв руки в боевое положение, шагнул навстречу противнику. Судья не успел подать команду «бокс!», как прозвучал гонг, извещая об окончании раунда. Хельмут Грубер, зло сплюнув в ящик с канифолью, презрительно посмотрел на секундометристов.
Боксеры разошлись по своим углам.
— Дыши глубже! Еще… Глубже…
Валерий, положив на канаты отяжелевшие руки, послушно выполнял указания тренера. Тот дважды совал к носу склянку с нашатырным спиртом, от которого перехватывало дыхание и прояснялось в голове, смачивал мокрой губкой затылок. Потом, энергично махая полотенцем в такт дыханию, стал анализировать причины нокдауна. О больной руке тренер даже не вспоминал, и Валерий был ему за это благодарен.
— Защищайся не подставками, а нырком. Нырком под его руку и коротким снизу вверх… Коротким снизу вверх…
Дальнейшие пояснения Валерий не слышал, слова Игоря Леонидовича заскользили мимо сознания. Слева, за канатами ринга, у судейского стола возвышался флагшток. Два молодца в расшитых золотыми галунами синих куртках начали снимать красное полотнище.
У Валерия по спине заструился холодок. Шесть раз в честь побед его товарищей на флагштоке взвивалось алое знамя, шесть раз звучал гимн его Родины. И вот сейчас они уже уверены в победе мюнхенца…
Не успел стихнуть глухой звук электрического гонга, как Валерий был уже на ногах.
Рудольф тоже спешил, спешил закрепить успех. Вскинув руки в боевую стойку, нагнув голову, на которой щетинились волосы, он шел прямо на Рокотова. Шел, как танк, грозный и несокрушимый, готовый обрушить залп тяжелых ударов.
Валерий, чуть нагнув голову, с упрямым блеском в сузившихся глазах, шел грудью вперед, шел, почему-то не поднимая рук в боевое положение. В прокуренном переполненном зале стало тихо. Одни зрители удивленно смотрели на русского, не понимая, почему он медлит, не поднимает рук. Другие считали его поведение дерзким вызовом прославленному мастеру, мальчишеством, за которое придется расплачиваться дорогой ценой.
В напряженной тишине раздался окающий волжский басок, сильный и уверенный:
— Валера! Покажи ему!
Они схлестнулись в середине ринга. И в то мгновение, когда столкновение казалось неизбежным, когда дистанция стала зоной боя, а Шилленбург уже дал залп и его кулаки начали полет, Валерий, так и не поднимая рук, неожиданно сделал резкое движение телом в сторону с поворотом на носках. Такие повороты выполняют тореадоры, пропуская в сантиметре от себя разъяренного быка. Под подошвами боксерских ботинок звучно скрипнула канифоль.
Шилленбург, не ожидавший такого маневра, проскочил мимо, и его удары пошли в воздух. А Валерий, с полуоборота, казалось бы неудобного положения, нанес два спаренных удара по корпусу и, шагнув вперед, вошел в ближний бой. Откуда у него взялись силы, он сам не знал. Забывая о вывихнутом пальце, он пустил в ход свои чугунные кулаки, нанося тяжелые удары по животу, вкладывая в каждый из них восемьдесят один килограмм собственного веса: «Сбить дыхание… сбить… И коротким снизу вверх… Только наверняка!»
Рудольф, защищаясь подставками перчаток и локтем, попятился назад, пытаясь выскользнуть из опасного ближнего боя. Назад, назад… Но никакие силы не могли оторвать русского, он, как гвоздь к магниту, прилип к нему. Они двигались по рингу, словно связанные одной веревкой. Тогда Рудольф, понимая, что он не только теряет очки, но теряет и силы, грубо схватил, обнял Валерия. Не дать работать! Ослабить темп! Судья замешкался. Мюнхенец, держа русского, дважды пытался нанести удар головой. Бровь… Рассечь ему бровь… Тогда судья остановит бой, и этого сумасшедшего русского снимут за «невозможностью продолжать поединок».
— Брэк! По шагу назад! — рефери разнял боксеров, наказывать мюнхенца он и не думал.
В зале раздался свист, топот. Зрители возмущались пристрастным судейством на ринге.
Рудольф, отскочив от русского, тяжело дышал. Шилленбург не забывал, что на него смотрят со всех сторон, и растянул губы в улыбке. Вблизи она была похожа на оскал пантеры. Маневрируя по рингу, он укрылся за частокол прямых ударов. Западногерманские туристы повскакивали с мест и дружно скандировали:
— Ру-дольф! Ру-дольф! Хох-хох!
Боксеры закружили по рингу, зорко следя друг за другом. Оба устали, пот струился по лицам, застилал глаза.
«Не уйдешь! Коротким снизу вверх… — этому была подчинена вся воля Рокотова. — Бить наверняка!»
Пошла последняя минута раунда. Шилленбург, маневрируя и меняя позиции, наносил издалека серии ударов. Очередь! Очередь!
— Ру-дольф! Хох-хох! — гудели трибуны. Валерий пропустил несколько ударов. Пропустил умышленно. Так надо, иначе не поверит. В голове гудело, ноги стали тяжелыми и непослушными. В пересохшем рту появился солоноватый привкус. «Кровь… губу разбил», — подумал он и, не спуская глаз с ног соперника, качнулся, как бы теряя равновесие…
В глазах мюнхенца мелькнул хищный огонек. Наконец-то! Сделав обманное движение левой, он пустил в ход свою правую. С поворотом плеча и пружинистой силой спинных мышц. Это был не удар, а пушечный выстрел.
Но там, где стоял пошатнувшийся русский, неожиданно оказалась пустота. Рудольф, ничего не понимая и теряя равновесие, еле удержался на ногах. Эти сотые доли секунды и решили исход боя. «Бей снизу вверх», — выдохнул Миклашевский, двигая плечом, как бы посылая свой кулак. Только так надо сейчас бить. И Рокотов словно услышал своего тренера. Уклонившись от удара, нырнул под мюнхенца и, выпрямясь, с поворотом послал свой кулак снизу вверх в открытый гладко выбритый подбородок. В этот удар боксер вложил все: силу, волю и жажду победы…
Мюнхенец покачнулся и медленно, словно он делает это вполне сознательно, упал на брезент ринга. Упал к ногам Рокотова, беспомощно уткнулся лицом в его ботинки.
Валерий, переступив через него и не ожидая команды судьи, направился в дальний нейтральный угол.
Судья-испанец посмотрел на председателя жюри, на судей, на уткнувшегося в пол барона и нехотя начал счет.
При слове «аут» два помощника секунданта вместе с Хельмутом Грубером перескочили через канаты и подхватили Рудольфа под мышки.
И только теперь Валерий почувствовал страшную усталость. Перчатка левой руки, казалось, была наполнена расплавленным свинцом. Одеревеневшие ноги не слушались. Он ничего не чувствовал, не видел, не слышал, а только улыбался разбитыми в кровь губами и смотрел, смотрел на флагшток. А по лицу стекали соленые капли то ли пота, то ли слез… На флагштоке медленно поднималось алое знамя. И торжественно зазвучал гимн. И тысячи людей — друзей, скрытых и явных врагов — вынуждены были встать, отдавая честь и знамени, и гимну. Едва отзвучала музыка, как к рингу, к пьедесталу почета, устремились товарищи по команде, друзья-берлинцы, советские туристы. Отто Позер, сунув в руки букет, долго целовал вспотевшее лицо друга. Журналисты осадили раздевалку. А Валерию хотелось только одного: скорее стащить перчатку с руки, сунуть кисть под струю воды…
6
Поздно вечером Игорь Леонидович привез Рокотова в гостиницу. Они побывали в больнице. Врачи, которые смотрели бой по телевидению, ахнули, когда узнали, с какой рукой боксировал русский. Быстро сделали рентгеновский снимок. Обработали кисть, загипсовали. Пожилой немец, хирург, удивленно и восхищенно качал головой.
— Какой народ! Какое мужество! Какое мужество…
В номер гостиницы, едва Миклашевский уложил Рокотова в постель, без стука вошел Виктор Иванович и с ним незнакомый советский майор.
— Вот еще один представитель печати. Военный корреспондент, — отрекомендовал майора Виктор Иванович. — Замучил вопросами.
— Это сенсация! — быстро заговорил майор, усаживаясь рядом с Валерием на кровать. — Вы совершили подвиг!
Валерий, не поворачивая головы, устало произнес:
— При чем тут подвиг…
— Не скромничайте! Я все знаю!
— Да ничего вы не знаете… — ответил Валерий и, помолчав, добавил: — Там, на столе, письмо. От матери…
Журналист взялся за конверт. В листке из ученической тетради, исписанной химическим карандашом, лежала пожелтевшая вырезка газеты. Майор пробежал глазами письмо. Мать сообщала сыну, что приезжал однополчанин отца, который долго разыскивал семью своего командира, и рассказал о последнем бое, он же и подарил на память фронтовую газету. Майор прочел вырезку, строчки, подчеркнутые фиолетовыми чернилами, посмотрел на боксера и снова перечел: «…А на площади перед рейхстагом рота залегла. Тогда капитан К. Рокотов схватил знамя и с криком „ура“ побежал навстречу свинцу и штыкам. Солдаты ринулись за ним. На ступеньках рейхстага капитан упал, не выпуская из рук знамени. Бойцы подхватили командира вместе со знаменем и ворвались под колонны. Знамя было пробито пулями в нескольких местах…»
Майор молча вынул пухлый блокнот и стал торопливо переписывать строчки из пожелтевшей фронтовой газеты.
Москва — Голицыно — Береговое (Крым).
1966–1973—1978 гг.
Приказ: «Убить Гитлера!» (вместо послесловия)
Более сорока лет назад, в мае 1963 года, когда в Москве проходил чемпионат Европы по боксу, ко мне обратился тренер из Долгопрудного, которого я видел впервые и раньше никогда не встречал. В дни чемпионата ко мне как к Председателю Федерации бокса СССР, обращались многие специалисты мужественного вида спорта, особенно приезжие, с предложениями, вопросами, просьбами. Но он обратился ко мне как к писателю:
— Вы автор романа «Ринг за колючей проволокой», я хочу с вами встретиться, у меня тоже сложная судьба, я вам посылал письма.
Действительно, я получал его письма и не верил написанному: «Меня, сержанта, вывезли из блокадного Ленинграда самолетом, специальным рейсом, и подготовили для работы в глубоком тылу…». За сержантом в блокадный Ленинград через линию фронта зимою 1942‑го года? А в Москве разве нет достойных сержантов? И вот он стоит передо мною. Умные проницательные глаза. Сухощавый, подтянутый, интеллигентный. Человек, которому трудно не верить. Так я познакомился с легендарным советским разведчиком Игорем Леонидовичем Миклашевским. Его необычная фронтовая судьба отображена в образе главного героя моего романа «Стоять до последнего», который неоднократно переиздавался, переведен на многие языки от финского до вьетнамского. Но и у романа была своя история: рукопись сначала несколько лет пролежала на Лубянке, публиковалась частями, а когда наконец книга вышла (хотя и с купюрами), то была удостоена престижной литературной премии КГБ СССР.
А послевоенной судьбой моего героя пришлось заниматься не один год. И только недавно — 14 февраля 1997 года — «Российская газета» рассекретила тайную операцию о покушении на Гитлера, в сенсационном материале «Вожди народов — под прицелом», в котором публикуются секретные документы:
«…Свои надежды группа генерала Судоплатова возлагала на Игоря Миклашевского. Молодой разведчик в декабре 1941 года (фактически в декабре 1942 года) „сдался“ немцам и „работал“ на них. Его задание состояло в том, чтобы ликвидировать в Берлине известного актера, народного артиста СССР Всеволода Блюменталя-Тамарина, который по немецкому радио призывал советских солдат дезертировать из армии. Но Миклашевский получил новое задание: с помощью Ольги Константиновны Чеховой (1897–1980) „выйти“ на Гитлера и уничтожить его. В 1921 году актриса Чехова уехала из России в Германию, где снималась в кино и сделала блестящую карьеру. Особо высоко ее ценил Герман Геринг. По словам Судоплатова, Чехова была „надежным сотрудником и важным источником информации“ для советской секретной службы, ее лично „вел“ сам Берия…».
После тщательного изучения окружения фюрера, проработки различных вариантов выхода на «самого», при подборе кандидатуры на эту ответственную операцию остановили свой выбор на Миклашевском. Он не был кадровым разведчиком, но по всем параметрам подходил на эту роль: мастер спорта по боксу, один из сильнейших мастеров кожаной перчатки столицы, владеет немецким языком, исполнительный, дисциплинированный. Сын известной московской артистки Августы Миклашевской, той самой, которой посвятил многие стихи Сергей Есенин в цикле «Москва кабацкая». По Москве даже ходили слухи о том, что Игорь — внебрачный сын знаменитого поэта. С детских лет он был знаком с артистической богемой, а летом часто жил под Истрой на даче своего дяди, народного артиста, который был женат на сестре его матери. Именно с этой дачи, когда фашисты подходили к столице, Блюменталь-Тамарин и перешел к немцам. А Миклашевский в то время служил в войсках ПВО под Ленинградом, был чемпионом Ленинграда и Ленинградского военного округа, готовился к чемпионату СССР, но война спутала все карты и надежды. Гитлеровские войска мертвой хваткой сжали горло Ленинграда. Блокада. Голод и холод. Единственная надежда — Дорога жизни по льду замерзшей Ладоги. Зенитная батарея Миклашевского отражала яростные натиски пикирующих бомбардировщиков, и при каждом выстреле зенитки лед ходил под ногами ходуном, грозя каждую минуту провалиться…
В ту страшную зиму и полетел спецрейсом в осажденный Ленинград генерал Ильин, прихватив с собой немного продуктов. Как мне потом рассказывал Виктор Николаевич Ильин, он впервые в своей жизни увидел массу истощенных людей. Увидел страшную картину голода и невероятного мужества, запомнил, как Игорь Миклашевский, срочно вызванный с фронта в штаб ПВО, все накладывал и накладывал чайной ложкой сахар в свой стакан и никак не мог остановиться.
А сержант Миклашевский, в свою очередь, был озадачен и удивлен тем, что сам командующий войсками ПВО Ленинградского военного округа выражал свое почтение человеку в военной форме без знаков различия.
Через три дня спецрейсом Игорь Миклашевский прилетел в Москву. Летели ночью, попали под обстрел немецких зениток, и сержант впервые сам почувствовал себя в роли воздушной мишени. Но все обошлось благополучно, если не считать нескольких пробоин в фюзеляже.
В Москве началась тщательная и скрупулезная подготовка, отработка легенды, изнуряющие тренировки. Но о конкретном задании — ни слова, он знал только о том, что ему предстоит длительное время находиться в глубоком тылу врага, проявить себя и завоевать доверие, а главное — выступать на ринге на любых соревнованиях, чтобы его фамилия появилась в прессе, хоть в самой провинциальной, тогда боксера найдут наши люди, и он получит соответствующее указание о своей дальнейшей деятельности. Так лучше для самого Миклашевского. Ему предстоит пройти многочисленные проверки и выдержать нелегкие испытания — гитлеровская контрразведка была одной из сильнейших в то время. В период подготовки Миклашевского, генерал Ильин неоднократно приглашал его к себе домой на чашку чая, где познакомил со свой женой и матерью. Генерал не мог и предполагать, что эти неформальные встречи через несколько лет окажутся спасительными для Игоря.
И вот — Германия. Блюменталь-Тамарин был очень осторожен, на него уже совершали покушения, он никого к себе не подпускал близко, но помог Игорю легализоваться и переправил подальше от Восточного фронта. На севере Франции, в портовом городе Булонь-сюр-Мер, расположенном на побережье Ла-Манша, солдат ост-легиона Игорь Миклашевский при первой возможности вышел на ринг, заявил о себе и стал известен в кругу профессиональных боксеров. В газетах появилась краткая информация о его поединке с чемпионом Франции. Из Берлина пришел приказ: откомандировать в столицу. Свой вызов в Берлин Игорь приписал заботе родственника-предателя, но когда с ним провели беседу в особом отделе Главного управления имперской безопасности, он понял, что его опекают другие люди, которые в столице рейха занимают высокое положение и пользуются большими правами. Он вышел на своих. Выполнил ряд заданий, проявил себя с лучшей стороны.
В 1943 году летом, после поражения под Сталинградом, в Германии для поднятия духа был проведен официальный чемпионат Европы по боксу. Кстати, Интернациональная федерация боксеров-любителей — ФИБА за связь с нацистами в 1946 году была распущена и создана новая — АИБА — Международная ассоциация любительского бокса, которая действует и ныне. На том чемпионате блестяще выступил Миклашевский. Почетным гостем на соревнованиях был знаменитый боксер Макс Шмелинг — чемпион мира в тяжелом весе, гордость нации и любимец самого фюрера. Ему очень понравился чемпион Ленинграда, и он приблизил его к себе, стал лично опекать. Перед Миклашевским открывались широкие возможности для реализации операции чрезвычайной важности.
Но в ходе войны наступил перелом. Сталин вызвал на дачу в Кунцево генералов Судоплатова и Меркулова и к удивлению обоих неожиданно отменил операцию, сказав: «Этого не надо делать». Он раскрыл свои соображения. Пока жив Гитлер, исключены переговоры Берлина с западными столицами о сепаратном мире. А если же Геринг или военная верхушка Германии после гибели фюрера возьмут власть в свои руки, тогда за спиной Советского Союза может быть достигнуто сепаратное соглашение между немцами и западными союзниками. Живой Гитлер таким образом становился своего рода надежным гарантом сохранения антигитлеровской коалиции.
Перед Миклашевским были поставлены другие, тоже весьма важные задачи, с которыми он успешно справился. Краткие сообщения в Центр сказывались на существенных изменениях во фронтовых обстановках.
В конце 1944 года, когда английская и американская авиация нещадно бомбила германские города, по дороге в Штутгарт разведчику удалось, как было предусмотрено планом, выполнить первоначальное задание — во время бомбежки ликвидировать предателя Блюменталя-Тамарина. Гитлеровская контрразведка напала на след советского разведчика. Началась погоня. В Бельгии, под Брюсселем, в поезде его настигли. Игорь спрыгнул на ходу поезда, бросился бежать в сторону леса, но гитлеровцы достали его автоматными очередями.
Через три дня бельгийским крестьянам велели похоронить «преступника». Один из них приложил нож к носу Миклашевского, и нож запотел: живой! Быстро закидали могилу, а раненого переправили в лес к бельгийским партизанам. Те переодели его в форму немецкого капитана, ликвидированного накануне, и подбросили тело немцам.
Очнулся Миклашевский в Париже, в крупнейшем военном госпитале, где светила немецкой медицины провели ряд сложных операций и спасли жизнь «немецкому капитану». А когда Игорь поправился и смог самостоятельно ходить, главный врач сообщил «приятную» новость:
— Я разыскал и вызвал из Германии вашу жену. Завтра она приезжает в Париж!
Миклашевский похолодел — завтра он очутится в руках гестапо. Жена скажет, что это не ее муж… Он как мог искренне поблагодарил за проявленную «заботу», а в голове вспыхнула одна мысль: бежать! Надо срочно бежать!
На рассвете ему удалось покинуть охраняемый госпиталь на машине по вывозке мусора. Миклашевский присоединился к французским патриотам, участвовал в боевых операциях.
После окончания войны сотрудники посольства СССР в Париже помогли ему выехать на родину. В Москву прибыл под вечер, идти на Лубянку было уже поздно, и Миклашевский на радостях с бутылкой шампанского и цветами пошел к генералу Ильину. Дверь открыла заплаканная мать генерала: Берия расправился с Ильиным и Судоплатовым: оба коротают срок в отдаленном лагере на севере Сибири, и она не знает, живы ли они.
Судьба и на этот раз уберегла Игоря Миклашевского. Он, как сам мне рассказывал, «залег на дно» и почти два десятилетия проработал скромным тренером по боксу. Не знали в Долгопрудном мальчишки из ПТУ какой тренер их воспитывает!
В годы хрущевской оттепели оба генерала были полностью реабилитированы, восстановлены во всех правах. Я неоднократно встречался с ними, они подтолкнули меня к написанию романа «Стоять до последнего», много помогали разведчику и активно участвовали в его судьбе. Игорь Миклашевский был награжден орденом Боевого Красного Знамени.
30 мая, когда в Питере началось празднование 300‑летия города на Неве, чемпиону Ленинграда исполнилось бы 85 лет.
Георгий СВИРИДОВ
писатель, лауреат литературных премий
Министерства обороны СССР и КГБ СССР,
ветеран Великой Отечественной войны,
первый председатель Федерации бокса СССР




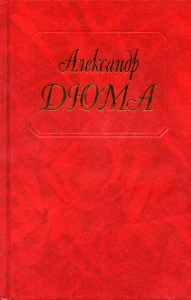


Комментарии к книге «Время возмездия», Георгий Иванович Свиридов
Всего 0 комментариев