Валерий Поволяев Король Красного острова
© Поволяев В.Д., 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
* * *
Валерий Дмитриевич Поволяев
Об авторе
Российский писатель, прозаик Валерий Дмитриевич Поволяев родился 13 сентября 1940 года в г. Свободный Хабаровского края в семье военного. Его отец погиб в первые дни Великой Отечественной войны. Воспитывался будущий писатель в доме бабушки Л.Ф. Поволяевой в селе Семенёк Становлянского района Липецкой области. После окончания средней школы села Ламское работал электриком на заводе в Тульской области. В 1965 году он окончил художественный факультет Московского текстильного института, в 1974 году заочно – сценарный факультет ВГИКа.
Печататься В.Д. Поволяев начал с 1969 года. В отделе литературной жизни «Литературной газеты», которым он со временем стал заведовать, начинался его творческий путь журналиста и писателя. Публиковались на 16-й полосе и рисунки Валерия Дмитриевича – художника по образованию, участника ряда выставок. Затем он работал заместителем главного редактора журнала «Октябрь», секретарём правления Союза писателей и председателем Литфонда России, главным редактором журналов «Земля и небо» и «Русский путешественник», заместителем главного редактора газеты «Семья». Ныне – председатель Московского пресс-клуба (ЦДРИ), председатель Федерации спортивной литературы России.
Первая книга В.Д. Поволяева – сборник рассказов «Семеро отцов» – вышла в 1979 году. Он – автор более девяноста книг. Это и лирические рассказы, и повести, и исторические романы, и детективы, и путевые очерки. В.Д. Поволяев стремится примирить в нашей истории белых и красных, ибо и тем и другим была дорога Россия. Это находит свое отражение в таких его произведениях, как «Всему свое время», «Первый в списке на похищение», «Царский угодник», «Верховный правитель» (об адмирале Колчаке), «Атаман Семенов», «Охота на охотников», «Если суждено погибнуть» (о генерале Каппеле), «Браслеты для крокодила» (о Гумилеве), «Жизнь и смерть генерала Корнилова», «Чрезвычайные обстоятельства», «Тихая застава», «Северный крест» (о генерале Миллере), «Бурсак в седле» (об атамане Калмыкове), «Русская рулетка», «Оренбургский владыка» (об атамане Дутове), роман в 3 книгах о Рихарде Зорге. Ряд его книг переведен на английский, немецкий, французский, арабский, датский, казахский, украинский, азербайджанский и другие языки.
По мотивам его повести «Тихая застава» был снят одноименный фильм (более 30 наград). Прототипов героев этой повести Валерий Дмитриевич встретил в Афганистане, где был четыре раза. В числе тех, с кем общался писатель, оказались и липчане. Вообще в своем творчестве он немало внимания уделяет описанию родных мест. Так, в рассказе «Среди ночных полей» действие происходит в селах Семенёк и Ламское Становлянского района Липецкой области.
В.Д. Поволяев с 1974 года – член Союза писателей СССР. В 1980 году он удостоен звания заслуженного работника культуры СССР, а в 2001 году – заслуженного деятеля искусств России. Ему присуждено около 30 различных творческих премий, в том числе премия Ленинского комсомола, а также литературные премии им. К. Симонова, А. Фадеева, Б. Полевого. Он действительный член Русского географического общества, Международной академии информации, Академии российской словесности. В.Д. Поволяев награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», Красной Звезды, 3 афганскими наградами.
В. КичинЧасть первая
Волки появились в синеющей вечерней темноте внезапно – произошло это в ту пору, которую знающие люди называют «между волком и собакой», все предметы на пятнадцать-двадцать минут теряют свои очертания, делаются размытыми, иногда вообще становятся невидимыми, подобраться к человеку в эти минуты вообще ничего не стоит и серые разбойники, наверное, это знают.
Дорога, которую Маурицы Беневский должен был одолеть от Братиславы до своего родного имения в Вербове, была неблизкой – более трехсот километров, деревни по пути встречались редко, поэтому звери и чувствовали себя так вольно на понравившихся им пространствах.
Стоял конец декабря, темнело рано, если днем небо было чистым и потрескивал от мороза снег, то вечером на нежном темном бархате обязательно зажигались яркие звезды, похожие на дорогие каменья – зеленые, голубые, оранжевые, слепяще белые, как бриллианты, к которым подносят свечу. Так и сегодня. Пестрый переливающийся полог завораживал, рождал в душе восторженный стон, и Маурицы откидывался назад, на спинку возка и любовался затейливой игрой цвета над головой.
Лошадь шла ходкой рысью, снег под копытами повизгивал, рождал в душе забытые чувства – Маурицы (или Морис, кому как нравится) ехал домой, в Вербово, к матери. Если повезет, то в имении может оказаться и отец, боевой генерал австрийской армии. Полк отца на зиму обычно отводили в Буду, военных действий с пруссаками, которые очень уж сильно досаждали австрийской короне, в холодные месяцы почти не было, и Маурицы рассчитывал увидеть отца.
Вдруг лошадь захрапела и, вскидывая голову, перешла на галоп – только снежная пыль взвихрилась за возком, звезды на небе побледнели разом, яркий свет их стал тихим, и Маурицы ощутил, как у него сильно и громко забилось сердце, отозвалось оглушающим стуком в висках, а в груди образовалась щемящая пустота.
Страха не было. Он приподнялся, глянул за спинку возка и невольно сжал зубы – по дороге наметом шли волки, целая стая, голов восемь, не меньше.
Маурицы поспешно отбросил полог, прикрывавший его ноги – в ногах стоял сундучок с добром, закупленным в Вене. Среди добра находились и два кремневых пистолета – по той поре лучше этих пистолетов еще ничего не было придумано.
Купил их Маурицы специально – знал, что в дальнюю дорогу в Вербово пускаться невооруженным опасно, сведующие люди предупредили об этом его венскую тетушку Матильду, ну а тетушка постаралась как следует собрать своего племянника в дорогу, денег – звонких талеров на это не пожалела.
– Стой, стой! – кричал лошади молодой словак-кучер, подрабатывающий извозом, но та не слушалась, неслись вперед, испуганно храпя и задрав голову. Хорошо, что хоть дорога не ускользала из-под копыт, вылетевший на обочину открытый возок запросто мог опрокинуться, и тогда хана придет всем – и лошади, и вознице, и вояжеру Маурицы Беневскому.
Ах, как хорошо, что были куплены пистолеты! Маурицы мог бы приобрести пистолеты попроще, одноствольные, подешевле, с тяжелыми рубчатыми рукоятями, но он взял пистолеты двухдульные, с калеными стволами, способными выдержать усиленный заряд, с рукоятками, к которым были привинчены деревянные щечки. Итого у него сейчас была целая батарея, он мог сделать четыре выстрела. А четыре выстрела – это четыре выстрела, волкам это вряд ли понравится.
Он снова приподнялся, глянул назад. Волки огибали возок подковой, по насту, отвердевшему на обочинах, шли они и слева и справа, легко, как по земле шли, не проваливались, из светящихся глаз их, кажется, сыпались искры.
Маурицы выхватил из сундучка один пистолет, положил рядом с собою, потом вынул второй, щелкнул курками.
Страха в нем по-прежнему не было, он словно бы исчез куда-то, хотя у Маурицы, конечно, бывали случаи, когда ему становилось боязно. Например, в католической семинарии аббатства Клостернойбург, – правда, тогда он был совсем маленьким. Впрочем, он и сейчас не такой уж и большой, если говорить откровенно. Отец ректор тогда посадил его на неделю в карцер за непослушание.
Ночью Маурицы увидел, как у его подстилки в карцере сидят две здоровые крысы и внимательно смотрят – что-то им не нравилось в человеке.
«Уж не людоеды ли?» – невольно подумал Маурицы, и ему сделалось страшно, даже мороз по коже побежал. Он поспешно поджал под себя ноги и прижался к холодной каменной стенке карцера. Впрочем, когда на следующий день, точнее, ночь, крысы появились снова, он отнесся к ним более спокойно – уже не боялся их, – перевернулся лицом к стенке и уснул.
А крысы, как известно, не трогают тех, кто их не боится.
Стая приближалась.
Впереди стаи шел крупный, серый, почти растворившийся в стремительно темнеющем вечернем пространстве волк с готовно распахнутой пастью – это был вожак. Главное – завалить вожака, остальные быстро присмиреют, может быть, даже отстанут, чтобы сожрать вожака. Таков закон стаи.
Маурицы прицелился в вожака, тот словно бы почувствовал, что дуло пистолета направлено на него, неожиданно подпрыгнул, срываясь с мушки, Маурицы вновь поймал его на мушку, но опытный вожак опять умело соскользнул с нее.
В это время нарисовался волк около самого возка – молодой, необтершийся, еще неопытный, жадный, Маурицы перевел ствол на него и спустил курок. Пятка собачки выбила из кремня длинную искру, хорошо видную в вечернем мраке, из ствола вымахнул клубок черного дыма, затем выплеснулся огонь.
Пуля попала волку в голову, просадила насквозь, зверь взвизгнул надорванно и ткнулся лбом в снег, перевернулся несколько раз и, быстро оплывая кровью, задергал лапами.
Несколько волков, шедших рядом с подбитым зверем, шарахнулись в сторону, двое круто развернулись и помчались назад. А волчий вожак продолжал скакать, в следующий миг он прыгнул на лошадь, впился зубами в шею.
Та заржа ла надрывно, замотала головой, пробуя сбросить с себя волка, но тот держался прочно – сильный был зверь. Возок остановился, словак слетел с облучка, схватил волка за уши, отрывая его от коня, Маурицы подскочил к нему, просипел севшим, забитым холодом голосом:
– Поберегись!
Сунул волку ствол пистолета в ухо и нажал на спусковой крючок.
Громыхнул выстрел. Волк с разможженной головой свалился под ноги лошади.
В возницу в ту же секунду вцепился другой волк, ухватил за край расшитого карпатского тулупчика, дернул на себя, возница что было силы ударил его кулаком, Маурицы добавил ногой – у волка только зубы лязгнули, но от человека он не оторвался, Маурицы добавил еще раз, потом перекинул пистолет, из которого стрелял, в другую руку, взвел курки на другом пистолете.
Волк знал, что такое оружие, как опасен металл, от которого исходит запах горелого пороха, взвизгнул по-собачьи, отпрыгнул в сторону и по твердому снегу откатился назад. Следом за ним откатилась и вся стая, уселась метрах в двадцати от возка на насте, голодно щелкая зубами.
Маурицы, держа пистолет наготове, подскочил к вознице, который все-таки очутился на снегу, подал ему руку:
– Вставай!
Возница, кряхтя, поднялся, выругался по-польски:
– Пся крэв!
Знакомый язык для Маурицы Беневского. Если в отце его намешаны разные крови, о которых отец только догадывается, но точно не знает, кто же конкретно оставил след в его родословной, то мать была чистокровной полячкой. Очень набожная, тихая, она почти все время пропадала в костеле, либо молилась в домашней церкви.
Рывком подняв возницу со снега, Маурицы спросил его:
– Ты поляк?
– Не! Словак…
– Ладно. Словак – это тоже хорошо, – Маурицы развернулся к волкам лицом и, держа перед собою пистолет, пошел на них. Волки зарычали, но с места не сдвинулись. Они глядели на человека и одновременно на вожака, подергивающего в агонии лапами, глядели и на второго волка, также предсмертно дергающегося – живучи были звери. Было понятно: пока волки их не съедят, не сгрызут пропитанный кровью снег – не уйдут.
Маурицы махнул пистолетом, отгоняя их, но волки не сдвинулись с места, лишь оскалили зубы. Из глоток их вырвалось хриплое рычание.
Возница обхаживал раненую лошадь, стирал тряпкой кровь с прокушенной шеи.
– Ну как? – окутавшись звонким паром, выкрикнул Маурицы.
– Надо быстрее уезжать отсюда, господин, – просипел в ответ возница, – иначе они сейчас будут нападать снова.
– Лошадь как?
– Терпимо. Волк не успел перегрызть ей горло.
Стая, расположившаяся позади возка, зашевелилась с глухим рычанием, в сгустившемся темном пространстве задвигались горящие огоньки: ночь навалилась буквально в несколько минут – рядом находились горы, они и диктовали дню, как и зиме, свои законы. Возница оглянулся на стаю.
– Уезжаем, уезжаем, господин, – заторопился он.
Маурицы прыгнул в возок, возница взмахнул кнутом и легкий, как пушинка санный экипаж с режущим снежным визгом понесся по дороге. Маурицы продолжал держать пистолет наготове.
Волчья стая разделилась надвое: одна часть кинулась на еще живого, дергающего лапами сородича, вторая взялась за вожака. Обе половины, не медля ни секунды, приступили к трапезе. Только клочья волос полетели в воздух, волки рычали и выплевывали целые куски кожи вместе с шерстью. Маурицы, перегнувшись через спинку возка, внимательно следил за ускользающей в темноту дорогой: не увяжется ли кто за ними вновь?
Нет, не увязались. Маурицы аккуратно спустил курки пистолета и положил рядом с собой на полог, второй пистолет, разряженный, сунул в сундучок – в ближайшей деревне его надо будет зарядить снова.
Если бы не пистолеты, они вряд ли бы так легко выпутались из этой передряги.
Через сорок минут впереди показалась нестройная цепочка огней, в воздухе запахло теплым хлебам. Маурицы схватился было за пистолет, но в следующее мгновение положил его на полог – впереди, в снегах, лежала большая деревня. И располагалась она очень недалеко. Сердце, забившееся вдруг громко и заполошно, стало биться тише и спокойнее.
Трудная дорога, – как и день нынешний, – осталась позади, в деревне им надо будет основательно отоспаться, подлечить лошадь, купить небольшой запас еды, чтобы было чем перекусить на коротких остановках, и утром двинуться дальше.
Остановились они в веселом месте – в корчме, где в пристройке имелась специальная комната для заезжих постояльцев, стоила комната недорого, Маурицы заплатил за ночевку и растянулся на кровати, покрытой чистым домотканым рядном. Раздеваться не хотелось.
Возница, подхватив деревянную бадейку с теплой водой и выстиранную тряпку, приготовленную на всякий случай еще на прошлой стоянке, побежал к лошади – надо было промыть рану и смазать ее заживляющей мазью, которую в родной деревне словака готовил глухонемой старик-знахарь, умевший одинаково успешно лечить и людей и зверей. Лекарем он был великим.
Маурицы потянуло в сон. В другой раз он успешно бы погрузился в мир безмятежных сновидений, но сейчас, прежде чем уснуть, решил зарядить разряженный в волков пистолет – в путешествии надо быть готовым ко всему, в том числе и на ночных стоянках: тут тоже могли водиться волки, двуногие.
Помотав головой ожесточенно – иначе сон было не прогнать, Маурицы достал из дорожного сундучка, обитого для прочности полосками металла, деревянную шкатулку, украшенную маленьким медным замочком. В ней хранились оружейные припасы – кожаный кисет, перетянутый шелковым шнурком, мешочек с продолговатыми свинцовыми пулями, пыжи и приспособления для зарядки – стоячок с плоской пяткой на конце, чтобы утрамбовывать войлок пыжей и складной шомпол.
Для зарядки пистолета ему понадобилось двадцать минут – голова была тяжелой, падала на грудь, глаза слипались – веки не разодрать, но Маурицы все-таки довел дело до конца, забил оба ствола порохом и пулями, заткнул заряды пыжами.
– У-уф-ф!
Едва он произнес это «у-уф-ф», как в комнате появился возница, подул на озябшие руки.
– Ну, как лошадь? – спросил Беневский.
– Ничего страшного, – возница снова подул на скрюченные посиневшие пальпы, – серьезно покусать волк не успел. Хотя…
– Что хотя? – Маурицы поднял голову.
– Бывает, волк залезает в хлев, где находится пятьдесят овец, одну-две зарежет сразу, остальных начинает рвать, кусать зубами – ни одной непокусанной не оставит, прежде чем уйти, – так из всех покусанных выживают одна-две овцы, не больше. Остальные погибают.
Маурицы удивленно наморщил лоб. Поинтересовался:
– У волков что, зубы ядовитые?
В ответ возница неопределенно покачал головой:
– Если бы я знал… Но этого, кроме Всевышнего, не знает, по-моему, никто.
Маурицы потянулся, вскинул над собой руки.
– Ну что? Пора спать.
– Мне как-то неудобно спать с вами в одной комнате, – тихо проговорил возница.
– Почему? Неудобно панталоны через голову надевать, – Маурицы рассмеялся. – А спать вдвоем в одной комнате – обычная вещь. Да и других комнат в корчме нет.
– Как правило, богатые вояжеры в одном помещении с кучерами стараются не ложиться. Вояжер отдельно, возница отдельно – только так.
– Все мы рождены, сударь, одной землей и в одну землю уйдем, – рассудительно проговорил Маурицы, – и живем под одним небом. И никто из нас ни богатства своего, ни знатности, ни титула графского не возьмет туда с собой – все останется здесь. Так что чего раздувать щеки и пыжиться? Это грех. Ложитесь спать и ни о чем не думайте.
– Ночью еще надобно будет пару раз выйти на улицу, – голос возницы сделался виноватым, – посмотреть, как ведет себя раненая лошадь…
– Ради Бога, сударь. Раз надо – значит, надо. А с лошадью все будет в порядке. В этом я уверен. Не тревожьтесь.
– Вдруг волк бешеный?
– Бешеные волки бывают только в сказках, по-моему. В жизни ни разу не встречал такого. Собаки – да, эти бывают, лисы бывают, а волки – нет.
Задумчивая тень проскользила по лицу возницы.
– И я, если честно, не встречал, – пробормотал он со вздохом. Ему хотелось верить в это. А с другой стороны, вдруг люди ошибаются? – Хотя старики говорили, что в Карпатах им такие волки попадались.
Маурицы сунул под подушку один из пистолетов, сбросил с себя сапоги и, улегшись набок, быстро уснул – приключении на нынешний день было более, чем достаточно.
Утро занялось розовое, бодрое, в ровном, без единого облачка, небе безмятежно плавало сливочное, похожее на свежую головку сыра, солнышко.
За окнами корчмы звонко галдели воробьи.
Открыв глаза, Маурицы с удовольствием потянулся, вытащил из-под подушки пистолет, положил его в сундучок, под ключ.
Возницы на соседней кровати не было – явно находился возле лошади. Кровать возницы была тщательно застелена.
Ждать себя возница не заставил – возник в проеме двери, поклонился, стянув с головы шапку.
– Ну как там лошадь?
– Хорошие все-таки мази делает у нас в деревне дед Атилла. Лошадь в порядке. Можно двигаться дальше.
– Вот это добрая новость. Чего еще слышно?
– На кухне корчмы нам готовят завтрак.
– Это тоже неплохая новость, – Маурицы вздернул над собой руки, сжал и разжал кулаки, сжал и разжал. – Самое время заесть добрый сон шкворчащей яичницей с салом.
Он соскочил на пол, сделал несколько резких приседаний. Присел – поднялся.
– Что это вы делаете, сударь? – поинтересовался возница.
– Гимнастику. Штука очень полезная не только для тела, но и для души.
Через полтора часа они покинули деревню – отсюда прямая дорога вела в самое Вербово, в имение Беневских.
Как-то его встретят там? Мать, конечно, будет недовольна, когда узнает, что он сбежал из семинарии, а отец… Дай Бог, чтобы отец находился не у себя в полку, а в имении. Если он находится в Вербово, то обязательно поддержит сына. В этом Маурицы Беневский был уверен совершенно.
Половину своей жизни отец провел в войнах, дома не бывал месяцами, и мать, задумчивая бледная паненка, за эти годы здорово подурнела, состарилась и все чаще и чаще стала уединяться в молельне.
Когда сыну исполнилось двенадцать лет (произошло это два с половиной года назад), она пригласила его к себе, приняла в отцовском кабинете, чопорная, прямая, одетая в строгое серое платье без всяких украшений, поджав губы, оглядела его с головы до ног и произнесла неожиданно надменным, каким-то чужим голосом, на «вы»:
– Вам надлежит ехать в Вену, в монастырь…
– Зачем? – удивленно поинтересовался Маурицы.
– Учиться в семинарии.
– Но образование можно получить и здесь, дорогая мама.
– Я дала такое обещание нашему священнику. Здесь получить хорошее образование невозможно. Вы же не хотите, имея дворянское звание, заниматься делами на конюшне?
Маурицы отрицательно мотнул головой:
– Не хочу.
– Тогда собирайтесь, сын мой, в дорогу.
Говорила она, как местный пастор, назидательным тоном, и голос у нее был назидательным, поучающим, и взгляд – такой же, и два сомкнутых, поднятых вверх пальца. Маурицы узнавал и одновременно не узнавал свою мать.
Через два дня он уже сидел в тарантасе, направлявшемся в далекую Вену, где в аббатстве Клостернойбург располагалась семинария святого Сульпиция. В этой семинарии Маурицы и предстояло учиться.
Учился он превосходно, не было наук, по которым он не получал бы «отлично», успел стать любимым учеником отца ректора, а вот секретарь ректора отец Луиджи Лианозо примерного ученика невзлюбил совершенно откровенно, иногда даже специально ловил его на мелочах.
В библиотеке семинарии Маурицы случайно познакомился с книгами, которые были запрещены в аббатстве, и стал подумывать о воле – слишком тесными были стены, в которых он находился, да и понимал Беневский, что священник из него получится никудышний.
Лучше уж быть хорошим солдатом или портным… впрочем, тьфу-тьфу-тьфу, портным он тоже не хотел бы быть, – чем плохим священником.
Он бежал из семинарии.
Хорошо, что Вена – город большой, полно каменных, совершенно неприступных углов, где можно спрятаться. Маурицы спрятался у тетушки Матильды, старой девы с добродушным характером и остроконечным красным носом, похожим на большой вороний клюв, – тетушка любила разные наливки и не отказывала себе в удовольствии пропустить пару-тройку стопок.
Отвалявшись полторы недели у тетушки Матильды, Маурицы высунулся на улицу – а не ищут ли его венские полицейские и отцы ключари из аббатства Клостернойбург?
Его не искали – потратили поначалу на это пару дней, а потом плюнули: ну разве можно найти беглеца в многолюдной Вене, это все равно что отыскать портняжную иголку в стоге соломы, годы потратишь и не найдешь.
Тетка снабдила Маурицы деньгами – отдала ему едва ли не последние, – и уже на следующий день тот купил себе недорого и камзол, зимнюю шапку и длинную куртку, подбитую заячьим мехом, а также высокие зимние сапоги. Следом приобрел дорожный сундучок и пистолеты с пороховым припасом и кульком пуль, приобрел и шкатулку, где эти припасы можно было схоронить.
– В Вене мне, тетушка, нельзя оставаться ни одной минуты, – объявил он в гостепреимном доме Матильды, – я должен уехать в Вербово.
В ответ тетушка Матильда вздохнула – когда она была маленькая, ее вывозили в Вербово каждое лето. Это была счастливая пора. Счастливой она была еще и потому, что она влюбилась в мальчика из соседнего поместья – живого ангела, у которого по недоразумению не выросли крылья.
С годами ангел превратился в щеголеватого юношу с лошадиным лицом, украшенным прыщами, и подскакивающей журавлиной походкой – детская привлекательность развеялась, как дым, осталась лишь неопрятная оболочка.
Молодая особа, – странное дело, но тетушка Матильда когда-то была таковой, – только хваталась руками за голову да стонала беспрерывно:
– Это ужасно… Это ужасно…
Да, это действительно было ужасно. Но не более того. Тетушка Матильда не заметила совершенно, как преобразилась она сама.
Племянника тетушка любила… Хорошо, на венских воротах, на въезде и выезде, не проверяли документов, и беглый семинарист Маурицы Беневский почти беспрепятственно покинул город.
И вот сейчас он, после различных дорожных приключений, держа в ногах сундучок с заряженными пистолетами, потихоньку приближался к родному Вербово.
Каникулы в Вербово продолжались недолго. Было хорошо, что в усадьбе находился отец, он одобрил действия Маурицы, налил по этому поводу стопочку сливовой палинки, протянул сыну с одобрительной речью:
– Можешь выпить. После тяжелой дороги это еще никому не помешало, даже пятилетнему ребенку, – настроен отец был благодушно, и у Маурицы отлегло от сердца: отец станет ему защитой. Маурицы опасался взбучки матери. А взбучка эта могла быть серьезной.
Отецо кинул взглядом фигуру Маурицы, остался доволен.
– Подрос, здорово подрос, – пророкотал он командирским басом, – взрослым стал. Я напишу рекомендательное письмо в Вену, в офицерскую артиллерийскую школу, будешь учиться там. Согласен?
Маурицы готовно наклонил голову:
– Согласен.
Мать решением отца осталась недовольна, но поделать ничего не смогла: отец был главою семьи, его слово считалось законом, и как только мать замечала, что на щеках мужа появляются неровные красные пятна, немедленно закрывала рот на замок и прекращала все споры. Впадая в гнев, муж мог не только ее побить, но и разрушить половину имения.
Тем же вечером отец написал письмо в Вену, а еще через пять дней Маурицы уселся в почтовый возок, идущий на запад. Был он хмур, держался просто и скромно, слугам, которые вышли его проводить, пожал руки, те удивленно переглянулись: никогда не было, чтобы хозяева-дворяне «ручкались» с холопами – хозяева всегда держали дистанцию, и дистанция эта была приличной.
Маурицы натянул на ноги брезентовый полог с подшитым снизу собачьим мехом, и возок выехал с просторного заснеженного двора.
Погода в Вене была совсем не такая, как в Вербове – столица Австро-Венгерской империи располагалась много южнее, здесь и птицы водились другие, и деревья росли не те, что на карпатских отрогах, и небо было выше, и сливочный, плавящийся от собственного жара кругляш солнца был больше, и камни на мостовых имели совсем другой цвет и запах, чем в провинции – тут все было иное.
В офицерской школе Маурицы Беневского приняли как своего – имя его отца было здесь хорошо известно.
Прошло совсем немного времени и Маурицы надел на себя красно-синий форменный мундир. Учеба давалась ему легко. Так же легко, как и в семинарии, память у парня была молодой, цепкой, сидеть за книгами он любил, хуже дело обстояло, когда нужно было заниматься шагистикой и строевыми дисциплинами, но Маурицы одолел и это.
В Европе тем временем вновь запахло войной: прусский король Фридрих Второй решил, что ему должны подчиняться земли, примыкающие не только к Балтике, но и те, на которых живут французы и испанцы, итальянцы и болгары, – губа у короля была, как видите, не дура, и начал он с территорий привычных – с Австро-Венгрии, а точнее, с ее соседки и союзницы Саксонии – и очень скоро очутился у границ лакомого куска – самой Австро-Венгрии.
Попытку подчинить ее себе Фридрих делал не в первый раз, совершал набеги и раньше, но ничего путного из этих набегов не получалось.
Первого октября 1756 года он вступил в бой с австрийцами у города Лободиц. Немногочисленная саксонская армия подняла руки вверх и сдала прусакам Пирну – превосходно укрепленную крепость.
На роскошных венских улицах один за другим начали гаснуть фонари – жители города пребывали в печали. Некоторые маловеры загибали на руках пальцы и говорили, что если со своей помощью не подоспеют русские и французы, то венцам придется учить прусские племенные диалекты, либо разговаривать на языке глухонемых.
До выпуска из офицерской школы оставалось еще полгода, но Маурицы Беневский решил поторопить события – написал прошение, чтобы ему разрешили досрочно сдать экзамены на получение аттестата артиллерийского офицера.
Вместе с Маурицы такие бумаги подали начальнику школы еще несколько человек.
Экзамены Маурицы сдал с блеском, ему был присвоен чин поручика императорской армии.
С новенькими парадными эполетами на плечах свежеиспеченный поручик отбыл по месту службы или, как было принято говорить тогда, в «театр военных действий».
На дворе стояла весна 1757 года.
А в октябре 1758 года в жестоком бою у деревни Гохкирхен поручик Беневский был ранен, пуля, выпущенная из тяжелого мушкета, попала ему в левую ногу и перебила кость.
Для того чтобы вылечить рану и прийти в себя, нужно было отправляться в тыл, иного пути не существовало.
В палатку к раненому поручику пришел сам командир корпуса генерал Гедеон Эрнет Лаудон, усталый, с потемневшим от забот лицом, но довольный – солдаты корпуса чуть не взяли в плен воинственного прусского короля, Фридрих был вынужден удирать от них на простой лошади, отнятой у ординарца.
– Буду ждать вас в корпусе, поручик, – сказал он Беневскому, – вы мне стали дороги, как сын. Да и батюшку вашего я знаю хорошо. На всякий случай держите вот что, – он передал Беневскому бархатный конверт, – это письмо с просьбой, чтобы вас не оставляли без внимания…
Лежавший на походной койке Маурицы лишь слабо улыбнулся в знак благодарности – он страдал от боли, а боль в перебитой ноге была нестерпимой, – еще он страдал от холода…
Вербово встретило его вороньим карканьем, почерневшей осенней листвой, плотным толстым одеялом, лежавшим на земле, и мелкими противными дождями, вгоняющими в сон.
Но спать Маурицы как раз не мог – из-за затяжной ноющей боли, в рану что-то попало, заживала она трудно, Маурицы начал ходить, но очень быстро уставал, покрывался потом и что плохо – сильно хромал. Левая нога у него при ходьбе словно бы подворачивалась под тело.
Похоже, дело складывается так, что ему вряд ли удастся вернуться в образцовый корпус генерала Лаудона – хромые артиллеристы там не нужны. Да и в других корпусах тоже не нужны – в императорской армии не должно быть хромых людей. Обстоятельство это приводило Маурицы в уныние.
Зимой, в феврале, выдавшемся в том году неожиданно вьюжным, резким, с ветрами, валившими с ног не только людей, но и лошадей, Маурицы получил письмо от своего дяди – брата матери, богатого человека, владевшего в Венгрии обширными угодьями – лесами и полями, большим домом, в котором даже водились привидения – старинное было то строение.
Дядя писал, что стал стар, иногда неделями не встает с постели – допекают хвори, но не это беспокоит его – беспокоят сыновья, два выросших под потолок великовозрастных лентяя, которые только и знают, что пить литрами черешневую палинку, да задирать юбки молочницам, работающим в имении.
«Маурицы, приезжай, если есть такая возможность, очень прощу тебя. Может быть, ты сумеешь подействовать на этих ленивых недорослей, образумишь их. Моты они невероятные, нравом – настоящие необъзженные жеребцы, все богатство мое, нажитое с таким трудом, могут пустить по ветру за пару месяцев. Я этого боюсь», – писал дядя.
Получив письмо, Маурицы только посмеялся над своими родственниками, доводившимися ему двоюродными братьями, да головой покачал – ехать к дяде ему не хотелось.
Но через два месяца дядя прислал ему новое письмо, полное умоляющих слов. «Маурицы, прошу тебя, выберись ко мне хотя бы на неделю, помоги навести порядок. Моих недорослей уже три недели нет дома, где они пьянствуют, я не знаю. Умру ведь – и ни один из них не появится, чтобы проводить меня на кладбище. Никогда не думал, что окажусь в таком положении. Маурицы, приезжай!»
Делать было нечего, Беневский быстро собрал дорожный саквояж и поехал в Венгрию, к дяде.
Дядя встретил его у ворот имения и, обняв, заплакал – не выдержали нервы. Слезы лились у него по лицу ручьем, не останавливаясь, Маурицы растерянно смотрел на дядю, переминался с ноги на ногу, подсоблял себе палочкой, поскольку левая нога по-прежнему плохо работала, и не знал, что ему делать. И с одного бока подходил к дяде, и с другого – бесполезно было. Тот продолжал плакать.
Маурицы огляделся: не появятся ли где непутевые недоросли? Никого, кроме слуг, не увидел. Спросил:
– Где же они? Опять их нет?
Дядя вместо ответа проглотил очередной взрыд, вытащил из камзола платок и трубно высморкался в него.
– Дома они так и не появились, – сказал, голос его был наполнен слезами, дрожал, – больше месяца где-то болтаются. Где, в каких пенатах рисуют чертей на стенах – не знаю, – старик вздохнул, свернул платок квадратом и сунул назад, в камзол. – Пошли, Морис, в дом, – наконец произнес он.
Звал дядя племянника, как и многие в мире, Морисом, на модный французский лад, Маурицы не возражал – пусть люди зовут как хотят, только вместо ядра в пушечный ствол не заталкивают, – пошел следом за дядей к дому с гостеприимно распахнутой парадной дверью.
Вечером, за ужином, старик, хлебнув черешневой настойки, заплакал вновь, потом, промокнув глаза накрахмаленной жесткой салфеткой, сказал:
– Я чувствую, что скоро умру. Все, что я оставлю своим непутевым отпрыскам – землю, дом, усадьбу, хозяйственные постройки, людей, они за несколько месяцев спустят, ничего не останется, даже доброй памяти обо мне, – дядя всхлипнул горько, обреченно махнул вялой рукой и опять приложил к глазам салфетку.
Маурицы налил ему в хрустальный фужер холодной грушевой воды, дядя отпил несколько глотков и, немного придя в себя, продолжил дрожащим голосом:
– Назавтра я вызвал к себе нотариуса, священника, управляющего имением и двух соседей, с чьими землями граничат мои угодья.
– Зачем?
Вздохнув сыро, дядя поднял указательный палец.
– Затем, что я хочу завещать все свое имущество тебе, дорогой племянник, а не сыновьям.
Это было так неожиданно, что Маурицы даже вскочил со стула:
– Нет, нет и еще раз нет! – вскричал он громко.
– Да, да и еще раз да, – окончательно успокаиваясь, произнес дядя и потянулся за изящным, но очень вместительным графинчиком, в котором плескалась настойка.
Настойки оставалось в графине немного, и дядя щелкнул пальцами, подзывая к себе дворецкого.
Тот возник из пространства неслышно, молчаливый, как тень. Дядя показал ему опустевший графинчик. Молчаливая тень, как оказалось, имела язык.
– Какой настойки изволите? – низким густым басом спросил дворецкий.
– Давай-ка отпробуем абрикосовой палинки, – сказал дядюшка.
На следующее утро дядюшка поднялся с постели хотя и помятый – в этом возрасте даже наперсток палинки оставляет отпечаток на лице, – но бодрый, по-молодому подвижный.
– Сегодня у нас торжественный день, Морис, – сказал он, – сегодня мы будем подписывать завещание.
Беневский хотел было вновь запротестовать, пуститься в объяснения, но промолчал – отличное настроение, в котором сейчас пребывал дядюшка, не хотелось омрачать отказом.
Вернулся Маурицы в Вербово с дядюшкиным завещанием в дорожном сундучке. Братья, залегшие где-то в пьяном сытом тепле, в имении так и не появились, но зато через месяц с небольшим, когда скончался их отец, – он чувствовал свою смерть, иначе бы не завел разговор о завещании, – возникли с готовно распахнутыми ртами. Когда им объявили о последней воле покойного, о том, что имение принадлежит уже не им, теперь у него новый хозяин, взъярились так, что начали рвать на себе одежду. Отдышавшись, подобрали с земли оторванные пуговицы и помчались в суд.
Через месяц управляющий прислал в Вербово слезное письмо, где рассказывал о проделках молодых мотов: часть имения те уже продали, крестьян притесняют, а иногда вообще безбожно грабят, деревню их зажиточную вообще грозятся спалить – в общем, не братья, не наследники, а разбойники с большой дороги.
Хоть и не хотелось возвращаться в имение дядюшки, а возвращаться надо было – иного пути у Маурицы не существовало. Иначе ему не было дано выполнить волю мертвого человека.
Он собрался и вновь отправился в Венгрию. Управляющий имением встретил едва ли не слезным ревом.
– Вчера вечером братья бегали по деревне с мушкетами, – сообщил он, – грозились расстрелять тех, кто вас признает и станет поддерживать.
– Что было потом? – спокойно спросил Беневский.
– Потом они напились и улеглись спать.
– Где они сейчас?
– Спят. В большом зале, где обычно накрывают стол для больших обедов.
– Возьмите четырех человек и пошли со мной.
Управляющий исполнил просьбу Маурицы молниеносно.
Братья спали в большом зале на полу, на ковре, облепленные мухами. Храп, вырывавшийся из их глоток, был способен вышибить в доме стекла. Маурицы усмехнулся.
– К центральной двери подгоните телегу, – приказал он. Приказание это также было выполнено молниеносно.
Братьев, так и не пришедших в себя, не проснувшихся, погрузили в телегу и вывезли в чистое поле, туда, где кончались границы земли, подаренной дядюшкой Маурицы Беневскому.
Часа через полтора братья, протрезвившиеся от холодной сырости, не понимающие, что с ними произошло, пешком притопали в имение, испачканные грязью, в исподнем, озелененном прошлогодней травой. Кричали, ругались, матерились страшно, от криков их даже вороны поснимались с деревенских деревьев и улетели в лес.
Поскольку находиться в исподнем было неприлично, в деревне были и женщины и дети, Маурицы приказал выбросить в окно одежду братьев: пусть прикроют свой срам. Братья, продолжая оглашать криками округу, поспешно натянули одежду на себя, попробовали вломиться в дом через парадный вход, но этот номер у них не прошел – молодых разбойников быстро и ловко вышибли из дома. И драка, которую они пытались устроить, тоже не получилась, братьев отогнали от имения кнутами.
Потрясая кулаками, плюясь, они покинули деревню и зашагали в сторону тракта, ведущего в Вену.
Через некоторое время они появились в столице Австро-Венгерской империи, в приемной канцлера – хотели пробиться к нему. Шансов у них было мало, но недаром бытовала пословица, имевшая одинаково распространенное хождение и в России, и в Европе, «Дуракам везет», – дуракам действительно повезло, они не только пробились к канцлеру, но и сумели убедить его в том, что Беневский действовал, как бандит из подземелья, подделал завещание отца и попытался присвоить себе дорогое имение.
То ли канцлер оказался простачком, то ли кто-то помог братьям – не бесплатно, естественно, – из высокого кабинета они вышли с бумагой, предписывающей властям, на земле которых находилось отцовское поместье, незамедлительно вернуть имение единоутробным забулдыгам, а Маурицы Беневского арестовать и засунуть в каталажку.
Положение сложилось хуже некуда – Беневскому надо было спасаться. Ни в Вербово, ни в корпус генерала Лаудона возвращаться было нельзя – это все равно, что добровольно протянуть руки, чтобы на них нацепили кандалы.
Поскольку у Беневского с собою находилось рекомендательное письмо Лаудона, лучше всего сейчас было пробираться на север, в Лифляндию, в имение генерала, а там уж, оглядевшись основательно, принимать решение по части своих дальнейших действий.
Денег у Маурицы почти не было, он пустился в дорогу налегке, не успев даже толком собраться – слишком встревожило его письмо управляющего. Поступил Маурицы, конечно, легкомысленно, а сейчас, когда он очутился в опасности, за легкомысленность надо было расплачиваться. Он понимал, что за ним уже едут стражники, очутиться в их руках Маурицы никак не хотел, поэтому поспешно покинул дядюшкино имение.
В результате оказался без денег, без запасов одежды и еды. В чистом поле.
Пробираясь на север, Маурицы ночевал уже не на постоялых дворах, не в пансионатах с мягкими широкими постелями, а в обычных крестьянских хатах, не всегда обихоженных и чистых, на сеновалах, в ригах, иногда даже под раскидистыми кустами, в пути повидал много разных людей, в основном, простых и сделал для себя неожиданное открытие: душа у простого народа много чище, лучше, честнее, чем у людей так называемых благородных, наделенных дворянскими титулами, не всегда соответствующими сути их владельцев, и начал все чаще и чаще задумываться: а почему же мир устроен так несправедливо?
Одним, не заслуживающим за их деяния даже обычного доброго слова, дадено все, а другим, одаренным и нужным для общества, не дано ничего. Странно все-таки устроен мир, он не должен быть таким…
Бедняки делились с Беневским вареной картошкой и огурцами, хлебом и печеной на костре репой, богатые, к классу которых принадлежал сам Беневский, не делились ничем, более того, относились к нему, как к нищему изгою – высокомерно, с презрением, едва скрываемым в глазах и в снисходительных улыбках.
Было над чем задуматься бывшему поручику доблестной императорской армии. Вспомнились уроки доброты, которые он получал в семинарии Святого Сульпиция, книги, что доводилось там читать, и хотя Маурицы не любил отца-секретаря семинарии, пытавшегося засунуть свой нос куда надо и куда не надо – во все места сразу, словом, – к другим педагогам он относился хорошо.
Особенно к отцу-ректору, обладавшему большими знаниями и имевшему доброе лицо.
Беневский пристроился к богомольцам, идущим длинной вереницей в Ченстохово, так было проще спрятаться от стражников.
Много передумал, перебрал в своей голове Маурицы, пока продвигался пешком на север. В одном месте, в селении, он даже заработал серебряную монету, читая молитвы у гроба, в котором лежал нестарый еще мужик, уложенный в деревянный ящик взбесившейся лошадью.
Очень многое понял Беневский, держа эту монетку в руке. Как многое понял и в жизни простых людей, научился распознавать их характеры, понял, насколько народ этот надежен – в пути довелось одолеть не менее трех десятков строгих кордонов, где стражники могли даже раздевать богомольцев, очень цепко ощупывали глазами ряды паломников, но ни разу не засекли Беневского, хотя нетрудно догадаться – портрет его, словесное описание внешности, приметы были разосланы по всей Австро-Венгрии, по всем постам. И чудом было то, что Беневский все посты эти миновал благополучно.
До Ченстоховского монастыря он шел несколько дней и вместе со всеми очутился за толстыми крепостными стенами, внутри просторной обители.
Стоял монастырь, прочно впаявшись в плоть высокой горы под названием Ясная, будто крепость, виден был далеко, стены его были сплошь в выщербинах, в ломинах и вмятинах – следах таранов, а среди кирпичей выделялись своей неопрятной ржавью застрявшие пушечные ядра.
Вид этих ядер невольно рождал в душе опасный холодок. Выйдя за ворота – интересно было, – Беневский приблизился к одному из них, всадившемуся в стену уже на излете, ослабшему, но все равно застрявшему прочно, колупнул пальцем и сочувственно покачал головой, словно бы жалея людей, когда-то защищавших эти стены: у монастыря была богатая боевая биография, на веку своем он повидал много.
Маурицы вздохнул и, обойдя двух монахов былинного сложения, в черных рясах, вновь очутился на монастырском дворе.
В монастыре хранилась икона Божией матери, державшей на руках младенца Иисуса, слава об этой иконе распространилась по доброй половине Европы, она была чудотворной, помогала бороться с недугами, исцеляла хвори и хотя, как знал Беневский, в католических монастырях, в костелах икон, писаных маслом, было мало, в основном преобладали скульптурные изображения, главной же святыней Ченстоховского монастыря была написанная маслом икона Божией Матери.
К иконе, к светлым ликам ее, совершенно не замутненным временем, стояла длинная очередь: люди шли, шли, шли к ней. Поток был нескончаемым.
Беневский тоже подошел к иконе, потянулся к ней, поцеловал пахнущий лаком угол – икону недавно покрыли свежим лаковым слоем, – попросил прощения. За свое прошлое, за ошибки юности, за то, что сбежал из семинарии, за грехи свои – за все, в общем, что совсем недавно было его жизнью.
А жизнь продолжалась.
Надо было как можно быстрее покинуть пределы империи. Он поклонился гостеприимному Ченстоховскому монастырю, дюжим монахам Паулинского ордена, Ясной горе, вздымающейся под самые облака, на земляных проплешинах которой призывно зеленела нежная весенняя трава.
В ушах свистел ветер, бодро покрикивали озабоченные весенними хлопотами птахи, были слышны завораживающие, какие-то журчащие жавороночьи песни.
Он поспешно двинулся с Ясной горы вниз.
Около одного из зажиточных сел, снабжавшего продуктами целые города, Маурицы прихватила гроза, небо, разломленное на несколько частей сильным ударом грома, развалилось, в прореху полился сильный дождь. В несколько минут Маурицы вымок до нитки. Другой бы огорчился невероятно, а Беневский стоял в открытом поле под частыми струями дождя и только посмеивался. С него текло, как с ближайшего грозового облака, стоптанные башмаки потеряли форму, расползлись, а ему хоть бы хны… Маурицы было весело.
Словно бы и не скручивали его в дугу разные житейские тяжести, словно бы и не допекала рана на левой ноге – он хромал сильнее обычного, словно бы и не было кровоточащего пореза в душе – он никак не мог оправиться от несправедливости, допущенной по отношению к нему.
А ведь он и не очень-то хотел заниматься дядюшкиным наследством. От такого наследства легко заболеть и начать кашлять кровью.
По дождю, по вспененным лужам, по мокрой траве Маурицы дошел до околицы деревни, на которой располагалась деревенская кузница. Кузнец сидел на чурбаке, посасывал небольшую глиняную трубочку, заправленную крепким табаком-самосадом, и слушал человека в матросской косынке, сидевшего напротив него.
А человек в косынке рассказывал кузнецу о море. Лицо его показалось Беневскому знакомым. Где-то они встречались, вот только где именно – Маурицы вспомнить не мог.
– Пробовал я работать на берегу, отсидеться от дел морских около юбки своей любимой жены – ничего не получилось… Море – это ведь как болезнь, заболеваешь им и никуда не можешь деться, спрятаться, и лекарств от болезни сей нет, только одно способно помочь – вновь уйти в море.
Маурицы вслушивался в голос этого человека – голос тоже был знакам ему, даже более, чем знаком, – вот только кто этот человек? Где они встречались?
– Сходишь в море, вернешься, успокоенный, на берег, а через некоторое время, через полгода-год вновь начинается старое, нападают приступы тоски… Они как волки, душу грызут до крови, – моряк вздохнул, стянул с головы косынку, чтобы перевязать ее – слишком ослабла, и Маурицы понял, кто это… Упоминание о волках помогло.
Это был возница, с которым они на зимней дороге отбивались от прытких серых хищников. Беневский подошел к моряку, тронул пальцами за плечо.
– Узнаешь меня?
Моряк прищурил один глаз, потом второй, в следующий миг всплеснул руками:
– Господи, это вы?
– Я, – Маурицы утверждающе наклонил голову, и когда моряк поднялся с чурбака, крепко обнял его. – Вот неожиданная встреча!
Такие встречи на пустом месте не возникают, у них есть матерь – судьба человеческая, они бывают, как правило, рождены провидением. Судьба подавала Маурицы свой знак.
До Лифляндии он не дошел. Остался на лето работать у кузнеца. Вместе с возницей-моряком. Работы у кузнеца было много, подручных своих он не обижал, платил исправно, они ему отплачивали, скажем так, верностью: могли уйти летом, в середине, в горячую пору, но ушли осенью, когда деревья покрылись ярким багрянцем, а в воздухе беззвучно заскользили длинные серебряные нити паутины, придающие всякой осени особую печальную нарядность.
Пешком они дошли до тихого польского города Серадзи, несмотря на тихость свою, воинственно ощетинившегося острыми шпилями костелов, украшенными католическими крестами, на берегу Варты им удалось за небольшую плату устроиться на суденышко, неспешно плетущееся по реке, они поплыли на нем вниз, через несколько дней покинули борт и далее продолжили путь пешком.
– Как нога, Морис? – иногда спрашивал моряк озабоченным тоном, и Маурицы в ответ делал знак рукой, словно бы отрезал что-то в себе самом.
– Держится нога, еще не оторвалась, – произносил он негромко, и они шли дальше.
Двое суток им понадобилось, чтобы дойти до Добжиня, стоявшего на берегу Вислы, там они также устроились пассажирами на судно, отправляющееся на север.
Через неделю прибыли в сытый, добротно отстроенный город Кролевец, полный костелов, доходных домов, рестораций, магазинов, булочных, источающих манящий хлебный дух, и дворцов. Город оберегали несколько объединенных друг с другом крепостей, возведенных из темного, хорошо прокаленного кирпича.
Город рассекала на две части медлительная, всклень наполненная водой река Преголя. По обоим берегам Преголи стояли мальчишки и диковинными снастями, которые Маурицы никогда ранее не видел, выдергивали из вяло текущей воды змей. Маурицы даже плечами передернул: надо же, какая опасная река Преголя! Змеи в ней размножаются, как мухи.
Велико же было его удивление, когда на набережной, недалеко от городского собора он увидел маленький базарчик, где этими змеями, еще живыми, торговали. Торговля шла бойко.
– А что, разве змей едят? – недоверчиво спросил Беневский у продавца самого большого лотка, установленного на двух скамейках.
– Еще как, – ответил тот готовно, – только за ушами вкусный хруст стоит.
– Но это же змеи!
– Отнюдь, господин… Это не змеи, а очень благородная рыба – угри.
– И что с угрями делают? Жарят, варят, парят?
– Еще солят. И коптят. В любом виде эта рыба очень вкусная. Деликатес! – торговец в восхищенном жесте вздернул вверх большой палец.
Маурицы недоверчиво покачал головой, опасливо обошел лоток стороной и приблизился к темной спокойной воде Преголи. Вода хоть и была темной, но чистая, в глубине виднелись круглые коричневые горбы – крупные камни, занесенные илом, Беневскому показалось, что он и в прозрачной угольной глуби видит извивающихся змей…
– Ты видел еще где-нибудь такое? – спросил он у своего спутника.
Тот отрицательно покачал головой.
– Нет. Но в странах, где едят змей, я бывал. Например, в Индии.
– Об Индии я только слышал, – с грустью заметил Маурицы. – А побывать хотелось бы.
– Предлагаю наняться на корабль и поплыть в Индию.
– Наняться? Кем? Молотобойцем? – Маурицы демонстративно ощупал пальцами бицепс на правой руке – за лето он здорово окреп. – Старшим помощником младшего матроса?
Его спутник весело рассмеялся.
– Ремесло матроса – несложное. Его можно изучить за полторы недели. Зато впереди – все моря и океаны, жаркие страны и неведомые земли.
– Хороша истина, да не каждому дано ее постичь, – глубокомысленно заметил Беневский, – и уж тем более – потрогать руками.
– И все же это лучше, чем визит в имение к неведомым людям. Кто знает, что вас, господин хороший, ждет в имении генерала Лоудена…
– Что-то слишком уж важно ты начал меня величать – «господин хороший»! – Беневский не выдержал, усмехнулся.
В ответ последовал примирительный взмах рукой.
– А! Я бы не стал разбивать башмаки на дрянной дороге, ведущей в генеральскую усадьбу, и нанялся бы на корабль.
– Мысль хорошая… – начал Маурицы и умолк: а ведь это действительно неплохая мысль, только ее надо, пожалуй, основательно обмозговать, а уж потом принимать решение.
Размышлял Беневский недолго. Поселился в дешевом отеле, построенном на берегу одного из рукавов Преголи, очень небольшом, никак не способном украсить остров Кнайпхоф, расположенный в центре города, где располагались и университет, и ратуша, и кафедральный собор, в деталях пообдумывал свое житье-бытье и через сутки с небольшим, вечером, отправился в гавань, в матросский кабачок, где, как он знал, должен проводить время с кружкой пива в обнимку его попутчик.
Тот действительно находился в кабачке. В воздухе плавал густой сизый дым, гремели голоса, пахло жареным мясом. Маурицы в полумраке не сразу нашел своего спутника, а когда нашел, то подивился его мрачному лицу и потухшим глазам.
– Ты чего? – спросил. – Что-то ты мне не нравишься. Случилось чего-нибудь?
– Ничего не случилось. Просто я думаю о своих. Давно у них не был. Как там мои старики, мать с отцом? Сегодня во сне отца видел – стоит передо мною во весь рост, улыбается, но ничего не говорит. Даже на вопросы не отвечает. Вот думаю, не стряслась ли с ним какая-нибудь беда?
– Я тоже часто вижу во сне отца, но это совершенно ничего не значит.
В ответ раздался глубокий вздох.
– Дай Бог, чтобы ничего не стряслось.
– Ты знаешь, зачем я пришел?
– Догадываюсь. Я даже присмотрел для нас корабль.
– Молодец! – не удержался от восхищенного возгласа Маурицы. – Ой, молодец!
– Можем хоть сейчас пойти к капитану и заключить с ним контракт. Он ждет нас.
– Не будем спешить, нанесем визит к капитану завтра утром, – Маурицы звонко щелкнул пальцами, подзывая к себе проворного скуластого паренька в красном переднике, разносившего по столам кружки с пивом. Паренек немедленно устремился к нему. – Четыре пива, – заказал Маурицы, – четыре жбана. – Опустился на деревянную лавку, до блеска отполированную грубыми матросскими штанами.
Парусный корабль, который присмотрел спутник Маурицы, был большим, тяжелым, тихоходным, с грузно провисшими скатанными парусами и косой кормой, с которой было удобно сбрасывать в воду рыболовецкие снасти. Назывался парусник «Амстердам». Естественно, у судна с таким названием капитаном мог быть только голландец.
Так оно и оказалось – капитан, прокопченный до коричневы, стоял на борту и сбрасывал вниз, мелким рыбехам крошки, оставшиеся от вечерней лепешки. Звали его Франс Рейдаль. Лицо украшала округлая шкиперская бородка, сияюще белая от платиновой седины, какая-то светящаяся… Лицо капитана Рейсдаля было добрым, Маурицы как никто умел отличать добрые лица от недобрых.
– Господин капитан! – крикнул снизу спутник Беневского.
Капитан бросил в воду несколько оставшихся крошек и поднял голову.
– Ну!
– Можно подняться к вам на борт?
Рейсдаль одобряюще махнул рукой:
– Заходите!
На борту капитан внимательно оглядел гостей – глаза у него были цепкими и насмешливыми.
– С чем вы пожаловали, я понял, – негромко проговорил он. – Что умеете делать? – Покосившись на спутника Маурицы, он произнес: – Тебя, парень, я уже где-то видел.
– В Балтийском либо в Немецком морях, господин капитан, больше нигде.
– Это хорошо, – Рейсдаль одобрительно хмыкнул, – море умеет выращивать хороших людей. – Он взял лежавший на боцманском ящике кусок веревки, кинул в руки спутнику Беневского. – Ну-ка, завяжи мне двойной морской узел.
С задачей экзаменуемый справился блестяще, узел получился мертвый, Рейсдаль попробовал его развязать и вновь одобрительно хмыкнул.
Через двадцать минут он объявил, что берет на корабль обоих.
– Идите на камбуз, вам выдадут по лепешке и миске чечевичной похлебки, – сказал он. – Поешьте, пока похлебка горячая.
Простые слова произнес капитан, но тон их был заботливым и это родило внутри тепло. Симпатичный все-таки человек капитан Рейсдаль. С другой стороны, Беневский ощутил, как на него навалилась печаль. Еще совсем недавно он имел все, серебряными монетами, которые сейчас приходится добывать с таким трудом, мог кормить кур, на плечах его блистали эполеты, он ими гордился, а сейчас? Что он имеет сейчас?
В горле возникло невольное жжение. Беневский вздохнул и, опустив голову, пошел следом за своим спутником на камбуз.
Капитан Рейсдаль оказался занятной личностью, настоящим морским волком – много знал, много плавал, но это было раньше, сейчас, на старости лет плавает уже меньше, – попадал в разные океанские передряги, побывал в разных сказочных странах, которые Маурицы мог видеть только во сне, – в общем, был он Беневскому интересен.
А вот команда парусника – полтора десятка горластых, довольно злых матросов – ничего интересного из себя не представляла: обычный человеческий материал, который Беневским был уже неплохо изучен. С матросами Маурицы не ссорился, даже если был с чем-то не согласен, молчал, не выступал – обучился и такой науке.
Парусник «Амстердам» совершал короткие рейсы, стараясь за пределы Балтийского моря не выходить, он даже в Немецком море перестал появляться, – перевозил в основном зерно, пеньку для корабельных канатов, деготь, сушеную рыбу, мануфактуру, железные заготовки, бочки с «земляным маслом», как тогда называли нефть, муку, медь, строевой лес, пассажиров, смолу, кадки с солониной, кожи – если перечислить все, что побывало в трюмах «Амстердама», дня не хватит.
Единственное, что «Амстердам», пожалуй, только уголь не перевозил, и то лишь потому, что капитан боялся превратить свое чистое судно в замызганное помойное ведро, в котором на свалку выносят мусор.
Конечно, капитану Рейсдалю хотелось отправиться в дальнее путешествие, но – возраст, возраст… И волосы на голове у него были белые, и бородка, аккуратно окаймлявшая лицо, она тоже была сплошь белая – ни одного темного волоска. В Кролевце у него, несмотря на голландское происхождение, жили два сына, – оба были моряками, капитанами, – и подрастало шесть внуков. Все – мальчишки, ни одной девчонки, этоим обстоятельством Рейсдаль был доволен.
Беневскому степенный капитан нравился и он с удовольствием отправился бы в дальний поход с ним, да вот только Рейсдаль при мыслях о дальних походах только вздыхал и для того чтобы поплыть куда-нибудь в Индию или в Африку, выбрал целью ее умеренный юг, ничего не предпринимал.
Оставалось Маурицы Беневскому только одно – учиться у седого капитана морскому делу, чем Маурицы, собственно, и занялся, быстро освоил науку, стал разбираться в картах и лоциях не хуже Рейсдаля, познал такелаж и боцманские заботы, вскоре мог ремонтировать мачты, реи, паруса, несмотря на хромоту, лазил вверх и делал это очень ловко – он вообще оказался способным учеником.
Раз в неделю, в самом начале, они обязательно уходили куда-нибудь с грузом, резали форштевнем пенные волны, через несколько дней возвращались, матросы расходились по домам – у всех в Кролевце были свои дома, семьи, Рейсдаль оставлял парусник на Маурицы и его верного спутника и тоже исчезал. Когда команда появлялась на борту, Беневский сходил на берег…
Так тянулись дни, недели, месяцы.
Однажды Беневский сошел на берег, уселся на новенькой деревянной скамейке около одного из крепостных фортов, вытянул ноги в расслабленной позе и стал любоваться окрестностями. Стояла пора «белого неба» – и дни и ночи были одинаково светлыми, безмятежными, очень ясными, лишь где-то часа в четыре после полуночи воздух наполняла слабенькая темнота, но это продолжалось недолго, минут через двадцать темнота снова начинала разжижаться. А вот сам воздух был плотным, густым от медового запаха сирени и цветущих лип. Ах, как вкусно пахли цветущие липы – особенно в вечернюю предзакатную пору. Воздух был таким тугим, что его, кажется, можно было, как засахарившийся мед, резать ножом.
Хорошо было. Даже двигаться не хотелось – ни руками шевелить, ни ногами, думать тоже не хотелось – хотелось только созерцать природу, ловить глазами солнце, которое никак не могло закатиться за горизонт, неподвижно висело в воздухе, да лениво втягивать в себя густой душистый воздух.
Маурицы просидел на скамейке более часа, потом поднялся и направился в гавань, где стоял «Амстердам».
Он уже почти добрался да парусника, оставалось пройти метров сто всего, как услышал за своей спиной тихий предостерегающий голос:
– Стой!
От такого голоса внутри обычно рождается холод. Беневский остановился.
– На корабль не ходи, – предупредил голос, – там тебя арестуют… Не бойся, меня прислал капитан Рейсдаль. Иди сюда!
Беневский оглянулся. За спиной никого не было.
– Сюда иди! – густые кусты сирени, нависшие над дорожкой, раздвинулись с тихим шелестом, в темном прогале мелькнуло лицо. Это был один из матросов парусника.
– Что случилось?
– Тебя пришли арестовать, Морис, – сказал матрос, – два солдата с ружьями и офицер, они сейчас находятся на корабле. В чем-то тебя обвиняют, в чем именно, я не знаю. Капитану учинили допрос, потом начали допрашивать команду, и капитан, улучив момент, послал меня на берег – предупредить. На «Амстердам» не ходи.
Все, начались новые испытания, их очередной виток. Маурицы сквозь стиснутые зубы втянул в себя воздух, раздосадованно покрутил головой.
– Ладно, – глухо проговорил он, – спасибо, что предупредил, брат. И особенное спасибо капитану Рейсдалю. Он – очень хороший человек.
Краски, которыми Беневский любовался всего двадцать минут назад, погасли, мир сделался тусклым, природа больше не радовала Маурицы. Он снова оказался на тропе испытаний. Куда приведет его этот путь, никому не ведомо, и в первую очередь самому Беневскому.
Холод, возникший внутри, усилился, распространился почти по всему телу, Маурицы почувствовал, что ему сделалось трудно дышать. Похоже, он опускался все ниже и ниже, из героев-офицеров корпуса Лаудона переквалифицировался в матросы тихоходного корыта, из вольнолюбивых дворян, имевших вкус к жизни, к путешествиям, к воинским приключениям, к дамам, сполз в изгои, преследуемые законом.
Было, над чем задуматься.
В ту же ночь Маурицы Беневский исчез из Кролевца. Утром двое солдат с ружьями, возглавляемые офицером, вновь появились на палубе «Амстердама».
– Где Беневский? – грозным басом поинтересовался офицер у капитана Рейсдаля, Франс Рейсдаль был человеком неробкого десятка, но в этот раз ему показалось, что вместо Беневского солдаты сейчас арестуют его самого, и он чуть было не дрогнул… Но не дрогнул, устоял, нашел в себе силы развести руки в стороны и доброжелательно улыбнуться:
– Не знаю.
– На ночь он сюда, на «Амстердам», приходил?
– Нет.
– Раз не приходил, значит – виноват, – такой вывод сделал офицер, свысока поглядел на своих солдат, – но из Кролевца уехать он не должен. Будем ждать, когда он появится.
Хозяйским тоном офицер велел солдатам располагаться на палубе, как у себя дома, и ружья свои держать наготове.
Два дня солдаты дежурили на «Амстердаме», ожидали Беневского, но не дождались и покинули парусник несолоно хлебавши, Беневский на судне не появился. Он даже за вещами своими, которые остались в матросском кубрике, не пришел – исчез бесследно.
Где он пропадал – никому из современников не было ведомо.
Одна любопытная деталь – военным комендантом Кролевца в ту пору был славный русский генерал Суворов Василий Иванович – отец великого полководца. Молва до нас с той поры дошла следующая – они встречались, Беневский и Суворов-старший. Суворов-младший и Маурицы Беневский тоже встречались, чин Александр Васильевич тогда имел небольшой, полковник или подполковник – всего лишь…
Но как произошла встреча, при каких обстоятельствах, не знает никто, и вряд ли кто уже узнает, подробности встречи остались в глубинах времени.
Часть вторая
Маурицы Беневский не пропал – всплыл через несколько лет в рядах так называемых «барских конфедератов». Объединение это – Барская конфедерация, – было создано в начале 1768 года в небольшом городе Баре, располагавшемся неподалеку от всем известной Винницы. Борьба, которую вели конфедераты в первую очередь, конечно же, была направлена против России, во вторую – против польского короля, посаженного на престол русской императрицей и плясавшего под ее дудку, а это польским шляхтичам очень не нравилось.
Беневский, имевший военное образование, влился в ряды конфедератов, очень скоро продвинулся по офицерской лестнице вверх и стал полковником. Воевать он умел – недаром генерал Лаудон полюбил его как сына и хорошо отзывался о нем. Через некоторое время Беневский был награжден орденом. Фигурой он сделался приметной, поговаривали, что очень скоро станет одним из вождей «движения за свободу Польши», но не тут-то было: Маурицы неожиданно угодил в плен.
Его скрутили и привезли в штаб русской дивизии, которой командовал князь Александр Прозоровский, боевой генерал, у которого в плену побывали фигуры более крупные, чем Беневский. Человеком генерал был доброжелательным, любил солдат и кровь лишнюю старался не проливать, поэтому Беневского под суд не отдал, а взял с него слово, что никогда тот не будет воевать против русских. Как тогда говорили – «отпустил под пароль». Пароль и был честным словом.
Беневский уже подумывал о том, а не вернуться ли в Вербово, в родные пенаты – он не знал, живы ли его мать и отец, – посмотреть, что делается в имении, хотя опасность была: а вдруг стражники до сих пор пытаются найти его и заковать в кандалы. И дернул же его черт поддаться на уговоры дядюшки и принять злополучное завещание… До Вербово дело не дошло, на Беневского навалились ксзендзы. По поводу слова, данного им генералу Прозоровскому, ксендзы лишь насмешливо развели руки в стороны:
– Слово, данное схизматику-раскольнику, не дороже воздуха, оно ничего не стоит. Его дают для того, чтобы через пятнадцать минут о нем забыть. Совсем другое дело, если слово дано «шляхтецкой вольнице». Вот это слово надо держать обязательно.
Прямолинейная, будто оглобля, логика ксендзов, как ни странно, убедила Беневского, он возвратился в армию конфедератов, получил очередное повышение, но очень скоро вновь угодил в плен. К солдатам того же самого Прозоровского. Его доставили в Краков, в штаб к князю, но Прозоровский даже разговаривать с ним не стал, поглядел как на пустое место и приказал:
– Отправьте этого строптивого господина в штаб округа, пусть там решают, что с ним делать.
В штабе округа размышляли недолго – Беневского отдали под суд. Отделался он, надо заметить, легко: его могли и расстрелять, и, вырвав ноздри, отправить на каторгу, и загнать на рудники в Сибирь, как это было сделано впоследствии с декабристами, и повесить, но военный суд вынес неожиданно мягкий приговор: Беневского выслали в город, не самый плохой в тогдашней России – в Казань и наказали сидеть там под надзором «впредь, до особого на то повеления».
И – никаких оков, ограничений в передвижении по городу, в знакомствах, в общении, в занятиях «ремеслами или искусствами». В общем, жить можно было.
Поселился Беневский на берегу Волги, в чистой просторной избе старика, умевшего лучше всех в Казани ладить лодки. Его лодки бегали по всей реке и их сразу, с первого же взгляда можно было отличить от других лодок. Что-то неуловимое, летучее, завораживающее, присутствовало в их абрисе, были они ловкими, увертливыми, брали много груза, не переворачивались – к дядьке Никите, как звали мастера, выстраивались целые очереди рыбаков, желающих обзавестись новой лодкой.
И дядька Никита старался. Единственное, что было плохо – был он великим молчуном, за сутки мог произнести всего пару слов, тем и ограничиться. Беневского, человека разговорчивого, это обстоятельство угнетало. Понемногу он начал приглядываться к соседям и через некоторое время познакомился с еще одним ссыльным, также решившим жить около волжской воды, на берегу – шведом Альфредом Винбладом[1]. Он, как и Беневский, тоже воевал на стороне Барской конфедерации. В чине майора.
Конечно, швед был более разговорчив, чем дядька Никита, но не настолько, чтобы беседы с ним приносили удовлетворение, и Маурицы понял: надо уходить в самого себя, в книги, в размышления, в воспоминания.
А вспомнить ему было что. Хоть автор и признался, что о жизни Беневского после Кролевца известно мало что, самому Беневскому, естественно, было известно все. И события те были свежи в памяти. И то, как он бежал из Кролевца – чопорного Кенигсберга впоследствии, – позже Маурицы узнал, что в нем заподозрили шпиона (иначе, наверное, и быть не могло, ведь он был австрийским офицером, враждебно относящимся к Пруссии и потому разыскиваемым полицией) и решили задержать; без помех покинув Кролевец, Беневский всплыл в Голландии, потом в Англии, затем в Мальтийском ордене, где начал внимательно присматриваться к рыцарскому одеянию и примерять его на себя, но рыцарем Мальтийского ордена он не стал…
Всплыл в Польше, в рядах борцов шляхтецкой революции, боролся с русскими, – впрочем, совсем не думая о том, что может оказаться казанским узником. А у узников редко бывают друзья, узники, в основном – одинокие люди.
Новый знакомый Винблад чем-то напоминал ему капитана Рейсдаля – был худощав, загорелое длинное лицо его окаймляла короткая, стриженая по-шкиперски бородка, из крепких бледных губ торчала небольшая, заправленная душистым табаком трубка.
Только Рейсдалю уже перевалило за шестьдесят пять, а Винбладу недавно исполнилось сорок.
И другое отличие: Винблад говорил в основном немного, хотя иногда его прорывало и он мог прочитать целую лекцию, но такое случалось редко, – а добрейший капитан Рейсдаль был способен не закрывать рта часами. Впрочем, это нисколько не отражалось на исполнении им своих обязанностей.
Но несмотря на всю немногословность, именно Винблад подбил Беневского на побег.
– Мы здесь, в Казани, протухнем, пока нам простят грехи и отпустят домой, – сказал Винблад. – Надо бежать отсюда.
Беневский вначале заколебался, потом подумал немного и согласно наклонил голову.
– Действительно надо, – он вздохнул. – Но сделать это нужно так, чтобы, говоря словами русских, комар носа не подточил. Куда бежать? На запад, на север, на юг? Каждая дорога имеет свои плюсы и минусы…
По плану, который они разработали, бежать решили в Санкт-Петербург, справедливо посчитав, что полицейские вряд ли будут искать их там – это во-первых, а во-вторых, в городе можно будет легко сесть на иностранный корабль и отчалить за пределы суровой России.
За окном стоял сырой август 1769 года, над Волгой ползли низкие серые тучи, каждый день громыхал тяжелый гром; жители Казани часто навещали окрестные леса, стремясь собрать урожай здешних грибов, ягод, груш-дичков, придающих любой каше аппетитный аромат, запастись целебными травами, чтобы было чем лечиться зимой, всякий свой поход за лесными дарами люди сопровождали песнями.
Беневский явился в околоток, попросил разрешения заняться тем, чем сплошь да рядом занимается местное население – сходить в дремучую чащу, набрать и насушить на зиму грибов, ягод, трав – без этого не обойтись, иначе в пору больших снегов можно задрать лытки, и разрешение такое получил – в нем не было ничего противозаконного.
То же самое сделал и Винблад, и тоже получил разрешение – в околотках сидели такие же люди – сами промышляли по лесам и знали, как трудно выживать в долгую зимнюю пору: если сейчас не запасешься всем необходимым – потом зубы на полку положишь.
Выходило так, что в течение целой недели, а может быть, даже и больше, до Беневского и Винблада никому не будет дела.
Беглецы уложили в заплечные мешки сухари, которые успели приготовить, по паре килограммов вяленого мяса, по десять фунтов копченой рыбы, купленных в слободе у местных умельцев, и хмурым тревожным рассветом в середине августа исчезли из Казани.
Хватились беглецов, конечно же, не сразу, – как, собственно, и было задумано, – те пропустили все сроки и не появились в околотке, тогда в избы, где жили Беневский и Винблад, наведались стражники с ярко начищенными медными бляхами на кафтанах, перерыли в домах все, но ссыльных не нашли.
По тревоге было поднято три околотка, по окрестностям Казани разосланы конные разъезды, с одной целью – найти беглецов. Разъезды добрались до Нижнего Новгорода, задержали несколько десятков бродяг, но ни Беневского, ни Винблада среди задержанных не оказалось – они как сквозь землю провалились.
Герои наши сквозь землю, естественно, не провалились, они потихоньку преодолевали сантиметры самодельной карты, которую срисовал с карты настоящей хитрый швед, и продвигались к блистательному Санкт-Петербургу. Ночевали в лесах, кутаясь в плащи, в деревни почти не заходили.
Еды у них, конечно, было мало, но все же она была: Винблад оказался искусным ловцом птиц – ставил силки на рябчиков, перепелок, коростелей, и пока они ночью отдыхали где-нибудь под кустами на опушке или в копнах сена, в веревочных силках обязательно оказывались две-три птички.
Общипать их было делом нескольких минут, и вскоре на небольшом костерке уже варилась похлебка. Птичья.
Похлебки этой Беневский и Винблад наелись, кажется, на всю оставшуюся жизнь, костерные головешки закапывали в землю – следов после себя не оставляли и неторопливо двигались дальше, – именно неторопливо, поскольку понимали: время работает на них и чем дальше, тем больше о них будут забывать, пока наконец вообще не вычеркнут из списков беглецов, а потом и – вообще из памяти.
В Санкт-Петербург они вошли восьмого ноября, облепленные мокрым снегом, валившим с небес, продрогшие, с красными от ветра лицами и сочащимися простуженными носами, благополучно обогнули несколько городских застав и очутились на дороге, ведущей в гавань, где стояли иностранные корабли. При виде кораблей, снежных куч, плавающих в стылой воде и тумана, низко повисшего над заливом, Винблад невольно вздохнул:
– Мне это очень напоминает родную Швецию, – он неторопливо огляделся. – Если здесь есть хотя бы одна шведская посудина, она нас возьмет к себе на борт.
Но посудин шведских в гавани не было. Ни одной. Винблад вздохнул и молча опустил руки.
Хотелось есть. Так хотелось, что желудки у беглецов, кажется, слиплись, в них поселилась голодная боль. Котомки были пусты. Еду сейчас можно было достать только на кораблях, мрачно покачивающихся на мелких водах гавани.
Но на корабль еще надо было устроиться.
– Что будем делать? – спросил у напарника Беневский.
– Пошли к голландцам, – сказал Винблад, – голландцы и шведы – родственные души, всегда помогают друг другу. Меня послушают и помогут.
– Но я-то не швед…
– Неважно. Зато я швед, – Винблад был упрям, у него на лбу даже волевая складка нарисовалась – видно, упрямство было родовой чертой бывшего майора армии конфедератов.
В гавани стояли три голландских корабля, с носа и кормы привязанных канатами к берегу, чтобы не оторвало и не уволокло в море. На двух голландцах никого не было, безжизненно опустевшие палубы были занесены снегом, и на одном у борта сидел толстый человек в роскошной синей треуголке и, сладко сопя, посасывал длинную трубку с прямым чубуком. Беневский видел такие трубки у англичан: те очень любят длинные чубуки – считают, что вся табачная грязь в этих чубуках и остается, а затягиваются они чистым, вкусным, пропитанным медом и душистыми травами дымом.
– Эй, приятель, – окликнул курильщика Винблад, – не можешь подсказать, где находится шкипер твоего славного судна?
Курильщик внимательно оглядел людей, стоявших внизу, и неспешно вытащил трубку изо рта.
– Ну, я шкипер. А чего требуется господам?
– Извините, – смутился швед, – не признал. Дозвольте подняться на борт.
– Поднимайтесь, – шкипер вновь засунул трубку в губы.
На судне обитали жилые запахи – пахло свежим хлебом, вареным мясом, недавно оструганным деревом, свежепросмоленной пенькой, еще чем-то, рождающим в душе спокойствие и уверенность. Беневский невольно затянулся этим духом, в глазах у него даже мелкие слезы возникли, как от ветра. Он стер их кулаком.
– Господин капитан, вам не нужны матросы? – поинтересовался тем временем Винблад.
– Хорошие матросы всегда нужны, – резонно заметил шкипер.
– Мы хотим наняться только на одно плавание – отстали от своего судна…
– Что случилось, почему отстали?
Винблад, размахивая одной рукой, принялся долго и горячо объяснять причину – откуда только слова взялись у молчаливого шведа, непонятно, Беневский даже не подозревал, что тот знает столько слов, шкипер, слушая его, степенно кивал в ответ, иногда покашливал, похрюкивал что-то под нос, по невозмутимому, словно бы застывшему лицу его нельзя было понять, верит он рассказу или нет.
Наконец Винблад развернулся и махнул Беневскому с борта рукой:
– Поднимайся сюда, Морис.
Беневский, жалея, что костюм его выглядит помятым, замызганным, плащ – в пятнах и такая одежда может вызвать подозрение у всякого хозяина, поднялся наверх. Учтиво поклонился и в тот же миг молча выругал себя: моряки – народ более грубый, с политесом не знакомый… Вдруг шкипер что-нибудь заподозрит?
Голландец, помедлив, поклонился в ответ. Парусник его собирался выйти из Балтийского моря в Немецкое, и он согласился взять с собою двух лишних матросов – Винблад сумел убедить его. У Беневского отлегло на душе: молодец швед, нашел силы приподняться над самим собой и совершить словесный подвиг. Он благодарно сжал локоть Винблада.
Хозяин парусника, судя по всему, понял, что люди, появившиеся у него на борту – непростые, и отвел им небольшую пассажирскую каюту.
– Можете располагаться здесь. Если пассажиров не будет – останетесь до конца плавания.
– Когда отплываем?
– Завтра.
Беневский не удержался, потер руки:
– Завтра – это хорошо.
Господи, какое же блаженство может испытывать человек, когда после двух месяцев ночевок на голой земле, под кустами либо на старой прогнившей соломе прошлогодних копен, на сорванных еловых ветках, он вдруг видит нормальную постель с матрасом, туго набитым сухой морской травой, и подушку с наволочкой… Блаженство это неописуемое! Беневский не сдержал улыбки, буквально осветившей его лицо.
Сдерживая стон, он повалился на койку и несколько минут лежал неподвижно. Винблад сделал то же самое. Беневский приподнял голову и проговорил тихо:
– Даже чувство голода куда-то пропало, надо же!
Вместо ответа Винблад молча подвигал головой по подушке. Два маленьких окошка быстро наполнились темнотой: ноябрь – пора суровая, без пяти минут зимняя, светом людей не балует.
– Продержаться нам надо немного, Альфред, – прежним тихим голосом произнес Беневский, – осталось буквально чуть, и мы окажемся на свободе.
Винблад простуженно покашлял в кулак и вновь ничего не сказал.
Вскоре оба уснули, сны, которые видели беглецы, были светлыми, счастливыми, такие сны бывают только в детстве. И Беневскому и Винбладу казалось, что пробуждение у них будет радостным – ведь все трудности остались позади, впереди свобода и только свобода, но незадолго до пробуждения, на рассвете, в дверь постучали.
Стук был требовательным, жестким, Беневский знал, что означает такой стук, ощутил, как у него тоскливо сжалось сердце и в следующий миг проснулся.
В дверь вновь громко и требовательно постучали. На своей постели зашевелился Винблад.
– Кто это? – встревожено прохрипел он.
– Похоже, за нами пришли, – стараясь быть спокойным, произнес Беневский.
Он оказался прав: у каюты стоял тучный усатый таможенник, рядом с ним – полицейский офицер и двое солдат с новенькими ружьями. Позади веселой компании серела фигура голландца-шкипера, предавшего их. Прочными лошадиными зубами голландец крепко сжимал мундштук своей длинной туземной трубки.
– Хорошенький же договор оказался у тебя, Альфред, с капитаном, – горько усмехнувшись, проговорил Беневский.
Винблад глянул на своего товарища тоскливыми, какими-то загнанными глазами и молча кивнул: стыдно было, что он не раскусил шкипера-голландца, доверился ему, а тот сдал своих новых матросов российским стражникам.
Внизу, на причале, под самым бортом парусника, стояла глухая тюремная карета, заряженная двойкой лошадей.
Дело Беневского и Винблада разбирала специальная судебная комиссия Правительствующего сената, разбирательство было недолгим. В результате граф Польской короны, полковник армии конфедератов, кавалер ордена Белого орла и шведский дворянин Альфред Винблад, майор той же армии, были приговорены к вечной ссылке в Большерецкий острог, расположенный там, где кончается земля – на Камчатке.
Беневскому в ту пору было двадцать восемь лет, шведу – сорок один.
Тогда-то просвещенная публика впервые услышала титул Беневского, который тот огласил лично: «Пресветлейшей Республики Польской резидент и Ее Императорского величества Римского камергер, военный советник и регементарь». Сановный перечень этот был грозным и высокопарным, от него попахивало чем-то авантюрным…
На дорогу от Санкт-Петербурга до Камчатки, до Большерецкого острога, нужно было потратить не менее года: просторы России были огромны…
Что из себя представлял Большерецк той поры?
Входило это поселение в обширную Якутскую область, имелось в нем три острога, самый главный, неприступный, вольно расположившийся на мерзлой земле, где можно было развернуться и заключенным и охранникам, вооруженный пушками, – Большерецкий. Построен Большерецкий острог был в удобном месте, там, где река Быстрая впадала в реку Большую. А река Большая, в свою очередь, впадала в морской залив.
Главным учреждением, которое управляло огромной Камчаткой – реками, вулканами, землей, лесами, была канцелярия капитана Нилова, человека добродушного, красноносого, любителя выпить и хорошенько после возлияния закусить, находившегося в подчинении у командира Охотского порта. Капитан Нилов и был человеком номер один на Камчатке, народ при виде его должен хлопаться на колени – все люди без исключения, но этого не происходило, и капитан-повелитель на неповиновение не обращал внимания. Точнее, старался не обращать, хотя при случае, говорят, мог хлестнуть какого-нибудь наглеца плеткой и просипеть ему в лицо несколько популярных среди простого люда слов.
Домов, которые в Большерецке называли обывательскими – то есть, предназначенных для жилья, было чуть более сорока, точнее – сорок один, рассчитаны они были на девяносто жильцов, имелся также командирский дом, который занимал, естественно, сам Нилов – просторный, светлый, со стеклами в окнах. В остальных домах стекла заменяли хорошо выделанные пузыри, и большерецкие обитатели, довольствуясь малым, особо не роптали.
А с другой стороны, на рыбьих пузырях можно было и деньгу сэкономить: ведь за стекла и печные трубы тогда брали налог, и налог этот был немалый.
Поселок украшала постройка, радующая глаз всякого, кто здесь появлялся – церковь Успения Богородицы, при храме находился и дом настоятеля, имелись еще купеческие лавки, много лавок – двадцать три, и четыре прочных амбара, в которых размещались склады: хранили там съестные припасы, пушнину, порох, свинец. Оберегал это добро специальный человек – магазейный казак Никита Черных, человек суровый, с широкими плечами и мощной грудью, в одиночку ходивший на медведя.
На этой же площади стояли другие важные постройки – низенькая длинная канцелярия, которую звали воеводской избой, это было более привычно, – заморское слово «канцелярия» вызывало неприятные ощущения, прилипало к зубам – не сковырнуть, – покривившаяся, вросшая в землю по самый срез крыши баня и «съезжая», иначе говоря, арестантский дом, куда сажали на хлеб и воду провинившихся жителей Большерецка, а также некоторых приезжих.
Подчиненный Нилову гарнизон состоял из семидесяти казаков, из которых примерно пятьдесят человек всегда находились в разъездах, мотались по всей Камчатке, собирали пушнину, которую потом отправляли на запад, в стольный град Санкт-Петербург: на реке Неве камчатские соболи пребывали в большом почете.
Вот, собственно, и все, что можно было сказать о месте, в котором теперь предстояло жить Беневскому и Винбладу. Винблад приуныл, а Беневский вешать нос не стал. И прежде всего потому, что они были в Большерецке не одни: когда в Охотске их переправляли на небольшой военный галиот, чтобы доставить на Камчатку, на галиоте уже находились ссыльные, которым предстояло тоже прописаться в Большерецке – Иосафат Батурин, Василий Панов и Ипполит Степанов.
Батурин был армейским офицерам, поручиком Ширванского пехотного полка, хотя в ссылке называл себя не иначе, как полковником артиллерии, и только так. Человеком он был тихим, погруженным внутрь собственного «я», в споры вступал редко, шумных компаний сторонился и любил ловить рыбу, из реки Быстрой иногда приносил кижучей по пятнадцать килограммов весом.
Ипполит Семенович Степанов в прошлом считался лихим ротмистром, владевшим в Московской губернии роскошным имением, принадлежал к разряду зажиточных помещиков, гордо носил на плечах неплохую голову и умел складно писать – у него обнаружился литературный дар. Участвовал в работе комиссии, которая занималась созданием нового Уложения законов Российской империи, и проявил себя настолько настырным спорщиком, что государыня Екатерина решила не просто убрать его из комиссии, куда он был выдвинут дворянством Верейского уезда, но и отправить куда-нибудь подальше, чтобы не мешал и не мутил воду в столице.
Более того, Степанов имел неосторожность поссориться с всесильным Григорием Орловым, фаворитом императрицы… В результате бравый ротмистр очутился на краю краев земли, в Большерецком остроге.
Самым ярким из трех бунтовщиков, посаженных в Охотске на военный галиот был, конечно же, Василий Панов, гвардейский поручик, представитель знатного рода – принадлежал, как отмечали историки той поры, «к очень хорошей фамилии с большими талантами и особенной пылкостью ума, но увлеченный порывами необузданных страстей, послан он был за первое, не очень важное преступление в Камчатку».
А что такое «порывы необузданных страстей»? Ни много, ни мало – призывы свергнуть императрицу Екатерину Вторую и возвести на ее место Павла Петровича. А Павел Петрович – это внук царевны Анны Петровны, дочери Петра Великого, и сын Петра Третьего, который, как считали ссыльные, был незаконно лишен престола.
Вникнув – уже на Камчатке, – в сложные перипетии придворных событий и драм, Беневский быстро сообразил, что к чему, и в Большерецке стал называть себя курьером Павла Петровича.
А Батурин к тому, что он – «полковник артиллерии» начал добавлять «кабинетский обер-курьер императора Петра Федоровича» – отца Павла Петровича.
Вот такой сиятельный клубок образовался в Большерецке.
Поселился Беневский в хате поручика, лейб-гвардии Измайловского полка Петра Хрущева. Бывшего, конечно, поручика. Хрущев – подвижной, деятельный, всегда находил себе какое-нибудь занятие, если же занятия не было, играл в шахматы.
Шахматистом он был сильным. Если игра шла на «интерес», мог обыграть кого угодно, даже самого капитана Нилова и заставить его кукарекать. Или сыграть из губах мазурку, занятие это, как известно, было больше достойно сына Нилова, но на губах, случалось, «пиликал» и сам папаша.
Сослан был Хрущев, как и Беневский, на Камчатку навечно, к тому моменту, когда Маурицы появился здесь, пробыл в ссылке уже девять лет, прижился к здешним местам, подружился с людьми, но от одной мысли не отказывался никогда… Он мечтал бежать.
Ему очень хотелось покинуть Большерецк. Но куда бежать? Этого Хрущев не знал. Наверное, вначале на безлюдные острова, расположенные неподалеку от Камчатки, потом на Курилы, а потом… потом в Америку. Говорят, очень недурно живет там народ.
Хотя одно плохо – в Америке может заесть, загрызть тоска. О том, что у тоски может быть медицинское название, точнее, диагноз – ностальгия, – Хрущев не знал. Этого названия не знал даже толковый лекарь, живший в Большерецке, ссыльный швед Магнус Мейдер, крепкий семидесятилетний старик, помогавший здешним поселенцам бороться с хворями в суровых северных условиях.
Грех, за который дворянин Петр Хрущев попал на Камчатку, был велик: он также попытался свергнуть Екатерину Вторую, на ее место посадить Ивана Антоновича – тихого «царственного узника», начавшего в заточении уже заговариваться, но попытка не удалась – блистательный гвардеец был «обличен и винился в изблевании оскорбления величества», как было указано в «Полном собрании законов Российской империи с 1649 года» (том шестнадцатый). «Хотя мы собственно наше оскорбление в таком злодеянии великодушно презираем, но не могли пренебречь правосудием к обиженному народу, видев в нем возмутителя общего покоя», – написала в своем указе Екатерина Вторая и приговорила Хрущева к смертной казни, которую потом заменила вечным поселением в Большерецком остроге. Поскольку Хрущев был не один, в заговоре вместе с ним участвовали трое братьев Гурьевых, – все офицеры, – то старшего Гурьева императрица также приговорила к смертной казни с последующей заменой на ссылку, двух других Гурьевых, Петра и Ивана, – к вечной каторге с отбыванием ее в Якутии…
Сурова была императрица. Хотя и много сделала для России.
В Большерецке Маурицы понравилось. Комендант острога Нилов большей частью пил, когда он шел осматривать крепостные объекты, – дело это капитан считал наиглавнейшим в кругу своих обязанностей, – то нос его светился, как красный фонарь, подвешенный к мачте корабля, чтобы было видно далеко и встречное судно могло избежать столкновения; запах спиртного капитан улавливал мгновенно и тут же сворачивал на него, – но ссыльных Нилов не притеснял и это было для обитателей Большерецка очень важно.
Камчатка славилась своими неописуемыми красотами, Беневский никогда не видел ничего подобного. Ни вулканов, занимавших половину неба, ни речек, забитых рыбой-кетой так, что местные мужики подгоняли к какому-нибудь перекату телегу, заходили в воду с вилами и накладывали целый воз рыбы. С верхом.
Рыбу тут вялили, сушили, кормили ею домашних животных, собак и птиц, заготавливали на зиму, вытапливали из нее жир. Жир шел не только в еду, но и был тогдашним «электричеством» – им освещали низенькие, горбато вросшие в землю дома. Чем ниже хата сидела в земле, тем теплее было жильцам. А зимы здесь выдавались лютые, с морозами, которые легко крушили камни и распластывали деревья от макушки до корней, с ветрами, не позволяющими человеку даже рот открыть – мигом запечатывали снегом, либо набивали глотку твердым, как гранит льдом, способным выломать зубы. Такого Маурицы тоже никогда и нигде не встречал.
Красивы и суровы были, конечно, здешние места, но при виде их внутри возникало что-то протестующее, остужающее, в чем-то даже непонятное, Маурицы со вздохом опускал голову, лицо его делалось задумчивым – оставаться здесь до старости, до гробовой доски было нельзя, нужно было думать о том, как выбраться отсюда.
А вот как выбраться, каким способом, Беневский пока не знал. Но в том, что это произойдет обязательно, он был уверен.
Как-то в хату к Хрущеву зашел купец Холодилов – человек на севере известный, богатый. Чернобородый, в собольем малахае, он зыркнул жгучими цыганскими глазами в одну сторону, в другую, остановил взор на Беневском, сидевшем на лавке, поинтересовался низким прокуренным басом:
– Ты, что ли, большой мастер перекидываться в шахматы?
В ответ Беневский недоуменно приподнял одно плечо:
– Не ведаю.
– Ты, ты! – напористо пробасил Холодилов. – Я это ведаю. Другого такого в Большерецке нет.
– Может быть, – лицо Беневского сделалось усталым и равнодушным.
– На деньги играешь?
– Если ваша милость соизволит – готов сыграть.
– Моя милость соизволит, – Холодилов захохотал, – еще как соизволит, – сдернул с себя малахай, бросил на лавку, где стояло питьевое ведро. – Доставай игральные принадлежности.
Беневский выложил на стол мешочек с деревянными фигурками, снял со шкафа старую доску, украшенную белыми и черными, тщательно прорисованными квадратами.
Беневский расставлял фигурки и пытался сообразить, кого же ему напоминает этот громкоголосый человек? Очень уж похожее лицо.
Через минуту понял, на кого похож купец.
Когда Беневский был доставлен в Большерецк, стражники провели его и Винблада к Нилову. Тот, косясь взором на свой сияющий красный нос, воскликнул с неожиданным торжеством в голосе:
– Давненько я не видывал у себя в гостях иностранцев! Ладно-ть, – он сделал жест, который был хорошо понятен стражникам. – Для иностранцев положен карантин, отведите их… Пусть отдохнут, – хихикнул глухо, в себя.
Их отвели в съезжую, в помещение, где содержали провинившихся большерецких жителей.
Там, на полу, на подстилке из старого крошащегося сена лежал человек с такими же, как у Холодилова, жгучими черными глазами. Увидев гостей, он поднялся на ноги, церемонно поклонился им. Произнес тихо:
– Будем вместе перемогать беду.
Беневскому понравился этот человек, спокойный, уверенный в себе, убийственно вежливый, с умным взглядом. Интересно, за какие грехи он угодил сюда? Беневский бросил в угол мешок.
Ничего другого у него с собою не было, только мешок, излаженный еще в Казани под котомку, у Винблада – тоже мешок. Будто и не принадлежали они к дворянскому роду. Узник, находившийся в «холодной», еще раз поклонился им и вновь опустился на лежалое сено.
Оказалось, узник этот, по фамилии Кузнецов, был простым крестьянином, – правда, знающим грамоту, а таких крестьян на Камчатке было очень мало, – умевшим и хлеб выращивать, и землю, не способную ничего родить, сделать плодородной, и дом крепкий, теплый, сколотить, но вот какое дело – задолжал он деньги барину, отпустившему его на вольные хлеба, не смог заработать, и Нилов, возмущенно посапывая красным носом, запер его в съезжей.
Ну словно бы здесь Кузнецов сумеет что-то заработать, давя своим крепким жилистым телом шуршащих в остьях жесткого ломкого сена тараканов. Ан нет, захотелось Нилову посадить грамотного крестьянина в «холодную», и он задумываться даже не стал, сделал это. И, похоже, выпускать не собирался.
Винблад с Беневским довольно скоро прошли «карантин», через четыре дня лохматый угрюмый стражник вывел их из «холодной» и с глухим недовольным бормотаньем закрыл дверь, оставив в съезжей одного Кузнецова. Беневскому сделалось жаль крестьянина, были бы у него деньги – отдал бы, не задумываясь, погасил бы кузнецовский долг.
О кузнецовском долге он и подумал сейчас.
Окинув острекающим взором шахматные фигуры, купец азартно потер руки и сделал первый ход. Беневский, совершенно не думая, – машинально, – также сделал первый ход, ответный.
– Однако, – привычно молвил Холодилов и задумался над вторым ходом.
Через пятнадцать минут Беневский объявил ему мат. Купец неверяще потряс головой, фыркнул громко и разрезал ладонью воздух – будто тесаком.
– Давай вторую партейку, – потребовал он.
Молча, не говоря ни слова, Беневский вновь расставил на доске фигурки.
– Не может быть, чтобы я тебя не обыграл, чужеземец, – воскликнул Холодилов и опять азартно потер руки. – В этот раз обыграю!
Беневский продолжал молчать, только на лице его появилась далекая, едва приметная улыбка, – появилась и тут же исчезла.
Во второй партии он разбил купца в несколько раз быстрее, чем в первой – поставил мат в четыре минуты, Холодилов лишь изумленно воздел над головой руки да застонал от бессилия: против чужеземца он не тянул.
– Еще партеечку! – воскликнул купец, сорвал с пояса кожаный кошель, сшитый из шкуры лахтака, потряс им. Послышался глухой серебряный звон. – Денег у меня много, играть будем долго.
Беневский вновь молча расставил фигуры на доске и стремительно, невесомым движением двинул вперед одну из пешек. Холодилов сделал то же самое. В то же мгновение, перешагнув через строй пешек, конь Беневского сделал свой сложный Г-образный ход: Морис, кажется, совсем не раздумывал, какой ход сделать в следующее мгновение, все совершал автоматически.
Купец также не стал задумываться, ухватился пальцами за коня и повторил ход Беневского – решил сыграть зеркальную партию, хотя должен был понимать, что в зеркальных партиях обычно выигрывает тот, кто сделал первый ход, это закон. Беневский укоризненно покачал головой.
Холодилов этого не заметил, был увлечен игрой, внимательно следил за руками Беневского – какую фигуру тот схватит? Маурицы в образовавшийся проход продвинул офицера. Купец сделал то же самое. Через полминуты Беневский объявил ему мат.
– Тьфу! – громко отплюнулся Холодилов. – Вот шельма! – Он ожесточенно потряс лохматой головой. – Шельма!
Что такое шельма, Беневский не знал, но догадывался, что слово это не самое хорошее. На лице его ничего не отразилось, оно было очень спокойным, почти неподвижным. Купец вновь встряхнул свой кошель, привычно притиснул ухо к гладкому шерстистому боку.
– Давай еще!
Еще так еще. Беневский привычно расставил на доске фигуры. Он по-прежнему продолжал молчать, словно бы всякая речь, даже несколько коротких слов были для него непосильной нагрузкой. Холодилов потряс головой, потер руки, вытянул их перед собой, проверяя, дрожат пальцы или нет – пальцы дрожали, как у заурядного выпивохи, и он постарался поскорее ухватиться ими за шахматную фигурку.
Игра продолжалась.
Окончилась игра, когда на востоке, рвано повиснув над горизонтом, зажглась красная полоска – занималось тяжелое позднее утро. Всего Беневский выиграл у купца Холодилова пятьдесят с лишним рублей.
Днем эти деньги Беневский отнес в канцелярию Нилова, вручил их изумленному Спиридону Судейкину, заправлявшему вместе с разжалованным казаком Иваном Рюминым большерецким делопроизводством. Такой крупной суммы денег Судейкин, похоже, никогда не держал в руках.
– Выпустите из «холодной» человека, который задолжал деньги своему помещику, – проговорил Беневский суровым тоном. Вытащил из кармана матерчатый кулек, набитый серебряными монетами. Со звоном высыпал содержимое на стол.
Канцелярист мигом сообразил, что к чему, осуждающе покачал головой.
– Ты бы лучше, мил человек, эти деньги для себя сохранил, – сказал он, – пригодятся ведь.
На длинном, с ложбиной носу Судейкина висела мутная простудная капля, глаза слезились – он не понимал поступка, который совершал ссыльный, это просто не укладывалось в его, с годами здорово облезшей голове.
Лицо Беневского напряглось, взгляд сделался жестким.
– Освободите из «холодной» человека, – проговорил он негромко, но очень твердо. – Вот его долг, – Беневский ткнул пальцем в горку денег, выложенных на стол.
– Освободим, освободим, – суетливо закивал головой Судейкин, – не сомневайся.
– И расписку мне выпишите, – потребовал Беневский, – на имя этого человека, чтобы впоследствии к нему не было никаких претензий. Понятно?
– Понятно, понятно, – вновь по-голубиному закивал лысеющей головой Судейкин. Капля сорвалась с его длинного носа и шлепнулась на стол.
Беневский невольно поморщился. Спиридон сорвавшейся с носа капли просто не заметил. Несмотря, что день еще только начинался, от него уже попахивало водкой.
Запас водки был у капитана Нилова практически неисчерпаемый: вместительный подвал комендантского дома, занимали бочки с водкой. Там даже места для сладкой брюквы и репы, без которых тогда не обходился ни один российский стол, не оставалось. Всюду стояла водка – бочки, бочки, бочки… Писарчук Судейкин, считавший себя ближайшим помощником коменданта, имел туда свободный доступ.
– Расписочку, говорите, – Судейкин ухватил скибку брюквы, которая нарезанной горкой лежала на деревянном блюдце, кинул ее в рот. У глаз Спиридона, в уголках, собрались довольные морщинки.
– Расписочку, – подтвердил Беневский.
– Как его фамилия, говорите? – протянул Судейкин и, наткнувшись на жесткий непонимающий взгляд Беневского, засмущался, замахал одной рукой. – Знаю, знаю… Кузнецов его фамилия.
– Вот и начертайте бумажку на имя Кузнецова, – смягчаясь, велел Беневский.
– Чичаз, – Судейкин ухватил пальцами еще одну скибку брюквы и, распахнув рот пошире, издали запузырил в него скибкой. Стрелял он метко, без промаха. Да и уж очень сочной и сладкой была брюква.
Когда расписка была готова, Беневский ухватил канцеляриста за ухо и заставил того оторвать зад от скамьи.
– А теперь, сударь, берите ключ и идите отпирать «холодную».
Судейкин взвизгнул:
– Как вы смеете?
– Смею, – спокойно произнес Беневский, скомандовал: – Вперед! – рука у него хоть и была небольшой, но очень крепкой.
Через десять минут Кузнецов вышел из «холодной», подслеповато щурясь, огляделся – слишком ярким, режущим был свет на улице после сумеречного, как поздний вечер, помещения для нарушителей большерецких устоев, потом с хрустом расправил чресла и направился к себе домой. Жила в маленькой утепленной хате, сколоченной из плавника – деревьев, вынесенных на берег морским течением. Шел и горевал по дороге – в доме оставался кот Прошка, жив он сейчас или нет? Ведь Прошку в отсутствие хозяина никто не кормил.
С другой стороны, Прошка принадлежал к породе котов, которых кормить не надо – он сам себе добудет еду: Прошка умел и рыбу ловить, и лесного зверя преследовать, а что касается еды, то мог отнять ее у любой собаки – большерецкие псы боялись с ним связываться.
Хата кузнецовская, стоявшая на самом краю поселения, двумя окошками на темную воду реки, была закрыта на щепочку, – как ушел хозяин из нее, сунув в петли замка прочный сосновый сучок, так закрытой на сучок она и осталась, вокруг дома – кошачьи следы, густая топанина… Значит, Прошка жив, находится здесь.
Крыльца у хаты не было, стояла без крыльца, на фундаменте, сложенном из легких пузырчатых камней, – как подозревал Кузнецов, такие камни выплевывали из себя горы, над которыми всегда курится дым, горы эти были сердитыми, живыми, иногда внутри у них раздавалось рычание, а под ногами начинала дрожать земля – что-то таинственное происходило там, и люди невольно задумывались: а что это за горы? Не опасно ли жить с ними по соседству?
Сейчас мы знаем, что горы эти называются вулканами, и тогда это знали, только не все. Кузнецов вздохнул, оглядывая пространство подле дома – вдруг где-нибудь неподалеку находится Прошка, кота не засек и выдернул сучок из дужек замка.
Из глубины дома, из темного, пахнущего дымом и травой нутра, на него дохнул холод – всякое жилье обладает способностью делаться не только мерзлым, но и совсем нежилым, стоит только не ночевать в нем пару дней, присутствие кота, правда, обычно продлевало этот срок, но ненадолго – еще на пару дней.
– Эх, Прошка, Прошка, – Кузнецов невольно вздохнул, – где ж ты есть, Прошка? и жив ли?
В тот же миг за дверью, на улице, раздалось радостное мяуканье. Кузнецов резко вскинулся, чуть головой не всадился в низкий потолок, отер кулаком глаза:
– Прошка! Жи-ив!
Прошка был жив. И здоров. Только шерсть на нем висела извалявшимися лохмотьями, да физиономия была исхудалая, лишь скулы да усы торчали в разные стороны. Но желтые крупные глаза горели светом ясным и задорным. Кузнецов распахнул дверь, и Прошка прыгнул ему прямо на руки.
– Прошка! – Кузнецов вновь отер кулаком глаза и прижал Прошку к себе.
Низенькая изба Кузнецова имела вместительный чердак – без чердаков и крутых, с резкими взлетами крыш, над которыми торчали пеньки труб, на Камчатке было нельзя жить, – могло запечатать снегом в избе так, что люди потом не сумеют обнаружить до самой весны. А высокая крыша и труба были гарантией того, что человек, находящийся в хате, не пропадет.
Правда, всякая труба, имевшаяся в Российской империи, здорово терла хозяину карман – за нее приходилось выкладывать деньги, налог на трубы был высок, и капитан Нилов за взиманием денег следил строго.
На чердаке у Кузнецова, на длинных веревках висели снизки вяленой рыбы – жирной чавычи, чавыча считалась самой крупной рыбой в камчатских водах, отдельные особи доходили до ста фунтов весом, а это по нынешним меркам – сорок с лишним килограммов, – и Кузнецов ловил такую чавычу.
Кроме чердака у Кузнецова имелся еще сарай, там тоже вялилась рыба. Но та, которая на чердаке, была нежнее, слаще, жирнее рыбы, вялившейся в сарае.
– Жди, Прошенька, – пробормотал Кузнецов растроганно и полез на чердак, чтобы достать коту сладкий хвост.
Прошка от такой перспективы замурлыкал громко – так, что мурлыканье было слышно на том берегу реки Большой, начал тереться боком о лестницу, приставленную к стенке и чуть не сбил ее вместе с хозяином. Но Кузнецов не дал себя сбить, секанул ножом по рыбьему хвосту, легко отпластал кусок килограмма в полтора, порезал его на куски помельче и выложил коту на деревянной плошке: ешь!
В доме было холодно, холоднее, чем на улице, нужно было срочно топить печь, чтобы иней убрался изнутри, со стен, но Кузнецов не стал этого делать, – потом, все потом, – переоделся в новую рубаху, подпоясал ее шелковым шнурком и, выбрав самую крупную чавычу из всех, что висели на чердаке, взвалил ее, как бревно, на плечо и понес к хате Хрущева, где жил благодетель, вызволивший его из «казенного дома».
Войдя в хату, поклонился в пояс Беневскому, сидевшему в одиночестве над шахматной доской, проговорил тихо, неожиданно дрогнувшим голосом:
– Благодарствую, Морис Августович, – Кузнецов назвал Беневского на российский лад по имени-отчеству, как, собственно, и должно быть у уважающих друг друга людей. Потом, помолчав немного – никак не мог справиться с собой, – добавил: – Век этого не забуду, за все отплачу добром.
Беневский улыбнулся, махнул рукой ответно:
– Не стоит благодарности… Все так и должно быть.
Кузнецов положил на лавку чавычу, завернутую в чистую холстину – даже тряпку для этого не пожалел, так был благодарен Беневскому, а всякий клок материи в хозяйстве на Камчатке был дорогим и стоил немало, – вновь поклонился в пояс и вышел за дверь, на улицу.
Серое небо раздернулось, в нем, прямо посередине образовалась прореха и в прореху эту выглянуло любопытное солнце, похожее на круг мороженого коровьего молока: по белому холодному полю разбросаны желтоватые масляные пятна, в центре круга застыло такое же желтоватое неровное пятно.
Мир разом посветлел, на душе тоже сделалось светлее, Кузнецов не выдержал – на крепком, основательно обработанном здешними ветрами лице его возникла улыбка.
Это ведь здорово, когда на небе появляется солнце, здорово, когда в жизни встречаются такие люди, как этот ссыльный господин…
Иногда у капитана Нилова тоже возникали просветления в сознании, много повидавшая седая голова его начинала рождать что-нибудь толковое. Если пройтись по большерецким, то можно отыскать человек пятнадцать-восемнадцать детишек, имевших справных грамотных отцов, в основном, казачьего звания, которые и лавки держат, и амбары, и пушнину добывают, и самородное золото; люди эти, благодаря грамоте и хватке своей выбились в люди, а вот дети их из-за того, что неграмотные, не смогут преуспеть в жизни, как родители…
Дело это надо обязательно поправить и научить детишек грамоте. Что для этого нужно? Нужно открыть в Большерецком остроге школу. Мысль об этом крепко засела в голову коменданта.
Тем более, что у него самого подрастал сын Гришка, неграмотный оболтус, гонявшийся по берегам реки за чайками и от нечего делать связывавший самцов горбуши друг с другом за хвосты и потом пускавший их плавать в реку Большую. Звонкий Гришкин хохот был слышен, наверное, не только на Камчатке, но и дальше…
Пока жив сам Нилов, он, конечно, Гришке не даст пропасть, но что будет, когда Нилова не станет? Такое будущее – очень туманное, лишенное света, тревожное, беспокоило большерецкого коменданта, и он решил открыть в остроге школу.
Недостатка в учителях у него не будет, это Нилов знал хорошо: любой ссыльный из полутора десятков бедолаг, находившихся в Большерецке, мог дать солидную фору любому профессору – здесь, на краю краев земли, собрались выдающиеся люди…
Подумав немного – не без сомнения, естественно, – Нилов с кряхтеньем поскреб пальцами затылок и послал канцеляриста Судейкина к Беневскому.
– Приведи ко мне этого строптивого поляка, – велел он.
Судейкин бегом, почти вприпрыжку, будто мальчишка, помчался исполнять приказание коменданта. Вскоре он привел Беневского – недоумевающего, с насмешливым лицом и улыбкой, прочно припечатавшейся к губам. Нилов, увидев его, тоже расплылся в улыбке.
«С чего бы это? – невольно мелькнуло в голове Беневского. – Прошлый раз он выглядел зверь зверем, а сейчас – сама доброта. Не человек, а Масленица – праздник, популярный у русских».
– Господин Беневский, предлагаю вам принять участие в добром деле, – сказал комендант, задышал часто.
– Всегда готов! – веселым тоном отозвался Беневский.
– Мы тут подумали и решили… – комендант покашлял в кулак, о себе он говорил во множественном числе и в уважительной форме, совмещая «ты» и «вы» – решили, что на Камчатке должна быть школа.
– Хорошее дело, – одобрил намерение коменданта Беневский.
– И я так полагаю, – расцвел комендант, нос у него засветился и он выкрикнул: – Судейкин! Ну-ка, порежь нам рыбы-красницы и икры подай! Мы с господином Беневским должны закрепить одно хорошее начинание.
– Сей минут! – вскричал канцелярист и привычно затопал ногами по полу.
Он действительно уложился в минуту: и икры принес, и рыбы, и хлеба, нарезанного крупными ломтями, и две очищенные, располовиненные луковицы. Нилов поднялся, достал из самодельного буфета глиняный кувшин, заткнутый деревянной пробкой с вбитым в нее железным крючком, чтобы было удобно извлекать из горлышка. Водрузил кувшин на стол.
– Это водка, – важно проговорил Нилов, – привезена к нам аж из самого Иркутска.
Водку Нилов разлил по глиняным плошкам: культурный был капитан, политес знал, понимал, что водку пить из кружек неудобно – ошпариться можно, хотя в империи Российской нет такого мужика, который умудрился бы ошпариться водкой.
От водки Беневский отказываться не стал, выпил охотно. Нилов проглотил свою порцию едва ли не с плошкой, в последний миг выдернул эту глиняную фиговину у себя из глотки, крякнул довольно.
– После первой, не прерываясь, надо выпить вторую, – поучающе произнес он.
– Это почему же?
– Кончики пальцев могут посинеть, – пояснил Нилов совершенно неожиданно и захохотал, – а потом слезут ногти, господин Беневский.
Беневский посмотрел на него удивленно – не ожидал столь плоской шутки от почтенного человека, командовавшего целым континентом.
– Занятия будем проводить в помещении, примыкающем к канцелярии, – сказал Нилов, наливая по третьей плошке. – Когда сможете приступить к урокам, господин Беневский?
– Да хоть завтра.
– Вот завтра и начнем. Не будем откладывать на послезавтра.
Слух о том, что комендант открыл в Большерецке школу для ребятишек, облетел всю Камчатку, об этом узнали даже коряки, кочующие по Дальнему Северу. В Большерецк с сыном торгового казака Никиты Черных приехал любимый отпрыск попа из Ичинска – а это ни много ни мало, четыреста с лишним верст, – отпрыска звали Алехой и он очень хотел познать грамоту.
Поселился Алеха – он же Алексей Устюжанинов – там же, где жил Маурицы Беневский, в доме ссыльного поручика Петра Хрущева. Домик, казалось, был небольшой, но вот ведь как – очень вместительный, воздуха хватало всем, а главное – жизнь в нем была интересная. Беневский и Хрущев рассказывали такие штуки, что у Алеши даже дух перехватывало – оказывается, их Камчаткой, Ичинском да Большерецком мир не ограничивался, жизнь кипела и на других землях.
Беневский говорил с акцентом, иногда путался в словах и переходил на немецкий либо французский язык, затем, словно бы спохватившись, вставлял фразу по-польски и снова возвращался на круги своя, начинал говорить по-русски. Русский язык был для него труден, да не только для него – длинный сумрачный швед Винблад вообще предпочитал молчать, а не говорить: тяжелый язык не давался ему совершенно. Кроме слов «спасибо» и «здравствуйте» он так ничего и не выучил.
– Далеко-далеко отсюда, примерно в двух месяцах пути морем лежит некая теплая земля, – рассказывал Беневский бывшему гвардейскому поручику, – разные народы зовут ее по-разному. Там нет зимы, нет холодов, как нет и жары, круглый год на деревьях растут сладкие плоды, а на полях вызревает пшеница, в лесах полно оленей и косуль, в реках очень много рыбы… Рыбы примерно столько же, что и здесь, на Камчатке. Вино делают из фруктов, а из пальмового сока получают водку. В языке народа, живущего в тех краях, нет ругательных слов, люди все равны, не существует ни богатых, ни бедных – повторяю, люди там равны, все имеют золотую посуду, из которой они едят не только по праздникам, но и по будням, стада коров, овец, коней невероятно тучны. На деревьях с утра до вечера поют птицы, в домах играет музыка, люди и природа на той земле представляют из себя единое целое. Там не бывает пасмурных дней, только солнечные, солнце и обилие воды позволяют выращивать богатые урожаи и жить в вечном лете…
Тут Беневский неожиданно замолчал, на лице его появилось расслабленное мечтательное выражение.
– А дальше что? – не вытерпев, спросил Хрущев.
– Что дальше? – Беневский вскинул голову. – Дальше – жизнь, дорогой друг, хорошая сытая жизнь, которой можно только позавидовать.
– Как называется та земля?
– Я же сказал: разные люди называют по-разному. Одни называют рапобаной, другие Эоном, третьи Сативией, четвертые Чаруком, я же называю по-своему, – Беневский вздохнул и опять замолчал. Что-то он сегодня совсем не был похож на себя – это был другой Беневский.
– Как? – нетерпеливо спросил Хрущев.
– Государством Солнца.
– Государство Солнца, – эхом повторил за ним Хрущев. – Красиво звучит. – Государство Солнца… Как в сказке. Правда?
Беневский согласно наклонил голову – как и все люди, он любил слышать приятные вещи.
– Кто знает, может быть, когда-нибудь и нам удастся побывать там, – произнес он тихо, прислушался к вою ветра, столбом взвинтившемуся под окном их избенки, такой ветер всегда навевает на человека тоску, – по лицу Беневского проползла и тут же исчезла прозрачная тень. – Если, конечно, мы будем живы, – добавил он.
Алешу Устюжанинова его рассказ ошеломил: неужели такие земли и впрямь есть на белом свете? Он неверяще завозился на топчане, покрытом медвежьей шкурой.
– А что, Морис Августович, – голос Хрущева неожиданно наполнился молодым звоном, – на этом свете все может быть.
Глаза у бывшего поручика загорелись, был он человеком увлекающимся, вспыхивал мгновенно, – хлопнул ладонью о ладонь.
– Готов обсудить любой план, любое предложение, – тихо, каким-то бесстрастным, лишенным выражения голосом произнес Беневский…
Но разговор, к сожалению, на этом и закончился.
В крохотной школе, где насчитывалось всего семнадцать учеников, Беневский вел два предмета: географию и французский язык. Из бумаги и тонких тростинок он склеил глобус, по памяти свинцовым карандашом нанес континенты, разделил их на страны, провел границы… Именно от Беневского Алеша Устюжанинов впервые узнал, что земля, оказывается, не плоская, а круглая и все рассказы о том, что она держится на трех китах, на огромных спинах их – обычные бабушкины побасенки.
Впрочем, насчет китов Алеша сомневался и раньше, еще до того, как он услышал от Беневского удивительную новость о том, что земля круглая. Это какие же должны быть киты, чтобы держать на себе такой груз? Они же ни в какое море не влезут.
Уроки французского были еще более удивительны, чем уроки географии. Французская речь показалась Устюжанинову похожей на птичью – короткие р-р-рокочущие звуки сменялись напевными, долгими, «р», похожее на стук свинцовой дроби, упавшей на каменную плитку, внезапно переходило в раскатистое «ё» – ну будто лахтак игрался с неркой…
– Надо же! – удивлялся он и пробовал родить глухое, очень симпатичное «р», это ему не удавалось и Алексей удивленно щелкал языком: – Надо же!
А ведь кроме французского, как слышал Устюжанинов, есть еще и немецкий язык, и английский… И кое-что еще. Вон долговязый швед Винблад тоже поет, щебечет по-своему, и так забавно это делает, что даже всезнающий Беневский не всегда понимает его.
Удивительные все-таки вещи можно услышать в школе. Устюжанинов удивлялся тому, что видел и узнавал, Беневский же, в свою очередь, тоже был полон удивления – открывал для себя некие штуки, а порою и целые явления, с которыми не был знаком.
Он никогда не видел, чтобы в реках было так много рыбы – она даже не помещается в воде, ее целыми косяками выдавливает на берега, такого нет нигде в мире, даже на Трапобане, скорее всего, нет, а здесь есть…
Беневский выходил на берег Большой реки, либо шел на Быструю, – и удивленно наблюдал, как в воде, у самых ног, цепляясь плавниками за камни, шли тучные рыбины, окрашенные в яркий брусничный цвет, бились яростно, когда их пытались выдавить на берег, на землю, – все происходило в оглушающем безмолвии и давило на виски, затылок, грудь, заставляло учащенно биться сердце.
Интересная все-таки жизнь была на Камчатке.
Что еще удивило Беневского, так факт, что в здешнем море, даже в мутном заливе, куда заходили и где отстаивались, отдыхали, ремонтировались корабли, водились голубые акулы. Он думал, что эти чудища водятся много южнее, в теплых водах, а оказалось, нет – водятся и в холодном море, окружающем большерецкую землю и, вполне возможно, даже зимуют подо льдом.
Мясо акул было несъедобным, от него даже собаки отворачивали морды, повизгивали жалобно, – и вкусом и запахом мясо это напоминало гниль, посыпанную золой и пеплом, но плавники у акул были съедобные, и суп из них, как знал Беневский, в Европе считался лакомством. Еще у акулы была съедобна печень, она у гурманов также считалась лакомством. Важно только, чтобы печень эта была чистая, лишь в этом разе ее можно есть, во всех остальных нельзя.
Однажды Беневский видел, как двое туземцев-камчадалов выволокли на берег акулу, вспороли ей брюхо ножом, вывернули печень и поморщились брезгливо – в печени шевелились крупные белые черви.
В результате камчадалы подхватили акулу и швырнули в воду, отказались даже от плавников.
Ловить акул было несложно, они сами насаживались на любую дохлятину, лишь бы кусок был пожирнее да повонючее, и крючок попрочнее, за таким куском они сами выпрыгивали из воды и подвешивались на крюк. Ловили же акул в большинстве своем ради баловства да забавы.
Зубы у голубых акул были кривые, опасные, и камчадалы их побаивались – даже случайно оцарапанный о зуб палец вспухал тугим нарывом и долго не заживал – челюсти у голубых акул были грязными.
Иногда люди, балуясь, привязывали к акулам кухтыли – надутые воздухом рыбьи пузыри и бросали в залив, акулы долго носились по поверхности воды, не в состоянии уйти в глубину – их не пускали кухтыли, – взбивали буруны, изгибались в опасные дуги, потом, усталые, исчезали.
Долгими темными вечерами Беневский и Хрущев начали засиживаться за столом, чертили какие-то схемы, рисовали, делали расчеты, которые Устюжанинов не мог понять и очень жалел, что не может стать помощником этим серьезным интересным людям.
Перед тем как море окончательно покрылось льдом, уже в морозы, в Большерецкую бухту, кренясь на один борт, вошел военный галиот «Святой Петр». Корабль был основательно облеплен льдом, потерял поворотливость, отяжелел и с трудом встал на якорь недалеко от берега.
Но будь глубина малость позначительнее, он вообще бы прижался к берегу, только вот штурман Максим Чурин, командовавший боевым судном, сделал промеры воды и велел близко не подходить – опасно. А береженого, как известно, Бог бережет.
В Большерецкой бухте галиоту надлежало зазимовать. Поблизости находились люди, целое поселение, ежели что, они не дадут команде пропасть, это Чурин понимал хорошо и на этом строил расчет зимовки.
Вскоре рядом со «Святым Петром» оказался второй галиот, еще более потрепанный, помятый подступающей зимой – «Святая Екатерина». Зимовать двумя экипажами было веселее. И вообще в компании все беды переносятся легче.
На следующий день после прибытия «Святой Екатерины» от берега к боевым кораблям потянулась полоса льда, похожая на дорожку, по которой можно будет через некоторое время ходить. Похоже, скоро должны были ударить морозы.
Беневский послал в залив Кузнецова – пусть острым своим глазом оглядит суда, а потом изложит, что они из себя представляют. Самому Беневскому светиться лишний раз в военной бухте было нельзя: неведомо, что пьяному капитану Нилову взбредет в голову, может ведь подумать что-нибудь плохое и определить ссыльного в «холодную» на долгий срок. В Большерецке все может быть: жизнь есть жизнь, а вечная ссылка есть вечная ссылка.
Получив задание, Митяй Кузнецов пришел домой, глянул, не видно ли где Прошки? Кота не было, видать, унесся куда-то по своим срочным кошачьим делам. Тогда Кузнецов сунул в рот два пальца и оглушительно свистнул. Это он умел – от свиста с его крыши даже дранка посыпалась.
– Прошка!
Прошка свист услышал, примчался к хозяину, выгнул дугою спину.
– Прыгай, Прошка, на плечо, пойдем с тобою прогуляемся в бухту, посмотрим, что за гости к нам пожаловали, – сказал ему Митяй.
Кот глянул на хозяина понимающе, лучисто и, не разбегаясь, с места совершил ловкий длинный прыжок. Привычно уселся на широком плече.
– Молодец! – похвалил его Кузнецов.
Оба галиота были изрядно потрепаны непогодой и у команд пока не было сил ремонтировать их, да и в холодную пору особо не поремонтируешь, надо было немного прийти в себя, отдышаться, оглядеться, запастись кое-какой едой.
Конечно, была у галиотов надежда и на крепостные запасы и капитана Нилова – ведь в остроге провиант всегда заготавливали впрок, с верхом, особенно – рыбу.
Заготавливать ее было, повторюсь, просто: во время нереста, когда кета шла вверх по рекам очень плотно, рыбу добывали обычными вилами, складывали, как сено в телеги и везли в острог.
Там работала специальная команда засольщиков, потрошила кету, укладывая ее ровно, голова к голове в бочонки, пересыпала солью, дроблеными корешками, душистыми травами, чтобы отбить специфическую вонь, появляющуюся по весне, другая команда занималась вялением, сушила рыбьи тушки, подвешивая их на веревки. Так что рыба в Большерецкем остроге была всегда.
Правда, за год до того, как Беневский с Винбладом появились на Камчатке, рыба не пришла в здешние реки и в Большерецке случился голод.
Ели все подряд, что можно было жевать (и вообще разжевать) – кору деревьев, мерзлые водоросли, кошек, собак, всю живность без исключения, добытую в лесу – ворон, вонючих хорьков, коренья растений, лисьи тушки, – ничем не брезговали. Главное было – выжить. Но потом и малосъедобных лисьих тушек не стало – среди зверья также начался голод.
«Трудно описать все бедствия, перенесенные камчадалами, – заметил впоследствии один из исследователей событий, происходивших в восемнадцатом веке на полуострове. – В пищу употреблялись кожаные сумы, езжалые собаки, падаль и, наконец, трупы умерших от голоду своих родственников».
Да, ели даже мертвых людей… Но большерецким обитателям досталось меньше, чем тем, кто жил в тундре.
При этом надо заметить, что годом раньше Камчатку подмяла другая беда. Великая беда. «В зиму 1768–1769 годов свирепствовала на Камчатке оспа, похитившая 5767 инородцев и 315 человек заезжих русских людей, – писал тот же исследователь. – Вслед за этим бедствием обнаружился повсеместный неулов рыбы, которая заменяет здешним жителям хлеб».
Трудно было. И хотя в Большерецке, в комендантских погребах имелись хорошие запасы продовольствия – на случай каких-нибудь серьезных военных осложнений, – выжили далеко не все, продуктовые залежи не помогли, большерецкий погост пополнился несколькими десятками могил, оставшиеся в живых ходили как тени, выплевывали изо рта ослабшие зубы и плакали, когда в небе наконец появилось весеннее, способное обогреть человека солнце.
На кузнецовского Прошку тоже покушались, хотели сварить из него суп, но Митяй забил картечь в стволы двух своих ружей и выставил их в дверной проем. Предупредил:
– Ну, любители кошатины, попробуйте только подойти! Дырки в своих шкурах считать замучаетесь.
В общем, Прошка уцелел. А летом в Большерецк на одном из галиотов доставили полсотни собак и столько же кошек – пусть размножаются, мол.
Но Кузнецов, пока была возможность, из избенки своей старался без особой надобности не вылезать и Прошку за порог не выпускать – сохранял кота. Еды у него, конечно, было, как у всех, может, чуть поболее, но он все-таки был охотником и всегда мог добыть какую-нибудь зверушку (пока они сами не передохли, естественно), умел ловко ставить петли, слопцы, сооружать хитрые ловушки, метко стрелять из ружья и мушкета и вытаскивать рыбу из подо льда.
В общем, голод в его хатенке, сложенной из темных потрескавшихся бревен, с сухим, скручивающимся в косички мхом, вылезающим из пазов, с двумя полуслепыми оконцами, обтянутыми рыбьими пузырями, полютовал меньше, чем в других местах. А в конце января Митяй и вовсе отличился: поднял из берлоги медведя, воткнул ему в живот рогатину, и пока косолапый ревел да рогатиной занимался, выдергивая ее из пуза, Кузнецов выстрелил из ружья и просек ему голову свинцовой пулей.
Медвежатины он оставил себе немного, только заднюю ногу – ее можно было запечь с травами и вынести на мороз, чтобы сохранялась долго, – остальное разнес по Большерецку, по голодным домам, каждой семье дал по куску.
За такие поступки Митяя Кузнецова в поселении уважали, при встрече шапку с головы стягивали даже люди, которые были много старше его по возрасту.
Когда возвращались из бухты, впереди из промерзлых кустов вдруг выскочил кобелек с висячими лохматыми ушами, гавкнул на кота, оседлавшего плечо человека, будто всадник лошадь, и Прошка этого не стерпел – уркнул звонко, зло и спрыгнул с плеча на землю.
Кобелишко понял, что напрасно он обматерил кота – неосторожно это, непродуманно, – сунул хвост себе между задними лапами и что было духу понесся в Большерецк.
Кот – за ним.
Кузнецов хотел припустить следом, чтобы разнять драку, если она затеется, да разве за четырехногими скороходами угонишься? Бесполезная штука.
Так кот и гнал бедного кобелька до самого Большерецка, пока тот на окраине, окончательно выдохшийся, с высунутым до самой земли языком, не нырнул в один из дворов и не плюхнулся в мусорную кучу. Глаза от ужаса прикрыл обеими лапами.
А Прошка уселся посреди дороги и начал как ни в чем не бывало умываться, облизывать шкурку, приводить себя в порядок – хотел встретить хозяина во всей красе и чистоте. Вот каков был кузнецовский кот.
– Ну что там в бухте? – спросил Беневский у своего ходока-разведчика, когда тот появился в доме.
– Один галиот потрепан сильно, второй – терпимо, – ответил Митяй, – оба можно отремонтировать, оба к чистой воде будут на ходу.
– Какой же потрепан сильно?
– «Святая Екатерина».
К этой поре у Беневского уже созрел план побега, решительно поддержанный Петром Хрущевым. Более того – не только отставной измайловский поручик был уже посвящен в дела Беневского, но и Альфред Винблад, и Василий Панов, и Ипполит Степанов, и Иосафат Батурин, и Семен Гурьев, и бывший камер-юнкер императрицы Алексей Турчанинов – высокий сгорбленный старик, у которого были вырваны ноздри и отрезан язык.
Детишки, когда видели его, шарахались в сторону – им делалось страшно.
Наказан был Турчанинов самой матушкой Анной Иоанновной, лично – за то, что дурно отзывался о ней, и наказание это не было смягчено даже после ее смерти. Впрочем, великосветский вельможа, блистательный Алексей Турчанинов домой отправляться уже не хотел, не мог – до стона, до тошноты боялся показаться в родовом имении: люди ведь в обмороки падать начнут от одного только его нынешнего облика. И был прав. Вид у Турчанинова был ужасен.
А вот бежать с Камчатки он был готов. Куда угодно. Хоть в Африку. И когда угодно…
Итак Беневский готовил побег. Сгнить заживо на краю краев земли он не хотел. В хате Хрущева все чаще и чаще стали собираться единомышленники – побег всем им грел душу. Бежать решили весной, когда залив очистится от льдин и можно будет выйти в открытое море. Из двух галиотов решили выбрать один – «Святого Петра».
Вечером всклень наполняли китовым или тюленьим жиром глиняную плошку, поджигали фитилек и долго, вполголоса, стараясь громко не говорить, обсуждали детали побега.
Спорили. Тихо, но жестко. Случалось, миска с жиром выгорала досуха.
Тогда споры прекращались, собравшиеся расходились.
Больше всех Алешу Устюжанинова удивлял Семен Гурьев. Он совершенно не был похож на дворянина. С всклокоченной нечесаной головой, темными полосками грязи под ногтями и блуждающим взором Гурьев скорее походил на клиента из приюта для душевнобольных людей, чем на заговорщика.
Хоть и немного лет было Устюжанинову, и опыт почти отсутствовал – для этого надо стать взрослым, – а глаз он имел вострый, он увидел в Гурьеве то, чего не разглядели другие. Гурьев был раздавленным, ослабшим человеком.
В один из вьюжных вечеров Семен Гурьев вдруг захныкал:
– Раскроют наш заговор, как пить дать, раскроют… И поотрубают тогда нам головы. Вот увидите!
Беневский глянул на него жестко, изучающе и отвел взгляд в сторону. Удрученно покачал головой – не ожидал он такого от Семена Гурьева.
Он не успел ничего сказать, как к Гурьеву подскочил старик Турчанинов, завзмахивал руками, залопотал что-то непонятно, безъязыко, тревожно. Гурьев отшатнулся от старика, но Турчанинов не дал ему уйти, ухватил за отвороты засаленного рваного камзола и притянул к себе.
В следующее мгновение Турчанинов откинул голову назад, примерился и с силой ударил Гурьева лбом в переносицу. Гурьев вскрикнул, повалился на пол. Если бы он не сделал этого, то разозленный старик ударил бы его вторично и точно бы располовинил череп – слишком уж разъяренным было у него лицо и слишком уж сокрушительный удар он готовился нанести.
Помог Гурьеву подняться с пола Панов, подтолкнул его в спину кулаком и сказал:
– С такими заявлениями сюда больше не приходи. Понял, Семен?
Гурьев просипел что-то в ответ и вывалился за дверь.
Собравшиеся добавили в плошку тюленьего жира, запалили огонь поярче и начали обсуждать возможности галиота: сколько людей он способен взять на борт, много ли груза вмещают в себя два его трюма, какую скорость может держать, идя по ветру и какую против ветра, сколько суток плавания осилит, не заходя в порты, и так далее.
Вопросов было много и на все нужно получить ответы. Самым сведущим в корабельных и вообще в морских делах оказался, конечно же, Беневский. Пребывание на голландском паруснике не прошло бесследно.
В разгар спора о возможностях галиота Беневский вдруг звонко хлопнул ладонью по столу.
– А чего мы, собственно, обсуждаем? Разве у нас есть другие корабли, кроме двух галиотов, а? – он оглядел собравшихся и поморщился, будто в сапог ему попал гвоздь. Назидательно вскинул одну руку. – Только лодки, обтянутые нерпичьими шкурами… Ничего другого нет.
– Действительно, – проговорил Панов, только что с воинственным видом нападавший на Батурина. – Ничего другого нету.
– Поэтому следует обсуждать только один вопрос: что мы можем взять с собою и в каком количестве, – сказал Беневский, – понятно?
Здесь надо пояснить, что такое галиот (иногда судно называли гальотом). Это был довольно устойчивый небольшой парусник с округлой кормой, предназначенный для недалеких плаваний – тех, которые ныне называют каботажными. Вместительный – мог взять триста тонн веса.
Длина его по килю составляла семнадцать метров, ширина – шесть метров. И «Святой Петр» и «Святая Екатерина» входили в состав Сибирской военной флотилии и были приписаны к Охотску – главному порту на восточной окраине Российской империи.
Построен «Святой Петр» был в Охотске – там имелись искусные мастера, – на воду спущен в 1768 году – словом, корабль был совсем свеженький, крепкий, не успел ни прогнить, ни просолиться (как известно, из деревяшек, снятых с просолившихся судов, можно было варить суп – ни рыбы не надо было, ни соли), ни проломить себе борт где-нибудь в районе Лопатки. Что же касается «Святой Екатерины», то у автора сведений насчет этого галиота нет.
При всем том надо заметить, что со «Святым Петром» Беневский был уже знаком – на нем, если вы помните, Маурицы был доставлен вместе с Винбладом двенадцатого сентября 1770 года в Большерецк. Подумав об этом, Беневский лишь усмехнулся печально, да едва приметно вздохнул: что было, то было, главное, чтобы былое не повторялось.
Спросил у Митяя Кузнецова:
– Какой галиот стоит ближе к берегу?
– «Святая Екатерина».
– Значит, он больше вмерз в лед, – задумчиво проговорил Беневский, поцокал языком, словно бы в чем-то сомневался.
– Да, – подтвердил Митяй, – вырубить его изо льда будет сложнее «Святого Петра».
– «Святую Екатерину» трогать не будем, – сказал Беневский и положил кулак на самодельную карту – словно бы печать поставил.
На следующую сходку к Беневскому Семен Гурьев не явился.
– Как бы он не заложил нас, – обеспокоенно проговорил Панов, – не то вечерком, в темноте, когда никого не видно, пожалует к Григорию Нилову, да расскажет обо всем… Вот тогда мы попляшем.
– Не попляшем, – жестким тоном произнес Беневский, – до этого дело не допустим… Гурьева придется убить.
Да, Гурьева надо было убирать, иного не дано.
Убить Гурьева не успели, да и Нилову он ничего не сказал, а вот купцу Холодилову проговорился, тот информацию принял к сведению, а потом, когда основательно обмозговал ее, прокрутил в голове варианты «туда-сюда», обмыслил все, то невольно побледнел: если на Камчатке случится бунт, то вся его коммерция сгорит на корню. От нее даже пепла не останется. Допустить это было нельзя, и Холодилов заметался по просторной и чистой избе своей, пристроенной к складам – не знал, как поступить…
Как быть, как быть? Думал, думал Холодилов и придумал.
Одним из самых ценных подарков в Большерецке считался чай – желанный продукт, привозимый из Китая. Даже маленький кулек чая вызывал у любого человека радостную улыбку. Наверное, ценнее чая здесь был только порох. Но порох достать было легче, чем пакетик душистых сушеных листков чая; запасы пороха у люда здешнего всегда имелись, а чая – нет.
Как-то утром в доме Хрущева появился холодиловский работник – разбитной молодец в собольей шапке.
– Господин Беневский и господин Хрущев! – молвил он высоким торжественным голосом.
Хрущев с интересом покосился на него:
– Чего там у тебя, выкладывай!
– Мой хозяин прислал вам подарок, – работник протянул ему плотный холщовый мешочек, на котором, на ткани, приметно чернели иероглифы, нанесенные тушью. – Пра-ашу! – он с театральным пафосом повысил голос.
Взяв в руки мешочек, Хрущев встряхнул его, проговорил недоуменно:
– С чего бы это? Никогда Холодилов не делал нам подарков и вдруг – на тебе! Странно, странно!
– Ничего странного! Господин Холодилов собирается отдать в обучение господину Беневскому своего племянника. Надо подтянуть его по части французского и немецкого языков.
– Да у Холодилова, по-моему, никакого племянника нету. – Хрущев недоуменно наморщил лоб. – Не помню я такого.
– Это здесь, в Большерецке, нет, а в Ичинске есть. Через две недели племянник прибудет сюда.
– Как хоть зовут его? – поинтересовался Хрущев.
– Не могу знать, – ушел от ответа работник. – Хозяин мне не докладывал.
– Ладно, передай хозяину спасибо, – сказал Хрущев и закрыл за работником дверь.
Торговый работник этот был из породы хлыщей, а хлыщи никогда не нравились бывшему измайловскому поручику, он откровенно презирал их. Интересно, что же заставило Холодилова сделать такой богатый подарок, а? Каковы мотивы этого поступка?
В то, что богатый купец был озабочен судьбой своего безродного племянника и его французским говором – форменная чушь, – Хрущев не верил в это. Скорее лягушку можно обучить французскому языку, чем ичинского племянника. Тогда в чем причина?
Ведь Холодилов никогда не был близок к ссыльным, ничего не знал о них, хотя иногда завидовал… Завидовал одному – иностранным языкам, которыми те блестяще владели. Сам же Холодилов к языкам был неспособен совершенно, не воспринимал их, он даже русский, и тот знал кое-как. Зато умел хорошо считать. Для того чтобы стать на Камчатке богатым, знание языков не было обязательным, главное – счет и умение отбирать у камчадалов пушнину, которой аборигены не знают подлинной цены и прежде всего – отбирать соболиные шкурки.
Не то ведь до чего дошли инородцы – до сих пор встречаются отдельные людишки, которые дорогими соболиными шкурками подбивают себе лыжи. Расскажи об этом в Санкт-Петербурге – купцы за головы схватятся. Хрущев не выдержал, усмехнулся. Вообще-то Холодилов и на ссыльных смотрел, как на людей низшего сословия. Интересно, что же все-таки заставило его сделать такой ценный подарок?
Озадаченный Хрущев поскреб пальцами черную трескучую бороду, бороду и позвал Беневского. Показал ему увесистый мешочек с душистым китайским чаем.
– Вот. Купец Холодилов прислал.
На лице Беневского вопросительной дугой выгнулась одна бровь.
– Интересно, что бы это значило? – недоуменно проговорил он.
– Сам голову ломаю. Пока не могу понять.
– Давай поступим следующим образом, Петр Петрович, – Беневский вскинул голову и позвал громко: – Алексей! – Услышав отклик, спросил: – Ты сегодня на школьные занятия собираешься?
– Да. У нас сегодня – арифметические упражнения. Господин Степанов ведет.
– Очень хорошо. Тебе будет поручение… важное поручение, – Беневский крепко завязал горлышко чайного мешка бечевкой. – Передашь господину коменданту, а еще лучше – кому-нибудь из его обслуги. Скажешь, что от купца Холодилова подарок. Просил вручить лично господину-коменданту. Это очень важно, чтобы Нилов знал – подарок просил передать Холодилов. Лично. Понял?
– Понял. Все сделаю так, как велели.
– Тогда с Богом!
– Морис Августович, чаек ведь и нам мог пригодиться, – подал голос Хрущев.
– Слишком уж подозрительный подарок, поверьте. Опробуем его на коменданте. Ежели что не так – будет разбираться он, а не мы. А по нашей части… избави нас Бог от этаких подарков.
Капитан Нилов подарку обрадовался, велел, чтобы Судейкин немедленно поставил самовар. Подкинул мешочек в руке, проговорил обрадовано:
– Заварим свеженького чайку… заварим свеженького чайку!
После вчерашнего у него болела голова, во рту было погано, будто там переночевала пара бродячих собак, И лошадь впридачу. Дыхание было таким, что от него обычно дохли мухи, но зимой на Камчатке мухи не водятся – только белые… Да и то за окном.
Спиридон Судейкин чай тоже любил и по себе знал, как хорошо помогает крепко заваренный чаек с похмелья – и голова делается ясной и руки перестают трястись, – немедленно налил в самовар воды, выгреб из поддона остатки золы, накидал в трубу свежих смолистых чурочек.
– Сей момент, ваше превосходительство, – прокричал он бодро, коменданта Судейкин величал превосходительством, как генерала, – оглянуться не успеете, как самовар вскипит.
Самовар действительно вскипел быстро, и заварной чайник тоже настоялся быстро – всего несколько минут понадобилось, – и связка бубликов не замедлила появиться на скатерти, но Нилов за стол усесться не успел. Под окнами возникли две собачьи нарты и в доме появился знакомый камчадал Терентий Поротов.
Жил камчадал в Ичино, был богат, с властями старался дружить – Нилову регулярно привозил подарки. С подарком он возник в доме и сейчас – в руках держал три искристые соболиные шкурки.
Нилов, знавший толк в соболях, хрюкнул обрадованно – шкурки были завидные, за такими дамочки в Санкт-Петербурге охотятся и выкладывают большие деньги.
С поклоном Терентий подал шкурки Нилову, тот с довольной улыбкой – улыбался от уха до уха, – принял их.
– Однако соболей у нас, начальничка, становится мало, – сказал ему Терентий, – мор среди зверей пошел.
– Ты садись, Терентий за стол, мы за чаем все и обсудим, – Нилов выпрямился и, повысив голос, приказал Судейкину: – Спиридон, подай нам водки. И чавычьего балыка порежь.
– Сей момент, ваше превосходительство, – готовно отозвался Судейкин.
– Я водку сегодня не буду пить, – неожиданно отказался от любимого «блюда» Терентий.
– Чего так? Не заболел ли?
– Нет. Шаман до первой луны запретил пить. Сказал, иначе болезнь не уйдет.
– Новая луна родится через два дня, это скоро… А я выпью.
Терентий словно бы не слышал коменданта… Не выпить водки, когда ее предлагают, было для него мучением. Но Терентий был тверд, хотя лицо его приняло обиженное выражение.
– Шаман велел вместо водки варить траву и пить настой, – задрожавшим голосом пожаловался он. – Вари, говорит, в котле, как рыбу и пей. По кружке в день. Тогда, говорит, молодой будешь.
– Врет твой шаман, – Нилов небрежно махнул рукой, – никогда человек моложе того, что он есть, не будет, увы… Назад дороги, Терентий, нету. Понял?
– А шаман, начальничка, говорит, что назад дорога есть.
– Дурак он, твой шаман. Язык без костей, трепать его можно как угодно. Не хочешь пить водку – пей чай. Свежий. Купец Холодилов из последнего завоза целый куль прислал, – Нилов налил себе из графина водки, кончиком ножа подцепил кусок сочной чавычи. – Ну-с, благославясь, – молвил он и махом выплеснул в себя большую плошку водки.
Выплеснул умело – ни одна капля мимо рта не пролетела, все оказались там, где им положено быть. Зажевав водку чавычей, Нилов произнес довольным тоном – улыбка у него растеклась от уха до уха, даже смятый парик съехал набок:
– Хар-рашо!
– У меня вот какое дело, начальничка, – начал было Терентий, но комендант оборвал его:
– Погоди, погоди… Давай вначале позавтракаем, а потом уж обстоятельно поговорим о делах. Не то все на ходу, да на ходу… Грех это большой – спешка. Понял, Терентий?
– Понял, начальничка, – покладисто отозвался Терентий, – все понял.
– Вот и хорошо, когда попадается понятливый человек.
– А вот и чаек, – торжественно объявил Судейкин, внося в комнату пузатый самовар, сияющий безукоризненно начищенными боками. Кряхтя, водрузил его на стол. – Сейчас заварочку сообразим, – он ловко крутанулся на одной ноге и исчез за дверью.
– Сноровистый мужик, – похвалил его комендант, налил себе еще водки, поднес плошку к носу, затянулся хлебным духом, который любил, водку он называл «жидким хлебом». – А ты, брат, потерпи полминуты, – после пары плошек «жидкого хлеба» Нилов становился особенно словоохотливым, пел, как птица, разные словечки сыпались из него, как мука из-под мельничного жернова. – У-у-ух! – комендант залпом выбил из себя воздух и, широко открыв рот, выплеснул в него водку. – Хар-раша, зар-раза! – он восхищенно помотал головой.
– Недаром русский мужик так любит ее.
Заварной чайник у Нилова был особенный, камчадал раньше не видел таких – с узким горлышком, стремительно расширяющимся к низу, с длинной ручкой, припаянной к боку, – скорее всего, это был не заварной чайник, а что-то другое – чего-то в нем варили, а вот что именно, Терентий понять не мог. Может, рыбный суп, может, травяные снадобья, о которых ичинский шаман так много талдычил, может, солили икру особым способом, Терентию незнакомым, может, делали еще что-то.
Заварной чайник понравился Терентию – богатая была посудина, с зеркальными боками, в которые можно было смотреться, и заварка в чайник была налита такая, что в обморок можно было грохнуться от восторга. Широкое смуглое лицо Терентия распустилось, глаза сделались крохотными, заструился из них сочный сладкий свет.
– Ты наливай себе чаек, наливай, – подогнал гостя Нилов, – хочешь, я тебе налью?
– Не надо, я сам.
Терентий действовал умело – налил в кружку немного заварки, втянул в себя ноздрями воздух – восхищенно мотнул головой от сладкого чайного аромата, вылил заварку обратно, потом налил снова – он священнодействовал.
Судейкин тем временем подал блюдце с твердым, как камень, колотым сахаром. Терентий расцвел – комендант принимал его по высшему разряду, сахар штука лакомая, сладкая, подают его только почетным гостям.
В заварку Терентий добавил кипятка из самовара, продолжающего тихонько пофыркивать, кипящей вода держалась в этом агрегате долго, – потом разогнал ладонью пар, поднимающийся от кружки, сделал несколько аккуратных глотков.
Ему показалось, что он обжегся, хотя Терентий, как все северные люди, любил горячий чай, ни разу в жизни не обжегся любимым напитком, а тут произошло что-то невероятное, неведомое, не знакомое ему совершенно – никогда с ним такого не случалось. Терентий засипел и выпучил глаза. Схватился рукой за горло.
– Ты чего? – недоуменно поинтересовался Нилов. – А, Терентий?
Пол под ногами камчадала поехал в сторону, лицо Нилова, бывшее только что четким, ясным, помутнело и расплылось в воздухе. Изо рта Терентия, из левого края, полезла пена.
Увидев пену, Нилов испугался – понял, что с камчадалом произошло нечто нехорошее, закричал, привставая на стуле:
– Судейкин! Судейкин!
– Чего изволите, ваше превосходительство? – делопроизводитель всунулся в комнату, остановил изумленный взгляд на камчадале, пускающем пенные пузыри. – Чего это с ним?
– Где у нас лекарь? – просипел Нилов грозно. – Сюда его немедленно!
Лекарь – старый Магнус Медер – на счастье оказался в остроге, осматривал одного из казаков, приставленного к пушкам, у которого открылась рана, через несколько минут уже прибежал в дом коменданта.
Опытный медик, он сразу понял, в чем дело, велел перетащить камчадала в канцелярию, там, за занавеской, стянул с незадачливого гостя штаны.
– Ветро черное у вас есть? – спросил Магнус у делопроизводителя.
– Помойное, что ли?
– Пусть путет так, – покивал седыми буклями старый лекарь, – помойное… Только пыстрее, пожалюста.
В быстроте движений Судейкину отказать было нельзя – по хоромам коменданта он носился, как ветер, выметнулся на улицу, вылил помои из ведра прямо под крыльцо, потом, подумав малость, слетел с крыльца вниз и зачерпнул из сугроба снега. Ожесточенно поболтал внутри ведра рукой, чистя емкость, затем снова скрылся в комендантских хоромах.
Капитан Нилов, пребывая в глубокой задумчивости, налил третью плошку водки и произнес знаменательную «вумственную» фразу:
– Однако!
Выдохнув резко, комендант опрокинул плошку в себя. Умел он делать это очень лихо, никто в Большерецке не умел так сноровисто, по-гусарски пить водку. Да и ни у кого в Большерецком остроге не было столько водки, как у Нилова. Он мог плавать по водочному озеру на лодке.
– Однако! – еще раз произнес Нилов, тон был более задумчивым, чем несколько минут назад, – и наполнил «огненной водой» очередную глиняную плошку.
Вид у него был прокурорский. Нужно было разобраться, что произошло с его гостем, камчадалом Терентием и принять соответствующие меры. В конце концов, начальник он на Камчатке или не начальник?
А Магнус тем временем подвесил ведро на кованый гвоздь, вбитый в стену, из потрепанного кожаного баула, который всегда, носил с собою, достал длинную резиновую трубку и велел Судейкину:
– Налей в ветро воты.
– Обычной воды? – изумленно спросил Судейкин.
– Обычьной воты, – подтвердил лекарь.
– Странно, а я думал, что лекари работают с лекарствами, – недоуменно пробурчал делопроизводитель, но перечить не стал, поднялся на цыпочки и вылил в ведро ковш воды. Потом еще несколько ковшей, пока висящее на гвозде помойное ведро не наполнилось.
Магнус поковырялся в заднице у стонущего камчадала и сунул ему в вонючее отверстие конец трубки, второй конец засунул в ведро. И вода сама по себе, без всякой посторонней помощи, потекла в задницу камчадала. Только пузырьки забулькали в трубке. Судейкин удивленно распахнул рот.
– Закрой рот, – посоветовал ему Магнус, – простудишься.
Судейкин поспешно захлопнул рот – действительно, вдруг внутрь проникнет какая-нибудь хворь.
– Молотец! – похвалил канцеляриста Магнус.
Живот у лежавшего вниз лицом Терентия начал раздуваться, Магнус поспешно выдернул у него из задницы резиновый шланг, затем снял с гвоздя ведро и поставил его на пол.
– Теперь наго больного посадить на ветро, – велел он Судейкину, – и притержать, чтопы не упал.
– Как это? – замотал отрицательно головой делопроизводитель, он ничего не понял.
– Телай, чьто велено, – строгим тоном приказал лекарь.
Вдвоем они подняли мычащего, ничего не соображающего камчадала, усадили на ведро и внутри у того словно бы кто-то открыл задвижку – вода сильной, громко звучащей вонькой струей полилась из него.
После первого промывания лекарь сделал второе, а потом прямо там же, в канцелярии, за занавеской, уложил на сколоченную из старых корабельных досок лавку, дал выпить камчадалу какого-то приятно пахнущего снадобья и уложил спать.
Камчадал, немного пришедший после промываний в себя, пробовал сопротивляться, приподнимался с лавки, но лекарь несколькими успокаивающими движениями укладывал его обратно.
– Тиха, тиха, торагой труг, – произносил он решительным тоном, – вам нато лежать.
– Сколько лежать? – из глаз Терентия выбрызнули невольные слезы. – Долго? – он застонал вновь, вяло пошевелил головой.
– Тва тня, – строго произнес лекарь. – Я путу прихотить к вам и тавать микстура.
– Понятно, – слабеющим убитым голосом произнес камчадал, повалился на спину и закоыл глаза.
Через минуту он уснул.
– Зер гут, – произнес Магнус довольно и отправился к коменданту на доклад.
Нилов уже успел принять приличную дозу, нос у него сделался ярким, красным, светился, как луна в тропиках, но глаза еще сохраняли осмысленное выражение, поблескивали ненасытно.
– Ну, чего произошло с Терешкой, отвечай! – потребовал он, наполняя водкой очередную плошку, потом, поразмышляв немного, налил водки в свободную плошку, стоявшую на столе рядом с бутылью, придвинул к лекарю. – Пей!
Лекарь не стал жеманиться и отнекиваться, взял плошку и спокойно выпил. Затем крякнул в кулак – комендантская водка ему понравилась.
– Итак… – Нилов вперил в него свой взгляд и приподнял одну бровь, – излагай!
– Отравы хлепнул, – сказал ему Магнус, – правта, немного… Жить путет.
– Отравы, говоришь? – Нилов насупился, взгляд его налился кровью, отработанным движением он ухватил бутыль за горлышко и ловко наполнил водкой обе плошки, не пролив ни капли. – Ты ведаешь, что говоришь, эскулап? Откуда отрава?
– Не знаю, – невозмутимым тоном произнес Магнус Медер и, ухватив плошку пальцами, опрокинул ее в рот. Водка лишь слабо булькнула в горле и незамедлительно пролилась внутрь, прямо в желудок.
– Судейкин! – заорал Нилов, призывая к себе делопроизводителя.
– Я здесь, – канцелярист незамедлительно возник в проеме комнаты, предназначенной для чаепитий. – Слушаю, ваше превосходительство.
– Приказываю провести дознание, – комендант ткнул пальцем в заварной чайник, – откуда в доме появился отравленный чай?
– Купец Холодилов прислал.
– Сам доставил или кто-то принес?
– Не сам, нет – через мальчишку передал, сказал, что свеженький чаек должен понравиться вашему превосходительству.
– Хм-м! – в горле у Холодилова что-то задребезжало, завозилось – там словно бы свинцовая дробь стукалась друг о дружку, звук был глухой, будто Нилов уже прокатал эту дробь между зубами, сжевал ее, остались только смятые ошметки свинца. – Сам, значит, струсил, мальчишку прислал… Хм-м! Скажи сотнику – Холодилова арестовать и доставить сюда, на допрос. Ишь, чего вздумал – государевых слуг травить…
Лицо у коменданта сделалось красным, светился теперь не только нос – светились щеки, лоб, подбородок, и вообще тело все сделалось у него таким же светящимся, помидорно красным, из глаз источалось негодование, капало, словно слезы, на воротник. Увидев, что Судейкин продолжает стоять на пороге комнаты с остолбенелым видом (арест такого видного и богатого человека, как Холодилов – значимое событие для всей Камчатки, тут в море может подняться высокая волна и покатиться, ломая все на своем пути, на берег, вот Судейкин и медлил), Нилов распалился совсем – свечки можно было зажигать, рявкнул так, что из окон чуть не вылетели слюдяные стекла:
– Выполнять приказание!
Судейкина как ветром сдуло с плоского порога комнаты. Лекарь тоже решил удалиться, – от начальственного гнева лучше держаться подальше, – но едва он встал, как комендант зарычал и на него, адмиралтейского лекаря, всегда имевшего высокое положение не только на флоте, но и в светском обществе:
– А ну, стой!
Магнус остановился. Повернулся к Нилову:
– Я тумал, что вашей милости уже не нужен.
– Ты всегда мне нужен. Погоди-ка, – комендант тяжело поднялся из-за стола, – я сейчас…
Лекарь покорно наклонил голову. Нилов, кряхтя, прошел в соседнюю комнату, принес оттуда чайный мешочек, украшенный иероглифами. Сунул в руки Магнусу.
– Как ты думаешь, что это?
Лекарь недоуменно шевельнул плечами, развернул мешочек, сунул в него нос:
– Вроте пы чай.
– Вроде бы, вроде бы… – Нилов саркастически похмыкал, – я тоже считал, что вроде бы, да только чуть не опрокинулся на землю вместе с камчадалом. А камчадал был отравлен из этого вот кулька, – комендант звонко щелкнул пальцем по плотному матерчатому боку. – Понятно?
Распахнув мешочек пошире, Магнус вновь сунул в него нос.
– У чая всегта пывает сильный запах, он перебивает люпой тругой запах, – произнес лекарь задумчиво. – Но здесь, кроме запаха чая есть тругой запах, – Магнус отвернул лицо в сторону, – вы не пейте этот чай, госпотин коментант.
– Что за запах? – вскинулся Нилов.
– По-моему, еще есть запах мышьяка.
Нилов покрутил головой из стороны в сторону, словно бы на шею ему сильно давил воротник, потом поправил пальцами кадык. Выругался:
– Вот нехристь!
– Кто?
Канцелярист незамедлительно возник на пороге.
– Я здесь, ваше превосходительство!
– Холодилова привели?
– Еще нет. Ушли за ним, но пока не привели.
– Как только приведут – ко мне этого цареубийцу! – тут Нилов, конечно, хватил лишка – никакого царя купец убивать не собирался, скорее наоборот – старался устранить людей, которым власть царя мешала жить. Впрочем, и здесь Холодилов думал не о царе, а о себе самом – эти взбалмошные ссыльные могли принести вред его делу и этого допускать было никак нельзя. Всеми силами, которые имелись у Холодилова.
И плевать ему было на то, что Богу душу может отдать какой-то камчадал. Камчадалов на свете было много, а Холодилов один.
Лицо у купца сделалось белым, когда к нему пришли двое казаков с ружьями, возглавляемые сотником.
– Собирайся!
– Что стряслось? – рот у купца задрожал испуганно, мелко: появление такого конвоя ничего хорошего не предвещало.
– Велено доставить в острог, – пробурчал сотник, сверля Холодилова острыми темными глазами, – лично к коменданту.
– Да я с превеликим удовольствием, – купец затрясся, – гостинец только возьму.
– Никаких гостинцев! – в голосе сотника зазвучали злые шипящие нотки. – Велено доставить немедленно, без всяких сборов. Даже если будешь в исподнем.
– Ва-а-а-а-й, – заголосил купец, задрожал еще больше. – Что случилось-то? – он постарался заглянуть сотнику в глаза, но тот отвел взгляд в сторону. – Может, я тебе гостинец дам, а ты скажешь, что меня не нашел, а?
– Нет, я гостинцев не беру, – из глаз сотника на купца выплеснулось откровенное презрение. – Пошли! – В голосе его послышались угрожающие нотки. – Или тебя казаки возьмут под микитки.
Купец обреченно махнул рукой и больше не произнес ни слова.
Вначале его доставили в «холодную», но комендант возмущенно зарявкал на Судейкина:
– Я же велел этого татя немедленно привести ко мне! Почему не выполнено приказание? Ко мне его!
Несчастного купца, дрожавшего, как осиновый лист, привели к Нилову. Холодилов упал перед комендантом на колени:
– Чем я провинился перед вами, что сделал не так?
– И ты еще спрашиваешь? Скотина! – кожа на лице коменданта заполыхала горячо, в воздухе запахло чем-то горелым. – Пошто хотел меня отравить, да только это у тебя, татя недорезанного, не получилось… Э?
– Помилуйте, ваше сиятельство, – взмолился купец, голос у него завис на высокой ноте, – помилуйте!
– Не помилую! – Нилов изо всей силы саданул кулаком по столу. – Татей миловать не гоже, от этого государству – вред. Докладывай, пошто хотел отравить губернатора Камчатки? – Нилов не сдержался и назвал себя губернатором, повысил в звании и должности. – Э?
Купец хлобыстнулся лбом об пол так, что звон по всему дому пошел: Холодилов не мог понять, что произошло, откуда приползла холера, не мог свести концы с концами, хотя одно осознавал твердо: он находится в большой беде, в такой большой, что запросто может лишиться головы.
Он взвыл.
– Ну как и чем мне доказать, ваше сиятельство, что я не хотел причинить вам никакого зла? Скорее наоборот, я всегда старался делать вашему сиятельству добро и только добро, и сейчас желаю лишь добра и здоровья.
– Хы! – Нилов, рассмеявшись хрипло, упер руки в бока. – Хорошее же у тебя добро, купец, – отправлять людей на тот свет. Признавайся в грехе своем, пока тебя не отвели в пыточную!
Несчастный купец взвыл еще пуще, ему сделалось страшно.
– Никакого греха за мною нет, отец родной, – Холодилов вновь громко саданулся лбом об пол, – не совершал я ничего преступного!
– Значит, не хочешь соглашаться? – зловеще поинтересовался комендант.
До пыточной дело не дошло, да и Нилов, он только грозил, обещая намотать чьи-нибудь кишки на дрючок, на практике же до этого никогда не доводил и вообще комендант не был, как все пьющие русские мужики, отъявленным чудовищем.
Он скоро понял, что Холодилов здесь ни при чем, произошла какая-то ошибка и вообще отраву в мешок сунул не купец, а кто-то из его непутевых помощников. Нилов видел среди них одного хлыща, прыщ этот ему очень не понравился.
Холодилов же, оправившись от смертного испуга, поспешил сообщить коменданту пренеприятнейшую новость:
– Среди подопечных ссыльных зреет заговор, ваше сиятельство, – голос у купца сделался задыхающимся и перешел на шепот.
– Какой еще такой заговор? – выпучив глаза, заревел Нилов. – Ври, ври, да не завирайся. То, что тебя не отволокли в пыточную, еще не означает, что ты там не окажешься. С этим у меня дело налажено на ять! – Нилов потыкал пальцем в пространство над головой. – Понял? Одно легкое движение, и ты будешь болтаться на суку, господин купец!
Хоть и грозен был комендант, но Холодилов сейчас боялся его меньше, чем двадцать минут назад.
– Заговор ссыльных направлен против вас, – шепот купца стал еще тише, немощнее, по лицу его пробежала озабоченная верноподданическая тень, – против царицы-матушки, вона куда они решили дотянуться… Тати – это они.
Плечи у Нилова опустились, сделались бескостными, он шумно задышал и с размаху опустился на лавку.
– Дела-а, – протянул он жалобно, – дела наши грешные.
Нилов вспомнил, что о заговоре ему уже кто-то пробовал донести, поделиться тайной, но комендант даже слушать не стал доносчика, оборвал его раздраженно:
– Не бурови лишнего! Особливо, ежели чего-то не знаешь! Слышал звон… Тьфу!
А оказывается, заговором действительно попахивает, и Нилов поступил недальновидно, отказавшись выслушать доносчика. Это было ему неприятно.
– Заговор, говоришь? – угрюмо прохрипел он, сверля взглядом купца.
– Заговор, ваше сиятельство, – подтвердил Холодилов и меленько, от переносицы до подбородка, перекрестился, – своими детьми клянусь!
– Ладно, проверим это дело, – Нилов отвел взгляд в сторону, – но если ты соврал, то знаешь, что я с тобою сделаю…
– Знаю, знаю, ваше сиятельство.
– Вот что сотворю, – шумно выдохнул Нилов и, наложив кулак на кулак, повернул один кулак влево, второй вправо, – откручу тебе голову, как протухшему петуху. Понял?
– Так точно, понял, ваше сиятельство, – купец поклонился коменданту столь низко, что стала видна его шея в свалявшихся закрутках волос. – Если в том, что я говорил, найдете хоть полслова неправды, можете отрубить мне голову.
– И отрублю, – угрожающе произнес Нилов. – Отрублю обязательно. А пока посиди в моих казематах, мышей покарауль.
Купец начал всхлипывать, биться в истерике, но комендант уже перестал обращать на него внимание, лишь повелительно махнул рукой:
– Уведите!
Холодилова увели.
Вечером того дня Хрущев, наклонившись к уху Беневского, прошептал едва слышно:
– Надо бы переговорить, Морис Августович.
Беневский сощурил глаза, вмиг сделавшиеся жесткими.
– Что-то случилось?
– Еще не случилось, но может случиться.
Оглянувшись на Алешу Устюжанинова, склонившегося над букварем и самозабвенно водившего пальнем по строчкам, Беневский произнес успокаивающе:
– Парня не бойтесь, Петр Петрович, он – свой.
– Я знаю, – Хрущев нервно помял черную цыганскую бородку. – Есть повод для беспокойства: комендант арестовал Холодилова, – Хрущев замолчал и снова помял бородку.
– Интересно, интересно, – по голосу Беневского невозможно было понять, как он отнесся к этой новости. – Ну и чего, собственно? Арестовал и арестовал…
– Холодилов расскажет все, что знает о заговоре.
– Нилов купцу не поверит, – проговорил Беневский убежденно.
И Беневский оказался прав, он был неплохим психологом. Посадив Холодилова под замок, комендант поморщился брезгливо:
– Понапридумывал с перепугу две кучи навоза, чтобы собственную шкуру спасти. Пусть посидит три дня в «холодной», а там видно будет. Новый год опять-таки наступит… Хотя в истории с мышьяковым чаем есть закавыка…
В рассказе купца, пожелавшего с помощью мышьяка, всыпанного в чай, вырубить под корень группу заговорщиков, что-то было, конечно, и заставляло задуматься, но в заговор Нилов не поверил ни на йоту. Беневский рассчитал все точно.
Под Новый 1771-й год на Большерецк навалилась тяжелая, с крутым снегом, и волчьим воем пурга. Мело так сильно и так опасно, что в мутной круговерти снега даже собственную руку невозможно было разглядеть, а уж насчет того, чтобы увидеть крышу соседней хаты или хотя бы собственную печную трубу, то об этом даже помыслить было нельзя.
Метели на Камчатке обладали одной особенностью – они никогда не бывали короткими, пуржить могло неделю, две недели, три, земля съеживалась до крохотных размеров, ничего не было видно, люди делались как слепые. И дышать было нечем.
Митяй Кузнецов прибился к избушке Хрущева, принес свежего мяса – ногу оленя, протянул Беневскому:
– Полакомьтесь, Рождество все-таки, – сказал он. – Не смотрите, что мясо очень темное по цвету, мясо диких оленей всегда такое бывает. Зато оно очень чистое и полезное. Камчадалы никакого другого мяса не признают, только оленье.
– Приходи, Митяй, к нам на Новый год, – предложил ему Беневский.
– Приду, – Кузнецов согласно наклонил голову, – обязательно приду. Может быть, рыбы свежей сумею добыть – угощу тогда. И куропаток принесу – их много летает около Большерецка.
Днем тридцать первого декабря пурга начала стихать, словно бы природа специально давала возможность ссыльным собраться вместе и отметить праздник.
Собрались Беневский, Хрущев, Турчанинов, Гурьев, которого, несмотря ни на что, из компании решили пока не исключать, хотя поначалу думали вообще ликвидировать, Панов, лекарь Медер, Степанов, Алеша Устюжанинов, последним пришел Митяй Кузнецов – в общем, собрались все свои.
Когда разлили по глиняным плошкам водку, Хрущев, повертев плошку в пальцах, сказал:
– У меня на душе – большая тяжесть: через несколько минут начнется очередной год моего пребывания на этой грешной земле, на Камчатке. Хотя как выглядит Санкт-Петербург, я еще не забыл – помню и Невский проспект, и творение великого Монферрана – Исаакиевский собор, и набережные Фонтанки и Мойки, и стрелку Васильевского острова, – все помню очень хорошо, будто только вчера бродил по Петербургу… Но ни вчера, ни позавчера, ни позапозавчера я там не был. Все изменилось по злой воле. И я очень хорошо знаю, кого в этом винить, кто погрузил всех нас в черную беду, кого в этом винить, чье имя сделалось для меня ненавистным… Не только для меня – для вас тоже, – Хрущев замолчал, обвел блестящими глазами собравшихся. – Пусть Новый год принесет всем нам долгожданную свободу, – неожиданно севшим, тихим голосом закончил он.
– Да здравствует долгожданная свобода! – что было силы рявкнул Степанов.
Он уже успел втихую пропустить пару плошек, глаза у него были затуманенными.
– Не так громко, – осадил сподвижника Беневский, – вдруг под окном притаился какой-нибудь соглядатай Нилова и вострит теперь ухо на наши тосты.
– Да я его! – Степанов потянулся к висевшему на стене ружью, но Беневский удержал бывшего сочинителя неудачных проектов:
– Наше время еще не пришло, Ипполит Семенович, – трудное имя Степанова Беневский произнес без запинки, у него вообще была способность легко и быстро одолевать чужие языки и запоминать непростые слова. – Придет позже, потом, так что потерпите немного, пожалуйста.
Степанов мгновенно смолк, Беневский остановил громыхающую телегу на ходу, даже особых усилий не понадобилось.
– Выпьем за Новый тысяча семьсот семьдесят первый год, – торжественно провозгласил Хрущев, чокнулся поочередно со всеми, – пусть он станет годом нашей общей свободы, – он осушил плошку до дна и стряхнул капельки водки на пол.
В честь Нового года водки налили даже Алеше Устюжанинову и он от предложенной плошки не отказался.
Водку он пил первый раз в жизни, до этого не только не пробовал ее – даже не нюхал, от выпитого он чуть не свалился на пол, так ударила в голову «огненная вода», на глазах у парнишки выступили слезы. Он отвернулся от взрослых, чтобы те не видели его слабости, кулаком отер глаза.
Потянулся к куску рыбы, лежавшему на краю тарелки, неторопливо разжевал его – вел себя, как взрослый. Да и вообще Алеша Устюжанинов взрослел не по дням, а по часам.
После третьего тоста с лавки поднялся Семен Гурьев.
– А может, нам и не надо проклинать императрицу, господа? – неожиданно произнес он. Едва различимый шепелявый голос его услышали все, шум разом унялся, сделалось так тихо, что было слышно, как о стенки их дома скребется снег, да где-то недалеко тявкает греющаяся в сугробе собака.
На щеках Беневского заиграли недобрые желваки. А ведь он был неправ, не доведя задуманное до конца – Семена Гурьева нужно было убрать в прошлый раз, после первого его выступления. Убрать и зарыть в снегу до весны.
– Как не надо? – спросил он. Было видно, что Беневский с трудом сдерживает себя. – Как не надо? Ты опять за свое, Семен?
– Царица – женщина добрая, – сглотнув скопившуюся во рту слюну, прежним слабым голосом продолжил Гурьев, – напишем ей прошение в Санкт-Петербург, она и простит нас. А так нам вырвут языки, отрежут ноги и руки, отрубят головы и насадят их на колы. Я готов написать такое прошение, готов поклясться царице, что отслужу благодарностью на полях битв, укрепляя мощь России.
Немо, страшно, как и в прошлый раз, захрипел старик Турчанинов, кинулся на Гурьева: хы-ы-ы-ы! – но его успел перехватить Хрущев. Сдержал.
– Вот что, Семен, – произнес он жестко, тихо, с металлом в голосе, – уходи, не порти нам праздничную компанию. Уходи!
Понимающе кивнув, Гурьев шагнул к двери, дрожащими руками зашарил по вешалке, на которой висела его одежда.
– И еще, Семен, – Хрущев повысил голос. – В прошлый раз ты проболтался про наши дела купцу… Хорошо, Нилов не поверил ни одному его слову, поверил нам. Но если ты ляпнешь еще где-нибудь хотя бы полслова, то можешь догадаться, что с тобою будет, – видя, как ежится Гурьев. Хрущев добавил: – Это наше общее решение. Мы тебя убьем… Понял, Семен?
– Понял, – пробормотал Гурьев глухо и, поспешно потянув дверь на себя, шагнул в темноту, в завихренное колючим снегом ночное пространство.
Пути-дороги с заговорщиками разошлись у него навсегда. Степанов, сжав пальцы в кулак, ожесточенно опечатал им воздух.
– Я бы не стал отпускать его, – прокричал он зло, хрипло, – я бы его… Он предаст нас! Вот увидите – обязательно предаст!
– Посмотрим, – неопределенно проговорил Беневский, – но быть осторожным стоит определенно. Иногда – очень осторожным.
В голове у Алеши Устюжанинова гудело, позвякивало, словно бы кто-то набросал туда железок, он боком пробрался к своей кровати, ткнулся головой в подушку и уснул.
Очнулся он от толчков в бок, открыл глаза и увидел Беневского. Тот стоял над ним и улыбался.
– Мяса оленьего, горячего хочешь? С бульоном. Петр Петрович сварил. С кореньями и сладкими травами.
– Хочу, – Алеша обрадовано потянулся.
– С нынешнего дня, с первого числа января я назначаю тебя своим адъютантом, – произнес Беневский с торжественными нотками в голосе. – Согласен на это?
– Так точно, согласен, – сказал Алеша, хотя не знал, что такое адъютант, а спросить – пороха не хватило.
Он сбросил ноги на пол, поднялся рывком – видел, как это делают взрослые.
– А ты молодец, – сказал ему Беневский, – водку выпил – не поморщился, хотя я по себе знаю, как она ошпаривает рот…
– Очень горькая, – пожаловался Алеша.
– Теперь съешь мяса и выпей бульона, – в голосе Беневского прозвучали теплые нотки, – и все встанет на свои места.
Так Алеша Устюжанинов и поступил.
Большой любитель выпить комендант Нилов на Новый год, как ни странно, не пил, к водке даже не прикоснулся – пребывал в мрачном состоянии, думал о чем-то своем, тяжелом, способном придавить любую душу к земле, на вопросы не отвечал, лишь раздраженно отмахивался, да молчал.
Сын его Григорий – беспечный, белоголовый, капризный, весь Новый год лакомился орехами. Для этого сотник специально отрядил ему караульного солдата, тот разгрызал крепкие скорлупки, вытаскивал из раздавленной оболочки ядра и отдавал мальчишке. Младший Нилов радовался – вкусно очень. И зубы свои не надо портить, ломать – солдат расправляется с ними играючи.
Понимая, что отец подавлен, лицо у него серое, больное, глаза слезятся, с ним вообще происходит что-то нехорошее, Гришка подергал его за рукав.
– Ты выпей, тятенька, тебе легче станет, – посоветовал.
В ответ комендант только вздохнул и отрицательно покачал головой, в глазах его вспыхнула и погасла боль.
– Не время, сынок, – проговорил он тихим незнакомым голосом. – Не время.
Он понял – наконец-то! – что заговор в Большерецке готовится действительно и во главе его стоит человек, к которому он относится хорошо, постоянно жалует вниманием и часто приглашает к себе в дом – Маурицы Беневский.
С Беневским – еще несколько человек: хозяин хаты, приютивший поляка – Петр Хрущев, смешной старик Магнус Медер (смешной-то смешной, но лекарь очень хороший), тут же и второй старик, безъязыкий, с вырванными ноздрями, Алексей Турчанинов, бывшие офицеры Панов, Батурин, Степанов, иностранец Винблад – в общем, набралась полная кошелка злодеев.
Комендант поморщился, словно от боли, повел головой в одну сторону, потом в другую – воротник, который никогда не был тесным, начал туго сжимать ему шею, – ну будто бы на Нилова накинули петлю.
С одной стороны, надо было немедленно действовать и Нилов хорошо понимал это, а с другой – силенок у него было маловато: из семидесяти солдат и казаков, находившихся под началом коменданта, сорок три пребывали в разъездах. Несмотря на зимнюю пору, непролазные снега, они регулярно возникали в самых разных углах Камчатки, собирали дань для царской казны – ясак, «меховую рухлядь», драгоценные собольи шкурки, лисьи и горностаевые снизки… По мнению Нилова, на Камчатке водился самый ценный в Российской империи соболь, он был, на его взгляд, даже ценнее знаменитого баргузинского.
Но местные жители – коряки, алеуты, камчадалы, – цену соболю не знали, иногда дорогими собольими шкурками подбивали себе лыжи.
Такие лыжи хорошо скользили по снегу, а когда охотник забирался на горку, то не устремлялся безудержно назад, мех держал его на месте. Не понимали местные люди, что если лыжи подбить драной собачьей шкурой, результат будет тот же самый: лыжи станут так же хорошо скользить по склону и так же не покатятся назад с крутой горы, а то и с самого вулкана, коих на Камчатке немало.
И все-таки, несмотря, что Нилов уже имел на руках свидетельства заговора, он не мог до конца поверить, что такие милые, такие обходительные люди, как Беневский, Винблад, Панов и другие, которых он хорошо знал (они же обучали его Гришку не только иностранным языкам, но и географии с математикой, черчению и истории, просвещали других камчатских детишек), которые часто бывали у него в гостях – с ними он коротал темное вечернее время, беседовал на приятные темы и потреблял «огненную воду» (в количествах, не всегда, к сожалению, разумных), могли замыслить заговор…
И ладно бы заговор против него, это мелочь, мура – эти вздорные людишки решили затеять заговор против самой императрицы! В общем, было, над чем задуматься коменданту. Поэтому Нилов и колебался… И был так не по-рождественски мрачен.
Сыну Нилова надоело есть ядра, вытащенные из разгрызенных солдатом орехов, и он милостивым взмахом руки отпустил служивого:
– Вали отсюда!
Отец посмотрел солдату вслед и, приходя в себя, проговорил со вздохом:
– Ладно. Как бы прискорбно ни складывались обстоятельства, будем действовать. Пусть только пройдет рождественская седмица – не арестовывать же благородных людей в праздник.
Нилов вновь вздохнул, лицо у него поспокойнело, посветлело, на душе сделалось легче.
О решении коменданта стало известно Хрущеву. Он немедленно созвал заговорщиков на совет.
После пурги установилась хорошая погода, в небе сияло крохотное зимнее солнце, белесое, с желтой налипью посередке, тепла от него не было, а вот маленькая радость в душе засветилась, растеклась внутри легким щенячьим восторгом – жить в такие дни хотелось.
Хрущев был озабочен.
– Нилову про нас известно все, – сказал он, – все-все… Раскопал, зар-раза.
– В этом ничего особенного нет, – невозмутимо заметил Беневский, – мы наши замыслы и не засекречивали, даже наоборот – привлекали людей, а у людей, как известно, языки длинные, тайны выбалтывают быстро. Вот и стало все известно Нилову.
– Не сегодня – завтра он нас арестует, Морис Августович.
– Мы его арестуем раньше, – спокойно произнес Беневский, – сегодня ночью. Надо собирать людей, прежде всего – охотников.
– Жаль, Митяя Кузнецова нет.
– Где он?
– В тундре.
– Это действительно жаль. Кузнецов – решительный человек, охотники его уважают. А охотники нам очень нужны – Кузнецов мог бы их привести… Жаль, что он в тундре. С другой стороны, Нилов еще может пару-тройку дней помедлить, пока казаки не вернутся из своих поездок. Сил у него, скажем прямо, маловато.
Но Нилов медлить не стал, он переменил решение, принятое ранее – немного поразмышлял и переменил и вечером, уже в темноте, отправил в хату Хрущева сотника и двух пеших казаков.
– Приведите ко мне поляка и этого самого… хозяина хаты… Хрущева, – велел он.
Сотник Беневского знал и относился к нему с уважением, Хрущева тоже знал, но недолюбливал за колючий характер и насмешливый язык, так что эти две фамилии были для него неравнозначны. Лицо сотника сделалось угрюмым, он неуклюже поклонился коменданту и, не сказав ни слова, вышел за дверь.
Удалой охотник Митяй Кузнецов был занят неотложным делом.
Три дня назад, в темноте, когда ночь уже накрыла черным холодным одеялом здешнюю землю, в дверь к нему постучали. Стук был громким, настойчивым.
Митяй еще не спал, лежал в темноте с открытыми глазами, обдумывал свое житье-бытье, рядом уютно расположился кот Прошка, мурлыкал, намекая, что хозину пора отойти ко сну; услышав требовательный стук, Митяй похлопал себя ладонью по рту и, обращаясь к Прошке, поинтересовался:
– Это что за разбойники ломятся к нам в дом?
Кот прекратил мурлыкать, насторожился.
Открыв дверь, Митяй увидел двух невысоких, пляшущих на снегу людей, одетых в кухлянки. Одного из них он знал, это был камчадал Паранчин, второго – нет.
– Это мой братка, – сказал Паранчин, хлопнул своего спутника ладонью по плечу. Митяй удивился: вроде бы у Паранчина никаких братьев не было, его всегда видели только с женой, а оказывается, есть брат, и слово какое ласковое для него нашел камчадал, точное и редкое – «братка».
– Заходите – гостями будете, – сказал Митяй, – сейчас свет запалю.
– Беда, однако, Митяй, – Паранчин не стал ждать, когда Кузнецов зажжет огонь светильника, – ты очень нужен…
– Я всем нужен, – Митяй не удержался, хмыкнул. – Что за беда?
– У братки оленье стадо находится в беде, – пожаловался Паранчин.
– У братки? – Митяй, не выдержав, снова ухмыльнулся.
– Да. Вначале стадо обложили и угнали к вулкану волки, а потом волков прогнали росомахи – целая стая.
Митяй невольно покрутил головой: когда речь заходит о росомахе, то охотник начинает невольно задумываться – а зачем природе понадобилось сотворить такого пакостливого зверя? Пакостливее и кровожаднее росомахи зверя в природе нет. С росомахой не связывается даже медведь.
Теперь понятно, почему камчадалы – люди, умеющие хорошо стрелять и не промахиваться, пришли к нему… Малым числом со стаей росомах они не справятся. Митяй поспешно натянул на себя штаны, сшитые из непромокаемой нерпичьей кожи, одел чистую холщовую рубаху, сверху вторую рубаху – толстую вязаную, теплую.
На плечи накинул новенькую кухлянку, в которой никакой мороз не был страшен, со стены снял ружье – с длинным убойным стволом и облегченным прикладом, приклад для него Митяй выточил сам, работал долго, в результате получилось то, что надо, – в долгих охотничьих переходах, в соболиных гонах с таким ружьем устаешь меньше, – в заплечный мешок сунул заранее приготовленный кулек с порохом, следом второй кулек – со свинцовым припасом, пулями и дробью.
Погладил по голове Прошку, который недружелюбно поглядывал на непрошеных гостей.
– Ты снова остаешься в доме за хозяина, – проговорил Митяй негромко, – жди меня. Понял?
Кот все понял, отвел свой недобрый взгляд от гостей.
– Ну, бывай, Прохор, – сказал Митяй и толкнул дверь в крохотный, недавно пристроенный к дому тамбур, пахнущий копченым мясом, из тамбура вышел на улицу. Там, под домом, ночевали его собаки, две лайки – Граф и Маркиза.
Лайки на Камчатке хоть и имели своих постоянных хозяев, а жизнь вели вольную, гонялись по окрестностям за всем, что умело бегать, многие хозяева их даже не кормили – собаки добывали еду сами.
Но если Митяй оказывался дома и никуда не собирался ехать, Граф и Маркиза тоже предпочитали находиться дома – были преданы хозяину.
Услышав голос Митяя, собаки мигом выбрались из-под дома: поняли, что предстоит охота, а это дело они любили больше всего в жизни.
– Маркиза! Граф! – хозяин потеребил лаек за уши. – За мной!
В двух шагах от его дома стояли нарты, запряженные одиннадцатью ездовыми собаками – транспорт паранчинского «братки».
Сверху, из-под небес, на темную, сиротливо сжавшуюся в преддверии новой пурги землю свалился плотный снеговой полог, скрутился в несколько тугих жгутов, попытался накрыть собак, но не успел – те поспешно рванулись вперед и залились дробным лаем. Митяй прыгнул на задок нарт, Паранчин с «браткой» разместились впереди.
Через несколько минут нарты проглотила ночь.
У дома Хрущева сотник замешкался – не хотел выглядеть перед Беневским этаким ворогом, привыкшим выламывать руки хорошим людям, оглянулся на казаков и сказал им:
– Вы меня подождите тут, я вас кликну.
Казаки на это ничего не ответили, стянули с плеч тяжелые мушкеты. Сотник даже не успел постучаться в дом – дверь открылась сама. На пороге стоял Беневский.
– Ба-ба-ба! – воскликнул он приветливо. – Господин сотник! Прошу пожаловать в дом, – он сделал широкий приглашающий жест. – Мы как раз собираемся опустошить графинчик холодной водки. Шкалик ждет и вас, господин сотник. Прошу!
Сотник, не колеблясь, шагнул в дом. Беневский закрыл за ним дверь.
В сенцах было темно, пыльно, у стенки стояли свежеоструганные доски. «Для гроба, что ли?» – подумал сотник и в это время на него накинули рыболовную сетку.
Не понимая, в чем дело, сотник забарахтался в ней, выматерился. В темноте к нему шагнул Панов, зажал рукою рот.
– Тихо, тихо, не делай лишних движений, – предупредил он. – Не станешь делать – все будет в порядке, начнешь размахивать саблей – кончишь плохо.
– Пожалуйста, пожалуйста, гость дорогой, – громогласно произнес Беневский, так, чтобы его слышали казаки.
Скрученного сотника втянули в избу, усадили на лавку.
– Не думай, что это шутка, – предупредил его Беневский, – это далеко не шутка. Разоружите нашего гостя, – приказал он, – на всякий случай.
У сотника выдернули из ножен шашку. Пистолетов, которыми он также должен быть вооружен, при сотнике не оказалось.
Из-за голенища правого сапога вытащили охотничий нож.
– Это все, – сказал Батурин, занимавшийся разоружением сотника, – больше ничего нет. Только кисет с табаком, кресало и огниво.
– Все так все, – доброжелательно произнес Беневский, – пора приглашать остальных.
Сотник дернулся, попытался что-то сказать, но рядом с ним немедленно встал Панов.
– Не дури, служивый, – предупредил он, – не то худо будет.
Плечи у сотника обвяли, на лице возникли горькие складки. Беневский неторопливо выдвинулся в сенцы, открыл дверь, ведущую на улицу. В сенцы влетело целое облако мелкого снега, следом вполз холодный пар.
– Заходите, служивые, – окликнул Беневский казаков, – выпейте по чарке, согреетесь хоть… – заметив настороженный взгляд одного из них, Беневский улыбнулся широко, гостеприимно: – Сотник разрешает.
– Ну раз разрешает, дак мы… – неловко топтавшийся казак с сомневающимся взглядом решительно шагнул к двери, – дак мы завсегда…
Через минуту оба казака, разоруженные, уже сидели на лавке, окруженные взбунтовавшимися ссыльными. Мушкеты их отставили в сторону, мешочки с пулями и порохом содрали с поясов и передали Хрущеву.
– Ведите себя смирно, ребята, – сказал Хрущев и налил каждому по плошке водки. – Все будет хорошо, если вы не станете трепыхаться, кричать, бить в колокола и требовать, чтобы вас выручили… Поняли?
На вопрос не отозвался ни один из задержанных. Но водку выпили дружно. Все. Молча.
– Значит, не поняли, – сказал Хрущев и налил еще по плошке. – Выпейте, ребята, по второй. Для прояснения мозгов это полезно.
Казаки вопросительно глянули на сотника. Тот махнул рукой:
– Пейте! – лишь досадливая тень проскользила по его лицу.
И было отчего сокрушаться ему – угодил в силок, как несмышленый пацаненок, шагнул в дверь хрущевской хаты, не оглядываясь… Тьфу! Под седой острижью аккуратно подрезанной бороды вспухли желваки. Вспухли и опустились – себя надо было держать в руках.
– Поступим так, сотник, – сказал ему Хрущев спокойным тоном, в котором не было ни одной возбужденной нотки, но вот сотнику от этого голоса неожиданно сделалось холодно, он понял, что человек этот, ежели что, не задумываясь, всадит ему пулю в лоб либо в живот. – Ребятам твоим мы свяжем руки и посадим в соседнюю комнату. Ты же сядешь с нами вечерять – перекусим малость. Нилов, конечно же, пришлет тебе подмогу. Чтобы не было стрельбы и не погибли люди, нам эту подмогу надобно обмануть. Понял, сотник?
– Чего ж тут непонятного? – сотник вздохнул.
– Ну и хорошо, – Хрущев вытащил из-за пояса пистолет и положил его на стол.
Рядом с пистолетом на столе, появилась красная рыба, нарезанная крупными ломтями, горячая картошка, ситник в деревянной хлебнице, вареная оленина. Опустевший графин с водкой был сменен другим, полным.
Чутье у Хрущева было отменное, он все рассчитал точно – через час около его дома появились четверо караульных солдат во главе с капралом.
– Что и требовалось доказать, – удовлетворенно проговорил Хрущев, взял со стола пистолет. – Сотник, твой выход! Поступим так – ты сейчас выйдешь в сенцы, откроешь дверь и пригласишь капрала в дом. Знаешь его?
– Знаю. Это Трифонов. Неплохой мужик.
– Действуй, сотник, – Хрущев махнул пистолетом. Предупредил жестким тоном: – Только не шали!
Угрюмо кивнув, сотник прошел в сенцы, распахнул уличную дверь. Распахнул в тот самый миг, когда капрал, с опаскою поглядывая на окна дома, выкрикнул:
– Господин сотник!
Тут капрал увидел сотника и рот у него запахнулся сам по себе, только челюсти лязгнули.
– Вы? – пробормотал он неверяще.
– Я. А что, не похож?
– Да нет, похожи.
– Заходи, мы тут с Хрущевым перекусить решили… Нальем и тебе шкалик.
– А я думал, что вас тут убили, – капрал покрутил головой.
– Еще не убили, – назидательно и сурово произнес сотник, на выражение его голоса Трифонов не обратил внимания. А напрасно. – Заходи, – повторил сотник, посторонился, пропуская в дом капрала.
Капрал постучал сапогами по порогу, стряхивая с головок снег, и вошел в дом.
С ним произошло то же самое, что и с сотником, разоружили его мгновенно, в несколько секунд. В кружку налили водки, дали выпить. Затем в рот сунули кусок рыбы.
– Не обижайся на нас, капрал, – сказал Хрущев. – Так надо… Теперь ты должен будешь сделать то, чего повелим мы, – он поднес к носу капрала ствол пистолета. – Усваиваешь науку?
– Чего ж тут не усвоить? – довольно спокойно проговорил Трифонов.
– Зови сюда солдат, нечего им мерзнуть на улице. И не вздумай шалить, – Хрущев угрожающе приподнял пистолет.
В ответ капрал вздохнул прерывисто, что-то сглотнул и, молча кивнув, выглянул на улицу.
– Заходите, земляки, – сказал он солдатам, – много, конечно, не нальют, но по плошке каждому достанется обязательно.
Солдаты, с хрустом давившие ногами снег на улице, оживились – опрокинуть в себя по плошке и прогнать холод, застрявший внутри – это благодать для тела и духа. Перекрестились.
– Спасибо хозяину!
Их не обошли плошкой водки, налили каждому, дали по куску вяленого кижуча на закуску, а потом присоединили к задержанным казакам и заперли в отдельной комнате.
Вскоре на Камчатку навалилась ночь.
Факт, что в острог, под прикрытие крепостных стен, не вернулись ни сотник с казаками, ни капрал Трифонов с солдатами, не встревожил коменданта Нилова – он лег спать. Правда, на лавку, придвинутую в спальне к кровати, положил два заряженных пистолета.
В крепости было тихо, в самом поселении, в домах, тоже было тихо и вроде бы ничто не предвещало худого. Только вот ни казаки, ни солдаты не вернулись… Почему?
Беневский выжидал. Два-три часа в таком важном деле, как их бунт, никакой роли не играют, поэтому спешить или тем более – ошибаться им было никак нельзя. Должны были собраться сообщники, желательно все до единого. Чем больше их соберется – тем лучше.
Заглянув в комнату, где сидели задержанные солдаты и казаки, Беневский осмотрел каждого из них – не развязались ли? Нет, не развязались, руки у каждого были прочно стянуты веревкой. Беневский удовлетворенно кивнул и позвал зычно, с акцентом:
– Альошка! Адъютант!
Алеша не спал, – да и уснешь разве, когда такие события разворачиваются, мигом нарисовался перед Беневским:
– Сделай доброе дело, Альошка. Возьми-ка графин с водкой и налей каждому арестанту по шкалику.
Алеша недоуменно глянул на шефа:
– А как же они будут пить? У них же руки связаны.
– Неважно. Ты влей водку каждому в рот. Никто не откажется.
– А если прольется мимо?
– Исключено, – убежденно произнес Беневский. – У русского мужика водка никогда не проливается мимо рта. Действуй, Альошка!
Алеша заглянул в комнату, в которой находились пленники, пересчитал их и удрученно помотал головой – если каждому выдать по плошке, то посуду придется занимать у соседей.
Можно было, конечно, каждому налить водку в ладони, а потом повторить и выпили бы, не моргнув глазом, и ни одной капли не пролили бы, но руки-то у пленников связаны, а развязывать, как он понял, опасно. Алеша вздохнул скорбно, понимающе и взял одну плошку – одну на всех.
– Пить будете без закуски, – строго произнес он, налил в плошку водки и подошел к связанному казаку, сидевшему на полу рядом с дверью. – Ну-ка, открывай рот, – велел он.
Казак покорно открыл рот, и Алеша махом выплеснул туда водку, казак проглотил водку, не поморщившись и не упустив изо рта ни капли.
– Молодец! – сказал ему Алеша и вновь наполнил плошку водкой, переместился к черноглазому, готовно улыбающемуся солдату в сбитой на затылок барашковой шапке, поднес плошку к его рту. – Пей!
Солдат покорно запрокинул голову и открыл рот.
Вылив водку будто в разлом, не имеющий дна, Алеша сказал солдату:
– А теперь закрой рот.
Солдат послушно закрыл.
– Молодец! – похвалил его Алеша и передвинулся дальше.
Бунтовщики выступили в середине долгой черной ночи, примерно в половине третьего, в самую глухую пору, когда человека одолевает, буквально пеленая по рукам и ногам, тяжелый сон, – народа на стороне Беневского и Хрущева было немного, чуть более тридцати человек, но и под началам большерецкого коменданта людей тоже было немного – все остальные находились в разъездах.
В общем, силы были равны – фифти-фифти. Конечно, Нилов допустил ошибку – отправил сотника с казаками арестовывать бунтовщиков, затем туда же отправил капрала с солдатами, а делать этого не надо было. В результате он лишился половины своего и без того крохотного войска: ни один из тех, кто был отправлен к Беневскому с Хрущевым, в острог не вернулся. Что произошло с этими людьми, нам известно.
У Нилова были и пушки, но он и ими не воспользовался – отвык от воинских обязанностей и дел в каждодневной пьянке, да в лени… В результате – проиграл.
Часовой, стоявший ночью около дома коменданта, испуганно задергался, когда из поселения в острог прибыли Беневский, Хрущев и еще три десятка человек, сопровождавших их, воевать с мятежниками он не пожелал – понимал прекрасно, что его сомнут, как тряпку, засунут голову под микитки и зашвырнут на свалку. В результате он прислонил мушкет к стенке дома и отошел в сторону.
Заговорщики спокойно поднялись на крыльцо.
Сам капитан Нилов спал – храпел так, что на окнах поднимались занавески и прилипали к потолку, – а вот сын его Гришка не спал, ему было страшно: он лежал под одеялом и стучал зубами.
Когда заговорщики появились в доме, Гришка понял, что надо прятаться. Его перехватили пришедшие:
– Ты куда?
– До ветра, – простучал зубами Гришка, – очень захотелось.
– А-а… Ну ладно, дуй, дуй!
Гришка стремительно, пулей, пронесся в утепленный, стоявший на отшибе сортир и заперся там на крючок. Не отпирал нужник до тех пор, пока ему не объявили:
– Все кончено. Выходи, страдалец!
Продолжая стучать зубами, тряся коленками, Гришка вышел. Над домами, как ему показалось, уже занимался рассвет, очень бледный и нездоровый, – а может, это и не рассвет вовсе был, по утоптанному темному снегу носились проворные вихри.
Говорят, когда по земле стелется крученый, завивающийся в узлы снежный хвост – это веселится нечистая сила, сам господин черт поспешает куда-то, и Гришка, видя такие хвосты, обязательно шарахался от них в сторону, крестился боязливо… Такие вот вихри крутились и сейчас.
– Иди, проведай отца, – сказал кто-то Гришке и он слепо, тычась в чьи-то спины, цепляясь руками за стены, поплелся в дом.
Капитан Нилов лежал в спальне, освещенной тремя рыбьими коптюшками, принесенными от караульных солдат, глубоко вдавившись головой в окровавленную подушку и тихо стонал. Глаза его были закрыты. Белое полное лицо обвяло, сделалось худым, неузнаваемым каким-то, чужим. Шея – обмотана пропитанными кровью полотенцами.
– Тятя! – кинулся Гришка к отцу. – Тятенька!
В ответ Нилов захрипел – он находился в сознании, услышал голос сына, хотел что-то сказать, ободрить Гришку, но сил у него на это не оказалось – комендант умирал.
Бунт, который мог вообще обойтись без крови, оказался, к сожалению, запачкан ею. Когда Беневский, Хрущев и другие ворвались в дом коменданта, Нилов, не выходя из своей спальни, поднял один из пистолетов, лежавших на скамейке около его головы и выстрелил. Он рассчитывал остановить бунтовщиков, но сделал только хуже, и прежде всего – себе.
Пуля, никого не задев, со свистом просекла пространство и впилась в потолок, с которого отвалилось несколько плоских комков известки.
Сделать второй выстрел комендант не успел: в спальню ворвался Панов. Вооружен он был кривым, очень острым ножом, которым на Камчатке разделывают китов и сивучей – раздельщики всегда держали ножи острыми, точили каждый день, иначе при разделке можно было остаться без рук от тяжелой работы, – поэтому ножи эти были острыми и опасными.
Недолго думая, Панов секанул коменданта ножом по шее. Рана была глубокая, но Нилов еще жил.
– Тятенька! – младший Нилов висел на кровати, но к отцу боялся прикоснуться, хныкал, брызгал горючими слезами, мокрил пол, извивался, выкрикивал что-то бессвязное, потом затихал и через полминуты вновь взрывался одним жалобным словом: – Тятенька!
Выжить тятеньке не было дано, но Гришка Нилов этого не понимал, рвал своими вскриками души тех, кто собрался в эту минуту в доме.
Через час душа большерецкого коменданта Нилова отлетела в горние выси.
Стая росомах, отжавшая в тундре оленье стадо, держала и людей и животных в страхе, начертила невидимый круг, в который не впускала ни одного пастуха и из которого не выпускала ни одного оленя.
Как только какой-нибудь простодушный олень слишком близко подходил к невидимой границе, к нему тут же с рявканьем, роняя с клыков слюну, прыгала росомаха.
Олень испуганно прядал назад, врубался в стадо, в крутящийся, обреченно хоркающий олений круг и исчезал, росомаха возвращалась на место.
Росомашья стая уже считала оленей своими, – ни одну голову за пределы круга они не выпустят, – и теперь пасла стадо. Когда надо было пообедать или поужинать, росомахи отжимали от стада пару оленей и заваливали их.
Съедали все, оставались только копыта, обглоданные рога, да пустые черепушки и пара причудливо изогнутых, с рассыпанными позвонками хребтов.
Людей росомахи не боялись, хотя всякое появление человека, – даже далеко, где-нибудь у горизонта, – отмечали и очень внимательно следили за ним, фиксировали каждый шаг, каждое движение…
Митяй Кузнецов разбойные повадки росомах знал – доводилось иметь дело с этими зубастыми зверями, знал и то, что росомаха обязательно уступит дорогу человеку, который сильнее его, более того – постарается не попасться ему на глаза, нырнет в землю, под корень дерева, в старую медвежью берлогу, закопается в снег и в глуби, под снегом, выроет ход и вынырнет на поверхность метрах в тридцати от того места, где закопалась, – более изобретательного зверя по части маскировки, чем росомаха, в природе нет.
Если же росомаха почувствует в человеке слабость, то обязательно обнаглеет, – превращение произойдет в несколько коротких секунд, – может даже кинуться на иного уставшего охотника и сомкнуть на его шее железные челюсти.
– Дело тут, оказывается, сурьезнее, чем я думал, – озабоченно произнес Митяй, соскочив с нарт и глянув на трех бесстрашно взиравших на него хищников. Было похоже, что росомахи растеряли обычную свою осторожность. – Цыц! – махнул он рукой на коренастых длинноногих зверюг, готовых кинуться на него.
Клочковатая коричневая шерсть, похожая на собачью, вздыбилась на их холках.
Злобы в росомахе много, вреда от нее еще больше, а вот пользы совсем мало, можно сказать – никакой. Единственное, что драный темный мех ее обладает удивительным свойством – он не индевеет.
Все другие меховые малахаи, сшитые из лисы и роскошного соболя, из волка и енота, в мороз покрываются густой жесткой махрой, а росомаший малахай нет – ни одной белой индивинки на нем. Даже если мороз запрыгнул за пятьдесят градусов и трещит так, что от него можно оглохнуть.
Отдельные умельцы пришивают к малахаям росомашьи козырьки, чтобы в мороз лучше видеть. Говорят – помогает. Митяй на себе это не испробывал, но изобретательный народ в роскошных собольих малахаях с росомашьими козырьками видел – лица у людей были довольные. Значит – помогает.
Осторожно, стараясь не спугнуть насторожившихся росомах, Митяй вернулся к нартам, присел на них, взял в руки ружье. Проверил, насыпан ли порох на полочку, – убедившись, что насыпан, прямо с нарт, не вставая, выстрелил.
Пуля попала в крайнюю росомаху – грудастого самца с широкими, украшенными опасными черными когтями лапами, – самец вскинулся, выбив из-под себя целый сноп густого колючего снега, заревел громко и отпрыгнул в сторону метра на четыре.
Грохот выстрела не испугал звериную стаю, хотя росомахи дружно присели, стали ниже, неуязвимее, а вот олени испугались, сбились в тесную кучу, в круг. Круг этот заскользил по снегу с убыстряющимся вращением, окутываясь паром и ужасом, скорость вращения была такая, что олени могли легко прорвать росомашью осаду и разбежаться в разные стороны, раствориться в пространстве, но олени этого не делали – не было команды вожака.
Подстреленный самец откатился по снегу еще метра на четыре и, окрашиваясь кровью, со стоном впился клыками в кусок льда, образовавшийся на какой-то кривой кочке, лед, прочный, как железо, под клыками размололся, легко обращаясь в красную влажную крупку, самец приподнял прощально голову, рыкнул на стаю, словно бы передавал обязанности вожака другому самцу, такому же матерому и хитрому, и обессиленно сник.
Все, один готов. Митяй подхватил второе ружье и, почти не целясь, выстрелил.
Он умел стрелять почти наугад – на звук, на промельк тени, на движение воздуха в воздухе и редко промахивался. Вторая росомаха – приземистая, криволапая, с опасным оскалом клыков, самка взвилась вверх, в воздухе перевернулась и тяжело, согнутой крюком спиною рухнула в снег. Даже не пошевелилась – пуля просекла ей грудь и застряла в сердце.
Обезумевший от страха олений хоровод завертелся еще быстрее, животные, сжавшиеся в один живой ком, переплелись рогами и неслись по кругу неведомо куда.
На этот раз росомашья стая дрогнула, часть зверей метнулась в одну сторону, часть в другую. Митяй начал поспешно заряжать ружья – загнал в ствол своей любимой фузеи заряд пороха, потом забил пыж и сверху затолкал шомполом литую свинцовую пулю. Такая тяжелая дуреха не только росомаху уложит – заставит задрать лытки кого угодно. Следом зарядил второе ружье, также забив в ствол увесистую свинцовую пулю.
– Ну-ка, друг любезный, – сказал Митяй Паранчину, – протронь-ка свои санки вдоль оленьего круга. Посмотрим, где прячутся лютые звери.
Ездовые собаки едва не взвыли, им было страшно, но вот вожак, преодолев себя, заперебирал лапами по пространству, забрызгал твердым колючим снегом, выдирая его из-под брюха крепкими когтями, стронул нарты с места вместе со всей собачьей командой – сильный был вожак.
Проехали метров двадцать и увидели еще одну росомаху – убогую какую-то, криво стоящую на лапах, злобно ощерившую пасть. Митяй встал на нартах в полный рост и выстрелил – бил поверх собачьих голов, почти не целясь.
Росомаха взвизгнула по-щенячьи жалобно, заскребла лапами по твердому, словно бы деревянному насту, норовя забраться внутрь, под корку, спрятаться от человека, но не тут-то было – к ней, напрягшись, застонав хрипло, кинулся вожак, потянул за собой упряжку, Митяй понял, что может произойти в следующий миг, подхватил свою верную фузею, спрыгнул с нарт и, опережая вожака упряжки, побежал к раненому зверю.
Хоть и повержена была росомаха, и спрятаться пыталась – сил у нее совсем вроде бы не стало, но собак она может здорово покалечить, порвать им глотки, – всех, конечно, не одолеет, а псов пять-шесть приведет в негодность.
Он добил росомаху прикладом, размозжил ей голову, вогнал костяшки в снег, расколол череп, расплющил его, а потом еще несколько минут дивился тому, что у мертвого зверя дергались лапы, словно бы росомаха пыталась куда-то удрать либо зарыться в снег.
– Тварь какая… Тварь, – дергаясь на нартах всем телом, приподнимаясь нервно и резко опускаясь, мстительно вскрикивал Паранчин и хлопал себя по кухлянке кулаками. – Тварь!
«Братка» Паранчина лежал на нартах, не шевелясь – боялся помешать охотнику. Лай Графа и Маркизы слышался с другой стороны беспокойного оленьего стада – там были росомахи.
– Ну-ка, протронь-ка еще вперед, посмотрим, что там делается, – попросил Митяй Паранчина, камчадал закивал мелко, как-то по-птичьи, крикнул что-то вожаку и тот, косясь на дергающую лапами росомаху, напрягся, потянул за собой нарты вместе с собаками – сильный был пес.
Странное дело, росомах больше не было, они словно бы подевались куда-то, растворились в воздухе, зарылись в снег, кинулись к оленям под ноги и сейчас находятся внутри крутящегося стада – нет их!
Митяй крикнул Паранчину:
– Ты на малом ходу езжай дальше вдоль стада по кольцу, а я двинусь навстречу. Сдается мне, хитрые звери решили нас обдурить. Графа с Маркизой они уже обдурили.
Паранчин, покрикивая на собак, повел упряжку дальше, а Митяй развернулся и, держа ружье наготове, двинулся в обратную сторону.
Он все рассчитал верно, чутье не обмануло его: росомахи быстро сообразили, что к чему, и теперь, спасаясь от пуль Митяя, прятались за оленями, уходили и от упряжки, и от собак охотника. Правильно поступил Митяй, двинувшись в обратную сторону. Через несколько минут он увидел, что на него несутся сразу три росомахи.
Шли росомахи быстро, вскачь, на бегу оглядывались – знали, что дело им иметь придется не только с вооруженным человекам, но и с лающей упряжкой и двумя охотничьими собаками. С оскаленных росомашьих морд на снег падала пена. Митяй вскинул ружье, поймал на мушку росомаху покрупнее и щелкнул курком.
Порох на полочке вспыхнул, в то же мгновение громыхнул гром, ствол выплюнул тяжелую свинцовую пулю.
И на этот раз не промазал Митяй Кузнецов – раскаленный металл всадился росомахе прямо в морду, выкрошил клыки и срезал кусок черепа.
А еще говорят, что башка у росомахи крепче камня. Ничего подобного – и свинцу поддается, и ружейному прикладу.
Последний выстрел решил все – звери с воем развернулись и понеслись прочь от оленьего стада. Граф с Маркизой за росомахами не пошли – это было бы для них гибельно, да и хозяин не давал такой команды.
Митяй подождал, когда собачья упряжка подъедет к нему. Паранчин вбил в наст острый кол и упряжка встала мертво. Паранчин спрыгнул с нарт. Следом за ним с нарт слез «братка».
– Молодец, Митяй, – прокричал Паранчин восторженно, – не подвел! Недаром тебя называют лучшим стрелком Камчатки.
– С этими все, – проговорил Кузнецов неожиданно устало, – они больше не придут.
– Спасибо, Митяй! – Паранчин признательно прижал руку к груди. «Братка» сделал то же самое. – Мой братка – человек богатый, он хочет отблагодарить тебя соболями, самыми лучшими шкурками, на выбор.
– Не надо соболей, – Митяй отрицательно качнул головой, – у меня есть соболя.
– Соболей не надо? – удивился Паранчин. – Тогда чего тебе надо? Денег?
– Ничего не надо.
– Может быть, мой братка все-таки заплатит тебе деньгами?
Митяй улыбнулся скупо, глянул в сторону – подобные разговоры всегда ставили его в неловкое положение, покачал головой.
– И денег не надо, – проговорил он твердо.
Ныне трудно собирать материалы по большерецкому бунту – прошло ведь два с половиной столетия с той поры, – и события забылись, и люди, могилы их, прах покрылись седой пылью, любое неосторожное прикосновение грозит гибелью тем малым останкам, что дошли до нашего времени.
Определить точное количество восставших ныне невозможно совершенно, можно назвать число только примерное.
Даже Беневский, который, казалось бы, все должен был знать точно и не плавать ни в фактах, ни в цифрах, оставивший после себя дневниковую книгу «Путешествия и воспоминания», быстро завоевавшую популярность в аристократической Европе, в одном месте называет число восставших одно, в другом другое: сто девять человек и девяносто девять… Канцелярист Судейкин, прислуживавший Нилову и после смерти коменданта переметнувшийся к бунтовщикам, дает иную цифру – семьдесят человек.
Плохо еще и то, что долгое время все материалы о восстании Беневского находились под спудом, были секретными, сиречь – об этом было запрещено даже говорить, не то, чтобы писать.
Сенат издал специальный указ, где повелел «отобрать всю черновую и беловую переписку о Беневском, а жителям Камчатки объявить, чтобы об этом деле никто не смел писать в своих частных письмах».
Этот запрет длился много лет, были уничтожены едва ли не все следы бунта, в наше время из той поры ничего не просочилось, кроме слухов да воспоминаний, написанных по чьим-то воспоминаниям, вот ведь как. Хотя в архиве древних актов есть документы о «препровождении на житие» в Большерецкий острог разных «злодеев», отчеты иркутского губернатора, командиров портов, разных судейкиных и прочих служивых людей, но из этих отчетов мало что можно понять.
Один документ – очень любопытный. Это так называемое Объявление – бумага, которую можно считать (не без натяжки, естественно) манифестом, где идет речь о бедах народа, о несправедливости, совершаемой теми, кто близок к царскому трону, с разделении людей на тех, кому можно все, и тех, кому нельзя ничего, на богатых и бедных, на «подлых» и «чистых», документ написан от руки на десяти больших листах (бумаги было мало, писали на двух сторонах), было отправлено «во канцелярию Большерецкую, Камчатскую», но дошло до самой матушки Екатерины Второй, от нее попало к генерал-прокурору, и тот собственноручно начертал: «Сей пакет хранить в Тайной экспедиции и без докладу Ее Величеству никому не распечатывать. Князь А. Вяземский».
Сочиняли Объявление в остроге всем народом. Судейкин бодро записывал, помогал ему товарищ, скажем так, более старший и более опытный, – Рюмин.
Господин Рюмин имел, кстати, классный чиновничий чин – в табели о рангах его чин занимал предпоследнюю строчку. Впрочем, у Судейкина тоже имелся классный чин и занимал в табели ту же самую строчку, что и у Рюмина – вторую снизу. В общем, грамотные были ученики, с ними, пожалуй, только Державин Гаврила Романович и мог состязаться.
«Не только российскому народу, но и всему свету известно, что вся Россия по справедливости обязана непосредственно благодарностию своею истинному своему монарху Петру Великому, отцу отечества, которого высокие потомки царствовать над нами должны», – с этих слов начиналось Объявление.
Дальше шло перечисление императриц, сменивших одна другую и присяга человеку, который не был императором – Павлу Петровичу, сыну Петра Третьего. «Виват и слава Павлу Первому, России обладателю, – писали большерецкие бунтовщики. – Спасая ево, Бог спасет и подданных невидимым промыслом. А мы желаем соотечественникам нашим всякого добра»… – этими словами прощались восставшие с Отечеством, с Родиной, прощались озабоченные, очень удрученные.
И одновременно надеялись на государя Павла Первого – он вернет их домой, считали, что ему и никому другому «при восшествии его на наследный всероссийский императорский престол в 1762 году весь российский народ присягал…» и вот – «наш всемилостивейший государь Павел Петрович лишен престола». Это никак не устраивало ссыльных, поднявшихся на бунт в Большерецком остроге. В частности, они не преминули отметить в своем «Объявлении», что «Россия без истинного своего государя одним пристрастным управлением доводится до разорения».
А Беневский, о польских корнях которого было известно широко, от себя добавил: «У польского народа отнимается вольность, которая России не только не вредна, а полезна».
Самое интересное, что через некоторое время Павел Петрович действительно взошел на престол, но это уже совсем другая история, – на престоле он пробыл недолго и ничего путного для России и большерецких бунтовщиков сделать не сумел. А может быть, просто не успел. Или не захотел. Никто этого не знает.
Подписали Объявление практически все, кто находился тогда в Большерецке, – кроме, конечно, казаков и солдат, которых посадили в трюм «Святой Екатерины», как в тюрьму, за несогласие примкнуть к восставшим, Семена Гурьева, давно уже выступавшего против бунта, за что, собственно он был уже дважды бит, и тех, кто находился в «командировке», говоря нынешним языком – собирал ясак для царской казны.
Большерецкие обитатели, не знавшие грамоты, тоже стали «подписантами» – им были прочитаны все листы многословного Объявления, и если они были согласны с текстом, подписи за них ставили грамотные.
Странное дело, но среди длинного списка подписей не оказалось фамилии Хрущева. Почему он не подписал эту коллективную бумагу, что произошло, сейчас уже не узнать – не дано просто. Эта тайна так и останется тайной.
Увы.
Из Большерецка надо было уходить. И чем быстрее, тем лучше. Это хорошо понимали и Беневский, и Хрущев, и тем более понимали офицеры. Такие, как бывший гвардейский поручик Василий Панов – человек «очень хорошей фамилии».
Правда, находились бунтовщики пока в безопасности. Но это «пока» могло очень скоро кончиться. Как только лед, сковывавший море, двинется на юг, из Охотска придут вооруженные суда, тогда головы зачинщиков, – и не только их, – полетят на землю, под ноги тех, кто станет вершить суд.
Да и казаки, которые возвратятся в Большерецк с ясаком, тоже могут причинить немало неприятностей.
Пока время пребывало на стороне Беневского и Хрущева, но может случиться так, что оно перепрыгнет на обратную сторону, и тогда бунтовщикам придется туго.
Надо было спешно, – в очередной раз, – осматривать вмерзшие в лед залива галиоты – в каком состоянии они находится, не продырявлены ли бока?
Галиот «Святая Екатерина», в трюме которого сидели ниловские сторонники, оказался совсем плох, того гляди, начнет протекать корпус, а вот «Святой Петр» был еще крепок.
– Поплывем на «Святом Петре», это решение окончательное, – сказал Беневский. Хрущев перекрестился размашисто:
– Поплывем, благославясь!
Начали готовиться к отплытию. Командиром «Святого Петра» был штурман Максим Чурин, его командиром и оставили, более того, – ему подчинили всех моряков, решивших покинуть Камчатку, командир второго галиота штурманский ученик Дмитрий Бочаров стал у него помощником. В толковых, знающих морское дело не хуже капитана матросах недостатка не было.
В эти дни к Митяю Кузнецову пришел камчадал Паранчин.
– Ты эта, – произнес он смущенно, глянул себе под ноги, под торбаса, с которых на пол быстро натекло целое озеро воды, – ты эта…
– Чего эта, паря?
– Возьми меня с собой.
Митяй не сразу понял, о чем идет речь, а когда понял, развел в стороны руки:
– Этот вопрос решаю не я.
– А кто?
– Морис Августович.
– Поговори с ним, паря, а? Чего тебе стоит? Возьмите меня с собой, я не помешаю. Скорее наоборот – полезным буду. Вот увидишь.
Посопротивлявшись немного, Митяй сдался – в конце концов, переговорить с Беневским несложно, но за положительный результат охотник поручиться не мог – давить на Беневского было бесполезно, можно было только просить, а там уж как карты лягут, криво или прямо.
– Ладно, – махнул рукой Митяй и отвернулся от Паранчина – тот стал откровенно надоедать…
Камчадал потоптался еще немного, размазал торбасами мокреть по полу и исчез. Из холодной притеми тамбура попросил:
– Ты уж постарайся, Митяй, а я тебя не забуду – отблагодарю.
Услышав это, Митяй протестующе затряс головой:
– Никаких благодарностей, Паранчин! Не надо мне ничего.
– Ну вот, уже и спасибо сказать нельзя, – пробурчал на прощание Паранчин.
Беневский отнесся к вопросу насчет того, чтобы взять с собою Паранчина спокойно, хотя в глазах у него возникло протестующее выражение.
– Слишком много людей готово набиться на маленький галиот, – проговори, он, – как бы нам не перевернуться в пути.
А людей набиралось действительно много – покинуть опостылевшую землю захотел едва ли не весь Большерецк, тут не только невеликий галиот, кораблик всего семнадцати метров в длину, тут даже гигантский плот, сколоченный из сплавного леса, может легко перевернуться.
Кроме людей на «Святого Петра» придется ведь взять и пушки с порохом и ядрами, и солидный запас провианта, и шкуры для обмена, и громоздкий такелаж, и различный инструмент – лопаты, пилы, молотки, ящики с гвоздями, запас строительного дерева, и около сотни ружей – Беневский считал, что ружье должно быть у каждого… Это было правильно.
В число тех, кто собрался бежать с Камчатки, записался даже приказчик купца Холодилова Чулошников – осанистый, очень подвижный молодой человек, умеющий хорошо считать – надоел ему хозяин, надоела жизнь в необустроенном краю, надоела работа, требующая подлинно воровского умения, надоело все, и он решил податься в иные края…
В списках будущих пассажиров бунтовского галиота значился и «страшный» старик Турчанинов – «секретный арестант», как было указано во всех бумагах, сопровождавших его, бывший камер-лакей Анны Иоановны, имевший право беспрепятственно входить в царские покои, и блестящие офицеры Василий Панов, Иосафат Батурин, Ипполит Степанов, и адмиралтейский лекарь Магнус Мейдер, и штурманские ученики – кроме Бочарова, – Герасим Измайлов и Филипп Зябликов, и купец Федор Костромин, и посадский из Соликамска, непонятно как очутившийся на Камчатке, Иван Кудрин, и казаки Герасим Березнин, Григорий Волынкин, Петр Сафронов, Василий Потолов, и капрал Михаил Перевалов, и рядовой солдат Дементий Коростелев, и многие другие.
Среди приготовившихся к отплытию было семь женщин, одна из них – камчадалка Лукерья Ивановна, жена Паранчина (Беневский дал «добро» на включение камчадала в список), остальные были либо жены, либо работницы, как это получилось с семьей Максима Чурина, он взял с собою работницу и жену…
В общем, народа на небольшом военном галиоте набиралось много – выдержать бы суденышку.
Медленно, опасно медленно тянулось время, Беневский нервничал – того гляди, нагрянет какая-нибудь карательная экспедиция, с ней бунтовщики не смогут справиться – их задавят. А потом повесят либо отрубят головы. Но вот – наконец-то, – пошли оттепели, одна за другой. Беневский послал Митяя Кузнецова, а с ним еще одного ссыльного, матроса Алексея Андреанова, – на разведку.
– Митяй, пройдись-ка на лыжах по льду, дотянись до кромки, – попросил он, – посмотри там, что к чему, проверь, далеко ли чистая вода, много ли там льдин? Если недалеко и льдин немного – будем прорубаться – нам надо уходить… Все понял, Митяй?
– Все, – Митяй вздохнул неожиданно зажато, чего с ним никогда не бывало, Беневский вздох засек и удивленно приподнял брови.
– Чего случилось, Митяй?
– Ничего.
– Дома все в порядке?
– А что может случиться дома? Там меня ждет роскошное семейство – два пса Граф и Маркиза и кот Прохор.
– Хорошо, – похвалил Беневский. – Чего вздыхаешь в таком разе?
– Мы уплывем, Морис Августович, а семейство мое куда денется, Прошка с собаками? А? – по лицу охотника проползла встревоженная тень.
– С собой возьмем, Митяй, – обнадеживающе проговорил Беневский.
– А можно?
– Все в наших руках, Митяй. Нам обязательно понадобится собственный животный мир. Если бы у меня, например, была коза, я бы непременно взял бы ее с собой, ездил бы где-нибудь верхом. На Формозе, например.
Митяй не выдержал, засмеялся: никак не мог себе представить Беневского, разъезжающего верхом на козе.
– Так что вперед, Митяй, – Беневский подтолкнул охотника под лопатки, – от результатов твоей разведки зависит наша жизнь.
Матрос Андреанов – желтолицый, худой, был человеком неразговорчивым, хмурым, грыз его некий внутренний червь, отчего вид его был таким болезненным – хоть сейчас клади в могилу, но матросом он был исправным, любой капитан желал его заполучить, – на деле, несмотря на болезненный вид, оказался мужиком жилистым, на лыжах перемещался так же ловко и легко, как и Митяй, ни в чем не уступал охотнику.
Море упрямо наползало на ледяной покров, закраина находилась недалеко, подъезжать к кромке не стали – опасно было, Андреанов, который повадки моря знал лучше охотника, остерегающе тронул его за плечо.
– Дальше нельзя, – сказал он, – лед может проломиться.
– Даже под лыжами?
– Так вместе с лыжами под воду и уйдешь.
Недоверчиво похмыкав, Митяй вытащил из чехла, висевшего на поясе, нож, колупнул концом твердую ледяную корку, потом постучал по выковырине торцом, послушал звук.
– Однако, – сказал, – толщина примерно в пол-локтя.
– Так и доложим Морису Августовичу, – глухо пробормотал Андреанов. – Через неделю можно будет прорубаться к чистой воде и выводить галиот.
– А раньше нельзя? Солнце ведь уже сильное…
– Раньше нельзя.
Попробовав лед на прочность еще в двух местах, Митяй подтверждающе покивал головой:
– Толщина прежняя – пол-локтя.
– Через неделю Бог даст – выберемся, – Андреанов закашлялся, в глазах вспыхнули радостные свечечки, погорели несколько мгновений и погасли, на лице появилась неожиданно робкая, какая-то мальчишеская улыбка, преобразившая лик моряка, – и поплывем мы тогда в наше светлое завтра.
Удивленно глянул на него Митяй и промолчал.
Молча и довольно ходко тронулись в обратный путь, обо всем, что узнали рассказали Беневскому. При разговоре этом присутствовал Хрущев, слушая разведчиков, несколько раз удовлетворенно наклонил голову.
– Ну что, Морис Августович, – проговорил он задумчивым тоном, – пора браться за ломы и кирки… Как считаешь?
– Пора, – односложно отозвался Беневский.
Лед вокруг «Святой Екатерины» вырос плотный, толстый, прочный, а вот со «Святым Петром» дело обстояло проще, этот галиот оброс не так капитально, он стоял в проточной воде, на краю течения, заворачивающего в залив, поэтому около «Петра» на следующий день начали аккуратно обрубать лед.
– Нежнее, нежнее, братцы, – умоляюще вскрикивал штурман Чурин, командовавший «Петром», – не повредите ломами обшивку.
– Не бойтесь, ваше благородие, – сипел капрал Перевалов, – мы понимаем, что к чему. Как и то понимаем, что ежели покалечим галиот, то окажемся не в теплых странах, а совсем в других местах.
Чурин, не слыша его, продолжал талдычить свое:
– Нежнее, нежнее, братцы, не проломите мне борт!
Мало было обколоть галиот со всех сторон, надо было еще прорубить канал к чистой воде, иначе судно не выйдет в море как минимум до лета, до жаркого июня, судоходного месяца. И опять Чурин висел над людьми, рубящими лед:
– Нежнее, нежнее, братцы, не утопите казенный инструмент!
Чтобы случайно не упустить какой-нибудь лом, тяжелую железяку привязывали веревкой к руке, к запястью, проверяли, прочно ли держится… Так и работали. Лица людей были светлыми от предвкушения неведомого, от того, что впереди замаячила надежда…
Ломов не хватало. В ход пошли кувалды, их в Большерецке оказалось столько же, сколько и ломов.
Морозы уже угасли – ушли трескотуны на север, прорубленный канал даже не покрывался льдом, иногда только возникала немощная тонкая корка, но долго она не держалась. Хотя старый лед поддавался трудно, был тверд, как камень, легче становилось, лишь когда снизу его подтачивала морская вода.
Но как бы там ни было, вожделенный миг отплытия приближался, он находился уже рядом, совсем рядом…
Одна группа бунтовщиков упрямо пробивала во льду канал, вторая в это время загружала всем необходимым галиот. До нашего времени дошли кое-какие сохранившиеся документы, в которых было указано, что же конкретно забрали с собой отплывающие.
Алексей Устюжанинов, с ранних лет начавший во всем проявлять хозяйственную хватку, составил свой список того, что было погружено в объемистый трюм «Святого Петра». Что же там оказалось? А вот что:
«Муки – 100 пудов
Рыбы – 120 пудов
Солонины – 50 пудов
Китового жира – 30 пудов
Сахару – 12 пудов
Сыру и масла – 10 пудов
Чаю – 12 пудов
Водки – 5 бочонков».
Кое-где Алеша, мне кажется, переборщил, либо ошибся. Пуд – это шестнадцать килограммов, тяжесть приличная. Двенадцать пудов – это 192 килограмма. 192 килограмма чая – гора высотой под мачты галиота; чай – продукт легкий, в тесный трюм, где было полно других грузов, мог не вместиться.
Это первое. И второе – запас еды брали на месяц. За месяц выпить двенадцать пудов чая? Сомнительная штука.
Пить чай «Святого Петра» в таком разе должны были команды всех кораблей и судов, находившихся в Охотском море, в Тихом и Индийском океанах.
В других бумагах указания на чай отсутствуют.
Понимая, что в море может произойти какая-нибудь непредвиденная встреча, Беневский велел взять с собою различные флаги, чтобы в нужный момент их можно было поднять на мачтах и совершить «боковой маневр», уходя от возможной опасности.
Все это время Алеша Устюжанинов находился на «Святом Петре» – помогал взрослым, и на это имелись причины. Там дневал и ночевал. Иногда плакал – выходило ведь так, что он уплывет с Камчатки, не попрощавшись с отцом.
Пространство перед его глазами начинало ползти, раздваиваться, делаться радужным, покрываться мокрыми пятнами, и Алеша невольно всхлипывал, зажимал зубами готовый вырваться наружу стон:
– Тя-ятенька!
Надо было обязательно взять что-нибудь с собою на память о Камчатке. Вот только что? Высушенную голову большой чавычи – очень вкусной местной рыбы с нежным красным мясом, которую любит вся Камчатка?
Или десятка полтора комаров, которые скоро должны проснуться – сунуть их в солонку и сверху накрыть крышкой. Комары на Камчатке водятся знатные, таких в теплых райских странах наверняка нет. Есть еще один камчатский зверь, еще более знатный, обычный комар перед ним – невинный младенец. Этот зверь – гнус. Мелкий, с тощим голоскам, похожий на сгнившее зернышко. Человека стая гнуса может обгрызть до костей. Как гнус оставляет от собак шкуру да хребет, Алеша видел.
Нет, это неприятное напоминание о Камчатке брать с собою все-таки не стоит. Может быть, взять местную раковину? Плоскую, с красивым рельефным рисунком… Но в южных водах наверняка водятся раковины покрасивее, попригляднее…
Думал, думал Алеша, нижнюю губу закусил зубами до крови и не выдержал: рот у него неожиданно задрожал, на ресницах повисли слезы: как же он теперь будет жить без отца?
Вздохнул Алеша, внутри у него возникло что-то сосущее, родившее боль – а может быть, не уезжать с Беневским? Пропадет он.
Дни перед отплытием установились золотые – с высоким солнцем, нежно пощипливавшим щеки, звонким птичьим пением и нестерпимой резью снега, светившимся на макушках недалеких вулканических гор, – иногда оттуда приносился влажный ветер… Если дело пойдет так и дальше, то снега скоро не станет и на вершинах гор.
Снег тает быстро, а вот лед нет, сорок с лишним человек мучились с ним, пробивая канал для выхода в море, но пробить пока не смогли.
На проталинах, из отсыревшей земли наверх проклевывались тугие зеленые стрелки, распускались прямо на глазах, рождая в душе радость и одновременно грусть, – это были подснежники. Подснежники Алеша Устюжанинов любил, они умели отогревать людям душу, гнали прочь из головы недобрые мысли, – удивлялся им Алеша: и как только подснежники умудряются выживать, когда рядом находятся лед и снег? Из бездонного чистого неба тоже может повалить снег – в любую минуту… Нет, не укладывалось это у Алеши Устюжанинова в голове.
Выплакавшись, он снова начинал носиться по судну, помогал взрослым укладывать такелаж, укрывать шкурами порох, чтобы он не отсырел в море, устраивать в трюме бочонки с солониной, подвешивать на крюки связки дорогих собольих и лисьих шкур – весело было…
А вот Беневский, напротив, с каждым днем становился все более хмурым, и Алеша совсем не понимал его: ведь радоваться надо было, скоро – отплытие, с отплытием – свобода, никакой капитан Нилов уже не будет вешать на шею хомут и грозить «холодной», но Беневский, наоборот, мрачнел все сильнее, на лбу возникали вертикальные складки, да на щеках вспухали твердые желваки.
Что-то происходило не так, как должно было происходить, и это Алеша Устюжанинов ощущал буквально кожей своей мальчишеской, еще не огрубевшей, ощущал отчетливо.
В конце концов он решил, что возьмет с собою как память о Камчатке, об отце своем, – кроме двух иконок, которые у него были, Иисуса Христа и Святой Девы Марии, – костяную фигурку косоглазого щекастого человечка с очень добрым улыбающимся личиком. Таких людей на Камчатке было много: и орочены, и коряки, и камчадалы, и алеуты… Да и сам Алеша Устюжанинов был таким же.
Беневский был мрачен потому, что хорошо понимал происходящее и остро реагировал на все, он корнями волос, кончиками пальцев чувствовал опасность, в Охотске ведь наверняка уже знают, что произошло в Большерецке, ждут-недождутся момента, когда можно будет подойти на вооруженных галиотах к острогу, стать на якорь в Чекавинской или в Большерецкой бухте и развесить на деревьях бунтовщиков.
Морщился Беневский, потирал пальцами неожиданно начавшую саднить шею – ну будто ему знак откуда-то из горних высей подавали и его длинная шея уже чувствовала веревку.
В последние дни прорубкой канала руководил сам Хрущев, никому это не доверял.
– Ну как? – спрашивал у него каждый вечер Беневский и получал односложный хмурый ответ:
– Осталось совсем немного.
Беневский понимающе кивал и отворачивался к окну, чтобы скрыть сдавленный вздох: если дело так будет идти и дальше, то несчастная шея его познакомится с грубой, намазанной мылом веревкой не в неприятных мыслях, а наяву. Чего-чего, а этого Беневскому очень не хотелось бы. Жизнь они никак не украшают.
Беневский отталкивался рукой от стены, в которую было врезано оконце и разворачивался лицом к Хрущеву, чтобы поговорить с ним, а говорить было уже не с кем – вконец измотанный Хрущев спал, повалившись спиной на кровать и приоткрыв бледный морщинистый рот, обрамленный спутанным волосом бороды и усов.
От жалости у Беневского сжималось сердце – Хрущев в эти дни работал на износ. Некоторое время Маурицы стоял у окна, соображая, что же делать, если неожиданно появятся люди из Охотска, какой отпор им можно будет организовать, и болезненно морщился: серьезного отпора дать он не сумеет.
Выходит, надо молить Бога, чтобы не покидал их, помог, иначе будет плохо… Из Большерецка нужно уйти раньше, чем сюда придут люди из Охотска.
Вытащив из-за пояса заряженные пистолеты, Беневский пристроил их на самодельной тумбочке, придвинутой к кровати, задул чадящий фитиль коптюшки. Коптюшка была заправлена старым рыбьим жиром и припахивала странной горькой тухлятиной.
Жир, заготовленный осенью, во время нерестового хода кижуча, уже кончился – все запасы съели бунтовские собрания, затягивающиеся до середины ночи.
– Ну что ж, правильно говорят русские: утро вечера мудренее, – пробормотал Беневский, смыкая веки, – подождем, что нам принесет утро.
Через два дня команда Хрущева, прорубавшая канал, работу закончила.
Беневский, обычно невозмутимый, спокойный, не удержался и с веселым школярским гиканьем подбросил вверх треуголку.
– Мы победили! – прокричал он что было мочи, поймал треуголку и снова подбросил ее – вел себя он, как гимназист, перешедший в очередной класс. – Слава тебе, Господи!
Отплытие было назначено на двенадцатое мая. Двенадцатое мая! Беневский удивленно почесал голову – еще вчера отмечали Рождество и Новый год, за стенкой дома свистели кудрявые синие метели, мороз раскалывал пополам камни, а сегодня уже – май, двенадцатое число! Как быстро идет время! Правда, двенадцатое число еще не наступило, но очень скоро наступит.
Хочу повториться и подчеркнуть, что количество тех, кто отплывал двенадцатого мая в неведомое, до сих пор называют разное. Беневский в своих «Путешествиях и воспоминаниях» привел, например, две цифры: 109 и 99, причем, у тех, кто изучал его «Путешествия» с лупой в руке, невольно возникало впечатление, что он путал цифры, блефовал, как в картах, Рюмин и Судейкин называли другое число – семьдесят.
Алеша Устюжанинов в своих записях приводит еще одну цифру – 96. И дает следующий расклад:
«Ссыльных – 8,
Охотников и рабочих – 32,
Матросов с «Петра» и «Екатерины» – 39,
Остальных – 17».
Я все-таки склонен больше верить Устюжанинову: он еще не успел обучиться «ловкости рук» и «невидимым маневрам», житейскому вранью, а значит, не научился обманывать… С другой стороны, подсчет тех, кто плыл на «Святом Петре», можно было производить в разное время – и перед отплытием, и в середине пути, и на островах, где бунтовщики осели на постоянное житье. Везде эта цифра была разной.
Подсчитал Устюжанинов и количество шкур, которые беглецы везли с собой – этим мехом можно было одеть половину Парижа. Впрочем, тогда Алеша еще не знал, что на свете есть такой город.
«Соболей – 1900,
Бобров – 748,
Лис – 682».
Медвежьих шкур, тщательно выделанных, мягких, было целых двести пятьдесят штук.
Когда галиот веревками тащили по каналу, оскользались на льду, падали, Алеша, понимая, что наступает последний момент, когда еще можно спрыгнуть на лед и остаться на этой земле, дальше уже ничего нельзя будет сделать, отрицательно замотал головой и вцепился руками в борт. Пальцы у него сделались белыми, будто их прихватил мороз, лицо тоже внезапно побелело, а перед глазами все поплыло, пространство стало мокрым. Устюжанинов плакал и сам не понимал того, что плачет.
А ведь он покидал эту землю навсегда, на всю оставшуюся жизнь – вряд ли он когда уже сюда вернется. Устюжанинов наклонил лицо близко к борту, плечи у него задергались.
Внизу, под бортом галиота, хрипели, натягивая веревки, люди.
– И-и – раз! И-и – два!
Галиот медленно полз по каналу к чистой воде, до нее оставалось совсем немного. Пространство перед Алешей продолжало плыть, покрываться радужными пятнами, влажной дымкой, в которой ничего, даже солнца не было видно – все тонуло в слезной мути.
За штурвалом галиота стоял Чурин, Беневский расположился недалеко от Алеши, у борта, он также напряженно вглядывался в медленно отползающий от судна берег. От напряжения лицо его сделалось неподвижным, каким-то чужим. Алеша, разглядев сквозь муть и пятна лицо Беневского, стер с глаз слезы и успокоился.
В море вышли благополучно – и борта у галиота не помяли, и дыр в корпусе не наделали, и такелаж, такой дорогой, как жизнь необходимый в предстоящем плавании, не попортили, – Беневский был рад этому обстоятельству, приказал открыть одну из бочек с водкой и выдать каждому участнику операции по паре полновесных плошек.
– А нам? – неожиданно подступила к нему жена Паранчина Лукерья Ивановна, сжала в кулаки темные натруженные руки. – Чем мы хуже остальных? Мы точно так же работали!
Покосившись на Лукерью Ивановну, Беневский засмеялся и приказал выдать водку всем, кто находился на галиоте: а ведь женщина права, нынче у всех праздник, не только у тех, кто много работал.
Подняв паруса, галиот неспешно двинулся на юг, люди веселились, галдели, были радостно возбуждены, хотя нет-нет, а лицо у кого-нибудь неожиданно наполнялось тревогой, глаза же начинали предательски блестеть: никто не знал, что будет с ними завтра.
Вечером Беневский, который занимал отдельную каюту, нашел Алешу Устюжанинова, потрепал его по беловолосой голове:
– Альоша, забирай свои вещи и перебирайся ко мне в каюту.
Устюжанинов озадаченно захлопал глазами.
– Да у меня вещей-то, Морис Августович, раз, два и обчелся. Три тетрадки, свинцовый грифель, ножик и утирка, чтобы после умывания было чем промокнуть лицо… Больше ничего нету.
– Вот это и бери… Ведь ты же – мой адъютант, – Беневский снова потрепал Алешу по голову, – а раз адъютант – значит, должен быть всегда рядом. А потом, ты давно не отчитывался, как учишь французский язык.
Через десять минут Алексей Устюжанинов перебрался к шефу.
– Ну-ка, доставай тетрадку, в которую ты записывал французские слова, – велел ему Беневский.
Устюжанинов покорно достал тетрадь из мешка, развернул на нужной странице, протянул Беневскому.
– Вот.
Беневский перелистал тетрадку, потом крупными буквами, очень приметно написал десять слов – пять глаголов и пять существительных, существительные специально подобрал такие, чтобы к ним можно было прицепить все пять глаголов, – вернул тетрадку Алеше.
– Выучи к завтрашнему вечеру – это раз, и два – составь десяток предложений из написанных слов… Плюс из тех слов, которые ты уже знаешь. Ясно?
– Все выучу, Морис Августович, – честно пообещал Устюжанинов, хотя учить новые слова и тем более заниматься прописями ему не очень хотелось. Неподалеку, за бортом, проплывала земля, которую он, может быть, никогда больше не увидит – тихая, с огромными, ярко посверкивающими на солнце снежными горами и слабо зазеленевшими по весне рощами, подступающими к подножиям, с ровными мшистыми долинами и широкими устьями норовистых речек, в которые устремлялась на нерест ошалевшая огненно-красная рыба.
Камчатский лосось, входящий из моря в речки, буквально светится, горит раскаленно – такой он бруснично-яркий, неземной какой-то, сказочный.
Но стоит лососю хлебнуть в реке немного пресной воды, как он начинает тускнеть, светящаяся краска сползает, будто со старой шкуры, остаются лишь неровные алые пятна, но и они скоро исчезают.
Особенность камчатской рыбы менять свой цвет всегда удивляла Алешу Устюжанинова.
На ночь штурман Чурин решил приткнуться к берегу – боялся в темноте наскочить на льдину, их сейчас плавало в море много – отрывались от припаявшихся к береговой кромке полей и пускались в самостоятельное путешествие. Некоторые льдины были опасные, толстые – запросто могли повредить корпус галиота.
Перед сном Беневский решил провести собрание. Повестка была простая: надо было выбрать руководителя, которого безоговорочно слушались бы все – от капитана галиота до последней крысы, сидящей в трюме у связанных веревкой медвежьих шкур… Таким человеком мог быть только один – сам Беневский, но Беневский хотел, чтобы за него проголосовали. Видать, ему нужна была некая прочная уверенность в себе самом, которой в нем, возможно, и не было, твердый внутренний порожек, опора под ногами, чтобы принимать решения непростые, жесткие, а порою даже жестокие и быть уверенным в правоте своих действий…
И люди проголосовали за Маурицы Беневского.
Заместителями его стали Хрущев и Винблад. Батурин был назначен начальником артиллерии, а педантичному, до изжоги честному Магнусу Медеру доверили провиант и госпитальные дела.
На собрании возник и второй вопрос – куда они плывут? В какие райские края, в какие места? В те, которые еще в Большерецке так красочно описывал Беневский, где все люди – братья, нет ни жестоких царей, ни униженных смердов, все люди равны, все выращивают хлеб, собирают тучные урожаи сладких диковинных фруктов, едят из золотой посуды, а в домах их часто звучит музыка, или в места какие-то другие?
Этот вопрос тоже волновал собравшихся. Все начали шуметь, галдеть, в выкриках, в топоте, свисте, смехе ничего нельзя было разобрать. Беневский поднял руку, призывая к тишине.
– Таких государств, где бы не было труда, тяжестей жизни, обид, способных вызвать слезы, мне кажется, на белом свете нет. Во всяком случае, я не встречал…
– Но вы же говорили, что есть, – неожиданно напористо, грубовато выкрикнул Чулошников.
– Я выдвигал всего лишь гипотезу, предположение, версию, не более того, – спокойным тоном произнес Беневский, – но есть немало мест, которые вам обязательно понравятся. И мы там будем.
– А куда мы плывем сейчас?
– В Европу, пять тысяч ведьм! – Беневский повысил голос – совсем не ожидал, что на него наскочит приказчик купца Холодилова. Он-то взял Чулошникова лишь для того, чтобы тот вместе с женщинами готовил еду да занимался засолкой рыбы – по этой части приказчик был большим мастером.
– В Европу-у-у? – загудело сразу несколько недовольных голосов.
– Да, в Европу. Мы осядем на одном из островов в океане, построим там дома и возделаем поля, станем жить свободно и счастливо, но нам обязательно будет нужна поддержка Европы, нам будут необходимы ткани для одежды, инвентарь, чтобы обрабатывать землю, топоры и гвозди, в конце концов, чтобы возвести жилье, порох, чтобы стрелять птиц и зверей и быть сытыми – нам много чего понадобится…
В ответ – гнетущее молчание. Впрочем, Беневского оно никак не обескуражило.
– А для этого нам обязательно надо побывать в Париже, – заявил Беневский, – договориться обо всем. А потом вернуться в океан, на понравившийся нам остров.
Расходились в молчании – речь Беневского многим была не по душе. Если раньше он очень красиво рассказывал о сытой жизни, о вечном тепле, о дружелюбных людях, которые спят и видят, что они братаются с беглецами из холодных северных краев, то сейчас он об этом уже не говорил – либо специально не стал этого делать, либо забыл о прошлых речах. Алеша думал, что такая реакция бунтовщиков расстроит Беневского, но она ничуть не расстроила его, он вообще имел беспечный вид, более того – напомнил Устюжанинову о задании по французскому языку и лег спать.
Утром, едва рассвело, галиот выбрал из воды тяжелый кованый якорь и двинулся дальше. Опять вдоль борта поплыли оживающие весенние берега Камчатки. Хотелось Алеше рассмотреть их внимательнее, полюбоваться, но надо было заниматься французским…
Потянулись дни, один за другим, ночь приходила на смену светлому времени, потом вновь вступала в свои права; паруса, тугие от ветра, заставляли корабль резать тяжелые, как чугун, прочные волны и тащили, упрямо тащили «Святого Петра» на юг.
Пейзаж за бортом особым разнообразием не отличался – берега, тихо уползающие назад, сопки, иногда увенчанные белыми снежными шапками, иногда нет, – все зависело, как понимал Алеша Устюжанинов, от высоты гор, хотя с моря все сопки казались одинаковыми.
Иногда появлялись касатки, подходили близко к галиоту, Устюжанинов, глядя на них, невольно втягивал голову в плечи.
– Касаток не бойся, – сказал Беневский, когда паренек в очередной раз стал ниже ростом, – на людей они не нападают.
– А на кого они нападают, Морис Августович? – спросил Алеша, вытягивая голову и на глазах становясь выше ростом.
– На китов.
На следующий день они стали свидетелями того, как стая касаток расправилась с большим серым китом. Кит был огромен, не меньше галиота, добродушно фыркал, пускал в воздух тугие серебристые струи – он уплыл слишком далеко на юг, попал в теплые воды и теперь ему надо было возвращаться назад, в свое мирное стадо, которое он потерял.
Вернуться в стадо он не успел.
Из морских далей, из-под самого горизонта, принеслась стая касаток – таких же китов, как и безобидный серый, только хищных, стремительных, зубастых, потом примчались еще две касатки, покрупнее.
Подплывать близко к серому киту они поначалу побоялись – одним ударом хвоста он мог изувечить половину стаи, такой был огромный и мощный.
Неожиданно касатки выстроились в линию и линия эта на глазах начала свиваться в кольцо. Вскоре большой серый кит оказался внутри кольца, обеспокоенно зафыркал – кольцо закрутилось вокруг него, взбивая пенные буруны воды. Касатки молча и страшно носились по кругу, все больше и больше сужая кольцо и увеличивая скорость.
Что-то зловещее, пугающее, тревожное рождалось в воде, в убыстряющемся движении касаток, даже в воздухе, и там родилась тревога. Вообще-то Алеша отметил для себя, что море, небо и земля в этих краях составляют единое целое, совершенно не способное разделиться.
Как бы там ни было, ни Алеша, ни Винблад, стоявший рядом с ним у борта, ни несколько охотников, сгрудившихся подле Митяя Кузнецова, не верили, что касатки, как бы злобно ни вели они себя, нападут на огромного кита и тем более – одолеют его. Да и кит, хоть и обеспокоился, но и только, вел себя, что называется, доброжелательно, неторопливо шевелил плавниками и с глухим шумом, словно городской фонтан, выбивал из себя струи воды.
Казалось, что кольцо касаток сейчас не выдержит, распадется в испуге перед серым фыркающим гигантом, но вместо этого из вращающегося круга вырвалась одна из касаток, сделала в воде резкий бросок и впилась зубами киту в бок. Дернулась всем телом, изогнулась и, выдрав огромный кус мяса из бока, отвалила в сторону.
Послышался низкий, сильный, какой-то внутренний звук, – казалось, что ревел кто-то невидимый, находящийся в воде на глубине, под китом, совсем не было похоже, что кит может издавать такие звуки.
Следом стремительный бросок сделала еще одна касатка, также вцепилась зубами в бок кита.
И вновь из-под воды донесся горестный трубный звук. Касатки начали нападать на кита одна за другой, рвали его, живого, огромного, беспомощного, на части, выдирали огромные куски – одного такого куска хватило бы на всю команду галиота «Святой Петр», а касатка проглатывала этот кусок целиком и снова становилась в жуткий вращающийся круг.
Горькие тревожные звуки, рождающиеся под водой, превратились в сплошной рев, от которого у Алеши по коже забегали блохи, кусались насекомые злобно, он морщился, хотел было перебежать к другому борту, чтобы не видеть происходившего, но не смог – ноги приросли к палубе.
– И-и-и, – сорвалось у него с губ тоненькое, жалобное, он сдавил это скулящее нытье зубами, попробовал сдержать его, но попытка оказалась тщетной…
Расправа с бедным китом продолжалась, касатки объедали его, живого, до костей.
Наконец кит не выдержал боли, распахнул огромный рот, в котором запросто могла поместиться охотничья избушка, и одна из касаток, самая смелая, самая большая, рванулась к распахнутому рту.
Винблад поморщился, проговорил медленно, размеренно:
– Надо ударить по этому волчьему стаду картечью…
Алеша вскинулся.
– А что, дядя Винблад, давайте зарядим пушку.
– Поздно, – меланхолично отозвался Винблад. Лицо его, спокойное, даже какое-то равнодушное, словно бы он не видел, как зеленая, с синими разводами морская вода делается красной, коричневой от крови кита, неожиданно налилось краской и стало злым, он заперебирал пальцами по закраине борта, казалось, еще мгновение и он кинется к одной из пушек, чтобы зарядить ее картечью и метким выстрелом разогнать разбойников, но Винблад никуда не двинулся – спасать кита действительно было поздно.
Шустрая и очень наглая касатка, рванувшаяся к распахнутой пасти кита, – кит своими зубами мог перекусить ее пополам, – бесстрашно сунула голову прямо в распах, в зубы гиганта и одним движением нижней челюсти откусила ему язык.
Кровь фонтаном хлынула из пасти несчастного кита, взбила вал воды. Касатки разом изменили тактику, слаженный круг разорвался, касатки теперь вольно носились около кита, совершающего судорожные движения и гулко хлопающего хвостом по воде, хлопки эти были похожи на удары грома, кит гудел трубно, тоскливо, растопыривал огромные плавники.
Было понятно, что кит умирает, это – агония.
Винблад вытащил изо рта свою коротенькую, потемневшую от нагара трубку стряхнул с аккуратно остриженной бороды пепел и произнес негромко:
– Все!
Сгоревший табак, скопившийся внутри трубки, он хотел по привычке выбить за борт, но вместо этого отрицательно качнул головой и, придавив пепел большим пальцем, сунул трубку в карман.
Кит еще некоторое время бился, тревожил море, поднимая своими конвульсивными движениями целые валы воды, потом стих и перевернулся вверх желтоватым, неровным от длинных рельефных полос животом…
Поздно вечером галиот встал на якорь метрах в семидесяти от берега, подойти ближе Чурин на этот раз не осмелился, можно было сесть на мель, – Беневскому и Алеше принесли в каюту скромный ужин. К ним присоединился Хрущев, прихватив с собою небольшой кувшин с водкой.
Выпив по паре плошек, Беневский и Хрущев разложили перед собой карту, начали водить по ней пальцами – они словно бы забыли об Алеше Устюжанинове, спорили о чем-то своем, иногда переходили на французский и опять спорили, потом Хрущев откинулся от карты и, помяв себе пальцами виски, неожиданно произнес озабоченным голосом:
– На корабле у нас неладно, Морис Августович.
– Что так?
– Образовалась группа недовольных – не нравится народу, что мы плывем в Европу.
– А куда же мы должны плыть, как не в Европу, Петр Петрович? Без Европы нам не обойтись, где бы мы ни поселились, хоть на северном полюсе.
– Я это понимаю, а другие – нет.
– Кто же эти другие?
– Штурман Измайлов и еще несколько человек.
– Ну, пока еще не штурман и даже не штурманский помощник – ученик всего лишь… Много у него сторонников?
– Точно не знаю, но, думаю, человек пять, а то и семь наберется.
Беневский вздохнул и опустил голову, подмятый невеселыми мыслями.
– И чего же они хотят? – тихо спросил он.
– Часть недовольных требует вернуться, вторая часть – осесть на одном из райских островов, не заходя в Европу.
– Глупцы! – Беневский осуждающе покачал головой. – В Европе, в частности, в Париже, должны побывать хотя бы некоторые из нас, чтобы обо всем договориться. Кто тебе сообщил о заговорщиках, Петр Петрович?
– Митяй Кузнецов случайно услышал разговор.
– Митяй – человек верный, – Беневский еще раз вздохнул, взялся за кувшин с водкой, налил в плошку себе, налил Хрущеву, – Митяй врать не станет… Ладно, подождем, что будет дальше, – Беневский поднял свою плошку, стукнул ею о край плошки Хрущева, – подождем…
– Если эти люди возьмут верх, то нас вздернут на реях.
– Не вздернут, – спокойно проговорил Беневский, – не успеют.
Скверная новость, принесенная Хрущевым, вскоре получила подтверждение. Поскольку Алеша Устюжанинов подружился с верными помощниками охотниками Митяя Кузнецова, промысловыми лайками Графом и Маркизой, то на ночь ушел спать к ним: боялся, как бы кто-нибудь не обидел собак – народу-то на корабле много, забрался под перевернутую шлюпку, бросил под себя шкуру, по одну сторону его улегся Граф, по другую Маркиза – тепло было. Алеша очень быстро уснул.
Проснулся он от того, что на шлюпку сели двое, разместились на ней поудобнее и завели негромкий разговор. Слышимость была отличная, каждое словечко звучало очень отчетливо, будто было произнесено прямо в ухо. То, о чем говорили эти двое, насторожило Алешу.
Один из говоривших был Паранчин, не узнать его было просто невозможно: быстрая, чуть шепелявая речь Паранчина была известна каждому, кто находился на галиоте, второй говоривший… Устюжанинов напрягся, пытаясь угадать, и через некоторое время понял, что это – Измайлов, один из штурманов.
– Поляка, предводителя нашего, надобно убить, а с ним и Петьку Хрущева, – проговорил Измайлов негромко, прикрывая рот ладонью, – если этого не сделаем, то с другими не справимся…
– Согласен, – сказал Паранчин, – без этого нас и назад, на Камчатку, не пустят.
– Плохо то, что народу с нами пока мало, – Измайлов вздохнул, – люди с «Екатерины» – это хорошо, но было бы лучше, если бы к нам примкнули два-три охотника…
– Я поговорю, – пообещал Паранчин, – думаю, что меня послушаются.
– Вот это толково, по-нашенски, – Измайлов замолчал, принюхался к чему-то. – Слушай, Паранчин, под лодкой кто-то есть, – неожиданно проговорил Измайлов и гулко стукнул ладонью по килю перевернутой шлюпки.
Сердце у Устюжанинова мигом прыгнуло в горло и застряло там, он сжался в комок: ведь если эти двое обнаружат его, то тут же швырнут за борт, в ночь…
– Здесь собаки Митяя Кузнецова ночуют, – успокоил собеседника Паранчин, – погоди, я проверю, – он сунул руку под борт шлюпки, нащупал пальцами теплую шерсть Маркизы, произнес утвердительно: – Собака. Можешь удостовериться.
Штурманский ученик также засунул руку под край шлюпки, подвигал ею, пошарил пальцами по пространству, уткнулся в собачью шерсть, кивнул успокоено:
– Верно. Собака.
– У Митяя еще кот есть. Ночует, наверное, с ним.
– А собак у него две, они же… – в голос Измайлова натекли недоуменные нотки, – они же гадят. И где, спрашивается, гадят? Здесь, на корабле? В трюме?
– Да не в трюме, – со смешком произнес Паранчин, – Митяй им лопату подставляет… и отправляет за борт. Рыбам на корм.
– Завтра вечером мы все должны закончить, – решительно проговорил Измайлов, две головы – на казачьи пики, остальные, увидев это, послушаются нас. Затягивать дело нельзя – может оказаться поздно.
Вместо ответа Паранчин что-то прохрюкал в кулак, а потом прошептал резко, со свистом:
– Тихо!
По палубе, гулко шлепая босыми ногами, шел человек. Около шлюпки остановился, спросил с сильным акцентом:
– Чего не спите?
– Душно чего-то, господин Винблад, – заискивающе произнес Паранчин. – Вышли подышать воздухом.
– Ну-ну, – Винблад закряхтел, достал из кармана штанов свою трубку, неторопливо набил ее табаком.
«Неужели и этот с ними? – Алеша почувствовал, что в груди у него возник и лопнул холодный пузырь. По телу побежали колючие мурашки. – Предал Мориса Августовича? Неужели это так?»
– Пошли мы, господин Винблад, – прежним заискивающим тоном произнес Паранчин. – Поспать надо хотя бы немного.
– Идите, – равнодушно проговорил швед.
Устюжанинову сделалось легче, мурашики перестали щипать кожу: он понял, что Винблад не предал шефа, о заговоре ничего не знает и на палубе оказался случайно.
Он радостно притянул к себе собачью голову, – кажется, эта была Маркиза, от того, что пришлось ему услышать, в мозгу все перевернулось, Алеша даже забыл, где лежит Маркиза, а где Граф, – и поцеловал. Наверное, так крепко он целовал только отца, когда прощался с ним в Ичинске.
Вскоре с палубы ушел и Винблад – выкурил свою трубку, неспешно выколотил ее за борт и отправился спать.
Сделалось тихо, совсем тихо. Под днищем «Святого Петра» плескалась вода, волны были мелкие, твердые, играли на листах железа, которыми было обшито днище, выбивали веселую дробь, иногда в воздух, беззвучно протыкая поверхность воды, взлетали небольшие светящиеся рыбки и, пронесшись по пространству метра три, вновь ныряли в воду.
Алеша аккуратно, стараясь не издать ни шороха, ни скрипа, выбрался из-под лодки наружу и, оглядевшись, побежал к Беневскому. То, что он узнал, надо было немедленно сообщить шефу. Иначе утром может быть поздно.
Беневский не спал, лежал вверх лицом, заложив руки за голову. Над кроватью горел тусклый фонарь-рыбник, пламя было неровное, трескучее, словно бы огню не хватало пищи.
– Альоша, – произнес Беневский тихим озабоченным голосом, – куда-то ты исчез…
– Да в шлюпке пробовал спать, – Устюжанинов махнул рукой, – не получилось. Тут вот какое дело, Морис Августович… Нехорошее дело… – Он рассказал Беневскому все, что услышал, лежа с собаками под лодкой.
Беневский выслушал «адъютанта» со спокойным, почти каменным выражением на лице.
– Ложись пока спать, Альоша, – ровным голосом проговорил он. – Как у вас говорят: утро вечера мудренее? Так? Очень хорошая поговорилка.
– Не поговорилка, Морис Августович, а поговорка, – поправил шефа Устюжанинов.
Беневский в ответ улыбнулся, потрепал Алешу за волосы.
– Спи, давай, – сказал. И таким спокойствием, такой убежденностью в правоте своего дела повеяло от голоса Беневского, что Устюжанинов мигом подчинился приказу, закрыл глаза и уснул.
Проснулся он от шума. Открыл глаза – в каюте было много народа, все галдели, взмахивали кулаками, вскрикивали, молчал, кажется, только один Беневский. Он с отрешенным видом разместился за столом и, кажется, совсем не обращал внимания на шум.
Посреди каюты на двух табуретках сидели Паранчин и Измайлов со связанными руками. По лицу Паранчина текли мелкие слезы. Он дергал головой, ронял слезы на пол, пытался справиться с собой, но это у него не получалось.
Вокруг шумели люди с гневными лицами: Панов, Чурин, Степанов, Батурин, еще кто-то, кого Устюжанинов не сразу и разглядел. У стола, около Беневского стояли Винблад и Хрущев.
– Ну что, вина ваша налицо – вы нас предали, господа, – жестким тоном произнес Хрущев. – А всякое предательство требует наказания. Таковы законы у всех народов Российской империи. Какие будут предложения?
– Предложение может быть только одно – смерть, – четко, тщательно выговаривая каждое слово, молвил Панов.
– Есть еще одно предложение, – голос седого, с морщинистым лицом Степанова был более миролюбив.
– Какое? – Панов вскинулся: не любил, когда кто-нибудь не соглашался с ним.
– Высадить изменников на одном из необитаемых островов Курильской гряды, а самим плыть дальше.
Панов сжал зубы, но в следующий миг лицо его неожиданно помягчело, в уголках рта возникли насмешливые скобочки.
– А что! – воскликнул он. – Такое развитие сюжета тоже может быть. Давайте проголосуем: кто какой вариант изберет?
Победил вариант Степанова.
Курильские острова всегда считались богатыми. Рыба, которая обитала тут – жирная, так называемая белая, на Камчатке не водилась. В Большерецке жили рыбаки – несколько человек, которые бывали на Курилах, привозили не только копченую белорыбицу, но и разные диковинки, в том числе и перламутровые раковины величиной с колодезную бадью. Красоты раковины были неописуемой.
В этом раю моллюсков, белорыбицы и неземных раковин и надлежало оставить изменников.
Ближе к вечеру, перед заходом солнца, когда еще не было темно, «Святой Петр» сделал остановку около острова Симушир.
Островок этот был неприветливый, моряки старались около него не задерживаться, проскакивать мимо, на галиоте находились двое матросов, побывавших на Симушире, на вопрос Хрущева, что это за земля, проговорили в один голос:
– Нежилая земля, человеку здесь делать нечего.
– А рыба тут ловится?
– Рыба на Курилах ловится везде.
– Выходит, изменники на Симушире не пропадут?
– Как знать, господин офицер, – уклончиво ответили матросы, Хрущев вгляделся в их глаза и все понял. Ответом бывалых людей он остался доволен.
– Кто родом – кулак, тому уже не разогнуться, – загадочно и туманно проговорил он, затем махнул рукой: не думал, что в их рядах могут оказаться предатели, но надо ведь – оказались… Хрущев поморщился – неприятно было. А с другой стороны, может, это не измена, а нечто другое? Может, люди дрогнули в последний момент и просто не захотели покидать землю, на которой родились?
В России это – традиция, сплошь да рядом человек, родившийся здесь, старается здесь и умереть и если судьба заносит его в чужие края, он делает все, чтобы вернуться домой, в места, где первый раз в жизни увидел солнце и услышал пение птиц – плачет он, худеет, становится нелюдимым и умирает, если этого не происходит.
Так и Измайлов с Паранчиннм, и матросы, примкнувшие к ним – два человека… Может, они сделав шаг и поддержав Беневского, побоялись сделать второй и, желая вернуться в Большерецк, домой, совершили предательство? Злого умысла не имели, а предательство совершили, такое могло быть?
Перед тем, как высадить изменников на Симушире, Хрущев решил поговорить с ними. Измайлов – худой, с черными, заросшими щетиной щеками, отвернулся в сторону и разговаривать с бывшим ссыльным не пожелал. Паранчин опустил взгляд и, вздохнув, отрицательно покачал головой. Хрущев понял, что говорить с ними бесполезно.
А вот матросы повалились перед ним на колени – и Петр Софронов, и Филипп Зябликов, второй несостоявшийся штурманский ученик. На глазах Софронова появились слезы, губы плясали.
– Простите нас, ваше благородие, – с трудом, вместе с горькой слезной мокретью выкашлял он из себя, – помутнение нашло…
– Простите нас, – в унисон ему прогудел Зябликов, поклонился Хрущеву, как иконе, стукнулся лбом в деревянный настил, проложенный по дну трюма – изменников содержали там, в трюме.
Если человек молит о прощении, клянется Всевышним, его надо прощать. Хрущев поморщился и пошел к Беневскому. Никто не знает, о чем они говорили, только Беневский велел собрать на палубе всех людей, находившихся на галиоте. Когда народ собрался и замер в тревожном молчании, Беневский вышел в центр палубы и сообщил, что произошло – рассказал о заговоре, о том, кто покаялся, а кто нет и следом вынес окончательный вердикт: Измайлова и Паранчина высадить без оружия и еды на Симушире, Зябликова и Софронова «драть кошками» – веревками, которые привязывают к кошкам, – высечь, но на «Святом Петре» оставить. Потому как они раскаялись…
– Прошу утвердить этот приговор, – сказал Беневский и в знак уважения поклонился собравшимся. Улыбнулся скупо. – Можно даже проголосовать. Как в английском парламенте.
Собравшиеся не стали жеманиться и мешкать – проголосовали… Приговор был утвержден.
На корме приготовили место, чтобы как следует высечь Зябликова и Софронова, но пока до этого дело еще не дошло, Зябликов и Софронов были вторым пунктом приговора, сейчас же надо будет разобраться с первым пунктом, с бедолагами, которые будут высажены на Симушире.
До неровного каменистого берега было метров сто, может, чуть больше, без промеров глубин Чурин подойти ближе не решился, поэтому на воду спустили шлюпку. Двое матросов сели за весла, один – на корму, рулевым.
Тишина возникла такая резкая, горькая, что от нее можно было оглохнуть. Зябликова и Паранчина спустили в шлюпку. Хрущев сделал прощальный взмах рукой:
– Отчаливай!
Матросы дружно налегли на весла. Шлюпка круто развернулась, под днищем ее дробно застучала вода, сидевшие на берегу чайки закричали встревоженно, протестующе – не хотели с кем-либо делить пространство Симушира, один из матросов хлопнул веслом по воде и чайки поднялись в воздух.
Недалеко от берега шлюпка ткнулась носом в мель и остановилась, первым из нее вылез Паранчин, потом Зябликов, оба с уныло опущенными головами побрели по воде к мокрым, обросшим зеленым волосьем камням, темнеющим на урезе берега.
Среди людей, выстроившихся вдоль борта «Святого Петра», возникли тоненькие всхлипы, завершившиеся громким взрыдом, затем все стихло. Беневский, который внимательно следил за реакцией собравшихся, на всхлипы даже головы не повернул, хотя слышал их хорошо.
Неожиданно шеренга собравшихся раздвинулась – это довольно решительно сделала невысокая черноволосая женщина с симпатичным смуглым лицом и, выкрикнув что-то невнятно, лихо, ласточкой, перемахнула через борт.
Кто-то, не выдержав, ахнул.
Плыла женщина лихими мужскими саженками – так плавали на Руси издавна, еще с незапамятных времен, наверное, с поры Алексея Тишайшего.
– Лукерья Паранчина, – изумленно выдохнул матрос с длинными французскими баками, похожий на гусара, – мужа не захотела бросать… Дура баба! Пропадет не за понюх табака!
– Это мужик может пропасть, а баба ни за что. Баба – палочка-выручалочка. Мужики с ней не умрут на этом необитаемом острове, вот увидишь.
– Если бы на Симушире водились бы свиньи или что-нибудь в этом роде – уцелели бы, но здесь ничего, кроме крапивы не водится. Да и крапива – только в урожайные годы.
– Зато рыбы – больше, чем на Камчатке.
Беневский все слышал, все видел, но никак на происходящее не реагировал. Он, кажется, даже на плывущую Лукерью Паранчину не смотрел. Измайлов и Паранчин, стоя в воде у самой кромки берега, ожидали женщину. Вот она подплыла к ним, тряхнула мокрой головой и встала рядом с мужем. Паранчин заботливо обхватил ее одной рукой, все трое повернулись и стали карабкаться на мокрые камни.
Когда шлюпка подошла к галиоту и ее веревками затащили наверх, на палубу, Беневский дал команду поднимать якорь, сам, опустив голову и даже не оглянувшись на остров с оставленными там людьми, ушел к себе в каюту.
«Святой Петр» в вечернем сумраке продолжил плавание на юг. Алеша Устюжанинов хотел было тоже пойти в каюту, но не пошел – внутри было холодно, в горле скопились слезы, в виски натолкалось что-то тяжелое, будто кто-то неведомый, всесильный, набил череп каменной пылью, и Алеша перекрестился.
– Свят, свят, еси… Отче наш иже еси на небесах, – он прочитал молитву один раз, другой, потом третий, думал, что муторное слезное состояние пройдет, но оно не проходило.
Тогда он забрался под шлюпку, где случайно подслушал разговор двух бунтовщиков, и заплакал.
К нему тут же примчались две собаки, находившиеся в другом углу галиота, также втиснулись под шлюпку. Алеша закрыл глаза, забылся и не заметил, как уснул…
Через некоторое время кончились сухари, которые они брали с собой. Солонина у них была, жир был, вяленая рыба была, еще – мука, мед, топленое масло, а вот ни хлеба, ни сухарей не было – кончились запасы. Беневский покряхтел, что-то соображая, и сказал Чурину:
– Надо пристать к какому-нибудь острову. Нужно не только хлеба побольше испечь, но и набрать воды. У нас протухли две бочки с водой.
– Видимо, бочки, прежде чем заполнить их водой, надо было протереть водкой, – сказал Чурин, – так иногда поступают бывалые люди.
– Сто лет живи – сто лет учись, так, кажется, говорят в России?
– До Японии осталось совсем немного, – заметил Чурин.
– Япония нам нужна, там мы попробуем и меха продать и провиант купить. Но к острову все равно пристать придется.
Чурин склонился над картой, расстеленной на столе, взял в руки штурманскую линейку.
– Сегодня, на закате солнца можем бросить якорь около острова, у которого нет названия. Может быть, подойдем к нему в темноте – все зависит от ветра, господин Беневский. А ветры в этих широтах – капризные…
– Не зовите меня господином, Чурин, – попросил Беневский, – не люблю господ.
– А как же мне в таком разе вас звать? – спросил Чурин растерянно. – Братом, дядей, племянником?
– Зовите по имени-отчеству, как принято в России, – не ошибетесь. А слово «господин», извините, мне не нравится.
В этот момент Чурин понял нечто важное, чего не понимал раньше – Беневский, рассказывая о землях с райскими птицами, о климате, в котором нет испепеляющих, как на Камчатке морозов (впрочем, и лютой, убивающей все живое жары тоже нет, температура и летом и зимой одинаковая), о хлебе, который растет круглый год, о золотой посуде, что есть в домах у всех граждан без исключения, о равенстве в обществе и многом другом, ни разу не произнес слово «господин» поскольку считал, что главное богатство тех земель – свобода и равноправие. Люди там свободны, вот ведь что важно, не чувствуют себя ни ущемленными, ни приниженными, дышат легко, не умеют обманывать друг друга и чинить зло…
Алеша Устюжанинов, присутствовавший при разговоре, понял это давно, – удивительно только, что умный и опытный Чурин не понял эту простую вещь до сих пор. Хотя Беневский об этом много говорил.
Острова, который был нанесен на карту, не оказалось – Чурин только глазами хлопал озадаченно, да покрикивал на своего помощника Бочарова, бегавшего по палубе со штурманскими приборами, помогающими определить координаты, – все было верно, и местонахождение «Святого Петра» Бочаров определил верно, и в море точно сориентировался, и звезды, возникшие на темном вечернем небе, подтвердили: остров должен быть, а острова, увы, не было…
– Тьфу! – с досадою отплюнулся Чурин. – Так и до неприятностей недалеко – сядут на какой-нибудь риф, не обозначенный на карте и – тю-тю тогда, все последующее плавание пойдет прахом. Тьфу! – вновь отплюнулся Чурин.
Приказал бросить в воду лот. Двое матросов, гулко шлепая по деревянному настилу палубы босыми ногами, побежали на нос, неся на плечах две бухты веревки. Лот на «Святом Петре» был примитивный – веревка с разметкой и тяжелый чугунный стакан, привязанный к ней.
Лот вытравили полностью в воду, но дна не достали.
– Однако, – Чурин поскреб пальцами затылок, – глубина тут, наверное, с полкилометра будет, не менее.
Похоже, так оно и было.
Это была первая ночь, когда они не останавливались на ночевку – с при спущенными парусами, осторожно, с вполне понятной боязнью, под малыми парусами поплыли дальше. Острова, нанесенного на карту, они так и не нашли.
Не обнаружили они его и на следующий день, ни утром, ни вечером.
Днем неожиданно вскипел Степанов, выдернул из ножен казачью саблю, украшенную позолоченным эфесом, с которой никогда не расставался, сабля была офицерской, ее бывший подмосковный помещик выиграл в карты, хотя всем говорил, что взял саблю в воинском сражении (но в каком сражении русский офицер мог взять саблю у русского офицера?), – раскричался на весь галиот:
– Воды! Хочу воды! Где вода?
Степанова тотчас же окружили несколько человек, таких же буйных и горластых – не выдержали подступившей духоты, – тоже стали громко орать:
– Воды! Воды!
К крикунам вышел Беневский:
– Вы же знаете – воды нет, вы же ее и выпили. Последняя бочка лопнула в трюме. Сейчас Чурин ищет остров, к которому можно пристать, набрать воды и испечь хлеба. Терпите, прошу вас, друзья.
– А если острова не будет до самой Японии?
– Будет, уверяю вас.
– Прикажи достать бочонок водки, – потребовал Степанов. – Водка – та же вода, только крепкая.
– Вы же перепьетесь, потом перестреляете друг друга…
– Это наша забота, господин Беневский.
При слове «господин» Беневский поморщился.
– Ваша забота может стать нашей, – жестко заметил он.
– Доставай водку и – никаких разговоров, – потребовал Степанов, – иначе сами достанем.
– Черт с вами, доставайте, – Беневский махнул рукой: возникновения еще одного бунта на корабле не хотелось – это во-первых, а во-вторых, горластого Степанова ему не перекричать.
С победным ревом Степанов воткнул саблю в ножны и ринулся в трюм, за ним еще человек десять, образовали у люка толкотню, но в конце концов, все благополучно провалились в душную глубину трюма.
Через несколько минут пятнадцативедерный бочонок водки уже находился на палубе. У него немедленно выстроилась очередь людей с кружками в руках.
За опустошением водочного бочонка с грустью наблюдал Магнус Медер – ведь он отвечал за продуктовый запас и здоровье экспедиции, если это плавание можно было назвать экспедицией.
В результате почти весь галиот оказался пьяным, – за исключением самого лекаря, Беневского, Чурина, Алеши Устюжанинова и шести женщин. Впрочем, это имело и свои положительные стороны: никто из тех, кто пил водку, уже не требовал воды. Может, действительно был прав Степанов: водка – это та же вода, только крепкая.
Пьяные долго колготились на палубе «Святого Петра», Магнус Медер наблюдал за ними – как бы кто-нибудь не вывалился за борт, но слава Богу, все обошлось, один за другим пьяные начали отключаться – одни разлеглись спать на палубе, другие попадали в трюм, третьи нашли себе место еще где-то. Корабль затих, поскрипывал снастями, да привычно давил воду тяжелым перегруженным корпусом. В бочонок, в котором плескались остатки водки, забили пробку и Беневский откатил его в свою каюту.
Командир галиота Чурин клевал носом за штурвалом, но с места своего не уходил…
Алеша Устюжанинов решил ночевать все-таки под лодкой – пространство под просмоленными досками шлюпки полюбилось ему больше, чем каюта: и вскакивать рано не надо, и покидать помещение по первому требованию взрослых, которым понадобилось провести секретное совещание, пошушукаться, тоже не надо, и духоты спертой на палубе нет, и дышится легче, и… в общем, если бы под шлюпкой можно было устроить свой дом, Устюжанинов сделал бы это. Шлюпка – лучшая крыша на всем галиоте.
Он свистнул тихонько, подзывая к себе собак, те не замедлили явиться, пролезли вслед за Устюжаниновым под шлюпку. Чувствовали они себя так же плохо, как и люди – было жарко, не хватало воды…
Перед рассветом собаки начали нервничать – дергались, высовывая головы из-под плотного полотна, которым была накрыта шлюпка, поскуливали, взвизгивали, потом замирали и прислушивались к чему-то, через полминуты обреченно опускали головы. Что происходило с ними, Алеша не понимал.
Прошло еще немного времени и Маркиза, неожиданно резко вскинув голову, напряглась и завыла. Следом завыл Граф. Алеша почувствовал, что по коже у него побежали мурашики.
– Тихо! – шикнул он на собак. – Людей разбудите!
Но собаки не слушали его. Что-то древнее, колдовское возникло в этом вое, родило в Устюжанинову страх, он покрутил головой ожесточенно, сопротивляясь печальным собачьим голосам, но ничего поделать не мог… Состояние у него было такое, что в следующую минуту он готов был завыть сам.
На вой из своей каюты вышел Магнус Медер, подергал обеспокоенно одним плечом – собачий вой никогда не сулил ничего хорошего, обычно псы воют, когда чувствуют покойника и люди, слыша их, испуганно крестятся: свят-свят-свят!
Кряхтя озабоченно, лекарь подошел к шлюпке, поднял полотно:
– Собака выл – большой беда может быть. Чтобы беда не был – собака надо стреляйт, – Медер стал говорить по-русски много лучше, даже трудные буквы, которые ему не давались, начал произносить.
– Да ты чего, дядя Магнус? – протестующе закричал Алеша и показал из-под лодки кулак. – И не думай, дядя Магнус!
Услышав заявление лекаря, собаки оборвали вой – дружно, разом – они хорошо разбирались в человеческой речи.
– Нет, они не покойник чувствуют – чьто-то тругой, – сказал лекарь.
– А что? – свечкой вытянулся под шлюпкой Устюжанинов.
– Не знаю. Если бы покойник – не оборвали бы вой.
Медер постоял несколько минут около шлюпки, пошамкал губами и пошел к Чурину, который бодрствовал у штурвала. Чурин тоже слышал собачий вой и был полон недобрых мыслей. Он сосредоточенно вглядывался вперед, но ничего не видел – вокруг еще стояла ночь, плюс ко всему, к темноте, которая должна была рассеяться, но не рассеивалась, примешался туман, разглядеть ничего нельзя было, если только собственные пальцы, но и те становились не видны, стоило только руку вытянуть.
Выслушав Медера, Чурин сказал:
– А лях его знает, почему воют собаки? Не ведаю, господин адмиралтейский лекарь.
– Впереди никакого острова не может быть?
– Нет. На карте ничего не отмечено. А с другой стороны… – Чурин засипел по-стариковски и, закрепив штурвал специальной кожаной лямкой, чтобы не крутился впустую, выбрался на палубу.
С правого борта выбросил лот. Чугунный стакан ушел недалеко – метров на десять всего и лег на дно.
– Вай-вай-вай! – вскричал Чурин звонким, будто у молодого петуха голосом и, выбрав лот, метнулся к якорному колесу.
Неувертливая цепь с тяжелым, откованным в сельской кузнице якорем поползла в воду. Через несколько минут цепь натянулась, галиот встал на якорь. Чурин перекрестился.
– Вовремя собаки завыли! – Прошел к штурвалу, развернул карту и невольно ахнул.
– Чьто? – поинтересовался лекарь.
– На карте указана совсем другая глубина – четыреста шестьдесят два метра.
– Можно подумать, что составитель карта сам лазил эта глубина.
– М-да, господин адмиралтейский лекарь, – удрученно пробормотал Чурин, – вы безусловно правы – он не лазил на эту глубину.
– Спокойная вам ночь, господин Чурин, – ложитесь спать – минут сорок вы можете поспать, пока не станет светло. Будет утро – будет новость.
Утро не наступало долго. На палубе самозабвенно храпели пьяные люди – ни один из них не проснулся, когда выли собаки, не проснулся из них никто и на рассвете.
Собаки, едва «Святой Петр» бросил якорь и перестал скрежетать железом кабестан, успокоились – ни Маркиза, ни Граф больше не подавали голоса. Собаки тоже ждали, когда придет утро.
Воздух перед галиотом порозовел, туман немного приподнялся над водой, заколыхался плотной массой, сбитой в творог. Устюжанинов заглянул за борт, увидел несколько голубых рыбешек с темными спинами… Здесь был другой мир, другая природа, совсем не та, что на Камчатке.
Где-то далеко, пока еще невидимое, из моря начало подниматься солнце, воздух порозовел еще больше, туман стал распадаться на куски, словно бы его накрывала неведомая сила… Вот среди голубых рыб неторопливо проскользила крупная оглаженная тень с косым плавником, в воде родился брызжущий светлый огонь – и ни одной васильковой рыбехи не стало – все исчезли. Большая рыба принадлежала к числу владычиц морей, такая если захочет проглотить галиот – проглотит и его, вместе с людьми, – не только стадо проворных голубых теней, способных рождать подводный свет.
На палубе тем временем начали ворочаться, стонать вчерашние выпивохи; бывший канцелярист Судейкин, подкатившийся во сне к самой шлюпке, с хрипом схватился за голову, подергал ее, словно овощ, который надо было вытащить из земли, спросил самого себя:
– Отчего так сильно болит эта бестолковая репа?
Он, конечно же, знал ответ, но озвучивать его не стал, застонал жалобно, закхекал, задыхаясь, на голос канцеляриста привычно среагировал Рюмин, взвыл по-кошачьи – ему было хуже, чем Судейкину, совсем плохо.
На палубу выбралась Маркиза, понюхала Рюмина и брезгливо отвернула голову в сторону. В воздухе висел удушливый запах непереваренного алкоголя. Вот, как говорится, и попили водицы.
Когда туман рассеялся окончательно, все увидели неподалеку зеленый, с кудрявыми шапками высоких деревьев остров.
– Ур-ря-я-я! – восторженно заверещал непроспавшийся, окутанный алкогольным облаком Судейкин, на четвереньках подполз к борту и, перевалившись через него, тяжелым мешком шлепнулся в воду.
Прохладная утренняя вода мигом привела бывшего канцеляриста в чувство и он, коротко взмахивая руками, поплыл к острову. За ним в море прыгнули еще несколько человек, гуськом двинулись вслед за Судейкиным.
Алеша не выдержал, притиснул к себе собачьи морды, потом, растрогавшись, поцеловал Маркизу, следом – Графа.
– Если бы не вы, мы бы налетели на этот остров и разбились бы, – сказал он. – Спасибо вам, – вновь поцеловал Маркизу, потом – Графа.
Той порой на воду спустили шлюпку, за ней – легкую алеутскую лодку, сшитую из прочных нерпичьих шкур. В шлюпку прыгнули несколько человек, в лодку, рискуя перевернуться, – также несколько. Полтора десятков ударов весел по воде – и лодка обогнала неторопливую тяжелую шлюпку.
Остров, судя по всему, был небольшой, обкатанный водой, будто голыш – ни одного острого угла, зелень на нем была изумрудная – ни единого каменного откоса, словно бы в море бросили ком земли, который спокойно лег на дно, в него кинули несколько семян, из которых проросли деревья – в результате возник райский уголок.
Шлюпка вскоре вернулась, Алеше Устюжанинову в ней досталось место – крохотный клочок на кормовой скамейке; когда отчалили, Маркиза с Графом, возбужденно носившиеся по палубе, прыгнули в воду и поплыли рядом со шлюпкой.
Когда немного отошли от «Святого Петра», Алеша оглянулся и чуть не присвистнул от удивления – таким маленьким оказался галиот. Как же на нем поместилось столько людей?
На острове пахло цветами. Звенели голоса птиц. Соединенные вместе, они превращались в птичий грай, способный задавить любой другой звук, даже рявканье пушек «Святого Петра», иногда несколько птиц смолкали, отключались и тогда становились слышны отдельные голоса… Таких голосов раньше Алеша не слышал. Наверное, это были птицы, которым уготовано жить только в раю, это о них в Большерецке рассказывал Беневский.
Недалеко от места, к которому причалила шлюпка, за излучиной, в море впадала бурливая речушка с холодной и, как оказалось, очень вкусной водой. На берегах речушки, по обе стороны ее, лежали люди – сюда переместился уже весь галиот, – и пили, пили воду, никак не могли насытиться. Пили, не отрываясь, брызгались, кричали восторженно, лили воду на себя, хохотали.
Первым от воды оторвался Судейкин, перевернулся на спину и хлопнул кулаком по тугому пузу.
Вода фонтаном выбрызнула у него из ноздрей.
– Уф! – сказал на это Судейкин.
Устюжанинов пил воду долго, не отрываясь – наполниться ею хотел по самую макушку. Потом, как и Судейкин, отвалился от речки и опрокинулся на спину. Далее, в подражание Судейкину, ударил себя кулаком по животу.
Думал, что у него, как и у канцеляриста, выбрызнет из носа вода, но из носа ничего не выбрызнуло, даже остатки насморка там остались. Фокус не удался.
Алеша на четвереньках отполз в сторону, потом поднялся на ноги, сделал несколько шагов и очутился в высоком зеленом лесу.
Громкое пение птиц здесь не оглушало так, как оглушало на берегу реки. В кустах звенели, издавая режущие металлические звуки, какие-то сверчки, а может, кузнечики, чтобы разобраться в этом, надо было изловить голенастого и, видать, не бескрылого «певца».
Неожиданно под ногами Алеша увидел свежий помет, очень похожий на козий, только горошины были крупнее козьих. С охотничьим промыслом Алеша Устюжанинов был знаком – и на соболя ему доводилось ходить, и на дикого северного оленя. И из ружья он умел стрелять. Отец его хоть и священникам был, а стрелял так, что вызывал восхищение у охотников.
Это умение Устюжанинов-старший передал и сыну. Алеша минут пять с интересом просматривал помет неведомого зверя. Кто же это мог быть? А вдруг из неведомого зверя можно сварить хорошую похлебку? Мясную… А?
Хоть и ринулись люди на остров, сломя голову, ошалев от того, что видели землю и издали ощущали дух свежей пресной воды, – как звери, – а не все лишились разума: и Беневский, и Хрущев, и Панов взяли с собой ружья.
Алеша вернулся к речке, тронул Беневского за руку:
– Морис Августович, дайте мне ваше ружье – тут неподалеку какая-то живность пасется, попробую подстрелить.
Беневский, недолго думая, протянул ружье:
– Справишься?
Устюжанинов ответил уверенно, будто бы всю жизнь только тем и занимался, что палил из охотничьих ружей:
– Справлюсь, дядя Беневский.
День обещал быть жарким. Из плотных зеленых зарослей потянуло прелью, звериным духом, Алеша, пройдя метров пятьдесят, остановился, покрутил головой, соображая, куда идти, затем сделал решительный шаг в глубину леса.
Охотничье чутье не подвело Устюжанинова, он прошел еще метров пятьдесят и очутился на краю большой, густо заросшей травой, поляны. На поляне паслись два оленя, семья – самец и самка.
Задержав в себе дыхание, Устюжанинов поднял ружье, притиснул поплотнее к плечу приклад. Отец учил его, что стрелять надо только в самца, самка обязательно должна остаться – ей предстоит продолжать род… Самец же на ее долю найдется непременно.
Самец был заметно крупнее самки – упитанный, важный, породистый. Судя по всему, олени были непугаными – крики, доносившиеся с речки, не тревожили их.
Алеша прицелился оленю в голову, подивился непривычному виду – пятнистости и коротеньким простым рогам, подумал о том, что крапчатая шкура у оленей очень хороша и выстрелил.
Олень дернулся, задирая голову и поднимаясь на задних ногах, затрубил горестно, жалобно и в следующее мгновение рухнул в траву. Олениха выстрела не испугалась, никуда не убежала, склонилась над поверженным самцом – не поняла, в чем дело.
Устюжанинов невольно попятился – слишком необычной была реакция оленихи, внутри у него родился неожиданный страх, в горле сделалось сыро. В следующее мгновение он остановился – сзади, в траве, послышалось неясное шуршание. Алеша скосил взгляд и увидел Графа. Страх, возникший в нем, исчез.
Олениха, не испугавшаяся ни человека, ни грохота ружья, собаки испугалась, совершила длинный прыжок в сторону и исчезла. Самец остался лежать на поляне, – изящный, с неловко подогнутыми под себя ногами и подломленной головой.
На Камчатке, когда охотник поражает пулей добычу, то обязательно молится ей. Иначе царь зверей рассердится и удачи в охоте тогда не видать. Алеша степенно, как это делают взрослые охотники, перекрестился, зашевелил губами, читая про себя молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…»
Над головой промахнуло несколько птиц с ярким желтым оперением. Ну будто бабочки это были, а не птицы. Весной на Камчатке тоже появляются желтые, неземно светящиеся, по-птичьи проворные бабочки.
В кустах за спиной вновь послышалось шуршание, раздались голоса – к поляне шли люди.
– Ну что, Альоша, есть добыча? – донесся до Устюжанинова голос Беневского.
– Есть, Морис Августович.
– Интересно, интересно, чьто за зверь? – раздвинув макушки кустов, на поляну вышел Беневский, осмотрел оленя и восхищенно поцокал языком.
– Чего-нибудь не то, Морис Августович? – обеспокоился Устюжанинов.
– Все то, Альоша. Это благородный олень. У него лучшее мясо в Европе. Ты молодец, большой молодец! Оленя, если ты не против, мы зажарим на костре. Люди давно не ели свежего мяса, очень обрадуются этому, – Беневский протянул руку, погладил Алешу по щеке. Тот опустел голову, потом благодарно прижался к руке.
Почти весь галиот переместился в тот день на остров, на «Святом Петре» оставались лишь Чурин, да дежурный матрос, которого Чурин называл вахтенным. Устюжанинов впервые услышал это слово, – судно постоянно должно было находиться под присмотром.
Дежурил с Чуриным степенный, с точными неторопливыми движениями Андреанов – штурман Чурин считал его лучшим матросом на корабле.
А на берегу закипела работа. Первым делом вымыли пустые бочки из-под воды и оставили их в реке, придавили камнями – было опасение, что бочонки эти рассохлись, женщины устроили постирушки – привыкли держать себя в чистоте даже в непростых камчатских условиях, страдали от несвежей одежды и очень обрадовались тому, что выдалась возможность устроить стирку.
После постирушек, развесив мокрую одежду на веревках, протянутых между стволами деревьев, принялись за дела «хлебные».
Печь сложили из камней, которые нашли в реке, другого материала не оказалось, просветы между камнями замазали землей… Недалеко от печи мужчины, на которых по-командирски покрикивал Хрущев, развели костер, – развели его умело и запекли на слабом огне освежеванного оленя. Целиком запекли.
Ели люди оленину и хвалили удачливого охотника, сделавшего меткий выстрел – Алешу Устюжанинова похлопывали по плечу, гладили по голове.
Алеша на похвалы не отвечал, молчал, да опускал глаза книзу. Но то, что его хвалили, было приятно, щеки начали полыхать горячо, а внутри, в душе, что-то позванивало сладко, рождало победную песню.
Собою Устюжанинов был доволен.
На, острове простояли два дня, убили еще трех оленей – сделали это Митяй Кузнецов и Беневский, – так что свежего мяса довелось отведать всем.
И хлеба свежего напекли вдоволь, разрезали караваи на ломти и разложили на расстеленных холстах. Очень скоро свежие ломти превратились в первоклассные хрустящие сухари.
На рассвете третьего дня, когда ночная чернота над морем немного рассосалась, Беневский велел поднимать якорь. Галиот неторопливо развернулся и лег на привычный курс – носом на юг, кормой на север, под днищем туго заколотились тугие волны. Устюжанинов невольно обратил внимание: волны эти – ну будто живые…
Стояло начало июля. Второе число, середина дня. Солнце, светившее жарко, в лицо – долго на солнце находиться было нельзя, кожа на физиономии облезала до мяса, – вдруг убавило свой пыл, в воздухе что-то дрогнуло и потемнело.
Чурин пробежал по палубе, глянул за борт, в воду, безмятежно зеленую, пузырчатую, в белесых разводах, и удрученно покачал головой.
– Будет шторм, – сказал он.
Алеша знал, что такое шторм, но никогда не был во время шторма в открытом море, всегда встречал его на берегу, поэтому ему интересно сделалось: чем же пахнет суровое морское блюдо, испытание это, когда находишься на воде, далеко от земли. Хотя внутри все-таки родился опасливый холодок, сдавил грудь – а вдруг они потонут?
Сделалось тихо, очень тихо, даже волны, привыкшие плескаться под носом галиота и петь свои незамысловатые барабанные песенки, вдруг потеряли голос, их не стало слышно, рябь словно бы напрочь слизнуло с воды, море обрело ровную, как стол поверхность, и, похоже, как стол, твердую.
Устюжанинов вгляделся в солнце и увидел, что то было накрыто странным черным пятном. Облаков же на бездонном, разом потемневшем небе не было, лишь над горизонтом плавало несколько безобидных кудрявых взболтков, больше ничего тревожного не замечалось.
Чурин с матросами бегал по палубе, опускал и сворачивал паруса, лицо его было встревоженным, рано поседевшие волосы заплетены сзади в косичку, увенчанную серебрянной пуговицей.
Белоснежные барашки, висевшие над горизонтом, проворно раздвинулись, трусливо прижались к воде, а их место начала занимать грузная, неторопливо выползающая из-за уреза моря черная туча. Алеша никогда не видел таких аспидно-черных зловещих туч.
«Святой Петр» шел медленно, очень медленно, любая весельная лодка могла сейчас обогнать его, – скорее всего, судно тащило обычное течение, но и этого черепашьего хода было достаточно, чтобы галиот уткнулся в невидимую стену.
Люди, находившиеся на палубе, попадали, а суетившийся с парусами Чурин чуть не улетел за борт, только косичка с нарядной заколкой взметнулась вверх и опустилась, – Чурин успел ухватиться за веревку, обмотанную вокруг мачты, громыхая костями, прокатился по настилу и носком правого сапога зацепился за угол ящика, набитого паклей. Веревка да собственный сапог и удержали его на палубе.
Поспешно поднявшись, Чурин прокричал громко:
– Все уходите в трюм – все! Кроме дежурных матросов. Беда идет!
– Семь тысяч ведьм! – выругался Беневский.
Люди, понимая, что грядет испытание нешуточное, – не иначе, как сам дьявол решил рассчитаться с ними за убитого капитана Нилова. – начали поспешно ссыпаться в трюм. Дмитрий Бочаров, помощник Чурина торопливо запечатал трюм люком, чтобы туда не проникла вода, Андреанов, выкрикивая что-то невнятное, словно бы внезапно возникший ветер заталкивал слова ему обратно в рот, кинулся подсоблять – в одиночку Бочаров с люком не справился бы.
Сделалось темно, как ночью. Из середины пузатой черной тучи вырвался длинный яркий сноп пламени, всадился в воду. Раздалось опасное змеиное шипение, словно бы галиот килем придавил морского дракона, следом ахнул могучий удар грома, от которого затрясся весь корабль.
В нос «Святого Петра» всадилась твердая, словно бы отлитая из чугуна волна, приподняла и поставила судно напопа, несколько мгновений галиот словно бы висел в воздухе, устремляясь бушпритом в небо, волна прошла, и «Святой Петр» с треском и скрипом опустился на воду, лег на один борт так резко, что чуть макушками своих двух мачт не коснулся моря, потом дал крен на другой борт и выпрямился.
Алеша перекрестился. Увидел, что Беневский, стоявший за штурвалом с бледным напряженным лицом, тоже перекрестился. Только он крестился не так, как Устюжанинов. Алеша крестился справа налево, а Беневский слева направо, мелко… Беневский был католиком, Устюжанинов православным человеком и как многие православные, не знал, что католики крестятся слева направо.
Откуда-то снизу, из морской глуби донесся задавленный гул, словно бы под водой, по каменному дну перемещалась большая скала, перед носом галиота поднялись игривые движущиеся фонтанчики, свернулись в воронки, начали расти и в следующее мгновение страшное почерневшее пространство накрыла стена дождя. Удар воды был таким, что с мачт чуть не срезало только что подвязанные паруса.
Стало не просто темно – сделалось совсем черно, будто глухой осенней ночью. Алеша, ощущая, что в горле возник твердый соленый комок, прикусил зубами нижнюю губу, до крови прикусил – жалел, что не нырнул в трюм вместе со всеми – среди народа ведь и помирать легче, но в следующий миг выругал себя: то, что он увидит сейчас, не увидит, наверное, никогда.
Галиот бросало с волны на волну, с гребня на гребень, словно невесомую щепку, клало на борт и поднимало снова, в борта тяжелыми молотами били чугунные валы, в воду всаживались молнии, гром был готов расколоть на части любую, даже очень крепкую и большую посудину, не только «Святого Петра», а много крупнее его. Но ни Беневский, ни Чурин не отходили от штурвала, молились немо, чтобы стихия успокоилась.
Утихла буря лишь через несколько дней, в кромешной темноте, в середине ночи – в природе будто бы что-то обрезало, дьявол отстал от потрепанного корабля.
Некоторое время – больше часа, – «Святой Петр» тащился по морю, влекомый течением, потом неожиданно убыстрил свой ход – вместе с течением, и на мачтах его неожиданно зажглись огни – одуванчиково-яркие, оранжевые, потом – небесно-голубые, зеленые, красные, салатовые, как молодая большерецкая трава, растущая около дома Хрущева.
Никогда не видел Устюжанинов таких огней, спросил у Беневского испуганным шепотом:
– Что это?
– Огни святого Эльма. Их не надо бояться, Альоша. Человеку вреда они не приносят.
Тем временем, поняв, что буря кончилась и можно перевести дыхание, Чурин поднял люк трюма. Из мрачной глуби, где вяло шевелились, стонали люди, на него пахнуло крутым духом гнили, мочи, кала, еще чего-то, чему и названия не было. Чурин выругался: загаженный трюм придется очищать, а это – штука непростая.
– Моряки еще называют эти огни венцом Богоматери, – добавил Беневский считают, что они охраняют корабли.
Огни горели, перемигивались, зажигались на реях, передвигались к краю перекладин, соскальзывали вниз и тут же гасли… Не только Алеша Устюжанинов не видел такой такой завораживающей картины, большинство из тех, кто находился на галиоте, тоже не видели.
Люди, шатаясь, выбирались из вонького трюма и невольно открывали рты, так широко открывали, что потом не могли закрыть, стояли с удивленно распахнутыми темными провалами и глазели на неземное чудо.
Буря осталась позади, но главное было не это – главное, что все были живы. Что же касается жестоких морских бурь, то они еще встретятся им на пути, тряхнут и команду, и тех, кто будет сидеть в трюме, и сам корабль, но самой запоминающейся, самой жестокой была эта буря, первая.
Прошла буря, и природа, кажется, выдохлась, у нее совсем не осталось сил, море обвяло, теперь едва шевелилось, ветра не было совсем, и как Чурин ни менял расположение парусов, ничего путного из этого у него не выходило. Галиот больше стоял с уныло провисшими парусами, чем двигался вперед.
Было жарко. «Святой Петр» находился уже в широтах, которые моряки считают душными. Люди, жившие дотоле на севере, хорошо знавшие мороз, пургу, снежные завалы, которые по макушку скрывают леса, но не знавшие жары, страдали, случалось, падали в обморок прямо на палубе, хлопали обезвоженными ртами, стонали, обливались потом, рвали на себе одежду и, спасаясь от шпарящего солнца, старались заползти в тень.
Вода, взятая на незнакомом гостеприимном острове, уже заканчивалась, расходовали ее экономно, в основном, давали тем, кто захворал. А хворых становилось все больше и больше. Сухари тоже заканчивались, осталось совсем чуть, на пару скудных обедов и все. Чурин ожидал, что скоро покажутся Японские острова, там они и отъедятся, и отопьются, и дух переведут. Но Японии пока не было.
Хоть и ожидали они Японию, и прикидывали по картам, звездам, цвету волн за бортом, облакам, то возникавшим на небе, то пропадавшим, когда наконец появится долгожданная земля, земля показалась внезапно: впереди обнаружилась, темная точка, похожая на далекий корабль, застрявший в море, а когда точка приблизилась, расплылась по пространству, окутанная горячей дрожащей дымкой, оказалось, что это и не корабль вовсе, а неровный, с рваными краями гористый остров.
Галиот подошел к нему и на расстоянии полумили встал на якорь. Темная кромка берега была пустынна.
– Может, он безлюдный, как и предыдущий остров? – спросил Беневский у Чурина.
– Не знаю, – тот качнул головой, – я в этих местах не бывал.
– Шлюпки на воду! – скомандовал Беневский. – Надо провести разведку.
На веревках шлюпку спустили вниз, под борт «Святого Петра», в нее спрыгнули Винблад, Степанов и двое матросов.
Когда до берега оставалось совсем немного, из зарослей, из-за камней стали появляться люди. В руках они держали луки и копья, настроены были враждебно, совершали угрожающие движения, что-то выкрикивали.
– Возвращаемся назад! – приказал матросам Степанов.
– Зачем? – меланхолично спросил швед.
– Надо взять несколько собольих шкурок для подарков, еще чего-нибудь. У нас полно медных поделок… Людей на берегу обязательно надо задобрить.
– Верно, – швед согласно наклонил голову. – А еще – взять по паре пистолетов… Пара пистолетов за поясом нам никогда не помешает.
– Андреанов, а вы с напарником возьмите ружья, – велел Степанов матросу, – и пороху с пулями… Мало ли что.
– Будет исполнено, – ответил Андреанов с достоинством наклонил голову.
– Неплохо бы нам и хорошего охотника прихватить с галиота. Того же Митяя Кузнецова.
Швед медленно покачал головой.
– Не надо.
– Чего так?
– Можем напугать этих туземцев, – Винблад развел руки в стороны, – что совсем не в наших интересах.
– Не в наших, не в наших… – пробурчал Степанов недовольно.
– Нам не воевать надо, а дружить.
Но и во второй заход не удалось пристать к берегу – там собралась целая толпа, ощетинилась копьями и луками, заорала угрожающе. В шлюпку полетели стрелы.
– Вот нехристи, – Степанов выругался. – Разворачивайтесь, ребята.
Матросы двумя сильными гребками весел развернули шлюпку на месте, сделали это артистично, и, сцепив зубы, вновь поплыли к галиоту.
На этот раз с собой взяли два круглых, в изящных кованых рамках зеркала, еще издали начали ими ловить солнце и посылать яркие лучи на берег.
Как ни странно, это подействовало на суровых островитян, они опустили луки и копья.
Шлюпка пристала к берегу.
Не возвращалась шлюпка долго, Беневский начал беспокоиться: не случилось ли чего?
– Петр Петрович, ты не слышал – не раздавались ли на берегу выстрелы? – тихим встревоженным голосом поинтересовался Беневский у Хрущева.
– Не раздавались. Точно не раздавались.
– Но ни людей, ни шлюпки нет, – Беневский с досадой вскинул подзорную трубу, прошелся ею по берегу. – Куда же они шлюпку подевали? Не видно.
– Привязали где-нибудь за камнями, потому и не видно. Что будем делать?
– Остается одно – ждать. Другого не дано, – Беневский вновь вскинул к глазам подзорную трубу, пошарил ею по кромке берега. – Насколько я знаю, Япония признает лишь одну страну в мире – Голландию, все остальные страны для нее не существуют. Поэтому будем выдавать себя за голландцев.
Прошло еще полчаса. От Винблада со Степановым – ничего, словно бы шлюпка вместе с людьми растворилась в пространстве.
– И сухари у нас на исходе, – печально и тихо произнес Беневский.
Хрущев покосился на него: никогда не видел своего товарища в таком разлаженном состоянии.
– Я знаю, кое-кто на галиоте уже ест муку, – добавил Беневский, – мне докладывали. Это совсем никуда не годится.
– Мда-а, – удрученно протянул Хрущев.
Потянулись тревожные, полные невнятной, очень глухой тоски минуты: десять минут, пятнадцать, двадцать…
Шлюпка показалась на гладкой воде залива через час с четвертью, матросы резко выбрасывали из воды весла и также резко всаживали их в нее, шлюпка шла быстро.
За ней, немного отстав, шли две легкие японские лодки.
– Слава Богу, – с облегчением проговорил Хрущев, перекрестился.
– К нам гости, Петр Петрович, готовься принять, – предупредил его Беневский.
– А чего нам готовиться, – хмыкнул Хрущев, – подпоясаться кушаком, да сунуть за него два пистолета… А еще лучше – три. Вот и вся подготовка.
Гостями оказались два чиновных японца – вежливые, с непроницаемыми лицами, в глухо застегнутых шелковых халатах диковинной конструкции – таких камчадалы еще не видели, в круглых головных уборах с острой макушкой, похожих на верхушки шатров.
В ответ на дары, переданные им, японцы привезли два бочонка свежей воды и два бочонка проса.
Объяснялись кое-как, спотыкаясь на каждом слове – по-голландски, а точнее, на воляпюке, сопровождаемом жестами, междометиями, эмоциональными вскликами, мычанием, польскими и немецкими словами… Но как бы там ни было – объяснились.
– Японцы предлагают нам войти в бухту, говорят, что в море, где мы стоим, часто случаются штормы, – сказал Беневский Чурину.
– Бухта – это очень хорошо, – обрадовался Чурин. – Хоть ночью будем спать спокойно.
– Спокойно, но с оглядкой, – поправил его Беневский, – выставив часовых с мушкетами.
Хотя ночь в бухте и прошла спокойно, Беневский оказался прав – часовые с мушкетами не помешали, в темноте к галиоту неслышно подплывали люди на лодках, часовые засекали их и ударами колотушки в шаманский бубен, неведомо как оказавшийся на борту, отгоняли непрошеных гостей от судна.
Утром – безмятежным, розовым, как в раю, Беневский, внимательно оглядев пустынный берег, сказал Хрущеву:
– И хлеб мы здесь не испечем и сухарей не насушим – не дано. А вот воды набрать попробуем.
– Да, двух бочонков, на которые расщедрились японцы, нам точно не хватит. Организуй на берег экспедицию за водой. Когда вернутся – будем поднимать якорь.
За водой отправились Панов и четверо матросов. С собой взяли шесть вместительных бочонков – больше шлюпка не могла поднять.
Время было раннее, на берегу – по-прежнему ни одного человека. Хотя не должно быть, чтобы островитяне спали: японцы, как свидетельствовали очевидцы, народ трудолюбивый, а трудолюбивые люди встают с рассветом, спать же ложатся с закатом, весь день у них – на земле, в поле, в саду, на море…
Шлюпка благополучно достигла берега и взяла чуть вправо – там, как раз глядел в подзорную трубу Беневский, в море впадала речушка. Поскольку она стекала с каменной горной гряды и путь имела короткий, то, надо полагать, была годной для питья, чистой, но все равно воду надо было проверить.
Уже в реке, оказавшейся на удивление мелкой, Панов взял кружку, сделал несколько шагов, зачерпнул воды. Отпил. Похвалил голосом, неожиданно сделавшимся хриплым – видать, вода была очень холодная, – хотя лицо бывшего гвардейца выразило удовлетворение:
– Крепкая, как водка… Век бы пил такую воду, – он вновь нагнулся, зачерпнул немного кружкой, но выпрямиться не успел, выронил кружку и рукой схватился за шею. Стиснул от боли зубы – в шее, пробив бугристую жилу, сидела стрела. Следующая стрела воткнулась в руку.
Панов захрипел, зашатался, но нашел в себе силы развернуться – развернулся и, с трудом раздвигая сапогами воду, двинулся к лодке.
Третья стрела всадилась ему в грудь, четвертая попала под рубашку, в шею.
– Уходим! – зычно гаркнул старший из матросов, это был Андреанов. – Помоги господину поручику, – прикрикнул он на своего товарища Логинова, плечистого молчаливого матроса с щегольскими золотистыми усиками на широком загорелом липе.
Логинов кинулся к Панову. Тут же ему в плечо всадилась стрела с красным оперением. Взмахнув руками и изогнувшись от боли, Логинов полетел на Панова, из последних сил, плюясь кровью, ухватил его за кушак и потянул к шлюпке.
– Скорее! – прохрипел он. В него всадилось еще две стрелы, одна в шею, другая в грудь, Логинов дернулся от боли и, таща за собой бывшего поручика, повалился спиной в шлюпку. – Хы-ы-ы!
Стрелки, находившиеся на берегу, зацепили и Андреанова, но несильно – наверное, потому, что из шлюпки он не вылезал, а вот напарника его, сидевшего на второй паре весел, Попова, тяжелая стрела, более похожая на дротик, уложила на месте. Когда Андреанов перевернул его, Попов уже не дышал, только в открытом рту пузырилась кровь. Андреанов невольно застонал.
– Остановитесь, нехристи, мы уходим! – прокричал он японцам, но стрелы продолжали роиться в воздухе, те стрелы, у которых на хвосте распускалось оперение, издавали веселый поющий звук, но звук этот обнадеживающий казался Андреанову погребальным.
Кое-как он взвалил в шлюпку Панова, уже потерявшего сознание, следом затащил Логинова и, пригнувшись, сделал сильный взмах веслами.
Едва шлюпка добралась до «Святого Петра», как из всех точек острова к галиоту поспешили лодки, много лодок. Очень быстро они взяли корабль в кольцо.
– Та-ак, – со спокойной угрозой в голосе произнес Беневский. Глянул по одну сторону галиота, глянул по другую и негромко приказал: – Заряжай пушки!
– Чем заряжать? – послышался выкрик одного из пушкарей. – Ядрами? Картечью?
– Холостыми. Шкипер, поднимайте якорь, пока мы будем загонять черную кошку в темный угол.
Лодки тем временем перекрыли выход из бухты – встали тесно, вплотную друг к другу.
– Пли! – скомандовал Беневский.
Один за другим ударили три выстрела. Три выстрела подряд – это лучше, чем залп. Японцы попадали в лодки.
Был слышен скрип колеса, поднимающего со дна якорь. Беневский глянул на нос галиота, где стоял Чурин.
– Ну что там?
– Прошу еще две минуты, – проговорил Чурин одышливым голосом. – Этого мне хватит.
– Заряжай! – привычно скомандовал Беневский. – Не то островитяне сейчас очнутся от обморока и тогда… – Что произойдет тогда, Беневский не стал пояснять.
Запыхавшемуся Чурину времени понадобилось меньше, чем он просил – не успели даже пушки зарядить, как он уже встал к штурвалу. Вытер платком потный лоб и пожаловался, ни к кому не обращаясь:
– Жарко!
Галиот, ловя обвядшими парусами слабый утренний ветер, медленно развернулся и поплыл к выходу из бухты, обозначенному яркими деревянными поплавками.
Много лет спустя появились публикации писем участников этого путешествия, их дневники, увлекательные заметки, захватывающие дух статьи, очерки – грамотных людей на «Святом Петре» оказалось на удивление много (в том числе записи делал и Алеша Устюжанинов), к благодатному материалу протянули руки и профессиональные литераторы – в общем, написано о большерецких скитальцах и их предводителе было много. Касаясь инцидента, в котором погиб Панов и матросы, Ясуси Иноуэ, написавший книгу от первого лица, якобы участвовавшего в плавании, отметил: «Японцы хотели нас полонить или убить до смерти, как то они есть идолопоклонники и крестоненавистники».
Позже пробовали вычислить, как же называется негостеприимный остров, чуть было не погубивший Беневского и его людей, и пришли к выводу: это одна из точек архипелага Рюкю, скорее всего – остров Осима.
Если раньше муку на галиоте ели только отдельные личности, то сейчас муку начали есть все подряд, голод ведь не тетка, человека выворачивает наизнанку, лишает последних сил… Надо было срочно причаливать к другому острову, делать стоянку, чтобы испечь хлеба, насушить сухарей. Была еще одна серьезная забота – последний шторм сдвинул груз, размещенный в трюме и корабль дал крен на одну сторону. Это было опасно – следующий шторм мог перевернуть галиот.
Двадцатого июня «Святой Петр» сделал остановку около другого острова… На всякий случай зарядили несколько пушек – на Осиме ведь только пушками и отбились: оглушающий грохот выстрелов поверг зловредных японцев в состояние обморока, похоже было, что они никогда не слышали пушечной пальбы. Это устраивало Беневского.
На этом же острове картина нарисовалась совсем иная – жители оказались приветливыми, улыбчивыми, канцелярист Рюмин назвал их ласково «усмайцами» и подробно описал быт островитян, нравы, одежду, природу, зверей и птиц, диковинные фрукты, которые беглецам довелось там отведать.
Вообще-то Рюмин описывал все, что видел – он поступал, как одинокий всадник, едущий по степи, который от нечего делать развлекает рассказами и песнями самого себя и своего коня, – что попадалось в пути Рюмину, про то он и пел. Оказалось, пел не только для себя и своего коня – пел и для потомков. Ласковый остров, встретивший беглецов улыбками, удививший их теплом, он назвал Башинским.
Островитяне «так до нас были ласковы, как бы уже с нами многое время жили», – отметил он.
Кстати, никто до Рюмина, ни один европеец не писал об острове Башинском, напарник канцеляриста Судейкина был первым.
На картах такого названия, естественно, нет – там другие названия. По прикидкам знающих людей, Беневский попал, скорее всего, на остров Такара-Сима, расположенный в Южной Японии. Именно там живут такие ласковые люди.
Но Беневский, несмотря на миролюбивые улыбки жителей и дары в виде экзотических фруктов, хрюкающих поросят и жареных цесарок, держал пушки «Святого Петра» заряженными, около них постоянно дежурил артиллерист с горящим фитилем.
Островитяне же не сделали ни одного недружелюбного жеста по отношению к чужеземцам, скорее наоборот… «Святой Петр» провел на гостеприимном острове одиннадцать дней. Это были дни настоящего отдыха – безмятежные, с горячим солнцем, голубым морем и удачливой охотой на фазанов. Было испечено много хлеба и заготовлено три с лишним десятка мешков сухарей. Плыть с таким богатым запасом можно было куда угодно.
Было время и для раздумий. Беневский вовремя стоянки сочинил четыре письма на немецком языке, адресованные сёгуну – японскому монарху, но отправил их не напрямую в императорский двор, а в голландскую колонию, проживающую в Нагасаки, – с просьбой передать послания по назначению.
Подписал послания подлинным именем, поставил, естественно, все свои титулы, настоящие и вымышленные, к титулам добавил, что является офицером военно-морского флота ее величества римской императрицы.
Похоже, приверженцы и поклонники австро-венгерской монархии считали себя прямыми преемниками великого Рима, иначе с чего бы Беневскому было так раздувать грудь и хорохориться?
Сам Беневский впоследствии в своих дневниках, изданных во Франции, с упоением рассказывал о роскошных приемах и балах, данных в его честь, о философских спорах с сёгуном, об утонченных манерах высшего света островов и вообще об образованных японцах…
Но был ли Беневский принят императором, наверное, только ему одному и ведомо. Вышеупомянутый Ясуси Иноуэ написал, например, следующее:
«Рассказ Беневского о празднествах, устроенных в его честь, о его философских диспутах с просвещенным японским монархом и об утонченных манерах и обычаях жителей этой страны мог бы сам по себе внушить подозрение, принимая во внимание наши сведения о том, как обычно японцы обращались с иностранцами…» А обращались они, повторяю, просто: причалившие к Японским островам иностранные корабли сжигали – иногда вместе с товаром, команде отрубали головы либо втихую вырезали.
Так что, по мнению Ясуси Иноуэ, Беневский откровенно лгал, и на этот счет у Иноуэ имеются «точные доказательства»… Проверить эти факты, увы, невозможно.
Письма, посланные «офицером военно-морского флота ее величества римской императрицы» провалились в болото истории и их так же вряд ли удастся отыскать, но одно из них все же выплыло на поверхность. О нем заговорили. Это было последнее письмо, четвертое, именно оно стало известно в Японии, как «предостережение Беневского».
Вот что написал японскому сёгуну бывший ученик семинарии Святого Сульпиция – вы только вчитайтесь в текст! «Высокое уважение, которое я питаю к Вашему славному государству, побуждает меня поставить Вас в известность, что в этом году два русских галиота и один фрегат, выполняя тайный приказ, совершили плавание вокруг Японии и нанесли свои наблюдения на карту, готовясь к наступлению на Мацума[2] и прилегающие к нему острова, расположенные на 41°38′ северной широты, – наступлению, намеченному на будущий год. С этой целью на одном из Курильских островов, находящемся ближе к Камчатке, построена крепость и подготовлены снаряды, артиллерия и провиантские склады…»
Под письмом была поставлена дата – июль 1771 года. Где, в каком сне привиделись Беневскому провиантские склады и артиллерия со снарядами – неведомо совершенно. Но как бы там ни было, письмо сильно встревожило правящую верхушку Японии и перед островами, перед сёгуном и его двором, встала проблема, о которой раньше никто не думал – военная проблема. Жить дальше, как японцы жили до июля 1771 года, было нельзя…
В 1791 году в Японии вышла книга довольно серьезного ученого той поры Хаяси Сихея «Военные беседы для морской страны», где просвещенный муж, ссылаясь на главного героя нашего повествования Беневского, – ссылки эти были частыми, – утверждал, что самая крупная угроза для японцев исходит из России.
В результате Япония, бывшая страной совершенно закрытой, но тем не менее не проявлявшей вражды по отношению к своим соседям и, в первую очередь, к России, неожиданно сделалась страной настороженной, холодной, готовой напасть когда угодно и на кого угодно, на любое, даже самое мирное судно, перевозящее, например, чай в Америку из Китая и позволившее себе неосторожно приблизиться к японским берегам. Японцы тут же брали судно на абордаж, сжигали его вместе с грузом, а людей безжалостно умертвляли.
Вот чего достиг Беневский последним своим письмом. Словом, уже в начале девятнадцатого века Япония была для России сформировавшимся, готовым врагом, хотя Россия по отношению к островному государству никогда не вынашивала захватнических планов – ей бы удержать свои владения на Тихом океане, поскольку куда ни сунься, везде увидишь уши и головы англичан, американцев, даже испанцев – любители средиземноморских апельсинов тоже примерялись к тем краям, но потом им показалось, что Дальний Восток – это все-таки край света, где часто бывает холодно и неуютно, и они ушли оттуда; англичане же, наоборот, постарались усилить свое давление и заглянуть русским за пазуху.
Подробно были исследованы взаимоотношения Японии и России и в советскую пору, в двадцатые-тридцатые годы. Было высказано даже предположение, что Беневский хотел сделать России царский подарок – завоевать для нее Японию и преподнести на голубом блюдечке, пытался «держать себя царьком, обложить береговых японцев налогом»[3].
Японцы, естественно, пришли в неистовство.
Дальше Беневский повел себя как обычно – бросив в незамутненную воду камень, понял, что ничего путного из этого не получится, забрался на борт галиота и поплыл дальше.
Круги от брошенного им камня распространялись не менее ста пятидесяти лет.
По другим сведениям, враждебные действия против Беневского и его людей были предприняты не на Осиме, а на Формозе, как тогда называли нынешний Тайвань, и именно там, на Формозе, были убиты поручик Василий Панов, матрос Иван Попов, смертельно ранен Логинов.
Что произошло в действительности, сейчас, конечно, уже не установить: сведения на этот счет дошли до нас неточные, воспоминания, оставленные участниками тех событий, также носят противоречивый характер. Вот и поди разберись.
Точно только одно – были убиты и похоронены, зарыты в чужую землю русские люди Панов, Попов, Логинов.
Канцелярист Иван Рюмин – в прошлом казак, человек грамотный, неизвестно за что сосланный на Камчатку, оставил в своих заметках такое описание: «Нашли диких людей, индейцов, – Рюмин упрямо называл островитян так, хотя «индейцов» перепутать с японцами, извините, трудно, – народы дикие, которыми никто не владеет. Видом весьма смуглые, ходят почти все нагие, и хотя у некоторых и есть платье, но и то из кож звериных, да и сами имеют взор звериный».
От рук этих людей и погибли люди Беневского. Но ведь на «Святом Петре» побывали и чиновники (можно даже предположить – просвещенные), привезли дары, кланялись, улыбаясь от уха до уха – разве они не ведали, что может произойти? Или же, как обычно, сыграли в свою игру – карточную, двойную?
Кто это были? Японцы? Китайцы? Кто-то еще? Неведомо.
Наполнив бочонки водой, насушив сухарей, «Святой Петр» продолжил свое плавание.
В Тайваньском проливе галиот угодил в свирепый шторм, чуть не перевернулся, но остался жив; выйдя из шторма, большерецкие беглецы наткнулись на лоцку с китайскими рыбаками. Те показали дорогу в гавань Чжан-Чжоу.
В Чжан-Чжоу проводкой судов занимались очень опытные лоцманы-китайцы, славящиеся своей безукоризненной работой на всем Востоке.
Китайцы провели русский галиот мимо Кантона в Макао. В гавань порта Макао «Святой Петр» вошел двенадцатого сентября 1771 года.
В Макао, как насчитал Рюмин, стояло двадцать разных судов – все из Европы. На мачтах болтались самые различные флаги.
Затеряться в Макао можно было в два счета – много народа, много толкотни, много крика. Воры работали в порту с изощренной ловкостью, могли у бредущего по набережной человека прямо на ходу срезать подошвы у башмаков… Растеряться тут было немудрено.
В густых кустах, в кронах деревьев горланили крупные, как вороны, попугаи – зеленые с красными крыльями, красные с синей грудью и полосатыми крыльями, изредка попадались белые хохлатые птицы, голоса у которых были резкие, как у собак.
Было жарко, так жарко, что камчадалы, не привыкшие к высокой температуре, были готовы раздеться до исподнего, чтобы хоть как-то остудить раскаленное потное тело.
Плохо было кузнецовским собакам Маркизе и Графу, они здорово скисли, а вот кот Прошка держался молодцом, он, кажется, даже собак подбадривал, просил, чтобы те не вешали носа.
К такой жаре, как в Макао, надо было привыкнуть, и процесс этот у большерецких беглецов пошел, только вот шел он что-то уж слишком медленно. Люди страдали. Лекарь Медер, как мог, пытался уменьшить их страдания – в основном, пускал кровь, снимал давление, делал все, чтобы люди могли дышать.
Тут еще одна беда обнаружилась: во время жестоких штормов, – последний выдержали в Тайваньском проливе, – сильно подмокли запасы пушнины, которые были взяты с Камчатки для обмена. Ценные собольи шкурки вытащили на палубу, разложили рядком, чтобы просушить.
Мех, сам ворс, был еще ничего, мог радовать глаз, а вот мездра, изнанка, выделанная вручную, поползла – она сгнила. Это был удар для всех. Гнилой мех продать не удастся. У Беневского от досады даже задергался рот, он прижал к губам руку.
Но и просушенные шкурки тоже мало годились в дело – были заскорузлыми, жесткими, их повело, будто мокрую деревяшку, выложенную на солнце.
Раз шкурки потеряли свое качество, то не будет у них ни денег, ни тропических фруктов, ни нежного тунца – самой лучшей рыбы в мире.
Два дня Беневский был неразговорчивым, не общался ни с кем, даже с Алешей Устюжаниновым, потом достал свой парадный сюртук и шпагу на перевязи.
Сюртук он тщательно вычистил, у шпаги разгладил перевязь и отправился с визитом к губернатору Макао.
Секретарю губернатора он перечислил столько своих титулов, что у того не хватило бумаги, чтобы все их записать.
Естественно, губернатор Макао незамедлительно принял столь именитого посетителя.
Вернулся Беневский через час, – сияющий, важный, довольный, следом к причалу, у которого стоял потрепанный галиот «Святой Петр», подкатила телега, доверху груженая сладко пахнущими фруктами, свежими овощами, отдельно, целой грудой, лежали связанные, очень смирные, хлопающие круглыми красными глазами куры, они не пытались ни дергаться, ни освободиться, ни орать возмущенно, требуя свободы – куры есть куры, в садке, сколоченном из оструганных палок, хрюкали четыре длиннорылых, очень шустрых поросенка.
Увидев телегу, Хрущев невольно подивился:
– Откуда такое богатство, Морис Августович?
– Дар губернатора Макао, – важным тоном объявил тот.
Вечером на галиоте устроили пир, из трюма достали последний бочонок водки, выбили из него затычку.
– Водку рекомендую всем, – усталым хриплым голосом объявил Магнус Медер, измученный жарой не меньше, а, пожалуй, больше других – старый, сработавшийся за годы механизм лекаря не выдерживал, сдавал.
– Будете лучше себя чувствовать, – пообещал он.
Магнус Медер был прав: выпив водки, люди стали чувствовать себя лучше, у них появилось второе дыхание, серые потные лица порозовели, а когда они заели крепкий напиток душистыми фруктами, то и вовсе пришли в себя.
Даже собаки, лежавшие под шлюпкой с высунутыми языками, и те начали дружелюбно махать хвостами, а в глазах их появился живой блеск.
Жаль, не знали большерецкие беглецы, отчего же губернатор Макао так расщедрился – вона, даже поросят прислал, – а задуматься следовало бы, поскольку, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Впрочем, что такое сыр, многие из них не знали вообще. Хотя в трюме галиота имелся запас сыра, его взяли вместе с маслом, но еда эта была не для них, сыр ставили, в основном, на офицерские столы. Если бы деликатес этот попал к простым людям, они вряд ли бы стали его есть: слишком плохо пахнет – грязными портянками.
Беневский предал своих единомышленников, и неведомо теперь было, дойдут ли когда-нибудь они до «государства Солнца», до вечнозеленых островов с теплой зимой и таким же теплым, не обжигающим дыхание летом?
Обманул он своих единомышленников Степанова и Хрущева, старика Турчанинова и штурмана Чурина, охотника Митяя Кузнецова и верного своего адъютанта Алешу Устюжанинова, который до сих пор слушал своего шефа, открыв рот, и буквально бегом бросался выполнять все его приказания.
Тем временем Макао начало уносить людей, прибывших сюда на русском галиоте. По одним данным в Макао было похоронено пятнадцать человек, в том числе в землю лег и безъязыкий Турчанинов, по другим данным – семнадцать.
В общем, как бы там ни было, Макао взяло свою мзду. Жестокую мзду. Здесь же остались и обе собаки Митяя Кузнецова – их добила жара. Впрочем, не только жара.
Губернатор выделил русским беженцам дом – с низкими потолками и плохо продуваемыми комнатами, – для жилья не очень приспособленный… Надо отдать должное Беневскому, он жил вместе со всеми, не требовал себе отдельного крова, не роптал и не брюзжал, как, допустим, Ипполит Степанов – тот готов был съесть любого. Собак оставили на галиоте – сторожить. Кота Прошку забрали с собой в дом.
Если собаки жару еще кое-как выдерживали, то одиночества они не выдержали. Однажды вечером они друг за дружкой спрыгнули в воду и поплыли к берегу. Плыли устало, вяло – их не радовала даже морская вода… Через полчаса они отыскали дом, который на время предоставили бывшим камчадалам.
Первым, кто их увидел, был Судейкин, сморщился недовольно и, срывая голе, переходя на визг, закричал:
– Вы чего тут делаете? А ну, марш назад, на галиот – сторожить! Хотите, чтобы его разобрали на дощечки? А ну назад! – он пнул ногой Маркизу, та молча отлетела в сторону, не издала ни звука. Следом ударил Графа.
Собаки поняли, что людям они стали не нужны – свое отработали, честно отработали, послужили хозяину верой и правдой, немало соболей взяли за свою жизнь, а теперь… здесь соболей нет, теперь надо уходить. Это было горько.
Первой развернулась и, собравшись с силами, перепрыгнула через невысокий глиняный забор Маркиза, за ней перепрыгнул Граф.
Через полминуты собаки растворились в сумраке угасающего вечера. На галиот они не вернулись, в дом, отведенный для беженцев, не пришли. Нетрезвый Судейкин, которого прижал Митяй, ухватил себя за уши и начал делать движения, будто хотел отвернуть собственную голову и насадить ее на кол.
– Дурак я, дурак, – жалобно выл он, – за что же я обидел собак?
– Вот именно, за что? – сурово спросил у него Митяй. – Ведь вернее их во всем Макао никого нет…
Устюжанинов облазил почти весь город, собак он нашел только на третий день. Горло у него будто бы веревкой перетянуло, а глаза перестали видеть – их залило слезами. Маркиза и Граф лежали рядом, вытянув лапы в последнем, устремленном куда-то движении. Обе собаки были мертвы.
Выплакавшись, Алеша побежал за Митяем.
Тот пришел, опустился на землю рядом с собаками и долго сидел молча, упершись взглядом в пространство. Потом проговорил негромко, очень спокойно, словно бы решил про себя что-то очень важное:
– Впору мне тоже умереть вместе с ними. А что – и умру! А ты меня, Алешка, похоронишь рядом с Маркизой и Графом. Похоронишь?
В ответ Алеша всхлипнул, – в горле у него сидели слезы, – попросил жалобно:
– Не надо, дядя Митяй!
Кузнецов вздохнул, наклонил голову, соглашаясь с разумным дитятей – Алеша был прав, самоубийство – это не для православного человека.
– Похоронить собак надо по-человечески, – Митяй вздохнул снова, повесил голову. – Они были совсем как люди, даже больше, чем люди. Это были друзья, не способные на предательство.
– Во всяком случае были лучше, чем Судейкин.
– Могилу только выкопать нечем. Ладно, Алешк, – Митяй вздохнул, в груди у него что-то захлюпало, – ладно… Ты сиди здесь, а я схожу на галиот, принесу лопату. Жди меня.
Устюжанинов остался один. Сидел рядом с мертвыми собаками и гладил их головы, перед взором у него колыхалось, расплываясь в мокрые пятна, а затем вновь сбиваясь в сплошную массу, превращаясь в плотный туман, влажное марево.
Митяй вернулся через полчаса – угрюмый, сгорбившийся, с лопатой в руке.
Мертвые собаки были похоронены под тем же кустом, где их нашел Алеша. Устюжанинов вначале подумал, что собаки были убиты лихими людьми, но ни крови, ни ран на их телах не было: Маркиза и Граф умерли. Сами умерли – от тоски по Камчатке, по снегу и тамошним речкам, по соснам и белым, искривленным лютыми морозами березам, умерли потому, что решили умереть… Причина для этого была важная – их предали люди.
Молча, не говоря ни слова, Митяй обхлопал лопатой небольшой глинистый бугорок, выросший над могилой, перекрестил его, перекрестился сам и взял плачущего Алешу за плечо:
– Пошли!
Губернаторское кресло в Макао занимал португалец Сальданьи – небольшой толстый человек с выпуклыми насмешливыми глазами и тонкими, будто проволока усами, пропитанными душистой косметической мазью, отчего усы у него стояли, будто бы были вырезаны из дерева или же действительно скручены из проволоки.
Франсиско Сальданьи скучал по своей родине, по мокрым скалам, на которых стояли крепости с трехметровыми непробиваемыми стенами, страдал, но разом преображался, едва речь заходила о какой-нибудь коммерческой операции.
Обычной коммерческой операцией было для него и приобретение «Святого Петра». Галиот был сколочен крепко, ни одной гнилой деревяшки человек губернатора на судне не нашел – ни в корпусе, ни в оснастке, поэтому Сальданьи быстро согласился на покупку.
Тем более, что цену за него Беневский запросил просто смешную: такие же корабли, стоявшие в Макао, стоили в шесть раз дороже.
Узнав о том, что Беневский продал галиот, первым разъярился Ипполит Степанов. Потный, в солдатской куртке с ярко начищенными пуговицами, в офицерской треуголке, косо сидящей на голове, он ворвался в комнату Беневского и начал кричать на него.
Остановить Степанова, пока он не выговорится, было невозможно, Беневский это знал и потому молчал, ждал, когда Ипполит выдохнется.
Наконец Степанов выдохся и произнес, с презрением кривя губы:
– Авантюрист ты, Беневский!
– Может, ты скажешь, что у меня был какой-то другой выход?
– О твоих проделках очень скоро станет известно губернатору Макао. Я буду жаловаться.
– Жалуйся, – спокойно и беспощадно произнес Беневский.
Угроза Степанова не была пустой, он действительно пожаловался Сальданьи. К нему присоединился швед Винблад – он был тоже недоволен действиями своего приятеля, который в одно мгновение стал для него бывшим.
Порт Макао принадлежал Китаю, а не Португалии. Португалия только арендовала его на некоторое время, поэтому там и сидел в губернаторском кресле лиссабонский дворянин Франсиско Сальданьи; канцелярия лиссабонца приняла жалобу. Китайское правительство также получило жалобу от недовольных чужеземцев, но разбираться в мелкой драке не стало и сплавило бумагу в губернаторскую канцелярию, которая была ему хорошо знакома.
Естественно, Сальданьи, совершивший выгодную сделку, обижать самого себя не стал, не в его это было правилах, – и занял сторону Беневского.
Полуполяк-полувенгр объяснил губернатору, что на корабле его находится нездоровая команда, психованная, обозвал большерецких беглецов «сумасбродными венгерцами», – всех, скопом, – которые готовы удавиться из-за одного австрийского дуката и удавить всех своих ближних.
– А что, разве у венгерцев нет своих монет? – осторожно поинтересовался губернатор.
– Нет! Мозги до этого еще не доросли, – грубо ответил Беневский.
– Чего так?
– Пользуются австрийскими деньгами.
Между прочим, всем, кто прибыл с Беневским в Макао, он запретил креститься по-православному, боялся, что губернатор догадается: команда «Святого Петра» состоит совсем не из «венгерцев».
В результате разбирательства команда галиота почти целиком очутилась в местном застенке, а буйный Степанов и швед Винблад – в раскаленных камерах-карцерах, вместо окон имевших узкие зарешеченные прорези.
Вот во что вылились светлые мечтания о городах солнца и свободной жизни на незнакомых землях, где нет ни господ, ни рабов, а народ занимается только тем, что сочиняет музыку, ест и пьет из золотой посуды, фрукты сами падают с веток деревьев прямо в рот, их даже не надо рвать, а жирные фазаны добровольно приходят на кухню с пучком петрушки в клюве, чтобы улечься на сковородку и потешить желудки свободолюбивых граждан.
С португальскими властями иностранцы объяснялись в основном на латыни, а из всех камчадалов латынь знал только Беневский, да еще лекарь Медер. Но латынь Медера была медицинской…
В общем, большерецкие беглецы попали в серьезную передрягу.
Но и Сальданьи не мог взять да отмахнуться от этого дела, поскольку о нем знали и китайские власти, – пришлось губернатору устроить разбирательство. Разбирательство было, естественно, условным, поскольку стоило только копнуть чуть глубже, как на поверхности сразу же появлялась губернаторская макушка со сбившимся набок париком.
Хоть и признал Сальданьи правоту Беневского, но держать в тюрьме противников его не мог, не имел права. На свободу были выпущены все. Главный противник Беневского, бывший подмосковный помещик Степанов, человек вспыльчивый и одновременно очень решительный, пришел к шефу в комнату и молча намотал на кулак его рубашку.
Глаза у Степанова сделались бесцветными от бешенства. Беневский, в трусости ранее не замеченный, ощутил, как под мышками у него возник противный холодок, взглянул в глаза Степанову и понял: сейчас тот его убьет.
Но Степанов не стал убивать «резидента и региментаря», он покинул Беневского с внушительным кульком золотых монет, зажатых под мышкой – предводитель откупился от него четырьмя тысячами пиастров.
В тот же день Степанов покинул дом, предоставленный губернатором Макао большерецким беженцам – ушел, не простившись ни с кем, ни с теми, кто был симпатичен ему, ни с теми, кого он ненавидел. Он исчез бесследно – ну будто бы растворился в пространстве. Хотя раствориться было трудно: город, примыкавший к порту, был маленьким, сползал с невысоких гор к самой кромке воды, к судам, стоявшим в бухте. Судов здесь всегда было много: и турецкие галеры, похожие на плавающие крепости, и испанские галеоны – купеческие суда, имевшие на борту собственную артиллерию, и быстроходные фрегаты, украшенные французскими флагами, и корабли Ост-Индской компании, способные разгромить любой флот в мире, даже английский…
Английских судов здесь тоже находилось немало.
В воздухе носились запахи хорошего чая, пряностей, сушеных фруктов, жженого пороха и индийских ароматических мазей, столь любимых женщинами.
Больше всего здесь продавали шелка, чая и индиго – краски, придающей любой захудалой ткани редкостный по звучности синий цвет.
Португальская часть города, состоявшая из словно игрушечных белых домиков, занимала небольшой полуостров, соединенный с материком узким непрочным перешейком, перешеек был основательно усилен каменной стеной, отгораживающей португальскую часть от китайской, на стене стояли пушки, угрожающе чернели своими чугунными жерлами, пугали и людей и корабли. На береговой линии, слева и справа от нарядных домиков, были сооружены внушительные форты, из бойниц которых также выглядывали стволы пушек.
Город украшала католическая церковь с высокой белой колокольней, увенчанной большим прямым крестом. Видя этот крест, русские обязательно осеняли себя знамением – неважно, что крест католический, Бог-то все равно один…
Крестились даже, когда Беневский запретил им это делать.
Получил деньги и майор Винблад, Беневский не обидел своего бывшего приятеля. Ни государство Солнца, ни райские острова, ни земли, где все люди равны, не волновали шведа, пусть все эти глупости достанутся убогим людям, а Винблад себя таковым не считал, у него была иная цель – добраться до родной Швеции, больше ничего ему не надо было. Думаю, что сумма, которую ему выделил Беневский, была больше суммы, полученной крикливым подмосковным помещиком.
– Ежели вы меня будете искренне любить и почитать, то моя ответная искренность будет проявляться ежедневно, – жестким тоном заявил Беневский беглому большерецкому люду, когда все собрались вместе и решили обсудить, как же им жить дальше. – А ежели напротив, я увижу, что сердца ваши отвердели и почитать меня вы больше не собираетесь, то сами понимаете, – я отвечу тем же… Так что решайте, – закончил он свое выступление голосом, звеневшим железно и очень недобро, сделал рукой картинный жест и ушел.
Что было делать несчастным камчадалам, оказавшимся вдали от родной земли, беспомощным на чужбине, не знавшим языка, лишенным денег? Покричав немного друг на друга, посетовав на недобрую свою судьбу, повспоминав Камчатку, которую они, наверное, больше не увидят, – кое-кто даже не выдержал и пустил слезу, – большерецкие беженцы пришли к выводу, что остается им только одно – держаться Беневского.
– Ну и хорошо, – сказал им Беневский, – принимаю вас всех. Вместе мы не пропадем, обещаю.
Пребывание в Макао изрядно надоело камчадалам – до зубной боли, до икоты, даже хуже, извините, – до рвоты. Надоели португальские порядки, сладкие улыбки и блестящие выпуклые глаза Франсиско Сальданьи, надо было переворачивать очередную страницу истории и двигаться дальше.
– Дальше, так дальше, – резонно заметил Беневский и занялся делом. Действительно, они засиделись в Макао – находятся здесь более трех месяцев. Пора закругляться.
Но судов, с которыми им было бы по пути, в Макао не нашлось, все шли по другим маршрутам. Поняв, что затягивать пребывание в Макао больше нельзя – может обернуться новым взрывом, – Беневский нанял джонку – китайскую морскую лодку и отправился в Кантон.
Кантон здорово проигрывал Макао в чистоте и порядке – тут не было умелого организатора Сальданьи, а жаль – очень не мешало бы иметь здесь своего Сальданьи. Это невольно отметил Беневский, но промолчал: если он выскажет это вслух, то навредит самому себе. Чем-чем, а самому себе Беневский никогда не вредил, не в его натуре это было.
В Кантоне Беневский сговорился с капитанами двух судов «Ле Дофин» и «Ле Ляверди», что те доставят большерецких беглецов во Французскую Бретань. Где это находится, никто из камчадалов не знал.
Старшим среди капитанов был «дворянин и кавалер» Сент-Илер, командовал он кораблем, имевшем на борту шестьдесят четыре пушки, второй корабль был вооружен пятьюдесятью пушками, что тоже вызывало невольное уважение.
Большерецкие беглецы, вздохнув освобождению, перебрались в Кантон. Многие из них подцепили неведомую хворь и теперь теряли силы на глазах, заболевшим сказали, что лютую болезнь успешно врачуют в Кантоне – там живут очень толковые китайские лекари.
Но местные эскулапы только руками развели – побороть болезнь они не могут, беднягам надо скорее менять климат.
Половина беглецов во главе с Беневским поселилась на «Дофине», вторая половина – на «Ляверди» и ранним утром двадцать второго января 1772 года, – утро то выдалось недоброе, хмурое, накрапывал мелкий колючий дождик, который вполне мог оказаться предвестником мощного зимнего ливня, – корабли подняли паруса.
Курс они держали на юг, к далекой цели – острову Иль-де-Франс.
В Макао остался Ипполит Степанов. Как же сложилась его судьба и почему никто из камчатских беглецов так его больше и не встретил? По мнению Беневского, Ипполит нырнул под крыло голландцев, с которыми дружил. В частности, письмо его китайскому правительству, было передано по назначению именно голландцами, тесно связанными с двором. Директор голландской компании Лерё, как полагал Беневский, незамедлительно принял Степанова, – принял потому, что хотел получить точный ответ на вопрос: зачем в Макао появились русские?
Голландцы помогли Степанову перебраться в Лондон. Оттуда Ипполит Семенович направил в Россию, на имя императрицы прошение о помиловании, подробно описал бунт в Большерецке и подготовку его, назвал имена сообщников, поведал также о приключениях, которые выпали на долю беглецов, и жертвах, понесенных ими.
Через некоторое время с берегов Невы пришел ответ. Вот его содержание.
«Указ нашему подданному Ипполиту Степанову. Усмотря из твоего нам чрез министра нашего при королевском Великобританском дворе, статского советника Мусина-Пушкина представленного всеподданейшего прошения, что ты во всех твоих прежде учиненных преступлениях имеешь чистосердечное раскаяние и с оным прибегаешь к монаршему нашему милосердию, восхотели мы призрить твое бедственное странствование, и вследствии того сим нашим указом всемилостивейше прощая тебя во всех прежних винах, повелеваем тебе явиться к упомянутому нашему в Лондоне министру Мусину-Пушкину для обратного оттуда в отечество возвращения. Екатерина. В С.-Петербурге 22-го ноября 1772 года».
Но в Россию Степанов не вернулся. В самом конце 1772 года его видели в Лондоне. Раз видели – значит, ему было ведомо о том, что в русское посольство пришел царский указ. Но вернуться домой он не рискнул – похоже, не позволили грехи. Ведь он был главным закоперщиком и «писарчуком», приложившим руку к скандальному «Объявлению», сочиненному в Большерецке. В «Объявлении» он обвинял императрицу во всех тяготах народных, в том, что подданные задавлены непомерными налогами, страдают от поборов и гонений чиновников, которые ничего не делают, лишь унижают и притесняют людей и за это получают высокие ордена, подарки, набивают карманы золотом, а простой народ нищает, превращается в обычный скот.
И во всем этом виновата, естественно, императрица… Что бывший подмосковный помещик и отобразил в «Объявлении» – хорошо владея «высоким штилем», он не удержался, не пожалел бранных слов… Нет, не простит ему императрица этих обвинений и резких слов и в гневе своем прикажет отрубить Степанову голову, как государственному преступнику.
В кабинете полномочного министра Мусина-Пушкина он так и не появился, указ Екатерины был отправлен обратно в Санкт-Петербург.
Если бы Степанов умер, то на указе обязательно стояла бы соответственная отметка посольства, но такой отметки не было.
Значит, Степанов побоялся возвращаться в Россию.
А два французских фрегата тем временем легко рубили своими корпусами чугунные океанские волны.
Митяй Кузнецов, сделавшийся после смерти своих собак молчаливым, горестно-задумчивым, часто выходил на нос корабля, садился на канатную тумбу и, не шевелясь, смотрел вперед, на белые гривы волн… Через некоторое время обязательно появлялся кот Прошка и садился рядом.
Было жарко. Оба страдали от секущей духоты, – и Митяй и кот, – но оба старались держаться, – впрочем, Прошка научился приспособляться к жаре и чувствовал себя лучше хозяина. Часто поднимал глаза и смотрел на Митяя, – кот все понимал и стремился разделить печаль своего кормильца, помочь ему, защитить от напастей, от ударов судьбы, но встречный ветер и брызги, летающие в воздухе, способные вымочить до костей и кота и человека, были сильнее его и Прошка, горько поскуливая, опускал усатую голову.
Он не понимал, куда они плывут, как будут жить и что станут делать в далеких краях, и вообще выдюжат ли эту жару, но верил своему хозяину и знал твердо: если тот задумает умереть, кот Прохор умрет вместе с ним. Кот ощущал беду, лишения, чувствовал, что впереди будут черные дни и немало, только не ведал, когда они наступят.
Иногда около борта «Дофина» появлялись огромные хищные рыбины с высокими косыми плавниками на спинах, поглядывали снизу недобро круглыми свинцовыми глазами, похожими на солдатские пуговицы, и кот незамедлительно отступал от борта: осознавал, что стоит только этой огромной рыбе чуть открыть пасть, как он тут же окажется в ее желудке – сам нырнет туда, будто загипнотизированный…
Неподвижный Митяй засекал этот момент, протягивал руку к коту, гладил его:
– Это акула, Прохор, очень мерзкое существо, с нею ни тебе, ни мне лучше не связываться – тебя она проглотит, а меня обглодает до костей.
Хозяин у кота был умный, знал, что за зверь акула, Прошка благодарно мурлыкал, но быстро стихал – добивала жара. От нее перед глазами плавали шустрые зеленые звезды, рассыпались в пыль, затем возникали снова.
Невольно вспоминалась Камчатка и тогда на глазах у кота появлялись слезы: зачем же они, дураки, оттуда уехали?
Становилось все жарче и жарче, на коже у людей вспухали волдыри, во рту не истаивал металлический привкус – корабли подходили к экватору. Большерецкие беглецы чувствовали себя плохо. Медер как мог помогал им, но что он мог сделать без микстур и настоев? – не было у него лекарств.
Лучше всего страдающим людям помогали кровопускания, в день Медер раз десять-пятнадцать брался за ланцет, вскрывал больным почерневшие вены.
Когда они находились уже на экваторе, а в небе над головой таинственно поблескивали незнакомые звезды, умер Иосафат Батурин.
Так он и не стал «полковником артиллерии и кабинетским обер-курьером императора Петра Федоровича». Жаль.
Лицо у мертвого Батурина было желтым, спекшимся, щеки и глаза провалились. О Батурине писали не только Беневский и Рюмин, но и сама императрица Российская Екатерина Вторая – видать, здорово насолил ей этот скромный подпоручик Ширванского полка. За участие в заговоре он был арестован и сослан в Сибирь, потом вновь одел мундир, только не офицерский, а солдатский, долго тянул тяжелую лямку в Шуваловском полку и вновь стал подпоручиком.
И опять сорвался. Шуваловский полк был направлен на усмирение восставших рабочих суконной фабрики Болотина, но Батурин, офицер этого полка, призванный передавить восставших, отказался выполнять приказ и примкнул к рабочим.
В результате – колоды на ноги и шестнадцать лет пребывания в тюремной камере-одиночке, способной разрушить любую, самую крепкую натуру. Чтобы не забыть язык, Батурин разговаривал в камере с самим собою, рассказывал себе о собственном прошлом, иногда в этих рассказах засыпал и дергал себя за бороду, вскидывался онемело и вновь начинал разговаривать… Опять с собою, родимым, больше общаться было не с кем.
Если бы не эти ночные беседы под далекие окрики часовых, он, наверное, не только бы забыл родной язык, но и сошел бы с ума. И так – шестнадцать с лишним лет, изо дня в день, из ночи в ночь, с года 1753-го по год 1769-й, в 1768-м он не выдержал, написал письмо Екатерине. В результате ему заменили Шлиссельбургскую крепость на Большерецк, и в душном 1769 году по пути колодников он отправился на Камчатку. Через год прибыл в Большерецк.
Похоронили Батурина по морскому обычаю – завернули в кусок простой ткани, купленной у французов, перевязали веревкой и опустили в океан.
Фрегаты продолжали держать курс на юг.
«Четвертого февраля мы перешли линию экватора», – такую запись оставил в своих бумагах Беневский.
Болезни не отставали от большерецких беглецов. И плевать им было на яркую голубизну океана, из которой выскакивали шустрые нарядные рыбехи и неслись воздуху вслед за кораблями, полеты они совершали длинные, похожие на прыжки, легко обгоняли суда, которые, кстати, шли с неплохой скоростью – все время дул попутный ветер.
По пути встречалось много судов – и военных, и купеческих, но среди них не было ни одного русского – русские в ту пору так далеко еще не ходили. Дальние походы были у них впереди.
А камчатские беглецы не переставали восхищаться летучими рыбами, которые играючи, почти невесомо перемахивали через опасные коралловые рифы, перепрыгивали из одной лагуны в другую, либо вообще уходили в океан, дивились земным способностям изящных морских существ, – некоторые вообще не верили, что это рыбы, не могут рыбы вести себя так, – завидовали им.
Половина людей, плывших сейчас с Беневским, завидовала воздушным рыбешкам, мечтала о крыльях, о возвращении на Камчатку, об угрюмом небе далекой, но такой родной земли, о речках тамошних, в которых водится самая вкусная в мире рыба, о густых, как лес, зарослях шеломайника, где можно заблудиться, и слезы наворачивались на их глаза.
Впору бы броситься за борт и уйти в синюю тревожную глубину вслед за Батуриным, но бросаться было нельзя: самоубийство – великий грех для православного человека. Бог дал человеку жизнь, Бог ее и заберет.
По палубе шатаясь, будто невесомая тень, ходил Магнус Медер, делал кровопускания, больше ничего делать он не мог.
– Потерпите, друзья, – просил своих спутников Беневский, который и сам едва держался на ногах, – скоро земля, остров, который в недалеком прошлом носил моё имя – Мауриций, – здесь Беневский многозначительно умолкал.
До 1710-го года Иль-де-Франс действительно назывался Маурицием и славился тем, что на нем обитали птицы величиной с корову, – с той только разницей что их мясо было нежнее и вкуснее говяжьего, – а потом остров прибрали к рукам французы и дали ему новое название, свое.
В середине марта далеко-далеко по курсу, в середине огромного океанского простора показалась крохотная, почти призрачная полоска. Это был остров Иль-де Франс.
Беглецы воспрянули духом, зашевелились, кто-то даже просипел дыряво, едва слышно:
– Ур-ря-я!
Но этого, внезапно воодушевившегося путешественника никто не поддержал – не было сил.
Беневский хоть и постарел после конфликта в Макао, и помрачнел, и обзавелся легкой сединой, посеребрившей его волосы, и со своими единомышленниками общался много реже, чем раньше, отношения к Алеше Устюжанинову не изменил, продолжал учить его географии, французскому языку, математике.
Устюжанинов, осознав, что без наук ему не будет вообще никуда хода и сам он в конце концов станет никем, теперь за уроки Беневского цеплялся, не мыслил себе жизни без них.
Однажды Беневский вытащил из-под койки вместительный прочный сундучок, окованный медью, с хитрым замком, который, даже имея на руках ключ, нельзя было открыть без сноровки и терпения, распахнул его.
– Хочу, Альоша, познакомить тебя с деньгами, которые ходят в разных странах мира, – сказал он. Ухватил за перевязь один кожаный мешочек, тугой, набитый монетами по самый распах. Развязал горловину, показал, что находится внутри. Пояснил: – Это турецкие ливры, монета не самая популярная, но нужная. Хороша она тем, что берут ее везде, – Беневский неторопливо завязал мешочек, сунул руку во второй кулек, нарядный, расшитый серебром, достал оттуда большую, аляповато сработанную квадратную медаль, показал Устюжанинову. – Это, наверное, самая крупная монета в мире, – сказал он, – японская, подкинул ее в руке, медаль тускло блеснула толстым боком и улеглась в руку, – на этот обрубок золота можно много чего купить… Понял, Альоша?
– Понял, – готовно отозвался Устюжанинов.
– Если разменять кетти на русские червонцы, то потянет она на сто пятьдесят десятирублевок, не меньше. Понял?
– Понял.
Денег у Беневского было много, самых разных, Устюжанинов от удивления даже рот раскрыл.
– Где вы все это взяли, Морис Августович?
– Как где? В Макао. Вот португальские монеты, – Беневский засунул руку в третий кулек, – добраон. Вот он, – дал Алеше монету, – можешь рассмотреть внимательнее, поскольку это одна из самых популярных монет в мире. А это добрас, – Беневский дал Устюжанинову добрас. И добраон и добрас внушительно посверкивали золотом. – Это моэда и ноаннеза, а это – самая маленькая португальская монета – пистоль.
Пистоль, несмотря на то, что в десять раз значил меньше добраона, тоже был отлит из золота.
– Все понятно?
– Все понятно. – бодрым эхом откликнулся Устюжанинов.
Показал Беневский и испанские монеты – эскудоры и дублоны. Эскудор был мелкой монетой, дублон – крупной, обе монеты – симпатичные, но у Алеши не было ни тех, ни других и видел он их первый раз в жизни. Как и итальянскую доппию, персидские рупии, австрийские соверендоры и английские гинеи. Все это у Беневского имелось, поигрывало теплыми желтыми блестками, присущими только золоту, но, честно говоря, ничего, кроме обычного любопытства у Устюжанинова не вызвало.
Вообще-то, если признаться, он даже русских империалов с изображением Петра никогда не видел – эта крупная монета в Большерецке появлялась редко, а в камчатском захолустье, каковым считался Ичинск, – еще реже.
– Ну что ж, – Беневский неожиданно с пистолетным щелком захлопнул сундучок и ловко навесил на него замок, – я вижу, тебе совсем неинтересно это золото – глаза не загораются, ноздри не раздуваются, пальцы не дрожат… Это хорошо, Альоша, – внезапно сменив тон, похвалил он, – ты не жадный – это очень хорошо, жизнь свою ты золотому тельцу не подчинишь. Браво, Альоша! – Беневский негромко похлопал в ладони. – Будь таким и впредь, никогда не завидуй тем, кто имеет много денег. Деньги никогда не приносили человеку счастье, особенно, если их много.
Расплачивался Беневский с дирекцией Ост-Индской компании, которой подчинялись французские военные фрегаты «Ле Дофин» и «Ле Ляверди» турецкими монетами – выложил одиннадцать с половиной тысяч ливров.
После стоянки на Иль-де-Франсе фрегаты должны были плыть дальше, во французский порт Лориан, на борту у них был дорогой груз – пряности и редкие колониальные товары. Беневский был тоже не прочь попасть в Лориан, ему обязательно надо было побывать во Франции и, если удастся, – пробиться к королю.
У него имелся план, который убивал сразу несколько зайцев – и приносил немалые деньги в карман Беневского, и усмирял некоторых непокорных единомышленников – бывших, – что как ржавые кривые гвозди портили даже внешний вид его команды, и делал реальной мечту разных наивных простачков, – кстати, Алеша Устюжанинов относился к их числу, – стать гражданами «государства Солнца»… В общем, во Франции надо было побывать обязательно, и чем раньше – тем лучше.
Главный город Иль-де-Франса Порт Луи походил на сказочное поселение «государства Солнца». Но, пожалуй, только внешне. Путь к причалам порта, в гладкую, очень спокойную бухту, всклень наполненную яркой бирюзовой водой, оказался сложным, без лоцмана никак не обойтись – можно было легко сесть на коралловый риф, проход между рифами был очень узкий, в пенных бурунах. Горловину гавани охранял Пушечный остров, на котором стояли орудия с длинными литыми стволами… Эти мощные пушки могли остановить любого незваного гостя.
У камней острова, на мелкотье резвились длинные, похожие на больших плоских змей мурены со страшными острозубыми пастями и злыми глазами, похожими на шляпки плохо откованных гвоздей, Алеша потом специально ходил на это место, чтобы получше рассмотреть этих опасных морских гадюк и запомнить их…
Берег портовой бухты был укреплен земляными валами, на которых также стояли пушки с удлиненными стволами и широкими жерлами. Около каждого орудия высилась горка ядер.
Акваторию бухты охраняли две внушительные крепостные башни, сложенные из крупных, хорошо подогнанных друг к другу, тяжелых камней – башня Мартелла, украшенная рисунчатыми зубцами, и башня Жорж, считавшаяся неприступной.
На башнях слабо трепыхались, поддеваемые легким игривым ветерком флаги с тремя белыми лилиями. Три белых королевских лилии – это всем известный герб Бурбонов, не очень-то уважаемый в этих краях, поскольку раньше островом заправляли довольно щедрые голландцы, заметно отличавшиеся от скупых на дары французов, потом заправляли англичане…
Сам город был похож на Макао – такой же белый, внешне беззаботный, громкоголосый, но было в нем сокрыто что-то такое, что заставляло настораживаться, рождало внутри холод, чтобы разобраться в этом, в городе надо было пожить.
Над бухтой возвышалась гора Кор де Гард, в том углу было самое удобное место для стоянки. Фрегаты уверенно направились под прикрытие горы и вскоре бросили на берег канаты, чтобы причалиться.
Командир «Дофина» Сент-Илер был господином чопорным и важным, людей не замечал совершенно – замечал только тех, кто стоял выше его на социальной лестнице, остальные для него не существовали; граф Беневский по всем статьям находился выше, и капитан, встречаясь с ним в кают-кампании, отзывался на приветствие и склонял голову… Впрочем, Беневский ко всяким проявлениям чинопочитания относился спокойно, если не равнодушно.
После швартовки Сент-Илер появился в каюте у Беневского – напомаженный, при шпаге с парадной перевязью, в парике, присыпанном пудрой – похоже, собирался нанести визит местным властям. И точно – выяснилось, что он собирается посетить местного губернатора.
– Если это возможно, граф, дождитесь, когда я вернусь с берега, – попросил он Беневского.
Беневский вопросительно приподнял одну бровь, усмехнулся едва приметно.
– С чем это связано, господин капитан?
– Я привезу вам личное приглашение от губернатора.
Приглашение в белый трехэтажный дом, где жил губернатор и располагалась его канцелярия, Беневский мог получить и без капитана, поэтому к предложению Сент-Илера он отнесся равнодушно, комментировать его не стал, поскольку собирался с этим господином плыть дальше, во Францию.
Устюжанинов думал, что шеф возьмет с собою к губернатору Хрущева – единственного офицера, оставшегося среди камчатских беглецов, но Хрущев за время плавания здорово одичал, черная разбойная борода его стала неряшливой, растрепанной, какой-то бандитской, от человека с таким ликом хотелось шарахнуться в сторону, поэтому Беневский решил взять с собою Алексея Чулошникова, мужика изворотливого, подвижного, знающего, как торговать и торговаться, с лица которого почти не исчезала улыбка, – посчитал, что от Чулошникова будет больше пользы, чем от бывшего гвардейского поручика…
Решение это, честно говоря, опечалило Алешу – похоже, что их «собранная компания для имени Его императорского величества Павла Петровича» скоро вообще прикажет долго жить – рассыпается компания на глазах.
Третьим человеком, который пошел к губернатору острова, был он, Алексей Устюжанинов. Беневский приказал ему одеть офицерский мундир, – правда, без знаков отличия, – при этом бросил небрежно:
– Пора привыкать к этой одежде.
Сам Беневский нарядился в мундир, расшитый серебряным позументом, с лентой ордена Белого Орла через плечо, Беневский орденом очень дорожил, взял с собою богато оформленную шпагу и генеральскую треуголку. Шпагу воткнул в перевязь, глянул на себя в зеркало и остался доволен – из зеркала на него смотрел настоящий генерал. Каковым, собственно, Беневский себя и считал.
По дороге к губернаторскому дому их ожидало приключение, которое, впрочем, имело продолжение в будущем.
Под горой Корд де Гард, в стороне от стоянок кораблей, располагался так называемый Таможенный квартал, тут оприходывали грузы, определяли, на какой товар наложить повышенный налог, а какой вообще пропустить без всякого налога, несколько сот метров берега были завалены коробами, тюками, зашитыми в парусину громоздкими предметами, бочками и кадушками, штабелями дорогого цветного дерева и металлическими ящиками, в которых часто перевозят хрупкий поделочный камень, не столь ценный, как камни, идущие на перстни, но все-таки имеющий цену…
Среди высоких гор и многослойных напластований товара сновали люди, много людей. Раздавались хлесткие удары бичей, громкая ругань, щелканье плеток, стук бамбуковых палок, которыми можно было легко перебить человеку хребет, либо основательно покалечить. Устюжанинов никогда не видел такого количества товаров, сложенных в одном месте, и столько полуголых людей, напоминающих трудяг-муравьев, пытающихся пристроить, расфасовать этот товар, растолкать его по нужным местам, – впрочем, Алеша еще много чего не видел, да и какие были его годы!
А пока он был горд тем, что Беневский нарядил его в офицерский мундир, и чувствовал себя офицером, вот ведь как – настоящим! Жаль только, что на его плечах нет эполет… Но придет время – будут!
Выезд из Таможенного квартала был перекрыт воротами. Посланец губернатора, сопровождавший их, уверенно пошел к этим воротам, следом – Беневский и Чулошников, и замыкающим – Устюжанинов.
Неожиданно Алеша увидел худого желтокожего человека, который, склонившись над разорванным мешком, выковыривал из дырки финики и дрожащими пальцами отправлял себе в рот. Человек этот был очень худ, сквозь кожу можно было пересчитать все ребра до единого, на спине его виднелись следы от ударов плеткой: бедняге здорово досталось за какую-то промашку.
Он не успел съесть финики – из-за нескольких высоких кип, связанных веревкой, сухих эвкалиптовых веток неожиданно вынырнул надсмотрщик и взмахнул бамбуковой палкой. Невольник сжался, превращаясь в комок боли, вскрикнул – удар был обжигающе резок, надсмотрщик взмахнул палкой еще раз, потом еще, невольник уже не кричал, он стиснул зубами крик и согнулся еще сильнее – кривился от боли, но не издавал больше ни звука.
Надсмотрщик, которого задело молчание невольника, вновь занес бамбуковую палку для удара, но в это мгновение перед ним возник Алеша Устюжанинов, ловко отбил удар рукой, перехватил палку и в ту же секунду опустил ее на спину надсмотрщика. Надсмотрщик взвыл – не понял, что же произошло и чем он обидел мальчишку в офицерском мундире?
– А-а-а, – орал надсмотрщик оглашенно, но через несколько мигов подавился криком, задергался судорожно, словно бы проглотил саму палку или комок грязи.
– За что ты его бьешь, нехристь? – кричал Алеша. – За дырку в мешке которую он не делал? – Попытался переломить палку через колено, но бамбук оказался материалом крепким, скорее колено расползется на костяшки, чем лопнет железная плоть палки.
– А-а-а, – вновь начал орать надсмотрщик.
– Ты кто? – спросил Устюжанинов у невольника.
– Я с Мадагаскара. Из племени бецимисарков.
– А зовут тебя как? – Этот вопрос задал Беневский. Он знал, чем могут окончиться подобные инциденты и не замедлил оказаться около Устюжанинова.
– Сиави, – бецимисарк скосил глаза на надсмотрщика и по лицу его проползла испуганная тень – знал он, что с ним сделает надсмотрщик, когда рядом не будет нежданных защитников. Растерянный, с посеревшей физиономией и дрожащим ртом истязатель возьмет свое сполна – худо тогда будет парню из мадагаскарского племени бецимисарков.
Это понял и Беневский, поставил ногу, обутую в ярко начищенный, генеральский сапог на спину надсмотрщика. Приказал:
– Подними голову!
Тот прогудел себе под нос что-то невнятное, вывернул голову и глянул вверх. Беневский сильнее надавил на спину, на сапоге даже шпора зазвякала.
– Подними голову еще выше, – велел он. – Я хочу, чтобы ты услышал и хорошо запомнил то, что тебе будет сказано.
Надсмотрщик задрал голову как только мог, у него даже в костях шеи что-то захрустело, – и преданно, будто нищий глянул снизу на Беневского.
– Если вздумаешь еще раз тронуть этого человека, – Беневский показал пальцем на Сиави, – я выкуплю тебя у твоего хозяина и прикажу забить палками… Насмерть. Понял?
– Понял, – покорно прохныкал сильно струхнувший надсмотрщик, ткнулся головой в землю. Серая кожа на его спине покрылась потом: и надсмотрщик и бецимисарк были рабами. Оба[4].
Разговор шел на французском языке, который Алеша Устюжанинов продолжал усердно изучать.
– Пошли, Альоша, – негромко и спокойно проговорил Беневский. – Нас ждет губернатор. Опаздывать неудобно.
Вилла губернатора находилась под огромной скалой, соперничавшей своими формами и объемом с горой Кор де Гард, была обнесена высокой, обвитой плющем оградой, которую охраняли чернокожие стражники, наряженные в колониальную французскую форму. Форму украшали аксельбанты.
Губернатор Дерош принял гостей с почтительной улыбкой.
– Первый раз встречаюсь с русскими так далеко от Парижа, – сказал он.
Беневский учтиво поклонился ему.
– Не думаю, господин губернатор, что русские вообще когда-либо забирались сюда раньше. Они, конечно, ходят далеко, но все больше на север, в огромное Студеное море[5].
– Студеное море, Студеное море… Да-да, я видел его на карте, – Дерош сделал выразительный жест, – внушительная территория, много льда… Насколько я знаю, оно совершенно не исследовано.
– Русские плавают по нему давно, – уважительным тоном произнес Беневский, но губернатор тему не подхватил, широко повел рукой:
– Прошу к столу!
Стол был накрыт с размахом, выглядел очень внушительно, по-парижски, на нем даже имелись столичные деликатесы, например, печень «фуа гра» и несколько сортов сыра. Беневский не сдержался, вздохнул: давно он не ел настоящего французского сыра. То, что он пробовал в Макао – жалкие подделки, которые и сыром-то не пахли.
Здесь были и знаменитые страсбургские паштеты, о существовании которых он, честно говоря, уже забыл, а что касается Чулошникова и Алеши, то они их вообще никогда не пробовали, как и горькое фирменное шампанское, привезенное недавно из Марселя чайным клипером. Угостил губернатор гостей и туземными блюдами, такими острыми, что казалось – вместе с куском мяса и горсткой риса они засовывали себе в рот горящую деревяшку.
Беседа шла светская, без политики, хотя без вопросов «социума» все же не обошлось: Беневский считал, что упрямые здешние народы можно подчинить себе только с помощью добра, Дерош придерживался другого мнения.
– Лишь длинный кнут, плетка и хорошая бамбуковая палка могут держать туземцев в повиновении. Если это не помогает, в дело вступает рота солдат с мушкетами. И сразу все становится на свои места.
Алеша внимательно вслушивался во французскую речь, отмечал про себя, что он все понимает, хотя говорить вот так свободно, как Дерош и Беневский, еще не может.
– Но вот если туземцы возьмут верх, – Дерош не удержался, поморщился, словно бы от боли, – тогда будет плохо, – мы станем завидовать мертвым: с нас, с живых, обязательно снимут кожу. Сделают это с удовольствием, господин Беневский.
Беневский колебался, размышляя, рассказать губернатору об истории, происшедшей в Таможенном квартале или не рассказывать, – не стоит, наверное, рассказывать, а с другой стороны, неведомо еще, во что это выльется, и он решил рассказать.
Губернатор внимательно выслушал рассказ Беневского и помрачнел.
– Вы впервые приехали на Иль-де-Франс, – сказал он, – вы здесь новички и это вас извиняет, но в будущем так не поступайте. Это противоречит принятым на острове правилам. Иначе нам не удержать здесь колониальный порядок.
Беневский поднялся с бокалом шампанского в руке, поклонился Дерошу, свободную руку прижал к сердцу:
– Господин губернатор, незнание правил не освобождает от ответственности, постараемся в будущем вас не разочаровывать, – Беневский еще раз поклонился губернатору. – Пью за вас, ваше превосходительство, за удивительную землю, которой вы управляете, за людей, которые помогают вам, за флаг королевского дома Франции, который я поцеловал, едва ступив на остров Иль-де-Франс.
Тостом этим губернатор остался доволен.
– Был бы счастлив служить вместе с вами и вашими людьми королю Франции, – сказал он, чокаясь с Беневским.
Когда прощались, губернатор вручил Беневскому незапечатанный конверт, украшенный гербом дворянского семейства Дерош.
– Это рекомендательное письмо к министру иностранных дел Франции герцогу д’Эгильону. Если у вас возникнут какие-то вопросы, герцог поможет вам разрешить их.
Большерецким беглецам отвели целый дом на окраине города, в долине Памплимус, где призывно зеленел огромный ботанический сад, специально выращиваемый французской администрацией для будущих поколений. В саду были собраны практически все растения, произраставшие на Иль-де-Франсе, Мадагаскаре, на береговой линии Африки, на территории были вырыты пруды, соединенные сетью каналов, в которых плавали, сознавая свою значимость, крупные, очень важные, величественные золотые рыбы.
В прудах росли кувшинки величиной с обеденный стол, среди кувшинок полыхали, будто фонари на запятках карет, диковинные розовые цветы. Таких цветов Алеша Устюжанинов не видел ни на Камчатке, ни в Макао, ни в Кантоне. Это были райские цветы. Устюжанинов смотрел на них с замиранием сердца, даже дыхание застревало в горле, так красивы они были и издавали такой нежный, такой божественный запах. Глядя на них, Алеша неожиданно вспомнил о государстве Солнца, о том, что рассказывал Беневский в синие морозные метели, когда они сидели в небольшой хате Хрущева и зачарованно смотрели на подрагивающий огонь коптилки, заправленной нерпичьим жиром, а потом говорили о своем будущем.
Похудевшее загорелое лицо его преобразилось, сделалось светлым, глаза тоже посветлели, в них появился радостный огонь.
– Государство Солнца – красиво звучит, – проговорил он тихо, прислушался к звуку собственного голоса.
Пока «Ле Дофин» и «Ле Ляверди» стояли в порту, Беневский еще раз наведался к губернатору – его заинтересовали слова, брошенные Дерошем в прошлый раз при прощании:
– Такие люди, как вы, господин Беневский, нужны нашей администрации. Вместе мы выполним любое поручение короля Франции, – Дерош года победно вскинул голову и звякнул серебряными шпорами. Лицо его победно лучилось.
Вернувшись от губернатора, Беневский собрал людей – всех до единого, и тех, кто прихварывал, и тех, кто был лишен права голоса – например, молчаливая служанка недавно скончавшегося штурмана Максима Чурина.
Собрание проходило на вытоптанной поляне, примыкавшей к дому. Вместо изгороди здесь росли здесь росли колючие розы – ни один человек не проникнет внутрь, розовые кусты оберегали участок лучше всякого забора – ни собаки, ни коты чужие, ни дикие животные не могли преодолеть преграду.
Беневский, наряженный в генеральский мундир, прошелся перед собравшимися.
– Друзья мои, – проговорил он зычно, сорвал с куста розу диковинного кремового цвета, понюхал ее и воскликнул восхищенно: – Какой дивный аромат! – понюхал снова и швырнул цветок за розовый забор. – Губернатор Дерош сделал мне лично и нашему обществу в целом предложение поступить на службу в колониальную администрацию. Обещает хорошо платить. И для этого обещания у него есть все основания – казна французского короля много богаче казны российской императрицы. Жизнь здесь лучше, легче, интереснее, чем в России. Ежели что, я буду защищать вас, – ни один человек не посмеет посмотреть на вас косо…
– А как же насчет государства Солнца, Морис Августович? – угрюмым тоном поинтересовался Митяй Кузнецов, пощипал пальцами обелесевшую жесткую бородку. – Мы же уплыли с Камчатки не для того, чтобы наняться на работу надсмотрщиками в чужом порту. Это обидно.
– Ты знаешь, Митяй, я никогда не обижал тебя, помог вылезти из долговой ямы…
– Это верно, Морис Августович, но я не за себя толкую – за людей.
– А ты толкуй за себя. Что же касается других, то-о… если кто-то не захочет принять предложение Дероша, то дорога до Франции оплачена – можно поступить на выгодную службу и там, а вот если кто-то захочет все-таки вернуться в Россию – сделать и это будет несложно. В Париже.
– В России нас только и ждут, – Митяй сгреб бородку в кулак, – ждут, не дождутся. Хорошая петля, да острый топор плачут по нашим шеям, выбирай – не хочу.
– Выбрать нам не дадут, – процедил Хрущев сквозь зубы, – не надейся.
– Не скажите, ваше благородие. – встрял в разговор канцелярист Судейкин, – матушка государыня хорошо относится к «русакам, любящим Русь», сам читал в одном из указов, поэтому дело, может, обойдется и без топора.
– Я бы не стал этому верить, – сказал Беневский, – когда не веришь – целее бываешь. По себе знаю.
– Сбили вы народ с толку, ваше превосходительство, – Судейкин перевел взгляд на Беневского, вздохнул. – Лучше бы не сбивали, – обиженно отвернулся в сторону и сплюнул.
Лицо у Беневского вспыхнуло: это было обвинение, а он, натура гордая, обвинений не любил. Как не любил и простонародного, допускающего вольные словечки обращения. Собравшиеся заволновались, засипели от возмущения. Беневский понял, что кашу с этими людьми ему сварить уже не удастся, посуда, похоже, прохудилась совсем – не починить.
Вытянув голову, он прислушался к крикам птиц, населявших сад Памплимус – тут было полно мелких певучих птах, совершенно наведомых ему – ярких, шустрых, проворно перемахивающих с куста на куст, позавидовал им: куда хотят, туда и летят Божьи существа, никаких пут на их крыльях нет. Райское все-таки место отвел им губернатор для постоя.
– Ну что ж, давайте разделимся, – стараясь быть спокойным, не выходить из себя, ровным голосом произнес Беневский, – те, кто хочет пойти со мной – те пойдут со мной, ну а нежелающие пойти… вольная вам воля! Так, кажется, говорят на Руси, – сгорбившийся, ставший неожиданно ниже ростом, он резко повернулся и вошел в дом. Выругался: – Десять тысяч ведьм!
Поначалу с Беневским решили остаться четыре человека – купеческий работник, поминающий своего хозяина Холодилова недобрыми словами, приказчик Алексей Чулошников, Алеша Устюжанинов и спокойный немногословный матрос Андреанов.
Здесь, на чужбине, Андреанов присмотрел себе жену, из своих же, – работящую статную женщину по имени Агафья, помогавшую по хозяйству семейству Чуриных и собрался на ней жениться. Только вот Агафья неожиданно заколебалась:
– Соскучилась я по родной земельке, мочи нету, – сказала она и печально потупила голову. – Прости меня, Алексей Алексеич!
– Ладно. Вечером поговорим, – угрюмым тоном пообещал Андреанов.
Вечером к тем, кто оставался с Беневским, присоединились еще семь человек, в том числе и Агафья – не захотела она все-таки разлучаться с Андреановым, – итого получалось одиннадцать.
Остальные решили плыть во Францию, а там как карта ляжет: если удастся вернуться в Россию – припадут к родной земле, поплачут, попросят прощения, не удастся – будут думать, как жить дальше.
Но всем уже до обморока, до икоты надоели морские скитания, хвори, картинки из чужой жизни, которые им приходилось наблюдать, униженное их состояние, зависимость от Беневского, распоряжающегося их судьбами, как кожаным мешком, в котором прячут монеты – какую монету захотел, такую и вынул, – все надоело, абсолютно все!
Группу, которая решила плыть во Францию, возглавили Хрущев, Митяй Кузнецов и швед Винблад. Заметим, что все трое – лучшие друзья Беневского по Большерецку.
Но дружба их осталась в прошлом, сосуд оказался хрупким и разлетелся в брызги, осколки теперь ни собрать, ни склеить; они не верили Беневскому, Беневский не верил им.
Алеша Устюжанинов, на глазах которого все это происходило, едва не заплакал.
Лучше всех чувствовал себя кот Прошка, он освоился и стал своим в здешнем климате, еды у него было более, чем достаточно – и на завтрак и на обед добывал свежатину, мурлыкал от удовольствия, поедая здешних птах и довольно хлопал себя лапой по пузу.
Хозяевами своими он считал двух человек – Митяя и Алешу Устюжанинова, – прикипел к поповскому сынку, к остальным же относился «с прищуром» – сжимал зеленоватые глаза и делал непонимающий вид: не узнает, мол… На самом деле Прошка всех узнавал, всякую услышанную новость укладывал у себя в башке на отдельную полку – он все наматывал на ус.
Устюжанинов вышел с котом за колючую ограду – цветущие кусты роз сомкнулись в плотную гряду – не пройти, прорубиться можно только топором, – отер глаза кулаком.
– Прохор, это что же такое делается, – прошептал он слезно, едва слышно. – Раскололись мы… Тебе на Камчатку не хочется?
Молчал Прошка, но по довольной физиономии его было видно, что не хочется – Прошке нравилось на Иль-де-Франсе.
Посидев немного с Алешей, Прошка отправился на охоту – наступила пора перекусить.
Охотился он недолго – из-за кустов вынырнула небольшая красногрудая птичка, увидев кота, взмыла было вверх, но совершить маневр не успела – Прошка пружиной взвился в воздух и резким ударом лапы сбил птичку на землю.
Птаха закувыркалась по траве ярким тряпичным комком. Прошка был доволен собою – такие фокусы коты Иль-де-Франса еще не освоили, – кинулся к птичке и, заурчав, перекусил ей горло. Устюжанинов хотел было выругать Прошку, но промолчал – в будущем ведь может статься так, что кот окажется у него единственным другом на всем острове.
– Эх, Прошка… Эх, Прохор, – пробормотал он, отвел взгляд в сторону, сглотнул слезы.
Интересно, что сейчас делается на Камчатке? Здесь жарко, потеет не только тело, потеют даже волосы, сама голова… На Камчатке же сейчас холодно, воют метели, под самые окна домов подползают голодные волки, надеются чем-нибудь поживиться, над макушками ровно срезанных сопок курится едкий, дурно пахнущий дым. Он никогда не нравился Алеше, но сейчас он бы все отдал, чтобы дохнуть хотя бы немного этого странного горького дыма, побегать за соболем по поваленным деревьям и послушать, как утром под дверью трещит, вздыхает по-мужицки устало мороз, вторя ему покорно, вздыхают, шевелятся, зябко ежась, подрагивают сугробы. Алеша смахнул кончиками пальцев влагу с ресниц.
Расстроенный, он не услышал, как сзади к нему подошел человек, постоял немного молча, наблюдая, как Прошка выплевывает изо рта птичьи перья, потом сел рядом с Устюжаниновым.
Это был Митяй Кузнецов. Митяй остриг, подровнял коротко бородку, ножницами отхватил себе кудри, подвязал их кожаным пояском и здорово помолодел, хотя лицо у него после стычки с Беневским осунулось, углы рта подсекли горькие морщины-складки, движения сделались вялыми, будто Митяю отбили руки.
– Алешк, через несколько дней «Дофин» отплывает во Францию, – сказал он, – знаешь про это?
– Знаю, дядя Митяй.
– Прошку я оставлю здесь с тобою. Как ты отнесешься к этому?
Устюжанинов обрадовался, расцвел:
– Очень хорошо отнесусь, дядя Митяй.
– Край здешний Прохору полюбился, к жаре он приспособился, птиц ловит одним когтем, если надо будет – приспособится ловить и рыбу.
– Не беспокойся, дядя Митяй, за котом я присмотрю. Когда вернешься, вручу его в целости и сохранности.
– Сюда я уже не вернусь – сил не хватит.
Алеша, услышав это, даже дернулся невольно, сморщил лицо – показалось, что ко лбу и щекам у него прилипла паутина, – вздохнул. Жаль, что Митяй не вернется. Без Митяя будет плохо.
– И желания, если честно, для возврата нету, – добавил Митяй.
Устюжанинов мотнул головой – то ли протестовал против этого, то ли встряхивал себя, приводил в чувство, не зная, что говорить, то ли внутри у него возникла боль, уколола. Он отвернулся от Митяя.
– Понимаю, понимаю, – сиплым голосом произнес тот, вздохнул.
– А как же быть с государством Солнца? – спросил Алеша.
– Не получилось у нас государства Солнца. Морис Августович обманул нас, сшиб на лету, как Прошка сшибает лапой птичек.
Ранним утром двадцать четвертого марта фрегаты «Ле Дофин» и «Ле Ляверди» сдернули с причальных чушек канаты и на малом ходу покинули бухту порта.
Алеша Устюжанинов стоял на портовой стенке и махал рукой отходящим кораблям, хотя почти не видел их – взор застилали слезы, плавали радужные огни, гасли, превращаясь в серое, скудное, совершенно неведомое вещество и утро вместе с ними тоже превращалось в серый, прохладный, не подающий никакой надежды вечер.
Паруса, поднятые только наполовину, неторопливо проползли за укрепленной каменной грядой, – самих фрегатов уже не было видно, – и очень скоро превратились в обычные тряпки, натянутые на невидимый каркас, хотя, как знал Устюжанинов, никакого каркаса у парусов не было.
Рукавом он промокнул глаза.
А вокруг кипела жизнь, кричали люди, щелкали плетками надсмотрщики, неподалеку на широкую телегу, запряженную двумя волами, грузили ящики, на вторую телегу укладывали тюки с тканями, привезенными из Индии.
Индийские ткани считались лучшими на острове Иль-де-Франс и не только на нем.
Вернувшись в дом, предоставленный русским беженцам, Устюжанинов заперся в своей комнате и не выходил из нее до вечера.
Все русские, поселившиеся в долине Памплимус, были взяты на работу в Ботанический сад – такое распоряжение отдал губернатор Дерош.
Работа была простая – они ухаживали за растениями, поливали их, взрыхляли землю у корней, чтобы вода не застревала на поверхности, обрезали у деревьев мертвые ветки, обрубали сухостой, мешающий молодым побегам пробиваться наружу, чистили пруды, выскребали из них гниль, кормили рыб.
С губернаторского двора им привозили фрукты, овощи, мясо, готовый хлеб, вино, свежую рыбу. Жизнь большерецким беглецам стала казаться легкой, беззаботной, сытой, радостной – никогда ранее у них не было такой жизни.
От Беневского, поселившегося на «Дофине» в прежней своей каюте и отплывшего во Францию, не было никаких вестей.
– Не бросил бы он нас, – опасливо и одновременно задумчиво произнесла Агафья Андреанова во время одного из ужинов.
– Рано еще Морису Августовичу посылать вести, – сказал ей Чулошников, – а в том, что он не бросит нас, я уверен. Готов даже руку положить под топор – не бросит. Пройдет еще немного времени и подвалят к нам вести. Вот увидите. А пока давайте выпьем за здоровье Мориса Августовича!
Вино у них было двух сортов – привозное, которое корабли доставляли с материка, из Франции, в пузатых черных и синих бутылках, и местное – его делали по настоянию Дероша два специалиста, прибывшие из провинции Шампань, степенные красноносые господа с внушительными животами. Они могли и водку сварить из островных слив и груш, и настойку из трав Иль-де-Франса приготовить, и «воспитать вино» из черного винограда, растущего на южном склоне горы Кор де Гард, а также в долине реки Гран.
Черенки винограда, посаженного на берегах реки Гран, Дерош лично привез из своего французского имения.
Чулошников поднял стакан, сработанный из диковинного синего стекла, – стакан был всклень наполнен грушевой водкой, – и повторил:
– За здоровье Мориса Августовича!
Матрос Андреанов молча присоединился к нему, чокнулся. Алеше налили немного сладкого ананасового вина – старший из виноделов по имени Габриэль научился делать его из диковинных колючих плодов, похожих на больших, свернувшихся в клубок ежей.
– А мне что, тоже можно? – сомневающимся тоном спросил Устюжанинов, недоверчиво глядя на толстобокий, чуть скошенный в сторону стакан.
– Привыкай, – сказал ему Чулошников, – уже можно. Ты на глазах становишься взрослым.
Алеша попробовал вино – оно было сладким, вкусным, душистым, почмокал губами, снова немного отпил. Произнес:
– Я думал, оно будет горьким.
– А вот горькое белое вино тебе давать еще рано, – Чулошников в назидательном движении поднял указательный палец – белое вино попробуешь года через два. Горькое пока нельзя.
Не было ни одного вечера, чтобы они не вспоминали о Беневском – обязательно возникал разговор о нем, о том, удастся ли ему продвинуть свои прожекты, о которых он рассказывал, и вообще – жив ли он, здоров ли? Если с ним что-то случится, тогда русским, оставшимся на Иль-де-Франсе, будет худо.
Может, напроситься на прием к губернатору и задать ему вопрос о Беневском? У губернатора ведь и труба повыше, и дым погуще.
И Чулошников и Алеша Устюжанинов уже изрядно поднаторели во французском языке и смогли бы очень толково изъясниться с Дерошем. Но до Дероша было очень высоко – не добраться, хотя он и благоволил к русским.
Иль-де-Франс не переставал удивлять Устюжанинова. Здесь водились огромные синие бабочки. Когда они поднимались с какой-нибудь зеленой поляны, казалось, что в воздух взмывает огромный яркий полог темного небесного цвета. Невесомая ткань полога трепетала, колдовски подрагивала на лету, переливалась, завораживала взгляд – оторвать глаза было невозможно, уносилась на следующую поляну, и та из зеленой мигом превращалась в кобатово-синюю, посверкивающую золотыми брызгами.
В саду Памплимус росли цветы, каких Алеша раньше не то, чтобы не видел, он даже предположить не мог, что такие цветы водятся, – большие, как тазы, в которых бабы стирают белье и моют волосы, – круглые, броского свекольно-красного либо белого цвета, из середины таза поднималась толстая желтая тычинка.
Цвели эти диковинные тазы целый месяц, потом медленно, очень неохотно засыхали.
Устюжанинов спросил у креола Жака, присматривавшего за их домом, как эти цветы зовутся-величаются?
Тот ответил коротко:
– Андреанус.
– О! – удивленно воскликнул Устюжанинов, с невольным уважением поглядел на Андреанова. – Не в вашу ли честь?
Агафья же, не удержавшись, ткнула мужа кулаком в бок.
– Ну, отец, не думала я! – воскликнула она, нежно погладила Андреанова пальцами по плечу. – Вот какой ты у меня, однако!
– Ага, как медведь, которого вместо малины накормили лягушками, – не удержался тот от реплики.
– Фу! – передернула плечами Агафья. А с другой стороны, чего передергивать-то? – Агафья совершенно не знала, есть на Иль-де-Франсе лягушки или нет?
Вообще-то должны быть, лягушки, как и воробьи, живут всюду.
Бегал Устюжанинов и на здешнее море – интересно было его сравнить с морем камчатским. Вода, конечно, здесь была более соленая – такая соленая, что показалась Устюжанинову даже горькой. А может, она действительно была горькой? Одно хорошо: такая вода всякий порез или рану заживляет быстро – все затягивается на глазах.
На море было очень много летающих рыб. Они стремительно вымахивали из голубых волн и, посверкивая серебряной чешуей, неслись над водой, параллельно ей, не опускаясь, метров двести, а то и больше, потом искривляли свой полет и лихо ныряли вниз, будто прыгали с берега.
В самой воде было полно странных, огнисто-черных существ, напоминающих ежей с очень длинными тонкими иголками, и неких плодов, похожих на спелые увесистые огурцы, что привольно чувствовали себя на камчатских грядках, – с такими же пупырышками и кудрявой завязью на макушке.
Огурцы эти морские были хищные. Жак сказал, что они поедают даже рыб, не говоря уже о всякой водяной нечисти – блошках с рачками, креветках, ракушках и усатых, похожих на гигантских кузнечиков, многоножках. Стоит только подцепить огурец пальцами и поднять его со дна, как из кудрявой макушки начинают вылезать белые клейкие бечевки, извиваются по-червячьи, прилипают ко всему, что попадается им, пеленают…
Если этот противный шнурок приклеится к руке, то оторвать его будет трудно, надо счищать ножом.
Жак предупредил Алешу и об опасности – нельзя залезать в море с какой-нибудь кровоточащей ссадиной, даже мелкой – могут напасть барракуды…
– А барракуды – это кто такие? – вопросительно наморщил лоб Устюжанинов. – Никогда не слышал.
– Французы называют их морскими волками.
– Что, нападают на людей?
– Нападают, – подтвердил Жак.
– Вот страхи-то Господние! – в голосе Алеши послышались жалобные нотки.
Но пока самое вредное было – наступить на расшеперившегося во все стороны иголками ежа – хромота обеспечена как минимум на пару недель, колючки залезают глубоко под кожу и так обжигают огнем, что даже задохнуться можно, Алешу эта напасть обошла, а вот матрос Потолов, друг Андреанова, на ежа все-таки наступил, не углядел, что у него в воде, под ногами находится.
Покряхтеть Потолову пришлось изрядно, часть иголок у него вытащил Андреанов малыми кузнечными щипцами – действовал аккуратно, пыхтя и сдувая с кончика носа пот, часть осталась в ноге и потом сама растворилась в крови, об иголках напоминали лишь мелкие твердые бугорки.
Работы в Ботаническом саду было немного, большерецкие труженики справлялись с нею шутя, а вот время свободное было, потому и совершали они путешествия. То к синим бабочкам в гости нагрянут, то в ежиную бухту, то навострятся к кратеру вулкана Тру-о-Серф.
Там, на макушке старой высокой горы, очень легко дышалось – воздух, несмотря на жару, был чистым, горным – ни одной пылинки, кратер был глубокий, стенки круто уходили вниз, впечатляли своим видом – на них росли большие желтые цветы, очень душистые, притягивающие к себе и пчел и бабочек; говорят, это был сорт магнолий, привезенный из Франции ученым де Сен-Пьером, который, собственно, и создал сад Памплимус, посадил там магнолии, но они странным образом очутились в жерле вулкана, за много километров от сада… Как это произошло, не знает никто. Не иначе, тут была замешана колдовская сила.
Алеша сорвал один цветок, поднес к лицу – цветок пахнул сочно, сладко – но это была резкая сладость, способная въедаться в кожу до крови. Жак, который сопровождал русских в походе на Тру-о-Серф, обеспокоенно выкрикнул:
– Брось цветок!
– Зачем?
– Он ядовитый!
Цветок пришлось бросить.
Когда-то на Иль-де-Франсе жили огромные птицы до-до, которых истребили голландцы – слишком вкусным было их мясо, на смену им местные сыроделы и колбасники, понявшие, что совершили ошибку, уничтожив до-до, завезли оленей и – о, счастье! – олени прижились, индусы привезли сюда обезьян, а мусульмане из Африки – мангустов… Так остров из птичьего стал потихоньку преобразовываться в звериный, и дело это, надо полагать, пойдет и дальше – из Африки сюда, как пить дать, через некоторое время доставят слонов…
Пройдя по всем невидалям и красотам островным, Алеша отметил одну красоту, ставшую для него явлением, – это было море. На море было интереснее всего.
По вечерам играли в шахматы, к этой мудрой игре пристрастился даже молчун Андреанов, это он ножом выстругал фигурки из мягкого дерева, сделал это довольно искусно, мастером оказался, из крышки старого сундука соорудил доску, расчертил ее на квадраты и теперь отчаянно, до глухой ночной темноты резался с Чулошниковым – кто кого?
Несмотря на пролитый пот и великое хотение, Андреанов ни разу не смог выиграть у Чулошникова – соперник был смышленее, изобретательнее, смелее его, мог обмануть, а Андреанов этого сделать не мог… Чулошников вообще играл лучше всех, Алеша тоже уступал ему, хотя случалось, что специалист по купеческим сделкам смущенно поднимал руки кверху…
Ждали Беневского. Как он там, в своем Париже? Все ли у него в порядке?
Беневский благополучно добрался до Франции – ветер дул попутный, ссора, вспыхнувшая на Иль-де-Франсе, ушла в прошлое и, возможно, даже забылась (во всяком случае, и Хрущев, и Винблад, и Кузнецов делали вид, что ничего не помнят из того, что было, Беневский принял эту игру и также общался с компанией, сохраняя на лице пристойную мину), – восемнадцатого июля 1772 года фрегат с пассажирами причалил к стенке порта Лориан, принадлежавшего могущественной Ост-Индской компании.
Надо еще отметить, – и это важно, – что по пути французские корабли сделали остановку на Мадагаскаре – огромном острове, более похожем на континент, чем на остров, с диковинной, красной, очень плодородной землей и реками, в которых текла яркая красная вода. Более красная, чем островная земля.
К Мадагаскару подошли в апреле 1772 года, что и было отмечено Беневским в записях.
«12-го мы бросили якорь на острове Мадагаскар, я сошел у форта Дофин. Губернатор Иль-де-Франса своими рассказами о некоторых особенностях этого огромного и прекрасного острова вызвал у меня желание ознакомиться и покорить его, но, к сожалению, мое пребывание не было там долгим. 14-го я вернулся на борт».
По пути была сделана еще одна остановка, которую отметил в своих бумагах Иван Рюмин – у пустого острова, с одной только целью – наловить морских черепах. Французы оказались очень охочими до этих громоздких неповоротливых созданий, – в шлюпку тяжелую черепаху было очень непросто затащить, и еще более непросто было поднять ее на высокий борт фрегата.
Кстати, у Рюмина оказался очень неплохой слог повествования, его записи можно и дневниковыми назвать, и одновременно – литературными заметками. С другой стороны, говорят, что Рюмин делал только короткие наброски, фиксировал сами события, факт их существования, а уж до ума их доводил его напарник по большерецкой канцелярии Спиридон Судейкин.
Дознаться, как же все было на самом деле, сейчас невозможно совершенно. Увы.
Около неведомого черепашьего острова корабли простояли целую неделю, черепашьего супа наелись на всю оставшуюся жизнь и одиннадцатого мая поплыли дальше.
Во Францию приплыли, как мы уже знаем, восемнадцатого июля, причалили к берегу, а там, «пристав, переехали через залив в Порт-Луи», где, тесно прижавшись друг к другу, стояли дома под красными черепичными крышами. Город этот назывался точно так же, как и далекий островной порт, где остались одиннадцать спутников Беневского.
Из Франции Беневский послал им одно-единственное письмо, начинавшееся простонародным свойским словом «Ребята!» – к большерецким беглецам Беневский почти всегда обращался именно так, слово «ребята» ему нравилось. «Без малого четыре месяца плыли мы до Европы. Но все кончилось благополучно, – сообщал он. – Я сразу же уехал в Париж, оставив всех наших в сем городе на казенных квартирах. Не стану писать, сколь много трудов было мною употреблено, прежде чем добился я аудиенции у Его величества короля Людовика Пятнадцатого. Его величество, зная мои в воинском и морском деле способности, поручил мне дело сугубой важности, о коем писать пока не стану. Скажу только, что скоро вернусь обратно и все обещанное выполню».
Предводитель сообщал также, что король присвоил ему звание полковника – это раз, два – Петр Хрущев устроился на французскую службу в чине капитана, и три – «что же касается наших товарищей, то почти все они пребывают в нерешительности: не знают, возвращаться ли со мною обратно в Порт-Луи или же пробираться в Россию».
Надо заметить, что Беневский проследовал из Порта-Луи в Париж как белый человек – на дилижансе, а «наши товарищи» прошли пешком. Все пятьсот пятьдесят километров. А ведь среди них были и женщины. Беневский денег на дорогу им не дал.
С другой стороны, как я понимаю, он и не мог дать им денег, поскольку находился в Париже, а большерецкие беглецы пребывали в Порт-Луи, как написав Рюмин, по «27-е число марта 1773 года, итого восемь месяцев и девятнадцать дней». И лишь после этого решили двигаться в Париж, где находился русский посланник, он же – резидент. Восемь с лишним месяцев им понадобилось, чтобы решиться на возвращение домой.
А возвращаться в Россию было страшно – вдруг там отрубят головы? Или повесят? Впрочем, хрен редьки не слаще.
В конце концов решились и в Париже пришли к российскому резиденту во Франции Николаю Константиновичу Хотинскому.
Произошло это шестнадцатого апреля 1773 года, но лишь шестого сентября Хотинский, детально разобравшись в перипетиях жизни большерецких беглецов, опросив каждого из них и поставив канцелярский номер на «сочиненный о сем путешествии журнал», отправил письмо вместе с журналом в Санкт-Петербург, генерал-прокурору князю Вяземскому. Хотинский ходатайствовал о прощении людей, обманутых «злодеем Беневским».
Ждать пришлось так долго, что Хотинский отправил князю Вяземскому второе письмо – слишком уж долго решала государыня-матушка судьбу «нещастных людей». Наконец Екатерина Вторая смилостивилась, простила своих проштрафившихся подданных, о чем в Париж была тут же отправлена соответствующая бумага.
Хотинский, исполненный сочувствия к большерецким беглецам, докладывал своему шефу Вяземскому, что «податели сего те самые нещастные люди, которые увезены были из Камчатки, и по человеколюбию Вашего сиятельства ущастливились возвратиться в отечество, всего их числом семнадцать человек, а имена их следующие.
1. Спиридон Судейкин, канцелярист. 2. Дмитрий Бочароов, штурманский ученик.
Компании тотемского купца Федоса Холодилова работные и промышленники: 3. Кондратей Пятченин. 4. Яков Серебреников. 5. Иван Шибаев. 6. Егор Лоскутов. 7. Алексей Мухин. 8. Иван Казаков. 9. Коряка Егор Брехов. 10. Камчадал Прокопей Попов. 11. Козма Облупин. 12. Иван Масколев.
Матрозы Охотского порта: 13. Василей Ляпин. 14. Петр Сафронов. 15. Герасим Береснев. 16. Казак Иван Рюмин, служил за копеиста. 17. Жена последнего Любовь Савина.
Над всеми ими во время бытности их в Париже, имев власть и присмотр как за поведением их, так и в закупке нужного пропитания…»
Далее Хотинский сообщал, что на покупку хлеба для всей команды выдавал деньги Пятченину, который «первым явился» к нему «с другими двумя своими товарищами». Хлеб был у большерецких беглецов общим, норма маленькая, как в тюрьме – по полтора фунта в день каждому. В переводе на наши нынешние мерки – шестьсот граммов. Особо не разгуляешься. И сыт особо не будешь. Тем не менее в докладе Хотинский заметил, что одним «определенная порция недоставала, а другим излишествовала».
Впрочем, насчет «излишествовала» я не очень-то верю Хотинскому.
Высочайшее прощение было получено, теперь надо было добывать деньги на дорогу в Россию, чем резидент Хотинский и занялся.
В то время в ведомстве по иностранным делам служил человек, чье ими было хорошо известно просвещенной России – автор «Недоросля» Фонвизин, он и помог камчатским бедолагам, добыл для них восемь тысяч ливров.
В результате семнадцать большерецких страдальцев были отправлены на торговом судне «Маргерит» из Гавра в Россию и тридцатого сентября 1773 года оказались в Кронштадте. Оттуда бедолаги были переправлены в Санкт-Петербург.
Задержаться в российской столице им не позволили.
– Пусть едут в края им знакомые, – такое решение приняла Екатерина, а еще лучше – на Камчатку. Ни в Петербурге, ни в Москве им нечего делать.
Уже третьего октября князь Вяземский отправил иркутскому губернатору Брилю письмо, в котором строго указал, чтобы «их всех внутрь России, как-то в Москву и Санкт-Петербург, никогда ни для чего не отпускать…»
Людям, знакомым с этой непростой историей, объявили, что большерецкие беглецы решили вернуться в знакомые им края «по собственному желанию»: мол, только на Камчатку либо в Иркутск и больше никуда.
Много лет спустя – более ста, – журнал «Русская старина» сообщил следующее: «Судейкин и Рюмин с женой пожелали жить в Тобольске, Бочаров в Иркутске, с увольнением от службы; матросам Ляпину и Бересневу назначено служить в Охотске, матросу Сафронову дана отставка, с тем, чтобы он жил в Охотске или на Камчатке; прочим восьми рабочим Холодилова остаться в Иркутске, с приписью в купечество».
Надо заметить, что восемь месяцев и девятнадцать дней, проведенные камчадалами во французском городе Порт-Луи, тоже взяли свое: беглецы болели, лежали в Лореанском госпитале, безуспешно пытаясь излечиться от неведомых хворей, подхваченных в путешествии, – пятеро из них навсегда остались на французской земле, их положили в простые, неглубоко вырытые могилы.
Адмиралтейский лекарь Магнус Медер, несмотря на почтенный возраст, поступил на службу к французам – врачом он был отменным, его взяли охотно и вот что еще интересно – на службу к Людовику Пятнадцатому поступил и Митяй Кузнецов.
Отличный стрелок, хладнокровный охотник, способный выследить любую, даже самую хитроумную дичь, он приглянулся французам. Единственное, что печалило Митяя, нагоняло на его лицо скорбные морщины: Франция находилась в ту пору с Россией в отношениях откровенно враждебных, а Митяй был человеком русским…
Но, пораскидывав все «за» и «против», Митяй рассудил совершенно здраво: пока жива матушка Екатерина Великая, путь в Россию ему заказан – слишком много он нагрешил, слишком откровенно, очень настойчиво, даже яростно поддерживал бунт ссыльных, те, кто остался на Камчатке, слабостью памяти не страдают – это обязательно вспомнят.
Швед Винблад отправился на родину и никто о нем больше ничего не слышал – бывший майор конфедерации как в воду канул.
Беневский умел просчитывать ходы с запасом, жизнь научила его этому. Другое дело, что не всегда верно двигал он фигуры на шахматной доске, но это уже вопрос тактики, а не стратегии. Как стратег он часто разрабатывал ходы на пятерку, а вот фигуры передвигал, как ленивый гимназист – с запозданием.
Покидая Камчатку, он прихватил с собою большерецкий архив, надеясь заслужить благодарность тех, кому архив этот будет интересен; вместе с благодарностью ему должен будет перепасть и кошель с ливрами. Такие гонорары Беневский любил очень.
В архиве том были собраны и тайные царские указы, и письма, причисленные к государственной переписке, простому человеку неведомые, и распоряжения, проходившие по ведомству иностранных дел – в общем, много чего интересного. Архив Беневский передал герцогу д’Эгийону, которому он понравился своим умом, деловой хваткой, обаянием, способностью заинтересовать собеседника.
Более того, он пообещал герцогу, который, к слову, был очень неплохим министром иностранных дел, раскрыть некие пункты тайного соглашения русских с англичанами относительно Дальнего Востока. Беневский делал при этом заговорщицкий вид и обрывал свои фразы на полуслове. Он сумел внушить герцогу мысль, что Франция должна стать третьей страной, которая примет участие в дальневосточном разделе.
Такие планы грели герцогу душу. На деле же никакого соглашения по Дальнему Востоку не существовало и существовать не могло – Беневский блефовал, он подогревал интерес к собственной персоне и, надо заметить, делал это весьма успешно.
Имелся у него и свой собственный «дальневосточный» план – он захотел покорить Формозу и сделать ее французской колонией.
– Живет там народ дикий, одевается в шкуры, в носы и уши вставляет деревяшки, – рассказывал он д’Эгийону, внимательно слушавшему его, – поклоняется идолам, огню, осколкам камней и грубым деревянным изображениям, характером люди тамошние свирепые, о богатствах, на которых стоят их примитивные тростниковые хижины, даже не подозревают… Туземцы, одним словом, ваша светлость.
Герцог поощряюще качал головой, подбадривал Беневского. В результате Беневский засел за план покорения Формозы, который вскоре благополучно и сочинил.
Его рассказы о совместных намерениях русских и англичан разделить дальневосточный пирог, а на закуску совершить чего-нибудь еще, что пойдет вразрез с планами французского двора, были переданы морскому министру графу де Бойна, тот, в свою очередь, доложил о них королю. Людовик Пятнадцатый отнесся к сообщению морского министра серьезно, но Формозу решил оставить на потом, небрежно бросив:
– Слишком далеко до нее, граф, не находите? У нас не хватит кораблей, чтобы поддерживать там должный порядок.
– Но англичане, ваше величество…
– Никаких «но», – обрезал его король, – и никаких англичан. Мы в местах, которые уже давно считаем своими, обжитыми, населенными французами, имеем много белых пятен, которые должны, просто обязаны ликвидировать… Но не имеем сил. Не находите, граф?
Что оставалось делать морскому министру? Только согласиться с королем.
– Нахожу, ваше величество, – проговорил он покорно.
«Второго августа, – записал Беневский у себя в дневнике, – я получил приглашение герцога д’Эгийона, доставленное мне государственным гонцом. Восьмого августа я прибыл в Шампань, где тогда находился министр, который принял меня с уважением, радушно, предложил мне вступить на службу его короля и пообещал дать в мое распоряжение пехотный полк».
Правда, лавры завоевателя голозадой, отсталой, примитивной, вооруженной стрелами и копьями, но очень богатой Формозы Беневскому не светили, – такова была воля короля… Но зато светило другое. Людовику Пятнадцатому хотелось, чтобы Франция проглотила пирог пожирнее, побогаче, чем какая-то далекая Формоза…
Королю захотелось, чтобы на золотом блюде ему был подан Мадагаскар.
Предложение заняться Мадагаскаром было для Беневского неожиданным, но не смутило его ни на секунду. Он громко звякнул серебряными шпорами и ответил бравым голосом:
– Готов выполнить любое поручение его величества:
– Вам надлежит поехать на Мадагаскар во главе полка волонтеров, – сказал ему министр.
С волонтерами Беневский дела еще не имел и не знал, что это такое – морока или нет? В результате никакого полка не было ему приготовлено, Беневский ограничился тем, что собрал людей, которых сумел увлечь рассказами о Мадагаскаре, тем организационная работа его закончилась. Людей этих было мало.
Но ведь имелись еще верные сподвижники, оставшиеся на Иль-де-Франсе, на которых Беневский сейчас надеялся больше, чем на кого-либо. Причем, среди оставшихся были разные люди: имелись такие, кто умел толково воевать, были моряки, были знатоки купеческого дела, были умельцы, которые могли за несколько секунд умножить трехзначное число на двухзначное и не ошибиться, были охотники и земледельцы, строители и специалисты по плетению сетей.
И все они – из числа одиннадцати человек, оставшихся на Иль-де-Франсе. Так что на Мадагаскар Беневский отбывал со спокойной душой – он мог рассчитывать на своих сподвижников.
За время пребывания во Франции он устал, в волосах появилось еще больше седины (впрочем, это нестрашно, седину всегда можно прикрыть париком), около губ в углах рта обозначились ироничные складки, глаза посветлели, словно бы их выжарило беспощадное солнце, хромать начал заметнее – старое увечье стало сильнее тревожить его, иногда ему хотелось обзавестись солидной палкой, чтобы было на что опереться при ходьбе, но Беневский боялся потерять форс, боялся выглядеть не тем человеком, за которого выдавал себя.
Скорее бы наступил час, когда можно будет покинуть Францию, но час этот долгожданный не наступал – Беневский не мог покинуть Париж без денег.
Тут даже герцог д’Эгийон, обладавший большой властью и неограниченными связями, не в силах был ему помочь. Все вопросы, связанные с деньгами, во Франции той поры решал лично король. И еще пара человек, считавшихся его советниками по финансовой части.
Д’Эгийон на них влияния не имел.
Беневского на Иль-де-Франсе ждали. Больше всех, пожалуй, ожидал Алеша Устюжанинов, – и не потому, что он страдал от бездействия или очень уж соскучился по своему учителю, как по родному отцу – Алеше, кстати, не хватало толкового репетитора по французскому языку, и это было весьма важно, тут Беневского не мог заменить ни Чулошников, ни креол Жак, ни даже сам губернатор, – никто, в общем, – просто в жизни его образовался провал, который ни один человек не мог заполнить, вот ведь как. Нужен был Беневский, учитель.
Вечера коротали за шахматами. Если бы в «работном» доме Памплимуса не было шахмат, жизнь казалась бы нашим героям совсем серой. А так шахматы помогали скрашивать унылое, медленно тянувшееся время.
Письмо Беневского до них дошло – доставили из канцелярии губернатора, куда оно прибыло с быстроходным чайным клипером. Алеша читал его и по ходу переводил на русский язык раз пятнадцать, не меньше и всякий раз его слушали внимательно, не комментируя, не произнося ни одного слова – в полной тишине. Даже мухи в этой тиши остерегались летать – понимали: могут сбить.
После чтения письма, ставшего на несколько дней ритуальным, вновь садились за шахматы, а прислуга покойного Чурина, молчаливая худенькая женщина с простым русским лицом, пристраивалась рядом со столом, где резались игроки, – за вязание. Жак добыл где-то моток индийской шелковой пряжи, взял за него недорого и служанка теперь старалась обиходить скудный быт беглецов.
Нарядная шелковая салфетка – штука такая, что везде может пригодиться. Даже в России, если им будет дано вновь оказаться дома.
При мыслях о России лицо служанки делалось мрачным, горьким, но она никому, ни одному человеку не говорила, о чем думает в эти минуты…
Как-то, в позднее время, когда на улице было черным-черно, в дверь «работного» дома постучали. Стук был резким, сильным.
Чулошников и Алеша, сидевшие за шахматами, переглянулись. Стук этот, очень тревожный, слышный, наверное, на другом конце острова, у горы Брабант, раздался вновь.
– Еще не хватало нам в какую-нибудь неприятную историю угодить, – недовольно проговорил Чулошников, – Морис Августович нас за это не похвалит.
Устюжанинов молча прошел к двери, вынул из пазов прочный деревянный засов. За дверью, на широком, сколоченном из досок настиле, отдаленно напоминавшем низкое крыльцо в российском доме, лежал окровавленный человек.
Лицо его, несмотря на кровь, текущую из рассеченного лба, показалось Устюжанинову знакомым. Человек стер с лица кровь и протянул к Устюжанинову обе руки.
– Помогите! – прошептал он.
Тут Устюжанинов узнал его, отступил чуть назад и проговорил неверяще:
– Сиави?
– Сиави, – подтвердил окровавленный человек, – спасите меня.
– Что случилось?
Разговор шел на французском, Сиави знал язык хуже Устюжанинова, но все равно понять его было можно.
– Я убил своего надсмотрщика, – проговорил Сиави, умолк на несколько мгновений, губы у него передернулись от боли, – того самого… Утром меня должны будут повесить. Но… я убежал. Мне удалось это сделать.
– Ясно, – коротко проговорил Устюжанинов, затем, обернувшись, спросил у прислуги: – У нас найдется чистая тряпка?
– Найдем, ежели надо.
– Кровь нужно стереть. Дайте, ради Бога.
– За мной гонятся, – предупредил Сиави. – Слышите лай собак?
Лай собак был слышен хорошо, погоня находилась недалеко. По лицу Сиави пробежала судорога.
– Сиави, давайте за мной, – скомандовал Устюжанинов, нырнул в темноту. – Не отставайте.
Около «работного» дома был выкопан колодец, на вороте, на прочной веревке, сплетенной из сизаля, висела деревянная бадья, окованная двумя железными обручами.
– Лезь сюда, Сиави, – Устюжанинов не заметил, как перешел на «ты», – впрочем, это было естественно, – ткнул рукою в бадью, – быстрее!
Сиави проворно забрался в бадью. Устюжанинов быстро заработал воротом, опустил бадью вниз, стараясь не пропустить шлепка о воду; когда засек шлепок, закрепил веревку на крюке, вбитом в стояк колодца.
Пока бежал от колодца к дому, почувствовал, что виски ему начал разламывать металлический звон. Устюжанинов понял: это от напряжения, от того, что рядом находится опасность… В доме он поспешно натянул на себя офицерский камзол и запер дверь на засов.
Через несколько минут по двору заметались огненные всполохи – явилась погоня, несколько человек с бичами и смоляными факелами. В дверь забарабанили крепкие кулаки.
Сдерживая дыхание, готовое вырваться наружу вместе со стоном, буквально сдавив его зубами, Устюжанинов неторопливо открыл дверь и выпрямился в проеме. Пламя факелов осветило серебряный позумент на офицерском камзоле, подаренном ему Беневским.
– Чего изволите? – спокойно и негромко спросил он.
Погоня при виде офицерского камзола оторопела – не ожидала увидеть здесь важное лицо.
– Ловим сбежавшего раба, – с хриплым кашлем выбил из себя один из преследователей, судя по всему, – старший. – Очень опасный раб. Убил человека…
– Можете зайти в дом и проверить, – предложил Устюжанинов, – у нас нет никого из посторонних.
– И не пробегал никто, господин офицер?
– Никто, – сказал Устюжанинов, – ни один человек.
Преследователь поднял повыше факел, осветил двор, увидел каменное основание колодца и неожиданно спросил:
– А ведро почему опущено?
Устюжанинов почувствовал, как у него остановилось дыхание, сердце подпрыгнуло вверх и застряло в глотке, бешено заколотилось там: погоня напала на верный след… Как сбить ее?
– Ведро деревянное, держим в воде, иначе рассохнется, – спокойно, стараясь, чтобы голос случайно не дрогнул, пояснил Устюжанинов.
По лицу преследователя было видно, что он очень бы хотел проверить колодец и бадью, опущенную внутрь, но побоялся – вдруг офицер рассердится, приподнял факел, еще раз осмотрел двор и, махнув рукой своре, прибежавшей с ним, исчез. Свора понеслась за ним дальше.
– Для таких случаев неплохо бы иметь крепкие ворота, – сказал Устюжанинову появившийся в дверях Чулошников, озабоченно, как-то по-детски пошмыгал носом.
– Ворота не всегда могут быть защитой, – заметил Алеша тоном взрослого, умудренного жизнью человека.
Минут через двадцать, когда все утихло, из колодца подняли Сиави.
Чтобы бадья не превратилась в помойную лохань, супруга Андреанова долго отмывала ее теплой водой и самодельным щелоком, который привезла с Камчатки – заготовила там объемистый кулек. Щелок оказался ценной штукой, Агафья его понапрасну не расходовала.
Сиави, чтобы никто не засек его, заперли в доме и велели носа на улицу не казать. Надо было некоторое время выждать и уж потом что-то предпринимать ломать голову, как быть дальше.
Сиави надо было переправлять на Мадагаскар, вот только как это сделать – большой вопрос.
Нужны были деньги. Небольшие деньги они, конечно же, получали – все одиннадцать человек, оставшихся на Иль-де-Франсе, – деньги приносили им из канцелярии губернатора. Чтобы спасти Сиави, надо было скидываться: с каждого понемногу в общий котел.
Чулошников взял офицерскую треуголку Устюжанинова, положил ее на стол, произнес голосом тихим, но настойчивым, со знакомыми, позаимствованными у Беневского нотками:
– Ребята, давайте-ка… Кто сколько может. Не жалейте. Иначе парня нам не спасти – его повесят.
Губернаторское жалованье им платили во франках, поэтому, как прикинул Чулошников, часто бывающий в порту, в Таможенном квартале, им понадобится собрать не менее шестисот франков. За меньшую сумму им Сиави отсюда не вывезти.
– Алиоша, мой отец сумеет отдать вам эти деньги, – сказал Сиави, узнав, чем занимается русская колония, – он сумеет отдать денег много больше.
– Он что, отец твой, – богат? – не удержался от вопроса Устюжанинов.
– Вождь племени бецимисарков обязан быть богатым, – сказал Сиави.
Устюжанинов подумал о чем-то своем, затем неожиданно присвистнул:
– Вождь – это одно и то же, что и король?
– Насчет короля не знаю, но он – главный человек в племени. На Мадагаскаре бецимисарки – большая сила. Бецимисарков много.
Алеша хоть и не знал, сколько бецимисарков живет на Мадагаскаре, но согласно наклонил голову. Неожиданно вспомнилось, что Беневский упоминал Мадагаскар, таинственный Мадагаскар интересовал его, а с другой стороны он быстро скисал, вид его делался отсутствующим, чужим каким-то и он безнадежно махал рукой.
– Нас с тобою, Альоша, больше должна интересовать Формоза, а не Мадагаскар. На Формозе мы с тобою построим государство Солнца и я знаю, как это сделать, а на Мадагаскаре… На Мадагаскаре – не знаю. Скорее всего, нет.
Вид Беневского делался еще более чужим, еще более далеким, уголки губ начинали озабоченно подрагивать – что-то происходило в его душе, тревожило, а вот что именно происходило, понять не было дано. И вообще Беневского не всегда можно было понять, иногда он переставал походить на самого себя, превращался в человека, совершенно незнакомого.
Так было на Макао, когда он самолично, в одиночку, принял решение о продаже галиота, после чего вдребезги разругался едва ли не со всеми, Устюжанинов так никогда бы не поступил, он обязательно поговорил бы с каждым большереченцем, узнал бы его точку зрения, учел бы ее… «Святой Петр» был родным домом для всех их, а лишиться дома – все равно, что сунуть под топор руки.
Вот и получилось, что все они остались без дома, – все до единого. Кроме Мориса Августовича.
То, что Сиави был сыном мадагаскарского вождя, с одной стороны значения не имело, а с другой – вдруг шеф захочет осваивать Мадагаскар, вдруг государство Солнца действительно можно построить там?
Хоть и бедны были большерецкие скитальцы, как церковные мыши, а сбросившись, заполнили, можно сказать, едва ли не целиком офицерскую треуголку Устюжанинова. Деньги были в основном, мелкие…
Всего они собрали шестьсот сорок франков. Этих денег должно было хватить на побег Сиави с Иль-де-Франса.
Несколько дней два Алексея, – Чулошников и Андреанов, – толкались в порту среди команд различных судов, среди шкиперов и штурманов, среди обычных матросов, прислушивались к разговорам, сами вступали в них, прощупывали почву, изучали собеседников, примерялись к ним – искали надежный вариант для переброски Сиави на Мадагаскар.
Наконец нашли капитана Жоржа, черноволосого кучерявого весельчака с крупными зубами, придававшим его физиономии сходство с лошадиной. Вид у этого смеющегося весельчака был молодой, даже слишком молодой для капитана, – только залысины и свидетельствовали, что ему уже не восемнадцать лет, а несколько больше, кроме залысин ничего не говорило о том, что Жоржу уже за тридцать.
За пятьсот франков капитан Жорж согласился отвезти Сиави на Мадагаскар.
– Доставлю вашего человека в наилучшем виде, – пообещал он, – моему пакетботу Мадагаскар известен так же хорошо, как и Иль-де-Франс. А может, даже еще лучше. Давайте деньги и ни в чем не сомневайтесь, – он протянул к Чулошникову крепкую загорелую руку.
– Э-э, нет, – отстранил его руку Чулошников, – вначале я выдам аванс – двести франков… Остальные деньги – после возвращения, – чем-то настораживал Чулошникова этот человек, что-то в нем было не то, заставляло, – невольно, – делать подстраховывающие шаги. – С вами на Мадагаскар поплывет наш человек, – Чулошников замысловато покрутил пальцами в воздухе, – когда он вернется и скажет, что мальгаш добрался до дома – вручу еще триста франков.
– За замысловатость комбинации добавьте пятьдесят франков, – потребовал капитан Жорж.
– Хорошо, – согласился Чулошников.
На телеге, украшенной железной табличкой «Ботанический сад Памплимус» в порт доставили большой, прочно сколоченный ящик и вместе с несколькими бочонками водки и тридцатью тюками ткани, производимой на Иль-де-Франсе, погрузили в трюм пакетбота.
– Сколько вам идти до Мадагаскара? – спросил Чулошников.
– Семь-восемь дней. Максимум полторы недели, – капитан Жорж весело клацнул челюстями, становясь похожим на доброго людоеда. Приятельски подмигнул Алеше, собравшемуся сопровождать Сиави, круглым черным глазом. Нет, определенно в капитане Жорже было что-то жульническое. – Все зависит от ветра, – добродушно добавил он, – и от шторма, естественно.
– И обратно столько же?
– И обратно столько же, – подтвердил капитан Жорж, полез в трюм проверить, как докеры-носильщики уложили груз. Главное, чтобы там не было перекоса ни в одну сторону, ни в другую. Иначе пакетбот перевернется.
– Будь с ним настороже, – предупредил Алешу Чулошников.
– Я это уже понял.
– Конечно, можно было бы поискать другого капитана, – Чулошников озадаченно почесал голову, – но… – он развел руки в стороны, – весь порт гребенкой проскребли – другого капитана нет. – Чулошников вздохнул. – Может, мне вместо тебя отправиться на Мадагаскар?
– Не надо, – протестующе мотнул головой Алеша, – я справлюсь.
Через несколько часов пакетбот, управляемый капитаном Жоржем, покинул Порт-Луи, двинулся вдоль острова на запад, держась береговой линии и аккуратно обходя коралловые рифы, потом резко свернул на север и пошел в открытый океан.
Команда пакетбота была небольшой – три человека, капитан Жорж – четвертый, управлял он своим хозяйством умело и, едва остров превратился в горбатую коврижку, неторопливо уплывающую за горизонт, приказал достать из трюма ящик и вскрыть его.
Бывалая команда ничуть не удивилась, увидев начинку ящика – очень усталого, осунувшегося, но главное – живого Сиави: видать, с подобными деликатными заданиями – перебросками людей с Иль-де-Франса на Мадагаскар матросам приходилось сталкиваться не раз. Недаром капитан Жорж походил на доброго людоеда или пирата, спешащего на помощь.
Шатаясь, Сиави подскребся к борту пакетбота и стал жадно глотать свежий морской воздух, – ему надо было прийти в себя.
Алеша встал рядом, вид его был сочувственным.
– Хватил ты лиха, Сиави, – произнес он по-русски.
Сиави не понял его, отдышавшись, он впился глазами в удаляющуюся горбушку острова Иль-де-Франс, лицо у него дернулось, сделалось несчастным и одновременно невидящим, губы тоже дернулись, будто он хотел заплакать.
Но Сиави не заплакал, сдержался.
Вскоре остров Иль-де-Франс исчез из глаз.
Позади остались шесть суток пути, когда пакетбот попал в шторм. Потемневшее небо располосовали жаркие рогатые молнии, огненные стрелы с сырым шипением и грохотом врезались в воду, рождали высокие буруны, Алеша никогда ранее не видел таких молний… На Камчатке тоже бывают грозы – страшные, заставляющие человека сжиматься в комок, но не такие, как здесь, совсем не такие. На Камчатке грозы проще.
Максимум, что они могут сделать – зажарить на бегу какую-нибудь упрямую козу, решившую пободаться с огнем или развалить от макушки до комля одинокое дерево. О том, чтобы грозы убивали людей, Алеша Устюжанинов не слышал. На Камчатке такого, наверное, никогда и не было.
Капитан Жорж воспринял грозу как должное, отчаянно крутил штурвал, ставя пакетбот носом к накатам валов, увертывался от жестких ударов волн, способных, как кувалдой, размолотить судно, опрокинуть его днищем вверх, проломить дырку в боку и в несколько секунд пустить под воду, капитан уходил от накатов удачно и орал что было силы – пел пиратские песни.
Он знал, что петь – пираты в этих местах водились, и было их немало, – хотя и меньше, чем на Карибах, но все равно не было клочка суши, где бы они не оставили своих меток – землю метили, как коты территорию. Вполне возможно, что капитан Жорж раньше был пиратом.
Часа через два молнии прекратили прокалывать океан огнем, но грохота от этого меньше не стало. Пакетбот высоко подбрасывало вверх, крутило на макушке крутого вала, будто невесомую щепку, затем из-под киля у него словно бы убирали тяжелую, как чугун пузырчатую воду, и судно со свистом неслось вниз, вело себя, как оторвавшийся обломок скалы, с грохотом падало на дно водяной пропасти и снова начинало движение вверх.
Чтобы неопытных пассажиров не слизнули волны, команда привязала Устюжанинова и Сиави веревками к мачтам. Алеша еще как-то держался, протирал глаза, залитые соленой водой, запоминал все, что видел, а Сиави, похоже, временами терял сознание, его рвало, выворачивало наизнанку, он плевался зеленой желчью, стонал, что-то выкрикивал… Все поглощал вязкий оглушающий грохот бури.
Вечером, уже в темноте, с мачты отодрало один из парусов, мокрая тяжелая ткань шлепнулась на Устюжанинова, придавила его, в следующее мгновение порыв ветра ухватил парус за порванный, с обрезанной веревкой угол и уволок в море.
Мачта задрожала, словно подрубленная, затрещала, но устояла – ветер не справился с ней. Устюжанинов, держась одной рукой за веревку, которой был привязан к мачте, другой перекрестился. Сердце у него колотилось надорванно, часто, наконец оно не выдержало, нырнуло в глотку и застряло там.
Он выплюнул изо рта воду.
Пакетбот накренился, лег на один борт – правый, показалось, что вся оснастка сейчас будет срезана вместе с людьми, Устюжанинов закричал неверяще, перекрестился снова, выдавил из озябшего рта «Отче наш иже еси на небесах», судно, словно бы отзываясь на молитву, затрещало и выпрямилось.
Сквозь грохот до него донеслась песня капитана Жоржа – опытный пират пробовал перекричать бурю… Через секунду песни опять не стало, она была смята грохотом ветра и волн.
Прошло еще немного времени и океан сделался черным – на него опустилась ночь. Мотать, трепать судно стало меньше – похоже, где-то недалеко находилась земля… Казалось бы, радоваться надо, но лицо капитана Жоржа сделалось суровым, скорбным и озабоченным, – пакетбот-то идет без парусов, подчиняясь только движению волн и океанскому течению. Если в ночи рядом окажутся скалы, он не сумеет отвернуть от них.
В маленькой рубке на крюке качался керосиновый фонарь – довольно умелое сооружение с плотно прилегающим стеклом… Если около фонаря на расстоянии вытянутой руки еще можно было что-то разглядеть, то чуть дальше – нет.
Никакую землю в этой темноте они не разглядят, даже если напрягаться будут все вместе – экипаж и пассажиры.
В черноте слабо посвечивали макушки движущихся волн, больше ничего не было видно – мерцала какая-то зеленоватая мыльная рябь, вспыхивала едва приметно и тут же растворялась в угольной черноте.
Сиави и Устюжанинов перебрались в тесную низенькую каюту, в которой стояла матросская двухярусная койка, Алеша определился наверху, Сиави внизу, небольшое квадратное оконце было плотно задраено.
С другой стороны, все равно ничего не было видно, смотри в это окошко – не смотри.
Беда пришла перед рассветом, когда черный плотный воздух начал немного сереть, в нем появились движущиеся пятна, словно чьи-то тени начали окружать пакетбот, а где-то высоко в небе, едва ли не над самой головой обозначилась длинная оранжевая полоса, похожая на раскаленный нож.
Несмотря на все признаки рассвета, видимость по-прежнему была нулевой.
Капитан Жорж, осунувшийся, растерявший свою привычную живость, продолжал стоять за штурвалом. Глаза у него слипались от усталости, он едва держался на ногах, но капитанский пост свой не бросал.
Хотя минут на пятнадцать, не больше, он все-таки отключился – просто руки у него ослабли, пальцы сделались вялыми и мягкими, словно лишились костей, штурвал, почувствовав слабину, сделал внезапный рывок в одну сторону, потом в другую, пакетбот поддела длинная неровная волна, развернула боком.
Капитан Жорж, грудью навалившись на штурвал и, свесив руки едва не до пола рубки, спал. Рот у него открылся, ухоженные завитые усы распрямились, а затем согнулись, словно горелая проволока. Изо рта вырывался храп. Капитан продолжал спать, он не ощущал опасности.
Судно развернуло еще раз. Впереди, за волной, послышался грохот, через мгновение стих, затем многослойный грохот раздался снова.
Через несколько минут из пространства выдвинулась мокрая, облепленная пеной скала, пакетбот приподняло и с размаху кинуло на угловатый, украшенный острым клыком выступ.
На этот выступ пакетбот и насадился корпусом. Рана была большой – в пролом мог легко пролезть человек. В следующий миг судно, поддетое второй волной, сорвалось с клыка, боком ухнуло в пропасть, образованную двумя валами, с треском ударилось о воду.
Из трюма вырвался большой воздушный пузырь, с пушечным грохотом лопнул, судно задрожало… Это была предсмертная дрожь.
Устюжанинов и Сиави даже не поняли, как очутились в воде, усталый сон их был глубоким, Алеша даже увидел то, что не ожидал увидеть – ему снилась Камчатка, высокий мягкий снег и длинная строчка следа, оставленного убегающим соболем. И вдруг все это исчезло…
Придя в себя, уже в воде, Устюжанинов успел с сожалением отметить, что уж лучше бы страшное бушующее море было сном, а Камчатка – явью, ан, нет…
Следом из нутра пакетбота выкинуло пустой ящик, приготовленный для какого-то – наверное, дорогого колониального, – товара, ящик шлепнулся в воду рядом с Алешей, Устюжанинов ухватился за него обеими руками, подтянул к себе. Уволочь его на дно вместе с ящиком будет труднее, чем без ящика, Устюжанинов сцепил зубы, помотал головой: он не сдастся, будет бороться за себя, за жизнь свою.
Неподалеку в воде приподнялась чья-то голова.
Кто это? Капитан Жорж? Кто-то из команды? Сиави?
Это был сын вождя племени бецимисарков.
– Сиа-ави! – что было силы прокричал Устюжанинов, замахал рукой. – Сиави!
Сиави махнул рукой ответно, прокричал что-то, но что именно, разобрать было невозможно.
– Ко мне, Сиави! – вновь что было силы прокричал Устюжанинов, но крика своего не услышал.
Невдалеке мелькнуло проломленное днище пакетбота, волна поволокла Устюжанинова и прилипшего к ящику с другой стороны Сиави вверх, пакетбот же понесся вниз, и Алеша больше его не увидел.
Несколько сильных длинных валов оттащили ящик с двумя людьми в сторону, коварная скала исчезла в темном сумраке. Грохот водяных ударов сделался слабее и волны, кажется, тоже сделались слабее. Устюжанинов, с трудом держась в воде, молился.
– Отче наш иже еси на небесах, да святится имя Твое, да будет воля Твоя…
Он знал, что молитва поможет обязательно, Всевышний молящегося человека не бросит, не оставит в беде, поможет спастись… Алеша не мог ни сейчас, ни потом определить, сколько же времени прошло до той счастливой минуты, когда валы, оттащив их с Сиави в сторону от гибельных камней, неожиданно вышвырнули на пологий, изрытый крабами песчаный берег. В России такие берега называют плесами, на морях плесов не бывает – только на реках. Женщины их еще называют ласковыми.
Откуда же ласковый плес взялся здесь, в далеком далеке от России?
Устюжанинов растянулся на песке, раскинул руки крестам. Через несколько минут пришел в себя. Сиави, скорчившись, прижав колени к подбородку, лежал неподалеку на боку, чуть далее, углубившись одним боком в песок, валялся ящик, помогший им спастись. Устюжанинов застонал, губы его зашевелились благодарно: молитва помогла, Спаситель не оставил в беде ни его, ни Сиави.
Ночная чернота у ступила место серому утреннему туману. В конце плеса виднелись камни, сползающие в воду. Ни пакетбота, ни капитана Жоржа, ни членов его команды не было видно.
Неужели они погибли? Во рту было солоно. Устюжанинов сплюнул. Кровь. Скорее всего разбил, разлохматил о край ящика губы. Он аккуратно ощупал их пальцами. Было больно.
– Сиави, ты жив? – хриплым голосом поинтересовался он.
Сиави шевельнулся в ответ, неловко приподнял руку, но не удержал ее, рука шлепнулась в песок и бецимисарк замер. Устюжанинов опустил голову и забылся.
Очнулся он оттого, что Сиави сидел рядом и гладил рукой его плечо. Устюжанинов открыл глаза.
– Спасибо тебе, – проговорил Сиави тихо, губы у него дрожали – бецимисарк едва сдерживал себя. Взгляд был благодарным. – Ты спас мне жизнь. Отец мой никогда не забудет этого.
Устюжанинов закрыл глаза и забылся снова. Когда он очнулся вторично, солнце было уже высоко, жаркие лучи его остро покалывали кожу, по песку бегали крабы – маленькие, юркие, совершенно невесомые, ныряли из одной норки в другую, грозно щелкали клешнявками, опасное дневное светило для них не было опасным, хотя все вокруг уже дымилось, – крабы на жару не обращали никакого внимания. В глубине плеса находилось небольшое возвышение, на котором росли две пальмы.
Сиави продолжал сидеть около Алеши. Увидев, что Устюжанинов очнулся, он сказал:
– Там, где пальмы, должны быть кокосы. – Увидев непонимающий взгляд, пояснил: – Это орехи… Большие орехи.
От недавней бури не осталось не то, чтобы следа, не осталось даже напоминания. Может быть, только ящик, быстро рассохшийся, пошедший трещинами, перекосившийся, о чем-то напоминал… Скоро он развалится совсем. Океан был безмятежен и чист, вода сияла голубизной и изумрудной зеленью, на волнах не было ни одного белого барашка.
От пакетбота тоже не осталось ничего, ни одной дощечки, ни одного гвоздя или куска ткани, оторванного от паруса, – не осталось даже тени, пакетбот лег на дно где-то недалеко отсюда, совсем недалеко.
Надо бы попытаться отыскать это место – вдруг кто-нибудь еще остался в живых? Может, кто-нибудь из команды, может, сам капитан Жорж?
Для поисков надо было иметь хотя бы лодку – не поплывешь же искать бедолаг на рассохшемся перекосившемся ящике.
– Вставай! – Сиави ухватил Устюжанинова за руку, потянул, поднимая его на ноги.
Устюжанинов зашевелился, вяло потряс головой.
– Куда мы?
– Для начала пойдем к пальмам, собьем кокосы. Подкрепимся.
– Пи-ить, – жалобно протянул Устюжанинов.
– Не только подкрепимся, но и напьемся, – Сиави разговаривал с ним, как с больным. – В орехах много сока.
– Какой сок может быть в орехах? Орехи – это орехи, – Устюжанинов еще никогда не пробовал кокосов, не знал, что это такое.
Он уперся руками в песок, приподнялся.
– Ты ничего себе не сломал? – обеспокоенно спросил Сиави.
Устюжанинов покачал головой отрицательно.
– Вроде бы нет.
– Если сломал, вылечиться хорошо и быстро можно только в моем племени, у нас очень толковые хомбиасы, лекари… лучшие на всем Мадагаскаре… Но до племени бецимисарков еще надо добраться. Это далеко.
– Мы на Мадагаскаре?
– На одном из мадагаскарских островов… Мадагаскар окружает много островов. Поднимайся! – Сиави вновь потянул Алешу за руки.
Кряхтя, постанывая, Алеша поднялся. Покачнулся – ноги плохо держали его.
– Ты совсем как старик, – Сиави не выдержал, засмеялся. Потом подсунулся под Устюжанинова, потащил его к пальмам, – шевели, шевели лапами…
Казалось, что две старые, с шершавыми, в лишаях и жестком волосе стволами пальмы находятся рядом, а находились они довольно далеко, Алеша выдохся, пока Сиави дотащил его до деревьев.
– Все, отдыхай, – объявил Сиави, усадил Устюжанинова в тень цветущего куста, приткнувшегося к пальмам. Цветы на кусте были одуванчиково-желтые, а листья – малиновые, широкие, со светлыми разводами по резным краям. Интересное растение, на Камчатке такие не водятся. – Отдыхай, – повторил Сиави, примерился к одной из пальм с длинным, выгнутым дугой стволом. Скомандовал сам себе: – Вперед!
Он полез по стволу ловко, быстро, цепляясь руками за пучки жестких прочных волос, за выступающие заусенцы, похожие на уши. Добравшись до макушки, распустившейся на манер ромашки, – в разные стороны, – открутил один орех, швырнул его вниз, потом открутил второй орех…
Таких орехов Устюжанинов никогда не видел – диковинные, крупные, величиной с детскую голову, – поросшие прямыми колючими волосами, тяжелые, – третий орех, который сбросил с дерева Сиави, отскочил в сторону и подкатился к самым ногам Устюжанинова.
Он подтянул орех к себе, ухватился за него пальцами, ощупал прическу – очень жесткая, как проволока или нити китового уса, который с Камчатки большими кипами отправляли в Санкт-Петербург, на нужды двора, а точнее – для тамошних модниц. Устюжанинов подержал орех на весу – камень, а не орех, тяжелый, зараза.
И главное – как и камень твердый, прочный. Чтобы расколоть такой, нужен лом или топор. С таким орехом даже молотком не справиться – не удастся.
Интересно, как его собирается вскрыть Сиави?
А Сиави, находясь на макушке пальмы, открутил еще три ореха, сбросил на песок и начал медленно, очень аккуратно спускаться. Спускаться было труднее, чем забираться на пальму. Сиави двигался осторожно, стараясь не делать лишних движений, не тереться о пальму телом – следы будут оставаться кровяные. Через несколько минут он спрыгнул на землю, отряхнул руки.
– А как ты собираешься расколоть орехи? – спросил Устюжанинов. – Тут топор нужен или пила.
– У нас в племени опытные воины срубают у ореха макушку одним ударом меча, – сказал Сиави. Признался огорченно: – Я так не умею.
– У нас меча нету.
– Нет, – подтвердил Сиави, – но это совсем не означает, что мы не попробуем его вскрыть… Мы обязательно вскроем орех. Камнями, – он огляделся, подыскивая что-нибудь подходящее.
Песок, всюду песок… Нежный, мелкий, как соль, насквозь прокаленный солнцем, обелесенный до прозрачности. Камней нет. Впрочем, вдалеке, метрах в ста пятидесяти от них, сквозь песок проступала узкая каменная гряда. Вот там, пожалуй, можно будет найти что-нибудь подходящее. Устюжанинов потыкал пальцем в гряду.
– Сиави!
Тот понимающе тряхнул головой и вскоре притащил с гряды три камня. Один – увесистый, лобастый, похожий на головку тарана, второй с острым концом, этакое зубило, насаженное на рукоятку молотка, третий – ни то, ни се, что-то среднее между первым и вторым камнями.
Уложив один орех в песчаное гнездо, Сиави соскоблил с его макушки волосы, обнажившуюся лысину пробил несколькими ударами остроносого камня, рядом с первым пробоем сделал второй, протянул орех Алеше:
– Пей!
Устюжанинов провел сухим жестким языком по горячим губам и приник к одному из отверстий. Внутри ореха был сок, много сока и вообще, может быть, даже весь орех состоял из теплой, как чай, очень приятной сладковатой жидкости. Алеша пил до тех пор, пока у него не начало останавливаться дыхание. Кажется, кокосовым соком он наполнился по самые ноздри.
Оторвался от ореха. Рядом сидел Сиави и тоже пил сок, – закрыв глаза и гулко булькая кадыком, дергающимся у него на шее, будто некий забавный механизм.
Напившись, откинулся назад, под цветущий куст с малиновыми листьями, орех пристроил рядом с собой, всадив его в песок. Спросил у Алеши:
– Может, расковырять еще один кокос?
– Не надо. Хватит того, что имеется.
– Сейчас будем есть.
– Где? Чего есть?
– Увидишь. Тебе понравится.
Большим камнем Сиави расколол свой орех, разделил на несколько частей, взял один обломок, оказавшийся внутри нежно-белым, впился зубами в этот нежный подбой.
Второй такой обломок протянул Устюжанинову.
– Делай, как я. Ешь белую мякоть. Это вкусно.
Устюжанинов попробовал. Мякоть кокосового ореха, – хотя и не такой мягкой, как она казалась на вид, – была вкусной, сытной.
– Надо же! – удивленно произнес Устюжанинов.
Воздух был прозрачным, струящимся, полным тепла, поднимающегося от воды. Казалось, еще немного, и океан начнет кипеть, как гигантская кастрюля.
В далеком далеке, в тающем воздухе горизонта была видна длинная, неровно подрагивающая полоса. Что это? Очередной зеленый остров, охраняющий Мадагаскар с моря, или сам Мадагаскар? Сиави в ответ на этот вопрос лишь озадаченно пожал плечами, да глянул на солнце, определяя, в каком углу неба оно находится.
Это было непросто – солнце растеклось уже по всему небу, от одного края горизонта до другого, зеленая океанская вода сделалась желтой, и небо от вольно разлившегося, затекшего во все углы светила тоже стало желтым. Но, видимо, Сиави нашел то, что искал, – как и ответ на вопрос, заданный ему Устюжаниновым.
– Это Мадагаскар, – сказал он, потыкав пальцем в сторону длинной, то появляющейся, то исчезающей в раскаленном мареве полоски земли.
– Мадагаскар, – машинально повторил за ним Алеша, покачал головой. Сколько до этой желанной полоски километров, верст, миль? Как они доберутся до нее? На этот вопрос не могли ответить ни Устюжанинов, ни Сиави.
– Придется строить плот, – сказал Сиави неуверенным голосом.
– А если без плота?
– Нас съедят акулы. Нужен плот, весла и несколько палок с остро заточенными концами.
– Палки зачем, Сиави?
– Отбиваться от акул. Тыкать им палками прямо в глаза. Другого пути нет. Акулы, когда вместе, могут съесть любой плот.
– Чтобы сколотить плот, Сиави, нам нужны топор и пила. Где мы их возьмем?
– Не знаю, – осевшим, почти унылым тоном произнес Сиави.
– И я не знаю. Но пропасть мы не должны… Не пропадем! – уверенно проговорил Устюжанинов. Наморщил лоб: – Для плота еще нужны гвозди.
– Без гвоздей мы сможем обойтись – бревна свяжем лианами.
Несмотря на бодрячество Устюжанинова, им было над чем задуматься.
Все разрешилось само собою. Через некоторое время они заметили лодку. Лодка шустро катила по океану, совершенно не боясь ни коварных волн, ни тугих валов, способных, как и камни, проломить днище всякому прочному судну, ни гроз со штормами.
У Устюжанинова, едва он увидел лодку, даже на сердце сделалось легче, на растрескавшихся губах появилась улыбка. А Сиави, наоборот, сделался озабоченным, лицо его посуровело.
– Ты чего? – спросил Устюжанинов. – Радоваться надо.
В ответ Сиави встревоженно покачал головой.
– Если это наши плывут, тогда можно радоваться, а если сафирубаи?
– Сафирубаи что, – враги?
– С сафирубаями мы воюем уже много лет. Сафирубаи – злые люди. Убили моего брата Ниави. И не просто убили… они жестоко издевались над ним, отрубили руки и ноги, а потом повесили. Мой отец никогда не простит этого сафирубаям.
– Но ты же был два года в плену на Мадагаскаре. Может быть, за это время твой отец уже замирился с сафирубаями.
– Нет, – Сиави отрицательно покачал головой, – такого быть не может. Отец никогда не пойдет на это. Когда я стану вождем племени, тоже на это не пойду.
В лодке плыли не сафирубаи и не бецимисарки – плыл капитан Жорж со своей командой – спаслись все. И слава Богу! Свернутые набок скулы и ободранные о камни бока – не в счет.
Когда пакетбот лег на бок, с его палубы слетела шлюпка и унеслась в океан, улетели также весла и часть снастей судна… Все имущество океан вернул, выбросил на берег, когда утихла буря.
Увидев на берегу двоих, нетерпеливо подпрыгивающих на песке, капитан Жорж понял, кто это и поспешно свернул к ним.
Лицо Сиави украсила улыбка – он тоже узнал капитана Жоржа.
На следующий день все пятеро уже находились на полоске земли, которую Сиави назвал Мадагаскаром. Это действительно был Мадагаскар. Вода у кромки берега была такой красной, что невольно резала взгляд.
– Здесь в море впадает большая река, – пояснил Сиави, – в реках у нас красная вода. Иногда даже очень красная.
– Почему так? – спросил Устюжанинов, подивился собственной тупости.
– Потому что земля у нас красная… Вода хоть и чистая, но тоже красная. Как кровь.
Дивиться яркой воде было некогда, нужно было пробираться в порт Дофин. Земли бецимисарков от Дофина находились очень недалеко – рукой подать, но вот до порта, который был одновременно и крепостью, надо было долго идти по враждебным землям сафирубаев. Вид у Сиави был мрачным.
– Другого выхода нет, – сказал капитан Жорж, – если бы была цела моя красавица посудина, мы бы быстро добрались по морю. Но пакетбот приказал… Вы сами знаете, что он приказал, – веселое лицо капитана Жоржа погасло, он развел руки в стороны.
– Капитан, если посуху, то в Дофине мы будем раньше, чем морем, – подал голос старый, с изрезанным шрамами лицом боцман. – Жалко только, мушкетов у нас нет… И сабель нет. Остается лишь вырезать дубины и проложить себе путь с их помощью.
– Ты прав, мудрый Фридрих, – сказал капитан Жорж, хлопнул боцмана по плечу ладонью. Боцман был остзейским немцем и звали его Фридрихом. Капитан иногда повышал его в «звании» и называл мудрым Фридрихом. Впрочем, случались и моменты, когда он звал его великим Фридрихом, но это было редко. Боцман капитаном был доволен и во всем поддакивал ему. – Главное, чтобы дубины не подвели, – сказал капитан. – Дней через пять доберемся до Дофина.
– Если, конечно, не встретим сафирубаев, – вставил Сиави.
– Тьфу, тьфу, – Алеша сплюнул через левое плечо, перекрестился. Сиави уже так много рассказал о сафирубаях, что к ним надо было относиться, как к нечистой силе.
Что ж, нужно было двигаться на север. Жаль, что у них нет карты, но капитан Жорж помнил ее – ведь столько раз склонялся над огромным потертым листом бумаги, испятнанном его собственными значками, с контурами океана и островов, что сосчитать это невозможно… Жаль только, что ему больше ведомы тайны здешней воды, чем тайны земли – впадины и опасные подводные скалы, рифы и течения, он знал все это, как собственные ладони, мог плавать с закрытыми глазами, а вот насчет суши… тут дело было сложнее.
Капитан Жорж нашел в кармане влажный лист бумаги, разложил его на горячем песке и начал вспоминать. Писать было нечем, но помог Сиави, в недалеких зарослях он отыскал кочку, на которой росли прямые, без сучков и заусенцев стебли, твердые, словно бы это было дерево, а не растение, сорвал один стебель и принес капитану.
– Попробуйте, – сказал, – это будет не хуже гусиного пера.
Сиави знал, – видел на Иль-де-Франсе, – что существуют птичьи перья, которыми пишут, и самое лучшее из этих перьев – гусиное.
– М-м-м, – неверяще промычал капитан Жорж, но тем не менее провел торцом стебля по бумаге. Стебель оставил жирный, хорошо различимый красноватый след. Надо же! Капитан восхищенно покачал головой. – Нам нужно по памяти нарисовать карту, а потом думать, в каком направлении двигаться. И главное, – как двигаться?
Подошвой сапога он разровнял участок песка под пальмой, потом немного примял его и прутиком обозначил абрис острова. Затем отошел в сторону, критически оглядел абрис, сделал пару поправок, привстал, оценивая работу, остался доволен. Сменил точку обзора – зашел с другой стороны и также придирчиво оглядел… Сделал еще пару поправок.
Похмыкав удовлетворенно, капитан Жорж перенес рисунок на бумагу. Получилась настоящая карта. Капитан нарисовал на неровном абрисе звездочку. Пояснил:
– Это порт Дофин. Мы же находимся здесь, – ткнул торцом прута в абрис довольно далеко от звездочки, – вот тут… – Затем обвел большой кусок карты. – А тут находятся люди, к которым, как я понял, нам никак нельзя попадаться…
– Сафирубаи, – подсказал Сиави.
– Вот-вот, они самые. А твое племя находится вот тут, – капитан Жорж ткнул прутом в участок, расположенный выше порта Дофин, подтвердил: – Да, тут! Сколько километров будет, не помнишь, Сиави?
– От нашего селения километров пятьдесят.
– Это немного, – ободряющим тоном произнес капитан Жорж. – Главное – добраться до порта, а там ноги сами до места донесут.
Веселый человек капитан Жорж, унывать не умеет, нос держит высоко, – как, собственно, и хвост. Сейчас главное – дубины вырезать поувесистее.
– Сафирубаи – очень меткие стрелки из лука, – заметил Сиави, – дубины могут не выручить.
– Поживем – увидим, – совершенно по-русски, на камчатский манер заметил капитан Жоож. – А пока – в путь.
…Они шли уже третьи сутки, шли аккуратно, прислушиваясь к лесу, ко всем шорохам и птичьим вскрикам, создающимся в его темной глуби, останавливаясь и пережидая время, если чувствовали опасность.
Но гораздо страшнее крокодилов, змей и ягуаров были комары – красновато-желтые летающие животные с противными голосами и стальными жалами, прокусывающими насквозь не только живую кожу, но и сапоги.
На что уж Камчатка считается злым комариным краем, где летающие тонкоголосые звери не раз до смерти заедали собак и молодых оленей, но таких комаров там не было – не вывели, вот ведь как… Не получилось, видать, у тех, кто этим делом занимался.
С двойной осторожностью наши герои шли по земле сафирубаев.
Ночевали на лесных папоротниковых полянах, папоротник в племени Сиваи считался растением, защищающим человека, да и змей в папоротниковых зарослях было меньше, чем в других местах, огонь не разводили – капитан Жорж не разрешал.
– Горящий костер – это не страшно, он в двадцати шагах уже не виден, а вот дым выдает человека за несколько миль, понятно, господа? – капитан Жорж делал страшное лицо, что никак не вязалось с его веселым, хотя и разбойным обликом.
Алеша был с ним согласен. В тундре, например, дым костра можно увидеть за полтора десятка верст, поэтому человек, который не хочет, чтобы его засекли, никогда не разводит костров.
По их подсчетам, до порта Дофин оставалось идти километров десять, не больше, когда перед ними неожиданно возникли сразу несколько человек, по-европейски одетых, с мушкетами в руках.
Но это были не европейцы. Кожа на их лицах была очень смуглой, почти коричневой, двое из них были черными – явно африканского происхождения.
Но мушкеты… Мушкеты у местных племен быть никак не могли.
Стоящий впереди незнакомцев седобородый мужчина с густой вьющейся шевелюрой, перетянутой, как у мастерового человека, кожаным ремешком, сделал три шага вперед, выдернул у капитана Жоржа из-за пояса пистолет, следом выдернул нож. Поинтересовался:
– Кто такие? Что вы тут делаете?
Капитан Жорж поправил на себе пояс, но ответить не успел, седобородый сделал повелительный жест рукой.
– Пистолеты вытащить из-за пояса и положить к ногам… Всем! Ножи – тоже. Не медлить! – Он подал знак спутникам, мужчины, стоявшие за его спиной, подняли мушкеты.
У матросов было два пистолета, а также у всех, в том числе, у Сиави и Устюжанинова – ножи.
– Живее! – рявкнул седобородый.
Сиави наклонился, положил к своим ногам нож и выдвинулся вперед. Заросли слева и справа тем временем раздвинулись и из них выступило еще полтора десятка человек. У всех было оружие. Сиави что-то сказал седобородому, и тот недоверчиво посмотрел на него. Сиави произнес еще несколько фраз, тон их был командным. И вообще он вел себя так, будто был королем Мадагаскара или человеком, находящимся с ним на одной ступеньке.
Наконец седобородый махнул рукой и мужчины опустили мушкеты – видимо, Сиави сообщил ему что-то важное.
Пленников незнакомцы связали одной веревкой – выстроили цепочкой и нанизали на веревку, как рыбу на кукан, а чтобы никто не мог убежать, на шеи накинули петли. Сиави оставили вне веревки – возможно, седобородый боялся гнева его отца. Ведь Мадагаскар велик только на карте, на деле же он не такой большой, племена хоть и враждуют друг с другом, швыряются копьями и стрелами, но тем не менее умудряются объединиться по-соседски, если приходит беда. Это странное племя, разговаривающее на ломаном французском языке, живет не по своим собственным законам, а по законам Мадагаскара. Как и все, в общем.
– Поторапливаемся! – прикрикнул на своих спутников седобородый.
Осторожно двинулись дальше – помнили, что это земля сафирубаев.
– Кто это? – спросил Алеша у шагавшего рядом Сиави.
– Люди из поселения буканьеров. У них своя территория, свои законы. Они ни с кем не воюют, но их все боятся – буканьеры очень хорошо вооружены. Видишь, какие у них железные копья?
«Не копья, а ружья», – хотел было поправить его Алеша, но смолчал. Шли они по густому душному лесу, где солнце, путаясь наверху, в макушках деревьев, до низа, до земли не доставало.
– Железные копья летят очень далеко, – сказал Сиави, – деревянные копья так не летают, поэтому с буканьерами никто не может воевать.
– А сами… эти самые… буканьеры, они злые? – придерживая одной рукой веревку, обвившую его шею, спросил Алеша. Детский вопрос.
Сиави на ходу приподнял плечи.
– Да вроде бы нет. Не слышал, чтобы они кого-нибудь обижали. Племя буканьеров на Мадагаскаре еще называли зана-малата. К слову, такие племена возникли на многих островах не только в Индийском океане, а и в Тихом, на Карибском и Красном морях.
Буканьеры, они же – флибустьеры (от французского слова, означавшего «свободный разбойник» или что-то в этом духе), корсары, каперы (голландское изобретение), пираты, приватиры (так пиратов звали в Англии).
На Мадагаскар буканьеры пришли издалека – с Антильских островов: когда жить там стало невмоготу – пиратов вешали, топили, жгли на кострах, рубили им руки и головы, – буканьеры переселились на Мадагаскар и со своим прошлым завязали. Так что не племя это было, а нечто другое, говоря современным языком, – «особое социальное образование».
Само слово «буканьер» тоже было, скажем так, несколько странным, взятым из ниоткуда, с потолка каюты какого-нибудь пиратского брига, но те, кто бывал на просторах Карибского моря, знают, откуда все-таки ноги растут – из индейского слова «букана». Букана – это особый способ коптить мясо, чтобы оно было вкусным и долго хранилось, индейцами был изобретен этот чудный способ.
А пираты просто-напросто переняли его – очень полюбили бизонье мясо, закопченное способом букана.
– Твой отец, он что… дружит с этими буканьерами или воюет? – спросил Устюжанинов у Сиави.
– Не воюет, но и особенно не дружит. Просто старается жить мирно.
Через несколько часов группа достигла деревни, расположившейся на плоском речном берегу. Вода в реке была красная, неслась к океану стремительно – голова могла закружиться от ее скорости, на берегу были сооружены причалы для лодок. Деревня была большая – примерно семь десятков домов, которые и домами-то нельзя было назвать, скорее, это были тропические хижины, но сколочены хижины были прочно, люди, которые возводили их, знали толк в плотницком деле, над дверями некоторых домов висели католические распятия.
Увидев такое распятие, Устюжанинов поспешно перекрестился.
Берег с трех сторон омывала река, на красной, хорошо утрамбованной земле, защищая дома, стояли две пушки на подвижных лафетах, скорее всего, это были корабельные пушки, около них дежурил смуглый длинноволосый человек, готовый в любую минуту поднять тревогу.
Чувствовалось, что народ здешний знает, как надо воевать: пушка покрупнее калибром стояла и в конце узкого зеленого берега, на перешейке, угрюмо поглядывала коротким тяжелым стволом на лес. У этой пушки также стоял часовой. Деревней явно руководил человек с воинскими наклонностями.
За пушкой возвышался двойной бамбуковый забор, в который были врезаны ворота. Сиави с любопытством огляделся – в этой деревне он никогда не был, – на лице его отсутствовал страх, и Алеша, увидев это, успокоился, опасный холодок, возникший у него внутри, пропал.
Один дом в деревне был больше других, в окна были вставлены стекла, которые в русских деревнях были великой редкостью, увидеть их можно было только в барских домах, – пленников привели к этому большому дому, и седобородый предводитель конвоя скрылся за дверью.
Стали ждать, что будет дальше.
Прошло минут пятнадцать. Площадка перед домом обдувалась ветром, тут не было ни мух, ни комаров, все сносили в сторону потоки воздуха. Наконец из дома вышел седобородый, встал рядом с пленниками. Стоял молча, ничего не говорил. Спутники седобородого – послушный конвой – тоже молчали.
Дверь дома отворилась, на пороге показался широкогрудый мускулистый человек в тонкой рубахе, одетой на голое тело, в мягкой обуви, прошитой кожаными ремешками. Оглядел внимательно пленников. Взгляд у него был цепким. Устюжанинов ощутил, что у него неожиданно начало покалывать кожу на лбу и щеках. Судя по всему, это был староста деревни зана-малата, предводитель, старшой, который и людьми командовал, и пушками. Это было видно по выражению лиц конвоя.
– Снимите с них веревку, – приказал старшой, – чего вы связали пленников, как обезьян?
Седобородый первым кинулся выполнять приказ. Когда пленники были развязаны, старшой заговорил неторопливо, тщательно подбирая французские слова.
– Расскажите, кто вы и что вы? И какая нечистая сила вас сюда занесла?
Вперед вышел капитан Жорж, помял пальцами натертую шею, красную от веревки, поморщился: было больно.
– Мы честные моряки, – начал было он, но старшой перебил его:
– За сто метров видно, что вы не работорговцы, те заявляются целыми толпами, со сворами собак, ловят мальгашей, чтобы продать их в рабство. И увозят, и продают, – предводитель с силой хлопнул себя по кожаной брючине.
Собравшиеся заколыхались одобрительно, запереступали с ноги на ногу, поддержали речь тихим гулом.
– Продолжай! – велел предводитель капитану Жоржу.
– Повторяю, мы честные моряки, – напористо произнес капитан, – и работорговлей никогда не занимались, клянусь перед распятием, – он перекрестился на распятие, искусно вырезанное из незнакомого черного дерева и прибитое к стенке перед входом в большой дом, – прибыли сюда с целью совсем иной – на Иль-де-Франсе выручили из рабства сына короля бецимисарков и привезли его на Мадагаскар.
– Специально привезли? Только за этим приплыли сюда? – настороженно поинтересовался старшой.
– Нет, мы привезли еще ткани и водку, чтобы обменять на золото и серебро, но попали в шторм, и корабль наш разбило в щепки возле мыса Святой Марии.
Предводитель перевел взгляд на Сиваи:
– Это правда?
Сиваи наклонил голову.
– Да, это правда.
– Дальше мы посуху двинулись к порту Дофин, – продолжил капитан Жорж, – шли осторожно, поскольку земли здешние принадлежат племени, сафирубаев, враждующих с бецимисарками, и наткнулись на ваших людей. Вот и все.
– Сиави, расскажи, что знаешь ты, – попросил предводитель.
В кустах неподалеку в эту минуту начали драться попугаи, один зеленый, другой желтый с синим, очень яркий, оба большие, откормленные, будто вороны перед зимой, клювастые, – разорались так, что не стало слышно ни Сиави, ни предводителя буканьеров, ни капитана Жоржа.
– Уймите вы их, – с досадою поморщился старшой, – разгавкались, будто собаки.
Два человека с палками кинулись к кустам утихомиривать сварливых птиц. Через полминуты сделалось тихо.
Сиави, неожиданно побледнев лицом – ему не хотелось возвращаться в прошлое, – рассказал, как в Таможенном квартале за горсть фиников его чуть не убил надсмотрщик, и если бы не человек, присутствующий здесь, по имени Алиоша, наверное, убил бы, затем поведал о печальных событиях последующих недель и дней.
Было тихо. Люди внимательно слушали Сиави. Закончив рассказ, Сиави умолк. Рассказ его был убедительным.
– А теперь ты расскажи, откуда приехал на Мадагаскар и что тебя заставило спасать сына вождя бецимисарков? – обратился старшой к Устюжанинову.
Страха у Алеши не было, он верил в то, что вся эта история закончится по-доброму, начал издалека, с Камчатки, с тамошних снегов и морозов, перешел к ссыльным, к восстанию, потом рассказал, как они плыли в Макао, из Макао на Иль-де-Франс, о Беневском, о том, что в долине Памплимус осталась небольшая колония русских…
Когда он закончил, старшой некоторое время молчал, потом, с пистолетным звуком прихлопнув на шее здоровенного кровососа, приказал:
– Накормите их!
К нему придвинулся седобородый конвоир-начальник, приведший пленников в деревню зана-малата:
– А дальше что с ними делать?
– Дальше – решим, – сказал ему старшой и, повернувшись круто, ушел в дом.
Накормили изголодавшихся пленников от души, Алеша давно не ел так плотно и вкусно, живот у него сделался тугим, как барабан, после обеда потянуло в сон, пленников отвели в сарай, застеленный сухой пышной травой и приказали:
– Отдыхайте!
Дверь заперли на замок. Капитан Жорж озадаченно поскреб пальцами затылок:
– Давно я не попадал в такие переделки, – он потянулся с хрустом, клацнул челюстями и повалился на траву, издав блаженный стон. Вскоре захрапел – нервы у капитана были железные.
Команда пакетбота последовала примеру шефа.
Всем дали возможность уснуть, а Алеше Устюжанинову нет, – звякнул замок на двери и в проем всунулся мулат с закрученными в косичку сальными волосами. Встретившись глазами с Алешей, он проговорил на смеси французского с португальским, подкрепляя свои слова жестами:
– Иди к Джону Плантену, он тебя зовет.
Алеша не сразу понял, что главного человека в этой деревне, предводителя зовут Джоном Плантеном. Когда понял, проговорил с достоинством, – одновременно удивившись, откуда это достоинство у него взялось:
– Подождите три минуты.
Мулат отступил за дверь.
Предводитель деревни сидел в большой, увешанной тотемными знаками, искусно вырезанными из разных пород дерева, комнате и читал книгу. На полу был расстелен плотный ковер с геометрическими изображениями, рисунок был крупный, африканский, такие ковры Алеша видел на Иль-де-Франсе. На скрещенных ногах предводителя красовались легкие домашние башмаки, сшитые из тонкой козлиной кожи, с загнутыми вверх острыми носами.
Увидев Устюжанинова, предводитель отложил книгу в сторону и проговорил с неожиданно виноватой улыбкой:
– Вот, пытаюсь найти что-нибудь о Камчатке и прочесть… Нигде ничего нет.
Устюжанинов развел руки в стороны.
– Если бы я мог помочь – с удовольствием помог бы. Но…
– Садись! – Плантен указал пальцем на место напротив себя, где лежала мягкая, набитая птичьим пухом подушка.
Устюжанинов неторопливо уселся на подушку.
– Расскажи мне о твоей земле подробнее, – попросил Плантен. – И потом, неужели земля может иметь белый цвет, а? Такой земля не бывает ведь, – только камень. Да и земля не может превращаться в воду, как ты рассказывал. Это означает, что на Камчатке царствуют колдуны, вы находились в их власти, поэтому подняли мятеж и бежали…
– Не земля у нас белая, а снег, – начал терпеливо втолковывать Устюжанинов Плантену. – Снег белый.
– А чем снег отличается от земли? – спросил Плантен.
– Тем, что он, как дождь, падает с неба.
Плантен неверяще сощурился.
– Откуда он там берется? На небе нет земли.
– Земли нет, но снег есть.
– Не понимаю, – Плантен покрутил головой, он все больше и больше не верил Устюжанинову, Алешин рассказ не укладывался в голове потомка корсаров – предводителя племени буканьеров, в котором и белые люди были, и черные, и желтые, и мулаты с креолами. И вообще представители неведомого народа, с крупными лошадиными зубами, кривыми волосатыми ногами и маленькими раскосыми глазками – все были, словом, только камчадалов да коряков не было.
Минут сорок Устюжанинов рассказывал Плантену о своей родной земле, о том, что там происходит, о соболях и медведях, о ледовых панцирях, покрывающих на зиму тамошние моря, и рождественском снеге, мягком, как пух. Плантен больше не перебивал его, только слушал да изредка кивал.
Когда Алеша начал рассказывать о китах, подплывающих к камчатским берегам, Плантен, пораженный их размерами, не выдержал.
– Это же рыбы размером с дом! – воскликнул он удивленно. – Разве дом может плавать?
Устюжанинов с важным видом подтвердил:
– Да. Кит величиной с дом может очень хорошо плавать. И даже нырять.
Плантен поцецекал языком и некоторое время сидел молча, уставившись взглядом в тотемные доски. Над тотемными досками висела изящная антилопья головка с длинными, скрученными в спираль рогами – что-то он там видел, а вот что именно, понять было невозможно. Устюжанинов тоже ничего не говорил, молчал.
Вечером Плантен в честь гостей решил зажарить на вертеле быка-зебу. Зебу – быки и коровы, – существа медлительные, добродушные, с гладкой блестящей шкурой и доверчивыми мордами – ну будто безропотные буренки из какого-нибудь казачьего поселения, охраняющего лениво курящийся вулкан, – Устюжанинов видел зебу впервые, животные ему очень понравились.
Праздник получился красочным, шумным, жители деревни нарядились в лучшие свои одежды, на некоторых красовались пиратские костюмы, бывшие пираты приветствуя друг друга, приподнимали роскошные шляпы, украшенные серебряными черепами и скалили зубы. Били барабаны и играли дудочки. Праздник Устюжрнинову пришелся по душе. На Камчатке таких праздников не было никогда.
Сиави тоже веселился, и его можно было понять: вырвался из рабства, остался жив, обрел нового друга, впереди у него была встреча с отцом. Лицо у Сиави сияло. Впрочем, иногда он неожиданно замирал, глаза у него делались встревоженными, светлыми, в них возникал испуг – он боялся вновь очутиться в своем прошлом, голова непроизвольно, сама по себе вжималась в плечи, но потом испуг проходил и Сиави вновь преображался.
Когда вокруг жареного быка буканьеры затеяли некий воинственный танец и, размахивая своими кривыми саблями, стали горланить песню и одновременно молотить в бубен, Сиави наклонился к Устюжанинову, спросил озабоченно:
– Отчего у тебя такой печальный вид? Скучаешь по своей Камчатке?
Устюжанинов не стал скрывать, вздохнул сыро – в горле у него возникли слезы:
– Очень скучаю.
Сиави сочувственно покачал головой:
– Понимаю тебя, – потянулся к куску мяса, лежащему на широком глиняном блюде, подцепил его кончиком ножа. – Завтра утром мы поплывем в порт Дофин, а потом дальше – во владения моего отца, на землю, где живут бецимисарки.
Вообще-то для Устюжанинова это была приятная новость – ему надо было побыстрее очутиться на Иль-де-Франсе, среди своих, поесть вкусных русских лепешек, которые мастерски печет Агафья Андреанова и слабосольной макрели, приготовленной ее мужем, сыграть в шахматы при свете вечерней коптилки и услышать русскую речь.
– Значит, завтра утром? Я ничего не слышал об этом, – Устюжанинов приподнял одно плечо, хотел что-то сказать, но смолчал – слова были лишние.
– Это совершенно точно, Алиоша.
Сиави знал, что говорил. Утром была готова большая парусная лодка, в рундук, встроенный в корму, тщательно уложили провиант – копченое мясо, не портящееся на жаре, копченый козий сыр, лепешки, фрукты – два десятка крупных банановых гроздей, ананасы, манго, недозрелые авокадо – с расчетом, что они дозреют в пути, большие пресные яблоки, сильно отличающиеся от камчатских – на Камчатке яблоки тоже росли, невеликие, коричневые, очень кислые, их можно было только крошить в чай – для аромата, а с мадагаскарскими чай можно было пить – такие сладкие они были. В рундук поставили и несколько бутылей с питьевой водой.
Плантен разместил по местам и гостей и своих людей, осмотрел всех строгим оком и махнул разрешающе рукой:
– Можно плыть!
После этих слов перекрестился, – как заметил Устюжанинов, по-католически, слева направо.
За пояс у Плантена были засунуты двухствольные пистолеты, оба заряженные, Устюжанинов глянул на них и невольно поежился.
Вода за бортом лодки была оранжево-красной, необычной – ну ровно разведенная глина, деревня, которая только что находилась на виду, каждый домик был словно на ладони, исчезла: ее накрыл лес и будто бы проглотил, по обоим берегам реки тянулись густые, подрагивающие в утреннем мареве деревья.
Неожиданно из-за деревьев потянуло свежим ветром, воздух всколыхнулся, Устюжанинов понял – там океан и находится он не так уж и далеко.
До порта Дофин, расположенного на берегу залива Толонгар, надо было пройти миль двадцать пять (если по суше, то – ближе), затем нужно было плыть по воде до мыса Гасти, который находился уже на земле бецимисарков, там, прямо на берегу стояла их деревня Таматав…
– Поплыли со мною до Таматава, – предложил Сиави Устюжанинову, обхватил его рукой за плечо. – Поплыли, Алиоша!
Устюжанинов медленно покачал головой.
– Не могу, Сиави, понимаешь – не могу. Но мы еще встретимся, – он взял в свою руку руку Сиави, сжал ее, – обязательно встретимся. А сейчас я должен плыть на Иль-де-Франс… Вдруг уже вернулся Беневский и мои товарищи решили отправиться на Формозу без меня? Ты понимаешь, чем я рискую, Сиави?
– Понимаю, – губы у Сиави огорченно дрогнули. – Понимаю, – повторил он, пошарил у себя под рубахой и достал небольшой красновато-желтый, похожий на кусочек вечернего солнца камешек. Невеликий камень этот был хорошо отполирован, блестел, словно бы был покрыт дорогим лаком. Сиави протянул камень Устюжанинову. – Держи!
– Что это?
– Уди-цара – счастливый камень, – сказал Сиави. Добавил: – Амулет.
Камень был тщательно оглажен, в середине красовалось изящное изображение птицы, очень похожей на русского сокола, о чем Устюжанинов и сообщил Сиави.
– А это и есть сокол, только мы называем его не так, зовем – вурума-хери. Птица вурума-хери считается у бецимисарков святой, она – защитница нашего народа. Каждый бецимисарк еще в малом возрасте получает такой камень и носит его с собою всю жизнь. После смерти уди-цара уходит с владельцем в могилу и охраняет его в другой жизни. Береги этот камень, Алиоша, он может тебе пригодиться.
– Спасибо, – растроганно проговорил Устюжанинов, поцеловал изображение птицы.
Впереди с берега в воду, вспенив яркое течение, сорвалось что-то тяжелое, похожее на длинное гнилое бревно. Плантен вытянул голову, вгляделся в бревно, закачавшееся в воде, и вытащил из-за пояса пистолет. С приглушенным щелканьем взвел курок.
– Ну-у-у, – протянул он спокойно, – подплывай-ка ближе.
Бревно ожило, торопливо развернулось и направилось к лодке, оставляя на воде хорошо заметный след.
– Что это? – встревожено вглядываясь в неожиданно ожившее бревно, спросил Устюжанинов.
– Крокодил.
– Никогда не видел крокодилов.
– Может откусить ногу не только у человека – даже у лошади.
Устюжанинов невольно присвистнул, вгляделся в неторопливо плывущее бревно.
– А у быка-зебу?
– У зебу тем более.
Крокодил направлялся к лодке бесстрашно – полагал зверь, что вся двуногая еда, которую он хорошо видит, принадлежит теперь ему.
А еды тут хватит не только на завтрак, но и на обед с ужином. И, может быть, еще и на следующий день останется.
Из красной пенистой воды проступила темная ребристая спина, похожая на рубель, которым камчатские бабы разглаживают белье, намотанное на скалку, на длинной морде светились пугающими огнями два фиолетовых глаза. Из глаз, кажется, вытекал жидкий огонь, тонкими светящимися струйками скользил по толстой коже и растворялся в воде. Устюжанинов ощутил, как по спине у него пополз неприятный озноб.
Когда крокодил находился метрах в трех от лодки, мог развернуться и треснуть по борту хвостом, Плантен выстрелил.
Целил он в голову чудовища, пуля всадилась крокодилу прямо в глаз, смачно чавкнула, крокодил сдавленно харкнул, словно бы наткнулся на раскаленный железный стержень, пасть у него распахнулась, как ворота, верхняя челюсть взлетела высоко, стали видны зубы – кривоватые, страшные, расположенные в несколько рядов.
Алеша не выдержал, съежился, холодным ознобом теперь пробило все его тело, будто он попал под охлест ледяной северной воды, хотя со лба его лился горячий пот.
Крокодил оглушающе громко, словно саданул из пушки, хлопнул челюстью, он, как разумел Алеша, должен был пойти на дно красной реки, но гигант на дно реки не пошел, упрямо держался на плаву и уже находился совсем рядом, под бортом лодки… Устюжанинов невольно съежился.
Плантен выстрелил из второго ствола. Стрелял он метко, наверное, мог попасть в муху, приклеивающуюся к стенке, угодил крокодилу во второй глаз, тот снова устрашающе хлопнул пастью, но сделал это вяло, словно бы нехотя, быстро ослаб и перевернулся вверх брюхом.
Гладкий кожистый живот у него был белым, с зеленоватым оттенком, нежным, как у ящерицы.
Некоторое время крокодил, которого Плантен вторым выстрелом уложил намертво, плыл рядом, покачивая скрюченными обвядшими лапами, потом отстал.
Прошло еще немного времени и жгучая красная вода за бортом лодки сменилась голубовато-синей – впереди был океан.
В океане Алеше Устюжанинову было привычнее, чем в реке. Да и крокодилы здесь не водились. Он улыбнулся раскованно, даже радостно, Плантен заметил эту улыбку и потрепал Устюжаниова по голове рукой, взъерошил светлые льняные волосы.
Светлые Алешины волосы привлекали внимание едва ли не всех, с кем он общался, народ в южных краях водился почти без исключения черноволосый, темнобровый, кареглазый, хотя у французов и голландцев довольно часто попадались серые либо голубые глаза, у тех светлоголовых и сероглазых европейцев, которые оседали здесь, очень скоро появлялись темноголовые дети, исключений не было… Местная кровь была сильнее европейской, приходившей сюда со стороны.
Мальгаши при виде Устюжанинова даже останавливались изумленно, а некоторые даже хлопались на колени, считая, что видят не человека, а живого бога.
Тем временем Плантен поднял двойной парус, в прочных полотнищах, прошитых вечным сизалевым шпагатом, игриво залопотал ветер и лодка двинулась быстрее. Алеша не выдержал, привстал, затянулся соленым, пахнущим преющими водорослями воздухом.
Засек, что справа к лодке пристроилась акула. Акула шла чуть ли не по поверхности океана, высоко вздыбив твердый косой плавник – ждала, зараза, когда люди бросят ей какую-нибудь подачку. Вскоре такая же акула появилась и слева, также пристроилась к лодке. Теперь не отстанут до самого порта.
Увидев акул, Плантен поспешно выдернул из-за пояса разряженный пистолет и, присев на лавку, которую моряки почему-то упорно называют банкой, вытащил шомпол, навернул на него плотную головку, насыпал в оба ствола пороха, затем загнал пыжи.
Работал он ловко, стремительно, через несколько минут пистолет был заряжен.
– Теперь можно и с акулами воевать, – сказал Плантен.
Попутный ветер был крепок, тугие паруса даже трещали от напора. Прошло еще немного времени и количество акул, следовавших за лодкой, увеличилось вдвое, теперь их было четыре.
– Хотите нами позавтракать? – довольно добродушно поинтересовался Плантен. – Вот вам! – он вскинул руку, увенчанную красноречивой фигурой – добротной фигой – вот! – И на всякий случай коснулся пальцами рукоятей пистолетов.
Они плыли до вечера, вечером пристали к берегу, там разожгли костер и подкрепились вяленым мясом, еду запили пальмовой водкой, налитой в калебас – высохший плод тыквенного дерева, имеющий бутылочное горло, которое было удобно затыкать пробкой.
Калебасы у буканьеров, как заметил Устюжанинов, были в ходу самые разные, в том числе очень большие и очень маленькие – любых размеров, тыквенные деревья росли по всему острову, поэтому, надо полагать, проблема водочной посуды на Мадагаскаре была решена на целый век вперед.
Плантен пил водку с удовольствием, капитан Жорж с командой не отставал от него, даже Сиави и тот пару раз с удовольствием поднес ко рту бутылку-тыкву, очень скоро все захмелели, подняли шум, ожесточенно шлепали по телу, уничтожая комаров – ну будто из пистолетов палили.
Все веселились, а Устюжанинову было грустно: скоро он расстанется с Сиави. Он сидел у самого костра, близко к огню и вглядывался в извивающиеся жаркие языки пламени, танец пламени был завораживающ, манил к себе, призывал самому стать огнем, но этого делать было нельзя.
Наконец Плантен вытряс из калебаса на ладонь несколько последних капель водки, слизнул их языком и проговорил громко:
– Финита!
От этого слова даже костер сделался ниже, а над головами людей, не боясь дыма, повисли мелкие, очень кусачие комары.
Спали не на земле, а в лодке, на воде, накрывшись плотными одеялами.
Чтобы не допекали комары, Устюжанинов сделал курник, – как на Камчатке, в тундре, – взял глубокую глиняную чашку, накидал в нее деревяшек, гнилушек, щепок, вниз, на дно положил углей из костра, дым поднялся такой, что всех комаров в округе как ветром сдуло, ни одного пискуна не осталось.
– Надо же, такая простая вещь, а как здорово действует, – сказал Плантен, аккуратно приподняв чашку и подержав ее на весу. – Ни одного комара над головой… Надо же! Правильно считается: сто лет живи – сто лет учись! Й-йэх! – он завернулся в одеяло и склонил голову на дно лодки. Его примеру последовали остальные.
Утром двинулись дальше.
Небо было безоблачным, бездонным, оранжевым от солнца, спозаранку взметнувшимся над океаном.
Недалеко от берега резвились летучие рыбы, целая стая, – со слепящей скоростью, дорого сверкая чешуей, они выскакивали из воды и неслись над мелкой рябью волн, открытыми ртами ловили лучики солнца и, пролетев добрую сотню метров, вновь шлепались в воду.
Устюжанинов невольно залюбовался этой картиной.
Ветер, как и вчера, был попутный, хотя и не такой резвый. Вчера они плыли быстрее.
В полдень Плантен пристал к заросшей густым кустарником скале, под которой располагалась небольшая, очень уютная бухта с теплой голубой водой.
Сквозь голубизну проглядывали мрачные чернильные пятна – в бухте было много морских ежей, они грелись на просвечивающем сквозь воду солнце, распушив свои длинные острые иглы.
Наступить на ежа было опасно – потом не менее месяца придется скакать на одной ноге: иглы, застряв в коже, обламывались под корешок и пока обломки не рассасывались в теле, нельзя было передвигаться без костыля. И боль была сильная, Устюжанинов знал это по себе: однажды наступил на ежа. Ловил рыбу на Иль-де-Франсе и на мелкотье неосторожно спрыгнул с лодки в невинную голубую воду…
Плантен подтащил лодку за веревку к узкой береговой кромке, огибающей скалу.
– Ну все, друзья, – проговорил он негромко и даже печально, ровный твердый голос у него даже дрогнул, – с вами хорошо, но… прощаться надо – пришла пора, – он поднял голову, осмотрел скалу, к которой они пристали, махнул рукой, – за этой горой – порт Дофин, а мне… мне на глаза здешнему начальству лучше не показываться. Мы с Сиави поплывем дальше, – он оглядел всех и шагнул к Устюжанинову. Обнялся с ним, похлопал по спине. – Прощай, дружок… Мы еще увидимся, чует мое сердце. Спасибо за интересный рассказ о твоей родине.
Устюжанинов ощутил, что на глаза его вот-вот навернутся слезы – не ожидал, что так раскиснет. Благодарно покивал. Губы у него подрагивали мелко, в горле сидела какая-то теплая каша. Плантен перешел к капитану Жоржу, а к Алеше подступил Сиави. Он тоже был расстроен, и губы у него так же, как у Устюжанинова, подрагивали.
– Помни об амулете, который я тебе подарил. Если будет плохо, птица вурума-хери тебе поможет.
Устюжанинов растроганно кивнул в ответ.
Через несколько минут Плантен запрыгнул в лодку и длинным веслом-правилом оттолкнулся от берега. Действовал он энергично, ловко, ему помогли два гребца, взятые из деревни, Плантен поднял парус, и лодка проворно заскользила по голубой поверхности океана. С берега было видно, как к ней пристроилась крупная, с высоко вздернутым спинным плавником акула.
За скалой на берегу обозначилась тропка, капитан Жорж решительно ступил на нее и взмахнул рукой:
– За мной!
Через полтора часа тропка привела наших героев к пикету, обложенному камнями, из камней выглядывал толстенный ствол пушки с прислоненным к нему банником – гигантским шомполом. Пушкаря подле пушки не было.
– Значит, пройдем без бумаг и уплаты пошлины, – довольно хохотнул капитан Жорж и перелез через каменный бастион. Сделал это без натуги, как опытный гимнаст, умеющий ходить по камням и стенкам.
Устюжанинов перемахнул следом. Они отошли от бастиона на сотню метров, как неожиданно возле орудия появился дежурный пушкарь, почесал затылок костлявыми пальцами и прокричал им вслед:
– Эй! Вы куда?
Капитан Жорж ткнул пальцем в пространство:
– Туда!
Пушкарь вновь начал скрести пальцами затылок – быстротой реакции он не отличался. Как, впрочем, и сообразительностью. Когда он пришел к какому-то выводу, нарушителей границы порта уже не было видно.
Нашим героям не повезло – в маленькой гавани порта ни одного судна, идущего на Иль-де-Франс, не оказалось – ни французского, ни голландского. Стоял только дряхлый португальский фрегат, приписанный к Макао, и больше ни одной посудины.
Фрегат никуда не отправлялся, ему требовалась основательная починка. Пушки на фрегате были ржавые, наполовину съеденные морем, пушки надо было менять – так же, как и такелаж.
У ворот порта, который был и морской гаванью и фортом одновременно, высилась, прикрытая деревьями, небольшая контора, занимавшаяся морскими и портовыми делами, заправлял ею степенный француз в небрежно натянутых на толстые мускулистые ноги лосинах, со складками на коленях и выпученными от жары рыбьими глазами – ну будто бы треску выволокли на берег и бросили там жариться на солнце. Звали его месье Бюваль.
– Месье Бюваль, как ваше драгоценное здоровье? – попробовал подкатиться к нему на лихом рысаке капитан Жорж – судя по всему, они были знакомы и раньше.
Месье Бюваль на медовый тон бывалого морского волка не обратил внимания совершенно никакого, он даже бровь не приподнял – сделал вид, что не знает капитана Жоржа вообще, хотя такой сапфир среди серого морского люда незамеченным быть просто не мог…
Натянув на нос какую-то мутную стекляшку – половинку пенсне, от второй половинки остался только железный ободок, – портовый конторщик углубился в чтение какой-то мятой, в пятнах морской воды бумаги.
Людей, стоявших перед ним, он демонстративно не замечал.
Лицо у Устюжанинова вспыхнуло, будто опаленное огнем, стали видны даже белесые, выжаренные солнцем брови. В следующую минуту он совершил поступок, совершенно неожиданный для себя – выдвинулся вперед и что было силы хлобыстнул кулаком по столу, за которым сидел конторщик.
Тот от грохота подскочил, вытянулся перед Устюжаниновым, словно перед генералом – похоже, только сейчас заметил офицерскую куртку с золочеными пуговицами, – испуганно захлопал одним глазом, прикрытым стеколышком пенсне, второй глаз, обрамленный пустым железным ободком оправы, даже не дрогнул – опущенное веко будто бы прилипло к нему.
– Я – адъютант его сиятельства графа Беневского, который сейчас находится на Иль-де-Франсе, в резиденции генерал-губернатора, – важно заявил Устюжанинов, топнул сапогом, – со мной… – он повернулся, обвел рукой своих спутников, – со мной экипаж пакетбота, потерпевшего крушение, – тут голос Алеши налился металлом: – Нам срочно нужно на Иль-де-Франс, в Порт-Луи.
– С первой же оказией, господин адъютант, с первой же оказией, – голос у конторщика сделался каким-то бабьим, несерьезным, визгливым, – но… – он по-куриному раскинул руки в стороны, – пока ни одного судна на Иль-де-Франс нет. Надо ждать, господин адъютант.
– Ничего, мы подождем, – сурово проговорил Устюжанинов, добавил присказку, которую на Камчатке часто произносил священник-отец, – нам не привыкать.
На лицо Устюжанинова наползла тень: как он там, батюшка-то, жив ли? И что там, на Камчатке? Наверное, еще лежит снег… Как давно он не видел снега. Губы Алешины предательски сморщились, дрогнули, боясь, что их слезливую дрожь засечет конторщик и все поймет, Устюжанинов приложил к ним пальцы.
Конторщик ничего не заметил, испуг, в котором он пребывал, еще не прошел.
– Вам следует снять квартиру, господа, – посоветовал он, – потому что кто знает, когда придет корабль… Порт у нас маленький, крупные корабли часто проплывают мимо, не опуская гордо поднятых парусов…
– Я же сказал – будем ждать, – перебил его Устюжанинов.
– Ага, – конторщик открыл рот и тут же закрыл его. Говорить он начал лишь когда ему это позволил Устюжанинов. Капитан Жорж молча отступил в сторону и теперь с уважением поглядывал на Алешу.
– А насчет жилья советую вам, господин адъютант, обратиться к лекарю Жаку Говердэну. – конторщик склонил перед Устюжаниновым голову, – он – человек одинокий, дом у него большой и многие, кто приезжает к нам, останавливаются у него, – месье Дюваль выпрямился и открыл второй глаз – дом господина Говердэна заменяет в Дофине постоялый двор.
Совет был дан дельный и что важно – вовремя.
Главное теперь было застать лекаря дома, не то, как узнал капитан Жорж, он очень любит покидать свою обитель и бродить по окрестностям. Впрочем, не только по окрестностям, – иногда забирается так далеко, что на поиски его приходится посылать целые экспедиции.
Лекарь Говердэн, к счастью, находился дома. Это был щуплый, проворный, как муха, человек с сухим лицом и живыми, очень молодыми глазами. Завидя гостей, он учтиво поклонился. Повел широко рукой:
– Милости прошу ко мне!
Устроились у Говердэна с комфортом, тот места для постояльцев не пожалел. И денег брать не стал.
– Как же я буду брать с вас деньги, если вы потерпели кораблекрушение? И имущество ваше вместе с деньгами ушло на дно… – Говердэн вскинул сухие руки. – Нет, нет и еще раз нет!
В доме у него было уютно и прохладно – Говердэн открывал все окна и двери, чтобы по комнатам свободно гулял сквозняк. Сквозняк не давал воздуху застаиваться, перегонял его с места на место, чистил пространство, распространял запах цветов и сухой травы. На стенах у Говердэна висели целые снизки сушеных трав, – он сам варил лекарства, растирал корешки и стебли, делал вытяжки, настаивал кусочки корней, сухие былки, насекомых – он многое знал из того, чего не знали другие люди…
В одной комнате он поселил капитана Жоржа, во второй Устюжанинова, в третьей, самой большой – экипаж пакетбота.
– Располагайтесь, – радушно проговорил Говердэн, – чувствуйте себя, будто дома.
Устюжанинов спросил, как часто в здешнюю гавань заворачивают корабли, идущие на Иль-де-Франс.
– Редко, – сказал Говердэн, – примерно раз в месяц. Иногда два раза в месяц.
– Давно был последний корабль?
– Ушел четыре дня назад.
Капитан Жорж не выдержал, присвистнул с досадою.
– Это сколько же нам придется сидеть здесь, в Дофине?
– Думаю, долго. Минимум месяц, максимум – полтора.
Капитан Жорж присвистнул вновь, лицо его сделалось унылым.
– Мда-а-а…
Поскольку Говердэн был настоящим французом, родившимся в предместье Парижа, и французский язык впитал в себя вместе с молоком матери, то Алеша старался с ним как можно больше говорить, старался уловить оттенки, интонации, ударения, понять это, иногда знакомое слово оказывалось совершенно незнакомым – так оно менялось, попав под каток быстрой речи, способной сплющить целые выражения, или изменяло ударение. Это были те тонкости, которые необходимо было знать.
Лекарь оказался превосходным педагогом, смог объяснить Устюжанинову те мелочи, которые никогда не объяснял Беневский, и чем больше Алеша находился в этом доме, тем больше Говердэн нравился ему, тем больше узнавал Устюжанинов. Причем, познавал не только тонкости языка, которым он владел уже прилично, преуспевал в другом – в географии, в медицине, в истории.
Говердэн владел блестяще не только французским, он знал язык нескольких племен Мадагаскара, один историк впоследствии написал о нем, что «это имя в туземных деревнях южного Мадагаскара знали лучше, чем имя французского короля».
Он был популярен, ни один воин из враждующих племен не смел трогать его – любой воин, обидевший Говердэна, даже знатный, был обречен… Лекарь мог одинаково приветливо разговаривать с людьми махафали и бецилео, выращивающими рис на землях Высокого плато, с бецимисарками и цимихети, вазимба и сафирубаями, самбаривами и зана-малата, без всякого оружия появляться на дальних озерах, где жили гигантские крокодилы, и общаться с местными лекарями хомбиасами, знатоками островных трав; Говердэн потом признавался, что секреты врачевания, которыми владеют хомбиасы, дают им полное право называть приезжих медиков, французов, голландцев и англичан обычными дикарями – настолько высок был уровень врачевания у лекарей-туземцев.
Собирал Говердэн и сказания мальгашей – умные люди на острове сочиняли очень интересные, очень мудрые сказки…
Через полтора месяца в порт Дофин завернул голландский фрегат, отправляющийся на Иль-де-Франс с грузом для земляков-колонистов, в порту пополнил запасы питьевой воды, забрал наших сильно заскучавших сидельцев и отбыл на главный французский остров, считающий себя пупом Индийского океана.
Порт Луи жил прежней суматошной, очень крикливой жизнью. Тут, как и раньше, зло щелкали бичи надсмотрщиков, что же касается плеток, то их, кажется, стало еще больше, наиболее одаренные умельцы могли ими изуродовать не только человека – даже быка. Ничего тут не изменилось.
– Есть какие-нибудь новости от Мориса Августовича? – первым делом поинтересовался Алеша, едва появился на пороге дома в ботаническом саду Памплимус.
Андреанов, занимавшийся починкой двери, увидев Алешу, отбросил в сторону молоток, расцвел и кинулся обниматься. На сдержанного Андреанова это не было похоже – значит, соскучился.
– За эти три месяца ты вырос, однако, – проговорил он теплым голосом, – уже не вьюноша, а настоящий мужчина. Молодец, Алексей!
– Что нового от Мориса Августовича? – Устюжанинову не терпелось узнать о новостях: новости от Беневского – вот главное, все остальное – второстепенное, проходное…
На лицо Андреанова наползло удрученное выражение, он покачал головой:
– Ничего нового.
– Совсем ничего?
– Было одно письмо, и все – больше ничего. Пропал наш Морис Августович.
– Не каркай, Алексей Батькович! – Устюжанинов ушибленно затряс головой. – Не должен он пропасть. Просто не может… Он не такой.
– Есть хочешь? – неожиданно спросил Андреанов.
– Хочу.
– Моя благоверная напекла банановых лепешек. Очень вкусные получились. Пойдем, угощу. Лучше всяких пирогов. Особенно с чаем! – Женившись, Андреанов сделался разговорчивым, раньше он таким не был.
– А где Чулошников?
– В Таможенном квартале. Ты-то как съездил? Доставил этого самого… ну, негра?
– Он не негр, он – бецимисарк.
– Все равно. Был бы человек хороший.
– Сиави – хороший человек.
– Я так маракую, Алексей, – предстоит нам плыть на Формозу.
– Злая земля.
– Да уж… Не то слово.
– С чего ты взял, что нам придется плыть на Формозу?
– Есть кое-какие приметы, – Андреанов усмехнулся, лицо его, обрамленное небольшой русой бородкой, озабоченно заострилось. – Сердце чует. И не только оно, – Андреанов вначале приложил руку к груди, потом обвел ею пространство. – Ладно. Пошли есть банановые оладьи. В следующий раз Агафья обещает приготовить оладьи из плодов манго.
Матрос Потолов, растолстевший, с расплывшейся физиономией и вяло обвисшим барским животом, больше всего любил лежать после обеда на кровати и рассуждать на всякие «вумные» темы – отчего, например, в океане возникают бури и куда девается ветер, когда пронесется над землей и оставит после себя тишину, почему солнце красное, а не, скажем, синее или зеленое, и зачем на деревьях растут листья, а на кустах распускаются цветы?
При этом, не прерывая рассуждений, Потолов любил почесывать живот – расчесывал так, что пупок его, похожий на пуговицу от генеральского утепленного сюртука, начинал потрескивать, будто намагниченный, и народу, который слушал говорливого матроса, начинало казаться, что пупок вот-вот засветится, как большая дворцовая свеча.
– Здесь, на Иль-де-Франсе, все наоборот, – произносил Потолов важно и от собственной значимости даже приподнимался на кровати, но хватало говоруна ненадолго и он вновь опускал голову на подушку, – не то, что у нас на Камчатке. У нас на Камчатке – осень, деревья сбрасывают свои листья, спать готовятся, а тут деревья полны бодрости, обрастают молодой листвой, у нас в Большерецке весенняя травка проклевывается сквозь землю, птички поют, солнце, а тут – глухая дождливая зима. Все наоборот… Почему?
На потоловское «почему?» никто не мог ответить, и вообще Потолов был способен кого угодно загнать под стол своими неожиданными вопросами.
– Почему все наоборот? – вопрошал Потолов грозно и вопрос его повисал в пустоте.
Вестей от Беневского по-прежнему не было. Почему?
Прошла зима – затяжная, дождливая и, как показалось камчадалам, холодная: сырость просаживала до самых костей, от нее некуда было деться, одежда не просыхала даже в хорошо протопленном доме – тепло не могло одолеть влагу.
Все ждали весну, первый весенний месяц – сентябрь. В сентябре распустятся все цветы Иль-де-Франса, жизнь, подмытая дождем, воспрянет, люди станут людьми, а не какими-то вымокшими тенями.
День первого сентября (на дворе, напомню, стоял 1773 год) выдался по-настоящему весенним, солнце решительно раздвинуло грузные, наполненные влагой облака, осветило землю, и большерецкие беглецы не смогли сдержать улыбок, радостными глазами оглядывали долину Памплимус, хлопали друг друга по спинам, смеялись беспричинно: весна ведь! – так на них подействовало долгожданное солнце.
Четырнадцатого сентября в гавани Порт-Луи встал на якорь потрепанный пакетбот, пришедший из Капштадта – города, расположенного на крайнем африканском юге, южнее Капштадта в Африке, как сказали камчадалам, не было уже ни портов, ни городов, ни деревень.
Когда матросы с пакетбота прибыли на шлюпке на берег, – шумные, громкоголосые, соскучившиеся по земле, – зачалить шлюпку им помог Степан Новожилов – работник Чулошникова.
Степан – мужик проворный, общительный, ловкий, узнал от голосистых матросов, что в Капштадте стоит фрегат-француз «Маркиза де Марбёф» с парусами, украшенными гербом Бурбонов, с двадцатью пушечными стволами, мрачно озирающими пространство по оба борта корабля.
Матросы и рассказали Новожилову, что на «Маркизе» находится очень важный господин, направляющийся на Иль-де-Франс. Плывет он не один – его сопровождают десятка полтора спутников, среди которых три или четыре человека были наряжены в роскошную офицерскую форму.
Судя по рассказам матросов, этим важным господином был Беневский. Новожилов на всех парах понесся в ботанический сад, к своим.
– Беневский скоро будет здесь, – сообщил он с порога запыхавшимся голосом. – Он уже находится в Капштадте.
– Откуда знаешь, Степан? – Чулошников прищурил один глаз. – Сорока на хвосте принесла?
Новожилов пересказал все, что услышал от матросов пакетбота.
– А вдруг это какой-нибудь важный французский генерал? – усомнился в рассказе Чулошников.
– Не-а! – убежденно произнес Новожилов. – Генералы ведут себя малость не так.
– А как?
– Ваше благородие, ты и без меня это хорошо знаешь. Это раз. И два – тот господин с фрегата малость прихрамывал.
Стали ждать Беневского. Но дни сменялись ночами, одна неделя другой, а двадцатипушечная «Маркиза де Марбёф» все не появлялась. Большерецкие беглецы приуныли: может, действительно то не Беневский был, а какой-нибудь бравый французский генерал, либо новый губернатор Иль-де-Франса. Хотя новый губернатор на остров уже прибыл – господин Пуавр.
Дероша отозвали в Париж, служба его на острове закончилась.
Весна находилась в разгаре, остров благоухал – цвело все, даже растения, которые засохли и до последнего времени не подавали признаков жизни, – теперь они распускались пышными нежными бутонами и источали аромат почти неземной.
Однажды рано утром, когда солнце еще только карабкалось на небо, а ботанический сад проснулся лишь наполовину, но тем не менее был полон радостных птичьих криков, в дверь дома, где жили камчадалы, постучали. Стук был громкий.
Заспанный, мало чего соображающий спросонья Устюжанинов пошел открывать, по дороге споткнулся обо что-то и неожиданно для себя подумал: «Было бы хорошо, если б за дверью оказался Беневский…»
Поковырявшись немного с запором, он открыл дверь и тут же издал восторженный крик.
На пороге стоял Беневский. Алеша кинулся к нему, обнял, Беневский, в свою очередь обнял его, и тут Устюжанинов с неловкостью заметил, что он выше учителя – так сильно подрос за последнее время.
Беневский похлопал его ладонью по спине.
– О, Альоша, ты стал уже совсем взрослый.
Фразу про то, что он стал взрослым, Устюжанинов в последнее время слышал несколько раз. Наверное, так оно и есть…
За столом, накрытом по-праздничному, Беневский рассказал о своих похождениях во Франции.
– Король принял меня, но не сразу, – Беневский поднес ко рту чашку с душистым чаем – к обычному чаю были примешаны сушеные цветки, они добавили напитку непередаваемый аромат, очень нежный, какой-то колдовской, загадочный, – помогли мои высокопоставленные французские родственники граф де Верженн и капитан де Бертини. Плюс ко всему, проекты, которые я представил королю, поддерживали два министра двора его величества – министр иностранных дел д’Эгильон и морской министр граф де Бойн. Король был очень благосклонен – выслушал меня и велел ехать… как вы думаете, куда?
– На Формозу, – не задумываясь, выпалил Чулошников.
Беневский укоризненно глянул на него, покачал головой отрицательно:
– Не угадал, – подняв указательный палец, Беневский поводил им из стороны в сторону. – На Мадагаскар. Повелел занять его без кровопролития и насилия и присоединить к Франции.
– Большой знаток Мадагаскара у нас вот кто, – Чулошников взъерошил волосы на Алешиной голове.
– В каком смысле знаток? – осведомился Беневский.
– В самом прямом. Без малого три месяца провел на Мадагаскаре.
– Даже так? – удивленно воскликнул Беневский. – Расскажи-ка, Альоша, об этом поподробнее!
В деталях, ничего не опуская, Устюжанинов рассказал. Про то, как он сопровождал Сиави домой, о крушении пакетбота, которым командовал капитан Жорж, о Джоне Плантене и бывших пиратах, о мудром лекаре Говердэне – знаменитости порта Дофин, о затяжных войнах, которые ведут два самых сильных племени Мадагаскара – сакалавы и бецимисарки…
– Вот туда мы и поедем, – воскликнул Беневский, – и примирим все мадагаскарские племена… Нечего им воевать!
– А мы готовились к плаванию на Формозу, – сожалеюще произнес Чулошников.
– Герцог д’Эгильон считает, что Формоза – это слишком далеко, а у Франции так далеко пока не может быть интересов. В будущем – да, в будущем интересы Франции дотянутся и до Формозы. Беседа шла долго, король был благосклонен и ласков. Скоро сюда поступит полк солдат, который будет предоставлен в мое распоряжение, – Беневский отер батистовым платком губы, взял из блюдца засахаренный квадратик вяленого ананаса, отправил в рот, запил чаем. – Вкусно. Кто чай-то такой готовит?
– Вон, – Чулошников повел головой назад, – Андреанова Агафья, она у нас по этой части мастерица. И сладости сушеные тоже она готовит.
– Молодец, Агафья, – похвалил Андреаниху Беневский. – Если поставки такого чая наладить в Париж, – можно озолотиться. Агафья, хочешь озолотиться?
Та залилась смущенной краской и ответила неожиданно твердо:
– Нет, барин!
– Это почему же? – удивился Беневский.
– А золото еще ни одному человеку на земле не принесло счастья.
– Молодец, Агафья, – произнес Беневский, улыбаясь, снова отер губы батистовым платком. – Позицию свою знаешь твердо, – поклоном головы он поблагодарил Агафью за чай, затем поклонился всем остальным. Тут голос его внезапно натянулся, сделался звонким: – Если бы вы знали, друзья, как я скучал без вас!
– Если бы вы знали, Морис Августович, как мы скучали без вас! – в тон ему проговорил Устюжанинов.
В ответ Беневский благодарно смежил веки и снова поклонился собравшимся – а ведь он действительно соскучился, он сейчас вообще не мыслил себе жизни без них, отныне куда пойдут они, туда направится и он, им теперь на роду написано быть вместе…
К переселению на Мадагаскар Беневский готовился основательно, старался учесть все, даже нанял учителей, которые обучали его команду двум основным мальгашским наречиям, самым распространенным на Красном острове – сакалавов и бецимисарков. Устюжанинов безоговорочно выбрал язык бецимисарков – ведь у него был друг бецимисарк.
Тому, что он сможет говорить с Сиави на его родном языке, Устюжанинов радовался. За месяцы подготовки к переселению он вытянулся еще больше, стал самым рослым в команде Беневского, шеф теперь давал ему уроки не французского языка, а фехтования: Алеша должен владеть саблей не хуже, чем любитель бифштексов вилкой и ножом, – считал он. Устюжанинов и тут делал успехи.
Подготовка к переселению радовала Беневского, не радовало другое – хмурые лица окружения губернатора Пуавра, хотя сам Пуавр расточал любезные улыбки и говорил Беневскому приятные вещи – впрочем, он мог их и не говорить, – «военный советник и региментарь» научился не верить льстивым словам, он много раз на этом прокалывался. Понимал Беневский, что новый губернатор готовит ему ряд пакостей и жизнь мадагаскарских переселенцев не будет сахарной, – скорее, наоборот.
Виною всему был патент, который Беневский получил из рук короля, патент этот давал ему право беспошлинной торговли на Мадагаскаре, – ему, графу Беневскому, единственному человеку на свете: больше никто не имел такого патента, в том числе и губернатор Иль-де-Франса.
Это-то и не устраивало Пуавра. Сам он источал улыбки и не жалел этого материала, тем более, что он ничего не стоил, но вот помощников своих, соратников и вообще допущенный до губернаторского стола народ настраивал против Беневского: Пуавр хорошо понимал, что патент, выданный тому, может крепко ударить по его карману, а уж по карману разного чиновного люди, конторщиков, полицейских и даже рядовых доносчиков, щедро подкармливаемых губернаторской канцелярией – тем более.
Предстояла борьба. И борьба эта ни за что не пойдет на спад, она будет только усиливаться, и это Беневский понимал очень хорошо. Поразмышляв немного, поприкидывав разные варианты развития событий, Беневский решил ускорить подготовку экспедиции на Мадагаскар. Но прежде чем экспедиция отправится в дорогу, решил послать на Красный остров Устюжанинова – пусть Алеша встретится с Сиави и его отцом, побывает у бецимисарков, подготовит почву для приезда вазахов – белых – на остров.
Вечером, когда они остались вдвоем – Беневский подводил итоги дня, а Устюжанинов помогал ему, – Беневский отложил бумаги в сторону и сказал Алеше, что тот должен спешно собираться на Мадагаскар. А через два месяца туда прибудет вся экспедиция…
Проговорили они до самого рассвета – черное звездное небо прочертила яркая красная полоса, полоса расширилась, небо поплыло, стало рябым, воздух сделался розовым, а за окнами запели-заголосили птицы, населявшие сад Памплимус.
– С Богом, Альоша, – сказал Беневский, перекрестил Устюжанинова, перекрестил на свой лад, католический, – иди!
Устюжанинов вышел на улицу, затянулся крепким цветочным духом пространства – на дворе стояло лето, самый разгар, декабрь 1774 года, послушал птиц и, вернувшись в дом, тихонько пробрался на свою кровать – надо было хотя бы немного поспать.
Отправился Алеша в плавание на пакетботе, которым командовал все тот же неунывающий капитан Жорж, и команда была та же, только судно было другое, специально приобретенное Беневским – удалось купить недорого… Поскольку капитан Жорж был хорошо знаком Устюжанинову – каши вместе съели много, и не только каши, – то Беневский принял его на работу. Вместе с экипажем.
Даже позволил капитану Жоржу назвать новый пакетбот так же, как и старый, погибший у берегов Мадагаскара, – «Жанна д’Арк».
– Значит, снова вместе? – капитан Жорж весело подмигнул Устюжанинову выпуклым черным глазом.
– Снова вместе, – Устюжанинов, приняв игру, тоже весело подмигнул капитану.
– Вместе все горы мы, конечно, не свернем, но паре каменных хребтов скулы набок загнем точно. Верно?
– Верно, – не стал отрицать Устюжанинов.
– Когда отплываем?
– Через два дня.
На этот раз плавание проходило спокойно, без бурь и прочих природных завихрений, при попутном ветре, в сопровождении веселых летучих рыбок, продолжавших восхищать камчадала Алешу, он даже рот открывал восхищенно, когда наблюдал за их восхитительным планированием.
До Мадагаскара добрались быстро – все-таки им здорово повезло с ветром, – приплыли на два дня раньше намеченного срока, – пакетбот вошел в тихую бухту с яркой изумрудной водой и бросил якорь довольно далеко от берега. Подходить ближе запретил Устюжанинов.
– Ближе не надо, – сказал он, – за теми вон деревьями – деревня бецимисарков, не надо пугать жителей. Не то там уже гремят боевые барабаны… Их бецимисарки называют хазулахами. Слышите?
– Нет, я ничего не слышу, – сказал капитан Жорж.
– А я слышу, – Устюжанинов одернул на себе новенький, подаренный Беневским камзол с блестящим офицерским шитьем по бортам, и решительно ткнул перед собой указательным пальцем: – Спускаем на воду лодку.
Два человека из команды капитана Жоржа кинулись к лодке, подцепили ее на железный крюк и проворно перетащили через борт. Через несколько минут лодка уже покачивалась на спокойной изумрудной воде. По шторм-трапу Устюжанинов спустился вниз, спрыгнул в лодку.
Хазулахи на берегу стали звучать громче и, похоже, их стало больше. Интересно, слышит ли капитан Жорж эти национальные мальгашские барабаны сейчас? Наверняка ведь слышит, глухарь этакий!
Устюжанинов взялся за весла, развернул лодку носом к берегу, сделал длинный спокойный гребок. Встреча, которая у него произойдет сейчас с бецимисарками, будет явно непростой – неизвестно еще, чем она закончится…
Вот если бы с ним находился Сиави, то было бы совсем другое дело, но Сиави нет. Есть, правда, амулет, подаренный им, но амулет – это амулет, а Сиави – это Сиави. Устюжанинов греб старательно, очень аккуратно, соблюдая некий матросский шик, когда с вылетающих из воды весел почти не сыплются капли воды.
Обычно они сыплются звонким горохом, а матросский шик этого никак не допускает, поэтому Устюжанинов и старался, да и нехитрое действие это помогало привести в порядок мысли и держать тело в сборе.
Чем ближе подплывала лодка к берегу, на котором росли гнутые, заваливающиеся к воде пальмы, тем громче и тревожнее делался звук барабанов. Дробного плеска волн, раскалывающихся о берег, уже не было слышно совсем.
Вот лодка ткнулась носом в песок. Устюжанинов поспешно выпрыгнул из нее и за короткий конец веревки, привязанный к кольцу, вытащил лодку на берег.
В это же мгновение из зарослей выскочили несколько воинов с копьями и щитами, сделанными из толстой бычьей кожи; по прочности такие щиты не толь ко не уступали железным, но и имели серьезное преимущество – они были легче.
Через несколько секунд перед Устюжаниновым уже стояла целая толпа людей с угрожающими лицами. Устюжанинов сделал несколько шагов к толпе и присел перед нею на корточки. Это был знак уважения, так было положено по обычаям бецимисарков.
Из толпы выдвинулся невысокий седоволосый старик в плаще яркого красного цвета, – такую краску, как знал Устюжанинов, можно было добывать только из здешних океанских раковин, – глянул на пришельца удивленно.
Раньше белые сходили на этот берег вооруженные до зубов, с пистолетами, саблями и длинноствольными мушкетами, а у этого белого не было с собой ничего, даже обычного ножа, чтобы срезать макушку у кокосового ореха и напиться, или отпластовать от печеной коровьей туши кусок мяса.
И вообще внешность этого белого была удивительной, таких людей жители деревни Манандзари еще не видели: волосы очень светлые, даже неведомо, с чем их можно сравнить, глаза синие, яркие, как утренняя морская вода. Удивительный человек был этот белый. А главное – он никого не хватает за руки, чтобы бросить в трюм своего судна, ничем не угрожает, не кричит и не произносит ругательств. Интересный человек этот белый.
А Устюжанинов тем временем заговорил. Заговорил на родном языке бецимисарков, что заставило их удивиться еще больше. Хотя копья свои они не опустили.
Старик в пурпуровом плаще ждал, когда закончит свою речь белый. Тот сообщил, что является другом сына короля бецимисарков, пришел сюда с миром, без оружия – показал старику открытые ладони, затем, забравшись под ворот рубашки, снял с шеи амулет, протянул его старику. Старик, судя по всему, был мпиадидом – старостой деревни, раскинувшейся за деревьями.
Взяв в руки амулет, старик увидел изображение птицы, вырезанное на камне и произнес уважительно:
– Вурума хери!
– Да, это сокол, – сказал Устюжанинов, – а подарил мне амулет сам Сиави. Я приехал к нему.
Староста подал сигнал воинам: опустите копья! Те покорно опустили копья, но стенка, которую они образовали, не разредилась, оставалась все такой же плотной. Люди эти были хорошо знакомы с тактикой белых, с вероломством их и обманом. Староста, поняв это, повернулся к ним, в повелительном жесте поднял руку.
– Не бойтесь, люди, к нам пришел друг, – показал воинам коричневый, светящийся изнутри камешек, на котором был изображен сокол, – этот амулет ему вручил сын андриамбахуаки Хиави.
Устюжанинов уже знал, что слово «андриамбахуаки» означает «глава племени», после речи старосты поднял голову, пробежался по суровым лицам воинов, по стволам деревьев, по листве, которая имела не зеленый цвет, а синеватый, либо фиолетовый с желтым рисунком – это были необычные деревья, которые росли только на Мадагаскаре и только на земле бецимисарков.
В лимонном, прокаленном солнцем небе крутились чайки. А может, это и не чайки были вовсе, а белые галки – очень уж они были похожи на галок. Невдалеке на ветке дерева сидел крупный изумрудно-брусничный попугай с большим, словно бы высеченным из камня клювом и внимательно рассматривал собравшихся.
В главную деревню бецимисарков Таматав Устюжанинова отправили в сопровождении пяти воинов-проводников и трех быков-зебу. Шли долго – больше недели, пока наконец не оказались на берегу широкой полноводной реки, которую едва сдерживали берега – вода стояла вровень с красными ровными краями, вспенивалась кудрявыми бурунами, уносясь вниз, к далекому океану.
– Острожно, вазаха! – предупредил Алешу старший проводник, седой курчавый человек с темной, почти черной кожей. Звали его Райлуви. – У берега могут прятаться крокодилы. Это опасно.
Что такое крокодилы, было понятно без слов, при виде этих зубастых чудовищ внутри у Алеши возникал невольный холод: крокодилы могли покалечить любого, даже очень сильного человека, а это – самое худшее из всего, что могло быть. Лучше быть убитым, чем искалеченным.
– Спасибо, Райлуви, – сказал Устюжанинов, – я знаком с повадками крокодилов.
Они несколько часов двигались по берегу реки, пока не увидели вдали диковинные, вытянутые вверх дома с тростниковыми крышами. Дома стояли на сваях, сваи были высокие, в два человеческих роста – скорее всего, река здешняя имела капризный характер и часто выходила из берегов, тогда от дома к дому можно было передвигаться только на лодке, отпихиваясь шестом от крокодилов…
Через несколько минут Устюжанинов понял, что это не так: под домами были сооружены вполне приличные курятники для домашних птиц, и птицы этой в столице бецимисарков было много: квохтали пеструшки и хохлатки, клекотали индюшки, крякали утки, нервно вскрикивали цесарки, отдельно около каждого дома имелись загоны для скота.
На окраине деревни дорогу преградила стража – рослые бритоголовые мальгаши с копьями в руках, чуть поодаль возникли двое бецимисарков с длинными духовыми ружьями. Устюжанинов знал, что такое ружье может быть опаснее мушкета, особенно если оно заряжено отравленной стрелой. От пули, выпущенной из мушкета, можно оправиться, а от отравленной стрелы нет – выжить не дано. Райлуви поспешно выступил вперед.
Через час Устюжанинов уже сидел в доме Сиави, скрестив ноги на ярко раскрашенной циновке и лакомился мясом молодой козы. Сиави невозможно было остановить, он говорил, говорил… Без перерыва. Лицо его сияло возбужденно – порывы радости захлестывали его.
На вечер в деревне был назначен большой праздник – так объявил вождь племени, которого Алеша начал вежливо величать королем. Поскольку Устюжанинов пришел не только в сопровождении воинов-проводников, но и трех быков-зебу, на которых доставил в Таматав подарки, то на празднике передал подарки Хиави. Подарки были запакованы в тюки, обшитые прочной парусиной.
Четыре колдуна совершили вокруг тюков ритуальный танец – отгоняли любопытных духов, среди которых могли оказаться и злые – духам ведь тоже было интересно, что за подарки получил предводитель племени Хиави, вот они и пришли из леса вслед за белоголовым. В чем, в чем, а в этом колдуны были уверены.
Плясали и колотили в бубны они минут пятнадцать, потом зажгли факелы, обнесли огнем площадь, где происходило празднество и отошли в сторону – свое дело они сделали, тюки с подарками можно было вскрывать. Хиави сидел на глубоком резном троне с высокой спинкой, украшенной изображением сокола, рисунками диковинных цветов, растений, гибких лиан, пальмовых ветвей, сын Сиави стоял рядом с ним, Устюжанинову отвели место рядом с Сиави.
Хиави подал знак телохранителям, чтобы те разрезали веревки тюков и распороли ткань. Подарки, которые прислал Беневский, стоили того, чтобы ими любоваться.
Яркие ковры с ласкающим взор орнаментом, серебрянная посуда, несколько новеньких мушкетов и кинжалов – количество боевых мушкетов соответствовало количеству кинжалов, – зеркала, пять рулонов индийского шелка, совершенно невесомого, нежного, ожерелья, на которые всегда были падки обитатели южных широт, гирлянды бус. Хиави, увидев это богатство, довольно покивал головой – подарки ему понравились. Велел телохранителям завернуть все в распоротую ткань и унести в дом.
В следующую секунду Хиави хлопнул в ладони и праздник начался. Устюжанинов сидел рядом с Сиави и его отцом и когда встречался взглядом с предводителем племени, то видел в его глазах самые разные чувства, прячущиеся в отблесках пламени, – очень противоречивые, вот ведь как: и неверие там было, и теплота, и признательность, и настороженность – словом, полный набор чувств, которые способны родиться в душе человека.
С одной стороны, светловолосый пришелец спас от гибели его сына, рискуя собой, доставил его на Мадагаскар, с другой, он – белый. А к белым людям отношение на Мадагаскаре не самое доброе. Что же привез светловолосый вазаха их племени, добро или зло?
Этого Хиави не знал, снова и снова косился на Устюжанинова, стараясь поймать его взгляд. Но к разговору о целях его приезда не приступал – выжидал.
Разговор состоялся утром.
– Что нужно от бецимисарков человеку, который прислал богатые подарки? – спросил Хиави, цепко всматриваясь в спокойное, почти безмятежное лицо юного гостя, стараясь приметить, засечь в нем что-нибудь хитрое, коварное. При этом Хиави не видел, что у самого него взгляд становился хитрым и коварным.
– Нужно только одно – ваша дружба, – несколько напыщенно ответил Устюжанинов.
– Как зовут этого человека?
– Морис Августович Беневский.
– Длинное имя, – качнул головой Хиави. – Длинные имена бывают у благородных людей.
– Он благородный человек, очень богатый, знатный, дружит со многими королями – в частности, с королем Франции.
– Франция… – Хиави недовольно поморщился, но продолжать разговор о Франции не стал. – Чего хочет этот богатый и знатный человек?
– Хочет привезти бецимисаркам товары, которые подарил вам, привезти мушкеты и порох, чтобы можно было защищаться от врагов, ткани, ковры, зеркала…
– Что нужно ему взамен, кроме дружбы?
– Красное и черное дерево, камни, золото…
– Желтый металл, из-за которого льется кровь, у нас есть. Золото мы дадим. Часть оставим себе, поскольку нам оно тоже необходимо, остальное отправим твоему господину. Что еще?
– Еще мой господин обещает вам военную помощь. Мало ли с кем может случиться война…
– Да, у нас плохие отношения с сакалавами. Мы не понимаем друг друга.
– Мой господин поможет вам победить сакалавов, – убежденно произнес Устюжанинов.
В ответ Хиави кивнул. На лице его ничего не отразилось. Гремели барабаны, звучали хриплые, трогающие душу голоса труб, люди веселились, плясали. Лицо Хиави неожиданно сделалось озабоченным, в подглазьях и на лбу возникли морщины, уголки губ печально опустились, предводитель бецимисарков постарел на глазах, – кроме сакалавов у него натянулись отношения с сафираями, с их предводителем Махертомпой.
Над головами приветливо помигивало звездами черное горячее небо, из леса доносились крики ночных птиц. Хищных, опасных для человека птиц и зверей на Мадагаскаре, кроме крокодила и леопардовой кошки фоссы, не было, да и они тоже относились к человеку с опаской. А лемуры, кабаны и обезьяны, которых на Красном острове водилось много, ничего серьезного из себя не представляли – на людей они не нападали.
Устюжанинов сидел рядом с наряженным в алую тунику Сиави и думал о Мадагаскаре, сравнивал его с Камчаткой, которая тоже ведь окружена морем – едва ли не со всех сторон вода, и сам себе кивал головой: Камчатка была лучше.
Но Камчатка далеко, а отстров Мадагаскар – вот он, находится под ногами. Гремели барабаны, заставляли прислушаться к своим горьким голосам трубы – при их звуках и земля, и деревья, и небо и травы становились тихими, внимали тому, что слышали, вскрикивали в танце люди, мужчины и женщины – ничто, кажется, не предвещало беды.
А беда уже висела над головой, сотрясала, как тяжелая буря, землю: на племя бецимисарков двинулось племя сафирубаев, ведомое вождем Махертомпой, давним недругом Сиави. К Махертомпе присодинились еще несколько племен, поменьше численностью, послабее, но собранные вместе, они представляли из себя опасную силу.
Ночью, когда праздник уже закончился, а из воздуха почти выветрился вкусный дух запеченного на костре мяса, с севера, с самой границы, где заканчивались земли бецимисарков, примчался усталый скороход, сообщил, что на бецимисарков движется несметное войско… Хиави отпустил скорохода отдыхать, а сам собрал военный совет. Утром пригласил к себе Устюжанинова.
– Я принимаю все предложения твоего господина, – сказал он, – дам ему и золото, и эбеновое дерево, и камни, и серебро, все ценное, чем владеет народ бецимисарков, но мне нужна его помощь. На нас с войной идет сразу несколько племен, мы будем держаться, долго держаться, – будет много убитых, много горя. Если твой господин действительно хочет дружить с бецимисарками, то должен нам помочь. Отправляйся к нему срочно, скажи господину – пусть поспешит!
Через час Устюжанинов уже находился в пути, его сопровождал Райлуви – человек, к которому он привык, и еще один незнакомый малоразговорчивый воин с темным лицом и ожерельем из акульих зубов на шее, – как понял Алеша, из личной охраны предводителя бецимисарков.
Двигались они в деревню, расположенную на берегу залива Мангаб ускоренным шагом, почти бегом. Не скороходы, конечно, но шли быстро.
Остановились только вечером, когда начало темнеть. Для ночлега выбрали чистую, поросшую высокой жесткой травой поляну. Райлуви извлек из ножен меч и вырубил траву, как кустарник.
– Так будет лучше, – сказал он, побросал вырубленные охапки в костер, бегающие языки пламени мигом обволоклись, обросли дымом, сразу сделалось меньше комаров.
А раз меньше комаров, то и дышать стало легче, писклявоголосые ведь могут довести до припадка и остановки дыхания кого угодно – русского, мальгаша, француза, даже толстокожего серого бегемота из долины африканской реки Лимпопо.
Спали, подстелив под себя плащи, в ткань которых были вплетены волокна травы, отпугивающей змей. Змей на Мадагаскаре было много и Алеша их, честно говоря, побаивался. На Камчатке, на юге, тоже есть змеи, но Устюжанинов их никогда не видел.
– Змеи не страшны, гораздо страшнее, например, калануро, – сказал Райлуви.
– А что это за зверь такой калануро? – спросил Устюжанинов.
– Маленький человечек, от макушки до пяток покрытый волосом. Комок волос, который умеет незаметно подкрадываться к путнику и впиваться в него зубами. Я боюсь калануро, – Райлуви передернул плечами, – он выпивает кровь из человека целиком, ничего не оставляет. От человека остается только кожа, которая обтягивает кости, и все, больше ничего нет.
– Чего еще есть страшного в лесу? – Устюжанинов пробежался взглядом по макушкам деревьев, словно бы рассчитывал увидеть там клыкастое чудовище, по самые брови испачканное кровью, доедающее живого человека, либо крылатую ящерицу, плюющуюся огнем.
– Самой страшной считается семиголовая змея фанампитулуха, – опасливым шепотом произнес Райлуви. – У нее семь ядовитых голов, может уничтожить целое селение. Иногда из леса выходят быки-людоеды, мы их тоже боимся. Очень страшно повстречаться с ними… Но не будем об этом, – решительно проговорил он. – Поедим копченого мяса и – спать! На рассвете пойдем дальше.
Быстрая ходьба здорово изматывала людей. Но с другой стороны, уже на следующий день Устюжанинов почувствовал, что он втянулся в ритм, перестал кашлять и давиться тягучей, почти твердой слюной, с интересом разглядывал заросли и размышлял про себя – выскочит из них бык-людоед или какой-нибудь мерзкий великан Итримубё, привыкший поедать людей, словно большерецкий комендант Нилов горячие пирожки с брусникой по воскресным дням, либо повременит, не выскочит?
Но нет, ни змеи-семиголовки, ни страшный великан Итримубё, любивший лакомиться молочными детишками, так и не показались. Наверное, страшилища эти сейчас пребывают в другом месте, в другом конце мадагаскарского леса.
На следующее утро, наскоро перекусив копченым мясом и подсоленными авокадо, проглотив по паре горстей вареного риса, двинулись дальше.
Вождь бецимисарков Хиави тем временем предпринял отвлекающий маневр – отправил к сафирубаям своего сына с наказом вести затяжные переговоры – надо было выиграть две-три недели. А к этой поре подоспеет Беневский со своими мушкетами, саблями и двадцатью пушками «Маркизы де Марбёф»…
Хиави оставалось только одно – ждать.
Вождь бецимисарков все рассчитал точно – все рискованные состыковки были произведены без сбоев, накладок не было, Беневский подоспел вовремя – Махертомпа был разбит наголову. Он потерял свое войско, был ранен, но колдуны-знахари Хиави поставили его на ноги, хотя лучше себя от этого проигравший предводитель сафирубаев не почувствовал.
Более того, он считал, что Беневский сильно унизил его, отказавшись взять выкуп. Махертомпа недоумевал – как можно отказаться от хорошего выкупа, предлагаемого за вождя? Сам он, например, никогда не отказался бы от мешка золота, если б заарканил на этой войне Беневского – свое взял бы с лихвой. А если бы требуемого мешка не получил, то посадил бы спесивого графа на кол.
Хотя, честно говоря, мешок золота ему был и не очень-то нужен, золото у Махертомпы имелось – он считался не самым бедным человеком на Мадагаскаре.
– Выкуп мне не нужен, – сказал Махертомпе Беневский, – ты свободен. Можешь идти домой, на свои земли.
Махертомпа даже головой закрутил от обиды и одновременно ярости, захлестнувших его: спесивый граф поступает с ним, как с последним погонщиком быков, всю жизнь проведшим в навозе, унижает… Беневский унизил его, свел до уровня коровьего вымени, превратил в собачий помет… Тьфу!
А Беневский знал, что делал. Слух о том, что он отпустил вождя сафирубаев на волю, не взяв с него ничего, прокатится по всему Мадагаскару, о нем заговорят, может быть, даже будут слагать песни, саги или что там у них еще существует… Все это будет на руку Беневскому.
На трапезах Беневский сидел теперь рядом с Хиави, – как равный. Поручение короля Франции – сделать Мадагаскар землей, принадлежащей короне Бурбонов, – он начал выполнять с успехом.
Но в планах Беневского было нечто большее, чем обычная победа над каким-то пропахшим кислым молоком сафирубаем, в ближайших планах его было возведение города, который станет столицей, из чьих стен он начнет покорять Мадагаскар дальше. Беневский уже и название новому городу придумал – Луисбург, в честь короля Людовика Пятнадцатого.
Луисбург был построен необычайно быстро, на Мадагаскаре таких ошеломляющих темпов еще не видели… Понадобилось всего три месяца, чтобы новый город был нанесен на карту – он встал в зеленой сырой долине, примыкающей к заливу Мунгаб, одним своим краем соприкасался с лесом, где Беневский возвел несколько позиций для орудий – мало ли каких подарков можно ожидать от тех же сафирубаев или сакалавов. С моря Луисбург тоже был прикрыт – в бухте гигантским караваем высился остров Моррос.
Между луисбургской набережной и островом пролегала полоса воды примерно в полкилометра шириной, с хорошим дном – ни одного каменного зуба, способного проткнуть днище корабля, зато любой, самый лютый шторм не мог взвихрить здесь воду и сорвать с якоря какой-нибудь барк или фрегат.
Завершение строительства Беневский решил отметить праздником, на который пригласил вождей всех мадагаскарских племен, – даже Махертомпу, – старост деревень, глав кланов, рядовых мальгашей… Ему было интересно общение не только с вождями племен, но и с обычными крестьянами.
Праздник был назначен на двенадцатое мая, на благодатную, пахнущую медом и спелыми плодами манго осеннюю пору (впрочем, осенняя пора на Мадагаскаре мало чем отличается от летней, Мадагаскар – это не Камчатка), когда солнце будет чуть меньше припекать и не походить на открытый огонь.
Имя Беневского сделалось на острове известно – о нем слышали и на севере, у экватора, и на юге, у оконечности, известной своими лютыми бурями и штормами, и в центре Мадагаскара, всем хотелось посмотреть на Беневского, а тут такой удобный случай – сам приглашает, лично…
У Беневского была своя цель – он рассчитывал, что на этой «вольной пирушке» удастся понять, кто его друг, а кто враг, вложить в головы собравшихся, что его прислал сюда сам король Франции, что Луисбург станет торговым центром острова и это будет выгодно всем: и тем, кто живет здесь, и тем, кто станет приезжать сюда со своими товарами…
Цели своей Беневский достиг, все так и получилось.
Только вот какая штука – новость эта не понравилась губернатору Пуавру – по его мнению, Беневский вытаскивал у него изо рта завидный кусок пирога, с чем губернатор никак не мог согласиться, а уж окружение Пуавра, привыкшее есть много и вкусно, тем более не могло согласиться.
Среди приближенных губернатора незамедлительно нашлись люди, которые были готовы отправиться на Мадагаскар хоть сейчас. Хотя и понимали они, что сделать это будет непросто: наверняка на Беневского уже покушались и он знает, как оберегаться от этой напасти. Да и человек он, по общему мнению, нетрусливый.
Губернатор призвал к себе верного человека – старого вояку, чье лицо было располосовано сабельным шрамом, капитана Фоге. Походив немного по большой, роскошно обставленной комнате, которую приближенные считали вторым кабинетом, Пуавр сказал:
– Кроме физического устранения существует еще немало способов превращать какого-нибудь тулонского или эльзасского дворянина в обыкновенную макаку, которую будут травить полицейские ищейки всех стран мира. Вот и нам надо это сделать – превратить Беневского в преследуемую всеми обезьяну, – губернатор замолчал, поглядел пристально на капитана. – Вам моя мысль ясна?
– Естественно, ваше высокопревосходительство.
– Надо установить слежку за Беневским, нам важно постоянно знать, где он находится, что делает, какие сочиняет бумаги, с кем обедает, куда собирается поехать, кого боится, с кем дружит и так далее – словом, все-все-все
– Постараюсь исполнить, ваше высокопревосходительство!
– Не постараюсь, а исполнить обязательно. В окружении Беневского должны быть наши люди, должны следить за каждым его шагом, за каждым движением и сообщать нам. Понятно, Фоге?
– Так точно, господин губернатор! – по-армейски четко и громко ответил капитан, сабельный шрам на его лице налился бурой краской.
В гарнизоне Иль-де-Франса Фоге был капитаном без войска – войском командовали другие люди, а Фоге считался офицером для особых поручений, лицом приближенным к высокому начальству; глазами своими он научился пронизывать человека едва ли не насквозь – сведенные вместе, они могли просверлить в собеседнике дырку.
Господину Фоге не офицером бы следовало быть, а начальником тайной полиции. Но таковой на Иль-де-Франсе не существовало.
После ухода Фоге губернатор вызвал к себе начальника канцелярии, хитроумного карлика Балью – важного, дорого одетого человечка с бородавкой на носу, грамотея, которого Пуавр привез с собою из Парижа, умеющего сочинять каверзные письма и убеждать людей, к которым письма эти обращены, в том, чего никогда не было. И таланту Балью верили – очень уж карлик был убедительным.
– Балью, – сказал ему губернатор, – надо бы сочинить королю письмо, полное сожалеющих ноток, в котором выразить сомнение в том, что Беневский действительно верен Франции. Намекнуть, что он совсем не тот человек, за которого его принимают при дворе. Все ясно, Балью? – спросил губернатор.
– Более чем… – ответил Балью.
Мальгаши, побывавшие на празднике, начали называть Беневского Великим белым андриамбахуаки… А андриамбахуаки – это ни много ни мало, – король.
На празднике в Луисбурге племя анимароа, жившее недалеко от Луисбурга, объявило, что люди его считают себя не только соседями белых людей, но и братьями.
Многие люди из этого племени принимали участие в строительстве города, обучились плотницким навыкам, занимались земляными работами, на быках зебу доставляли из леса бревна, годные для возведения стен, и Беневский был благодарен им, особенно вождю анимароа Винци, которого одарил офицерским камзолом и нарядной шпагой на кожаной перевязи.
Винци сиял от гордости и совершил с Беневским обряд братания, смешал свою кровь с кровью Маурицы. Такого еще не было на Мадагаскаре. Мальгаши, присутствовавшие на празднике, заревели от восторга. Обряд этот они считают священным и называют его фатидрой.
Тем временем наступила зима, первый ее месяц – июнь, время сырое, туманное, комариное. Комаров было много.
Свои комары, выведенные в долине, где стоял Луисбург, к зиме увяли, стали вялыми, недееспособными, на смену им прилетели новые полчища из болот, подступавших к Высокому плато.
Вместе с комарами в новый город вползла малярия – изнуряющая болезнь, высасывающая из человека все силы, без остатка.
В сентябре семьсот семьдесят четвертого года в Луисбурге уже не было ни одного здорового человека – болел Беневский, болел Алеша Устюжанинов, болел всегда веселый, живой, говорливый Чулошников – здесь он сдал, превратился в тень, в оболочку самого себя, – болели все.
Из форта Дофин пешком пришел лекарь Жак Говердэн, он помогал больным как умел, но, видать, год тот был слишком худой, либо малярия чересчур крепкой, неподдающейся – снадобья Говердэна действовали слабо, помогали мало, и удрученный лекарь кинулся за помощью к местным знахарям.
Те появились в Лкисбурге очень скоро, принесли с собой несколько мешков сухих трав. Беневский, увидев знахарей, приподнялся на постели и, не сдержав улыбки, украсившей его худое пожелтевшее лицо, произнес:
– Вот это хорошо… Мальгаши пришли сюда – это признак того, что они начали верить нам, верить белым. Раньше такого не было. Это очень хорошо.
Один из знахарей долго, не произнося ни слова, смотрел на Беневского, – лицо его было бесстрастным, почти неживым, – потом сунул руку в мешок, поискал там что-то и достал пучок трав, перевязанных куском высохшей лианы. Он по-прежнему не произносил ни слова, – также молча сунул пучок в горшок и налил туда воды.
Горшок поставил на огонь.
Когда вскипевший горшок снял с огня, в посудине плескался темный коричневый отвар, слабо пахнувший мятой и еще чем-то, – чем именно, Беневский не понял. Отвара было много. Знахарь слил его в большой стеклянный кувшин, остатками наполнил кружку.
Кружку протянул Беневскому. Тот взял ее, вопросительно наморщил бледный лоб.
– Это выпить все?
Знахарь молча кивнул. Беневский приподнялся и медленными звучными глотками опустошил кружку. Откинулся назад, на подушку. Приятное тепло распространилось по его телу, он закрыл глаза и через несколько минут провалился в глубокий сон – так сильно подействовал на него отвар мадагаскарских трав. Его понесло по пространству, стремительная зыбь успокаивала Беневского, снимала слабость, усталость, давившие на него…
Проснулся он через несколько часов с ощущением, что пошел на поправку – чувствовал себя легче, много легче, чем раньше, и хотя болезненный жар, погружавший его последние две недели в свою неприятную плоть, не проходил, это был другой жар… За ним должен был обязательно последовать прилив сил.
Дело пошло на поправку. Хотя эпидемия малярии, навалившаяся на Луисбург, взяла свое – потери были, на окраине нового города выросло целое кладбище (впрочем, городов без кладбищ не бывает), большерецким беженцам повезло, смерть обошла их стороной – потрепала, пометелила, ослабила донельзя, но с собой не забрала. И слава Богу! Нужно было думать, как жить дальше.
Беневский понял, что место для Луисбурга он выбрал неудачное, каждую зиму здесь будет повторяться то же самое, что происходит сейчас, – и в конце концов их задавит малярия, – значит, надо было строить новый город. На новом месте.
Несколько французов, прибывших с Беневским на «Маркизе де Марбёф», находились в тяжелом состоянии, и Беневский отправил их на Иль-де-Франс – тем более, что пакетбот с капитаном Жоржем слишком уж застоялся…
В воздухе пахло не только малярией, но и порохом. Беневский, обладавший превосходным чутьем, ощущал опасность на расстоянии, – кожей своей, лопатками, черепом, кончиками пальцев, сердцем, он чувствовал, что в затылок ему направлен ствол пистолета. И курок будет обязательно спущен…
Он не увидит, как прилетит пуля, поскольку прилетит она сзади – губернатор Пуавр побоится нападать спереди, – как не увидит и человека, который нажмет на спусковую собачку заряженного пистолета.
Поразмышляв немного, Беневский отправил с пакетботом на Иль-де-Франс и Алешу – вытянувшегося, повзрослевшего, пожелтевшего после болезни, как китаец, но не растерявшего сообразительности.
На Иль-де-Франсе Устюжанинов узнает последние новости, обязательно разведает, чего и кого надо бояться Беневскому и его людям, разведает, откуда конкретно исходит угроза?
Узнанное Устюжаниновым было много хуже того, что он ожидал узнать: Беневский окончательно встал губернатору поперек горла и он велел своим подопечным выковырнуть эту кость – нечего Беневскому портить воздух Индийского океана… Только сделать это так, чтобы в Париже никто не подумал, что Беневского сжил со света губернатор Пуавр.
Подопечные, благословленные губернатором, незамедлительно вступили в переговоры с племенами, которые не принимали Беневского – с сакалавами и сафирубаями: понимали хитрецы, что ни те, ни эти живота и сил своих не пожалеют, чтобы расправиться с графом, камни будут грызть зубами и сгрызут, в конце концов, но спесивого Беневского сбросят в океан, либо скормят крокодилам.
Губернатор выделил для подкупа вождей хорошие деньги, послал много «огненной воды», блестящих побрякушек, к которым мадагаскарцы относятся с детским восторгом, индийских тканей, зеркал в медной оправе и даже оружия.
Вот такой губернатор управлял ныне Иль-де-Франсом. Пробовал он также интриговать и при королевском дворе… Что-то у него получалось, а что-то нет.
У Устюжанинова еще с поры работы в ботаническом саду остались добрые знакомые в губернаторской администрации, – в частности, аббат Роттон, друживший с прежним губернатором.
…Они сидели в пальмовом сквере напротив входа в особняк, занятый губернаторской службой, видели, как из дверей выбегали клерки с папками, неслись куда-то, потом возвращались, через некоторое время на пороге показался кривоватый, прихрамывающий сразу на обе ноги карлик с носом, украшенным большой бородавкой, неторопливо огляделся и натянул на голову широкую шляпу. Внешность карлика была необычной.
– Кто это? – не удержался от вопроса Алеша.
– Очень опасный человек, – сказал аббат, – господина Беневского он ненавидит. Впрочем, ненавидит не только его – ненавидит весь мир. Это – некий Балью, начальник канцелярии губернатора.
Следом за карликом из дверей особняка вышел рослый красивый мужчина с холеным лицом.
– А это кто? – спросил Устюжанинов.
– Не знаю точно… Из Франции он прибыл недавно, говорят – ученый муж. Занимается то ли птицей до-до, то ли хочет вывести кенгуру в Памплимусе…
– Вид у него, как у герцога.
– На мой взгляд, он ни того, ни другого не сделает – просто не будет, – аббат усмехнулся. – Несмотря на герцогский вид, он совершенно не похож на ученого человека. Либо я ничего не смыслю в психологии.
– В таком разе кто же он?
– Не знаю. Но то, что он не ученый – совершенно точно.
Красавец пристроился к карлику, оживленно беседуя, они вместе проследовали в карету, стоявшую в тени огромного дерева.
Аббат проводил их взглядом и произнес с печальным вздохом:
– Раньше таких людей на Иль-де-Франсе не было… А сейчас завелись. Наступило время худых коров. Молока они не дают, зато имеют длинные ноги и хорошо бегают.
Рассказал Роттон и о тайной экспедиции, которую люди губернатора совершили на Мадагаскар, к племенам, враждебным Беневскому.
– Это же война, аббат, – неожиданно поняв, к чему могут привести подобные «вояжи», прошептал Алеша.
– Да, война, – подтвердил Роттон.
Устюжанинов поблагодарил аббата, встал.
Надо было срочно возвратиться в Луисбург – то, что услышал Устюжанинов следовало как можно быстрее донести до Беневского. Алеша помчался в порт, где стоял пакетбот.
– Капитан Жорж, срочно поднимаем паруса!
Тот от удивления вылупил черные глаза так, что они у него чуть не свалились на нос.
– Чего так? Мы же только что приплыли.
– Обстоятельства, капитан Жорж, обстоятельства… А обстоятельства сильнее нас.
Капитан Жорж на время этой стоянки решил даже съехать на берег – подмаслился к одной вдовушке-метиске, чей муж утонул в океане, добывая жемчуг – защемил ногу в створке огромной раковины и не смог всплыть, та утопила беднягу. Поскреб капитан Жорж пятерней затылок и отрицательно покачал головой:
– Ничего не выйдет, господин Устюжанинов.
– Это почему же?
– Пакетботу нужно три дня на срочный ремонт – у нас подгнил корпус, мы уже начали его латать. Поднять паруса сможем только через три дня.
– Тьфу! – отплюнулся Алеша.
– Если срочно, то советую уйти на «Маркизе»…
– Но «Маркиза де Марбёф», насколько я знаю, под разгрузкой.
– Разгрузку она уже заканчивает.
«Маркиза» стояла недалеко от пакетбота, трюмы свои она уже опустошила – доставила на Иль-де-Франс груз дорогого дерева – эбенового, красного, сандалового. Матросы «Маркизы», перенесшие, как и все в Луисбурге, тропическую лихорадку, выглядели не лучшим образом, это были желтолицые доходяги, а не матросы.
Капитан «Маркизы» – седой плотный джентльмен, с трубкой, прочно зажатой длинными прокуренными зубами, в офицерской треуголке, покачал головой:
– Не могу я сейчас плыть в Луисбург, никак не могу. Команде нужен отдых. У меня люди измучены болезнью, работой и морем. Понятно это вам, юноша?
В ответ Устюжанинов энергично помотал головой.
– Нет, непонятно. Сакалавы и сафирубаи – очень опасные племена. В эту минуту они, может быть, уже напали на Луисбург и, кто знает, – вдруг уже жгут наши дома и убивают наших товарищей, – Устюжанинов говорил так горячо, так громко, что старый морской волк заколебался – а ведь все так и может быть.
Тем не менее он отрицательно покачал головой:
– Не могу, юноша… Поймите, если у меня во время плавания выйдут из строя хотя бы два человека, мы до Луисбурга уже никогда не доберемся.
– Жаль, я не могу вам приказать… – горьким голосом произнес Устюжанинов. – Ведь может случиться так, что мы приплывем в Луисбург и никого в живых уже не застанем.
Капитан невольно поморщился.
Через десять минут он сдался, выбил из трубки за борт пепел, проследил как мелкие серые лохмотья опустились на зеленую воду и скомандовал неожиданно отвердевшим голосом:
– Команда, приготовиться к отплытию!
Не напрасно Устюжанинов тряс капитана «Маркизы», не напрасно у него болело сердце, а в ушах раздавался тревожный звон, едва он начинал думать о Беневском…
Переход от Иль-де-Франса до Мадагаскара занял восемь рекордных дней – ветер был попутный, бурь не выпало ни одной, удача благосклонно отнеслась к команде «Маркизы», некоторое время фрегат плыл вдоль затуманенного берега Мадагаскара, аккуратно огибал каменные выступы и промеривал глубины – капитан боялся наскочить на подводную коралловую гряду, – когда уже приблизился к заливу Мангаб, то стоявшие на палубе матросы засекли далекую канонаду.
Теперь капитан окончательно понял, что предупреждение Устюжанинова не было напрасным, произошло то, чего опасался этот молодой человек: на Луисбург совершено нападение.
Готовясь к худшему, капитан скомандовал:
– Корабельные пушки – к бою!
В залив Мангаб впадала река Тунгумбали, – как и все мадагаскарские реки, полноводная, со стремительным, жгучего красного цвета течением, свивающимся в глубокие опасные воронки. Если в такую воронку попадет лодка с людьми – запросто может пойти на дно.
Фрегат аккуратно, на малом ходу, пересек границу залива и тихо заскользил дальше, к берегу, где горели дома, на рыжем фоне огня метались маленькие неловкие фигурки, похожие на игрушечных солдатиков, которых Устюжанинов когда-то влюбленно рассматривал в Большерецке у ссыльных офицеров.
Раз горят дома – значит, дело плохо, значит, Беневский сдал свои позиции, отступил к морю и держится теперь на береговой линии. Устюжанинов ощутил, как у него протяжно, тоскливо заныло сердце – такое ощущение у него уже было, когда он на «Святом Петре» покидал Камчатку, – знакомая штука, очень нехорошая… Старики в Большерецке сказывали, что от этого нытья сердце может запросто остановиться.
Хорошо, у нападавших не было лодок, плавать по реке Тунгумбали они не рисковали, да и плавать-то особо не умели, иначе бы саранчовой массой навалились на Беневского с воды, он бы даже не успел развернуть пушки.
Горела южная часть Луисбурга, захваченная сафирубаями, и западная часть, которую взяли сакалавы. Беневский отбивался с помощью пушек, но отбиваться бесконечно он не мог – запасы пороха и ядер были у него небезграничны. «Маркиза де Марбёф» подоспела вовремя.
– Пушки правого борта – пли! – громко, словно бы пропел призывную песню, скомандовал капитан «Маркизы», фрегат, развернувшийся к берегу правым бортом, окутался дымом, от залпа вздрогнули паруса, корабль накренился к воде противоположным бортом и капитан взрезал пространство громким острым криком:
– Левым бортом к берегу – разворачивайся!
Пока фрегат, скрипя снастями, разворачивался к земле левым бортом, пушкари правого борта заряжали орудия. Так и предстояло кораблю старчески скрипеть такелажем, чтобы беспрерывно вести огонь.
– Пли! – вновь скомандовал капитан. От второго залпа фрегат даже присел, погрузился в воду на треть борта, нападавшие, угодив под разрывающиеся ядра, крича истошно, покатились по берегу.
Огнем своим «Маркиза» отогнала нападавших к окраине Луисбурга, ядра туда не доставали, поэтому налетчики умерили свой бег, остановились, начали соображать, как же действовать дальше.
А «Маркиза де Марбёф» спустила на воду две шлюпки, в них попрыгали человек двадцать матросов и под дружное «А-ах!» шлюпки двинулись к берегу. Устюжанинов сидел на передней шлюпке и подгонял людей, работавших веслами:
– Быстрее, быстрее, быстрее!
Когда до кромки берега оставалось метров пятнадцать, он, не боясь набрать в ботфорты воды, перепрыгнул через борт шлюпки и, разбрасывая сеево брызг, понесся к берегу – увидел Беневского.
Беневский шагнул навстречу Алеше. Обнял его.
– Видишь, что тут у нас происходит! – сиплым севшим голосом проговорил он.
– Это работа губернатора Пуавра, – произнес Устюжанинов.
Вместо ответа Беневский глянул на него неверяще.
– Неужели он мог так низко опуститься? – Беневский сожалеюще покачал головой. – Хотя от него можно все ожидать.
– Я узнал обо всем этом на Иль-де-Франсе и поспешил сюда… Но не успел, учитель. Прости меня!
– Ты ни в чем не виноват, Альоша, – Беневский легонько похлопал его ладонью по спине, прижал к себе. – Виноваты другие. К сожалению, мы еле держимся, – пожаловался он. – Еще немного и нас загонят в наши горящие дома и там сожгут.
– А «Маркиза» разве не поможет?
– Поможет, но помощь эта будет недолгой. Очень скоро сафирубаи и сакалавы привыкнут к пушкам фрегата…
– Надо обращаться за помощью, учитель, – возбужденно проговорил Устюжанинов.
– Кто поможет? Губернатор Иль-де-Франса? – Беневский усмехнулся горько. – Гарнизон форта Дофин? Или кто-то из окружения Пуавра?
– Я знаю, кто поможет.
– Ну! – Беневский откинулся от Алеши.
– Зана-малата.
Когда положение защитников Луисбурга сделалось совсем плохим, когда осаждающие вновь взяли их в полукольцо и прижали к морю, когда «Маркиза» ничем не могла их выручить – у нее закончился запас пороха и ядер, пушки от перегрева покрылись окалиной, а от соприкосновения со стволами горели деревянные борта, в море появилось десятка три больших лодок под парусами. Шли суденышки ходко.
Усталое лицо Беневского потяжелело – неужели придется драться и с этими неведомыми «лодочниками»?
– Трубу мне! – выкрикнул он.
Ему дали подзорную трубу. Он пробежался ею по лодкам, надеясь рассмотреть находящихся там людей и увидеть кого-нибудь из знакомых.
Но знакомых в лодках не было.
– Учитель, дайте мне трубу, – попросил Устюжанинов.
Тот протянул ему «монекуляр». Едва наведя трубу на резкость, Устюжанинов воскликнул, обрадованно:
– Это наши! Зана-малата на подходе! – Он был прав: на выручку пришел Джон Плантен, не опоздал старый разбойник. – Ур-ра! – закричал Устюжанинов – Мы спасены!
Лодки буканьеров втыкались носами в кромку берега, из них выскакивали люди Плантена и с рычанием, подгоняя самих себя, понеслись на сафирубаев. Одновременно из леса выступило и племя анимароа, ведомое вождем Винци, побратимом Беневского.
Сафирубаи сопротивлялись отчаянно, но были смяты, попробовали прорубиться через боевые порядки Винци, но не смогли и тогда, побросав оружие, они опустились на землю – признали себя побежденными.
Следом за ними на колени встало и племя сакалавов.
Напрасно раскрашенным чертом носился в дыму, что-то крича, Махертомпа, размахивал длинным копьем, угрожал своим подчиненным – ничего не подействовало – люди уже не слушались его. Махертомпа перестал быть вождем своего племени.
Лицо у Махертомпы исказилось, он ткнул копьем в одного из воинов анимароа, неосторожно приблизившегося к нему, плечо у того быстро залила кровь – вероятно, сафирубай задел какую-то артерию, – тут же вождя сафирубаев, выкрикивая что-то громко, атаковали сразу три воина анимароа. Махертомпа рубился отчаянно, отступил в лес, метнул в одного из воинов копье, в результате у него остался один меч с дорогой костяной ручкой, украшенной камнями, теперь только на меч вождь и мог надеяться. Или на чудо. Но чуда не произошло – просто не могло произойти.
Рубился Махертомпа ловко – прошел хорошую школу в нападениях на другие племена, – но уступил напору воинов анимароа, они прижали вождя сафирубаев к реке и загнали в рябую красную воду.
Тут же к нему устремились три крокодила, они словно бы специально вознамерились пообедать измазанным копотью, кровью, пóтом предводителем племени и поджидали именно его. Другие участники битвы в Луисбурге их не интересовали – слишком тощие были.
А этот – упитанный, несмотря на чумазость и пот, ухоженный, со сладким мясом.
Увидев крокодилов, воины анимароа опустили мечи.
Восстанавливать Луисбург полностью не имело смысла. Беневский решил отремонтировать те дома, которые пострадали, – за счет племен сафирубаев и сакалавов, – привести в порядок улицы, портовые склады, в которых оборонявшиеся занимали последнюю свою позицию, а для будущей столицы подыскать другое место.
Если этого не сделать, то здесь, в Луисбурге, в следующую зиму, их снова достанет малярия, трепать будет так, что у людей вылезут последние волосы и выпадут зубы, не говоря уже о том, что внутренние органы превратятся в обычную гниль… От зимы, от малярии, надо было уходить в другое место, более здоровое.
Это место Беневский подыскал в живописной свежей долине, в которой росли высоченные, достающие до неба равеналы – пальмы, подле которых всегда можно было найти воду. Если рядом с пальмой не окажется родника, то можно будет вырыть колодец и очень неглубоко найти воду, если вода будет находиться глубже и окажется недосягаемой, то тогда ее можно будет отыскать в листьях равеналы.
Там, где растет равенала, обязательно существует жизнь.
Долину рассекала спокойная, на удивление чистая река, вода в которой не была такой красной и мутной, как в других реках, Чулошников сбегал к ней с кувшином – взять пробу и пришел удовлетворенный: если в долине пересохнут все до единого родники, эту воду можно будет пить также, как и родниковую. Чулошников не сдержался, вздернул вверх большой палец правой руки:
– Вода не хуже, чем на Камчатке!
На вздернутый палец Чулошникова тут же не замедлила усесться небольшая белогрудая птичка. Совершенно непуганая… Удивился этому Чулошников несказанно, у него даже язык прилип к гортани, он ничего не сумел сказать, только головой помотал изумленно.
Дивная долина эта принадлежала многочисленному, но очень миролюбивому племени самбаривов, в жестоких сварах с другими племенами, как, например, сакалавы и сафирубаи, не замеченному, вождь самбаривов находился в дальнем родстве с вождем бецимисарков Хиваи, так что Беневский мог быть спокоен – вряд ли самбаривы поведут себя, как сафирубаи. И лица у самбаривов другие, более спокойные, в глазах – свет надежности и дружелюбия. Долина понравилась Беневскому.
– Как назовем ее? – деловито осведомился он у своих спутников.
– Падь милосердия, – мгновенно, словно бы ожидал этого вопроса, выпалил Чулошников.
– Слово «падь» известно только в России, здесь этого слова не знают, – сказал Беневский. – Альоша, давай твой вариант.
– Светлая долина… Либо Зеленая долина.
– Слишком по-русски, хотя слово «долина» – хорошее, – Беневский неторопливо оглядел людей, пришедших с ним. – Мы назовем ее… назовем Долиной волонтеров. Я предлагаю так.
– А кто такие волонтеры? – спросил Устюжанинов.
– Хорошие люди, – туманно пояснил Беневский, потом добавил: – Добровольцы. Где водятся волонтеры, там спорится дело.
Последующие дни, недели, месяцы слились в одно большое полотно, полное похожих друг на дружку дней, хлопот, усталости, бессонных ночей, еще чего-то, чему и названия нет.
Жара на новом месте не была такой изнуряющей, как в других местах – с одной стороны Долину волонтеров подпирали горы, не давали проникать ни ветрам, ни туманам, с другой долину защищал густой, очень высокий лес. Какие только деревья там ни росли, каких только цветов ни было!
Фикусы, столь любимые в дворянских домах России, здесь достигали пятнадцатиметровой высоты, если с такой высоты падал лист – мог запросто свернуть голову. Беневский, знаток цветов, иногда уходил в лес, чтобы полюбоваться невидалью, которую в Европе не увидишь даже в ботанических садах.
Огромные фиолетовые крокусы с высокими душистыми тычинками оранжевого цвета, от которых исходил неземной запах, желтые, светящиеся, будто солнце, ирисы, крупная, источающая розовый свет, покрывающая землю сплошным ковром обриета, высокая, с сочными стеблями и узкими листьями эхинацея, очень любимая гигантскими синими бабочками, которых мальгаши называли дулу.
Самбаривы вообще считали, что бабочек на землю присылают добрые духи – самые главные из всех духов Красного острова, а может быть, посылает сам бог Занахари, – и никогда не трогали дулу. Обидеть синюю бабочку считалось у самбаривов большим грехом.
Строительство в Долине волонтеров Беневский начал с крепости и небольшого лагеря, примыкавшего к крепости – чтобы было где отдохнуть или дать отлежаться прихворнувшему человеку. Затем взялся за жилые дома.
Потом построил мост через реку и дорогу к Луисбургу, до которого было, в общем-то, недалеко – шестнадцать сухопутных миль, на реке возвел небольшую плотину… В строительстве нового города принимали участие едва ли не все племена Мадагаскара, – работали даже несколько сакалавов, им интересно было, что же будет возведено на голом месте, где ничего, кроме ветра, травы и цветов и не было.
Да и платил Беневский хорошо, никого не обижал, с вождями, приезжавшими в долину, был приветлив, обязательно чем-нибудь одарял, а если один вождь пытался неожиданно свести счеты с другим вождем, немедленно вмешивался и мирил их.
Авторитет Беневского вырос на Мадагаскаре настолько, что, пожалуй, даже у престарелого французского короля Людовика Пятнадцатого популярности было меньше – слава Маурицы перекрывала славу версальского монарха. Да потом король был далеко, а Беневский близко.
Вместе с авторитетом Беневского вырос авторитет всех белых, находившихся с ним, и как написал впоследствии исследователь личности нашего героя Василий Балязин, мальгаши отличали спутников Беневского от всех других белых, приходивших когда-либо на Мадагаскар, и «дружелюбно и благожелательно» встречали «в каждой деревне от крепости Августа до Мозамбикского пролива и от мыса Святой Марии до мыса Нгонси. Добрая слава Беневского гостеприимно открывала перед ними двери деревенских хижин, а добрые дела русских людей, оказавшихся на Мадагаскаре, в свою очередь, укрепляли авторитет Мориса Августа, поселившегося в Долине волонтеров. Поэтому, когда зимой 1775 года в племени толгашей умер бездетный король Рамини, старейшины толгашей от имени всех людей племени попросили Беневского стать их королем».
Стать королем Беневский не согласился, прижал к сердцу обе руки и щедро одарил посланцев – для подарков он специально держал отдельное помещение. Выбрав подарки побогаче и вручив их ходокам, он сказал, что для связей, для поддержания добрых отношений направит толгашам своего человека, очень близкого – Алексея Устюжанинова.
Посланцы с радостью согласились… Конечно, Устюжанинов – не Беневский, но все равно шибко большой белый человек.
Алексей стал уже совсем взрослым, плечи у него раздвинулись, он окреп, подрос, золотистый пушок, росший у него на щеках и подбородке, превратился в аккуратную, обкладную, очень нежную бородку, окаймлявшую низ лица… Вряд ли бы сейчас его узнал родной батюшка – степенный ичинский священник отец Алексий… Да и жив ли он сейчас, батюшка его – кто знает?
При мысли об отце лицо Алешино замыкалось, становилось угрюмым, глаза светлели от печали…
Хотелось Устюжанинову пожить в Долине волонтеров, в новом доме, да ничего из этого не получилось – пришлось ехать в главную деревню толгашей, расположенную в предгориях, в дом, специально построенный для Беневского. Построили для Беневского, а жить в нем будет он.
Пуавр не успокаивался, теребил королевский двор, забрасывал версальских вельмож подарками и просьбами убрать с Мадагаскара Беневского. Чем быстрее – тем лучше.
Но Беневского защищали влиятельные люди, два могущественных министра – морской и иностранных дел, и Пуавр никак не мог перешибить обух, никакой плетью: Людовик Пятнадцатый, выслушивая просьбы, приходящие с Иль-де-Франса лишь недовольно морщился. Тем дело и заканчивалось.
Пытался Пуавр убрать Беневского и с помощью «рыцарей плаща и кинжала».
В племени толгашей жил человек, имени которого, похоже, никто не знал, но который очень многое умел, – высокий, с плотными короткими волосами, завивающимися на голове, будто каракуль, и спокойным взглядом. А вот движения у него были стремительными, реакцией он обладал такой, что, кажется, мог на лету схватить пулю, выпущенную из мушкета. В деревне его называли Большой Толгаш и только так, другого прозвища у него не было.
Устюжанинов сдружился с ним. Большой Толгаш научил его без промаха стрелять из трехметрового духового ружья, способного нанести урон не меньший, чем боевой мушкет, из лука сшибать пролетных уток и обеспечивать роскошный ужин большой компании, метать нож на пятнадцать метров и пробивать насквозь небольшую, но твердую, как металл, доску, драться двумя мечами сразу…
Так Устюжанинов стал настоящим бойцом, сильным и беспощадным, хотя никогда не думал, что серьезные боевые навыки он приобретет у жителя Мадагаскара, носившего на себе лишь набедренную повязку и никакой другой одежды не признававшего, не говоря уже о воинских доспехах.
Уроки, полученные у Большого Толгаша, пригодились потом Устюжанинову не раз.
Жак Корнье, прибывший в Долину волонтеров, был специалистом по птицам, которых в долине этой, а также в примыкавших к ней лесах, было видимо-невидимо, – разных размеров и калибров, самых невероятных расцветок, голосистых и совершенно безголосых, льнущих к человеку и готовых умереть только от одного его взгляда, старающихся запрятаться от двуногого венца природы подальше в лес и безбоязненного садящихся ему на руку… Было много редких особей – кардиналовые птички фуди, белые скворцы, крохотные яркие мухоловки, которых тут считают райскими, голенастые лиловые цапли и целые колонии розовых голубей.
Первым делом Корнье, хотя и считался специалистом по орнитологии, постарался наловить побольше синих бабочек лулу – во Франции они стоили дорого.
– Ты напрасно это делаешь, парень, – сказал ему Чулошников, – не обижай синих бабочек. Если об этом узнают самбаривы – тебя посадят на кол.
Корнье стиснул зубы. В следующее мгновение на лице его возникла и косо расплылась широкая улыбка, Корнье почувствовал, что улыбка получилась кривая и подправил ее пальцами.
– Спасибо за предупреждение, – сказал он, – это я учту.
Находясь у толгашей, Устюжанинов скучал. Если бы не Большой Толгаш с его уроками боевого мастерства, Алексею было бы совсем худо. Тянуло, сильно тянуло в Долину волонтеров – по душе пришлась радостная зеленая долина Устюжанинову, тянуло повидать Беневского, которого он называл учителем, тянуло к землякам своим – ведь среди желтых лиц толгашей он скоро совсем забудет, как выглядят русские люди, большерецкие земляки-камчадалы.
Как-то на глаза Устюжанинову попался котенок, Алеша глянул на шустрого полосатого сорванца и у него защемило сердце: котенок очень был похож на Прошку – чуть подрастет и будет вылитый кот Митяя Кузнецова, не отличишь, – такой же сообразительный, такой же верный и сильный, всех мадагаскарских собак станет гонять, как те гоняют сидоровых коз, такой же храбрый и стремительный, с ним скоро можно будет ходить даже на охоту на кабанов. В общем, мадагаскарский Прошка имел все шансы стать полной копией Прошки камчатского.
Поразмышляв немного, Устюжанинов взял котенка к себе. Назвал его Прохором. Прохор – это то же самое, что и Прошка, только не такое разбойно-бесшабашное, а с элементами, если хотите, уважения, определяющего отношение как к равному. Прохор привязался к новому хозяину, стал ходить за ним, словно собака, всюду, куда ни направлялся хозяин, туда шел и Прохор.
Толгаши звали кота Пирохиром – Пирохир да Пирохир, Устюжанинова же за цвет его волос звали Белой головой.
За несколько месяцев «Пирохир» сделался толстым сильным котом, который ввязывался в драки не только с собаками, но и со свирепыми красными лемурами. Лемуры, несмотря на свои добродушные симпатичные мордахи, часто бывали очень злыми, налетали на деревни и подчистую съедали все, что росло на обработанных клочках земли, примыкающим к хижинам; в России такие земли называли огородами.
Из-за одного такого огорода Прохор и схватился сразу с тремя лемурами. Лемуры были сильнее кота, но кот – ловчее, быстрее, он вообще был соткан из скорости и мускулов.
В результате, ошеломленно мотая окровавленными мордами, лемуры умчались в лес. Прохор, гордо распушив усы и пофыркивая удовлетворенно, с бравым видом прошелся по кромке огорода, который защитил, из глаз его лился победный свет.
– Все, Прохор, отныне ты всегда будешь рядом со мной, – сказал ему Устюжанинов. – Ежели я поеду в Париж, ты тоже поедешь туда же.
Прохор был доволен.
Прошло еще некоторое время и у Алеши начало тоскливо стискивать сердце словно бы где-то рядом, совсем рядом, происходило что-то недоброе, грозящее бедой, – может быть, даже ему самому грозящее, а Устюжанинов об этом ничего не знает. Маята навалилась на него от такого неведения, от беспокойства. Устюжанинов не выдержал, плюнул на все и отправился в Долину волонтеров, в форт Августа.
Увидев его, Беневский удивленно вскинул голову:
– Чего так, Альоша? Случилось что-то?
– Нет, не случилось, – хотел Устюжанинов сказать про маяту, которая уже начала дырявить ему сердце, – даже в груди что-то свистит, но постеснялся, виновато опустил голову: может, действительно не надо было покидать главную деревню толгашей?
– Ладно, – добродушно произнес Беневский, хлопнул Устюжанинова по плечу, – поживи пока здесь, приди в себя немного, потом вновь вернешься к толгашам.
– Да, учитель, – покорно наклонил голову Устюжанинов.
– И вообще, ты прав, – Беневский засек покорную виноватость Устюжанинова, все ему стало ясно и он прижал Алексея к себе. – Ты прав, Долину волонтеров покидать надолго нельзя, здесь у нас всех – дом. Общий, отчий… Именно отчий, поскольку неведомо совершенно, что сделалось с отчими домами на нашей родине, – лицо у Беневского погрустнело, – на моей родине, на твоей, Альоша.
Беневский добился того, к чему стремился – построил в живописной, всегда ярко освещенной солнцем долине городок с обществом, где все были равны, независимо от того, что они имели в кошельке и какого цвета была у них кожа, в обществе их были введены запреты на такие низменные чувства, как высокомерие, желание угнетать, злоба, неуважение к другому человеку – солнце ведь светит всем одинаково, и обогревает всех одинаково, и кровь у всех здешних обитателей одного цвета, радуются и горюют все одинаково… И рождены все женщиной, мамой, а не дикими зверями.
Так почему же одни должны стоять на верхней ступеньке лестницы, поближе к небу, а другие, наоборот, прозябать на самой нижней?
Несправедливо это.
На второй день Устюжанинов увидел на окраине деревни человека, который одним сачком – без всяких силков и плетеных ловушек, – поймал редкостную зеленогрудую мухоловку, – сделал это очень искусно, поднес птаху к лицу, проговорил довольно:
– Це-це-це-це! Такой экземпляр стоит столько же, сколько и графская карета с золочеными колесами.
Он поцеловал птичку в крохотную головку и сунул в мешок, сшитый из кожи, рябой от специально проделанных пробоин, – чтобы птахам-пленницам было чем дышать.
Лицо этого ловца птиц было знакомо Устюжанинову. Только где же конкретно он его видел, где? Высокий рост, небрежные движения, гордый постав головы, уверенный взгляд, лицо очень красивое и знакомое…
Где же он видел этого самоуверенного красавца? Конечно же не на Мадагас каре, не в племени толгашей – здесь каждый белый на виду…
Память – инструмент услужливый. Особенно в молодые годы. Устюжанинов вспомнил, где видел этого любителя птичек. На Иль-де-Франсе. Вместе с аббатом Роттоном он сидел на скамье перед особняком, в котором располагалась канцелярия губернатора. Был яркий день, припекало солнце, птицы, сидя на ветках деревьев, распевали веселые песни…
Вот из дверей особняка вышел карлик, чей крупный нос был еще более укрупнен красовавшейся на нем бородавкой, – колченогий, заваливающийся то на одну сторону, то на другую, но, несмотря на убогость, очень важный.
Аббат сказал, что этот человек управляет канцелярией губернатора и ненавидит Беневского. Как же фамилия этого карлика? Устюжанинов сморщился, чуть не застонал от досады – фамилия крутилась в голове, от нее даже звон шел, но не могла выскочить на кончик языка. Наконец выскочила – Балью.
Следом за хромающим карликом вышел этот вот красавец – полная противоположность колченогому коротышке. Красавец пристроился к Балью и они вместе пошли к карете.
…Через час Устюжанинов встретился с Беневским, рассказал ему об орнитологе. Беневский присел на стул, задумался. Просидев несколько минут неподвижно, – он словно бы слушал самого себя, – выпрямился и произнес со вздохом:
– Ведет он себя, как говорите вы, русские, тише воды, ниже травы, ни в чем худом замечен не был…
– Учитель, но это еще ничего не значит, – осторожно заметил Устюжанинов.
– Естественно, ничего… Но на Камчатке, насколько я помню, старые люди замечали очень верно: без огня нет дыма.
– Нет дыма без огня.
– От перемены мест слагаемых сумма не меняется, Альоша.
– Совершенно точно, учитель.
– Фамилия этого человека – Корнье. Жак Корнье. Приехал он к нам из Парижа. По профессии – орнитолог, ученый муж, занимается птицами. Ловит их, выдирает перья, измеряет длину лап, фиксирует голоса, запоминает их, зарисовывает акварелью внешность, раскрашивает… Но это совершенно ничего не значит. По ночам он, Альоша, может запросто натянуть на плечи черный плащ, а на лицо – маску… И я уверен – он это делает.
– Как и губернатор Пуавр.
– Пуавр – большой мерзавец. Он даже королю не подчиняется. У него один король – собственный кошель.
– Понятно одно, учитель: хорошего человека Пуавр сюда не пошлет – это раз, и два – писаный красавец этот был замечен и мною и Чулошниковым в районе кухни. Чего ему там надо? Птичек ловить в супе?
– А вот это уже серьезно, Альоша.
Через три дня Жак Корнье появился на кухне Беневского, когда там никого не было. Торопливо, очень нервно огляделся и сунул пальцы себе в карман.
В это время сзади у него возникли двое – беззвучные, сильные, они словно бы вытаяли из воздуха и схватили орнитолога за запястья. Сжали крепко – не вырваться.
– Ну-ка, показывай, чего прячешь в кармане? – велел ему Чулошников.
Орнитолог попробовал вывернуться, освободить руки, но из этого ничего не вышло, силы были неравны, он не тянул не то, чтобы против двоих – не тянул даже против одного Устюжанинова.
– Тихо, тихо, тихо, – предупредил его Чулошников, – меньше движений, господин хороший, – лучше чувствовать себя будешь. Понятно это?
– Понятно, – сквозь зубы выдавил орнитолог.
Чулошников вздернул из кармана просторной холщовой куртки застрявшую там руку орнитолога, потом сунул в карман руку свою и вытащил пакетик с каким то порошком, странно хрустящим. Порошок был очень похож на безобидный крахмал.
Больше в кармане ничего не было.
– Что это? – спросил Чулошников, повертел пакетик перед носом орнитолога. – Присыпка против вшей? На голову, под парик, чтобы все хрустело? Или средство от пота? А, господин хороший? Чтобы воняло меньше?
Орнитолог вновь попробовал вырваться из крепкого обжима рук. Бесполезно.
– Сапоги у меня тесные, – пожаловался Корнье, – жмут страшно – ни снять их, ни надеть… Вот я и использую тальк.
– Тальк, говоришь? – Чулошников разорвал пакетик, понюхал его. – А тальк твой, между прочим, тальком совсем не пахнет.
Корнье побледнел, лицо у него исказилось.
– Высококачественный тальк вообще ничем не пахнет.
– Хорошо, – Чулошников потянулся свободной рукой к пышному каравая хлеба, возвышавшемуся на подносе, отщипнул кусок, зажмурился довольно: каравай пахнул вкусно, очень вкусно – у знатока хлеба Чулошникова даже слюнки потекли, – хорошо, – повторил он и посыпал хлеб тальком.
Там, где располагаются кухни, обязательно вертится всякая живность – коты с ободранными физиономиями, приблудные собачонки, иногда появляются сбежавшие из садков куры – в общем, можно увидеть «всякой твари по паре»…
– Тальк, – говоришь? – переспросил Чулошников.
– Тальк, – подтвердил орнитолог.
– Пошли! – Чулошников потянул орнитолога за рукав к выходу.
– Куда?
– Сейчас увидишь.
Лицо орнитолога сделалось еще более бледным.
– Я не хочу.
– А это, друг любезный, мы у тебя даже спрашивать не будем, – Чулошников сделал резкое движение, красивое лицо птицелова исказилось, будто грубый русский причинил ему боль, хотя никакой боли Чулошников французу не причинил.
Они выволокли орнитолога на улицу, там, недалеко от входа, в горячей пыли купались две курицы, чуть подальше, на вышедших людей пялилась лупоглазая кудлатая собачонка.
– Цып-цып-цып! – позвал кур Чулошников.
Те недоуменно глянули на него, но на зов не отозвались, что такой «цып-цып-цып» они не знали, хотя хлеб засекли немедленно и тут же заперебирали к нему лапами.
Собачонка опередила их, взлаяла коротко, на скорости отбила в сторону и выхватила хлеб прямо из руки Чулошникова.
Проглотить хлеб она не успела, в глотке у нее возник ком, собачонка захрипела и дергая лапами, жалким колобком откатилась в сторону. Изо рта у нее брызнула розовая пена.
– Тальк, говоришь? – вновь переспросил Чулошников. Голос его был угрожающим – натекли глухие свинцовые нотки, он рванул орнитолога за рукав. – Пошли дальше!
– К-куда? – испуганным заикающимся тоном выдавил из себя орнитолог, ноги у него обвяли, сделались мягкими.
– К Морису Августовичу. Как он решит, так и будет, его слово – последнее.
Орнитолог попробовал вырваться, задергался, извиваясь всем телом, мычал выдавливая изо рта пузыри, пузыри вспухали на губах, лопались, будто у сумасшедшего. Через несколько мгновений у него затряслась и голова.
– Не дергайся, не изображай из себя прокаженного, – посоветовал Чулошников. – Самое большее, куда ты сможешь убежать – в реку. А кто водится в реке, ты знаешь лучше меня.
Вскрикнув раненно, по-птичьи, – птахи тоже кричали так, когда он их засовывал в клетку, – орнитолог перестал дергаться.
– Молодец! – похвалил его Чулошников.
Беневский выслушал Чулошникова мрачно, осуждающе покачал головой:
– Пуавр не мог придумать ничего лучшего, чем прислать этого дурака, – проговорил он брезгливо.
– И чего же с ним делать? – спросил Чулошников, продолжая крепко держать птицелова за руку. С другого бока его держал, цепко ухватив за запястье, Устюжанинов. – Может, веревку на шею и – через сук ближайшего дерева, а, Морис Августович? Одним мерзавцем на свете будет меньше.
– Не надо, – Беневский отрицательно качнул головой, – не будем пачкать руки. – Отпустите его – пусть идет куда хочет.
– У-у, вонючка… Таких даже свиньи не едят, – просипел Чулошников грозно и, ухватив орнитолога свободной рукой за воротник, вытолкал за порог.
– Больше в Долине волонтеров не появляйся, – он демонстративно отряхнул руки, – иначе будешь просить, чтобы мама тебя назад родила.
Птицелов вновь вскрикнул подбито и поспешной трусцой понесся на окраину деревни. Больше его в Долине волонтеров никто не видел.
– Без этого любителя дохлых ворон даже воздух стал другим, – удовлетворенно констатировал Чулошников, – дышать легче сделалось…
Пойманных птиц, которых Жак Корнье держал в клетках, выпустили, те взмыли в воздух, над крышами домов прощально сбились в яркое облако и рассыпались в разные стороны.
Долина волонтеров продолжала жить своей жизнью.
Из Парижа с опозданием пришла горестная весть – скончался Людовик Пятнадцатый. Чувствовал король себя не по годам плохо, а тут еще умудрился заразиться оспой. Мог бы, конечно, еще пожить на белом свете, годы его были не самые великие, но организм не захотел бороться с болезнью: Людовик умер, когда ему не было и шестидесяти лет.
Но смену пришел новый король – Людовик Шестнадцатый. Пуавр воспрянул духом: всякая новая метла ведь и метет по-новому, надо сделать все, чтобы под эту метлу попал и Беневский… Пуавр довольно ухмылялся и потирал руки: сломает он голову «мадагаскарскому падишаху», обязательно сломает.
Он отправил пространное послание королю, в котором обвинил Беневского во всех грехах, вплоть до непочитания короля и королевы, в распространении клеветнических слухов о престолонаследниках и в измене Франции.
За такие грехи человека не только лишают головы, но и предают затяжному четвертованию.
Беневский же отправил в Париж подарки, золотых слоников – несколько наборов, состоявших из семи изящно сделанных животных: слон большой, слон поменьше, слон средний, слон меньше среднего и так далее. Всего семь фигур.
Это были дорогие подарки.
Пуавр же не сопроводил свое послание даже корзиной неочищенных бананов, не говоря уже о чем-нибудь более существенном – щедростью губернатор Иль-де-Франса никогда не отличался… Скорее наоборот.
Министры, прочитавшие его послание, только посмеялись над стилем и отправили бумагу по назначению – в мусорную корзину.
Но Пуавр решил не сдаваться – настрочил еще один обвинительный текст, с чайным фрегатом Вест-Индской компании отправил во Францию. И опять нулевой результат – письмо губернатора вновь оказалось в мусорном ведре.
Трудно было сбить с нахоженной тропки губернатора Пуавра, добиться своего он решил во чтобы то ни стало: взялся за третье послание.
Управление колониями Франции новый король передал в ведомство морского министра, министром же назначил очень энергичного человека – Сартина. Сартину было дело до всего, начиная с укрупнения калибра корабельных пушек и стволов береговой артиллерии, кончая тем, какую кашу едят матросы на боевых фрегатах и чем занимаются проститутки Марселя в свободное от основной «работы» время.
Прежние покровители Беневского министр иностранных дел герцог д’Эгийон и морской министр граф де Бонна отошли в сторону.
Сартин читал гневные письма и доносы Пуавра, читал отчеты Беневского, сравнивал их и отправлял бумаги губернатора Иль-де-Франса в знакомое место, а значит, – в никуда.
«Пуавр злился, но ничего не мог поделать, – писал Владимир Балязин. – Тогда он решился на последнюю крайность: через подкупленных им придворных сумел, минуя министров, передать в руки нового короля жалобу на Беневского и его покровителей. В этой жалобе он обвинял Беневского в полном пренебрежении интересами Франции, в опасном вольнодумстве, которым он, по словам Пуавра, заражал всех окружающих его людей – не только европейцев, но что страшнее всего – туземцев. Он обвинял Беневского в растрате казенных денег и в личном обогащении за счет короля…»
В общем, губернатор обкладывал Беневского со всех сторон – решил взять его если не мытьем, так катаньем. Выстрелы Пуавра, похоже, достигли цели – в один из угрюмых весенних дней 1776 года на Красном острове появились грозные королевские чиновники – контролеры Белькомб и Шевро.
Оба – сердитые, раздосадованные тем, что им пришлось покинуть праздничный уютный Париж и отправиться на край краев земли щипать какого-то Беневского, о котором они никогда не слышали. Настроены контролеры были решительно и первым делом затребовали к себе все финансовые бумаги главы Долины волонтеров.
Искали нарушения тщательно, высунув языки от усердия, читали не только то, что было начертано в строчках и графах, читали то, что находилось между строчками, – и это изучали прежде всего, в первую очередь.
Потом придирчиво обследовали Долину волонтеров, каждый дом, каждый камень, каждый клочок земли, засаженный банановыми деревьями, несколько дней провели в Луисбурге в поисках места, где Беневский мог бы закопать золото, драгоценные каменья и деньги – такого места не нашли, перебрались в крепость Августа и только что построенный, свеженький форт Сен-Жан.
Этим контролеры не ограничились – начали вызывать к себе на допросы европейцев, проживавших на Мадагаскаре, показания записывали очень тщательно, но ничего худого, свидетельствующего о том, что Беневский действовал вопреки интересам Франции и Его королевского величества, не нашли.
Более того, контролеры постарались повидаться с вождями нескольких племен. встретились в том числе и с королем Хиави, – порасспрашивали вождей о Беневском, в ответ услышали только хорошие отзывы.
Результат был совсем не тот, который ожидал хитрый Пуавр, – контролеры от имени короля выразили Беневскому благодарность, выдали бумагу с большой яркой печатью, свидетельствующую о том, что в действиях Беневского не обнаружено ничего такого, что бы шло во вред Франции и ее достопочтимому монарху, передали Морису мешок с деньгами – целых четыреста пятьдесят тысяч ливров и на корабле, который терпеливо дожидался их в порту, отплыли во Францию.
Вот так закончился грозный визит контролеров Белькомба и Шевро. Пуавр кусал локти от досады, но ничего поделать не мог: он пожинал плоды дел своих. Надо было менять тактику.
Пуавр перестал слать кляузные депеши в Версаль: понял, что сам может с этими депешами здорово вляпаться и вообще, это бесполезно – тем более, что из Парижа уже приходили новости (и не одна), где Пуавр был выставлен, как кляузник. Только этого ему не хватало!
И что же придумал губернатор Пуавр?
Первое – он стал засылать на Мадагаскар своих людей, которые распространяли слухи о том, что Беневский – это вовсе не Беневский, который два десятилетия назад сложил голову где-то в Австрии, Беневский, которого видят на Мадагаскаре – это страшный белый колдун Мнакафу. Мнакафу, чтобы жить вечно, пожирает сердца мальгашей. Именно сейчас Беневский и делает это на Красном острове.
Тревожная новость эта приходила, в основном, из глухих деревень, расположенных на берегу Мозамбикского пролива, приходили и подробности преступлений Белого колдуна – обычно он спускается ночью по лунному лучу на землю, через дымовые отверстия попадает в хижины и выедает у спящих людей сердца.
Спящие даже не чувствуют, как он это делает… Утром их находят мертвыми.
Распространением недоброй молвы Пуавр не ограничился – с Иль-де-Франса один за другим начали прибывать пакетботы, нагруженные водочными бочонками и привлекательными, хотя и недорогими дарами – бусами, латунными гребнями, расписными веерами, шелковыми платками, прочей незначительной, но приятной чепухой, – но больше всего на пакетботах было, конечно же, водки.
Обитатели мальгашских деревень валялись, не просыхая, по паре недель в лежку в своих хижинах – капитаны пакетботов свое дело знали, как сельские пастыри церковные обряды: мальгаши получали бочонки регулярно.
В общем, плохая молва приползала в Долину волонтеров с западного – Мозамбикского побережья. Беневский выслушивал эти новости со спокойным, почти каменным лицом.
Взорвался он чуть позже – когда безмятежным апрельским вечером, сиреневым от хорошо прогретого воздуха ему сообщили, что около деревни Ватумандри бросил якорь неведомый военный корабль, с которого высадились человек двадцать пять солдат и матросов, окружили деревню кольцом и забрали всех молодых женщин и мужчин. Загнали их в трюм.
Оставшимся в домах старикам объяснили, что таково веление Беневского – задержанные люди будут проданы в рабство. Деньги, которые выручат от продажи, пойдут на укрепление форта Августа.
Старики поверили этому сообщению и уселись в погребальный кружок. Вскоре раздался их тихий сдавленный плач.
Рассвирепевший Беневский недолго метался по своему дому, в себя он пришел скоро, на лице его возникло жесткое выражение.
– Ну что ж, – произнес он свистящим шепотом, – если вы хотите войну, то вы ее получите…
Войны с Пуавром Беневский не боялся, но сейчас в схватку вступили силы более могущественные, перед которыми губернатор Иль-де-Франса был обычным сосунком, еще не научившимся ходить, а именно Вест-Индская компания, у которой имелись не только чайные клиперы, но и боевые корабли, с современными пушками и хорошо вымуштрованные солдаты, деньги и отлично организованная шпионская сеть с ядами, кинжалами и широким набором средств, предназначенных для уничтожения людей. Перед Вест-Индской компанией губернатор Пуавр был мелким шалунишкой, рядовым несмышленышем, недожаренным сморчком.
Вест-Индская компания – это было серьезно.
И Беневский решил собрать Великий совет племенных вождей Мадагаскара.
Великий совет вождей Мадагаскара заседал в крепости Августа десятого мая 1776 года, приняли в нем участие шестьдесят человек – все шестьдесят были наделены в своих племенах неограниченной властью.
Беневский выступил перед собравшимися с гневной речью, слова его взрезали воздух, словно пули. Время не сохранило текст речи, да и опытные хроникеры тогда еще на Мадагаскаре не водились, известно только, что Беневский говорил о том, что Пуавр и Вест-Индская компания объявили Мадагаскару войну. Люди, затеявшие эту войну, спаивают племена, отравляют водоемы, засыпая их ядовитыми орехами тантуинами. Люди и скот, отведавшие такой воды, умирают в тяжких мучениях.
И если людей врачевателям иногда удается вернуть к жизни, то больших и сильных быков-зебу – ни разу. Все они были обречены.
В лесах Мадагаскара, где полно очень ценных деревьев, за которые Париж платит золотом, стали часто вспыхивать пожары, раньше их не было, а сейчас полыхают один за другим, – следом за лесами начали загораться деревни и загоны для скота. Бурные в дождливую пору реки неожиданно меняли русла и заливали поля, напрочь уничтожая все, что на них росло и вымывая удобренную землю до основания.
Виною таких изменений оказались человеческие руки, прокопавшие в плотинах дыры… Но вершиной злодеяния все-таки стало нападение неведомого корабля на деревню Ватумандри…
– И что самое подлое – деревенскому старосте объявили, что делается это по моему приказу. Разве я мог отдать такой приказа, скажите, вожди?
Собравшиеся как один отрицательно покачали головами:
– Нет.
– Решайте, что делать, вожди, – сказал Беневский, глянул куда-то вдаль, в синеву неба, – Мадагаскару объявлена война, – добавил он. Потом, немного подумав и посуровев лицом, произнес спокойно: – И мне тоже.
– Мы не сдадимся, – сказал Джон Плантен, – будем стоять до последнего. Но чтобы мы были сильнее, чтобы смогли сломать голову и Пуавру и Вест-Индской компании, мы должны объединиться. Живя порознь, мы обязаны быть вместе, иначе, неровен час, кого-нибудь из нас отобьют и задушат. Нам нужно избрать предводителя, своего короля, ампансакабе… Как вы на это смотрите, вожди?
Несколько вождей, – но не все, – согласно наклонили головы. Кто-то заколебался, – это было видно по растерянным лицам, но большинство Плантена поддержало.
– Для этого нам нужен человек, которому бы мы все верили, как самим себе. Я прав, вожди?
Большинство из собравшихся вновь наклонили головы.
– И я так думаю, – сказал Плантен. – Среди нас есть один очень достойный человек, – Плантен сделал паузу и тогда его слова подхватил вождь племени бецилео, племя это славилось тем, что выращивало лучший на Мадагаскаре рис.
– Я знаю, кто это, – воскликнул он и вздернул над собой обе руки, – это Морис Август Беневский.
Вождя бецилео также горячо поддержал вождь племени вазимба, сухой старик с седой, будто бы присыпанной солью головой.
– Да, это Морис Август Беневский! – громко произнес он.
– Погодите, погодите, не торопитесь, – Беневский поднял руку, окорачивая шум, – среди вас есть более достойные, более мудрые люди, для которых эта должность, – он на мгновение споткнулся на слове «должность», но в следующее мгновение выпрямился и продолжил: – эта должность будет и по заслугам и по плечу, поэтому не торопитесь, друзья, с выбором. Я не должен быть единственной кандидатурой для выбора… Королем должен стать лучший из лучших.
Во дворе дома Беневского, в самом углу, было вырыто небольшое озерцо, по берегу, клекоча по-индюшачьи, с важным видом ходили три павлина, охорашивались, красовались друг перед другом, будто балерины из славного города Парижа, распускали хвосты красочными веерами.
– Думайте, думайте, друзья мои, – подогнал тем временем Беневский вождей, – думайте и решайте.
Вожди долго ломали головы, перебрали несколько имен, поспорили, за обедом выпили бананового вина, вновь поспорили и пришли к выводу – лучшего короля, чем Беневский, на Мадагаскаре не найти. А раз это так, то быть королем Беневскому, только ему и больше никому.
Мадагаскар – большой, это не просто остров, а огромная земля, часть света не меньше Австралии, не все вожди, конечно, смогли прибыть на Большой совет – для многих был слишком долог и опасен этот путь, но все без исключения (даже те вожди, которые не сумели появиться на совете) приняли декларацию, которая была разослана по всем деревням Мадагаскара.
В декларации были такие слова: «Все люди от рождения сотворены быть равными. И не может один человек быть рабом, а другой – его господином, один корчиться от боли, усталости и унижения, а другой попирать его башмаком с алмазной пряжкой и лакомиться сладостями из золотого блюда».
Декларацию написал сам Беневский, у него имелся дар очень толкового литератора.
Обретя высокие полномочия, Беневский не замедлил отправить послание на Иль-де-Франс, самому Пуавру, в котором предупредил его, что «мальгаши будут пускать на дно каждый корабль, который приблизится к Мадагаскару для отлова невольников, а матросов и капитанов таких кораблей станут вешать на реях, как пиратов».
Губернатор, получив это послание, затопал от ярости башмаками так, что на одном из них оборвалась золотая пряжка, сломал два гусиных пера и вызвал к себе капитана Ларшера.
– Ну как тебе нравится этот взбесившийся полячишка? – сопя тяжело, спросил губернатор.
– Совсем не нравится, – ответил Ларшер.
– Надо готовиться к походу против этого объевшегося белены таракана.
Ларшер покорно щелкнул каблуками.
– Есть готовиться к походу, ваше высокопревосходительство! – отчеканил он громким голосом, заставившим задзенькать стекла в окне.
Губернатор поморщился, запустил палец под парик и энергично поковырялся в ухе.
– Не оглушайте, Ларшер. Так ведь можно и слуха лишиться.
– Извините, экселенц, – повинился бравый капитан.
Прощающе махнув рукой, губернатор поморщился вновь, приложил руку к щеке, словно бы у него собирались разболеться зубы и повторил ровным и холодным тоном, уже совершенно лишенным ноток ярости:
– Готовьтесь к походу на Мадагаскар, Ларшер.
Губернатор был человеком расчетливым и трезвым, из себя выходил редко, хотя при упоминании имени Беневского у него всегда начинали влажнеть губы, будто от прилива слюны: очень уж ему хотелось съесть этого человека. Намазать сладкой парижской горчицей и съесть.
Пока вожди находились в Долине волонтеров, Беневский с общего согласия подписал еще один манускрипт, в котором сообщил о назначении Алексея Устюжанинова мальгашским престолонаследником.
Отряд Ларшера прибыл на Мадагаскар через два месяца. Высадился на берегу недалеко от форта Дофин и ускоренным маршем отправился в Долину волонтеров, – Ларшер и его помощник капитан Фоге рассчитывали захватить Беневского врасплох, но из затеи этой шальной ничего не получилось – Маурицы за несколько часов до прихода неприятеля узнал, кто и с какими целями движется к нему в гости.
Едва Ларшер приблизился к крепости Августа, как из бойниц, пробитых в стенах форта, ударили пушки. Заряд картечи буквально смел группу солдат, идущих впереди колонны – свинец расшвырял людей, будто мусор, часть колонны унеслась в лес с такой скоростью, что ее невозможно было догнать даже на лошадях.
– Куда, канальи? – орал вслед капитан Фоге. – Дерьмо собачье! А ну, назад!
Громовой голос капитана, чье лицо сделалось красным, будто гигантский стручок перца, а сабельные шрамы, наоборот, побелели, сделав физиономию Фоге полосатой, как роба каторжника, отрезвил солдат, часть из них, смущенно отряхиваясь, вернулась в строй.
Началась война. Одна из самых громких и жестоких на Мадагаскаре, все предыдущие войны были местечковыми и, если хотите, тихими, похожими на обычные стычки: одно племя воевало против другого, бросив в молотилку человек семь солдат, противник ограничивался тем же самым, через некоторое время враги довольно мирно расходились, чтобы передохнуть, перекусить, отведать жареной поросятины, посудачить с соседями о последних сплетнях и начать подготовку к следующему этапу войны.
Нынешняя же война была затяжной, убойной. Ларшер подтянул артиллерию, ближайшие леса стали стали мертвыми от яростной пушечной пальбы.
В конце концов французы вытеснили Беневского из крепости Августа и загнали в деревушку Маран-Ситцли, расположенную в пальмовом лесу, подступающему к самой кромке прибоя.
Хоть и небольшая была деревушка, а очень удобная для обороны, имела свою бухту, имела природные насыпи, надежно прикрывающие засевших за ними стрелков, – а буканьеры Джона Плантена были очень недурными стрелками, муху свинцовой пулей на лету, конечно, не сбивали, но гуся, прилетевшего на Мадагаскар перезимовать, сбивали легко, – в лесу существовали потайные тропы, которых французы не знали, а люди Беневского знали.
Людей у Ларшера было в несколько раз больше, чем у Беневского, и боеприпасов больше – форт Дофин имел солидный склад, в котором хранилось все, что нужно было для успешных военных действий, поэтому Ларшер без тени смущения опорожнял его.
Второй капитан, страшный, с остановившимися оловянными глазами, охотно помогал ему в этом. Ноги у Фоге при ходьбе заливисто скрипели, будто деревянные протезы, вызывали на зубах отчаянную щекотку, смазать бы эти костыли чем-нибудь, но чем можно смазать заржавевшие костяные сочленения?
– Вперед, канальи! – орал Фоге, посылая солдат на почерневшую от огня насыпь, за которой сидели буканьеры, но солдаты не слушались его: очень уж не хотелось угодить под свинец потомка какого-нибудь знаменитого пирата (да и незнаменитого тоже) пуля и одного и другого дырявит одинаково роскошно, через отверстие можно свободно рассматривать поле боя. – Вперед, канальи низкожопые! – орал Фоге из последних сил, громыхал костями, но сам под пули буканьеров не лез.
Устюжанинов, потемневший от пороховой копоти, с красными, зудящими от того, что мало спал, глазами, все это время находился рядом с Беневским, прикрывал его в опасные минуты, делился порохом и хлебом.
Война эта много дала Устюжанинову, он стал в ней настоящим солдатом. Наука, преподнесенная ему Большим Толгашем, получила развитие, многому его научили и буканьеры, у которых пиратские приемы сидели в крови, в результате Устюжанинов превратился в человека, который мог с голыми руками идти на ларшеровских солдат, вооруженных саблями и даже мушкетами – брал ловкостью, сообразительностью, выдержкой, внезапностью.
– Заматерел ты, Альоша, – сказал ему Беневский, – настоящим мужчиной стал. А был… – Беневский нагнулся, отмерил рукой немного от земли, – такой вот был, полметра с париком.
Лицо у Беневского было темным, глаза ввалились, руки заскорузли, огрубели от пороха – долгие дни боев дались ему непросто. На прежнего лихого Беневского он не был похож совершенно, и одновременно это был тот Беневский, которого Алеша знал и любил: внутренне шеф не изменился.
Беневский понял, о чем сейчас думает Устюжанинов, проговорил горьким, словно бы прокуренным, чужим от едкого пороха голосом:
– Все течет, все изменяется. Время идет, Альоша!
Что верно, то верно, время двигалось со скоростью такой, что – не догнать.
Солдаты Ларшера обложили их плотно, не вырваться, – и с моря обложили, там стояли два фрегата с постоянно заряженными пушками, и с берега – плотное трехслойное кольцо сжимало Беневского.
Но самое худое было не это, другое – кончался боезапас, ни пороха уже не было, ни свинца, стрелять становилось нечем.
– Нам придется отсюда уйти, Альоша, – сказал Беневский печально, – нас выдавили из Мадагаскара. Увы!
Какое обидное, нехорошее, опустошающее слово «Выдавили!» Устюжанинов крепко, до крови, закусил нижнюю губу и опустил внезапно потяжелевшую голову. Под ногами шевелилась рыжая тень – невдалеке горел дом, легкий смолистый дым накрывал бойцов Беневского сизой кисеей, делал их невидимыми на несколько мгновений, потом уползал в лес, втягивался в пространство между деревьями и исчезал.
Наступала очередная ночь, тревожная и холодная.
Ушли они из деревни Маран-Ситцли через двое суток, в глубокой темноте, благополучно миновали оцепление ларшеровцев и очутились в разбитом ядрами лесу – это была работа фрегатов Ларшера, стреляли пушкари не метко, боялись попасть по своим, и это спасало людей Беневского, иначе бы потери были гораздо больше; в чернильной, наполненной фосфорным свечением гнилья темноте прошли лес насквозь и через час оказались на пустынном берегу, по которому, скрежеща лапами и клешнявками, бегали крабы. Крабов было много.
Вождь племени амароа Винцы, который провожал Беневского вместе со своими воинами, черкнул кресцалом по кремню, выбил огонь и запалил небольшой факел.
Море, находившееся совсем рядом, почти под ногами, стремительно отодвинулось в темноту, заплескалось там обеспокоенно, Устюжанинов вгляделся в чернильные пласты пространства и неожиданно увидел там прозрачно-серый силуэт.
Это была «Маркиза де Марбёф». На «Маркизе» засекли огонь, возникший на берегу, под косо нависшими над водой пальмами, и поспешно спустили, одну за другой, две шлюпки.
Гребцы зашлепали по воде веслами, устремляясь на свет факела. Винцы оцепил часть берега воинами, чтобы со стороны леса не подобрались французы и теперь стоял в стороне, держа в руке смоляной факел.
– Мне очень жаль, что мой брат покидает меня, – сказал он Беневскому.
– Я еще вернусь, Винцы, – Беневский крепко сжал пальцами локоть вождя народа амароа.
– Мадагаскар ждет тебя, брат, – произнес Винцы тихо, едва слышно и также сжал пальцами локоть Беневского.
Устюжанинов неожиданно ощутил, как что-то крепко стиснуло ему глотку, вискам сделалось горячо. Не думал он, что может так прочно прикипеть к Мадагаскару – вон, на глазах даже слезы готовы появиться, а в груди уже шевелится влажная боль.
А может, это и не боль была вовсе, может, это его сердце, начавшее плакать, дает о себе знать? Иначе откуда взяться такому горькому, разъедающему душу ощущению?
Левое плечо у Устюжанинова невольно задергалось, он поднял голову. Лодки находились уже совсем рядом.
Неужели на этом все заканчивается? Устюжанинов сжал зубы, увидел, что темное чернильное пространство перед ним начало двоиться, светлеть, наливаться посторонними красками, сжал зубы посильнее – надо было держать себя в руках.
В несколько заходов шлюпки переправили людей Беневского на «Маркизу», когда лодки на веревках втянули на борт, послышался озабоченно-звонкий голос капитана Жоржа – он теперь был главным на фрегате:
– Поднять якорь!
Якорь был поднят, «Маркиза» развернулась кормой к берегу и тихо двинулась в открытое, пахнущее солью, горечью и еще чем-то тревожным пространство.
С берега принесся ветер, приволок запах горелой травы, изуродованной, оплавленной огнем земли, сожженных домов, построенных Беневским – жить бы в этих домах и радоваться, но нет, доброе дело было загублено Пуавром, Ларшером, Фоге, теми, кто находился рядом с ними, – в общем, было отчего заплакать.
Но Устюжанинов держался. Ветер стих, вместе с ним стих и запах беды, приносившийся с берега. Устюжанинов отер пальцами глаза, услышал за бортом фрегата плеск, затем – влажный трепет, словно бы из-под дождя вылетела большая стрекоза, отряхнулась в воздухе и, набирая скорость, унеслась вдаль. Устюжанинов нагнулся, глянул в темноту.
Над водой, слабо посвечивая во мгле телами, носились летучие рыбы. Казалось бы, их беспечная игра должна была немного стереть горечь, сидевшую в душе, поднять настроение, но этого не было.
Покидать Мадагаскар не хотелось, как, в общем-то, когда-то не хотелось покидать и Камчатку. Что там, на Камчатке, сейчас делается, живы ли люди, которых Алешка Устюжанинов когда-то знал и любил?
Кто может ответить на этот вопрос? Настроение у Устюжанинова было убитым, даже присутствие Беневского, находившегося рядом, не могло поднять его.
Раньше такого не было.
Через несколько минут стрекот летучих рыб за бортом угас, чернильная темнота ночи сгустилась, Мадагаскар растворился в ней бесследно. Удастся сюда вернуться или нет?
Этого не знали ни Беневский, ни Устюжанинов, ни малоповоротливый матрос Потолов, ни Степан Новожилов, умевший из ружья попадать в летящую бабочку…
На Мадагаскаре остались могилы русских людей. Дорогие могилы.
Что день грядущий готовил живым, тем, кто поднялся на борт «Маркизы де Марбёф», было неведомо.
Фрегат уходил все дальше и дальше в море.
На корабле Беневского неожиданно начала трепать лихорадка – недолеченная в спешке малярия взяла его за горло в самый неподходящий момент – во время плавания.
Океан был неспокойным, один шторм наползал на другой, «Маркизу» трепало так, что она совсем ложилась набок и касалась макушками мачт воды, но потом, скрипя, напрягаясь до дрожи, насквозь просаживающей корпус, выпрямлялась, выдергивала из воды паруса и, кренясь, стеная, голося от боли, одолевала очередной вал и следовала дальше.
Тяжелым был путь от Мадагаскара до Портсмута – спокойной английской гавани, где любили отдыхать и чинить потрепанный такелаж суда всех стран мира.
Русские, приплывшие в Портсмут с Беневским и Алешей Устюжаниновым, едва держались на ногах – так их измотало плавание. В Портсмуте решили разбиться – Чулошников, Андреанов и еще несколько человек пересели на судно, уходящее во Францию, в Гавр, оттуда было уже рукой подать и до России, а Беневский, бледный, исхудавший, хворый, и с ним Устюжанинов решили остаться на некоторое время в Англии.
– Поплыли с нами, – уговаривал Чулошников Алешу, – родной дом в России ничто не заменит, никакие красоты, где бы мы ни находились, даже на Мадагаскаре, – родной дом есть родной дом… Поплыли! Решайся, Алексей!
В ответ Устюжанинов отрицательно качал головой:
– Нет, не могу. Учитель болен… Его нельзя оставлять одного.
Беневский действительно был плох – болезнь не отпускала его.
– Жаль! – поняв, что Устюжанинова не уговорить, Чулошников вздохнул, широко раскинул руки. – Ладно, давай прощаться.
– Напиши, – попросил его Алеша, – обязательно напиши, как все сложится, все ли в порядке.
– Напишу, – Чулошников смахнул с глаз мелкие колючие слезки, хотел спросить насчет адреса – куда писать-то? – но не стал ничего спрашивать и, подхватив мешок, перевязанный крест-накрест веревкой, нырнул в мелкий, какой-то липкий, похожий на мокрую пыль дождь и очень быстро исчез в нем. Словно растворился.
В Лондоне Беневский с Устюжаниновым остановились в доме Гиацинта Магеллана, человека, по меркам той поры просвещенного, увлекающегося историей и астрономией, владевшего собственным издательством – книги Магеллана были популярны в британской столице.
В центре Лондона у Магеллана имелся собственный двухэтажный дом, кирпичный, потемневший, сложенный из терракотового кирпича; со временем кирпич стал почти черным: от дыма, выносящегося в воздух из тысяч городских труб, пропитанный сажей, сгоревшим углем, печной грязью, – собственно почти весь Лондон был таким, с трагическим потемнением сложно было бороться только мылом… Магеллан собственным домом гордился очень.
Жил Гиацинт вместе с сестрой, старой чопорной девой, которая одну половину времени проводила на кухне, вторую – в церкви. Магеллан не был женат, поэтому все вопросы, связанные с хозяйством, решала его сестра.
На нынешний день у него была цель: Магеллан решил издать «Мемуары о жизни и приключениях графа и барона Мориса Августа Беневского в Африке, Азии и Европе, в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах», поэтому Беневский и Алеша поселились в его доме.
На улицах было пустынно, с облаков летела серая морось, прибивавшая к каменным мостовым угольную пыль, вылетавшую из труб. Мостовые от влажной налипи становились скользкими, будто их облили жидким мылом, на камнях калечились и люди и лошади.
Вечера проводили у камина, часто молчали, погружаясь в тихие думы. Вспоминая прошлое, Мадагаскар, войну, которую им навязал Пуавр, Устюжанинов с тревогой поглядывал на своего шефа: как он? Не станет ли хуже? Беневский по самый подбородок натягивал теплый верблюжий плед, лежал неподвижно.
Через некоторое время Беневскому сделалось лучше, впрочем, – ненадолго, болезнь цепко держала его, трясла по-разбойному, Морис стискивал зубами боль и закрывал глаза.
Он боялся показаться слабым. Устюжанинов понимал, как Беневскому трудно, переживал за него и молчал. Вот если бы слова могли облегчать боль, тогда бы он говорил…
И все-таки, несмотря на приступы боли, Беневский старался работать над книгой, делал это лежа, прислонив к груди канцелярскую писчую доску и медленно выводя строчки свинцовым грифелем на бумаге. Магеллан терпеливо ждал, когда Беневский сдаст ему первую главу своего повествования. По этой главе станет понятно, насколько будет интересна книга.
Впрочем, то, что рассказывал Беневский, было очень увлекательно – за это обязательно должны будут зацепиться читатели, которым интересны путешествия, войны и приключения.
Через три месяца почтальон принес в особняк Магеллана толстый конверт – это было письмо от Чулошникова. Тот проживал со всей компанией в Париже на улице Бочаров в доме Жака Фелисье…
Непонятно было, как почтальон сумел отыскать Беневского с Устюжаниновым в большом городе, без адреса, без наводящих ориентиров, но что было, то было…
Беневский расплатился с почтальоном щедро, тот даже расцвел при виде большой серебряной монеты, которую сунул ему в руку получатель конверта.
Чулошников писал о том, что «кумпания» их находится в Париже уже полтора месяца и наверняка пробудет еще столько же, а то и больше – месяца два, поскольку они написали прошение царице о помиловании и попросились обратно в Россию. Резидент российской миссии, находящейся в Париже, отнесся к прошению благосклонно и обещал содействие… Теперь вот российские сидельцы каждый день глазеют на Париж и чувствуют себя «погорельцами, перед которыми замаячила надежда, и ждут обнадеживающего ответа из Санкт-Петербурга».
В письме своем Чулошников предлагал Алеше присоединиться к «их кампании», ибо «лучьше дома, чем в России, не найти»; сообщал также, что во французском Гавре, от коего до Парижа пять дней пути, встретил русского «ходока по землям и морям зарубежным», «коий назвался Федором Каржавиным. Оный человек ехать в Россию нас крепко отговаривал, говорил, что-де государыне верить нельзя. И что после возмущения пугачевского ждет нас неминуемо вечная каторга…»
Предупреждения бывалого человека озадачили «кумпанию», но после долгих и горячих – до рукоприкладства, – размышлений решение свое постановили не менять и добиваться того, чтобы им дали «добро» на возвращение домой. Пусть даже через каторжные кандалы.
Написал Чулошников и о том, что в большом, удивительно смахивающем на крикливую гигантскую толпу, бесцельно слоняющуюся между десятками тысяч домов Париже (шутка сказать, в Париже было более пятидесяти тысяч домов, одних только улиц – 967), он неожиданно встретил Ульяну Захарьину, вдову покойного штурмана, раньше часто бывавшего на Камчатке, в Большерецке… В одном из плаваний Захарьин скончался и был похоронен в океане, но дело не в этом – Ульяна не пропала и ныне она уже не вдова, а жена Петра Хрущева.
Сам Хрущев служит в армии французского короля в чине капитана, вместе с ним служит в таком же чине и Дмитрий Кузнецов. Вот как вырос бывший камчатский охотник.
«Медер и Винблад уехали в Швецию, – писал Чулошников далее. – Здешний российский министр-резидент господин Хотинский о том мне рассказал доподлинно и обещал, что и нам будет дозволено на родину возвратиться».
Вот такое письмо прислал в Лондон специалист по купеческим делам Алексей Чулошников. Беневский прочитал послание до конца, сложил его и, потерев пальцами виски, спросил у Устюжанинова в лоб:
– Ну что, Альоша, хочешь вернуться в Россию?
В ответ Устюжанинов только вздохнул, глянул на Беневского – болезнь потрепала того здорово, от бывшего щеголя и бравого офицера мало что осталось – в кресле у камина сидел, накрытый пледом, усталый, неопределенного возраста человек с серыми исхудавшими щеками и тусклым нервным взглядом, – и отрицательно покачал головой:
– Нет, Морис Августович, возвращаться домой мне еще рано.
– Ты не стесняйся, скажи, – голос Беневского сделался настойчивым, – я ведь уже почти здоров, болезнь отступает, Альоша…
– Нет, нет, нет и еще раз нет, Морис Августович. Пока вы не выздоровеете, я вас не покину.
Беневский неприметно, очень кротко улыбнулся, – улыбка была совсем не его, – проговорил тихо:
– Напрасно, Альоша.
И вот ведь что заметил Устюжанинов – именно с этого дня Беневский здорово пошел на поправку. Погода за окнами стояла зимняя, влажная, с неба часто сыпал серый неприятный снег, на мостовых тонким слоем лежала грязь, знаменитый Лондон походил в такие дни на какой-нибудь заштатный городишко, где мэрию невозможно было отличить от булочной, а общественную баню от полицейского участка. Устюжанинов заскучал…
Заметно окрепнувший и уже почти справившийся с болезнью Беневский начал много работать, много больше, чем две недели назад – книга стала заметно подвигаться, – Алеша же начал откровенно изнывать в безделии.
– Знаешь что, Альоша, – сказал ему Беневский, – поезжай-ка ты ко мне на родину, в вербовское имение, и жди меня там. Как только я разделаюсь с книгой, так сразу же приеду туда. А уж в Вербове мы решим, как нам жить дальше и что делать в ближайшие годы.
На том и порешили.
Путь в Вербово был непростой, извилистый, прямых дорог не существовало, поэтому Устюжанинов спланировал это сложное путешествие так: в Портсмуте сядет на корабль, который доставит его в голландский порт Роттердам. «Оттуда по реке Маас он спустится к Рейну и далее поплывет вверх по течению до Страсбурга, затем через Вюртемберг сушей проследует до Ульма, а оттуда, уже опять водой, – на этот раз по Дунаю, – спустится до Братиславы. А там всякий человек знает, как добраться до Вербово».
Вот такой план после подробного рассказа Беневского Алеша занес себе на бумагу.
Беневский бумагу эту прочитал очень внимательно, прочитал дважды – ошибок допускать было нельзя, – и одобрительно кивнул: все правильно. В честь отъезда своего ученика он устроил торжественный ужин, в котором приняли участие и издатель Магеллан, и его чопорная сестра с вечно недовольным лицом…
Ужин, как было принято говорить в таких случаях, удался.
Недаром говорят, что человек предполагает, а Бог располагает. В центре Европы, а именно в Вюртемберге произошел катастрофический сбой, хотя вроде бы ничто, ни одна примета не предвещали худого развития событий.
Германия той поры состояла из нескольких раздробленных княжеств, графств, аббатств, сиятельных владений, герцогств, бюргерств, ландскнехтств и так далее. Все эти разрозненные земли часто ссорились друг с другом, затевали трескучие драки, воровали кур, лошадей, людей, измывались над крестьянами, отнимали скот и даже солому.
Едва ли не самыми главными заведениями на этих землях были тюрьмы, к ним относились примерно с таким же уважением, как и к королевским дворцам.
Едва Устюжанинов переступил границу владений герцога Карла Евгения Вюртембергского, как ему сообщили, что с ним хочет познакомиться начальник герцогской таможни. Устюжанинову это показалось странным, но делать было нечего – он понял, что встречи этой избежать никак не удастся.
Начальником таможни оказался человек ростом чуть выше веника, с оттопыренными губами, будто большую часть своей жизни он играл на дудочке, и изогнутым крючком ястребиным носом.
Увидев Устюжанинова, начальник таможни гордо вздернул голову и произнес неожиданно льстивым, будто у лакея голосом:
– Вы находитесь под покровительством моего господина сиятельного герцога Карла Евгения, который очень доброжелательно относится ко всем иностранцам, прибывающим на нашу землю. Вы, дорогой сударь, впервые в нашем герцогстве?
– Впервые, – недоуменно отозвался Устюжанинов – он не понимал, что нужно от него этому назойливому господину?
– В герцогстве есть разные люди, в том числе и не отличающиеся безупречной репутацией, поэтому мне очень не хотелось бы, чтобы кто-нибудь обидел вас.
– Думаю, сударь, что сделать это будет непросто, – самонадеянно проговорил Устюжанинов.
– Чтобы этого не произошло, я дам вам рекомендательное письмо хозяину лучшей гостиницы в Марбахе…
Судя по тону, которым начальник таможни произнес название городка, более защищенного места, чем гостиница, которая может называться и «Ржавый гвоздь», и «Драный лапоть», и «Пьяная ворона», и еще как-то (названий может быть сотни), нет не только в Вюртембергском герцогстве, но и во всей Европе.
– Не стоит, сударь, не утруждайте себя, – отказался Устюжанинов.
– Не лишайте меня возможности сделать что-нибудь приятное для вас, – голос начальника таможни стал еще более льстивым, – я хочу, чтобы вы оставили о нашей земле доброе впечатление.
Устюжанинов понял, что начальник таможни не отстанет от него и в конце концов махнул рукой: так и быть, пусть этот облезлый веник даст ему клочок бумаги, именуемый письмом.
– Я черкну вам рекомендательное письмецо в отель «Золотой лев». Это лучший отель во владениях моего господина, сиятельного герцога Карла Евгения.
Во время разговора подопечные начальника таможни проверяли багаж Устюжанинова. Устюжанинов был спокоен: трясите, трясите, все равно ничего не вытрясите.
Начальник таможни тем временем довольно шустро настрочил записку Зеппу фон Манштейну, владельцу «Золотого льва», конверт заклеивать не стал, – дескать, секретов от дорогого гостя у него нет, – торжественно вручил Устюжанинову.
И настолько был вежлив начальник таможни, что не взял с Устюжанинова даже обязательной пошлины. Насторожиться бы Алеше, посмотреть на происходящее со стороны – посмотреть жесткими глазами, а не размягченным взглядом и вместо «Золотого льва» завалиться в какой-нибудь безымянный постоялый двор или захудалую меблирашку «Тощий козел», но он поехал к Зеппу фон Манштейну и протянул ему послание:
– Пли-и-из!
Манштейн диковато глянул на гостя и согнулся в низком поклоне, спина у него выгнулась колесом.
– Пожалуйте за мною, – пропел он тонким голосом и заспешил наверх по скрипучей деревянной лестнице.
Он привел Устюжанинова в прохладную боковую комнату, Алеша сбросил с себя одежду, обувь и поспешно нырнул под одеяло – очень уж устал он за нынешний день. Уснул Устюжанинов мгновенно.
А когда проснулся, то увидел, что комната его забита людьми. Среди них – и владелец гостиницы, и начальник таможни, и офицер ночного дозора, охранявшего городок, и стражник в металлических доспехах, и еще кто-то, совсем неведомый и непонятный. Устюжанинов рывком вскинулся на постели.
– Что тут, собственно, происходит?
– Презренный негодяй! – проревел начальник таможни грозным голосом. Глядя на него, трудно было предположить, что в столь щуплом, почти курином тельце может скрываться такой голос.
Стражник в латах тем временем увидел дорожный сундучок Устюжанинова, поспешно подскочил к нему и нетерпеливым грубым рывком откинул крышку. Сундучок едва не рассыпался на отдельные дощечки. Вторым рывком стражник ухватил в горсть нехитрое имущество, хранившееся в сундучке, вывалил на пол.
Начальник таможни нагнулся над грудой, стал ковыряться в ней, выуживать отдельные предметы. Неожиданно он подхватил мятую золотую табакерку, которую Устюжанинов видел первый раз в жизни, вздернул ее высоко над головой.
– Вот она! – закричал он торжествующе. – Это она! Табакерка, украденная у меня… Это она!
Устюжанинов от нехорошего изумления отрицательно помотал головой.
– Эту вещь мне подсунули специально, – проговорил он сиплым, севшим от неожиданности голосом – не верил тому, что видел, – не может быть, чтобы она тут оказалась.
– Ха, не может! – вскричал громче прежнего начальник таможни, помахал табакеркой в воздухе. – А это что такое? Дух святого Меркурия?
Офицер стражи укоризненно посмотрел на Устюжанинова и скомандовал коротко:
– Взять его!
Стражники, стоявшие на лестнице, мигом ухватили его с двух сторон под мышки, с силой развернули: парень был здоровый, боялись не справиться с ним. Устюжанинов действительно хотел упереться, но вовремя сообразил – нельзя этого делать и покорно шагнул на лестничную площадку.
Во дворе «Золотого льва» стоял возок с зарешеченными окнами, специально приспособленный для арестантов, Устюжанинова ткнули в холодное, почему-то пахнущее дегтем нутро возка.
– Гни голову ниже, каторжник, – на ломаном французском проорал один из стражников и засмеялся так, что у Алеши по коже побежал холодок.
На улице мело, с невидимых туч сыпал колючий резвый снежок, стеклисто скрипел под копытами лошадей.
Минут через пятнадцать возок подкатил к огромному мрачному зданию, над входом в которое чадил, плюясь, черными лохмотьями пепла, факел.
– Вылезай, безголовый! – скомандовал знакомый голос: стражник, немного владевший французским языком, продолжал веселиться. Видать, сам он никогда не попадал в подобные передряги.
Позже Устюжанинов узнал, что привезли его в замок Гогенасперг – один из самых холодных и страшных замков герцога Вюртембергского. Нашлась здесь темная промозглая камера и для нового заключенного. Узники здесь сгнивали заживо. Стражник напоследок постарался посильнее толкнуть Устюжанинова в спину, но сбить с ног не сумел. Дверь за Алешей закрылась.
Едва он забылся в тревожном, очень темном сне, как в дверь громко бухнул торцом копья стражник и приказал:
– Выходи! Тебя требует к себе комендант Гогенасперга полковник Ригер.
Поскольку Устюжанинов знал английский и французский, но не знал немецкого, а Ригер знал немецкий, но не знал ни французского, ни английского, то разговора у них не получилось. Ригер раздраженно ухватился пальцами за ножку настольного колокольчика и, вскинув над головой, ожесточенно начал трясти. В двери появились стражники.
– Чего телитесь, канальи? – рявкнул на них Ригер. – Шевелиться побыстрее не можете? Отведите его к Манштейну. Надеюсь, этот отставной козы барабанщик будет рад.
Стражники послушно громыхнули ботфортами и уволокли задержанного; через пятнадцать минут Устюжанинов оказался в смрадной конюшне, у входа в которую были поставлены полосатые будки. Около будок, опершись обеими руками на алебарды, скучали сонные, с отъевшимися физиономиями часовые. Они дружно швырнули Алешу в затемненное вонючее нутро.
Конюшня была до отказа забита людьми, на полу неряшливыми кучами лежала труха, бывшая когда-то соломой, в левом углу сидели человек двенадцать мужчин и пели незнакомую песню, протяжную и тоскливую, в другом углу расположилась более громкая компания и резалась в карты. Верховодил в этой компании огромный черноволосый мужик с цыганской серьгой в ухе. «Только кольца в носу не хватает, – мелькнуло у Устюжанинова в голове, – как у племенного быка».
Черноволосый словно бы почувствовал это, – опытный был зверь, резво вскинул голову, пробил Алешу недобрым взглядом. На щеках у него заходили желваки.
– Здороваться надо, ублюдок, – хрипло, по-немецки произнес он.
Мужчины, сидевшие вокруг черноволосого с картами в руках, громко захохотали.
Хоть и не знал Устюжанинов немецкого языка, а понял, что сказал похожий на цыгана верзила, молча поклонился «почтенному обществу».
– Ты чего, немой? – с недобрым удивлением проговорил верзила.
– Я знаю французский и английский, – пояснил Устюжанинов негромким тоном, ощущая, как быстро накаляется обстановка в конюшне, а воздух делается горьким от чьего-то пота.
– Ба-а, он не знает немецкого языка, – издевательским тоном воскликнул черноволосый и захохотал так, что у него чуть челюсти не вывалились из рта, хотя совсем непонятно было, чего же тут смешного. Массивная серьга в волосатом мясистом ухе закачалась. – Ба-а-а… Берусь тебя, олух, за неделю выучить этому поганому языку. Без него ты здесь пропадешь… Возьму за учебу недорого.
Черноволосый бесцеремонно оглядел Устюжанинова с головы до ног, прощупал глазами все его костяшки, всю фигуру и сказал:
– Снимай камзол и панталоны, – наконец прохрипел он, – это будет аванс за обучение. Чулки можешь оставить себе, чтобы было чем прикрыть вонючие ноги. Башмаки тоже снимай, они мне нравятся.
Устюжанинов внимательно выслушал все, что сказал ему черноволосый, но в ответ даже не пошевелился, не то, чтобы произнести хотя бы одно слово.
– Ты чего, оглох? – повысил голос верзила. – Снимай камзол, башмаки и панталоны, кому я сказал… Живо!
– Он стесняется, – пискнул невеликий щекастый мужичонка, сидевший буквально под мышкой у черноволосого, подскочил стремительно, словно бы внутри у него сидел чертик и прошелся ладонями по обвисшему животу, отбивая барабанную дробь.
– А раз стесняется – помоги ему! – приказал черноволосый. Серьга, отлитая из толстого серебра, вновь качнулась в мясистой мочке уха.
– Й-йес-ть помочь! – мужичонка приложился рукой ко лбу и, подскочив к Устюжанинову, ухватился за полу его камзола.
– Ты только одежду мне не порви, – предупредил его верзила, но мужичонка не успел отозваться на предупреждение шефа, он в это время летел по воздуху вдоль конюшни, раскинув в обе стороны руки и раскорячившись, будто инвалид – Устюжанинов ловким приемом, почти невесомо, буквально одним пальцем поднял его в воздух.
Отлетев от Алеши метров на шесть, мужичонка обреченно пискнул и приземлившись на пол животом, сгреб в кучу своим пузом, словно тряпкой, едва ли не весь мусор, имевшийся в конюшне. Накрытый мусором с головой, он отключился.
– Фас! – грозно рыкнул черноволосый и из кучи людей, окружавших его, немедленно поднялся один, небритый, с шеей, вросшей в плечи, похожий на голодного буйвола и, засопев зло, шагнул к Устюжанинову.
Через минуту и он лежал на полу конюшни, дергал от боли одной ногой и, мыча глухо, давился слезами:
– Ы-ы-ы!
Конюшня эта многострадальная никогда не видела такого цирка, люди, лежавшие и сидевшие на полу, мигом затихли, словно бы не верили тому, что увидели.
– Ы-ы-ы! – продолжал мычать небритый бык.
Черноволосый, наливаясь яростью, покрутил шеей, зарычал и приподнялся. К нему тут же подскочил один из членов свиты – обычный прихлебатель, «шестерка», ухватил патрона под мышки, помог подняться.
– Я сейчас тебя сожру, а кости твои выплюну собакам, – пообещал Устюжанинову черноволосый, щелкнул зубами, сделал это грозно, очень артистично, снова щелкнул зубами. – Понял это, дамский угодник?
И с чего он взял, что Устюжанинов – дамский угодник, кто ему это сказал? Черноволосый перешагнул через одного из прихлебателей, второму наступал на живот – боец, так сказать, выбирался на оперативный простор. Сделал ложное движение рукой, отвлекая внимание Алеши, уводя в сторону его взгляд, но Устюжанинов был знаком с такими фокусами и сам умел их делать – научил Джон Плантен, – шагнул к черноволосому и резко качнулся вбок, увидев, что черноволосый послал вперед свой пудовый кулак… Кулачина засвистел в воздухе, будто пушечное ядро.
Устюжанинов сделал второе движение – чуть пригнулся, всего на самую малость пригнулся, – и кулак цыгана пролетел мимо.
Медлить Алеша не стал, пропустил черноволосого на полкорпуса вперед и, перехватив его руку с кулаком, резко рванул ее вверх. Черноволосый не выдержал, вскрикнул от боли. Хрипя, давясь слюнями, ткнулся лицом в пол. Устюжанинов согнул ему запястье в толстый крендель, закрутил с силой – очень важно было осушить пудовый молот, им ведь легко можно было разломать стены конюшни – цыган заорал что было мочи.
Все-таки хорошую школу прошел Устюжанинов у Большого Толгаша и главы поселения буканьеров, наука, преподнесенная ими, теперь выручала его.
Свита черноволосого переглядывалась растерянно – «шестерки» не знали, что делать. В следующий миг они дружно повскакивали с пола и угрожающе зашипели.
Но повскакивали не они одни – поднялись еще человек тридцать, встали в защитный круг около Устюжанинова – видно, людям этим здорово надоел черноволосый со своей разбойной братией. Из уха черноволосого со звяканьем выскочила серьга, покатилась по полу. Устюжанинов додавил цыгана до конца – тот захлопал ладонью по полу и сдавленно прохрипел:
– Сдаюсь!
Только после этого Устюжанинов отпустил бандита. Устюжанинов отряхнулся, поддел носком башмака массивную серьгу, тускло поблескивающую в скопившейся грязи:
– Не забудь цапку вставить себе в ухо, – затем, усмехнувшись, добавил: – или в нос.
Цыган усмешки не заметил – не до этого было. «Шестерки» черноволосого были поставлены на колени рядом со своим патроном. Кто-то пнул цыгана башмаком в бок и спросил:
– Нравится?
«Шестеркам» это не нравилось. В итоге они получили строгое предупреждение – причем, в сопровождении строгих подзатыльников:
– Так, как было раньше, больше не будет. Понятно?
«Шестерки» покорно опустили головы.
Еще будучи в Лондоне, Устюжанинов услышал, что Англия набирает в Европе в частности, в разрозненных германских герцогствах и княжествах ландскнехтов для войны в Америке.
Жители Нового Света – в основном, выходцы из Англии, решили восстать против бывшей своей родины, и в Лондоне это кое-кому здорово не понравилось.
Поставщикам наемников королевский двор Англии неплохо платил – по пятьдесят фунтов стерлингов за каждую голову. По той поре это были очень недурные деньги.
Там, в Лондоне, Устюжанинов не придал услышанному никакого значения, а сейчас, лежа на полу старой загаженной конюшни, все вспомнил и отнесся к тем словам совсем по-иному. По коже у него невольно поползли холодные мурашки, во рту сделалось горько. Похоже, он попал в компанию наемных ландскнехтов.
Неужели это так?
Выходит, что так.
То, что с ним не стали разбираться, а дырявая золотая табакерка больше нигде не всплыла, говорило о том, что Устюжанинова без всяких разбирательств осудили и продали в ландскнехты.
Какие же все-таки непредсказуемые повороты случаются в жизни и чего только она не преподносит людям! Устюжанинов лежал на полу и думал о том, что же еще преподнесет ему судьба, какую пакость? Что делать, что делать?
Что делать, он не знал.
Через два дня в конюшне появился полковник – прямой, как жердь, с усами, похожими на два напомаженных обрезка проволоки, негнущимися и, как проволока жесткими. Кончики усов и слева и справа были завиты в кокетливые колечки.
Это был Гуго Фон Манштейн, родной брат Зеппа фон Манштейна, владельца гостиницы «Золотой лев». Именно этот человек формировал новый полк ландскнехтов, которому надлежало отплыть за океан.
– А ну, грязные канальи, вста-ать! – зычно прорявкал полковник, ножнами палаша, висевшего у него на боку, поддел какого-то замешкавшегося заморыша, затем саданул по затылку бледнолицего заику, пробиравшегося, как и Устюжанинов, в нужное селение на севере, но до места своего так и не доехавшего, – его тоже подцепил на крючок начальник таможни. – Вста-ать всем и – во фрунт!
Ландскнехты начали нехотя подниматься с пола.
– Непутевые сынки бешеных псов, бабы неподмытые, торговцы дырявыми панталонами, помойские собаки, подравшиеся из-за куриной кости, – ругался Гуго фон Манштейн лихо, имел по этой части хорошую практику, сыпал удары налево-направо, – кривым пальцем сотворенные ублюдки, отгнившие сиськи…
Он был неистощим на разные обидные словечки, Гуго фон Манштейн, – ничего другого придумать не мог, а вот кличку прилепить или обозвать кого-нибудь неприличным, обидным словом – это всегда пожалуйста.
– Помои, закисшие на морозе, завонявшие обрезки гуляша, от которого отказываются даже кошки, дырявые коровьи копыта… – словесной изобретательности Гуго фон Манштейна не было пределов.
Наконец ландскнехты выстроились. Полковник, похлопывая себя палашом по тощей ляжке, прошелся вдоль неровной шеренги, недовольно прохрюкал что-то под нос, потом остановился напротив черноволосого здоровяка, столь неудачно пытавшегося завладеть одеждой Устюжанинова и, покачиваясь с носков на пятки, неожиданно размахнулся и всадил кулак в брюхо ландскнехта.
Черноволосый глухо уркнул и согнулся пополам. Полковник ухватил его рукой за подбородок и резко дернул вверх, выпрямляя ландскнехта.
– Совсем разучился стоять в строю, грязная каналья, – недовольно просипел он. – А ну грудь к горизонту, а коленки назад, – в голосе Манштейша заскрежетали угрожающие нотки. – Иначе я превращу твой хребет в обычные костяшки… Понял, дубина?
– Понял, – выдавил сквозь стиснутые зубы черноволосый. Добавил невпопад: – Так точно!
– То-то же, – наконец отстал от него полковник и перешел к следующему ландскнехту.
На Устюжанинова он вообще не обратил внимания, проследовал мимо, в конец шеренги, где стоял, заваливаясь на один бок, утлый синегубый мужичонка, первым напавший на Алешу, когда тот появился в конюшне…
– А этот инвалид как тут очутился? – заревел полковник, устремляясь к синегубому мужичонке. – Ты из какой навозной кучи вылез, скотина, а? А может, ты вообще из могилы выполз? От тебя трупом пахнет.
Мужичонка затрясся нервно, но сказать что-либо Манштейну не посмел, молча хлюстнул каблуками друг о дружку, замер, продолжая заваливаться на один бок.
Полковник выругался, покрутил головой, словно бы кружевной воротник чересчур сильно сдавливал ему шею, покраснел.
– Старая грязная каналья, этот начальник таможни, – прорявкал Манштейн, продолжая крутить головой. – Давно пора оторвать этому вонючему петуху то, что причисляет его к мужскому роду. Он только позорит нас.
«Это точно, позорит… – подумал Устюжанинов, – прислушиваясь к словам Манштейна, – но кто-нибудь обязательно доберется до шельмы и оторвет ему не только “мужские фрукты”, но и все остальное… И будет прав».
Оглядев брезгливо тщедушного солдатика и машинально вытерев руки о бока камзола, Гуго фон Манштейн еще раз выругался, а потом нормальным голосом предупредил, глядя куда-то в сторону, в темную старую стену:
– Ты смотри, не подохни раньше времени, когда мы отправимся на место боевых действий…
Вскинув горделиво голову, полковник вернулся в голову строя, прохмыкал что-то себе под нос, потом неожиданно сделал рукой широкий приглашающий жест:
– Сюда, приятели!
Через несколько мгновений около него оказались четыре краснолицых, очень похожих друг на друга капрала с палками в руках. Манштейн взял у одного из них палку, звонко похлопал ею о ладонь.
– Господ ландскнехтов надо малость поучить хорошим манерам, – сказал он. – Лучше, чем это сделают четыре капрала, не сделает никто – ни полковник, ни майор, ни капитан, – Манштейн в назидательном движении вздернул над собой указательный палец, подбородок задрал еще выше. – Четыре капрала научат вас, господа ландскнехты, любить сиятельного герцога Карла Евгения больше, чем солнце, научат любить и меня, Гуго фон Манштейна, – полковник ткнул рукой в шеренгу ландскнехтов, сделал отбрасывающее движение, словно бы избавляясь от своих подопечных: – Приступайте, господа!
Капралы накинулись на шеренгу наемников с воем – соскучились по работе, по красной вьюшке, льющейся из разбитых палками носов, по выкрошенным под одобрительный хохоток коллег по ремеслу зубов, смешали шеренгу в одну кучу, а потом быстро разбили ее на четыре равных части.
Своими дубинками манштейновские капралы умели работать виртуозно, и дубинки легкими у них не были, похоже, умельцы, украшенные шевронами за беспорочную службу, утяжелили «орудия труда» свинцом. Устюжанинов попал в группу капрала, очень похожего своей презрительной физиономией на полковника Манштейна, единственное что, цвет лица у них был немного разным: у капрала физиономия была красной, как привезенный с поля бурак, полковник же был похож на копченый окорок, а в остальном они были слеплены из одного материала по одному и тому же чертежу.
К капралу своему Устюжанинов отнесся равнодушно; что есть он, что нет его – один шут, думать надо было о другом: как бы из этой хриплоголосой, недовольно позвякивающей железом толпы удрать.
Конечно, Устюжанинов мог бы с кем-нибудь сблизиться, сколотить свою команду, чтобы, если придется стрелять или бежать в атаку, рядом иметь своих людей, но он этим не занимался… С одной стороны, Алексей еще слабовато знал немецкий язык, а для того чтобы понять человека, раскусить его, язык нужно знать хорошо, нужно научиться разбираться не только в словах, но и в запятых, в интонациях, с другой стороны он решил пока плыть по течению: куда вода вынесет плот, там Устюжанинов и окажется. Пусть все происходит по воле Божьей. Главное сейчас было – уцелеть, выжить.
Капрал, муштровавший их группу, обучал ландскнехтов только шагистике и больше ничему, если кто-то на занятиях спотыкался, тут же угощал недотепу палкой, особо не стеснялся – настоящий был капрал, в общем.
На занятиях, где подопечные скрещивали палаши, капрал предусмотрительно отбегал в сторону – не дай Бог, кто-нибудь зацепит, – и покрикивал на бойцов издали:
– Эй ты, баран, не так резко делай удар, не по глиняному горшку ведь бьешь. Знай, что голову с человека снести не сложнее, чем срубить кочан с капустной грядки. Может быть, капусту даже сложнее рубить.
Слушал его Устюжанинов и усмехался про себя. Отворачивался в сторону.
Интересно, где сейчас находится Морис Августович, что поделывает? Навесное, сидит в своем родном Вербове, пьет по утрам парное молоко, заедает горячими оладьями и поджидает своего верного ученика Устюжанинова. Как все-таки не похож Беневский на здешних сиятельных людей, на того же Гуго фон Манштейна и его брата Зеппа.
Приставка к фамилии «фон» многое значила, свидетельствовала о высоком происхождении хозяина… Тошно было Устюжанинову от того, что он видел, тошно и паршиво, но ничего поделать он не мог. И возможности убежать отсюда он не видел.
Пока не видел. Надо было ждать того часа, когда их станут отправлять куда-нибудь. Будет много народа и будет неразбериха.
Сборный пункт был устроен в сером, пропахшим печным дымом городишке Цигенхайне…
Собралось в этом заштатном населенном пункте более тысячи ландскнехтов, в Цигенхайне даже столько жителей не было, Устюжанинов начал прикидывать план побега и выискивать щель, через которую можно было уйти, но задержаться в Цигенхайне легионерам не дали – всех перебросили в Кассель, во владения маркграфа Гессенского, а оттуда на старых, замусоренных донельзя, полудырявых грузовых барках ландскнехты поплыли в город Минден.
В Германии уже расцветала весна, на пологих взгорбках изумрудно светилась молодая трава, ветки яблонь украсились белыми душистыми хлопьями – год обещал быть урожайным на яблоки, – до палуб судов, на которых лежали ландскнехты, доносилось завораживающее жавороночье пение. Воздух был прозрачным и теплым. Дышалось легко.
Хотелось на волю, но Устюжанинов и еще пять десятков ландскнехтов лежали на досках, привязанные веревками к длинному металлическому поручню, прочно вмонтированному в борт судна. Устюжанинов понимал, что поручень этот сделан специально, и совсем не для того, чтобы держаться за него во время качки – он врезан в борт для невольников. Таких, как сам Устюжанинов и его соседи-ландскнехты.
Шансов на побег не было ни одного, и очень скоро все эти люди, пойманные в Гессене, Ганновере, Вюртемберге, Майнце, в других местах, превратятся в обычное пушечное мясо…
Горько сделалось Устюжанинову, горло стиснули невидимые пальцы, внутри возник холод. Он сглотнул твердый комок, собравшийся во рту и обессилено опустил голову.
Беневский закончил работу с издателем Магелланом и теплым солнечным днем, который несмотря на зимний месяц февраль, пахнул весной, да и в небе между облаками виднелись безмятежные голубые прорехи, совершенно весенние, покинул Лондон и отправился в Вербово, рассчитывая увидеть там Устюжанинова.
До своего имения он добрался благополучно, но Устюжанинова там не нашел.
Беневский даже растерялся – не может человек исчезнуть совершенно бесследно, не оставив никаких меток, записок, наспех исчерканных пером бумажек, предметов, хотя бы дыхания своего… Нет, Устюжанинов словно бы растаял в этом недобром мире – в Вербове «Альоша» не появлялся.
Исчезновение Устюжанинова родило у Беневского чувство тревоги, смешанной с досадой, надо было действовать – явно Устюжанинов попал в беду, его нужно было выручать, но как и чем выручать, что делать, куда податься, Беневский не знал.
Две реки, Верра и Фульда, сливались в одну – мощную, мутную, с нервными, словно бы кипящими волнами и паралитической пеной, прилипшей к берегам; спаренную реку эту называли Везером, здесь, на Везере, несчастных ландскнехтов ожидали хорошо вооруженные английские солдаты, которые на ходу перехватили охрану из рук разных брауншвейгских и вюртембергских стражников и обнажили палаши.
Ожидали и суда, которые должны были доставить бедолаг вначале в Англию, а потом, через океан – в Новый Свет, в зону боевых действий.
Через двое суток длинный караван потянулся по пенному взбалмошному Везеру дальше, довольно быстро поглощая мили, только желтые буруны, над которыми вились голодные чайки, откатывались назад. Весна, призывная зелень на берегах и горячее, вольно растекающееся по небу солнце не радовали ландскнехтов. Ландскнехты пели – затягивали одну за другой печальные песни, стирали кулаками с глаз слезы, крутили лохматыми головами и снова, со вздохами и слезами, начинали новую песню. Плохо было этим людям.
– Обнимут старенькую мать Сыны в последний раз, Стоят отец, сестрица, друг, Стоят безмолвно все вокруг, Отворотясь от нас…Можно было, конечно, броситься во вспененную желтую воду, нырнуть под киль судна, уйти в темную холодную глубину, но это не выход, так завершать свои дела на белом свете не стоит, надо еще малость побарахтаться.
Грузовые баржи, набитые «арестантами», несмотря на всю свою ходкость, до города Миндена шли долго, умудрилась попасть в лютый речной шторм, а в одном месте застрять на мели. Сам Минден мало чем отличался от города Марбаха, где так нагло был задержан Устюжанинов, и вообще все немецкие городки были похожи друг на друга, как яйца, вытащенные из одного лукошка; в Миндене английские солдаты согнали несчастных новобранцев на берег.
Устюжанинов прикинул – ландскнехтов было собрано не менее полутора тысяч человек.
Лица угрюмые, глаза опущенные, на людей наемники смотреть не хотели, отворачивали головы в сторону.
На берегу было раскинуто не менее пятидесяти банных палаток, в которых англичане устроили баню – новобранцев надо было вымыть получше и, в конце концов, нарядить в форменное солдатское платье – красные с синим камзолы, свидетельствующие о принадлежности к армии британского короля Георга.
Вскоре Устюжанинов тоже щеголял в таком же мундире. Хорошо, что камзол был немного великоват, никак не стеснял движения, и ботфорты оказались тоже великоваты, и это было хуже, чем в случае с камзолом – нужны были дополнительные носки.
Зато был великолепный головной убор – треуголка, будто бы немного примятая сверху, сидела на «бестолковке» очень ловко и была удобна.
Панталоны и жилет не были, как у всех британских солдат, белыми, их выкрасили в песочно-желтоватый цвет, будто бы форма эта была специально приготовлена для наемников, отправляемых в Африку или куда-нибудь еще дальше, но досталась «пушечному мясу», отъезжающему в Америку…
– Словно бы одежду обоссало стадо быков, – брезгливо бросил сосед Устюжанинова по банной лавке, седеющий усатый ландскнехт с печальным взглядом. – Британия всегда была любительницей несвежих панталон и дырявых ружей. Но, несмотря на свои ржавые мушкеты, во все времена хорошо умела и умеет таскать из огня печеные каштаны чужими руками. Удивительная страна!
Устюжанинов подивился смелости ландскнехта: такие разговоры в присутствии английских солдат было вести опасно.
Как ни странно, новая воинская форма, которую получил Устюжанинов, родила в нем некую уверенность: а ведь в окошке может завиднеться свет, а там, глядишь, и вся эта дурная катавасия закончится. Скорее бы. Он, не поднимая головы, исподлобья, огляделся.
Отсюда, с этого вонючего берега, где английских солдат было больше, чем деревьев в ближайших лесах, убежать было невозможно – любая попытка граничила бы с безумием, более того, беглеца могли застрелить прежде, чем он доберется до воды – чтобы другим было неповадно даже думать о побеге. Устюжанинов вздохнул.
– Что, молодой человек, подумываете о побеге? – неожиданно услышал он вопрос – спрашивал седоусый сосед, который проверял внутренние стельки у только что выданных ботфортов – не вылезет ли что-нибудь похожее на гвоздь?
Устюжанинов не ответил, только приподнял неопределенном движении одно плечо.
– Правильно делаете, что не отвечаете, в нашей среде есть провокаторы.
– Я даже знаю, кто, – сказал Устюжанинов.
Сосед повернулся к нему и протянул руку:
– Я тоже знаю. Меня зовут Артур. Артур Дешанель.
Устюжанинов пожал руку, назвался сам и спросил:
– Француз?
– Наполовину. Вторая половина – голландские корни. Но можете считать французом. А вы кто?
– Русский.
– Ба-ба-ба! – изумился Дешанель. – Далеко же вас утащило течение, чтобы вы угодили в эти лапы. Такое удовольствие можно было бы найти и поближе.
– Можно, да только не получилось, – Устюжанинов печально покачал головой: – назад уже ничего не вернуть.
Француз ухмыльнулся весело – печалиться он не собирался, на длинном загорелом лице его залихватски встопорщились усы.
– А назад и не надо, – сказал он, – мы пойдем вперед и только вперед. В конце концов войдем в ту же реку, только в другом месте.
Это тоже устраивало Устюжанинова.
Как свидетельствовали историки, набранных нечестным путем ландскнехтов погрузили в английские транспорты там же, в Миндене, сообщили, что теперь они являются солдатами английского короля Георга Третьего, снова усилили охрану и отправили в дальнее плавание.
Набили ландскнехтов в трюмы, как сельдей в бочки – не то, чтобы повернуться, даже дышать было нельзя, спертый вонючий воздух давил на глотки, душил и вышибал слезы.
Через некоторое время несчастные люди услышали, что за бортом шипит по-змеиному вода, плещется дробно, колотится в обшивку. Так может вести себя только большая вода. Устюжанинов понял, что они уже находятся в открытом море и плывут в Новый Свет.
Честно говоря, Устюжанинов до последней минуты не верил, что их повезут в Америку, – не хотелось верить, теплилась надежда, что этого не будет, – но, увы, именно это и было.
Караван вышел в море большой, всего более семидесяти плавающих единиц. Здесь, кроме транспортов, набитых ландскнехтами, были и торговые суда, и суда охранения, и боевые корабли, способные нападать и разносить в щепки целые города. Караван был хорошо вооружен, и горе ожидало того, кто попробовал бы встать на его пути: любого воинственного капера, имеющего в своем подчинении пятидесятипушечный фрегат, ожидала одна дорога – на дно.
А случаи, когда американские каперы нападали на английские караваны, были зафиксированы уже несколько раз.
Плавание было тяжелым. Ландскнехты, не привыкшие к морю, к качке, почти не вылезали из трюма, их выворачивало наизнанку; то на одном транспорте, то на другом поднимали скорбный морской флаг «У нас покойник».
Мертвых заворачивали в саван – обычную, исходившую свое холстину, к ногам привязывали что-нибудь потяжелее и сбрасывали за борт, в воду. У этих мертвецов не было могил, поклониться им было нельзя, только штурманы отмечали на картах, в какой части океана ушел на дно скорбный груз.
Плавание из Старого Света в Новый заняло без малого пять недель, кормили ландскнехтов скудно – в основном солониной, в которой часто попадались черви.
Как написал один из историков, «лишь по воскресеньям ландскнехтам выдавали пудинг, приготовленный из затхлой муки на бараньем сале». Хлеб был таким черствым и червивым, что его можно было вместо ядер забивать в пушечные жерла.
«Вода, пропитанная серой, была сильно испорчена, – писал дальше историк-очевидец. – Когда на палубе вскрывали очередную бочку, распространялось такое зловоние, что люди, стоявшие поблизости, зажимали носы…»
В общем, путешествие ландскнехтов назвать увлекательным было нельзя.
Но все когда-нибудь кончается. Прибыли они в бухту Галифакс, прикрытую большим высоким островом, на котором были установлены пушки. Стены форта были сложены из толстых бревен и камней, дома, чтобы при обстрелах были целее их крыши, пугливо прижимались к земле, кое-где курился древесный белый дым, на берегу было холодно, с моря дул пронизывающий ветер, прошибал насквозь любую плотную одежду, – здешняя жизнь была суровой и радостей обитателям форта приносила мало.
Полк Гуго фон Манштейна разбил палатки на берегу залива, проковырялись с ними до поздней ночи, спать ландскнехты завалились на пустой желудок – голодные, злые; черноволосый здоровяк с квадратной нижней челюстью даже зубами защелкал по-волчьи.
Но делать было нечего – не будешь же жевать собственный патронташ или голенища кожаных сапог, случайно забытых соседом у входа в палатку… Пощелкал черноволосый зубами впустую, затем подсунул под голову ранец и захрапел так, что у палатки запрядали бока – чуть-чуть ее не снесло. В конюшне он так, во всяком случае, не храпел.
Проснулся Устюжанинов с ощущением, что полоса невезения должна скоро кончиться. Правда, пройдет она через другую полосу – войны, многие из тех, кто находится рядом с ним, одолеть ее не сумеют, останутся лежать в воронках, вырытых пушечными ядрами.
Главная задача – выжить и вырваться из этой молотилки.
Через два дня Манштейн в раннюю рань, когда за стенами форта, в крохотных двориках, еще не начинали орать ранние петухи, примчался в лагерь ландскнехтов.
– По-олк, подымайся! – что было силы проорал он. – Пора послужить верой и правдой его величеству королю Георгу Третьему!
В палатках нехотя зашевелились ландскнехты. Просыпаться и подниматься на ноги, чтобы служить чужому королю, они не очень-то желали, люди шевелились, но не вставали, Манштейн похлопал немного локтями по бокам, будто курица и неожиданно нервно завизжал:
– Капралы! Где вы есть, чер-рт побери?
Несколько минут прошло, прежде чем появились сонные капралы со своими неизменными палками, послышались тупые удары, ругань, кто-то взвыл от боли. В конце концов полк был разбужен и поднят на ноги.
Темное небо было рябым, солнце появляться, чтобы оживить скудную природу, даже не думало – не было у светила такой задачи, король Георг не поставил, – дул сырой резкий ветер.
Капралы бегали со своими дубинками вдоль строя и почем зря молотили ландскнехтов. Наконец устали, и Манштейн подал команду трогаться в путь.
– А завтрак где? – завыли ландскнехты.
– Молча-ать! – проорал полковник, но люди молчать не хотели, ругались и тогда полковник, сдерживая внутреннее кипение, сообщил: – Завтрак нам привезут на первый привал.
Привал был объявлен нескоро – через три с половиной часа. Полковник не обманул – завтрак действительно привезли. Три фуры доставили баки с горячей едой, около которых тут же наизготовку встали капралы, следом прибыл целый караван повозок, сопровождаемый эскадроном всадников.
Караван привез оружие – мушкеты, порох, пули, палаши – то самое, без чего наемник не может быть наемником, – скорее, пахарем, сыроделом или портовым грузчиком, перетаскивающем на своем горбу огромные тюки. Раз привезли оружие, значит, дело действительно запахло горячими колбасками, значит, скоро им придется ввязаться в какую-нибудь потасовку или в неправедное мероприятие.
Не хотелось воевать за неправедные дела чужих господ, пусть даже и в королевском звании, и уж тем более не хотелось погибать ради кого-то… Дешанель, стоявший рядом с Устюжаниновым у наспех разожженного костра, помрачнел, повесил голову.
– Сбежать бы отсюда, – проговорил он тихим, едва слышимым голосом, – прямо сейчас…
– Погоди, Артур, не все сразу. Будет и это, – произнес Устюжанинов успокаивающе, – мы свое возьмем обязательно, я в этом уверен.
– И я уверен, – сказал Дешанель, – вот только бы дожить до этого, – француз улыбнулся грустно.
– Ты хоть разбираешься, Артур, что тут происходит, в этой Америке чертовой?
– Мало-мало. Но для того, чтобы разбираться по-настоящему, глубоко, а не поверхностно, здесь надо прожить хотя бы несколько лет.
– С чего все началось?
– Как всегда, с малого. До недавнего времени в Лондон заседали один не совсем путевый министр-финансист по фамилии Тауншенд. Так чтобы найти постоянный доход для королевской казны, он принял решение ввести налог на ходовые товары, поставляемые в Новый Свет – стекло, гвозди, чай, пряники, тропические фрукты и так далее. Американцы возмутились: как это так, их сородичи, живущие в Англии, где-нибудь в Лондоне или в Портсмуте, никаких денег за эти товары не платят, а те же граждане, живущие в Америке, должны платить… Где справедливость? Вот и подняли восстание.
– Дур-рак он, этот Тауншенд.
– И я так считаю. К счастью, его уже нет.
– Подох?
– В довольно раннем возрасте – в сорок два года.
– Мог бы еще пожить, подергать ногами, если бы не занимался глупостями.
– Ну, а дальше – больше. Война эта разрослась до размеров настоящей войны… У американцев есть толковые вожаки – Джефферсон, Вашингтон, у англичан – в основном, помешанные генералы и наемники типа Гуго фон Манштейна.
– Теперь понятно, на чьей стороне будет верх.
– Я тоже так считаю.
Через час длинная колонна тихих, ко всему безразличных людей вновь оседлала дорогу. Впереди колонны на тощей сонной лошади ехал полковник. Лошаденку свою Манштейн пробовал раскочегарить, всаживал в нее шпоры, дергал поводья, несчастная животина только взвизгивала возмущенно, отклячивала губы, с которых тут же начинала капать длинная тягучая слюна, но переходить с шага на рысь не собиралась.
В конце концов она победила – Манштейн перестал тревожить лошаденку, посапывал в седле, иногда погружался в настоящий сон, и тогда над колонной повисал тяжелый густой храп.
Храп лошаденке тоже не нравился, нервировал ее, она шарахалась то в одну сторону, то в другую, взвизгивала протестующее, и Манштейн просыпался.
Раза два он чуть вообще не слетел с лошаденки на землю, еле удержался в седле.
Через несколько часов произошло то, чего наемники, собственно, и должны были ожидать – из небольшого заморенного леска неведомые люди открыли по колонне стрельбу. Скорее всего, это были восставшие колонисты, не будут же обычные разбойники стрелять по солдатам… Да и что они могут поиметь с нищих ландскнехтов? Пару ржавых алебард, пяток мушкетов с кривыми стволами и десяток палашей? Игра не стоит свеч, слишком уж рискованная штука – связываться с солдатами, потерянные головы не будут стоить того.
Одна пуля попала в рослого широкоплечего ландскнехта, жующего на ходу сухарь и опрокинула его в канаву. Когда к ландскнехту кинулись люди, он был уже мертв.
Вторая пуля угодила в плечо барабанщику, он вскрикнул, схватился пальцами, мгновенно окрасившимся кровью, за рану. Двух выстрелов было вполне достаточно, чтобы понять, откуда конкретно ведут по колонне огонь. Человек двести, наверное, не меньше, кинулись в лес и вскоре выволокли оттуда долговязого белобрысого парня в изодранном зеленом камзоле.
– Был еще один, но он убежал, – сказал капрал, передавая пленного Манштейну.
– Их было всего двое? – удивленно спросил полковник.
– Всего двое.
Удивление сменилось красноречивым недоумением, лицо полковника вытянулось по-лошадиному – он думал, что колонну атаковал по меньшей мере батальон, а с другой стороны, если бы на колонну напал батальон, он за пару минут выкосил бы половину всех ландскнехтов. Манштейн удрученно покачал головой.
– Ты кто? – ухватившись перчаткой за подбородок пленника и подняв его голову, поинтересовался полковник.
Велико было удивление Манштейна, когда пленник заговорил с ним на чистом немецком языке.
– Я здесь родился и здесь моя земля, – с достоинством ответил пленник. – А вот кто ты и зачем пришел сюда? – тут лицо пленника исказилось яростью, он плюнул Манштейну прямо на ботфорты.
Полковник дернулся, побледнел нехорошо и приказал голосом, в котором исчезли резкие птичьи нотки, их сменил ржаво задребезжавший металл:
– Повесить!
– К-как? – переспросил тугой на ухо капрал.
– На ближайшем суку, – проорал полковник с такой силой, что в лесочке с деревьев даже посыпались листья, – и не забудьте намылить веревку!
– По национальности я немец, как и ты, – выдавил сквозь сжатые зубы пленник, в это время к нему подскочил черноволосый, ухватил под мышки, черноволосому помог глуховатый капрал, – родители мои живут здесь уже тридцать лет. А ты… ты убирайся отсюда!
– Повесить! – вновь проревел полковник.
Капрал и черноволосый принялись ладить веревку, завязали неуклюжую петлю, перекинули веревку через толстый сук и подтащили к старому дуплистому стволу пленника.
Тот долго брыкался, прежде чем на шею ему натянули веревку. Когда петля находилась уже под подбородком, выпрямился гордо и прокричал что было силы:
– Долой короля Георга! Да здравствует свободная Америка, в которой никогда не было и не будет королей!
Манштейн, не желая слушать эти вопли, нервно махнул перчаткой – чего медлите, ландскнехты?
Через минуту пленник уже сучил в воздухе ногами.
– Молодцы, братцы! – похвалил полковник капрала и его черноволосого напарника.
– Молодцы, да не все, – неожиданно произнес капрал.
– Чего так? – насторожился Манштейн.
– Да если бы не этот криворукий, – капрал указал пальцем на черноволосого, – мы бы рядом повесили и второго стрелка.
Полковник пошевелил усами и тихим зловещим голосом потребовал пояснений:
– Ну-ка, ну-ка?
И капрал пояснил. Из рассказа его выходило, что второй стрелок ушел только потому, что черноволосый просто-напросто… отпустил его.
Усы у Манштейна зашевелились снова, на этот раз проворнее, подбородок задергался. Он ткнул в черноволосого перчаткой:
– Казнить тебя мы, конечно, не будем, хотя и следовало бы, но без наказания ты не останешься. Капралы, всыпьте ему пятьдесят ударов палками. Чтоб впредь неповадно было отпускать мерзавцев и, – что, уверен, имело место в этот раз, – вступать с ними в торговые сделки.
Конечно, никаких торговых сделок в этой суматохе быть не могло, это ландскнехты понимали прекрасно, но черноволосого они не любили очень, потому и промолчали. Черноволосый взвыл от возмущения, пытался что-то доказать, но это не помогло – с него содрали камзол и прямо по жилетке с рубахой, пятная форменную песочную ткань, всыпали пятьдесят палок.
Черноволосый только кряхтел, иногда подвывал, ругался, пускал слюни розового цвета, но ничего поделать не мог: он получил ровно пятьдесят ударов палками от двух капралов, третий же – капрал-ябеда, тугой на ухо, – был дан им в ассистенты.
После экзекуции полк двинулся дальше, – вместе с ним покорно поплелся и черноволосый. Позади осталась виселица с раскачивающимся в петле человеком и наскоро сооруженный могильный холмик, неряшливо обитый лопатами.
Полк Гуго фон Манштейна двигался на войну. Должен был идти с песнями, но песен что-то не было слышно.
Неверно говорят, что алмаз и в грязи виден, это совсем не так: совсем не виден, что Беневский испытал на себе.
Французский король Людовик Шестнадцатый, которого все-таки добили собственные придворные, основательно подкормленные Пуавром (изменившим, кстати, формулу поведения и переставшим жадничать), сам Пуавр, заваливший двор депешами о Мадагаскаре, погубленном Беневским, отказался в конце концов от Беневского и когда при нем произносили это имя, лишь недовольно морщился и подносил к глазам монокль, чтобы рассмотреть лицо говорившего.
И французский трон и Европа как таковая отвернулись от Беневского.
В Вербове был полный порядок, за имением следил очень толковый управляющий, хорошо знавший, чем коровий хвост отличается от лошадиного, промашек не допускал, и имение приносило неплохой доход; настырные пьяные сородичи, которые много лет назад затеяли против него судебную тяжбу, куда-то исчезли, промотали наследие своего батюшки и испарились, старые грехи Беневского были забыты, его никто не тревожил.
Он мог бы плюнуть на французов и короля Луи, на Мадагаскар и свое прошлое, – тем более, он остался один, ни единого человека из тех, кто был рядом с ним в последние годы, нет, – и зажить преспокойно в своем Вербове… Но тогда это был бы не Беневский.
И хотя у него имелась жена Сюзанна, о которой мало что знали даже близкие люди графа, поскольку женился он еще до камчатского плена (когда-то, защищая ценности Барской конференции, он с войском проезжал через селение Спиш, остановился на отдых в доме мелкого польского шляхтича Геньского и, увидев его дочь, особу, в общем-то, довольно серую, увлекся ею и буквально через пару дней уселся за свадебный стол), были дочери (сына Беневскому Господь не дал), было много разных дел, связанных с имением, с хозяйством, но граф не мог сидеть на месте, не хотел – не та у него была натура.
Он решил, что раз Европа отказала ему в поддержке, раз король Луи недовольно морщит нос при упоминании его имени, то надо изменить направление движения, переступить на другую дорожку и поискать эту поддержку… где? Ну, например, в Америке.
От слов к делу Беневский переходил, не раздумывая.
Вскоре он оказался в Северной Америке, как тогда называли нынешние Штаты, – среди тех, кто начал бороться за свою независимость. Приехал в Америку не один – вместе с тихой, очень скромной и набожной женой Сюзанной, типичной «сельской панночкой», и дочерьми – не побоялся ни войны, ни стрельбы в неурочные часы, ни жестокостей противоборствующих сторон.
Сюзанна исправно рожала Беневскому девочек (впрочем, говорят, что есть старые источники, которые свидетельствуют, что Всевышний все-таки дал графу сына, но он не выжил, а вот девочки выживали при любых войнах, в любых условиях и выжили все до одной) и теперь девочки составляли костяк семейства Беневских.
В Америке в это время находился и Устюжанинов, пытался определиться со своей судьбой, ждал момент, когда можно будет исчезнуть из полка ненавистного Гуго фон Манштейна.
Шел 1777-й год.
Принимать участие в боях полку Манштейна не пришлось – планы у начальства изменились, ландскнехтов посадили на транспорты, и небольшой караван вышел в открытое море.
– Что-то происходит, – сказал Дешанель Устюжанинову, – но что именно, понять не могу. Куда-то нас опять понесло, а куда именно – пойди догадайся.
Три дня караван бултыхался в открытом море, сопровождаемый стаей серых акул, желающих получить с людей мзду, потом свернул, и через некоторое время матросы увидели далеко справа темную точку с укрепившейся на ней белым коробком.
Это была земля с установленным на ней маяком.
По тихому, почти лишенному волн заливу Святого Лаврентия шли дольше, чем по морю, – несколько дней, – пока не увидели небольшой, неряшливо, совершенно беспорядочно разбросанный по земле городок. Это был Квебек. Здесь ландскнехтам объявили, что путешествие окончено, акул кормить не придется, пора высаживаться на берег.
Когда осоловевшие от плавания наемники выбрались на берег, пошатываясь, побродили среди кустов, пугая коз и кур, соображая, где бы можно было присесть и малость покряхтеть, капралы сделали второе объявление: полку следует отправиться в город Монреаль.
– Вперед, ребята!
Шли вдоль реки Святого Лаврентия, по земле, заросшей кустами и раскидистыми, будто огромные зонты, деревьями.
По дороге наконец поняли, что земля твердая, устойчивая, не то ведь половине полка казалось, что под ногами продолжает раскачиваться, ездить влево-вправо непрочная палуба… В общем, в Монреаль прибыли хоть и усталыми, но нормальными людьми.
Отдохнуть не удалось – Устюжанинова назначили на дежурство – охранять штаб корпуса, которым командовал генерал Бургойн.
Немцам поручали охранять столь важный объект потому, что считалось – они не знают английского языка. А раз не знают английского, то, значит, и секретов никаких не могут подслушать.
Офицеры при немцах-часовых разговаривали в полный голос, без всякой опаски, и речи вели о вещах самых наисекретнейших.
В результате Устюжанинов узнал неожиданно для себя великий секрет – утром корпус Бургойна выступает на соединение с отрядом Сен-Леджера.
Так оно и произошло. По дороге солдаты Бургойна вместо того, чтобы двигаться тихо, неприметно, разносили в пух-прах маленькие городки, сжигали фермы, дело дошло до того, что вюртембержцы, шедшие в хвосте колонны, даже подожгли хлебное поле. Бургойн обозвал их за это дураками, а Манштейна при повторении подобной истории обещал отдать под суд.
Полковник перетрухнул, побелел, как головка соли: Бургойн считался человеком суровым и слов на ветер не бросал.
Вернувшись в полк, Манштейн первым делом провел дознание: кто поджег хлебное поле?
Человек, сделавший это, оказался ему знакомым – черноволосый верзила с бычьей шеей.
– Тьфу! – брезгливо отплюнулся полковник. – Опять этот кусок говна, оторвавшийся от коровьего хвоста? Тьфу!
– Опять он, – подтвердил глуховатый на ухо капрал, докладывавший командиру полка о поджигателе.
– Прошлый раз мы сколько палок ему всыпали?
– Пятьдесят.
– А сейчас пусть будет сто. Кости ломать, конечно, не надо, но спать пусть развешивает себя на ветках какого-нибудь дерева. Сто палок!
– Слушаюсь, сто палок, – рявкнул капрал так громко, что чуть себя, глухого, остатков слуха не лишил.
Черноволосому всыпали сто палок, откладывать это дело на потом не стали – пирожки тем и хороши, что – горячие. Глуховатый капрал веселился от души – черноволосый ему не нравился, а в армии это – самая большая беда. Лучше не нравиться трем генералам и двум маршалам, чем одному капралу: генералы и маршалы с ним ничего не сделают, а вот капрал сделает все, что захочет.
Капралы перестарались – черноволосый после экзекуции не мог идти, его шатало от одного края дороги до другого, легкий порыв ветра мог сбить его с ног, поэтому бедолагу уложили на подводу, на мешки, в которых везли овес для лошадей. Уложили носом вниз.
– Переверните меня носом вверх, – попросил черноволосый.
– Ни в коем разе, – воспротивился этому глуховатый капрал, – носом вверх – будет сильно укачивать, всю телегу заблюет, лошадь господина полковника оставит без еды… Пусть едет в прежнем положении.
Полк Манштейна двинулся дальше.
Бургойну удалось захватить два хорошо укрепленных форта – Эдвард и Тикондерога, – слишком уж большая сила волоклась под командой генерала по земле Канады. Форт Эдвард сдался сразу, а Тикондерога сопротивлялась долго – там у американцев был очень толковый командир Артур Сент-Клер.
Форт удалось взять только после того, как англичане затащили на самую высокую точку окрестных холмов – гору под названием Сахарная Голова, – несколько орудий, оттуда пушки начали крушить все, что находилось внутри форта.
Сент-Клэр ушел из крепости, соединился с одним из отрядов, успешно противостоявших англичанам и занялся «превращением противника в рубленую капусту» – именно так выразился он, не предполагая совершенно, что через двести лет весь мир будет так звать основную валюту нашей грешной планеты.
Джордж Вашингтон, который командовал главными силами инсгургентов – сторонников свободы в Новом Свете, – спешно послал войска на север, в помощь частям Филиппа Скайлера, сдерживавшего основной напор Бургойна, – туда двинулись американские генералы Линкольн, Морган и Арнольд.
Вскоре отряд хваленых английских волкодавов под командой Сен-Леджера был разбит и рассеян.
«Нужна мне английская армия, как собаке второй хвост, – с неясной тоской думал Устюжанинов, стоя на часах подле палаток, разбитых вдоль кромки дремучего, дышащего холодом черного леса. – Мои симпатии – на стороне американцев. К ним и надо прибиваться. А здесь делать нечего».
Через сутки Устюжанинов встал на очередное четырехчасовое дежурство, дождался, когда лагерь затихнет, захрапит, у палатки Гуго фон Манштейн, уснет его ленивая лошадь, а бдительные капралы погасят у себя огонь, вскинул мушкет на плечо и неслышно – все-таки охотничьи навыки сидели у Алексея в крови, – вошел в черный, тяжело вздыхающий лес.
Он шел, не останавливаясь, несколько часов подряд. Шел, совершенно, не представляя себе, куда идет, в каком углу, около какого селения выберется из этих дремучих зарослей…
Незадолго до рассвета, когда в угрюмой черноте начали появляться серые полосы, будто от земли неожиданно стало тянуть костерным дымом, Устюжанинов решил отдохнуть.
Выбрал под выворотнем место помягче, помшистее, стянул с себя камзол и расстелил его на земле. Хотел стащить с ног ботфорты, но потом решил этого не делать – а вдруг придется поспешно покидать это место и убегать куда-нибудь галопом в поисках убежища.
Хотелось есть. Но главное было не это, главное – хотя бы немного поспать, а там видно будет.
Очнулся он оттого, что было уже светло и совсем рядом на полянке танцевали два молодых, крепких, похожих на домашних петухов, фазана-самца – вероятно птицы соблазняли спрятавшуюся где-то недалеко самочку. Устюжанинов, стараясь не делать резких, заметных со стороны движений, потянулся к мушкету, приподнял ствол, прицелился и выстрелил.
Попасть в птицу пулей – штука трудная, но Алеша имел за плечами камчатскую школу, одной дробиной обязательно надо было уложить двух, а то и трех куропаток, и с этой задачей справлялись и взрослые и дети, – он попал в одного из танцоров. Рябой красногрудый плясун, вскрикнув надорванно, по-куриному, отлетел в сторону и затрепыхался в траве.
Второй петух, подпрыгнув, стремительно перелетел через высокий фиолетовый куст, нырнул поближе к земле и низом, низом, едва не цепляясь крыльями за стебли травы, унесся в лес.
Устюжанинов хлопнул ладонью о ладонь: есть шанс приготовить себе роскошный завтрак, который полковнику, например, даже сниться в походных условиях не может. Жареный петух. Нет, это еще лучше – жареный фазан…
Он быстро ощипал петуха и запалил костерок. Невысокий, с жарким пламенем, без дымной кисеи, уползающей вверх, – Устюжанинов специально следил за ней, чтобы костер не засекли со стороны, – насадил увесистую пупырчатую тушку на острый стебель деревца, специально срезанного для этого, и сунул в огонь.
Запахло жареным, вкусно запахло. Молодой петух – это не старая жилистая ворона, не из дерева вырублена, – зажарился довольно быстро, из пореза, сделанного палашом для пробы, брызнула розовая сукровица. Устюжанинов подержал добычу еще немного на огне и, пожалев о том, что у него нет соли, вздохнул голодно и впился зубами в молодого фазана.
Он был настолько увлечен едой, вкусным духом, исходившим от жарева, что не обратил внимания на сухой щелчок, раздавшийся в лесу, хотя должен был обратить и проверить, откуда идет звук, но в ответ на это Устюжанинов зашвырнул в кусты обглоданную кость, тем и ограничился. В следующее мгновение на плечо ему легла тяжелая рука.
– Давай, парень, твое ружье сюда, ты отвоевался.
Устюжанинов поднял голову, увидел американца с загорелым лицом и темными, какими-то шальными глазами… В течение нескольких секунд Устюжанинова окружили американцы – семь человек.
– Жаль, фазана доесть не дали, – на хорошем английском языке произнес Устюжанинов, вздохнул.
– Ничего, доешь, – доброжелательно проговорил старший из американцев, взгляд у него был цепкий, быстрый. – Тони! – громко выкрикнул он.
– Да, сэр! – вперед выдвинулся один из американцев, приложил руку к шляпе.
– Едем в штаб генерала Гэйджа, вы отвечаете за пленного, – приказал старший и добавил, – и его курицу. Кажется, она именутся фазаном.
– Слушаюсь, господин полковник! – Тони вытянулся, как в строю.
Имя полковника, встреченного Устюжаниновым, вскоре стало известно широко. И не в связи с войной, шедшей на американском континенте, а с другой войной. Это был поляк Тадеуш Костюшко, в ту пору – полковник американского корпуса инженеров, толковый фортификатор, строитель, выдумщик, встречавший вояк из отрядов Бургойна добротными гостинцами – «капканами, завалами и волчьими ямами».
В тот день, когда к нему попал в плен Алексей Устюжанинов, Костюшко выполнял личное поручение командующего Северной армией Гэйджа и был занят поисками подходящего места, где можно было бы поставить ряд укреплений, подойдя к которым генерал Бургойн мог не только споткнуться, но и растянуться во весь рост на грязной земле. И даже задрать вверх, к облакам, свои дырявые ботфорты.
Задание оказалось непростым – надо было в конце концов построить новый укрепрайон, который не уступал бы двум потерянным фортам, вместе взятым, вот Костюшко и ломал себе голову, прочесывая со своими помощниками и двумя ординарцами здешние леса и долины, – нашел пару приличных мест, но все равно это было не то, по большому счету совсем не то…
В двух сотнях метров от ночевки Устюжанинова, на поляне, придавленной вросшими в землю валунами, расположился коновод с лошадьми.
– Ну-ка, парень, давай сюда свои руки, – велел Устюжанинову ординарец – двигаться дальше тебе придется на привязи, – он перхватил запястья пленника веревкой, сделал прочный узел, длинный конец веревки привязал к седлу своей лошади.
– Вперед! – скомандовал полковник Костюшко, и небольшой караван двинулся по едва приметной тропе к выезду из леса.
Иногда Костюшко поворачивался в седле и смотрел на пленника, плетущегося в хвосте каравана, лицо этого рослого вюртембержца казалось ему знакомым, вот только не мог он понять, отчего же лицо это ему знакомо, ведь он никогда ранее не видел этого человека… Но тем не менее лицо его знакомо. Откуда, почему?
Этого Костюшко не мог понять.
Через несколько часов они подъехали к штабу генерала Гэйджа, занимавшему просторный викторианский особняк с восемью большими светлыми окнами – генерал любил, когда было много света, это поднимало ему настроение.
Хоть и занят был командующий армией – ни одной свободной минуты не было, а повидаться с пленным захотел незамедлительно. Гэйдж был человеком громоздким, с порывистыми движениями и крупными руками молотобойца.
– Ну-с, молодой человек, назовите свое имя, – Гэйдж стремительно развернулся в кресле и чуть не развалил его.
Устюжанинов назвал имя и фамилию. Одна бровь у Гэйджа удивленно приподнялась, генерал неверяще покачал головой.
– Что-то я не слышал про немцев с такими фамилиями. Вы немец?
– Я не немец, – сказал Устюжанинов, – я – русский.
На лице Гэйджа вверх взлетела вторая бровь, он покосился на Костюшко – тот был удивлен не менее генерала, озадаченно потер пальцами виски.
– Русский – и в вюртенбержском полку? Добровольно…
– Совсем не добровольно, – сказал Устюжанинов. – В Вюртемберге я находился проездом, мне устроили провокацию, арестовали и заставили одеть мундир полка, к которому я не имел и не имею никакого отношения.
Похоже, генерал не поверил в то, что сказал ему Устюжанинов, Костюшко же, наоборот, почувствовал в нем родную славянскую душу, поверил и одобряюще кивнул. Это придало Устюжанинову уверенности.
– Ну-ка, ну-ка, расскажите поподробнее, – потребовал Гэйдж.
Устюжанинов сжато, не давая себе возможности расслабиться, рассказал, как с Камчатки бежали люди на галиоте, как Беневский обустраивал жизнь на Мадагаскаре и каким образом они вдвоем с патроном оказались в Англии, в доме издателя Магеллана.
– Занятная история, – прокомментировал рассказ Гэйдж, покашлял в кулак выбивая из горла простудный хрип, – но не более того. – Хрип не прошел, и он стал кашлять сильнее. – А что еще вы можете поведать нам с полковником? Опишите-ка, что за полк у вас такой собрался – вюртембержский?
– Ничего хорошего сказать не могу, – Устюжанинов не выдержал, поморщился: перед глазами возникли капралы, размахивающие палками, черноволосый со своими «шестерками», бесцветно-белесый, с вялой рыбьей физиономией Манштейн, вспомнил, как стоял на часах у штаба Бургойна и разговоры, которые слышал там…
– А вот о разговорах в штабе Бургойна давайте поподробнее, солдат, – попросил Гэйдж.
Устюжанинов рассказал об этом, как и просил генерал, подробно, вспомнил фразу и Бургойна, который, распечатав конверт, привезенный из Лондона, произнес, обращаясь к членам штаба: «Нам предписано идти в Олбэни на соединение с Сен-Леджером… Генерал Хоу пойдет туда же».
– Так-так-так, – вскинулся Гэйдж, на лице его возникла целая лесенка вопросительных морщин. – Это очень интересно, солдат. Повторите, пожалуйста, все, что вы сейчас рассказали. И постарайтесь вспомнить все до последнего слова.
– Из Лондона Бургойну пришел пакет от военного министра, где содержался; приказ идти в Олбэни, на соединение с отрядом Сен-Леджера… Бургойн сообщил об этом офицерам своего штаба, затем подчеркнул особо, что генерал Хоу пойдет туда же… Вот, собственно, и все, господин генерал.
– А большего нам и не надо, солдат, – Гэйдж придвинул к себе карту, расстеленную на столе, на карте стоял стакан в массивном серебряном подстаканнике, наполненный чаем, чай в стакане даже не колыхнулся – такие мягкие и аккуратные движения были у генерала.
На несколько минут Гэйдж углубился в карту, потом поднял голову, посмотрел на полковника и поинтересовался недоуменным тоном:
– У вас есть какие-то вопросы?
– Что делать с пленным?
– Гм-м-м – Гэйдж помял пальцами подбородок. – Вот если бы за него смог бы кто-нибудь поручиться…
– Я знаком с Беневским, о котором говорил пленный, поэтому косвенно могу поручиться.
– Гм-м, косвенно, – Гэйдж усмехнулся. – Такого не бывает. – Махнул ладонью, отсылая от себя и полковника и пленного. – Ладно… Возьмите пока этого юного сударя под свое крыло, а дальше посмотрим, как быть.
– Пошли, – Костюшко подтолкнул Устюжанинова к выходу.
Так бывший вюртембуржский ландскнехт оказался в рядах борцов за свободу Нового Света, а точнее – за счастливую жизнь и светлое будущее нынешних янки.
Устюжанинов приглянулся новому командиру – сообразительный, сноровистый, мастеровитый, с хорошими манерами, умеет держать язык за зубами, а главное – из своих же, из братьев-славян. В то, что Устюжанинов может уйти назад, чтобы служить немцам или англичанам, Костюшко не верил: Гэйдж отнесся к пленнику слишком предубежденно.
А ведь Гэйдж воспользовался сведениями, которые принес ему пленник, только из-за одного этого мог отнестись к нему мягче… Сведения были очень ценными, Гэйджу стало понятно, что конкретно затевают англичане, объединяя свои силы, ради чего Хоу и Бургойн идут навстречу друг другу. Если они соединятся, то американский кулак будет разрезан на две половинки, а это значит, что и сил у них будет едва ли не наполовину меньше.
Такой расклад допустить было нельзя.
У деревни Саратога полковник Костюшко подготовил толковые позиции для армии Гэйджа, – они и укреплены хорошо были, и находились на высокой точке (деревня вообще была расположена на крутом холме, который с двух сторон был окружен Гудзоном – величественной, но очень норовистой рекой, часто выходившей из берегов и затапливавшей все прибрежные низины), и имелся широкий сектор обстрела – Костюшко приказал вырубить лишние деревья, чтобы не мешали пушкам…
Что же касается прибрежных низин, то затопления были такими частыми, что низкие места эти в конце концов превратились в топи, в бездонные болота, которые невозможно было одолеть даже в самую сухую погоду: в них тонуло все: люди, лошади, повозки, не говоря уже об орудиях.
В общем, два гудзонских рукава соединяла опасная трясина, – получалось, что деревня Саратога находилась как бы на острове, а острова брать очень трудно, это знает каждый более-менее грамотный, офицер.
Инженерная команда Костюшко обработала и примыкавшие к Гудзону леса, выкопала в них и тщательно замаскировала несколько сотен ям, также оборудовала десятка три схоронок для охотников за «языками» и снайперов. Гэйдж подтянул к Саратоге пушки, прикрыл ими не только центр, но и фланги, так что деревня превратилась в самый настоящий «крепкий орешек», о который можно было сломать самые прочные зубы, и приготовился к затяжным боям.
Бои эти не замедлили начаться, пушки загрохотали с особой силой, когда с юга Гэйджу пришло неприятное сообщение о том, что войска Джорджа Вашингтона сдали англичанам столицу Нового Света Филадельфию.
Через полтора часа после этого сообщения пушки Гэйджа накрыли ядрами лагерь Бургойна, расположенный в лесу. Устюжанинов слышал эту канонаду, в груди было холодно – он хорошо понимал, что означает эта многослойная пальба и, вспомнив Дешанеля, сожалеюще покрутил головой – француза ему было жаль. Очень неплохо было бы, если б он находился здесь, а не в полыхающем лесу.
С отрядом Костюшко Устюжанинов занимался возведением второй линии укреплений: мало ли что, вдруг Гэйджу, как и Вашингтону, придется отойти?
Свое наступление на англичан генерал Гэйдж начал девятнадцатого сентября, а семнадцатого октября английский генерал Бургойн выбросил белый флаг и переломил пополам собственную шпагу: американцы взяли верх.
После поражения под Саратогой англичанам было уже трудно подняться на ноги: в плен к противнику попало более восьми тысяч солдат и офицеров, а также четыре генерала. Кроме живой силы – много оружия, фуража, провианта, пороховых припасов, очень много… Только одних пушек было взято более сорока.
Больше всего на свете черноволосый ландскнехт, который и рода-то своего не знал толком, не любил ныне командира полка Гуго фон Манштейна.
Солдаты Гэйджа загнали доблестных ланскнехтов полковника в болото. Лучше бы они загнали прямо в Гудзон, тогда можно было бы подцепить какую-нибудь проходную лесину и уплыть на ней, – а изломанных, изжульканных после обработки леса орудиями деревьев в реке плавало много, – но нет, до реки было далеко.
Манштейн находился в болоте, он лежал, уткнувшись макушкой в кочку, над головой противно, вызывая на коже нервную сыпь, ныли комары.
Полковник пошевелился. Тело пробила боль – он был ранен. Застонал надрывно. Голова была мутной, пахло прелью, кровью, пороховой кислятиной, грязью. Но как бы там ни было, он жив, а раз жив, то необходимо выбираться отсюда. Он приподнялся, оглядел свои ноги.
Ботфорты были изодраны, значит, ранен Манштейн был в ноги. Потому-то он и не может подняться, не может идти.
Раз не может идти, то надо ползти. Подальше отсюда, прочь из этих страшных мест. Он снова застонал, поморщился – не услышал собственного стона, был оглушен разорвавшимся недалеко ядром.
К реке, как понимал Манштейн, ему не пробиться, поэтому он полз к лесу: там и затеряться проще, а главное – можно будет найти кого-нибудь из своих.
Иногда он останавливался, отдыхал, уткнувшись грязной головой в кочку, потом, хрипя, полз дальше. Манштейн уже почти дополз до леса, оставалось одолеть всего метров триста, не больше, – как неожиданно перед собой, перед самым лицом обнаружил два разбитых стоптанных ботфорта, стоявших неподвижно, будто они мертво вросли в землю.
Полковник застонал, приподнялся на локтях и задрал голову. В следующий миг неверяще закрыл глаза: перед ним стоял во весь рост человек, которого он меньше всего хотел видеть – черноволосый ландскнехт с бандитской физиономией. Этого деятеля полковник очень не любил, приказывал при каждом удобном случае пороть плетьми, – даже за малую провинность, – либо обрабатывать его шкуру палками, чтобы была качественнее, и вообще ждал, когда того срежет пуля какого-нибудь меткого инсгургента или осколок ядра, но черноволосый бандит был словно бы заговорен, ничто не брало его, ни одна железная муха…
И вот – неприятная встреча. Черноволосый торжествующе захохотал, лицо его исказилось, поползло в сторону, разъехавшиеся губы обнажили желтоватые редкие зубы с обколотыми краями.
– Ну что, допрыгался, козел немытый? – грубо проорал он в полный голос. – Трясешься, гад? – Приподнял одну ногу в тяжелом ботфорте и поставил на руку Манштейна, на скрюченные пальцы.
С силой надавил. Пальцы хрустнули. Манштейн закричал.
– Не ори, не ори, пес, – предупредил его черноволосый, – это еще не самое больное – будет больнее. Понял, полковник?
Через плечо Манштейна была перекинута кожаная сумка. Черноволосый вначале подцепил ее взглядом, заурчал сыто, жадно, как-то по-кошачьи, потом подцепил сумку за ремень пальцами и с силой рванул к себе.
Сумка слетела с полковника мгновенно, будто ремень был намазан салом.
Черноволосый засмеялся вновь – был доволен. Подкинул добычу в руке – вес был приличный. Явно, в сумке и золото есть, и серебро, и еще кое-что, ценное…
– Допрыгался, допрыгался, таракан усатый, – проговорил черноволосый утверждающе – будто приговор подписал и, не снимая ботфорта с вдавленной в грязь руки Манштейна, вторым ботфортом наступил на голову полковника и всей тяжестью, со странным сладким стоном надавил на нее.
Лицо Манштейна перекосилось, изо рта выбрызнула кровь, на глаза налипла болотная грязь. Тело полковника дернулось один раз, другой, на большее его не хватило, правая раненая нога вывернулась, словно бы выкрутилась из своего гнезда и стихла – Манштейн уже не чувствовал ни боли, ни самого себя.
Черноволосый приподнял ногу, что было силы ударил каблуком по голове Манштейна, потом ударил еще раз.
Полковник был мертв. Черноволосый, довольно рыкнув, вскинул на плечо сумку Манштейна, поддернул ее, чтобы легла поудобнее и ступил обеими ногами на нарядную зеленую проплешину, на которой росли мелкие, с лаково поблескивающими лепестками цветы яркой желтой окраски.
Не знал черноволосый, что это за цветы, не знал, в каких местах они растут и что скрывают под своим покровом, не знал, что жители Саратоги при виде их обычно сильно бледнеют.
Зеленое, ласковое, очень уютное одеяло, украшенное цветами, прикрывало собою бездонную топь, образованную водами реки, за сотни лет основательно разъевшими твердь берега, – ступил черноволосый на нарядный изумрудный покров и снизу его словно бы кто-то ухватил за лодыжки, с силой поволок в преисподнюю.
Так оно и получилось, через несколько минут он уже находился в черной, холодной, где не было ни одной светлой искры, ни одного пятна или воздушной щелки, преисподней.
Таких мест в окрестностях Саратоги было много.
Бойня на севере американского континента закончилась полным разгромом англичан, Устюжанинов был свободен, мог возвращаться в Европу, в Россию, но он не спешил этого делать. Душой своей, сердцем чувствовал, что в России, например, его никто не ждет.
Мать у него умерла, когда Алексею было очень мало лет, он не помнил ее совершенно, отца-священника также, наверное, уже нет в живых… Ну что Устюжанинову делать в России?
Надо было искать Беневского. Вот только вопрос беспокоил душу: где конкретно его искать? Европа огромна, найти в ней Беневского – все равно что иголку в стогу сена нащупать. Где он, кто подскажет?
На некоторое время он решил остаться в Америке – захотелось познать непознанное, научиться строить дома и не только дома. Вместе с Костюшко Устюжанинов строил Вест-Пойнт – очень прочную крепость, которую не могла взять целая армия, так широки и прочно сработаны были ее стены, и вид она имела такой грозный, что над ней даже орлы опасались появляться, вот ведь как.
Осенью 1780 года крепость приехал принимать сам главнокомандующий вооруженными силами Нового Света Джордж Вашингтон.
Устюжанинову главнокомандующий понравился: в обращении прост, немногословен, взгляд цепкий и одновременно доброжелательный, пояснения схватывает на лету, лишних вопросов не задает. Крепость была принята с высшей оценкой.
«Раз крепость построена, раз других дел нету, значит – пора… Да, пора покидать Америку», – такая мысль все чаще и чаще приходила в голову Устюжанинову. И ехать, конечно, не в Россию, где его никто уже не ждет и с этим фактом надо мириться, а в Европу – искать Беневского…
По Беневскому Алексей скучал, часто вспоминал живого непоседливого графа, ни на кого не похожего человека, и приязнь эта не проходила – Мориса Августовича не хватало в его жизни. Не хватало до сердечной боли, до стона, до крика; если бы рядом находился Беневский, он не чувствовал бы себя так одиноко. Но что было, то было…
Борьба за свободу в Америке еще продолжалась – на юге шли бои, там сидела мощная армия, возглавляемая генералом Корнуэллисом, действовала она очень решительно и приносила американцам немало хлопот.
Через два дня после отъезда Вашингтона из Вест-Пойнта – огромного сооружения, пахнущего свежим деревом, каменной мукой, замешанной на куриных яйцах – сложный раствор этот шел на соединение особо прочных стыков и обработку орудийных амбразур, – свежим, только что скошенным сеном и молодым вином – в честь приезда Вашингтона в крепости давали прием, на который пригласили не только офицеров, но и простых строителей-солдат, – к Алексею неожиданно подошел Костюшко.
Устюжанинов при виде полковника вскочил.
– Сиди, сиди, – произнес тот успокаивающе, положил руку Устюжанинову на плечо. – Чем думаешь заниматься дальше?
– Не знаю, – с обескураживающей простотой признался тот, – пока ломаю голову…
– Не надо ломать, – сказал Костюшко. – Мне приказано собираться и ехать на юг в распоряжение генерала Грина. Я приглашаю тебя поехать тоже. Ты, конечно, волонтер и можешь распоряжаться собою, как посчитаешь нужным, но…
Устюжанинов не дал полковнику договорить, прервал его.
– Я согласен! – быстро произнес он, запоздало обрадовался тому, что не надо думать о будущем и мотаться по Европе в поисках Беневского, – все, в конце концов, можно будет сделать с помощью почтовой связи, поискать Беневского по почте. Как же об этом он не подумал раньше?
– Вот и хорошо, – довольным тоном проговорил полковник. – Будешь моим адъютантом. Должность офицерская, жалованье тоже офицерское… Пара дней на сборы у нас есть, а там настанет пора прыгать в седла.
Так Устюжанинов еще на два с лишним года застрял в Америке…
Вечером, при свете коптюшки, Устюжанинов написал письмо в Европу, представителю Штатов в Париже, – он начал активные поиски Беневского. Точнее – продолжил их – кое-какие попытки он предпринимал и раньше, но попытки эти результата не дали… Поиски надо было начинать снова.
Осень в Америке всегда была теплая и очень солнечная, Устюжанинов ни разу не увидел здесь хмурого осеннего неба, низко прогнувшегося под своей, набитой холодной влагой тяжестью, не встречал поваленных лютыми ветрами деревьев и изжульканных досмерти птиц, смятых, как мокрые тряпки, жестокими порывами воющего воздуха, не попадались Алексею, как на Камчатке, люди, чьи жилища были уничтожены осенью. Опасное время года – осень…
И все-таки камчатская осень была Устюжанинову не то, чтобы милее – была ближе. Когда он вспоминал Камчатку, лицо его делалось неожиданно жалобным, глаза светлели, словно бы наполнялись влагой, Устюжанинов замыкался и старался отойти куда-нибудь в сторонку, отыскать укромное место, затеряться, сделаться для других невидимым.
Как-то сейчас живется-можется на Камчатке, здоровы ли люди, которых он когда-то знал – тот же Гришка Нилов, например? Замирал Устюжанинов, вслушивался в пространство, всматривался в него, словно бы желал засечь чье-то дорогое лицо или услышать знакомый голос, напрягался и через несколько минут разочарованно опускал голову – ничего он не видел, ничего не слышал…
В Америке росло много фруктов, совершенно не похожих на те, что водились в России. Взять, например, обычную грушу. На Камчатке она – кислая, коричневого цвета в крапинку, есть ее нельзя, пока она не станет мягкой и сок в ней не забродит хотя бы немного… Разве в Америке водятся такие груши? Да их здесь даже лошади не едят, а на Камчатке ребятня лопала эту кислятину за милую душу, только треск за ушами стоял… Такой треск, что с вулканов осыпались снежные шапки…
Теплым октябрьским днем, под пение птиц, полковник Костюшко и Устюжанинов прибыли в Филадельфию. Город, считавшийся в ту пору американской столицей, был шумным, поражал обилием лавок, контор, кабаре, ресторанов и крохотных семейных ресторанчиков, клубов, банковских отделений, фруктовых базаров и площадок, где проводились петушиные бои.
Была бы воля Устюжанинова, провел бы здесь несколько лет. Хотя бы ради того, чтобы попробовать все фрукты, что выставлены на выносных прилавках магазинов и просто в лотках, горами сложены на широких развалах, украшенных щитами, на которых изображены написанные маслом райские яблоки, ананасы и авокадо. Наверное, все фрукты, что продают в Филадельфии, так же вкусны, как райские яблоки вывесок. Иначе с чего бы их рекламировать?
Остановились наши путники у аптекаря Беллини – тот выделил полковнику с адъютантом по комнате на втором этаже, а двух ординарцев, сопровождавших Костюшко, поселил в большой комнате, примыкавшей к аптеке. Аптека располагалась у Беллини на первом этаже.
Два дня Костюшко почти целиком провел в штабе Вашингтона – уточнял задания для усиленного саперно-строительного отряда, которым ему теперь предстояло командовать, а Устюжанинов бродил по городу, рассматривая нарядные викторианские особняки местных богатеев, знакомясь с достопримечательностями и коллекцией английских пушек, взятых в боях в качестве трофеев, пробовал фрукты и диковинные жареные колбаски из козлятины, печеные фазаньи яйца и сырую рыбу с перцем и солью, а также маринованную в вине, вечером забирался в библиотеку аптекаря и читал книги.
Аптекарь Беллини оказался образованным человеком, книги он вывез из Англии, где у него не сложились отношения с коллегами-провизорами и он поссорился со своей профессиональной гильдией. В Америке у Беллини дела шли лучше, чем в Англии.
Оказалось, что аптекарь знаком и с Гиацинтом Магелланом.
– Я тоже знаком с Гиацинтом Магелланом, – сказал Устюжанинов.
Аптекарь с уважением посмотрел на него, одобрительно кивнул.
– Очень светлый человек, – сказал он и еще раз одобрительно кивнул, – образованный, умный, автор нескольких увлекательных трактатов. И издатель хороший.
– Скажите, а вам никогда не приходилось слышать такую фамилию Беневский? Морис Август Беневский, граф…
Склонив голову набок, аптекарь задумчиво почмокал губами, что-то прикидывая про себя, затем сделал отрицательный жест рукой.
– Нет, никогда не слышал, – сказал он. – Хотя, может быть, и встречались. Мир-то – тесный.
– Тесный, – согласился с ним Устюжанинов, – как неразношенный ботинок. У издателя Магеллана мы с Беневским прожили год, потом я уехал, а граф остался дописывать воспоминания о своих приключениях. А потом… – Устюжанинов запнулся умолк на несколько мгновений и обреченно махнул рукой: – В общем, я потерял его.
– Потерять человека в нынешние времена – штука очень простая, – аптекарь поморщился – наверное, что-то вспомнил. – А вот найти – штука непростая. Сочувствую вам, молодой человек.
Устюжанинов молчал. Беллини тоже молчал. Наконец аптекарь вытряхнул из кармана блузы платок, отер им влажный лоб.
– Погода стоит, как в июле, – заметил он, – в реке можно купаться, будто у себя в ванной, – аптекарь пожевал губами. – Я, молодой человек, пожалуй, напишу письмо Магеллану. Вдруг он сообщит что-нибудь новое про вашего приятеля…
– Учителя, – поправил аптекаря Устюжанинов.
– Давайте так и поступим, – сказал Беллини, – а вы ко мне заглядывайте иногда – вдруг какие-нибудь новости придут из Лондона… Хотя почта ныне работает знаете, как, – взгляд аптекаря сделался виноватым, – война…
– Но не век же быть войне, – проговорил Устюжанинов философским тоном, – придет время – и войны не станет.
Пробыл Устюжанинов в южном отряде Костюшко два с лишним года – и мосты через реки наводил, и в пеших атаках со вскинутым над головой палашом участвовал, и крепости строил, и взрывными работами занимался, и мерзлую землю киркой, стоя рядом с полковником, долбил – всякое, в общем, случалось…
Однажды даже встретился с русскими – его внимание привлек крупный черноусый человек, который, сидя на пне перед зеркалом, остро наточенным палашом брил себе голову.
Зеркало перед ним держал белобрысый мальчишка – такой же белобрысый, как и сам Устюжанинов, брови на лице не были видны совершенно, – богатырь намыливал ладонью себе голову, потом скреб лезвием лысину.
На Камчатке казаки тоже поступали так – иногда весной саблями брили себе головы, оставляя только оседлец – длинную прядь волоса, растущую едва ли не от затылка. За эти оседлецы мужиков с удовольствием таскали бабы, когда те, перебрав браги, заквашенной на горькой бузине, с жалобными стонами волоклись к себе домой. Доставалось им от обозлившихся женок здорово.
Этот же, – судя по всему, такой же волонтер, как и Устюжанинов, на макушке ничего не оставил – срубил все начисто. Только спрашивал на родном для Устюжанинова и таком дорогом языке:
– Ну, как получается, Тимоша?
– Все путем. Очень толково, дядя Харлампий!
Боже мой, – русские! Здесь, на краю краев земли, в глубине Америки, около города Чарльстона, насквозь пропахшего порохом, обугленного, где засели остатки двух английских полков и никак не хотят сдаваться. Устюжанинов подождал, когда палаш у дяди Харлампия затупится окончательно, а отроку надоест держать зеркало и подошел к ним.
Спросил тихо, четко, дивясь тому, что еще не забыл русского языка:
– Откуда прибыли в Америку, земляки?
У дяди Харлампия челюсть отвисла так, что до самых колен достала, стукнулась о них с глухим костяным звуком. Наконец, совладав с собою, казак вернул челюсть на место и воткнул палаш в землю.
– И впрямь, земляк, – просипел он недоверчиво, вскочил на ноги и кинулся обнимать Устюжанинова, затанцевал вокруг него: – Земеля, земеля, земеля!
Тимошка, заряжаясь весельем дяди, также заплясал вокруг Устюжанинова:
– Земеля, земеля, земеля! – ему сделалось весело, своего дядьку таким оживленным он не видел уже несколько лет.
– Йех, была бы горилка – обязательно отметили б это дело, – дядька искренне посетовал, что в лагере пехотного батальона нет ничего крепче воды, а водой, как известно, встречи с земляками не отмечают. Несерьезно это. – Ладно, – снова затрепыхался дядька, – в следующий раз мы к этому вопросу обязательно подготовимся.
«Если, конечно, он будет, этот следующий раз, – с неожиданной печалью подумал Устюжанинов, – жизнь такая скоротечная, что не знаешь не только то, что будет завтра, но и то, что будет сегодня…»
Дядька Харлампий перестал приплясывать, остановился напротив Устюжанинова, остро глянул ему в глаза:
– А вот ты как попал сюда, мил человек?
Устюжанинов не выдержал, усмехнулся – печаль не покидала его:
– Ветром занесло.
– Ветром, говоришь? – дядька Харлампий тоже усмехнулся и тоже, как и Устюжанинов, печально. – Не приведи, Господь, земляк, попадать под эти ветры. Без головы можно остаться.
Родился дядька Харлампий Крединцер белой вороной, в их доме таких никогда не было; были землепашцы, были отчаянные рубаки, были молотобойцы и мастера ладить справные ладьи, а вот любителей бродить по чужим землям, заваливаться туда, где ночует солнце, не было – Харлампий в дружном семействе Крединцеров оказался первым.
Харлампий вытер голову чистой холстиной с облохмаченными краями, которая заменяла ему полотенце, ухватил Устюжанинова руками за плечи:
– Сядь, посиди рядом со мною.
– Да у меня дел полно, – попробовал уклониться Устюжанинов, но сопротивляться не стал, сел рядом с дядькой.
– Ты вроде бы как офицер? – оглядев его платье, проговорил Хорлампий.
– Нет. Адъютант командира отряда.
– Это тоже немалая должность, – тут дядька как-то униженно, просяще посмотрел на него. – Ты говори, говори, парень. А то мы с Тимохой уже протухли тут, не слыша русской речи…
– Я ее тоже не слышу, – со вздохом произнес Устюжанинов, – иногда только кто-нибудь во сне поговорит со мною и все. Обрадуюсь – домой, мол, вернулся, к своим, среди родни нахожусь, а проснусь – опять все те же дымящиеся американские города, все то же беспощадное солнце, все те же незнакомые деревья. Ничего не изменилось.
– Понимаю, понимаю, – качнул блестящей бритой головой Харлампий, – у нас с Тимохой – то же самое. Иногда плакать хочется.
– Сами-то откуда будете?
– С Белой Руси. А ты?
– С Камчатки.
– О Камчатке я только слышал, но никогда не видел, – произнес дядька со вздохом, – а хотелось бы повидать.
– Приезжайте, очень интересная земля, – проговорил Устюжанинов с необычным для себя жаром, – вам понравится.
Дядька Харлампий улыбнулся чему-то далекому, загадочному, только одному ему ведомому, тихо покачал головой, вновь вытер темя холстиной.
– Всему свое время, – сказал.
Вокруг суетился, шумел народ, в тридцати метрах от них дюжие артиллеристы, обнажившиеся по пояс, блестевшие от пота, рыли капониры для пушек, какой-то солдатик разложил костер – сделал это с большим проворством, как в цирке, – и очень быстро запалил его, дымок от костра потянулся вкусный, какой-то домашний, – группа пехотинцев, наряженная разномастно, в основном, в штатское, под надзором седоголового крикливого старика чистила ружья… Привычная картина, которую Устюжанинов наблюдал сотни раз.
Откуда-то из гущи людей выскользнула большая проворная собака с гибким худым телом и крупной головой, не боясь, ткнулась мордой в пламя, словно бы захотела попробовать его на вкус, затем, отодвинувшись от костра на несколько метров, зевнула широко и улеглась спать на пыльной прохладной земле.
Война с англичанами подходила к концу. Английский главнокомандующий Корнуэллис был взят в плен, проиграв решающее сражение под Иорктауном, войско его рассыпалось на мелкие отряды, и теперь Вашингтон добивал эти отряды по одному, вылавливал их и загонял в огороженные лагери, если же британские вояки упирались, вели себя заносчиво и размахивали палашами, прихлопывал их, особо не церемонясь – надоели ему сыны Туманного Альбиона…
В руках англичан оставался один городишко, способный еще сопротивляться – Чарльстон, его окружили серьезные силы, головной отряд возглавлял Тадеуш Костюшко. И сам Устюжанинов и дядька Харлампий с племяшом находились в этом отряде, готовились к последнему бою.
Победа уже ощущалась, она находилась рядом, висела над землей, парила, как птица, в воздухе, переливалась радостным искристым светом, славно бы кто-то невидимый вышибал из кремня яркий мелкий огонь, люди были оживлены. Воевать осталось совсем немного.
Устюжанинов получил сразу три письма. Одно – от аптекаря Беллини, человека, как оказалось, обязательного, который если уж и берется за дело, то непременно доводит его до конца; аптекарь сообщал, что получил из Парижа послание от доктора Франклина – представителя Штатов во Франции, тот «отнесся к просьбе с превеликим усердием и разыскал графа Мориса Беневского…»
Второе письмо – в измятом в дороге конверте, – было от Франклина, и третье, толстое, запечатанное сургучной нашлепкой, плотно прилепленной к темной прочной бумаге, – от самого Беневского. Обрадовался письмам Устюжанинов невероятно, готов был прыгать по-детски, да только солидная должность адъютанта командира укрупненного саперного отряда (кстати, исполнил, он ее весьма успешно) не позволила этого сделать.
И главное, среди писем, присланных аптекарем, находился конверт с посланием Беневского… Как это было хорошо! Обтрепанный по углам, затасканный в почтовых сумках, перебрасываемый из одного баула в другой, обрызганный горькой океанской водой, он проделал тот же путь, что проделал и сам Устюжанинов. Устюжанинов не выдержал и поднес конверт к носу: чем пахнет?
Конверт пахнул солью, пылью, дорогой, светом, небом, водой. Устюжанинов распечатал письмо Беневского первым.
Беневский писал, что он счастлив безмерно – наконец-то нашел пропавшего «Альошу», что жизнь жестока, хотя и удивительна, если бы она не была удивительной, он никогда бы не получил послание доктора Франклина, как на за что бы не догадался, что его ученик вместо имения в Вербове попал в Америку. Все это – из области фантастики… Устюжанинов прочитал письмо трижды и только с третьего раза понял, что ему надо оставаться здесь – Беневский сам решил приехать в Америку.
– Ах, Морис Августович, Морис Августович, – прошептал Устюжанинов растроганно, больше ничего произнести не смог: громко запел сигнальный рожок, от которого неожиданно сдавило сердце, а воздух перед глазами посерел.
Почему сдавило сердце, Устюжанинов не знал. Смерти он не боялся, видел ее много раз с близкого расстояния, но ни разу не примерил на себя. Его даже ни ранило ни разу – вот такая судьба выпала на долю Устюжанинова, – от духа крови не мутило, страдания других, свидетелем которых он невольно становился, не пугали.
Серебрянный солдатский рожок запел вновь, Устюжанинов бросил письма в сумку, перекинутую через плечо и поспешно вскочил. Пора!
Откуда-то из-за холмов принесся резкий, пропитанный холодом ветер, напомнил людям, что на дворе зима – стоял декабрь 1782 года.
Четырнадцатого декабря пала последняя крепость англичан – город Чарльстон, с домов поснимали британские флаги и побросали в костер, на их месте через несколько минут стали развеваться флаги американские, пропитанная влагой материя тяжело и победно хлопала на ветру, веселя души инсургентов, как в печати все чаще и чаще называли сторонников американской свободы.
Дядьке Харлампию в битве Чарльстон не повезло – с примкнутым к ружью штыком он несся на длинный английский окоп, опоясавший город, выбивая из глотки хриплое русское «Ур-ра», которое здесь никто не понимал, но добежать до окопов не успел – под ногами у него разорвалось ядро.
Рот дядьке Харлампию мгновенно забило кровью, остатками зубов, обломками каких-то костяшек, которые у него, похоже, выломало из черепа, из основания головы, ноги обрубило по колено, несколько метров он неловким, лишенным конечностей чурбаком несся по воздуху, окропляя землю алой кровью, потом пошел вниз. Уже мертвым подкатился к самым английским окопам.
Племянник, крича отчаянно, кинулся к нему, испачкался кровью и в ту же минуту наткнулся на пулю.
Санитары отнесли его в полевой лазарет. Уже потом, после штурма, Устюжанинов пробовал отыскать его, но из попытки ничего не вышло – Тимоха как сквозь землю провалился.
А дядьку похоронили на солдатском кладбище тихого американского городка – так и не удалось Харлампию Крединцеру выполнить свою мечту и побывать на Камчатке.
Он и сейчас лежит там, где его похоронили – американский волонтер, русский человек… Никто не выкапывал его останки, чтобы перевезти на родину, никому он не был нужен.
Через два месяца Устюжанинов встретился со своим учителем и в первое мгновение не узнал его – с деревянного трапа на землю спустился худой, с впалыми серыми щеками человек, беспокойно огляделся по сторонам.
Устюжанинов почувствовал, как у него нехорошо заныло сердце: у Беневского никогда ранее не было такого беспокойного взгляда. Неужели это Беневский? Устюжанинов сделал маленький шажок вперед и в то же мгновение, словно бы стыдясь собственной нерешительности, остановился. Он не узнавал Беневского, а Беневский не узнавал его.
Да и немудрено: Устюжанинов повзрослел, превратился в богатыря, в сильного, умеющего постоять за себя взрослого человека, готового помогать людям – печать добродушия у него словно бы была вживлена во внешность, была видна издали, это был совсем другой Устюжанинов, не тот, с которым Беневский когда-то распрощался в Лондоне.
Устюжанинов сделал еще один шаг вперед, Беневский, словно бы что-то почувствовав, потянулся к нему, вытянул перед собой руки и замер: не мог поверить, что человек, которого он видит – его ученик… А ведь он помнит Устюжанинова голоногим, забитым, белоголовым пацаненком.
– Альоша! – с сипеньем выбил Беневский из себя, потрясенно тряхнул головой. – Это ты?
– Я это, учитель, я, – пробормотал Устюжанинов смято и бросился к Беневскому. Они обнялись.
– Не может быть, – глухо, с каким-то внутренним скрипом проговорил Беневский, взгляд у него был восхищенным. – Ты даже не представляешь, каким ты стал!
Устюжанинов в ответ только сжал плечи учителя покрепче. Ну что он мог сказать? Ощутил, как в горле у него возник комок – ни размять его, ни выплюнуть, такой он твердый, застрял там, – всхлипнул неожиданно жалобно, по-детски сдавленно, прошептал:
– Морис Августович!
В следующее мгновение он изумился еще больше: на глазах Беневского неожиданно появились слезы. У железного Беневского – и слезы?
А дальше, через несколько минут – еще большее изумление: следом за графом по корабельному трапу спустилась невзрачная худенькая женщина, встала за спиной Беневского, держа за руки двух довольно больших, угрюмо таращившихся на происходящее девочек.
Устюжанинов не сразу сообразил, что видит жену и детей Беневского, а сообразив, смущенно потупил глаза. Беневский ухватил пальцами женщину за запястье, вытащил ее из-за спины. Представил, откашлявшись в кулак:
– Это моя жена Сюзанна.
Женщина, уже в возрасте, с седыми прядками в волосах, сделала робкий девчоночий книксен.
– А это – мои дочери, – представил Беневский угрюмых девчушек, те, как и мама, также сделали книксен.
Интересно, когда же Морис Августович успел ими обзавестись? Этого Устюжанинов не знал.
Беневский отодвинулся от ученика на шаг, внимательно оглядел его и, улыбнувшись знакомо, раскованно – это была улыбка прежнего Беневского, которого Устюжанинов знал, – спросил тихо, но очень внятно:
– Ну что, Альоша, готов вернуться на Мадагаскар?
Устюжанинов ответил, не задумываясь ни на секунду:
– Всегда готов, Морис Августович!
В ответ Беневский улыбнулся еще шире, сделал порывистый жест, обхватил его:
– Я рад, что не ошибся в тебе, Альоша!
На панночке из польского селения Спиш Сюзанне Беневский женился давно, когда еще был полковником Барской конфедерации и отчаянно рубился за свободу… Вот только чью свободу – Венгрии, Польши, Австрии, еще чью-то? – неведомо.
Раненный, с плохим настроением, хотя это на войне совершенно недопустимо, усталый, он остановился в доме жизнерадостного говорливого шляхтича Геньского. Тот по случаю пребывания в его хоромах важной фигуры – может быть, даже будущего короля, – выкатил на стол все, что имелось у него в погребах.
Во время вечернего пира Беневский обратил внимание на девушку, которая командовала прислугой, подающей еду на стол. Собственно, он и не обратил бы на нее внимания, если бы не поймал какой-то радостный, влюбленный взгляд, который она бросала на блистательного графа, словно бы с неба свалившегося в их дом.
– А это что за девушка? – спросил Беневский у хозяина.
– Дочка моя. На выданье, – потеплевшим хмельным голосом пояснил тот. – Сюзанна.
У Сюзанны все кипело в руках, любо-дорого было смотреть на то, как она командовала людьми, как по мановению пальца, по неприметному движению руки на столе менялись блюда, исчезала чаша с домашней кровяной колбасой, обильно сдобренной чесноком и возникал жареный поросенок со вставленным в зубы пучком укропа, раздвигались судки с заливной рыбой и в центре их оказывался противень со стерлядями, привезенными с недалекой реки, а по соседству источали ароматный дух ломти нежного розового окорока. Геньский хоть и считался небогатым хозяином, а так не жили даже графья в блистательной Вене.
И главное – все свое, отравиться нечем.
К вечеру раненый и вдобавок ко всему простудившийся Беневский почувствовал себя совсем худо – поднялась температура, голова была тяжелой, как ядро от пушки крупного калибра, рот обжигала крапивная сухость: простуда все-таки достала его окончательно.
Он свалился в постель. Война войной, а болезнь болезнью. Ухаживала за ним молодая панночка. И вот ведь как получилось: хоть и невзрачная была панночка, влюбить в себя могла, наверное, только сельского конюха, а вот одолела неодолимое препятствие – Беневский не то, чтобы влюбился в нее, это было бы, наверное, слишком, – он привязался к ней.
Пан Геньский находился на седьмом небе – это надо же, как удачно остановился в Спише высокопоставленный полковник: о Геньском не только заговорили в округе с особым уважением, но и с особым уважением стали относиться – ведь вон какой знатный и влиятельный человек может стать его родственником.
В имение Геньского зачастили соседи – приезжали в праздничных экипажах с дочерьми: а вдруг занемогший граф соизволит обратить внимание и на них? Тогда Геньского с его унылой длинноносой дочерью можно будет отодвинуть в сторону.
Граф не соизволил, внимания на панночек, которых под него подсовывали, как куриные яйца под наседку, не обратил, – приезжие панночки ничем внешне не отличались от Сюзанны, – и обескураженные папаши-шляхтичи разъехались по своим имениям. Затихли, соображая, что к чему.
С другой стороны, неведомо ведь, что будет с Барской конфедерацией – вдруг ей свернут голову набок? А раз это будет так, то свернут головы и полковникам с генералами, какими бы блистательными они ни были бы.
Достопочтенные шляхтичи как в воду глядели – Барской конфедерации не стало. Не стало и полковников с генералами. Но это произошло позже.
Вскоре в Спише сыграли громкую свадьбу, после чего Сюзанна сшила себе походный костюм, чтобы можно было ездить верхом, и продемонстрировала графу умение справляться с конем.
Вот что она умела делать особенно хорошо, так именно это – все кони подчинялись ей безоговорочно, словно бы панночка знала какое-то заветное слово, способное усмирить любую, даже самую буйную лошадь… Любой конь по ее команде немедленно срывался с места в галоп, либо становился на колени и покорно опускал морду, мог станцевать вальс и поцеловать панночку.
Как удавалось это делать Сюзанне, неведомо. Беневский пробовал распознать секрет, но не распознал – разгадка находилась где-то рядом, Беневскому казалось, что он вот-вот доберется до нее, ухватит за хвост неведомую птичку, да вот только когда он разжал кулак, в нем не то, чтобы хвоста не было – не было даже перьев от него.
А в голове билась, позванивала невольно мысль, что он правильно поступил, соединившись родственными узами с неведомым до остановки в Спише шляхтичем Геньским.
Кроме умения блестяще справляться с лошадьми, Сюзанна обладала еще двумя умениями – умела немного готовить и всегда могла накормить графа яичницей, пожаренной на сале, в то время как ее товарки-соперницы из соседний имений этим искусством не владели, – и умением регулярно рожать детей.
Правда, не всех детей она могла выходить – мальчики у Сюзанны, как мы уже видели, не выживали – родившись, умирали, – первый мальчик умер, когда граф находился в ссылке в Казани, – девочки же выживали.
Устюжанинов покосился на девчонок: на кого же они похожи, на отца или мать?
Девочки походили на мать, и это было плохо. По поверью, – отнюдь, не камчатскому, – дети, похожие на отца, бывают более счастливы, чем дети, похожие на мать.
Интересно, какую роль в жизни учителя сыграла эта женщина, и почему граф, который мог жениться даже на королевской дочери, женился на этой сельской простушке?
Не знал Устюжанинов, что именно эта женщина, когда Беневскому было очень трудно и он брался за пистолет, чтобы застрелиться, отводила пистолетное дуло от его виска; когда ему не хотелось жить, заставляла его жить… Кстати, об этом Беневский написал и в своей книге, посвятив Сюзанне немало добрых строк.
Она покорно терпела все его выходки, – а Беневский часто мог быть просто безрассудным, остепенился он только к сорока годам, – его измены, его уходы из дома, из семьи. Это была та самая сторона жизни учителя, о которой Устюжанинов не знал совершенно ничего.
– Ну, что ж, – вздохнув, произнес Беневский, удовлетворенно потер руки, – нас ждут великие дела, Альоша.
Для семьи Беневских Алексей снял три комнаты в новеньком викторианском особняке, – сейчас, после войны, когда была одержана великая виктория – победа, эти особняки стали расти, как грибы после теплого дождя, один за другим. Не было в Штатах ни одного города или городка, где бы не появлялись новые постройки, придававшие улицам неожиданно праздничный вид.
Комнаты Беневскому понравились, девочки тут же прильнули к окнам, выходящим на главную улицу города – интересно было, что там происходит.
– Мадагаскару мы не сказали «Прощай», – еще раз оглядев комнаты, проговорил Беневский негромко, – очень скоро мы скажем Мадагаскару «Здравствуй!»
Он думал о своем, Морис Беневский, Маурицы, и Устюжанинов понял, что мысли о Мадагаскаре не покидали учителя все последнее время, все годы, и они обязательно вернутся на Красный остров, – Устюжанинов вернется вместе с Беневским и разделит все тяготы, которые выпадут на долю учителя, не дрогнет, не отойдет от него, будет все время рядом – Алексей решил это твердо.
Часть третья
Пребывание Беневского в Штатах было успешным, он сумел заручиться поддержкой правительства Нового Света, добыл денег, приобрел оружие и огневой припас, чтобы защищать Мадагаскар, если туда вздумает сунуться какой-нибудь недалекий губернатор или размахивающий ржавым палашом капитан французского войска, более того – сумел стать своим человеком в семье Бенджамина Франклина – семья Франклина принимала его как родного.
Франклин лично вмешивался в формирование груза торгового судна «Интрепид», которое Беневский зафрахтовал для плавания на Мадагаскар, помогал графу, и если где-то что-то стопорилось, быстро прошибал пробку и заставлял неповоротливую медлительную машину крутиться проворнее.
В октябре 1784 года судно было готово к отплытию – трюмы загружены по самые люки, орудийные стволы рядком выложены на палубе и мертво прикручены проволокой к вбитым в доски грузовым скобам, лафеты опущены вниз, в трюм, также тщательно закреплены.
Молва донесла до нашего времени слух о том, что Франклин лично приехал в Балтиморский порт проводить экспедицию на Мадагаскар, – наверное, так оно и было, слишком уж дружеские узы связывали две семьи, – и ранним октябрьским утром, когда над морем еще только начало подниматься съежившееся до размеров арбуза багровое солнце, «Интрепид» отошел от деревянного портового причала.
Едва берег с серыми портовыми зданиями остался позади, как небо начало стремительно опускаться вниз, прижиматься к воде и, в конце концов, смешалось с нею. Морю это не понравилось, почему – непонятно, волны пошли нервной рябью, вспухли недобро, и через несколько минут в нос «Интрепида» ударил твердый свинцовый вал.
Через полминуты ударил снова, ударил сильнее, чем прежде, много сильнее – всем, кто находился на судне, показалось, что вот-вот рухнет одна из мачт – уж очень опасно она затряслась.
Сюзанна Беневская до крови закусила зубами губы: ей сделалось плохо. Беневский, которому раньше было совершенно безразлично, есть у него жена или нет, а сейчас изменивший свою точку зрения – понял, что одиноким быть нельзя и вообще, очень скоро подоспеет время, когда это состояние сделается гибельным для него, неожиданно испугался, бросился к жене:
– Сюзанна, что с тобою?
Сюзанна платком стерла кровь со рта.
– Мне дурно, Маурицы, – прошептала она едва внятно, улыбнулась слабо, – но это пройдет… Я беременна, – добавила она, вновь стерла кровь с сочившейся нижней губы.
Но боль, возникшая в ней, не прошла, наоборот, усилилась, сдавила горло и Сюзанна упала в обморок.
Плавание началось неудачно.
Через полтора часа Беневский принял решение возвратиться в Балтимор.
Разворот судна в шторм с высокими волнами – дело трудное, для неопытного морехода вообще невыполнимое, но капитан оказался на высоте, с задачей справился и вскоре ушедший в дальнее плавание «Интрепид» вновь предстал перед взорами изумленных балтиморских обывателей.
На носилках Сюзанну переправили на берег, там погрузили в специальный экипаж с мягкими рессорами и привезли в больницу.
Преждевременные роды могли закончиться выкидышем, но врачи этого не допустили.
– Через два месяца родится нормальный ребенок, – врач, занимавшийся Сюзанной, ободряюще прислонил руку к плечу Беневского.
Задерживаться на два месяца Беневский не мог никак – его ждал Мадагаскар. Да потом крохотулю новорожденную (ах, как хорошо было бы, если б это оказался мальчик) везти на судне в такую даль было опасно, сделать это можно будет не ранее, чем через три-четыре месяца после родов, и Беневский решил плыть на Мадагаскар без жены.
Он арендовал для нее и девочек половину дома, расцеловал всех на прощание и произнес фразу, которую услышал когда-то в России:
– Я вернусь на белом коне… Ждите меня, – голос его сошел на шепот, глаза повлажнели. Беневский вздохнул, повернулся рывком и пружинистым легким шагом, – молодым, не хромым, таким, что у него был когда-то, – покинул дом.
На Сюзанну, стоявшую у окна, он даже не обернулся. Сделал это специально. Хотя пока шел к металлическим кованым воротам с ажурными завитушками, в горле у него что-то ржаво поскрипывало, булькало, а в висках плескалась, стучала боль.
Вышел Беневский за ворота и его не стало – растворился среди многочисленного люда мгновенно.
Сюзанна заплакала.
Плавание на «Интрепиде» было долгим. Во-первых, Беневский сделал несколько остановок в Южной Америке – не только в портах с отдыхом среди уютных голубых бухт, но и на безлюдных, густо заросших лесом островах, где горласто покрикивали попугаи, летали незнакомые длинноклювые птицы, подхватывавшие с земли ящериц и из кустов подавали свои голоса невидимые звери.
На островах Беневский задерживался дольше, чем в портах, забитых проститутками всех сортов и калибров, а также моряками, хорошо знающими, чем отличается болото, набитое крокодилами, готовыми стащить с любого капитана кожаные ботфорты, от мирного залива с бирюзовой водой… Впрочем, что опаснее, болото или залив, не было ведомо никому: в заливе из глубокой норы может запросто выскочить гигантская мурена с кривыми зубами и проглотить несчастного морехода вместе с сапогами.
Беневский аккуратно зарисовывал растения, цветы, разные метелки, густо обсыпанные душистой кашицей либо яркими лепестками, листву деревьев, кору бабочек и жуков, подхватывал из-под ног землю, мял ее, щепотью снимал со стволов смолу, стекающую вниз, нюхал ее, пробовал на вкус… Он изучал растительность островов. Это было второе, что затягивало плавание на Мадагаскар.
– Морис Августович, смолой можно отравиться, – предупреждал графа Устюжанинов, – в южных широтах много ядовитых смол.
В ответ Беневский похмыкивал легкомысленно и одновременно печально:
– Что судьбою, Альоша, предначертано, того не избежать. А все, что идет сверх предначертанного – это сущая ерунда, это несбыточно совершенно. Судьба не позволит ничего лишнего… Иначе зачем она нужна, судьба?
В этом Беневский был прав.
На одном из островов он нашел камень, на котором отпечаталась крупная кожистая лапа. С морщинами, метками порезов, заусенцами, следами чьего-то укуса.
– Когда-то это была живая плоть, – проговорил Беневский задумчиво, – а сейчас – обычный камень. Живая плоть распалась, вид этого млекопитающего исчез почти бесследно… Слишком давно это было. Может быть, – граф щелкнул ногтем по находке, – это предшественник древнего динозавра.
Устюжанинову это было интересно. А о таких зверях, как динозавры, он даже не слышал. Наверное, лютые были существа. Хотел было расспросить учителя о динозаврах, но постеснялся.
– Очень занятная костяшка, – сказал Беневский.
– Не костяшка, а камень, – аккуратно поправил Устюжанинов, – каменюга.
– Может быть, и так, – согласился с ним шеф. – Отнеси-ка ее, дружок, ко мне в каюту.
Команда на «Интрепиде» была собрана разношерстная. Капитан по фамилии Джонсон, нанятый Беневским, ходил по портовым кабачкам Балтимора, высматривал знакомых матросов, предлагал им работу, и поскольку большинство из них знало Джонсона как славного малого, которому можно доверять, то от работы почти никто не отказался.
Одно было плохо – ранее эти моряки работали в разных экипажах, поэтому из них было непросто составить единое целое. Удастся ли это сделать Джонсону, неведомо.
Капитана Джонсона немного знал Устюжанинов – по плаванию из Европы в Америку, когда раздрызганные английские суда перебрасывали ландскнехтов из Старого Света в Новый, – Джонсон был вторым штурманом на одном из кораблей. Как написал историк и литератор Балязин, в свое время исследовавший эту историю, при наборе команды на «Интрепид» Джонсону было важно в первую очередь, чтобы «матрос знал свое дело и не путал киль с клотиком, а ют с баком», а все остальное потом. «Он был честным малым, этот Джонсон. Однако получилось так, что на корабле оказались почти одни бывшие лоялисты». Вот тут Джонсон, как руководитель команды, допустил промашку, лопухнулся, как принято ныне говорить в народе. Хотя сам он тоже был закоренелым лоялистом.
На всякий случай напомню уважаемому читателю, что лоялисты – это приверженцы Старого Света, считавшие Англию пупом Земли, готовые каждого, кто этого не признает, посадить на кол, и теперь, когда победили инсургенты – эти взбесившиеся американцы, перепутавшие недожаренную яичницу со свободой, лоялисты мечтали только об одном: плюнуть на Америку, желательно посмачнее и вернуться домой, на берега Темзы.
Но для того, чтобы вернуться, нужны были деньги. Немалые деньги. «Многие из них готовы были бежать хоть на край света, чтобы только не видеть самодовольные рожи новых хозяев страны, – так написал Балязин в своей книге, – отобравших у побежденных все лучшее из того, что им некогда принадлежало. Другое дело, когда они вернутся с Мадагаскара и в их кошельках будет звенеть золото, тогда они не только уравняются с полноправными гражданами этих Соединенных Штатов, но сами, может быть, станут не последними людьми в своих графствах».
Вот какую команду, сам того не желая, сколотил «честный малый» Джонсон, – на подбор (ни одного инсургента) и запоздало понял, что угодил в сложное положение: команда, если захочет, сварит из него гуляш, совьет веревку, либо, если будет лень возиться, просто выбросит за борт, на завтрак какому-нибудь серому или синему бревну с акульей пастью. Положение у Джонсона оказалось незавидное, и надо было ломать голову над тем, как выпутаться из него. Желательно с честью и без потерь.
А пока они плыли на Мадагаскар. Беневский плыл с идеями свободы, равенства, – был увлечен этим, но ни Джонсон, ни команда лоялистов этих убеждений не разделяла, главным для команды были деньги. Заработать побольше денег – это первое, а уж все остальное – это находится на втором, третьем и прочих, удаленных от первого местах.
Внушительный мешочек с золотыми монетами, который Беневский вез с собою из Балтимора, начал быстро истощаться. Особенно много денег пришлось оставить в Кейптауне, после которого «Интрепид» взял курс на север, к Мадагаскару.
На второй день пути по спокойному, без единой седой шапки, намекающей на скорый шторм морю, у Беневского возникла неудачная (и не к месту) мысль о том, что команда может разделять его взгляды и, если это так, – отказаться от денег или хотя бы какой-то части их. Ему будет легче. Ведь очутиться на острове с пустой казной – штука несладкая.
Он вызвал к себе капитана Джонсона. Тот явился, несколько озадаченный внеурочным вызовом, войдя в каюту, снял с головы треуголку и ловко уложил ее на сгиб локтя. Все движения у Джонсона были быстрыми, точными, он словно бы был сама ловкость и состоял из рассчитанных жестов и поступков.
Беневский стал рассказывать ему о цели путешествия на Мадагаскар, о том, какое государство собирается построить на Красном острове, и как в нем будут жить люди.
Вначале глаза Джонсона живо искрились, капитану было интересно все, что он слышал, но потом взгляд его сделался далеким, отсутствующим.
За все время, пока Беневский говорил, он не проронил ни одного слова, Маурицы прервал свою речь на полуслове и спросил, стараясь, чтобы голос его звучал предельно жестко:
– Вам не нравится, что я говорю, капитан Джонсон?
– Нет, – коротко ответил тот.
– Почему? – не удержался от второго вопроса Беневский.
– Мы служим разным богам, сэр. У вас свой бог, у меня свой. Боюсь, что команда не примет вашу точку зрения.
Не ожидал Беневский, что разговор с капитаном будет именно таким. Он болезненно поморщился и произнес:
– Капитан Джонсон, я отстраняю вас от командования судном.
– Как будет вам угодно, сэр! – спокойным тоном отозвался на это Джонсон.
Не медля ни минуты, Беневский объявил общий сбор команды. Пришли все, кроме рулевого и двух вахтенных матросов.
Позже Беневский пожалел, что затеял этот разговор – вначале с непробиваемым Джонсоном, в котором он разочаровался, а потом с командой. Не надо было этого делать. И к капитану не надо было относиться с таким недоверием.
Команда, как и капитан, выслушала Беневского с угрюмым молчанием, никто даже слова не произнес во время восторженной речи, – Беневский говорил о том, что мальгашей надо обучать грамоте и строить для них больницы, относиться к ним не как к забитым рабам, которые имеют право только на каторжный труд и раннюю смерть, а признать за ними право на нормальную жизнь и возможность быть счастливыми, перечислил все евангельские истины, которые знал, и попросил, чтобы команда снизошла до бед, обрушившихся на народ Красного острова и часть жалованья передала мальгашам.
– Ну, а те, кто хочет вступить в мою команду, буду очень рад. Обещаю – узнаете много нового… И вообще, вам будет очень интересно.
Лица матросов сделались еще более угрюмыми.
Наконец послышался нервно подрагивающий голосок:
– Боцман, ты у нас самый разумный и справедливый. Дай ответ на пламенную речь нашего нанимателя.
Вперед выступил могучий человек в шапочке с красным помпоном, на которого Беневский и раньше обращал внимание, слишком уж здоров тот был, – как бык-зебу, – вытер руки о рубаху и неторопливо заговорил, с трубным кхаканьем выбивая из себя слова.
– Мы не можем поддержать вас, сэр, – он снова вытер руки о рубаху, – плывем мы с вами не для того, чтобы строить достойную жизнь для неведомых нам черномазых, ради другого плывем – чтобы заработать деньги. А деньги нам нужны очень. Поэтому отдайте нам все, что положено, и мы мирно разойдемся.
Беневский вспыхнул:
– Это что, угроза?
– Ни в коем разе, – боцман отрицательно покачал головой, оглядел своих товарищей и добавил: – Это наше общее требование.
– Жаль, что вы не поняли меня, – сказал Беневский и, резко повернувшись, ушел в свою каюту.
В тот же день он выдал и матросам и капитану Джонсону жалованье – рассчитался с командой сполна, отдал все до последнего пенса.
Корабль продолжал плыть к Мадагаскару, на север, в розовую даль пространства: здесь, в южных водах, и небо было розовым, и море, и воздух, и сам корабль был окрашен в плотный розовый цвет. Дышалось Беневскому тяжело – что-то сдавливало грудь, горло, сердце билось с перебоями.
Что ожидает их на Мадагаскаре, он не знал.
На Мадагаскаре Беневского не забыли, а преданные бецимисарки, те вообще помнили своего ампансакабе так хорошо, будто распрощались с ним только вчера. Старые седые воины при виде Беневского даже пустились в пляс, потрясая копьями, заревели радостно. Они и свое собственное прошлое хорошо помнили, как хорошо знали и то, что без прошлого не бывает будущего.
Танец их неожиданно, словно бы по команде, прервался, бецимисарки привычно взметнули над собой копья и прокричали так громко, что крик их, кажется, был слышен на другом конце Мадагаскара:
– Ампансакабе вернулся!
Беневский пальцами отер глаза: радостный выкрик «Ампансакабе вернулся!» родил у него невольные слезы, внутри возникло, но в следующую минуту угасло сладкое щемление – выходит, его не только помнили здесь, но и по-прежнему считали королем. Несмотря на то, что он столько лет не был на Мадагаскаре…
Крепость, построенная им у воды и названная Луисбургом, почти пришла в негодность, ее следовало серьезно ремонтировать, а две угловые башни вообще ставить заново. Но вот что было хорошо, и это ободрило Беневского – на стенах крепости он увидел орудийные стволы, – пушки по-прежнему обороняли Луисбург и примыкавшую к нему деревню.
На воду спустили две шлюпки, в несколько рейсов перебросили на берег часть снаряжения, которым был загружен корабль. Конечно, хорошо было, что Беневского встретили бецимисарки, а не сафирубаи с сакалавами, если бы встретили сафирубаи, была бы серьезная потасовка, тем более, что мальгаши умели метко стрелять из духовых ружей сарбаканов – трехметровых трубок, заряженных длинными стрелами. Хотя с плохоньким мушкетом или обычным армейским ружьем сарбаканы сравниться, конечно, не смогут.
На берегу Беневский поставил американскую полотняную палатку – из числа тех, что ему выдали по распоряжению Бенджамина Франклина.
Груз, снятый с судна, Беневский приказал накрыть тканью – в воздухе пахло дождевой сыростью, поэтому Устюжанинов расправил вторую палатку, превращая ее в многослойный кусок материи, уложил на груду вещей, высившуюся на берегу, подоткнул под углы – дожди на Мадагаскаре бывают, как водопады, промокнуть до последней нитки можно за полминуты, материю в нескольких местах придавил камнями.
– М-да, Альоша, жаль, что у нас мало людей, – проговорил Беневский неожиданно угасшим голосом. – Помнишь, сколько нас было, когда мы покинули Камчатку?
– Помню.
– Ни Хрущева у нас нет, ни Степанова, ни Винблада, ни Магнуса Медера…
– Будем обходиться теми, кто есть, Морис Августович. Выхода нет… Мы выживем, обязательно выживем и, Бог даст, к нам обязательно присоединятся еще люди.
– Я в это верю, Альоша, – тихо проговорил Беневский.
Воздух над заливом загустел, обрел розовый цвет, потом красный, – недаром же здешнюю землю зовут Красным островом, – птичьи голоса в недалеком лесу смолкли, закапал неторопливый, совсем не похожий на тропический, дождь, зашелестел каплями по земле.
Наступал вечер.
С одной стороны солдатскую палатку защищал океан, с другой скручивала в жгуты свою воду река Антанамбалана, – с этих двух сторон наши герои были защищены, с двух других сторон их защитят преданные бецимисарки.
– Одна из первых наших задач, – отыскать Хиави, – сказал Беневский.
– И Сиави – тоже, – заметил Устюжанинов.
– И Сиави – тоже, – согласился с ним Беневский, – но это еще не все. На Мадагаскаре находятся мои люди – прибыли из Лондона. – Заметив удивленное лицо Устюжанинова, добавил: – Да-да! Я ведь время проводил не только с издателем Магелланом, а доставал деньги, сколачивал общество, искал единомышленников, купил несколько пушек, пороху, картечи, мушкетов и пуль для них. И так далее… Все это должно находиться на Мадагаскаре, в форту Дофин. Луисбург, Альоша, видишь, – Беневский оглянулся на задымленные красным дождевым куревом постройки крепости, – совсем рассыпался Луисбург, чинить надо…
– Давайте спать, Морис Августович, – предложил Устюжанинов, зевнул устало, – в России недаром говорят: утро вечера мудренее.
– Хорошая поговорилка, – похвалил Беневский.
– Не поговорилка, а поговорка, – поправил шефа Устюжанинов.
– Ну, а когда разгрузим «Интрепид», у нас вообще будет всего более, чем достаточно, – Беневский провел ладонью над головой.
Ночь навалилась на землю стремительно, даже в полуметре ничего не стало видно, пальцы собственной руки не разглядеть, – чернота, плотно пропитанная дождем, была тревожной, опасной. Беневский и Устюжанинов положили около себя по паре пистолетов.
Беневский уснул быстро, провалился в сон, словно в омут и затих, будто бы чем-то придавленный, какой-то странной тяжестью, а Устюжанинов долго ворочался, сипел простуженно, засыпал и тут же просыпался, снова сипел. Что-то его тревожило, и он не сразу определил, что именно, а потом понял: торговый корабль, на котором они пришли, «Интрепид». Ведь там с грузом, никто не остался, ни он, ни Беневский… А с другой стороны, оставлять-то на «Интрепиде» было некого.
В короткие тревожные минуты сна Устюжанинов видел Камчатку, вулканы, залитые солнцем, речки, полные рыбы…
Тамошние реки – не то, что здешние, на Камчатке ручьев с красной водой, населенных зубастыми аллигаторами, днем с огнем не сыщешь – нет этого. И рассветы с закатами там другие, и растительность другая – фиолетовые деревья, например, не водятся, и бабочек величиной с суповую тарелку тоже нет. Об их красоте даже говорить не приходится – таких бабочек, как на Мадагаскаре, Устюжанинов не видел нигде, в том числе и в Америке.
Глубокий сон пришел к нему в конце ночи, перед рассветом. Устюжанинов перестал ворочаться на жесткой подстилке, он словно бы ухнул в какую-то глубокую яму, схожую с пропастью, немного повозился там и замер.
Очнулся Устюжанинов от того, что услышал совсем рядом странный звук, ни на что не похожий, стремительно открыл глаза и сел. Странный плачущий звук исходил от Беневского, тот стоял на коленях и, держась за голову, раскачивался из стороны в сторону. В распахе палатки было видно спокойное бирюзовое море.
В следующий миг море исчезло из глаз Устюжанинова. Там, где вчера стоял «Интрепид», ничего не было – пустота, обычная морская гладь, покрытая легкой рябью. Устюжанинов стрелой выметнулся из палатки. М-да, было, отчего схватиться за виски. «Интрепид» исчез вместе с грузом. Устюжанинов неверяще потряс головой.
– Где судно? – жалобно прошептал он.
Вопрос его повис в воздухе.
Глаза у Беневского, несмотря на стоны и плач, были сухие. Он перекрестился по-католически слева направо и тоже выбрался из палатки.
– Нет судна, Альоша, – наконец произнес он, стиснул зубы. – Пять тысяч ведьм! Нас предали.
Похоже, команда не простила Беневскому недавнего разговора. А, может, схитрил и совершил подлость капитан Джонсон? Устюжанинов отрицательно покачал головой: до такого тот не мог опуститься.
Опуститься не мог, но корабль-то ушел – одно не состыковывалось с другим… Что же произошло?
На Мадагаскаре стояла зима – июнь 1785 года, пора дождей и лютых южных ветров, способных принести с собою такой холод, что у мальгашей начинали громко стучать зубы. Впрочем, этот холод совсем не был похож на камчатскую стужу, способную сбить на лету птицу – мадагаскарский холод и холодом назвать нельзя, по камчатским меркам это – тепло.
Надо было перемещаться в форт Дофин, но уходить в форт вдвоем они никак не могли – остатки груза, находившиеся на берегу, не должны были оставаться без присмотра.
Как быть?
Выручили бецимисарки – четыре человека, появившиеся на берегу; двое пошли с Беневским в форт, двое остались с Устюжаниновнм на берегу, развели в пятнадцати метрах от палатки костер, в мгновение ока соорудили хижину из пальмовых веток, весело похохатывая, забрались в нее – мастеровитые оказались мужики.
Вскоре им из ближайшей деревни принесли коровью ногу, бецимисарки запекли ее на костре и половину ноги отдали Устюжанинову.
– Держите, вазаха!
Устюжанинов отдарился штофом кукурузной водки, популярной в Америке. Кланяясь до земли, бецимисарки отползли в свое бунгало.
Потянулись дни, один за другим, схожие, будто близнецы-братья. Птицы стали петь меньше, куда-то исчезли роскошные мадагаскарские бабочки, трава на опушке леса посветлела и сделалась жесткой, на реке исчезли крокодилы – перебрались, видать, на зимние квартиры, погрузились в болотное тепло и уснули, пропали и змеи. Тучи на небе хотя и появлялись, но само небо обрело жестяной блеск, солнце уменьшилось в размере…
У бецимисарков, оставшихся на берегу, Устюжанинов спрашивал о вожде племени Хиави, о сыне его Сиави, по которым он, честно говоря, соскучился, но племя, которое раньше кочевую жизнь не вело, на этот раз изменило правилу и ушло в глубину острова, подальше от берега моря, изобилующего дождями.
На берегу Хиави оставил лишь посты, да усилил охрану главной деревни бецимисарков.
Унылые дни, наполненные дождем, медленно двигались один за другим, Устюжанинов ждал Беневского, но того все не было и не было, словно бы человек бесследно растворился в пространстве.
Устюжанинов продолжал терпеливо ждать учителя.
В одну из ночей Устюжанинов услышал, как около палатки кто-то осторожно, мягко придавливая ногами землю, ходит, рассматривает груз, накрытый плотной тканью, косит недобрым взглядом на палатку, злится, но мять непрочное жилье не решается – а вдруг в палатке обитает существо более сильное, чем он сам?
Пошарив около себя, Устюжанинов нащупал пальцами рукоятку пистолета, взвел курок и беззвучно выбрался из палатки.
Метрах в трех от входа, в рябой темноте шевельнулось что-то еще более темное, расплывчатое, приземистое, что именно – не понять, разбираться в том, кто это был, Устюжанинов не стал – вскинул пистолет и выстрелил.
В ответ раздался истошный визг. Устюжанинов, приготовившийся сделать второй выстрел, опустил пистолет – это был кабан. Вспомнил, что говорил ему Сиави: «Мадагаскар – это Носси-Бе, в переводе с мальгашского, бецимисарского наречия на русский язык – “Остров диких свиней”». Кабан тем временем перестал визжать, захрипел и, свалившись, растянулся на земле.
Вот и свежее мясо прибыло, само прискакало в кастрюлю. Мясо у мадагаскарских свиней – нежное, Устюжанинов пробовал не раз, готов попробовать еще.
На грохот выстрела из пальмового бунгало выскочили заспанные бецимисарки.
– Что случилось?
– Ничего особенного, утром разберемся, – ответил Устюжанинов и вновь полез в палатку – досматривать камчатские сны. К кабану даже не подошел.
Ранним утром между палаткой и пальмовым бунгало затрещал костер. Запахло паленым. Бецимисарки подтащил кабана к огню и теперь смолили его. Работали они весело, с бодрыми вскриками и каким-то бурундучьим прицокиванием.
Брюхо у кабана было вспорото, в деревянной бадье плавали внутренности.
Через час задняя часть кабаньей туши была зажарена на вертеле, на слеге ее вытащили из костерного жара и укрепили на двух прочных рогатинах, всаженных в землю.
Бецимисарки дали Устюжанинову несколько пучков растения, вкусом очень похожего на чеснок и велели:
– Ешь с этим!
Устюжанинов впился крепкими зубами в пучок, тряхнул головой довольно: было очень даже вкусно. Жаль, что он не знал этой травки раньше!
Через несколько дней из дальнего угла леса вышла усталая группа людей, Устюжанинов вскинул подзорную трубу, навел ее на идущих.
Обрадованно опустил «монекуляр»: это был Беневский со своими соратниками. Наконец-то!
Прошло еще минут сорок, прежде чем Беневский обнялся со своим учеником. Похлопав его по спине, спросил буднично:
– Ну, как тут дела?
– Кряхтим понемногу, Морис Августович, природой любуемся. Новостей никаких.
– Французы на этот счет высказываются более оптимистично: лучшая новость – отсутствие всяких новостей.
Устюжанинов оглядел спутников Беневского, на одном лице задержал взгляд – очень уж оно было знакомым. Всмотрелся внимательнее и неверяще прошептал:
– Неужели Артур?
Тот учтиво поклонился Устюжанинову, проговорил:
– Артур Дешанель собственной персоной.
Это был тот самый неунывающий ландскнехт-француз, с которым он подружился во время плавания в Америку. Дешанель нисколько не изменился: то же удлиненное худощавое лицо, щегольские, лихо закрученные усики, живые неунывающие глаза. Устюжанинов с прежним неверием покачал головой:
– Не может этого быть, Артур!
– Я это, я! Собственной персоной! – Дешанель не удержался, улыбнулся широко и потыкал себя пальцем в грудь. – Я!
Устюжанинов обнялся с ним. Спросил, по-прежнему неверяще качая головой:
– Как же ты умудрился оказаться в отряде моего учителя? Невероятно.
– После того, как ты ушел от Гуго фон Манштейна, ушел и я. Буквально следом… Воевал на стороне американцев. Потом вернулся во Францию. Из Франции уехал в Лондон – надо было делать роспись во дворце одного влиятельного буржуа. В Лондоне встретил Мориса Беневского. Вот и все…
Стиснув плечи Дешанеля крепкими ладонями, Устюжанинов откинулся от него, вопросительно сдвинул брови:
– А что значит – делать роспись во дворце? Ты, что, художник?
– Да. Роспись дворцов фресками – это моя профессия. А ты чего подумал – что я обычный кавалерийский рубака?
– Нет, нет и еще раз нет. Иначе бы мы вряд ли с тобой подружились.
– Главное не это, – сказал Дешанель, – главное, мы с тобой сейчас в одной упряжке. А в полку Манштейна не то, чтобы вместе с кем-нибудь пойти в бой и прикрывать друг друга – вместе даже в уборную опасно было ходить, единственный человек, которому я мог доверять, был ты.
Устюжанинов благодарно улыбнулся французу и воскликнул:
– А для меня ты, Артур.
На следующий день закипела работа. Беневский умел организовывать людей, поднимать их на любое, даже самое трудное дело – на возведение крепостей, строительство мостов и городов, в атаку на редуты и пушечные жерла, это был тот самый Беневский, которого Устюжанинов хорошо знал и любил.
Беневский взялся за восстановление крепости, двух разрушенных пушечных позиций, наблюдательной башни, взялся также за строительство новой деревни на берегу залива Антонжиль… Работа закипела. Единственное, что было плохо – Беневский никак не мог связаться с зимующим в центре острова королем Хиави… А помощь Хиави ему сейчас очень бы пригодилась.
А вот племя толгашей – родное для Устюжанинова, – пришло на выручку едва ли не полностью, толгаши оказались очень толковыми строителями, дома новой деревни росли, словно грибы.
Сведения о возвращении бывшего ампансакабе на Мадагаскар, о большом строительстве, которое он затеял, дошли до нового губернатора Иль-де-Франса де Гринье очень быстро и вызвали у него ощущение, схожее с зубной болью.
Комиссар де Гринье был человеком, близким к недавно отбывшему в Париж Пуавру, разделял его жизненные принципы и имел длинные цепкие руки. Мадагаскар он считал своей вотчиной, на которой в изобилии водятся куры, несущие золотые яйца.
Главное, яйца эти собрать вовремя, чтобы они не достались другим, таким, как этот Беневский. Начальником губернаторской канцелярии был все тот же Балью – мудрый карлик с заплетающимися ногами и тусклым печальным взглядом, прочие действующие лица также оставались прежними – и поседевший, но не растерявший молодцеватости капитан Ларшер, и капитан Фоге, старый перечник. Фоге передвигался теперь, как рассохшаяся арба, с непрерывным скрипом, от которого у тех, кто его слышал, ломило челюсти, а у нервных дамочек на глаза наворачивались слезы.
Услышав о том, что на Мадагаскаре появился Беневский, Фоге не выдержал и укусил себя за рукав камзола – так задела его эта новость, – щелкнул зубами, потом щелкнул шпорами, прицепленными к ботфортам, прорычал что-то невнятное:
– Р-р-р-р!
Комиссар де Гринье вызвал к себе Ларшера и когда тот явился, похрумкал костяшками пальцев и произнес:
– Узнайте-ка через своих друзей-сафирубаев, что поделывает на Мадагаскаре господин Беневский. Нам нужен повод, чтобы превратить физиономию этого деятеля в помятую тыкву. Пусть во рту у него не останется ни одного зуба, а в горле зияет дырка. Понятно, Ларшер?
– Понятно, – покорно наклонил голову Ларшер, – все будет сделано именно так.
Повод этот дал сам Беневский, и очень скоро. К комиссару де Гринье с Мадагаскара пришло письмо, в котором «Беневский официально сообщал о своем прибытии с уверением, что готов сотрудничать с французской колонией и предоставляет ей преимущественное право поставки продуктов на остров»[6].
Де Гринье возмущенно округлил глаза и вскинул над собою обе руки:
– Он с ума сошел, этот Беневский, у него вместо мозгов – вареная каша. Это надо же – предлагает мне, губернатору доброй половины Индийского океана, преимущественное право поставки сыра и отрубей на Мадагаскар. В следующий раз он предложит мне занять место повара в его резиденции… Тьфу! Совсем обнаглел!
При этой вспышке гнева находился капитан Ларшер. Лучше бы он зашел в кабинет губернатора позже, либо вообще не заходил. Комиссар де Гринье обрушил свой гнев на него:
– Когда твои бездельники засунут этого графа в пушку и выстрелят в сторону моря?
– Мы к этому готовимся, ваше высокопревосходительство.
– Долго готовитесь, Ларшер.
– Дайте еще немного времени, господин губернатор!
– Еще немного времени, еще немного времени, – передразнил его де Гринье. – Не тяните кота за хвост, Ларшер. Легко говорить с издевкой в голосе о коте и его облезлом хвосте, но трудно совершить что-то конкретное. Особенно, когда надо размахивать саблей или палашом и каждую минуту ожидать от опытного противника пинок под зад. В глазах Ларшера появился протестующий блеск. Де Гринье блеск засек и невольно поморщился: это уже чересчур.
Капитан Ларшер поспешил покинуть кабинет губернатора – слишком уж у того было искажено лицо, от приступа ярости даже рот съехал набок. Лик губернатора сделался простонародным, злым, будто совсем не было в нем благородной крови, вместо нее в жилах плескалась какая-то мутная водица.
Выступить он мог хоть сегодня, но это совсем не означало, что он победит Беневского. А ему нужно было победить проклятого поляка, иначе де Гринье сживет его со света, схряпает за милую душу, даже не задумается: намажет сладкой горчицей, приправит пахучей травкой и всадит в живое тело зубы… Для того чтобы победить, к походу нужно было основательно подготовиться.
На Иль-де-Франс уже пришло лето – теплое, безмятежное, пахло спелыми бананами и плодами манго, блестящая голубизна неба была безмятежной и не располагала к стычкам с кем бы то ни было: ни с английским королем, ни с китайскими мандаринами, ни с туземцами страны Папуа, ни с Беневским. Ларшер неожиданно подумал о том, что напрасно он избрал себе участь военного человека, в мире есть целая куча других, весьма достойных занятий, – из него получился бы неплохой лекарь, дотошливый астроном, учитель школы для одаренных детишек или воспитатель благородных собак, но вместо этого он стал офицером-гвардейцем. Тьфу!
Но что было, то было. Менять род занятий уже поздно – Лаошер находился уже не только на закате своей военной карьеры, но и жизни.
Ответа с Иль-де-Франса Беневский не дождался. Да, собственно, он и не рассчитывал его получить – канцелярия губернатора состояла из людей спесивых, которые считали ниже своего достоинства отвечать на такие письма.
Крепостные сооружение Беневский поправил, кроме пушек неподвижных, находившихся в капитальных гнездах, четыре пушки он поставил на лафеты, в этом ему помогла группа, которую он привел из форта Дофин, – Беневский очень был доволен этим обстоятельством: подвижную артиллерию в Европе имеют только регулярные армии, возглавляемые передовыми командирами. Он потер руки:
– Теперь можете пожаловать, господа. Милости прошу! Встретим с превеликим удовольствием.
В том, что Иль-де-Франс внимательно присматривается к тому, что происходит здесь, на берегу залива Антонжиль, Беневский был уверен твердо. С одной стороны, он ощущал это собственными лопатками, ноздрями, затылком, с другой – постоянно получал подтверждение своим догадкам.
Вчера, например, группа толгашей, вышедшая на охоту в лес, задержала четырех сафирубаев, вынюхивавших, что происходит на берегу бухты, в новой деревне, возводимой Беневским, что за диковинные редуты строит граф на земляном валу, окружавшем крепость, чем поит и кормит своих людей… Старший из охотников, – кстати, родной брат Большого Толгаша, у которого Устюжанинов учился силовым приемам и искусству боя на ножах и кулаках, предупредил задержанных:
– Если еще раз увидим вас здесь, домой вы уже не вернетесь. Это понятно?
– Понятно, – угрюмо пробормотали те в ответ.
– Ну, раз понятно, тогда уходите отсюда быстрее. О предупреждении помните.
Сафирубаи бесшумно растворились в лесу – опытные были разведчики. О встрече с сафирубаями брат Большого Толгаша рассказал Устюжанинову, тот – Беневскому. Беневский помрачнел.
– Похоже, войны нам с комиссаром де Гринье не миновать, – голос его наполнился озабоченными нотками. – Впрочем, – проговорил он, сопровождая фразу легким взмахом руки. – Как это говорят у вас в России? Чему бывать, того не миновать? Так?
– Так, учитель.
– Надо, Альоша, провести ревизию всех наших запасов – взять на строгий учет порох, пули, мушкеты, – словом, все, все, все, что у нас есть.
– Будет сделано, учитель. Не тревожьтесь.
В помощь себе Устюжанинов решил взять Дешанеля. Француз Дешанель сейчас про себя говорил, что он цветет и пахнет – на Мадагаскаре ему нравилось очень, более того, он присмотрел себе красивую мальгашку по имени Сесиль и решил жениться на ней. Это был, пожалуй, первый случай на памяти Устюжанинова, когда француз делал такой выбор.
Устюжанинов такой выбор своего приятеля одобрял.
Ревизию Устюжанинов решил начать незамедлительно. Для хранения пороха были специально вырыты три глубоких земляных погреба, – в разных местах крепости, – с пороховых запасов Устюжанинов и решил начать свою проверку. Дешанель приготовился регистрировать результаты – достал журнал, прошитый толстой суровой ниткой и скрепленный сургучной блямбой, к которой нужно было приложить разогретую металлическую печать, но печати этой не было, и свинцовый карандаш.
Ревизия первого погреба, самого вместетительного, расположенного в углу крепости, заняла целый день, результатами Устюжанинов остался доволен – этими запасами можно было отбить наступление целого полка враждебно настроенных французов. Он присел на бревно, лежавшее у дверей погреба, устало вытянул ноги.
Дешанель, кряхтя, присел рядом, помял пальцами спину: в погребе можно было находиться только скрючившись, спина затекала. Устюжанинов порылся в кармане, достал гладкую костяную безделушку, повертел ее в руках.
– Что это? – спросил Дешанель.
– Самоедский божок. Считается, что он приносит человеку удачу и счастье. У нас на Камчатке таких божков вырезают из моржовых клыков, и всякий охотник, уходя на промысел, обязательно хранит божка у себя в кармане.
– Красивая страна Камчатка?
– Не то слово. Очень красивая.
– На что она похожа?
Устюжанинов посмотрел по сторонам и отрицательно покачал головой.
– Здесь нет ничего такого, на что она была бы похожа.
– Дай-ка, – Дешанель протянул руку.
Устюжанинов улыбнулся мягко, тепло и с неожиданным сожалением вложил божка в ладонь Дешанеля. Дешанель тоже улыбнулся, огладил поблескивающую костяную поделку пальцами, произнес, словно бы вырезанный ножом человечек был живым:
– Те-еплый.
Дешанель вел себя, как камчадал: на Камчатке охотники так привыкают к божкам, что разговаривают с ними, как с живыми людьми. Пока не переговорят, не получат от них разрешения, на зверя не выходят.
– У мальгашей, я заметил, все точно так же.
– Почти так же, – Устюжанинов достал из кармана изящную плашку с фигуркой сокола, которую ему когда-то подарил Сиави, показал своему собеседнику. – Это вурума-хери, главное божество бецимисарков. Символ спокойствия народа.
– Жаль, что бецимисарки не помогают нам.
– Ушли слишком далеко, но они скоро придут. Это – наши друзья, они обязательно помогут нам.
Медленно ползли, один за другим, дни. С острова Иль-де-Франс не было никаких известий, от Хиави тоже не было никаких вестей.
В небе ни с того, ни с сего стали появляться крупные медлительные коршуны – папанго, делали широкие неторопливые круги над обновленной крепостью. При виде коршунов взгляд Беневского делался мрачным.
– Чуют что-то разбойники.
– Где-то в лесу сдохла корова, вот они ее и чуют.
– Если бы корова сдохла, они бы уже сидели на ней и потихоньку расклевывали, все дело в том, что разбойники ждут, когда она сдохнет. Падаль они ощущают загодя.
Один из коршунов – старый, с редкими, словно бы выщипленными перьями на концах крыльев, одуревший от жары и бесцельных полетов, проклекотал что-то хрипло и сел на макушку одинокого дерева, росшего неподалеку.
– Вот нехристь! – проговорил Устюжанинов осуждающе, потянулся к мушкету прислоненному к высокому строительному ящику. – Сейчас я тебе, нехристь, преподнесу урок.
Коршун словно бы услышал его, завертел головой обеспокоенно, но с дерева не взлетел, будто бы знал, что из мушкета человек в него все равно не попадет – стрелять бесполезно. Но не знал коршун того, что знал и умел Устюжанинов.
Подошел Беневский, оценивающе прищурил один глаз.
– Вряд ли удастся попасть, Альоша, – тихо проговорил он, – коршун только посмеется над нами.
– Это мы еще посмотрим, Морис Августович.
Устюжанинов приладил приклад мушкета к плечу, прижал поплотнее и подвел кончик ствола под силуэт коршуна. Надо бы сделать поправку на ветер, – он шевельнул бровью, прикидывая, есть ветер или нет, шевелят ли струи воздуха листья на деревьях или нет, – ветра, кажется, нет совсем, поправку делать не стал, – задержал в себе дыхание, готовясь выстрелить.
Коршун вновь обеспокоенно зашевелился, повернул голову в одну сторону, потом в другую, хотел было взлететь, но не успел – раздался выстрел.
Попасть в коршуна было не то, чтобы трудно – невозможно было, но Устюжанинов попал в птицу – пуля тяжелым свинцовым плевком подбила коршуна снизу, он воспарил над одиноким деревом, задрав жилистые голенастые лапы, рассыпал в воздухе горсть перьев и с грубым глухим стуком шлепнулся на землю.
Не удержался Беневский, в глазах его возникло удивление – похоже, он начал открывать в Устюжанинове новые черты характера, – восторженно захлопал в ладони.
– Браво, Альоша! Не ожидал… Великолепный выстрел!
– Обычный выстрел, Морис Августович, – скромно произнес Устюжанинов, – вы же знаете, как стреляет народ на Камчатке.
– Знаю, Альоша, но такого на Камчатке я, честно говоря, не видел, – Беневский вновь похлопал в ладони.
– На Камчатке местные охотники могут показать фокус более впечатляющий.
– А именно?
– Возьмут, поставят пустой стеклянный штоф на пень, отойдут метров на пятьдесят и не поворачиваясь, стоя спиной, разбивают штоф с одной пули – прицеливаются, глядя в зеркальце.
Беневский поцокал языком.
– Был я на Камчатке и людей камчатских вроде бы знаю, но таких фокусов я, Альоша, не видел.
– Просто не подвернулся случай, Морис Августович.
Потеряв своего клювастого дружка, коршуны быстро сбились в стаю и ушли куда-то в лес: поняли, что летать здесь опасно. Несмотря на то, что чутье им подсказывало: тут скоро прольется кровь.
Это чувствовал и Беневский.
– Альоша, – сказал он помощнику, – я буду доводить здесь дела до конца, а тебе придется поездить по острову, собрать вождей племен, а главное – найти наших друзей. Короля Хиави, Джона Плантена, других. Хоть и известно мальгашам, что мы находимся здесь, но, видать, известно не всем.
– Я все понял, – ответил Устюжанинов. – Сколько человек мне можно взять с собою?
– Думаю, что двоих хватит. Максимум – три человека. Если будет больше – это обязательно привлечет внимание.
– Верно, – Устюжанинов послушно наклонил голову. – Возьму с собой двух толгашей и… В общем, разберусь.
– С Богом, Альоша! – Беневский перекрестил его католическим крестом.
Устюжанинов взял с собою в помощники Дешанеля и тех толгашей, которые охраняли с ним лагерь, когда он остался сторожить вываленный из трюма «Интрепида» груз на пустынном берегу.
Задерживаться, изучать в тепличных условиях свой маршрут они не стали, а не мешкая двинулись в путь. Хотя Устюжанинов все же прикинул, как лучше обойти враждебных сафирубаев и сакалавов, в каких селениях остановиться в первые две ночи или же не останавливаться вообще… С собой взяли небольшой запас копченого мяса и несколько лепешек – еды много бегало и летало вокруг них, весь лес мадагаскарский был забит едой.
У толгашей, сопровождавших Устюжанинова, были длинные, трудно запоминающиеся имена и Алексей всякий раз внутренне напрягался, произнося то или иное имя – а правильно ли он его произносит? Ведь неосторожно исковеркав имя, можно очень легко обидеть человека. Попытаться сократить имя каждого до трех букв – тоже могут обидеться… Как в таком разе быть?
Устюжанинов нашел выход. Может, это был не самый удачный, не самый ловкий, но все же выход. Ему всегда нравилось испанское слово «амиго» – «друг», – слово звучное, выразительное, гордое, он стал звать своих спутников-мальгашей амиго.
Один амиго – с седой курчавой бородой и медным от загара худым лицом был старшим в команде толгашей, второй – стремительный, гибкий, с крупными белыми зубами, молодой, должен был подчиняться первому.
Селение, в котором Устюжанинов наметил остановиться на ночевку, было тихим, совершенно пустым, словно бы люди, проживавшие в нем, вымерли.
– Странно, – пробормотал Устюжанинов и хотел было шагнуть на тропку, ведущую к деревенским воротам, но амиго – тот, который был постарше, – остановил его.
– Не надо, мбвана, – предупредил он. – Люди в деревне есть, несколько человек. Они видят нас, мы их нет. Не надо… Это могут быть плохие люди.
Устюжанинов окинул взглядом молчаливые унылые хижины, не засек ни одного движения около них и, качнув головой согласно, повернул в лес.
Чутье не обмануло опытного толгаша: несколько часов назад группу Устюжанинова засекли четверо сафирубаев, находившихся в вольном поиске – то ли охотой они занимались, то ли разведкой, то ли вообще вышли подышать свежим воздухом далеких расстояний – не понять, сафирубаи не замедлили пристроиться в группе Устюжанинова в след – дали группе удалиться минут на двадцать и сделались живым ее хвостом.
В деревне, где Устюжанинов планировал остановиться на ночевку, действительно находились чужие, их осторожные толгаши и почувствовали.
На ночевку остановились в лесу, разожгли костер, чтобы просушить влажную одежду – воздух был сырым, душным, тяжелым, ржавь быстро покрывала не только железные предметы, но и деревянные, – да и вяленое мясо, насадив кусками на ножи, неплохо было бы разогреть на огне. Устюжанинов вытащил из чехла нож, разделил копченую вырезку на несколько частей. И только хотел насадить первый кусок на острие, как неожиданно почувствовал, что за спиной, метрах в десяти от него, в кустарнике, кто-то стоит.
Не разгибаясь, не делая длинного замаха, Устюжанинов с силой метнул туда нож; сафирубай, привставший на мгновение в кустах, чуть не лег навсегда себе под ноги, на землю. Лежать бы ему здесь, не отшатнись он случайно в сторону. В то же мгновение сафирубай растворился в зарослях.
Нож с опасным птичьим свистом прошил воздух в двух сантиметрах от его головы и всадился в толстую кору старого дерева.
Вполне возможно, что сафирубаи обложили кольцом всю стройку, возводимую Беневским, и внимательно наблюдают за ней… С другой стороны, вряд ли – ведь на стройке много толгашей, а это тоже великолепные охотники и следопыты, они явно бы засекли непрошеных гостей.
– Что там было? – похлопал ладонью по рту прикорнувший у огня Дешанель, согревшийся и оттого сладко задремавший.
– Не знаю, Артур, – Устюжанинов неопределенно приподнял одно плечо. – Что-то было. Или кто-то.
– Зверь?
– Зверь этот скорее походил на человека.
– Значит, человек, – Дешанель совсем не удивился тому, что сказал ему Устюжанинов, словно бы так оно и должно было быть. – Какой-нибудь случайный охотник наткнулся на нас.
– Этот охотник не был случайным, Артур, – убежденно проговорил Устюжанинов.
– Вот как?
– Да.
– Значит, надо почаще проверять порох в наших пистолетах – не подмок ли?
Вместо ответа Устюжанинов сходил за ножом, воткнувшимся в дерево, насадил на кончик кусок мяса, сунул в огонь. Вкусный, невольно вышибающий слюнки запах повис над лесом.
– На этот запах могут прийти крупные опасные звери, – сказал Дешанель.
– Самый крупный и опасный зверь на Мадагаскаре – человек. За ним идет крокодил. А вот львов и леопардов, как в Африке, здесь нет. Крокодилы находятся далеко, в реке. Это километров тридцать отсюда.
Раз до реки тридцать километров, то за нынешний день они проделали немалый путь.
– Амиго! – позвал Устюжанинов старшего толгаша, тот явился в то же мгновение, словно бы находился рядом, с орлиным пером, заткнутым за ухо, и взглядом, полным пытливого внимания.
– Мбвана! – произнес он предупредительно.
«Мбвана» – словечко не мальгашское, проникло на остров из Африки и прижилось тут, означает «господин», на языке бецимисарков и толгашей слова «господин» не было.
– Ночью могут появиться плохие люди, поэтому будем дежурить поочередно, сказал Устюжанинов. – По два часа каждый. Я – первым, ты – вторым, третьим – Артур, четвертым – молодой амиго.
– Я все понял, – толгаш наклонил голову.
Ночь сгустилась быстро, воздух сделался черным, гулким, был слышен каждый малый шорох. При такой слышимости подойти незамеченным к лагерю Устюжанинова было нельзя. Были слышны даже скользкие шорохи ползающих змей и бестелесный звук, с которым совершают свои полеты ночные мадагаскарские бабочки… Отдежурив два часа, Устюжанинов достал из мешка плотную шелковую накидку, купленную у какого-то бродячего индуса еще в Америке, завернулся в нее и уснул.
Примерно в полукилометре от лагеря Устюжанинова свой примитивный бивуак разбили сафирубаи – выпускать из вида людей Беневского они не собирались, – костер разжигать побоялись, спать легли без огня. Сафирубай, которого чуть не поразил Алешин нож, трясся от странного нервного напряжения, ему казалось что скоро глотку его перережет нож страшного белоголового человека. Таких людей он не видел никогда.
С другой стороны, кто знает, может, его укусил больной комар? Такое тоже могло быть.
Утром двинулись дальше.
Следующую ночевку Устюжанинов со своими людьми провел в небольшой компактной деревеньке, где жило тихое мирное племя вазимба. Все четверо были обогреты и сытно накормлены, вазимба помнили, что Устюжанинов в свое время был провозглашен сыном андриамбахуаки (короля Мадагаскара) и отнеслись к нему, как к сыну короля – вручили тяжелую золотую пластину с изображением диковинной птицы, какую ни сам Устюжанинов, ни оба «амиго», ни Артур Дешанель никогда не видели.
Люди вазимба, низко кланяясь Устюжанинову, пояснили:
– Эти птицы исчезли с нашей земли лет тридцать назад.
– Куда же они подевались? – недоуменно поинтересовался Дешанель.
– Съели белые люди.
Дешанель виновато опустил голову.
О диковинных птицах величиной не менее коровы Устюжанинов слышал еще на Иль-де-Франсе, но одни и те же это были птицы или разные, он не знал. И вряд ли это знали люди из гостеприимного племени вазимба.
После ночевки Устюжанинова и обмена любезностями из деревни в бухту Антонжиль отправились восемьсот человек вазимба во главе с вождем племени и мпиадидом – старостой деревни.
Беневский таким результатом деятельности Устюжанинова будет доволен.
За неделю Устюжанинов побывал в девяти мальгашских селениях, не было ни одного вождя, ни одного старосты, которые не поддержали бы его.
Дело, к которому так стремился Беневский, начало торжествовать, граф Морис возвращался на круги своя – снова становился властелином огромного Красного острова.
При переправе через реку, названия которой не знали ни Устюжанинов, ни толгаши, столкнулись с крокодилами.
К воде вела истоптанная, с мелкими следами тропка, Устюжанинов уверенно ступил на нее и не успел сделать и десяти шагов, как из темных густых кустов росших на берегу, неожиданно выметнулось, взнявшись в воздух на добрый метр, тяжелое длинное тело, схожее с бревном, обдало гнилой вонью. Устюжанинов успел отпрыгнуть от него в сторону.
Рванул из-за пояса пистолет, но толгаши сработали быстрее – оба метнули в крокодила свои копья. Одно копье всадилось крокодилу в глотку, пробило насквозь и наполовину ушло внутрь, второе меткий охотник умудрился воткнуть зубастому прямо в глаз. Фонтаном брызнула кровь.
И тем не менее крокодил умудрился броситься на людей еще раз. Третья рана, оставленная пулей из устюжаниновского пистолета, была смертельной.
Крокодил захрипел и, растянувшись на хоженой глинистой тропке, задергал, заперебирал лапами, словно бы собирался проглотить копье, застрявшее у него в горле и теперь помогал себе движениями коротких сильных лап. Старший амиго поспешно подскочил к нему, выдернул из глотки свое копье. Движения лап сделались вялыми, угасающими, крокодил выгнулся всем телом и громко хлопнул хвостом по земле.
– Все, – произнес Устюжанинов без всякого выражения в голосе, он внимательно и очень спокойно следил за крокодилом, держа наготове двуствольный пистолет, привезенный из Америки.
Один ствол пистолета был пуст, из него неторопливо вытекал синеватый дым, во второй была забита литая свинцовая пуля.
Из глотки крокодила, из глубокого луженого нутра вынесся тягучий мучительный хрип, крокодил еще раз хлопнул хвостом по земле и затих. Теперь уже навсегда.
– Всем глядеть в оба! – предупредил Устюжанинов спутников. – Иначе нам не выбраться из крокодильего царства.
Тропка сделалась вязкой, сквозь красную землю проступила влага, смачно зачавкала под ногами.
– Похоже, впереди нас ждут еще подарки, – оскользаясь на тропке и нервно взмахивая одной рукой, чтобы удержаться на ногах, заявил Дешанель.
Дешанель был прав. У самой воды их поджидал второй крокодил, много крупнее и опытнее первого, он проворно пополз навстречу людям, распахнул свою пасть. В то же мгновение Устюжанинов выстрелил в этот распах, украшенный частыми кривыми зубами.
Крокодил гулко хлопнул зубами, проглотил пулю и как ни в чем не бывало, разинул пасть вновь. В распахе этом мог поместиться, наверное, не только человек, но и целая корова.
Цвет пасти был невинный, как утреннее солнышко, молочно-оранжевый, нежный – заглядеться можно. Раскаленную пулю, выплюнутую стволом пистолета, крокодил, кажется, даже не почувствовал.
Заслоняя Устюжанинова, вперед, на тропку, выпрыгнул толгаш – тот, который был постарше, поопытнее, ощетинился копьем.
Крокодил распахнул свою пасть еще больше, в ней не было видно ни одного пятнышка – похоже, пуля даже следа не оставила и нарядный крокодил этот был сработан не из уязвимой плоти, а из закаленного железа.
Пока Устюжанинов вытаскивал из-за пояса второй пистолет, «амиго» успел всадить в крокодила копье, а Дешанель – разрядить оба ствола своего пистолета. В ответ гигант, схожий с поваленной лесиной, лишь вкусно щелкнул зубами, проглотил свинцовый гостинец и легко сожрал бы копье, если бы «амиго», напрягшись, не выдернул его из широкой пасти.
Сделать удалось пока только одно – остановить крокодила, по крайней мере он уже не полз на людей, но тропку освобождать не собирался.
Глаза у чудовища посверкивали злобно. Было понятно – крокодил будет нападать снова.
Глядя на крокодила, Устюжанинов немного растерялся – непонятно было, куда стрелять, слишком уж хорошо и надежно была защищена эта страшная, совершенно неуязвимая животина, все прикрыто пластинами, будто непробиваемой кольчугой, даже в стыки между бронированными прямоугольниками невозможно было вогнать ни пулю, ни копье.
Казалось, крокодил занял всю тропку до самой реки, не уступал ее людям, а люди не уступали крокодилу – не могли, не имели права уступить. Вон как по-хозяйски разлегся зверь, ноздри раздул, глазами посверкивает, дай ему волю – весь Мадагаскар проглотит. Тьфу! Устюжанинов сделал небольшое движение в сторону, крокодилу это не понравилось, он захрипел дыряво – видать, в организме его все-таки образовалась дырка, – развернулся решительно, перекрывая путь человеку.
Ну и ну! Устюжанинов присел на корточки, навел пистолет на крокодила. Куда стрелять, в какое место – не понять. Устюжанинов изучал крокодила, крокодил изучал человека. Если ударить в голову, в череп – пуля отскочит от него, словно от камня, ударить в глаз – крокодил будет ослеплен, но не убит… Куда все же стрелять?
Не было уязвимого места у крокодила, совсем не было, не находилось. Устюжанинов неверяще помотал головой.
Зарычав по-песьи, – люди откровенно надоели ему, – крокодил вновь распахнул свою нежнокожую светлую пасть, дохнул на людей вонью – хы-ы! От такой вони даже глаза начинали слезиться, Устюжанинов ощутил, как у него защипало веки.
– Хы-ы! – вновь дохнул на людей крокодил, он словно бы собирался сбить их с ног своей вонью, хлопнул пастью устрашающе и опять открыл ее.
Разглядел Устюжанинов – в глубине пасти, далеко-далеко, темнеет небольшая, словно бы прикрытая гибкой аккуратной крышкой воронка. А может, никакой крышки и не было, это Устюжанинову только показалось…
Воронка – это ненасытное крокодилье горло. Крохотнее, но обладающее способностью мигом превращаться в большую дыру – в том случае, если крокодилу понадобится проглотить быка или другого крокодила… Устюжанинов нащупал мушкой пистолета воронку и выстрелил в нее, следом, почти в унисон, выстре лил вторично – важно было это сделать, пока крокодил не захлопнул свою пасть.
Обе пули достигли своей цели – крокодил застучал хвостом по влажной тропе, попытался отползти от людей, но двигаться назад ему мешал толстый неповоротливый хвост. Вперед выскочил младший «амиго» и поступил традиционно – всадил копье прямо в ярко светящийся фиолетовый глаз – он уже не сомневался в том, что крокодил будет убит.
А крокодил еще минут пятнадцать трепыхался на тропе, дергал лапами и скрипел зубами, хотя открыть пасть свою уже не мог – тело, мышцы, лапы быстро мертвели, не подчинялись ему, наконец наступил момент, когда он не мог уже пошевелить ни хвостом, ни лапами. Вскоре закрылся и единственный оставшийся у него глаз.
Все. Устюжанинов отер рукавом лоб. Старший «амиго» приблизился к крокодилу, шевельнул копьем скрюченную лапу, потом пощекотал острием рисунчатую, похожую на кружку, ноздрю. Крокодил на это никак не среагировал.
Был он огромен, Устюжанинов никогда еще не видел таких крупных, тяжелых, с длинными, защищенными железом хвостами крокодилов – хвост этот, наверное, можно было перебросить на ту сторону реки и ходить по нему с одного берега на другой, совершенно не опасаясь, что течение уволокет его.
Старший «амиго» выдернул из ножен, обтянутых желтовато-прозрачным бычьим пузырем, меч – плоский, хорошо заточенный, любовно оберегаемый хозяином, – и несколькими точными ударами отсек крокодилу хвост.
Оковалух получился большой, поднять можно было только двоим, – засочился сукровицей, задымился в лиловом вечернем свете, но величина и тяжесть его не смутили опытного охотника, он сделал еще несколько взмахов мечом и отсек самый конец хвоста, жесткий и в еду не годный.
Потом располовинил остаток, одну половинку себе, другую – младшему «амиго», извлек из сумки материю, целое полотнище, завернул в ткань свою половину. Получился вполне домашний, безобидный, хотя и тяжело провисающий узел. Толгаш продел в него палку, вскинул узел на плечо. Вторую половину таким же образом упаковал молодой напарник и они, не опасаясь больше крокодилов, неторопливо двинулись к реке.
На ходу переговаривались, голоса толгашей были звонкими и беспечными, как у птиц.
– А что крокодилы… – начал было Устюжанинов, но старший «амиго» не дал ему договорить, успокаивающе махнул рукой.
– Крокодилов больше нет – их было только двое, он и она… Пришли сюда недавно, образовали семью, но потомством обзавестись не успели.
Толгаши знали, что говорили, их опыту можно было довериться. На берегу реки Устюжанинов перезарядил пистолеты. Вода в реке была мутной, на мелких волнах возникали и пропадали несвежие кружева, сопровождаемые широкими кругами: это крупная рыба поедала стрекоз и мух – шел азартный вечерний жор.
В темных, плотно сбитых зарослях оказалась спрятана простенькая лодка-долбленка, при ней – пара весел. На этой лодке, по одному, и переправились на тот берег.
Старший «амиго» прикрикнул на младшего, тот поспешно нырнул в густотье лиан, свисающих с деревьев, заработал мечом, отрубая сухие плети. Через пять минут на облысевшей проплешине берега уже потрескивал, стреляя углями, будто пулями, костер.
Младший занимался костром, а старший нарезал крокодилятину кусками, предварительно сковырнув с каждого ломтя лохмот жесткой кожи, насадил мясо на ровные длинные прутья. Получилось то, что на российском Кавказе ныне называют шашлыком.
Держа в руках два шампура, «амиго» сунул их в огонь, сырое мясо зашипело, быстро покрылось коркой, по воздуху растекся вкусный запах. Такой вкусный, что у Устюжанинова во рту даже сделалось сладко.
Он невольно покрутил головой: однако! «Амиго» ловко вертел шампуры, поджаривая мясо со всех сторон.
Когда шашлык был готов, торжественно вручил один шампур Устюжанинову, второй – Дешанелю. Поклонился им, будто заправской руководитель гастрономических дегустаций.
– Пробуйте, господа!
Устюжанинов поднес шашлык ко рту с опаскою: крокодилова мяса не доводилось есть ни в Макао, ни в Кантоне, ни в Америке, осторожно стащил зубами с деревяшки один кусок и, прислушиваясь к самому себе, разжевал.
Проглотил аккуратно, будто мешочек с порохом, способный внутри, в желудке взорваться.
Мясо очень походило на куриное, только было чуть жестче, а так и волокна были белые, и вкус, и дух, и даже, извините, отрыжка, – она была такой же, как и после съеденной наспех курицы. Дешанель расправился со своим шампуром быстрее, смелее и, если можно так выразиться, беспечнее, чем Устюжанинов. Он поглощал экзотическую крокодилятину, будто обыкновенного кролика, сопел по-детски, причмокивал и предусмотрительно держал деревянный прут подальше от себя, чтобы не запачкаться.
Старший «амиго» так же проворно и ловко зажарил еще два шампура, один для себя, другой для своего напарника и теперь, едва ли не урча, очень довольно, с прихлебыванием и мычанием, облизываясь, ел мясо.
Увидев, что Устюжанинов наблюдает за ним, скосил округленный глаз на кулек с остатками сырого мяса, промычал, проглатывая очередной кусок:
– Тут еще и на завтрашнее утро хватит, и на обед…
Мяса действительно было много. И вообще, может, был смысл прихватить всего крокодила? Кроме, конечно, его тяжеленной башки, кривых лап и гнилых кишок… Старший «амиго», поняв, о чем думает Устюжанинов, покачал головой:
– Всего крокодила – нельзя… Его вообще есть нельзя – очень невкусный. И плохой. Заболеть можно.
Четверо сафирубаев продолжали следить за группой Устюжанинова. Шли они осторожно, прячась, буквально щупая пальцами воздух, а не только нюхая его, читая следы, тщательно присматриваясь к сломанным веткам и вдавлинам, оставленным в земле, к примятостям, попадавшимся в траве, сшибленным головкам цветов и ярких фиолетовых метелок, обильно распространившихся по здешним лесам.
В пути к ним присоединились еще двое сафирубаев, потом эти двое исчезли.
Появились исчезнувшие сафирубаи уже в форту Дофин, в крепости, у французского начальства. Всеми делами в форту ныне заправлял старый знакомый – капитан Фоге.
Со временем он стал скрипеть еще больше, шага не мог сделать без режущего, вызывающего неприятную щекотку на зубах звука, лицо его, исполосованное шрамами, завосковело, рубцы стали видны меньше.
– Ну! – Фоге грозно нахмурил брови, воткнул кулаки в бока и впился взглядом в пришедших. – Чего скажете?
Оробевшие было сафирубаи довольно скоро пришли в себя и нашли, «чего сказать» – поведали о передвижении по лесу группы Устюжанинова.
– Интересно, интересно, – проскрипел Фоге и в качестве гонорара велел выдать сафирубаям бутылку «огненной воды». Приказал: – С этого белоголового и его шайки глаз не спускать! Понятно?
Это сафирубаям было понятно. Дареную бутылку они опорожнили тут же, за порогом конторки Фоге, быстро потеряли ощущение пространства и разучились ходить, – завалились спать в ближайшие кусты, облепленные желтыми пахучими соцветьями и верткими, блестящими, будто бы отлитыми из свежего металла мухами.
Храпеть пьяные сафирубаи не умели, заснули тихо, почти беззвучно. Фоге выглянув из своей конторки, увидел высовывающиеся из кустов голые пятки, хмыкнул весело:
– Р-разведчики! – с оглушающим скрипом развернулся и вновь скрылся в помещении.
Жизнь в форте Дофин продолжалась, у каждого здешнего обитателя она была своя – интересы не совпадали.
Устюжанинов делал большое дело, совмещал прошлое с настоящим, и лицо его освещалось невольной улыбкой, когда он видел, что люди помнят Беневского.
Все сходилось к тому, что быть Морису Августовичу вновь королем. Об этом знали и Фоге, и де Гринье, и Балью, по-прежнему продолжавший исполнять обязанности начальника канцелярии губернатора, он словно бы законсервировался, не постарел и не помолодел, каким был, таким и остался, – карлик с бородавкой на носу, – больше всех Беневский беспокоил губернатора де Гринье.
– Не бывать Беневскому королем, – капризно провозгласил де Гринье и топнул ногой. – Никогда не бывать!
Дело происходило на балу, устроенном по поводу прибытия в Порт-Луи концессионера де Ляроша, дворянина и богача; де Лярош, присутствовавший на балу, подтверждающе наклонил голову: да, никогда этому не бывать.
Гневное восклицание губернатора дошло и до Беневского, в ответ на это он лишь рассмеялся и проговорил беспечно:
– Слепой сказал – посмотрим!
В бухту Антонжиль, в только что возведенную деревню, прибывали люди, поднятые Устюжаниновым – племена махафали, бецилео, самбаривы и другие, поддерживавшие Беневского, они хорошо помнили его, прибыли и буканьеры во главе с поседевшим, раздавшимся в плечах, но сделавшимся ниже ростом, – подступала старость, пора поздней осени, от которой никому не дано уйти, – Джоном Плантеном.
Стоя на берегу, Плантен долго обнимался с Беневским, произносил разные ласковые слова – то английские, то французские, то еще какие-то, совершенно непонятные Морису… А Плантен, как и Устюжанинов, из всех мальгашских наречий набрал понемногу слов, сыпал и сыпал ими, речь у него была приятная, успокаивающая. Это была речь сильного человека.
В деревне Плантен пробыл несколько дней, потом на лодке отправился к себе. У Беневского осталось двадцать ловких, сильных буканьеров, настоящих солдат и мореходов – буканьеры помогали графу доводить крепость до ума, стреляли из мушкетов по подплывающим к берегу акулам, пили ром из пузатых черных бутылок, закусывали крепкое пойло кокосовыми орехами.
Натура буканьеров проступала на поверхность, быть иными они просто не могли.
Пару раз Устюжанинов присылал с прибывающими людьми записки, начинавшиеся уважительным словом «Учитель» – другой связи с Беневским у него не было, – в записках коротко обрисовывал обстановку, рассказывал о дальнейшем своем маршруте. Беневский был доволен: белоголовый камчатский мальчишка с двумя висящими под носом жидкими нитками поначалу превратился в толкового ученика, а сейчас, став взрослым, сам сделался неплохим учителем.
Когда Беневский отправится в мир иной, здесь его заменит достойный человек – Алексей Устюжанинов. Алексей тоже будет королем Мадагаскара. Корону свою Беневский передаст ему по наследству.
– Молодец, Альоша, – прочитав третью записку, одобрительно произнес Беневский, звонко прищелкнул пальцами, будто скрестил с кем-то шпагу, – мы еще покажем нашим врагам, как благородные мангусты прокусывают глотку ненасытному удаву.
Широкая, какая-то детская, очень безмятежная улыбка разлилась по лицу Беневского.
Мальгашей, прибывавших в новую крепость, он обучал строю, толковой стрельбе – с поправками на ветер и расстояние, штыковому бою – штыки, примкнутые к мушкетам, стремительно входили в моду в европейских полках, – армейской дисциплине, и вообще стремился сделать из них если не регулярное, то хотя бы полурегулярное войско.
Мысль была благая, и Беневский радовался ей: Мадагаскар должен быть не только самостоятельным государством, но и уметь защищаться. Сюда не должны приплывать люди на военных кораблях и отлавливать здесь рабов.
Берег залива Антонжиль приобрел обжитой вид – ну будто бы здесь давным давно обитали люди, возводили дома, обихаживали свою крепость, давали по физиономии тем, кто, позарившись на чужое, приезжал сюда с недобрыми целями.
На Мадагаскаре стояло лето – горячее, полное цветения, сказочных вечеров и рассветов, какие камчадалам, к сожалению, никогда не дано увидеть: нет на Камчатке этого.
Именно ранним летним утром Беневский выстроил в шеренгу свою первую роту и неспешным шагом прошелся вдоль нее, внимательно окидывая взглядом лица своих сподвижников.
Буканьеры составили целый взвод, – Плантен прислал еще два десятка человек, так что взвод получился полновесным, и, надо полагать, очень лихим: бесшабашным, презирающим смерть людям этим, похоже, все было нипочем, для них что жить, что умирать, что ненавидеть, что любить, – все было единым.
Это был лучший взвод войска Беневского.
Второй взвод состоял из бецимисарков, дорогих для Мориса людей, это были храбрые, верные, с серьезными лицами воины, они первыми освоили мушкеты, перестали бояться пушечного грохота – анимароа при пушечных выстрелах, например, до сих пор валятся снопами, втыкаются макушками в землю и зажимают себе уши, – считают, что грохот этот раздается с неба и если они не падут ниц, то примут ужасную смерть – будут сожжены ударом молнии.
Третий взвод состоял из толгашей, четвертый – из воинов племен вазимба и махафали, пятый, последний, был смешанным, этакая сборная солянка – тут были и малагасы, и самбаривы, и бецимисарки…
Неожиданно Беневский ощутил, что на глаза ему наползает странная пелена, в висках возникает тепло – о собственной армии он мечтал давно, и вот теперь мечта сбывается.
Он стиснул зубы, отвернул лицо в сторону – неожиданно сжало сердце, так сжало, что сделалось больно, – отер ладонью глаза и, повернувшись к своему новому войску, произнес зычно, по-командирски:
– В армии все команды положено исполнять безоговорочно – это р-раз…
С ближайшего дерева, среагировав на громкий голос, метнулось в воздух стадо попугаев – цветных, ярких, красных, зеленых, желтых, стадо завскрикивало гортанно, заметелило крыльями по-куриному – такое впечатление было, что попугаи и летать-то толком не умели, баловались, смятыми яркими тряпками вися в воздухе и несмазанно вскрикивая при этом от возбуждения…
Жизнь шла, она совсем не зависела от того, будет у Беневского свое войско или нет, удастся ли ему изгнать с Мадагаскара работорговцев-французов, или же они будут править тут бал и впредь.
Обидно все-таки бывает, когда наши желания не совпадают с нашими возможностями. Но тут уж ничего не поделаешь…
Устюжанинов забрался в самую глубину острова, – от океанского берега ушел далеко, – здесь все было иное, чем на берегу… Земля была не просто красной, а оранжевой, даже больше – буйно-оранжевой, всегда молодая, густо продирающаяся наверх зелень была какой угодно, но только не зеленой… Встречались кусты синие, фиолетовые, алые, иногда даже глянцево-черные, диковинные, инопланетные какие-то.
В горах зелень имела яркий желтковый цвет, коричневатый и серый, если попадались сырые места, то их охраняли птицы на длинных, будто бы проволочных ногах, очень похожие на общипанных, с куцыми хвостами цесарок – это были цапли.
На полях они имели свои «фермы, словно зажиточные американцы», на них выводили лягушек. А что может быть вкуснее лягушки? Только лягушка.
Правда, цапель из других семей к себе не подпускали, только своих – берегли еду для родичей, словом. Устюжанинов, видя это, лишь улыбался: что у людей, что у зверей, что у птиц – одни и те же предпочтения в быту, одни и те же заботы.
Остановки на ночь старались делать там, где растет пальма равенала – в таких местах обязательно бывает вода, она скапливается в выемках листьев, будто в чашах, и равенала бережно хранит влагу, не дает ни высохнуть, ни пролиться; макушка у равеналы похожа на большой тент, всегда готова прикрыть путника от беспощадного солнца. Растут на равенале и бананы – можно не только напиться, но и насытиться.
Рядом с равеналой человек ощущает себя защищенно, спокойно, его даже комары меньше кусают. Под стать равенале и пальма рафия – она дает плоды, масло, кровлю для крыш, бул, из которого ткут табану – прочную ткань, без которой ни один мальгаш не способен прикрыть свою наготу.
А вот хинцы. Кору и ветки его жуют, когда человека треплет тропическая лихорадка – дерево хинцы очень помогает… Есть дерево нату, которое никогда не гниет, ни одно болото не способно его взять, есть манара, чья древесина имеет яркий фиолетовый цвет, способный ослепить любой взыскательный взор, есть циандалана, древесина у циандаланы – розовая, иссеченная черными мраморными прожилками, есть манаризуби в пепельно-красной оплетке – палисандровая порода, как определил Беневский… И все это – Мадагаскар. Очень дорогим считается эбеновое дерево, которое в Европе зовут черным – тяжелое, трудно поддающееся резцу…
Все эти деревья попадались в пути Устюжанинову и его людям, у каждого дерева хотелось остановиться, понять, чем оно приметно, изучить, даже попробовать на зуб, но времени не было, и группа шла дальше, почти не останавливаясь.
Больше всего встречалось громоздких, неуклюжих, непонятно как зацепившихся за землю толстыми стволами бутылочных деревьев…
Следом за людьми Устюжанинова, стараясь быть невидимыми, неслышимыми, вообще неосязаемыми, двигались сафирубаи. Быть невидимыми и неслышимыми им удавалось – опытные были охотники.
Нельзя сказать, что их оба «амиго» или Устюжанинов не чувствовали – воздух был насыщен тревогой.
Хотя откуда исходила эта тревога, было непонятно. Устюжанинов ощущал опасность, понимал, что она прячется где-то рядом, совсем рядом, но не мог ответить на вопрос, где именно прячется… Не было на это ответа. На ходу Устюжанинов иногда резко оборачивался, стремясь засечь за спиной какое-нибудь движение, всплеск листвы в кустах, но все было безрезультатно – позади лишь порхали яркие бабочки, да перемещались с ветки на ветку птицы.
Когда с горных плато – очень низких, к слову, с камчатскими не сравнить – стали уходить вниз, случилось непредвиденное. Неожиданно дрогнуло нависшее над тропой дерево, затрясло лихорадочно ветками и рухнуло на шедшего первым старшего «амиго».
Тот не успел отскочить в сторону, дерево накрыло его целиком, – лишь сдавленный крик донесся из-под густых веток.
Когда «амиго» раскопали, вытащили из завала веток, утыканных острыми короткими сачками, оказалось, что у него сломаны нога и рука. Лицо было в крови.
Находился «амиго» без сознания и сдавленно стонал. Надо было нести его в ближайшую деревню, где есть знахарь – хомбиас. Впрочем, до ближайшей деревни было совсем не близко, поэтому надо было оказывать помощь здесь же, на месте, чтобы «амиго» дотянул до знахаря, а уж там эскулап разберется, что к чему, – ведь ни Устюжанинов, ни Дешанель в медицине ничего не смыслили.
– Надо связать носилки, – засуетился Устюжанинов, – иначе мы замаемся, сами ляжем, а до деревни не доберемся.
Дешанель согласился с ним.
Срубили два деревца с упругими прямыми стволами, переплели их лианами так, чтобы «амиго» было удобно лежать, колыхаться в так шагам носильщиков…
Очнувшегося и стонущего «амиго» уложили на носилки, Дешанель и младший толгаш поспешно подняли их и мелкими уторопленными шагами стали спускаться с поросшего деревьями плоскогорья вниз в долину, разогретую до того, что в воздухе запросто можно было варить куриные яйца.
Старшего в группе сафирубаев, преследовавших Устюжанинова звали Бабакутом. Бабакут – это вид желтоглазого мрачного лемура, отличавшегося строптивым характером и особой изобретательностью. Если бабакутам что-то не нравится, они по-змеиному остро, угрожающе шипят, размахивают короткими детскими ручками, из круглых глаз их буквально льется злость.
Преследование группы Устюжанинова подходило к концу, пора было ставить точку – такую команду Бабакут получил от капитана Фоге, – белых капитан решил взять в плен, а темных – двух толгашей, – продать в рабство.
Бабакут и свалил дерево на идущих по тропе людей. Правда, он малость помял одного из них, но в таких делах всегда бывают издержки… В конце концов, пусть не два толгаша будут проданы в рабство, а один; один – это тоже неплохо.
Свалил дерево Бабакут хитроумно, даже напарники его не поняли, как он это сделал – вроде бы и нетронут был ствол, ни подрубов, ни подпилов у него не было, а рухнуло, будто Бабакут ему скомандовал:
– Падай!
И дерево упало.
Спутники поглядывали на Бабакута со страхом: не колдун ли их старшой, не мпамозави ли? Колдчны-мпамозави обладают разрушительной силой, могут не только дерево завалить, но и человека превратить в лемура, потом из лемура сотворить бабочку, а бабочку играючи прихлопнуть пальмовой веткой – от ярких, с изумрудными пятнами крыльев только одни лохмотья да пятна и останутся. Таких людей надо бояться.
И спутники боялись Бабакута, даже глаза закрывали, когда старшой смотрел на них в упор и что-то говорил. Слышать его слышали, а вот видеть не видели.
Бабакут действовал по плану, который тщательно продумал – теперь он заманивал Устюжанинова и его людей в ловушку. Лицо у Бабакута было жестким, движения – резкими, говорят, что он даже не был сафирубаем, отцом его был какой-то заезжий синекожий сенегалец, лицо у Бабакута действительно было с синевой, – может, и вправду его отцом был какой-то недобрый, прибывший на Магаскар из Африки колдун? Этого не знал никто.
Видя, что его спутники со страхом закрывают глаза, Бабакут презрительно морщился: если понадобится, он этих людей убьет, не задумываясь, – ну будто мух, – даже глазом не моргнет.
Надо было понаблюдать, что будет делать группа белоголового сподвижника Беневского, куда шарахнется, как станет лечить покалеченного толгаша? А главное – дождаться момента, когда белоголовый со своими спутниками выдохнется. Вот тогда и нужно будет сделать второй ход, придуманный Бабакутом.
Перед глазами у Устюжанинова подрагивала, словно живая, качалась, заваливаясь то в одну сторону, то в другую, оранжевая тропка, на плечи больно давили торцы деревцев, из которых они сделали носилки.
Идти было тяжело, что-то сладкое, клейкое возникло в горле, закупорило его, было трудно дышать, изо рта вырывался горячий хрип.
Солнце было беспощадным совершенно, даже до собственной шляпы невозможно было дотронуться – припекало так, что Устюжанинову казалось: внутри, в животе у него сейчас все сварится.
Он стискивал зубы и продолжал тащить носилки. Младший «амиго» шел сзади также надсаженно хрипел и корчился под тяжестью.
Спуск в долину продолжался. Говорят, спускаться с горы тяжелее, чем подниматься, – наверное, так и есть, но когда будешь подниматься с ношей в гору, то подъем обязательно покажется тяжелее спуска. Увы.
Это закон. Хотя все познается в сравнении. Через пятнадцать минут Устюжанинов с запаренным хрипом выбил из себя:
– Привал!
Медленно, очень осторожно опустил край носилок на землю, кулаком стер со лба пот. Хы-ы… Устюжанинов подумал о том, что до полного набора им не хватает всего одного человека, если бы его заполучить каким-нибудь колдовским образом, то у них будет полные две смены.
Но полных двух смен нет, только полторы… Устюжанинов опустился на землю рядом с носилками, размял себе кисти рук, сжал и разжал пальцы, сжал и разжал. Перед глазами роились противные красные мухи. Было жарко.
Бабакут продолжал внимательно следить за группой Устюжанинова – понимал хитрец, что очень скоро Устюжанинов и его люди выдохнутся окончательно, а когда выдохнутся, их можно будет брать голыми руками.
Рот у Бабакута растянулся в довольной улыбке, – сам он был полон сил. На все имел силы – на драку и отдых, лихой пир и ходьбу по непролазному лесу.
– Идем дальше! – скомандовал Устюжанинов вполголоса, словно бы обращаясь лишь к самому себе, поскольку видя измученного Дешанеля и молодого «амиго», не мог ими командовать, не имел права, – ему было жалко их…
Но пути иного не было – нужно идти дальше, идти самим и нести на себе покалеченного толгаша. Сжимать зубами усталость, пригоршнями сшибать на землю пот, хрипеть, выплевывать изо рта куски сваренных легких, падать на ходу и стараться не упасть – удержаться и сделать очередной шаг…
Бабакут не завидовал белому предводителю маленькой группы, так опрометчиво отправившейся в дальний поход. Оставалось ему сейчас сделать лишь одно – выждать момент, когда люди Устюжанинова совсем лишатся сил и тогда их не только человек сможет скрутить – одолеет даже обезьяна, каждый палец завяжет в узелок, не говоря уже о большем.
Предчувствуя этот момент, Бабакут довольно улыбался.
Чем ниже спускалась группа Устюжанинова, тем жарче делалось, одежда прилипала к телу, в сапогах громко хлюпал пот.
Уже в долине, на привале, младший «амиго» обработал раны старшего потщательнее, собрал с кустов густую паутину, разжевал ее и залепил жвачкой кровоточащие места, потом перевязал широкими, украшенными полосами листьями неведомого растения.
– А это нельзя было сделать раньше? – спросил Устюжанинов.
– Нельзя, – «амиго» отрицательно помотал головой, – там не было лекарства…
Устюжанинов понял, что под лекарством этот парень разумеет большие полосатые листья, заметил упрямым тоном:
– Но пауки-то были. И паутина была…
– Совсем не та паутина, мбвана. И пауки не те.
– Он выздоровеет? – Устюжанинов задал вопрос, который не следовало бы задавать, но, к сожалению, он не подумал об этом.
– Обязательно выздоровеет, мбвана, – успокаивающим голосом проговорил «амиго», – иначе быть не должно.
– Дай-то Бог, – тихо произнес Устюжанинов и закрыл глаза.
Пространство перед ним окрасилось в красный цвет и поплыло куда-то в сторону, вместе с воздухом этим поплыл и Устюжанинов. На несколько мгновений он провалился в небытие, нырнул вниз, в глубину, потом всплыл на поверхность.
Всплыл, немного посвежевший. Руки и ноги ломило, пальцы тряслись, в горле сидела твердая пробка, по назойливому звону, возникшему в ушах, ему показалось, что он совсем лишился сил, но вскоре назойливый звон исчез. Устюжанинов поднялся с поваленной лесины, на которой сидел.
– Ну что ж, снова моя очередь нести «амиго», – проговорил он буднично.
Обвядший, понурившийся Дешанель поднял голову – он не был похож на самого себя, усталость выжала его, будто мокрую тряпку, выкрутила – сдал француз сильно. Устюжанинов невольно сравнил себя с ним: а ведь он выглядит точно так же, как и Дешанель – такой же выжатый, усталый, не похожий на себя.
Вздохнув, Устюжанинов вцепился руками в край носилок, приподнял, молча поглядел на молодого «амиго» – помогай! – тот послушно взялся за носилки с той стороны.
Двинулись дальше.
– К вечеру они будут наши, – заключил Бабакут, щуря глаза – группа Устюжанинова находилась далеко, видно ее было плохо, – точно будут наши, – повторил он и послал одного из своих помощников к капитану Фоге – капитан должен знать все, что происходит с белоголовым помощником Беневского и его людьми.
Помощник, молодой сафирубай в плаще из грубой рисовой ткани, – в России такую ткань называют рогожкой, – покивал понимающе, приложил руку к груди и исчез в густых фиолетовых зарослях.
Группа Устюжанинова на этот раз не останавливалась долго, – Бабакут лишь удивленно покачал головой, не думал он, что европейцы могут так долго держаться, не падать на колени от усталости, но что было, то было, – во второй половине дня все же улеглась на неровной лесной поляне на привал…
Дешанель, отхрипевшись, откашлявшись, подполз к Устюжанинову, помял пальцами грудь, пожаловался:
– Сердце болит!
– Держись, Артур! – это единственное, что мог выдавить из себя Устюжанинов.
– У меня такое ощущение, что мы никогда уже не выберемся к Беневскому, все останемся тут.
Устюжанинов вместо ответа немо покрутил головой – ждал, когда слова вновь возвратятся к нему, пробившись через броню усталости, – наконец проговорил с трудом:
– Мы вернемся, Артур, обязательно вернемся!
С высоты птичьего полета было хорошо видно, что совсем недалеко от места отдыха Устюжанинова и его людей по лесу двигался целый отряд, возглавляемый хромым, но все еще неутомимым капитаном Фоге, – ноги у него скрипели певуче, ржавый металлический нагрудник, который капитан натянул на себя, также скрипел, между двумя пластинами сбоку, в сочленении, виднелась дырка, но это досадное обстоятельство совершенно не волновало Фоге. С собою в поход он взял палку с рогулькой-набалдашником, вырезанную из твердого железного дерева, теперь взмахивал ею призывно и сипел, широко открывая рот:
– За мною, ребята! Вперед!
Скрип его ног вспугивал птиц, с кустов поднимались даже невозмутимые попугаи и старались переместиться в противоположный угол леса, хотя летать они не любили и предпочитали отсиживаться где-нибудь в тихом тенистом месте, где не было орлов с их стальными когтями и докучливых, дурно пахнущих людей; птицы помельче и попроворнее также поднимались с кустов и деревьев и тучами уносились в сторону.
Младший «амиго» засекал это опасное шевеление в душном громоздком лесу засекал далекие звуки, вскидывался настороженно, но понять ничего не мог и устало опускал голову.
А Фоге продолжал деревянно скрипеть конечностями – ему плевать было на то, слышат его напарники Устюжанинова и сам Устюжанинов или не слышат, – и грозно взмахивал тяжелой палкой:
– Не спотыкайтесь на ровном месте, ребята… Вперед!
Ноги у него рождали звуки громче и пронзительнее, чем издают, допустим несмазанные колеса старой телеги, смертельно пугали не только мелких зверушек, прятавшихся в кустах, но и зверьков покрупнее; с изрубленного, похожего на прокисший кусок мяса лица тек обильный пот.
От отряда Фоге отделились двое крепкотелых людей, ничем не отличавшихся от бецимисарков и толгашей, и поспешно ушли вперед.
Отряд же Фоге, наоборот, остановился, капитан развернулся циркулем вокруг одной ноги и прокаркал, будто старая ворона:
– Отдыхайте пока… – подумал немного и предупредил строго: – Но без дремоты!
Дружно застонав, отряд повалился на землю, не боясь испачкать форменные камзолы и тем более не боясь помять их, – они и без того были мятые. Зелень же здешняя въедается в ткань мертво, а ядовитая вообще может прожечь материю насквозь, на самых видных местах образуются аккуратные, словно бы оплавленные огнем, дырки.
Фоге, помедлив, пооглядывался немного, прикидывая выгодность позиции, на которой они отдыхали, и тоже повалился на землю, задрал скрипучие ноги – чем он хуже своих солдат, в конце концов. Хлопнул челюстями громко – зубы у капитана, несмотря на возраст, были еще крепкие, – и, несмотря на собственное предупреждение не дремать, закрыл глаза.
А группа Устюжанинова тем временем снова двинулась в путь – надо было обязательно добраться до ближайшего селения и оставить там старшего «амиго». Может быть, если в селении помнят Беневского, то в знак дружбы поредевшей группе дадут своего провожатого. На это Устюжанинов тоже надеялся.
Стискивая зубы, он снова шел первым, крутил головой, стряхивая с себя пот, сипел протестующе, когда ему казалось, что сейчас он упадет на колени…
Ближе к вечеру, когда группа Устюжанинова расположилась на берегу извивистого, словно веревка, зеленого ручья на привал, из зарослей вышли два охотника. Увидев Устюжанинова, заулыбались дружно и воскликнули в один голос:
– А мы тебя помним!
– Откуда? – тихим, севшим от усталости дырявым баском спросил Устюжанинов.
– Отец у тебя был королем Мадагаскара, – сказали охотники, – а потом у тебя волосы такие, каких здесь вообще ни у кого нет, только у тебя одного.
Устюжанинов невольно коснулся пальцами головы, улыбнулся через силу.
– Мы поможем тебе и твоим людям быстрее выйти отсюда, – уверенно, в один голос произнесли охотники; судя по всему, они были людьми дружными, походили один на другого, как близнецы-братья. И одежда у них была одинаковая.
– Если поможете – буду благодарен, – проговорил Устюжанинов тихо, с одышкой – от усталости ломило тело, мышцы и кости, ломило даже лицо, обожженное солнцем, к щекам невозможно было прикоснуться, все горело. – В долгу не останусь.
Охотники дружно замахали руками – не надо, мол, никакой благодарности, – подсунулись под носилки, на которых лежал покалеченный «амиго», рывком подняли их.
– До ближайшего селения еще далеко, – Устюжанинов, кренясь косо, поднялся, поморщился невольно – больно было, – с трудом подстроился под скользящий шаг охотников.
– Придем в начале ночи, – пообещали охотники, – здесь, на полпути к деревне, которую вы имеете в виду, даже менее, чем на полпути, разбита летняя деревня племени анимароа, там летуют два очень хороших знахаря.
«Хорошее слово – “летуют”, – невольно отметил Устюжанинов, – очень точное. Как у нас, на Камчатке, слово “зимуют”».
Вспомнил он Камчатку и дышать ему сделалось легче, на губах возникла улыбка. Если раньше он не верил, что когда-нибудь увидит Россию, Камчатку, то сейчас неожиданно ощутил: а ведь в Российскую империю он вернется обязательно, и Бог даст, увидит и Большерецк, и родной Ичинск. Если, конечно, будет жив. Сколько же лет было ему, когда он покинул Ичинск? Сразу и не вспомнить… Двенадцать лет было, двенадцать…
Охотники убыстрили шаг.
– Не спешите, – выбив изо рта комок горячей слюны, попросил Устюжанинов.
– Нам надо до ночи дойти до места, – в один голос заявили охотники, словно бы ответ был заготовлен у них заранее, один на двоих, – и быстрее передать больного хомбиасам.
Устюжанинов кивнул согласно и отстал от охотников. Младший «амиго» поравнялся с ним, тронул пальцами за плечо.
– Сейчас уже спешить не обязательно, мбвана, больной не умрет, с ним все будет в порядке… Напрасно они спешат, мбвана.
Говорил «амиго» убедительно, но только одних его слов было недостаточно для того, чтобы принять какие-то решение – либо туда, либо сюда…
– Эти люди, мне кажется, опасные, – неожиданно произнес «амиго», – даже очень опасные.
– Почему ты так считаешь? – спросил Устюжанинов.
– М-м-м, – «амиго» хотел что-то сказать, но вместо слов лишь немо приподнял плечи, будто ему сделалось холодно, хотя в лесу можно было свариться. – Я это… – «амиго» помял пальцами левую сторону груди, где находилось сердце, – я это чувствую, мбвана.
– Этого мало, – отрицательно качнул головой Устюжанином, – нужны факты.
– Нету у меня этого, – огорченно произнес «амиго», – есть только то, что я чувствую.
– Мало, – Устюжанинов вновь отрицательно покачал головой.
Охотники внезапно сошли с едва приметной лесной тропки в заросли – по тропе этой звери ходили, наверное, чаще, чем люди, потому она и была примята по-звериному, – над густыми темными кустами теперь возвышались только их головы, да носилки с пришедшим в себя старшим «амиго».
– Почему свернули с тропы? – выкрикнул Устюжанинов.
– Здесь дорога короче, быстрее придем в деревню анимароа.
– Вас сменить?
– Не надо.
– А то смотрите, мы уже отдохнули, можем снова впрячься в носилки.
– Мы еще не устали, – дружно, двумя голосами, слившимися в один, ответили охотники.
Идти по зарослям было непросто – охотники с носилками с трудом поднырнули под низко свесившиеся веревки лиан – среди них могли быть опасные змеи, – следом за ними прошли остальные, миновали бирюзовую, обсыпанную мелкими душистыми цветами лужайку и очутились среди начавших загнивать, с обвисшими струпьями отставшей коры гигантских деревьев. Стволы гнездились плотно, имелись места, где невозможно было пройти.
– Я тоже не верю этим охотникам, – по-английски произнес Дешанель. До этой минуты он молчал. – Уж больно они шустрые, словно бы не на охоте и находятся. Такими быстрыми бывают только голодные крысы. Надо держаться настороженно.
В ответ Устюжанинов согласно кивнул. Добавил глухо, словно бы говорил в самого себя:
– Если бы еще не плыла земля перед глазами.
Дешанель стер кулаком пот со лба, улыбнулся вымученно:
– Это от усталости.
Под ногами, словно бы переброшенная сюда неведомым колдуном, возникла нахоженная тропка, через несколько минут пропала, Устюжанинов засек тропку краем глаза и тут же потерял. В памяти остался лишь след.
В груди возник неприятный холодок, через несколько минут рассосался, растекся по телу, идти стало тяжелее, ноги словно бы налились металлом, огрузли. Усталость, проклятая усталость…
– Не торопитесь, друзья, – попросил он охотников, – идите чуть медленнее, не то сил совсем нет.
Охотники нехотя сбавили шаг, один из них, только что улыбавшийся широко, недовольно пробормотал:
– Напротив, надо идти еще быстрее.
– Не надо, – сказал Устюжанинов, поправил заткнутые за пояс пистолеты, заметил, как охотник, вывернувший голову, недобро сощурил взгляд, но значения этому не придал: в конце концов, у него два пистолета, у Дешанеля два, у «амиго» копье и лук со стрелами, втроем они одолеют этих людей, если они окажутся негодяями.
Воздух раскалился еще больше, одежда, насквозь пропитавшись потом, стала сырой, неприятной.
Через несколько минут охотники вновь убыстрили шаг. «Они чего, двужильные, что ли?» – невольно подумал Устюжанинов.
Увы, с усталостью эти охотники были знакомы хорошо, и рады были бы отдохнуть, да не могли.
Часов у них, конечно, не было, да и вообще в ту пору часы имелись у очень немногих людей, – но точное время охотники знали без всяких часов – по множеству различных внешних примет и собственному внутреннему состоянию. Ошибались они редко.
Охотники старались идти так, чтобы Устюжанинову не был слышен их надсаженный хрип, что-то бормотали на ходу, с головой, – вместе с носилками, – погружались в кусты, взбивали тучи комаров, потом выныривали из них, на несколько мгновений задерживались и вновь ныряли в кусты.
Фоге ждал, когда охотники приведут к нему на поляну, окруженную солдатами, белоголового сподвижника Беневского и его людей, предвкушал немалую потеху и потирал руки. Давно он не размахивал своим ржавым палашом, пора бы размяться. Фоге воинственно пошевелил усами.
На ветки дерева, под которым стоял капитан, села стая попугаев, заорала так, что в ушах Фоге немедленно появился нехороший звон. Он поморщился и брезгливо махнул рукой:
– Кыш!
Но попугаи на Фоге даже не обратили внимания. Капитан разозлился и выдернул из-за пояса пистолет.
– Господин капитан, – подал тихий голос лейтенант Гордон, недавно прибывший из Парижа для усиления здорово постаревшего офицерского корпуса острова Иль-де-Франс.
Капитан резко вздернул голову, диковато глянул на Гордона. Вздорный характер Фоге был виден невооруженным глазом.
– Не стоит воевать с попугаями, господин капитан, – прежним тихим, лишенным всякого выражения голосом проговорил Гордон. – Вокруг стоят ваши солдаты, они смотрят на вас…
– Да-да, – коротко буркнул капитан и, пожевав впустую челюстями, сунул пистолет за пояс. Стрельнул одним глазом вверх, где среди листвы резвились попугаи. – Очень уж я не люблю этих горластых куриц.
– Я тоже, господин капитан.
– Вернемся в форт, я обязательно перестреляю там всех попугаев.
– Верно, господин капитан, а сейчас любой громкий звук выдаст нас: те, кого мы ждем, уже на подходе.
– Наверное, – пробурчал Фоге и замер в позе римской статуи, украшавшей центральную площадь маленького городка на юге Франции, где капитан родился. К чему возникла в памяти эта статуя, Фоге так и не понял – наверное, какая-то причина была, а вот какая именно, капитан не осознал, в голове у него, кроме звона, рожденного криками попугаев, ничего не было.
Лейтенант тоже глянул на попугаев, подумал о том, что эти вздорные птицы неспроста прилетели сюда, что-то подняло их в лесу и они поменяли место своего крикливого сбора. Гордон потрогал пальцами пояс, из-за которого высовывалась влажная от духоты рукоять пистолета, а на боку, на помочах, висел палаш.
Кадык у него подпрыгнул, обозначив на шее выпуклую горку, метнулся вверх, застрял там. Гордону еще не приходилось бывать в боевых стычках, поэтому нервы у него были натянуты до отказа, как струны на испанской гитаре, тронь пальцем – зазвенят.
Попугаи, галдевшие над головой, неожиданно стихли. Так внезапно стихли, что наступившая тишина оглушила Гордона. Он поспешно вдвинулся в тень дерева.
Ничто в лесу не указывало на присутствие людей, ни одной приметы не было, лейтенант тщательно вслушался в тишь. Лишь пели цикады и остро, словно бы были созданы из металла, трещали древесные кузнечики. Во Франции такие насекомые не водились.
Почему затихли попугаи? Этого Гордон не знал. Страха, который иногда наваливается на людей перед боем, у него не было, возник только некий внутренний холод, и не более того, да и то холод этот вскоре исчез.
Помолчав немного, поозиравшись, стая попугаев вновь поднялась в воздух и, лавируя между стволами деревьев, исчезла. «Неспроста она делает такие перелеты, очень даже неспроста, – возникла в голове Гордона, мысль, – возникла и, вместо того, чтобы исчезнуть, задержалась, добавила назойливого гуда в висках. Гордон напрягся, еще раз огладил пальцами рукоять пистолета, потрогал эфес палаша, состоявший из трех кованых пластин, нервно пробежался пальцами по ножнам.
Тишина в лесу сделалась пронзительной – перестали петь цикады, следом за ними – и большие древесные кузнечики, перепрыгивавшие с дерева на дерево, с ветки на ветку, будто белки в Булонском лесу.
На пятнадцать минут дружелюбно улыбающихся охотников подменили Устюжанинов с Дешанелем, перехватили носилки с раненным, водрузили на свои плечи, но несли недолго, – к ним вновь приблизились охотники.
– Давайте носилки, мы их понесем дальше, – сказали они Устюжанинову.
– Да мы еще не устали.
– Надо идти быстрее. До темноты нужно успеть в деревню, иначе придется ночевать в лесу. Перед последним броском остановимся у ручья, наберем воды. Там из-под земли бьет сильный холодный ручей, вода в нем особенная, целебная…
– В России такие ручьи называют ключами, – сказал Устюжанинов Дешанелю.
– Во Франции ключами называют приспособления, которыми открывают городские ворота. Чем крупнее город, тем больше ключ.
– На Камчатке нет городов – только две крепости, да несколько селений. Инородцы, которые есть у нас, в основном кочуют, постоянного места не имеют… Больше ничего нет.
Охотники, шедшие и без того быстро, прибавили шаг вновь – перешли едва ли не на бег.
Тропка, которая несколько минут назад ускользнула из-под их ног, вновь появилась, – едва приметная, со следами свиных копыт и еще какого-то, более крупного животного, кажется, быка зебу, – вдавлины зебу были глубокими.
Впрочем, след быка вскоре исчез, – ушел в сторону.
– Потише, потише, – прикрикнул на охотников Устюжанинов, – раненного растрясете.
– Мы же для вас стараемся, – один из охотников приподнял руку, – не для себя.
Шаг они так и не сбавили, Устюжанинов лишь поморщился, но ничего не сказал: усталость брала свое, требовался отдых.
С другой стороны, охотники, наверное, правы, когда идут по лесу едва ли не бегом: хоть и обещал младший «амиго», что со старшим все будет в порядке, а чем быстрее они передадут раненного в руки лекарей, тем будет лучше. Хотелось застонать от усталости, от тупой боли, но Устюжанинов превозмог самого себя и убыстрил шаг.
Он даже воздух начал разгребать руками – помогал себе, как утка крыльями.
Тропка тем временем расширилась, ветки кустов, цепляющиеся за плечи, опустились, сделалось светлее. В лесу этом вообще было много мест, куда свет, кажется, не проникал вообще, – там было темно, – а раз забрезжил свет, значит, они выходят на поляну.
Да, это было так… Устюжанинов с хрипом втянул в себя воздух, помотал головой – слишком едким, колючим был пот, текущий по лицу, – охотники, шедшие перед ним, вдруг словно бы по команде нагнулись и опустили носилки с раненным на землю.
В следующее мгновение их уже не было – один метнулся влево и скрылся за стволом ближайшего дерева, второй ушел вправо.
Устюжанинов чуть не застонал от нехорошей догадки – прав был младший «амиго», эти люди завлекли их в западню; каким же доверчивым дураком был сам Устюжанинов, раз не внял предупреждению «амиго»… Да и Дешанель говорил также об этом. Сморщившись от боли, он выдернул из-за пояса пистолет.
Выстрелить Устюжанинов не успел – пространство впереди сделалось синим от солдатских мундиров… Грянул залп.
Тяжелый удар швырнул Устюжанинова на землю. Падая, он увидел, что рядом ткнулся головой в истоптанную красную землю Дешанель – пуля французского солдата уложила и его. Устюжанинов ощутил кислый, выворачивающий наизнанку ноздри, запах пороха – слишком много мушкетов, разом воспламенившись, сожгли свои заряды и выплюнули из себя свинец, раз воздух сделался таким ядовитым… Выходит, за маленькой группой Устюжанинова охотилось целое войско.
Он застонал задавленно, немо – так стонут только люди с тяжелыми ранениями, – и провалился в беспамятство, его с головой накрыла жаркая красно-черная волна. Сделалось душно. Душно и больно, это Устюжанинов зацепил угасающим сознанием и подумал с сожалением: а ведь его искалечили… И как теперь без него будет обходиться Беневский?
Фоге, поскрипывая коленками, ходил по поляне, на которой лежали, пораженные пулями его солдат, двое белых и двое туземцев, и ругался на своих подопечных:
– Я же приказал вам, пупки куриные, в белоголового не стрелять, а вы? Что вы наделали? Если белоголовый умрет, я солдата, пустившего в него пулю, отдам под суд. Понятно?
Дешанель был убит, младший «амиго» тоже убит, Устюжанинов жив, но находился без сознания, старший «амиго» тоже был жив.
– Ну, индюшачьи задницы, ослиные мозги, требуха крокодилья… Тьфу! Была б моя воля, я бы сам с удовольствием отправил в ад и этого белоголового в паре с черножопым, – неожиданно проскрипел Фоге.
– Нельзя, господин капитан, – остановил его Гордон, – они – пленные.
– Да плевать я хотел на таких пленных, как на гнилые рыбьи кишки, они – враги Франции, а лучший враг у нашего любимого короля – это мертвый враг. Зарубите себе на носу, лейтенант, когда-нибудь пригодится, – Фоге с назидательным видом потыкал в воздух указательным пальцем.
– И все-таки, господин капитан, – не уступал начальнику Гордон. Фоге оглянулся на скученную группу солдат, стоявших под раскидистым деревом, выкрикнул:
– Сержант Карнэ, ко мне!
От группы отделился плотнотелый, с седыми висками сержант. Вытянулся:
– Господин капитан!
– Дохляков закопайте, раненого туземца оставьте здесь. Если ему повезет – найдут свои, помогут, не повезет – сожрут дикие свиньи… Белого забираем с собой.
– Но среди… среди дохляков, господин капитан, есть белый.
– Ну и что? Он – враг короля и Франции, а враги короля для нас – хуже собак. Закапывайте смело!
Очнулся Устюжанинов через двое суток, обвел замутненным взором потолок, разлепил спекшиеся губы:
– Где я?
Ответа на вопрос не было – он лежал один в тесной, темной, похожей на чулан для хранения рыбы, бедно обставленной комнатенке. Устюжанинов застонал и снова провалился в горячую, плотно обволокшую его студенистую массу, – непонятно, что это было: то ли местное малярийное болото, то ли вселенское небытие, то ли еще что-то…
Часа через два он очнулся снова, как и в первый раз обвел глазами косо провисший потолок, собранный из туго связанных пучков тростника, опустив руку, пошарил пальцами по полу. Пол был застелен плоскими, неровно обрезанными плитками каменного сланца.
Скосив взгляд в сторону, Устюжанинов исследовал глазами стену. Стена была неровная глиняная, со свежими заплатами – углубления замазывала чья-то не очень умелая рука – видимо, не самые радивые солдаты ремонтировали этот домик. А может, и не солдаты это были, кто знает.
Информация из того, что он видел, ощущал, трогал пальцами, была скудной, Где находился Устюжанинов, было неведомо. Может быть, его отбили у французов бецимисарки и увезли в свою деревню. Он застонал тихо, сжал зубами стон.
Двери у этого чулана не было – вместо двери дверной проем закрывала бамбуковая циновка. Минут через двадцать циновка приподнялась и в чулане появился человек с пропеченным до густой коричневы лицом и новеньким моноклем, втиснутым в сжим глаза, – впрочем, вряд ли стеколышко, привязанное к прочному шелковому шнурку, называли моноклем, скорее всего, звали как-то по-другому, но этого Устюжанинов не знал.
Разлепив горячие губы, он спросил тихо:
– Кто вы?
Человек поправил стеколышко, чтобы лучше видеть пациента и произнес густым басом:
– Я врач, фамилия моя – Вильбуа.
– Где я, месье Вильбуа?
– В госпитале форта Дофин.
Устюжанинов услышал собственный взрыд, возникший в горле и застрявший там: странно было, что этот жалкий вонючий чуланчик доктор Вильбуа называет госпиталем.
– Что со мною, доктор?
– Вы серьезно ранены и проходите курс лечения. Более того, здесь, в госпитале, вы находитесь под арестом.
Устюжанинов втиснулся головой в подушку, сдавил зубами стон: значит, он находится в плену… Вильбуа пояснил, что в него попали две пули. Хорошо, что солдаты Фоге были полусолдатами, на палашах драться не умели, о штыковом бое знали только понаслышке, стреляли же в основном, мимо – иначе бы Устюжанинов был бы превращен в решето. Хотя двух его спутников убили.
Когда он окончательно пришел в себя, в чулане появился капитан Фоге, неуклюжий, сработанный из плохо состыкованных углов, скрипучий, с острыми, очень длинными тараканьими усами, делающими его похожим на некое морское животное. Такие животные водятся на Камчатке.
Какой-то солдатик, маленький, юркий, также смахивающий на морского зверька, услужливо сунулся в чулан следом за капитаном и подставил ему под зад табуретку.
Капитан важно уселся на нее, устроил между коленями палаш и по-королевски величественно оперся на него.
– Меня интересует одно, – хриплым крокодильим голосом проговорил он, – что собирается предпринять Беневский в ближайшее время?
Отрицательно повозив затылком по подушке, Устюжанинов произнес тихо и спокойно:
– Этого я не знаю. Я очень давно не видел Мориса Августовича Беневского.
Устюжанинов на мгновение прикрыл глаза.
– Врешь, – прохрипел Фоге напористо, – ты знаешь все!
– Это как вам будет угодно, – прежним тихим, очень спокойным тоном заметил Беневский.
– Какой же ты все-таки мерзавец! – вскипел капитан, оглушающе заскрипел костями, словно пилил какое-то упрямое дерево и никак не мог с этим справиться, раздраженно задергал усами. – Тупее бегемота!
– Может быть, – едва приметно усмехнувшись, согласился с ним Устюжанинов.
– Не хочешь помочь Франции и ее благородному королю, – выбил из себя хрип, будто деревянную пробку, Фоге. – Неблагодарный!
– И это может быть!
Ничего не добился Фоге от Устюжанинова. Уходя, он пригрозил, приподняв ножны с тяжелым палашом:
– Тебя будет судить военный трибунал!
– Я согласен, – сказал Устюжанинов – ему было все равно, кто его будет судить.
– Место для веревки на ближайшем дереве тебе обеспечено, – прохрипел Фоге, – на самом крепком суку.
– Хорошо!
– Или того хуже – подкатим плаху и отрубим руки с ногами. А потом – голову.
– Пусть! – Устюжанинов хмыкнул, на капитана это хмыканье подействовало как кружка кипятка, вылитая за шиворот, он даже подпрыгнул на своих скрипучих конечностях. А Устюжанинову действительно было все равно, что с ним будет. Угнетало другое – он находится в плену, вот это было плохо, – ведь в этой клетке он даже оправиться от ран не сумеет. Осознание, что он в плену, холодило, останавливало кровь в жилах. Какое может быть выздоровление, если в жилах нет крови?
– Подумай лучше, как остаться в живых, – прохрипел Фоге уже из-за циновки, заменявшей дверь. – Настоятельно советую!
Капитан Фоге опять явился к Устюжанинову через два дня, – о появлении его известил скрип, Устюжанинов засек этот запечный звук, когда капитан находился еще на улице, одолевал рытвины, наполненные водой после прошедшего дождя, потом скрип приблизился, сделался громким. Через пять минут Фоге, отдуваясь, откинул в сторону циновку.
Под задницей у него появилась тут же услужливо подсунутая табуретка.
– Ну чего, парень, готов поговорить по душам о Беневском? – прохрипел он вопросительно.
– Не готов, – спокойно ответил Устюжанинов.
– Ну, смотри, – хрип капитана сделался угрожающим, он сжал кулаки, произнес еще несколько смятых, слипшихся в один комок фраз. Устюжанинов вдавился затылком в подушку и закрыл глаза.
Фоге выругался и исчез.
А Беневский продолжал формировать свое войско, и это здорово беспокоило гарнизон форта Дофин: под началом Беневского сейчас находилось столько людей, что за полчаса они могли запросто развалить стены Дофина, превратить их в груду камней и песка. Ну, если не за полчаса, то за сорок минут. А заодно и сровнять с землей другие укрепления, которые имелись у французов.
Хоть и прошло немало лет с той поры, когда Беневский покинул Мадагаскар, а его на Красном острове хорошо помнили и память эта была светлой, иначе бы он вряд ли справился с тем, что задумал.
Войско его росло.
Устюжанинов чувствовал себя много лучше, пулевые отверстия затянулись, он потихоньку, прикусывая губы зубами, постанывая, начал подниматься на ноги, двигаться – он привыкал к самому себе, к ногам своим, к телу, казавшемуся ему чужим и справляться с которым было непросто, привыкание это давалось с физической болью.
Как-то утром к нему в чулан заглянул врач, осмотрел раны, обстучал костяшками пальцев хребет, ребра, грудную клетку, достал из саквояжа старую потрескавшуюся трубку, послушал дыхание и пробормотал с удовлетворением:
– Ну, что ж… Вполне, вполне. Дело пошло на поправку окончательно.
Теперь можно было думать и о побеге – отрубить себе голову на каком-нибудь растрескавшемся чурбаке Устюжанинов не даст.
Оглядевшись, словно бы в чулане мог быть кто-то еще, Вильбуа сказал:
– По вашу душу, сударь, сегодня, в крайнем случае, завтра придут.
Устюжанинов стиснул зубы и проговорил тихо, очень отчетливо:
– Я готов, месье Вильбуа.
– Вы только не волнуйтесь, – успокаивающе произнес месье Вильбуа, – к вам придет не враг, а друг.
– Кто же это будет?
– Узнаете, сударь. Всему свое время.
– Неужели нельзя… – Устюжанинов не договорил, вздохнул.
Вильбуа подумал, что пациенту стало плохо, поспешно распахнул свой саквояж, достал пузырек с нюхательной солью.
– Не надо, – попросил Устюжанинов, – я чувствую себя нормально.
– Не надо, так не надо, – врач захлопнул саквояж.
Устюжанинов остался один. Интересно, кто придет к нему? Если не враг, то кто? Какой-нибудь Фоге номер два, напяливший на макушку судейскую шапочку, и с улыбкой на лице объявит, что Устюжанинов – государственный преступник? Месье Вильбуа сказал, что придет друг…
Друзья на Мадагаскаре у Устюжанинова есть, и первый из них – Сиави, но ни о Сиави, ни о его отце он давно ничего не слышал. Находятся они где-то далеко, в глубине, острова, где есть несколько селений бецимисарков, и пешком добираться до них – только ноги бить. Ехать же по лесу на конях – бесполезная затея.
Дешанель убит, об этом Устюжанинову сообщили сразу же, едва он пришел в себя – обрадовали, так сказать… Кто еще близкий? Король Хиави. Кто еще? Кот Пирохир? Наверное, он уже давным-давно сгнил, зарытый в землю под фиолетовым или синим кустом, имеющим сложное местное название. Еще кто?
Впрочем, чего гадать? Когда придет человек, о котором говорил доктор, тогда Устюжанинов и узнает.
Болели раны – ну словно бы пули вновь прожгли насквозь его тело, – болела сдавленная невидимым железным обручем голова, болели ноги, сильно болели, сильнее, чем в горах, когда они, донельзя измотанные, падали на землю от усталости.
Раны – и старые, зарубцевавшиеся, и новые, свежие, всегда болели у Устюжанинова, когда дорога, по которой он шел, должна была сделать крюк, либо крутой поворот, мозжили перед всяким важным известием, которое должно поступить.
А пока Устюжанинов продолжал думать о бегстве, он и сегодня внимательно присматривался к зданиям форта, к дырам, которые расплодились в стенах, к щелям, где можно было спрятаться, к тому, как дежурят часовые, засекал места, где чаще всего собирались солдаты капитана Фоге – галдели, ведя речи о бабах, играли в карты и пили слабенькую местную водку, эти места надо было обходить стороной во всякое время суток – и в дневное, и в ночное.
Одно было плохо – сил для побега он пока не набрался, лежать надо еще как минимум пару недель, а то и весь месяц. С другой столоны, тянуть нельзя: Фоге ведь не дремлет, поглядывает на крепостной лазарет не в два своих цепких глаза, а во все глаза, что есть в здешнем гарнизоне. Тут засекают всякое, даже самое малое движение, сделанное Устюжаниновым, и докладывают капитану.
Вполне возможно, что и Беневский знает, где находится Устюжанинов – от Дофина до форта Августа не так уж и далеко, местный телеграф должен был уже давно донести эту весть до Мориса Августовича, но попытку напасть на местный форт Беневский вряд ли совершит: открытая война, судя по всему, пока ни Беневскому, ни Фоге, ни губернатору Иль-де-Франса не нужна.
Та ночь, проведенная в чулане, была тяжелой – от того, что ныли раны, Устюжанинов никак не мог уснуть, перед ним плавали оранжевые круги, мелькали какие-то странные гибкие тени, в углах чулана скреблись мыши, – ночи этой, казалось, не будет конца.
Дышал Устюжанинов надсаженно, сипло, словно бы его ранили еще раз, вновь солдаты Фоге сделали нестройный залп… Заснул он только под утро.
Проснулся Устюжанинов от ощущения, что находится в чулане не один, в помещении есть кто-то еще… Кто? Враг? Друг? Устюжанинов лежал, не двигаясь, со спокойным лицом и закрытыми глазами. Казалось, что он не дышал, но был жив – щеки были розовые, лоб…
В следующее мгновение Устюжанинов открыл глаза и едва не вскрикнул от неожиданности – в ногах постели, на табуретке, которую капитану Фоге всякий раз так услужливо подсовывал под зад доверенный солдатик, сидел Хиави.
Устюжанинову внезапно сдавило горло – ни вдохнуть, ни выдохнуть, – на глазах выступили слезы.
– Хиави, – проговорил он стиснуто, чужим голосом.
– Лежи, лежи, – заботливо, будто русская бабушка, таким же участливым теплым тоном произнес Хиави, поправил плед, накинутый на Устюжанинова. Одет он был в хитон редкостного пурпурового цвета, очень сочного, ткань на плече была застегнута массивной дорогой заколкой в виде знакомого сокола вурумы-хери.
– Хиави! – наконец обрел голос Устюжанинов и вновь смежил веки – не верил, что видит Хиави, мотнул головой резко, будто боднул теменем воздух, открыл глаза – вождь племени бецимисарков, улыбающийся, живой, – реальность, а не сон, плоть во плоти, – сидел перед ним на маленькой табуретке.
Устюжанинов приподнялся на постели и протянул ему руку. Хиави незамедлительно протянул в ответ свою – теплую, надежную, от таких рукопожатий на сердце обязательно рождается нежность.
– Не верю, что вижу Хиави, – со вздохом пробормотал Устюжанинов, снова резко мотнул головой.
– Я это, я, – успокаивающе произнес Хиави, – я приехал, чтобы тебя выручить.
Золотая заколка на плече вождя вспыхнула дорого, засияла игривыми оранжевыми лучиками… Что-то колдовское было во всем, что видел Устюжанинов – и в наполненности опостылевшего чулана теплым светом, и в том, что Хиави находился здесь, хотя еще вчера он пребывал в полутора сотнях километров отсюда, но, услышав недобрую новость, ахнул неверяще и поспешил на помощь, бросил все, примчался в Дофин, и в том, что он, Алексей Устюжанинов, жив… А колдун, устроивший все это, добрый мпамозави, способный и дождь останавливать, и крокодилов с рек прогонять, и с болезнями справляться, и смерть человеческую отодвигать, – поможет ему и дальше.
Вглядывался Устюжанинов в лицо Хиави, шевелил губами немо и, держа в своей руке руку вождя племени бецимисарков, нежно гладил ее.
Приход Хиави прибавил ему сил, Устюжанинову даже дышать сделалось легче. Он втянул в себя воздух, который в чулане пахнул плесенью, с шумом вздохнул. Проговорил тихо, не слыша самого себя:
– Я уже собрался бежать.
– Я знаю, – сказал Хиави, голос его был мягким, уговаривающим, – пока этого делать не надо.
– Почему?
– Потом узнаешь, – голос Хиави сделался еще мягче, – а пока не надо. Воздержись от этого.
Устюжанинов хотел что-то сказать, но смолчал, дыхание вдруг дало сбой, в горле неожиданно что-то возникло, какая-то затычка либо пробка, Устюжанинов благодарно сжал веки и откинулся на подушку.
В залив Антонжиль вошел корабль с белыми, почти светящимися на солнце парусами и бросил якорь – собрался набрать на берегу свежей воды. По пути сюда у него уже была одна заправка, и вода там была вроде бы неплохая, – головастики в ней не водились, – но через три недели вода протухла…
Значит, не той водой они наполнили питьевые бочки, совсем не той… Беневский вспомнил, как во время бегства с Камчатки они сами заправлялись водой на одном из японских островов – заплатили за это гибелью вспыльчивого Панова и двух матросов. Вода в долгом плавании – штука более нужная, чем еда; еду можно добыть, бросив за борт судна крюк с какой-нибудь макухой и поймать марлина, а пресную воду таким способом не добудешь никогда.
– Выдать капитану «Кабирии» столько воды, сколько он захочет, – распорядился Беневский и пригласил капитана судна с офицерами к себе на обед.
Капитан – испанский виконт Кетерель – приглашение принял и в качестве дара Беневскому на одной из шлюпок прислал тяжелый бочонок с душистым крепким «портвайном» – португальским вином. Несмотря на жаркий вечер и обилие комаров, которые легко могли сбить с ног человека, виконт нарядился в атласный камзол цвета морской волны и плотные белые лосины, на ногах у него красовались башмаки с алмазными пряжками – богатым человекам был виконт Кетерель.
Круглое загорелое лицо его источало добродушие.
Когда отпробовали и русской водки (имелась таковая в запасах Беневского), и сладкой мадагаскарской бузы, и португальского вина и крепко захмелели, Беневский узнал, что судно дона Кетереля плывет в Америку, в порт Балтимор.
– О-о-о! – возбужденно воскликнул Беневский. – У меня там остались жена и три дочери! Уже полгода ничего о них не знаю… Не согласились бы вы, господин Кетерель, доставить в Америку письмо?
– Нет ничего проще, – со скромным достоинством волшебника, который может все, ответил капитан «Кабирии». – Если сам не отыщу их в Балтиморе или в Филадельфии, то найду способ, чтобы письмо ваше было передано лично в руки госпоже Беневской.
– Буду очень признателен, – Беневский наполнил бокалы «портвайном», поднес свой бокал к лицу, втянул ноздрями плотный, отдающий душистыми травами, печеной грушей и вкусной хлебной корочкой запах, – не то, сами понимаете, семья есть семья, душа о ней болит.
Утром с судна на берег пришла шлюпка – за письмом, над которым Беневский корпел едва ли не до рассвета, Беневский отдал офицеру, сидевшему в шлюпке, конверт, запечатанный сургучом, и проговорил на прощание:
– Низкий поклон моему доброму другу дону Кетерелю и… храни вас Господь! – он решительно перекрестил шлюпку и, резко повернувшись, зашагал по скрипящему песку к приземистым домикам, видневшимся невдалеке.
Он не только о семье думал – из головы не выходил и Устюжанинов. Вначале от Устюжанинова поступали вести, приходили люди, прибывали воины, а потом словно бы обрезало – ученик, которого Беневский считал своим сыном, исчез бесследно, словно бы сквозь землю провалился – ни вестей от него, ни… ничего, в общем. Хоть бы что-нибудь узнать о парне.
Все, кого пытался опрашивать Беневский, лишь пожимали плечами: белоголового «Альошу» не видели. Пропал Устюжанинов! Сердце у Беневского сжималось от горечи, делалось больно, виски также стискивала боль – неужели «Альоша» погиб?
И такое могло быть, это Беневский допускал. Он и сам, просыпаясь рано утром, не знал, ляжет вечером спать или его понесут ногами вперед в покойницкую…
Сыновей у Беневского, как мы уже знаем, не было, а Беневский мечтал иметь такого сына, как Устюжанинов, сильного, толкового, способного стрелой срубить на лету птицу и обычным шкерным ножом, каким пользуются на Камчатке, чтобы почистить рыбу, завалить медведя, – храброго, головастого, способного в трудную минуту находить быстрые и точные решения.
И вот Устюжанинов пропал – словно бы в неведомом огне сгорел. Вместе с ним исчез его приятель-француз, а также – двое бецимисарков.
Через некоторое время из далекого бецимисарского селения прибыл скороход, сообщал, что маленький отряд Устюжанинова в дремучем лесу встретила засада французов, спутник Устюжанинова убит, один из бецимисарков тоже убит, Белоголовый ранен и увезен французами в форт Дофин. Второй бецимисарк брошен в лесу истекающим кровью – без помощи, без воды и еды, вообще без всякого присмотра – умирать, словом. Но брошенный, обреченный бецимисарк не умер, не доставил такой радости ни воронам, ни крокодилам – он сумел приползти к людям и выжил.
Хиави, который после долгой дождливой зимы кочевал по землям своего племени, перемещаясь из одного селения в другое, и прислал Беневскому скорохода…
Через полторы недели Хиави расположился большим лагерем около форта Дофин, – одна только свита его составляла триста человек.
В Дофине ожидали приезда представителя комиссара Гринье – его правой руки и личного приятеля, даже больше, чем просто приятеля, – близкого родственника.
Фамилия представителя губернатора была Шофон.
Это был господин невысокого роста, с круглым, будто бочонок, туго обтянутом лосинами животом и дремучими разбойными бакенбардами, делающими его похожим на предводителя шайки искателей чужого золота, а по совместительству владельца винной лавки, торгующей поддельным зельем.
Большой горбатый нос господина Шофона был искривлен ударом кулака еще в детстве, нижняя губа была расплющена ударом другого кулака, а в остальном это был вполне благопристойный господин, довольный своей жизнью и судьбой, с масляными большими глазами и седенькой бородкой-эспаньолкой, словно бы случайно прилипшей к нижней челюсти. Бородка была растрепана донельзя, похоже, не знала, что такое черепаховый гребешок для расчесывания эспаньолок.
Увидев палатки и шатры, раскинутые у стен форта Дофин, доверенный представитель губернатора Иль-де-Франса насмешливо поинтересовался:
– А это что за цыганский табор?
– Король племени бецимисарков Хиави дожидается вас, ваше превосходительство.
Лицо у Шофона вытянулось изумленно – он не смог скрыть удивления, хотел даже что-то сказать, но нашел силы, чтобы сдержать себя. Сделав важный вид, прошел в дом, специально отведенный для почетных гостей, прибывающих из губернаторской канцелярии.
Через час Хиави уже находился у Шофона.
– Очень много наслышан о вас лично и вашем племени, – Шофон с чувством пожал руку Хиави, хотя никогда ранее не слышал ни о бецимисарках, ни тем более о Хиави. – Рад, что вы являетесь преданным другом Франции.
Хиави понял, что с этим человеком можно говорить, не делая никаких предварительных словесных пассажей и обхаживаний – свое тот возьмет в любом случае и за деньги не только выпустит Устюжанинова из лазарета, но и Иль-де-Франс продаст Америке и под купчей подделает подпись короля.
Дом для почетных гостей был богато отделан, казенных денег мастера на него не пожалели, стенки были даже обтянуты атласной тканью, привезенной из самого Парижа. Хиави огляделся и изложил цель своего прихода.
– Я много плохого слышал о разбойнике, который сидит в лазарете, – задумчиво пощипывая эспаньолку, заметил Шофон, – наверняка бородка выглядела у него так неряшливо потому, что он слишком часто ее трепал, – удрученно покачал головой, хотя о человеке, которого взяли в плен солдаты Фоге, никогда ничего не слышал.
Хиави наклонил голову – ждал, когда Шофон выговорится.
Но тот не стал тратить слова, посчитав это дело ненужным, сложил руки на животе-бочонке и начал вертеть большими пальцами колесо. Поглядел внимательно на бесстрастное лицо вождя бецимисарков. Приподнял одну бровь: ну?
– Я прошу его отпустить, – сказал Хиави, – насколько я знаю, он никаких преступлений не совершил.
– Он стрелял в нашего офицера, – не моргнув глазом, заявил Шофон, факт, что этого не было, не смущал его совершенно, – а раз стрелял в офицера – значит, должен сидеть в тюрьме. Таковы законы Франции.
– Насколько я знаю, не он стрелял, а в него стреляли – он тяжело ранен.
– А как же иначе? Если в руках у него было оружие, то он просто обязан был получить пулю.
– Я прошу отдать пленника мне, – попросил Хиави. – За деньги, конечно. Я заплачу выкуп.
Подергав свернутым набок носом, Шофон отвел глаза в сторону.
– Хороший выкуп, – добавил Хиави.
Шофон размышлял – прикидывал, как взять побольше денег с короля бецимисарков. Главное – набить цену – пленник, мол, стоит дорого.
– Если я пойду на это, то только из-за того, что вы стараетесь поддерживать дружбу с Францией, – сказал он.
– Стараюсь, стараюсь, – подтвердил Хиави. – Я даю вам за пленника пятьсот золотых франков.
– Если вы удвоите эту сумму, наша дружба станет крепче, – сказал Шофон.
На бесстрастном лице Хиави появилась улыбка.
– Конечно же, я удвою эту сумму, – произнес он неторопливо. Добавил, гася на лице улыбку: – Чтобы наша дружба сделалась еще крепче.
– Отлично! – произнес Шофон и, не сдержавшись, довольно потер руки: покладистость вождя бецимисарков ему понравилась. Побольше бы на Мадагаскаре таких королей!
Вечером лагерь бецимисарков снялся с места и, не взирая на приближающуюся ночь, втянулся в темную лесную чащу, растворился в ней. С собой Хиави увозил и Устюжанинова.
Войско у Беневского собралось уже приличное, мальгаши с удовольствием обучались сабельному и штыковому бою, стрельбе из мушкетов и усиленных длинноствольных ружей, наиболее сообразительных новобранцев Беневский приставил к орудиям: пусть привыкают, в будущем станут хорошими пушкарями.
Действия Беневского продолжали вызывать на Иль-де-Франсе лютое раздражение, комиссар де Гринье в очередной раз не сдержавшись, порвал собственные перчатки и вышвырнул в окно. У Ларшера спросил раздраженно:
– Когда будете готовы к походу?
Заметив на лице капитана колебания, посчитал их растерянностью и воскликнул неожиданно оскорбительно:
– Что, стар становитесь, Ларшер? Боитесь похода?
Ларшер вытянулся, будто молодой эвкалипт:
– Никак нет, ваше высокопревосходительство!
– Имей в виду, что уже давно пора показать Беневскому, кто хозяин в этой части света.
– Будет сделано в ближайшее время, ваше высокопревосходительство!
Увидев Устюжанинова, поднимающегося с носилок, Беневский вскрикнул радостно и, раскинув руки в стороны, кинулся к нему:
– Альоша!
Устюжанинов почувствовал, что у него перехватило горло, деревня, люди, сооружения поплыли перед глазами, поплыла сама природа, воздух сделался размытым, радужным. Хромая, кренясь на один бок, он поковылял к Беневскому.
На глазах Беневского показались слезы. На глазах Устюжанинова – тоже.
– Как давно я не видел тебя, Альоша! – шепотом произнес Беневский, – у него пропал голос.
– И я тебя, учитель, – таким же сдавленным шепотом отозвался Устюжанинов Они стояли, обнявшись, несколько минут, что-то шептали друг другу, но слова, которые они произносили, не имели никакого значения. Хиави только улыбался, глядя на них.
– Простить себе не могу, что отправил тебя в этот поход по Мадагаскару, – едва слышно проговорил Беневский.
– Но ведь так надо было, учитель?
– Благодаря тебе уже сформирован целый полк… А сейчас ты очень нужен мне здесь. Без тебя я как без рук.
– Главное, что я живой и нахожусь сейчас рядом с тобою, учитель.
– Альоша! Живой и невредимый. Хотя насчет невредимости… – Беневский откинулся от Устюжанинова, окинул его взглядом с головы до ног. – Ничего-о… – протянул он, – повреждение повреждению – рознь, мы тебя быстро поставим на ноги, – он тряхнул Устюжанинова за плечи. – Вставай быстрее в строй… Пожалуйста!
Устюжанинов согласно смежил веки: встать в строй он готов хоть сейчас.
– Думаю, недели тебе хватит на поправку, – сказал Беневский.
– Хватит, – эхом отозвался Устюжанинов.
– Жить мы с тобой, как всегда, будем в одном доме.
– Очень хорошо, учитель. Я рад этому, всему рад… Вы даже не представляете, как рад…
Не выдержав, Беневский еще раз обнял Устюжанинова, прижал к себе его голову:
– Эх, Альоша, Альоша! – в горле Беневского что-то запрыгало, забулькало, захрипело, он сгорбился, становясь совсем маленьким, каким-то старым, из-под парика выбились седые волосы, прилипли к мокрому лицу…
На воле, рядом с Беневским, Устюжанинов начал поправляться не по дням, а по часам и очень скоро уже стал заниматься тем, чем занимался учитель – формированием второго полка мальгашского войска.
Работы было так много, что Беневский иногда забывал спать и, обессиленный, сваливался где-нибудь на дно повозки, застеленной несколькими тростниковыми циновками и, натянув на голову шелковый шейный платок, отключался на час-полтора.
Солдаты расходились по ротам, разжигали, как это всегда было в армейском быту, костры, насаживали на шампуры цыплячьи тушки, плоды хлебного дерева, начинали жарить их. Вкусные запахи повисали на берегу бухты Антонжиль. Обед заканчивался, едва просыпался Беневский.
Лето 1785 года пролетело очень быстро, Беневский даже не заметил, как оно прошло, время в заботах и хлопотах пронеслось стремительно. Очень жарким был декабрь. Январь восемьдесят шестого года хоть и уступал декабрю, но ненамного, – все равно в знойном январе дышалось легче.
Беневский был занят не только формированием войска и обучением его – он почти ежедневно встречался с вождями племен, втолковывал им идеи насчет государства Солнца, которое будет создано на Мадагаскаре в скором времени, о равноправии, о сытой жизни для всех…
Но завтрашнюю свободную и беззаботную жизнь эту надо было защищать сегодня.
При Беневском прошедшим летом особенно широко сумела расцвести торговля – рисом, деревом, быками, специями. Французы хорошо знали, что на Мадагаскаре растет лучшая в мире ваниль и кухня парижская, особенно кухня королевского Версаля, без мадагаскарской ванили существовать не могут… Ну, какая булочка способна очутиться на столе короля, если она не пахнет мадагаскарской ванилью? Это будет уже не булочка, а недоразумение, которое могут есть лишь нищие, ночующие под мостами Сены.
Не сумеет король одолеть такую булочку, не по рангу это – застрянет она у него в горле, и монарх в таком состоянии может подписать какой-нибудь вредный для Франции указ.
Аромат мадагаскарской ванили, – в отличие от других сортов этой специи, – способен сохраняться больше года. Вот и гоняются купцы, пираты, военные люди типа капитана Фоге, откровенные проходимцы и честные моряки, стремящиеся заработать на восточных пряностях, карточные шулеры и сбежавшие из тюрем уголовники за специями, рисом, шкурами, драгоценными каменьями и цветной древесиной, но больше всего их руки тянутся к ванили.
Мадагаскар готов торговать ванилью, лишь бы приезжие купцы и прочие добытчики не обирали мальгашей, честно расплачивались за полученный товар.
Не то ведь Иль-де-Франс, например, старается и рис, и быков зебу, и ваниль, и даже знаменитых мадагаскарских бабочек, которые высоко ценятся в Европе, взять бесплатно и делают это, не стесняясь: целые корабли уходят с Мадагаскара на Иль-де-Франс, а оттуда – в Марсель, Тулон и Сет… Мальгаши за свой товар не получают ничего.
Из специй, кроме ванили, на Мадагаскаре растет роскошный черный перец и не менее роскошная кулинарная гвоздика…
За все это надобно получать деньги, на эти деньги развивать свои деревни, обеспечивать людей французскими товарами, и вожди в этом были согласны с Беневским.
На Мадагаскаре рос хороший хлопок, который по мягкости, пышности, нежности не уступал египетскому, на острове надо было обязательно построить ткацкую фабрику и выпускать свои собственные ткани. Этот план Беневского вожди поддерживали особенно горячо. Во-первых, свой материал очень нужен был самим мальгашам – одеваться-то надо во что-то, а во-вторых, хлопок мадагаскарский готовы были приобретать и французские, и английские и португальские купцы.
Не был обделен остров и кофейными плантациями – лучше всего кустарники кофе чувствовали себя на склонах холмов, здесь они получали много солнца, больше, чем на равнинных местах. Конечно, где-нибудь в Африке, в зоне Аравийского моря, кофе был лучше, чем на Мадагаскаре, но, как свидетельствовали знатоки, мадагаскарский кофе был лучше южноафриканского – крепче и вкуснее.
Европа, лишь сто лет назад познавшая вкус этого напитка, от мадагаскарского кофе тоже не откажется – он дешевле аравийского.
В горах есть золото и платина, есть серебро, много дорогих камней – сверкающие солнечным светом топазы, яркие изумруды и рубины, темные и звучные, как тропическая ночь, сапфиры, говорят, что водятся и алмазы, но к слухам этим Беневский относился скептически – слухи нужно было проверять.
В будущем Мадагаскар может стать мировым центром добычи драгоценных камней, – и вожди племен такой перспективе были только рады.
Несколько дней назад вождь племени махали привез Беневскому в подарок большой, будто бы светящийся изнутри кусок камня яркого розового цвета. Размером камень был с лошадиную голову, не меньше.
– Что это? – с интересом спросил Беневский.
– Мы зовем его мпамозави – колдовским камнем, в темное время суток цвет его становится особенно сильным. У нас этого камня много.
Беневский ухватился за камень обеими руками, с усилием приподнял – лошадиная голова была тяжела, словно бы ее отлили из чугуна. Беневский представил себе, сколько броских, желаемых женщинами поделок можно вырезать из этого камня и сколько денег в результате ляжет в кассу, – точнее, в казну ампансакаба, а значит, – в казну всего Мадагаскара.
Ему сделалось весело.
– Благодарю тебя, вождь! – возвышенным тоном произнес Беневский, приложил руку к сердцу. – Береги запасы этого камня. Он сослужит хорошую службу Мадагаскару.
Привозили Беневскому и изумруды. Из разных мест – камня этого на острове тоже было много. Рассыпали пригоршнями по столу, и Беневский любовался яркими зелеными вспышками света, внезапно рождающегося внутри угловатых неровных камешков и также внезапно гаснущего. Эта игра вспышек завораживала, было в ней что-то шаманское, неестественное.
Изумруды, которые Беневский видел в Европе, были блеклыми, словно бы выгоревшими – те камни сильно отличались от мадагаскарских. Надо наладить добычу изумрудов хотя бы в одном-двух местах острова, и казна будет пухнуть от золотых монет, поступающих в нее в оплату за камни.
Когда Беневский закончит формирование своих полков, обучит их, он не даст в обиду уже ни одного человека, живущего на Красном острове, никто больше не посмеет воровать здесь людей и увозить их в рабство, – а за любой товар, будь то ваниль или редкие бабочки, все приезжие станут платить чистым золотом.
На Мадагаскаре будет работать почта, Беневский создаст ее, будет создан суд – прежнее самодурство, когда в угоду какому-нибудь чиновнику, прибывшему с Иль-де-Франса, объявляли виновными целые племена, – отойдет в прошлое. За всякий самосуд придется отвечать.
Будут школы, для начала дети станут учить французский язык и обычные гимназические предметы, которые ученики зубрят где-нибудь в Гавре или Лиможе да в Брив-ла-Гайарде, потом, когда будет сочинен и принят мальгашский алфавит, преподавание перейдет на местный язык.
Всех граждан Мадагаскара будут гордо звать малагасами. Или мадагассами.
Вечерами Беневский долго сидел за столом и при свете керосиновой лампы сочинял устои, по которым станут жить граждане государства Солнца. Работа эта была увлекательной, растворяла в себе всякую усталость, накопившуюся за день.
Пожалуй, никогда еще Беневский не ощущал себя таким счастливым, довольным тем, что он делает, одухотворенным, как в эти месяцы. Впереди была целая жизнь – хорошая жизнь, наполненная победами, – он успеет сделать очень много.
От него исходили живые токи, способные даже сонного, вялого, ни на что уже не годного человека заразить энергией, жаждой действовать, люди это ощущали и охотно подчинялись Беневскому.
Это был настоящий ампансакаб – король Мадагаскара.
И что еще было важно: за этот год, когда Беневский вернулся из Америки, пока неполный год, он еще не кончился, – утихли стычки между племенами на самом Мадагаскаре, даже воинственные сакалавы и сафирубаи стали вести себя мирно, не обижали менее воинственных своих соседей – может быть, это было самым важным в жизни Красного острова в пору Маурицы Беневского.
Мечтой Беневского было вообще прекратить все войны на Мадагаскаре, – и вообще никогда не искать врагов внутри Мадагаскара, враг находится вне островных земель.
Остановить грызню между племенами мог только великий ампансакаб, настоящий король, каким вожди племен, собственно, и считали Беневского.
Жизнь шла вперед, к сожалению, не все ее дни были светлыми. Устюжанинов втянулся в работу, настолько втянулся, что даже стал вообще забывать про свои недавние раны. Да они особо и не беспокоили его.
Однажды хмурым утром, предвещающим затяжной дождь – на небе не было ни одного просвета, – на берегу бухты Антонжиль появилась древняя сгорбленная старуха в ветхой накидке, подпоясанной веревкой.
По селению пополз уважительный, хотя и робкий шепоток:
– Малахар пришла! Сама Малахар явилась!
Пришла Малахар не одна, ее сопровождали четверо вооруженных копьями воинов и еще одна бабка, такая же древняя и сгорбленная, с серой пергаментной кожей на лице; старуху Малахар знали в разных углах Мадагаскара, она считалась великой прорицательницей, колдуньей, могла предсказывать судьбы, смерть и рождение, умела в лютую засуху вызывать дождь и укрощать огонь, откачивать утопленников и избавлять соплеменников от сглаза.
– Малахар!
Беневский, увидев вещунью, озадаченно поскреб пальцами затылок – не знал, как поведет себя старуха, вдруг начнет тыкать в него крючковатым пальцем и обвинять во всех смертных грехах?
Но старуха повела себя так, как должна была вести себя прорицательница.
Отдохнув немного под охраной воинов, она вышла на утоптанную крепкими ногами войска площадь – твердую, как камень и, будто крылья, вскинула вверх руки.
– Лю-юди! – вскричала она зычно. – Доверяйте белому человеку, поклоняйтесь ему, слушайтесь его, поклоняйтесь тому, что он делает! – прокричав это трижды, старуха неожиданно пустилась в танец, вторая старуха извлекла из мешка продолговатый, раскрашенный сложным орнаментом бубен и стала подыгрывать колдунье, задавая ритм.
Обе старухи помолодели буквально на глазах, выпрямились, исчезла их горбатость, голоса сделались звонкими, обрели молодой пыл.
– Доверяйте этому человеку, он пришел сделать вас счастливыми, избавить от нищеты и болезней… Люди при нем перестанут убивать друг друга, начнут чаще улыбаться и петь песни, урожаи риса увеличатся в несколько раз, в реках переведутся черви, заражающие быков и превращающие их в ходячие скелеты, с которых отваливаются куски гниющего мяса, а змеи перестанут душить наших коров и пить их молоко.
Вокруг старухи Малахар немедленно образовалась приплясывающая, подпевающая ей глухим речитативом толпа, крики колдуньи действовали на людей опьяняюще, они так же, как и колдунья, взметывали руки над собой и кружились в резком возбужденном танце.
– Малахар! – громко прокричал один из самых толковых воинов-новобранцев, бецимисарк Саиди, которому Беневский доверил командование взводом. – Малахар!
– Малахар! – поддержал бецимисарка буканьер Жан, наряженный в полосатую морскую фуфайку, плотно перетянутую перевязью от палаша.
Буканьер Жан Дидье был неплохим солдатом, Беневский ценил его, как и Саиди. Однажды на Жана напал крокодил, буканьер сумел отбиться от него обычным ножом, а опозоренный разбойник, рыча и плюясь сгустками крови, уполз в реку залечивать раны.
– Малаха-а-ар! – всколыхнули воздух своим восторженным ревом еще несколько человек, запрыгали по-детски, взметывая над собою руки и отбивая ногами дробь. – Говори, Малахар… Продолжай говорить!
И Малахар говорила. От ее речей даже воздух на берегу залива Антонжиль сделался, кажется, прозрачнее. Наконец Малахар устала, сникла, будто осенний цветок опустилась на землю.
– Слушайтесь этого человека, люди Мадагаскара, – произнесла она хрипло, – от него исходит свет, он способен делать добро. Только добро, добро, добро… – Малахар опустила голову, в ней словно бы что-то сломалось, отказались работать стершиеся, плохо подогнанные друг к другу детали, закончила она свое комлание совсем тихо: – Берегите этого белого… Берегите, берегите! Если не убережете, плохо вам будет, люди Мадагаскара!
Вторая старуха, продолжавшая колотить обеими руками по бубну, несколько раз шлепнула окостеневшими пальцами по звонкой, туго натянутой на каркас коже инструмента и тоже затихла.
– Берегите белого человека, люди, – в последний раз прошептала Малахар и замерла, будто изваяние – казалось, она потеряла сознание.
Комланье Малахар произвело впечатление – народ еще добрый час волновался, не покидал площадь.
– Может, Малахар дать водки и она придет в себя? Как думаешь, Альоша? – спросил Беневский у Устюжанинова, тот в ответ неопределенно приподнял одно плечо.
– Не знаю, учитель, но попробовать можно.
Беневский налил немного водки в синий голландский стакан, опустился перед Малахар на колени, поднес стакан к ее лицу. Старуха подняла голову, глянула на Беневского невидяще и медленным, каким-то дрожащим движением отвела стакан в сторону.
Вновь опустила голову. Сделалось тихо – люди понимали, что Малахар находится далеко отсюда, пребывает в иных мирах, видит кого-то, кого не видят они и о чем-то его просит.
О чем?
Постепенно народ начал покидать площадь.
Наступил день, когда стареющий капитан Ларшер появился в канцелярии губернатора и доложил де Гринье:
– Ваше высокопревосходительство, отряд солдат его величества, короля Франции готов отправиться на Мадагаскар для наказания смутьянов.
Губернатор довольно наклонил голову:
– Валяйте, капитан! Грузитесь на корабли и возвращайтесь с победой. Вперед! – де Гринье глянул напоследок на капитана рассеянно и отвернулся – у него и без Ларшера было полно дел.
Ларшер четко, будто на плацу, повернулся, звякнул шпорами, хотя по земле здешней предпочитал передвигаться на коляске либо пешком, но никак не в седле, и покинул высокий кабинет.
Уже за дверью проговорил задумчиво:
– Валять так валять, – щека у него дернулась неприятно, словно бы он собирался совершить неправедное дело, в следующий миг капитан взял себя в руки, лицо его поспокойнело, во взгляде появился металлический блеск. – Вперед, так вперед.
В коляске, стоявшей у входа, его поджидал Фоге, он даже не стал вылезать из экипажа – то ли рассыпаться боялся, то ли его оглушал скрип собственных костей, – Фоге стукнул палашом о пол коляски:
– Ну и чего сказала верховная власть?
– Велела выступать.
Фоге шевельнулся на сидении, поморщился от скрипа своих чресел и засмеялся удовлетворенно:
– Эт-то хорошо. Такие толковые приказы всегда грели и будут греть душу старых солдат.
Ларшер забрался в коляску, поправил на сидении покрывало и расположился рядом с Фоге.
– В порт, – приказал он кучеру, – поехали к фрегатам.
Три новеньких корабля стояли на якорях у горы Кор де Гард – на этих судах они и должны будут завтра днем отплыть на север. Курс – Мадагаскар.
Пора было наводить порядок на Красном острове.
Последний месяц мадагаскарской осени – май, – выдался прохладным, необычно дождливым: с неба постоянно сыпала мелкая водяная пыль, птицы, обычно теперь оживленные, теперь оглашали своими скрипучими криками округу (впрочем, и осенью не все крики были вороньими, похожими на скрип несмазанных тележных колес, голоса некоторых птиц ублажали слух, были райскими), многие вообще смолкли, попрятались в деревьях, в ветках, выбирая для своих убежищ кроны погуще, места, куда не могла просочиться противная влага, пожухшие цветы гнили на корню.
Осень есть осень… Унылая пора даже на Мадагаскаре. Беневский стал хромать сильнее – по осени раны всегда ноют больше обычного, а внутри, там где душа, возникает холод, щемит сердце; похудевшее лицо его обвяло, сделалось озабоченным.
Единственное, что радовало Беневского в эти дни – войско. Он все-таки сумел преобразовать ораву разрозненных, незнакомых с европейским оружием, крикливых островитян в послушное армейское подразделение, неплохо организованное, способное воевать, жестко сопротивляться, находясь в осаде, и нападать, вести наступление, когда подоспеет черед…
Таких войск у туземных племен еще не было и не предвиделось – ни в Африке, ни на островах Индийского океана, ни в Латинской Америке – Беневскому удалось решить задачу практически нерешаемую – он мог теперь вести войну и с французами, и с англичанами, и с похитителями людей, и с пиратами, которые по-прежнему продолжали заглядывать на Красный остров… Пираты здесь веселились, закапывали в землю клады, хоронили убитых капитанов, устраивали жестокие забавы, если неожиданно встречали охотников-сакалавов или толгашей, ревели свои нескладешные песни, схожие с воем штормового ветра, и ловили лемуров, желая приручить их и заставить вместе с обезьянами исполнять обязанности дежурных матросов на своих дырявых грязных кораблях.
Пусть теперь весь этот горластый, с дырявыми глотками, расхристанный народ обходит Мадагаскар стороной, бросает якоря в других местах, в других бухтах.
Своей работой Беневский был доволен. Если сюда вздумает сунуться скрипучий Фоте со своими колченогими солдатами, достойный прием ему будет обеспечен. Беневский невольно улыбался, представляя, каким будет лицо у капитана Фоге, когда он увидит мадагаскарское войско, и вообще какой сделается его физиономия при виде грозных орудийных стволов с вытянувшимися во фрунт артиллеристами-бецимисарками, вооруженных банниками – большими ершами для чистки пушек…
Да у Фоге все зубы из челюстей вышелушатся от нехорошего изумления.
В те дни Беневский часто выходил на берег моря, в плаще и треугольной шляпе, прикрывающей голову от едкой мороси, поглядывал издали на крепость Августа, на зубчатую стену укрепленного селения, потом переводил взгляд на небо, стараясь в плотном сером пологе найти просвет, щель, через которую на землю мог протиснуться горячий солнечный луч…
Но нет, таких щелей на небе не было, наоборот – плотная ватная масса спрессовывалась еще больше, становилась непробиваемой, тяжелой, как металл, на душе при виде такого неба тоже делалось сумеречно и сыро.
Вздыхая сдавленно, Беневский бросал последний взгляд на крепость и по тропке, покашливая и постукивая палкой по камням, неторопливо поднимался наверх, часовые распахивали перед ним ворота и ампансакаб шел к своему дому. Что-то его глодало, мешало дышать, но что именно беспокоило, он не говорил, а отгадать причину беспокойства было невозможно.
Утром двадцатого мая 1786 года погода сменила гнев на милость, дождь перестал сыпать, морской ветерок не без труда отогнал в сторону вконец издырявленные облака и через несколько часов сквозь оставшуюся наволочь проглянуло солнце. Было оно неярким, слабым, но все равно заставляло неровно биться всякое истосковавшееся по свету сердце.
Осенняя трава ожила, засверкала изумрудно, поспешно распустились головки цветов, которых еще полтора часа назад не было – пейзаж преображался на глазах.
Повеселел и Беневский, откинул в сторону шляпу-треуголку, сбросил с себя опостылевший влажный плащ.
Войско его вновь начало пополняться людьми – из отдаленных селений прибывали воины… Наконец Беневский выстроил всех, оглядел внимательно.
Конечно, на солдат новенькие еще не были похожи, но это – вопрос времени: через два месяца этих людей будет не узнать, после занятий, стрельб и упражнений по шагистике они станут совсем иными.
– Ничего, ничего, – глухо пробормотал Беневский, – из этого материала мы вылепим то, что надо.
Прибывшие жаловались на погоду – дороги в лесах размыты дождями, появилось много ядовитых змей, в некоторых местах, в основном, в низинах, обосновались крокодилы – переместились сюда из рек и чувствуют себя очень неплохо, гоняются за людьми и отколовшимися от своих семейств кабанчиками.
Природа на Мадагаскаре, похоже, менялась. Беневский выслушал новобранцев и проговорил прежним глухим голосом, в котором на этот раз отчетливо прозвучали убежденные нотки:
– Вы станете настоящими воинами!
В это время на берегу появился темнокожий всадник, который во весь опор скакал на коне, на ходу размахивал руками и кричал:
– Ампансакаб! Ампансакаб!
Лошадей на Мадагаскаре было немного, ездили островитяне в основном на быках – хоть и медленный был это транспорт, но зато надежный, поэтому всякий всадник невольно привлекал к себе внимание.
Привлек и сейчас. Беневский, прихрамывая, поспешил к нему:
– Что случилось?
– Ампансакаб! – всадник, тяжело дыша, спрыгнул с коня, будто он сам, а не конь преодолел непростую дорогу на хорошей скорости, галопом, похлопал ладонью по рту.
– Успокойся! – Беневский положил руку на его плечо. – Отдышись!
Тот покорно мотнул головой, отдышался малость, потом вновь вскинул свою курчавую голову.
– Ампансакаб, в нашей бухте появился корабль с черными парусами, матросы гоняются за людьми и сажают их в клетки…
Всадник не сумел договорить, Беневский побледнел и воскликнул громко:
– Где это? В какой бухте?
Оказалось, совсем рядом, примерно в двух часах езды верхом. Кони имелись и у Беневского, целых три десятка, хотя в войске кавалерии пока еще не было – руки не дошли. Беневский напрягся, выкрикнул громко:
– Альоша!
Устюжанинов был рядом, от учителя он далеко не отходил и, ежели что возникало, делил с Беневским и опасности, и невзгоды, и трудности.
– Срочно седлаем коней, – Беневский резко рубанул рукою воздух, лицо его сделалось еще более бледным, – заряди все пистолеты…
– Пистолеты заряжены!
– Проверь мушкеты. Подними два десятка людей – прежде всего буканьеров, Жана Дидье и других – поедем отбивать пленников… К нам в гости пожаловали разбойники.
– Все ясно, учитель, – Устюжанинову не надо было повторять что-либо, лицо его сделалось жестким, будто отлитое из металла.
– Если мы их не отобьем, Альоша, нам будет грош цена. Мадагаскар перестанет доверять нам.
– Мы отобьем их, – проговорил Устюжанинов убежденно.
Чтобы добраться до бухты, в которой разбойничал неведомый корабль, им понадобилось не два часа – меньше – Беневский торопился.
Когда прискакали в деревню, уютно расположившуюся под высокими пальмами, в ней уже полыхало два дома – незваные гости столкнулись с сопротивлением и решили наказать упрямцев.
Раньше мальгаши не сопротивлялись, а покорно давали связать себе руки и шли в рабство. Это было что-то новое – сопротивление, раньше такого не случалось, пришельцы даже представить себе ничего подобного не могли. Это здорово разозлило их.
На одной из пальм в петле, сооруженной из старой корабельной веревки, болтался человек – непокорный житель деревни. Человек пять пришельцев в командирских треуголках устроили в центре деревни, под деревом, к которому был прикреплен большой деревянный барабан, совещание: видать, изловили они людей меньше, чем планировали… Теперь вот соображали, чьими бы головами заткнуть дырку.
В стороне от совещающихся, на земле, стояли клетки, в них сидело несколько мужчин, около клеток лежали связанные люди, женщины и мужчины, среди них были, даже дети, которых пираты брали с собою, наверное, вместо обезьян – не было только стариков. Стариков в рабство не берут – слишком мало от них проку. Охраняли пленников несколько матросов в английских корабельных шапочках, украшенных помпонами, вооруженные мушкетами и палашами.
Остановив отряд у самой опушки, в зарослях, Беневский ловко выпрыгнул из седла. Скомандовал:
– Приготовить мушкеты! Залп делаем по матросам, вооруженных ружьями – их надо выбить в первую очередь. Товьсь!
Отряд вскинул мушкеты. Помедлив немного, Беневский отвел стволы двух мушкетов в сторону.
– Вы будете стрелять по офицерам, – сказал он владельцам двух мушкетов, хватит им совещаться, – поднял руку, сжал пальцы в кулак и опечатал воздух коротким ударом. – Пли!
Залп прозвучал оглушающий, с макушек высоких деревьев посыпалась густая морось. Мальгаши оказались хорошими стрелками, пятеро матросов, охранявших пленников, повалились на землю и задергали ногами – воины из них были уже никакие, шестой завертелся волчком на месте – пуля попала в него и что-то повредила, матрос крутился на одной точке, словно бы утаптывал землю и оглашенно выл, седьмой мореман отшвырнул от себя оружие и кинулся в море. Поспешно разгреб пену и поплыл к кораблю, дремавшему на якоре в сотне метров от берега.
Компания офицеров тоже поредела – двое рухнули под ноги своим подельникам, будто подкошенные, остальные схватились за пистолеты.
– Вперед! – скомандовал Беневский и маленький отряд его с шумом и треском вывалился из леса.
Один из офицеров, размахивавший двумя пистолетами сразу, был убит Беневским на месте – пуля раскроила ему голову и смяла лицо, двое оставшихся поспешно подняли руки.
– Связать их! – приказал Беневский.
Пламя, взмывавшее над горящими домами, опало, по воздуху понеслись черные скрутки пепла, горький дух пожара начал рвать людям ноздри. Офицеров связали, притянули друг к другу одной веревкой, словно каторжников.
– А моих соотечественников… – Беневский повернулся к людям, которых приготовили к отправке в рабство, сделал резкий жест рукой, – моих соотечественников – развязать, клетки – сломать.
– Не откроет ли корабль стрельбу из пушек по берегу? – Устюжанинов покосился на коробку судна, поспешно поднимающего якорь. – Нас тогда сметут.
– Не сметут, – уверенно ответил Беневский, – не посмеют. У нас в плену находится капитан, по нему они не будут стрелять.
На руках плененных мальгашей срезали веревки. Женщины неожиданно начали плакать – громко, захлебываясь слезами, кренясь к земле. Похоже, они только сейчас поняли, в какой беде находились еще десять минут назад. А один из пленников – могучий мальгаш со взъерошенными волосами и жестким, искаженным яростью липом начал топтать ногами веревку – вскрикивал по-вороньи резко и топтал, вскрикивал и топтал.
Люди радовались воле, которую только что обрели вновь… В клетках сломали двери, выпустили мужчин, затем сами клетки, довольно прочные, размолотили дубинками – одни щепки остались.
– Так будет всегда, – сказал Беневский, с ненавистью посмотрел на корабль, разворачивающийся в бухте, проговорил, морщась с досадою: – Жаль, у нас нет судов, можно было бы перехватить его. – Сжал пальцы в кулак. – Но ничего, у нас тоже будут свои корабли, свой флот!
Несколько женщин, крича что-то бессвязно, громко, накинулись на офицеров. Мужчины с трудов оттащили их в сторону.
– Не надо бить их! Этих людей мы будем судить, – выкрикнул Беневский, повторил, осилив голос: – Будем судить, понятно? – вновь сжал руку в кулак. – По нашим законам – законам Республики Мадагаскар.
Пленных – двух офицеров и двух матросов, – связали, насадили на одну веревку, словно рыбу для вяления, конец веревки прикрепили к седлу лошади и двинулись домой, в форт Августа.
– Там, в Августе, мы во всем разберемся, – пообещал Беневский, – и откуда корабль, и что за люди на нем приплыли, и кому потребовались несчастные рабы? Там, в Августе, и судить виновных будем, – Беневский был уверен в правоте своих слов, они ведь были произнесены не из мстительного желания разделаться с разбойниками, а с необходимостью соблюдать закон и действиям всякого провинившегося человека давать правовую оценку. И в конце концов, – наказывать виновного.
Иначе грош ему цена, ампансакабу Мадагаскара.
Пленные, которых тянула за собою лошадь, всхлипывали жалобно, вскрикивали, что-то бормотали на ходу, жаловались и грозились рассчитаться за унижения. Беневский жалкого бормотанья их не слышал, – вообще не обращал на него внимания, – ехал впереди на коне, опустив голову.
Он размышлял о природе человеческой, о том, откуда берутся люди, ворующие себе подобных, чтобы продать их в рабство, в ад, и на этом заработать несколько золотых монет. Неужели они не знают, что на чужом горе построить собственную радость нельзя? Это ведь аксиома, которую не нужно доказывать.
Ему казалось, что иногда у него останавливается и опасно молчит сердце, он слышит его удары, несколько дробных стуков подряд, а потом вдруг все смолкает, ничего не слышно – только опасная гулкая тишь, да пустота в груди… И еще – ощущение, что мир перед глазами сейчас потемнеет, но нет, проходила минута и сердце вновь подавало о себе знать, грудь разрывал громкий стук – это к Беневскому возвращалась жизнь.
Но ведь, однажды наступит момент, когда умолкнувшее сердце уже не оживет – что ни делай с ним, будет молчать.
Такое один раз случается с каждым человеком на свете, исключений нет…
В крепости Августа пленников посадили в каземат, вырытый в земле и накрытый сверху прочной крышей, собранной из «вечного дерева». Про «вечное дерево» было известно, что оно никогда не гниет.
Суд над похитителями людей был назначен на двадцать восьмое мая.
– Для капитана и второго офицера, я буду требовать смертной казни, – предупредил пленников Беневский.
Что же касается судна, то пленники в один голос заявили, что корабль принадлежал Вест-Индской компании…
– Разбойная компания, это известно всем, – сказал Беневский, – а теперь признавайтесь – кто вам велел красть людей?
На этот вопрос ни офицеры, ни матросы не ответили, лица у них сделались замкнутыми, даже испуганными.
– Не хотите признаваться – не надо, – сказал Беневский окинул пленников жестким взглядом, – на виселице признаетесь.
– Вы не имеете права нас судить, – заявил один из пленников, дюжий матрос с кудрявыми рыжими баками, растущими едва ли не до шеи.
– Имею право, еще как имею, – Беневский повысил голос, – от имени народа Мадагаскара имею, – он привычно сжал правую руку в кулак.
Вид у него был такой, что никто из команды больше не посмел подать голос… Этим людям оставалось одно – ждать суда двадцать восьмого мая 1786 года.
Ночь с двадцать второго мая на двадцать третье выдалась очень теплая, даже жаркая не по-осеннему, с назойливым звоном цикад, оглушающим кряканьем древесных лягушек и тревожными криками бодрствующих птиц. Беневскому в эту ночь не спалось.
Он лежал с открытыми глазами и вспоминал свою прошлую жизнь, детство, усадьбу в Вербове, воскресные выезды на тарантасе к соседям, чинные обеды с неторопливыми, очень скучными разговорами, в которых маленький Маурицы ничего не понимал и откровенно зевал, мать – прямую, чопорную, с бледным лицом, уничтожающе поглядывающую на сына, мужа…
Хоть и кажется, что все это происходило давно, даже очень давно, на самом же деле «имело место быть» не так уж и давно. Беневский неожиданно почувствовал, что глаза у него сделались влажными. Как все-таки прошлое прочно сидит в каждом из нас, не дает покоя, тревожит, вызывает боль и благодарные слезы. И хоть кажется человек сам себе сильным, он далеко не такой уж и сильный.
Иначе бы к чему вся эта раскисшесть, влага на глазах и расстроенный звон в затылке.
Так до самого рассвета Беневский и не уснул, лишь забылся ненадолго, не закрывая глаз, через некоторое время очнулся, увидел, что по стене вольно разгуливают веселые розовые зайчики – занималась заря. Вставало солнце.
Усталость, натекшая в его тело за предыдущий день, не проходила, она завязла в костях, в хребте, в мышцах, отвердела и теперь причиняла боль.
Розовые отсветы, веселящиеся на стене, сделались ярче, проворнее, Беневский пошевелился, не сдержал стона.
Неожиданно по двери начал колотить чей-то крепкий кулак.
– Ампансакаб!
Беневский вздохнул сожалеюще – кряхтя поднялся и прошел к двери.
– Что случилось?
– Беда, ампансакаб! В бухте – французские корабли.
Ампансакабу не надо было объяснять, что это такое – губернатор Иль-де-Франса решил больше не терпеть двоевластия на Мадагаскаре, хотя с точки зрения Беневского, на острове никакого двоевластия не было, – и двинул сюда военную силу.
– Тревога! – громко прокричал Беневский. – Солдаты – к оружию!
– Тревога! – подхватил его крик посыльный, дробно затопал ногами по дорожке, проложенной к дому Беневского. – Тревога!
Пистолеты у Беневского всегда были заряжены, он их держал под подушкой, в углу обязательно стоял готовый к стрельбе мушкет.
Беневский натянул на ноги ботфорты, за пояс сунул пистолеты и схватил мушкет. Перевязь, переброшенную через плечо, оставил свободной: ни шпагу, ни палаш прикреплять к ней не стал – к мушкету был примкнут штык и этого было достаточно – штыком действовать более сподручнее, чем шпагой или палашом. И оружие это более грозное, нежели палаш… Беневский выбежал на улицу.
Солнце уже выползло из-за обрези моря, высветило на воде широкую красную полосу, окрасило в алый цвет макушки деревьев, обратив лес в какую-то колдовскою, нереальную, сказочную пущу.
Но все было реальным и прежде всего – три больших боевых корабля, окрашенных в серый защитный цвет, со спущенными парусами стоявшие в бухте Антонжиль. С кораблей на воду уже спустили шлюпки, на палубах выстроились солдаты.
Пройдет полтора часа и все солдатики эти, с первого до последнего, окажутся на берегу. Беневский, опираясь на мушкет, как на палку, прихрамывая, – с каждым шагом все сильнее, – побежал к крепости. Устюжанинов не отставал от него, решил, что учителя сейчас надо оберегать особенно тщательно.
По крепости уже несся громкий клич:
– Тревога! Тревога!
У Беневского горько сжалось сердце: не успел он сформировать свою армию до конца… Не получилось. Эх, Маурицы, Маурицы! С другой стороны, все равно люди де Гринье, увидев вооруженных солдат-мальгашей, вооруженных не луками и копьями, а современными ружьями, должны будут понять, что Мадагаскар стал иным, чем был, допустим, всего год назад. И эта перемена обязательно должна заставить их задуматься. Если, конечно, эти люди не слепы и не глупы.
Но пока надо было думать о другом. Какую тактику избрать в предстоящем бою, – а в том, что бой будет, Беневский не сомневался, – как повести себя, вот вопрос…
Можно, конечно, обрушить ядра своих орудий на загруженные солдатами шлюпки, когда те будут плыть к берегу – это один вариант. Можно дать им высадиться на берег и здесь сразиться в рукопашной стычке – кто кого, – второй вариант… Возможно, это не самый лучший вариант, но зато честный. Можно самим сесть в шлюпки и сразиться на воде… Вариант номер три, от которого здорово попахивает пиратским ремеслом.
– Тревога, тревога! – прокричал кто-то у него над самым ухом и Беневский, оглушенный этим криком, протестующе помотал головой.
Такой крик способен опрокинуть в обморок кого угодно, даже бегемота. Недобрый красный свет, разлившийся по небу, потерял свою яркость, наполнился желтизной, воздушный полог над головой засиял дорого… Беневскому показалось, что это было сияние победы – победы, которую он должен был одержать.
Но… Конечно, война – это хорошо, успешная война – очень хорошо, а все-таки худой плохонький мир лучше всякой успешной войны. У него мелькнула мысль – не попытаться ли договориться с командующим французским войском и не разойтись ли с миром в разные стороны?
Ведь прибывшие солдаты – не безглазые люди, прекрасно видят, что перед ними – не те безобидные, покорные судьбе мальгаши, вооруженные древними дубинами и старыми луками, ныне перед ними – достойный противник, современные солдаты, и оружие у них современное, и со стен крепости глядят стволы современных орудий.
Заряжены стволы явно не вареным горохом и не семечками тропических фруктов – заряжены свинцом. Так что всякому командиру, увидевшему основательный солдатский строй на стороне противника имеет смысл крепко задуматься и только обмозговав все, скомандовать своим подопечным: «В атаку!»
Если начнется бой, убитых будет много – и с одной стороны, и с другой. Как бы сделать так, чтобы кровь не превратила светлый песок бухты Антонжиль в красный? Переговоры, только переговоры…
От количества шлюпок, находившихся в воде залива, уже рябило в глазах – шлюпок было много. Значит, комиссар де Гринье решил покончить с Беневским одним ударом мухобойки… Ну-ну!
Солдаты Беневского продолжали спешно выбегать из помещений, которые ампансакаб называл казармами, хотя на казармы они не были похожи, и выстраивались на длинной утоптанной площади перед крепостной стеной, прямо под пушками.
– Смотрите, учитель! – Устюжанинов ткнул рукой в сторону залива.
Беневский уже увидел, что засек Устюжанинов – передние шлюпки затормозили в нерешительности, тяжело просели в воде – были перегружены, задние начали напирать на них. Еще миг – и сотня доблестных французских солдат будет барахтаться в воде… Но нет, Бог миловал – ни одна из шлюпок не перевернулась, все остались на плаву.
– Не хватает, однако, боевого духа у подданных его величества Людовика Шестнадцатого, – заметил Беневский с легкой усмешкой, губы у него презрительно дрогнули, – чуть не искупались. Впрочем, если б искупались, может, поумнее бы стали.
Он стоял впереди своих солдат, в белой рубашке, заметный издали, потом, поняв, что являет из себя первоклассную мишень, попросил принести камзол. Устюжанинов же неторопливо двигался вдоль строя соддат-мальгашей, проверял мушкеты.
Каждый взвод был разделен на две половины, одна половина – это меткие стрелки, вторая – ловкие и быстрые заряжающие, после выстрела мушкет надо было снова зарядить порохом и загнать в ствол пулю, что требовало и времени и сноровки.
Самым боевым был, пожалуй, первый взвод, собравший буканьеров Джона Плантена, у этих ребят имелся боевой опыт, воевать они привыкли с детских лет, с соски – еще не умея ходить, ползая с гуттаперчиевой пустышкой во рту, они с собой волокли любимую игрушку, пиратскую саблю или палаш, второй взвод и третий, находившиеся рядом, почти не уступали первому: бецимисарки и толгаши были также прекрасно вымуштрованы Беневским.
Четвертый взвод, собравший людей из племен махали и вазимба, был послабее трех первых, таким же был и пятый взвод, составленный из людей слишком разных, пока не сумевших стать единым целым, не подогнанных друг к другу. Над этими взводами предстояло работать.
Были еще шестой, седьмой и восьмой взводы, но работы они требовали еще большей – это были сырые воинские единицы. Месяца через два – два с половиной они могут стать полновесными боевыми взводами. А пока что имелось, то имелось. Второй полк, который набрали уже почти целиком, был, к сожалению, слабее первого. Пока слабее – с ним еще предстояло попыхтеть.
Смешавшийся строй шлюпок понемногу начал выравниваться. Желание расправиться с французским десантом прямо в заливе Беневский пресек в себе – может быть, все-таки удастся обойтись миром, переговорить и тихо разойтись? Но с другой стороны, французы могут посчитать такое желание Беневского слабостью, проявлением покорности, а это совсем не так… Беневский протестующее мотнул головой и, скрестив руки на груди, стал ждать.
Устюжанинов, который проверил все взводы в обоих полках – на фланги поставил самых слабых, тех, на которых не было большой надежды, – подошел к Беневскому и также скрестил руки на груди.
Шлюпки торопливо, боясь попасть под огонь, который французы совсем не брали в расчет при высадке, подошли к берегу и солдаты с воплями стали спрыгивать с них прямо в воду.
– Ну-ну, – насмешливо проговорил Беневский, глядя из-под руки на шлюпки, потом обернулся на своих подопечных, скомандовал зычно:
– Солдаты ампансакаба, десять шагов вперед – марш! Р-раз, два, три, четыре… – шеренга, безукоризненно ровно держа строй, сделала десять шагов, встала рядом с Беневским и Устюжаниновым, – все взводы до единого.
Французов было много, почти в два раза больше, чем мальгашей, но это, честно говоря, не беспокоило Беневского – его по-прежнему беспокоило другое: как бы обойтись в этом противостоянии без крови? Еще вчера, он не думал об этом, в голову даже мысль такая не приходила и не могла придти, а за сегодняшнюю ночь в мозгах его, в сердце, в нем самом произошел некий сдвиг, он словно бы помудрел, постарел, ему было жаль своих сподвижников, мальгашей, находившихся рядом с ним, как было жаль и тех людей, которые высадились на сыром берегу залива Антонжиль – французских солдат, вынужденных подчиняться неумным приказам.
Интересно, кто руководит ими? Капитан Ларшер или какой-нибудь другой командир, чином повыше?
– Подзорную трубу! – попросил Беневский и протянул руку назад, за спину.
Ему вложили в руку подзорную трубу. Он пробежался по рядам французов, задержал зрак трубы на нескольких офицерских мундирах, скользнул по лицам – знакомы ли? – но люди эти ему не были знакомы, – передвинул окуляр дальше.
Наконец в объектив попал старый офицер с седыми усами и такой же седой редкой бородкой… Этот человек был знаком Беневскому – доводилось встречаться и раньше, – и симпатии к нему Маурицы не испытывал совершенно.
Это был капитан Ларшер.
– Старый лис, – Беневский выругался, – сидел бы лучше дома, грел ноги в шерстяных носках, ковырял бы в носу щепочкой из сандалового дерева – больше пользы было бы. И здоровье бы себе сохранил… Тьфу!
Длинная шеренга солдат Ларшера застыла, не решаясь двинуться дальше – солдаты понимали, что многие из них, если сделают несколько неосторожных шагов вперед, то навсегда останутся лежать на берегу. И Ларшер молчал, не подавал никаких команд – понимал, что может произойти.
Прошло несколько тихих, наполненных шумом недалекого прибоя минут.
– Уходите-ка вы лучше отсюда подобру-поздорову, – негромко произнес Беневский, – от греха подальше.
Устюжанинов, услышав его, согласно наклонил голову, – самое лучшее будет, если французы подчинятся голосу разума, попрыгают в свои лодки, тем более, что те не ушли, продолжали качаться в накатывающихся на берег ровных волнах, – и отправятся на свои корабли. Так лучше будет.
Прошло еще несколько минут и цепь французов дрогнула, казалось – еще совсем чуть и она отступит, – Беневский даже не сдержался, улыбнулся вновь, – а ведь вот она, победа, рукой подать можно… Виктория! Сердце его застучало учащенно, громко, ликующе, Беневский услышал далекий серебряный звук, славно бы в небе на волшебных трубах заиграли ангелы.
В это время раздался выстрел, который даже на выстрел не был похож, скорее смахивал на хряпанье переломленной пополам сухой ветки. Несерьезный хлопок…
Беневский неожиданно вздрогнул, выпрямился, становясь неожиданно высоким, непохожим на себя, лицо его изумленно вытянулось, под глазами возникли расстроенные тени.
Он неверяще покачал головой, Устюжанинову, стоявшему рядом, почудилось, что он услышал шепот: «Не может этого быть».
На офицерском камзоле Беневского, на груди, неожиданно задымилась ткань, запахло горелым, в следующее мгновение пронзительный горьковатый дымок пропал, сквозь ткань проступила кровь.
Беневский пошатнулся, сгорбился, хотел было выпрямиться, но тело не слушалось его. Он перекосился одним плечом вниз, другим вверх, в горле у него что-то громко забулькало.
В следующее мгновение у Беневского начали прогибаться ноги, он отчаянно сопротивлялся наваливающейся на него слабости, это было видно по его лицу, но что-то в нем надломилось, оборвалось, он продолжал оседать, становясь все ниже и ниже ростом.
Казалось, что он уходит в землю, ищет в ней точку опоры, место для себя. Искаженное лицо его сделалось темным, на лбу выступил пот, зубы были крепко сжаты. Устюжанинов не понял, что случилось с Беневским. Подхватил его под руки, попытался помочь – бесполезно. Беневский продолжал уходить в землю.
Наконец он поднял голову, глаза его были наполнены болью, такого выражения во взгляде учителя Устюжанинов еще никогда не видел. И боль эта была не только чисто физическая, это была сложная боль. Боль неверия, сожаления, проклятия тому человеку, который убил его, сочувствия людям, живущим на Мадагаскаре и остающимся жить здесь без Беневского. Изо рта у него, из уголка, вытекла небольшая струйка крови.
Только сейчас Устюжанинов понял: произошло нечто страшное, то самое, во что он никогда не верил, что невозможно было уже поправить, закричал громко – от крика этого боль остро стиснула ему виски; Беневский смежил веки и уже больше не открыл их, осел еще сильнее и как Устюжанинов ни стремился удержать его, – все было тщетно.
Тонкая красная струйка, выплеснувшаяся изо рта Беневского, увеличилась, потекла споро… Устюжанинов испугался: ведь и он сам, и те, кто жил на Мадагаскаре, считали, что ампансакаб бессмертен, никогда не умрет. Неужели Беневский умрет?
Порыв ветра пронесся перед строем солдат-мальгашей, взбил несколько клубков песка.
– Учитель! – прокричал Устюжанинов отчаянно. – Помогите кто-нибудь!
Помогать было уже бесполезно – Беневский вздрогнул и затих, затем дрожь пробежала по его лицу, словно бы человек возвращался с того света на этот и почти достиг своей цели, но на самом финише уперся в невидимое препятствие и не одолел его… Лицо Беневского поспокойнело, окровавленные углы рта в горьком движении опустились вниз.
Все, умер человек… Учитель. Во рту Устюжанинова забились обжигающие слезы, слезы выкатились и из глаз, обварили щеки, побежали на шею, нырнули вниз, под воротник… Он закричал протестующе:
– Не-ет!
Слабенький хлопок, похожий на звук сломанной ветки, сопровождал полет пули, случайно попавшей в Беневского. Это был единственный выстрел, прозвучавший в том странном бою… И противостояние то было странным.
Больше на берегу бухты Антонжиль не прозвучало ни одного выстрела.
Стенка французов, еще несколько минут назад нерешительно топтавшаяся у кромки прибоя, зашевелилась возбужденно, огласилась криками и двинулась к крепости Августа.
По всем законам жанра Устюжанинов должен был быть захвачен в плен, но жизнь, как известно, законов жанра не признает, у нее свои законы.
Первым сообразил, что будет дальше, буканьер Пан Дидье: он – белый, французы тут же, прямо на этом берегу, предадут его суду и казни; три десятка его товарищей – тоже белые (правда, шесть человек из взвода буканьеров были такие черные, что кожа на лицах у них даже отливала синевой, но остальные были чистокровные белые), Устюжанинов – белый, никого из них французы не пощадят, всех вздернут на веревке либо расстреляют… Надо было уходить, без Беневского с отрядом Ларшера им не справиться. Дидье грубо толкнул Устюжанинова локтем в бок:
– Алексис, нам пора сматывать удочки.
Устюжанинов, оглушенный гибелью Беневского, со смятым расстроенным липом и влажными глазами, отрицательно помотал головой:
– Нет!
– Алексис, очнись! Нас через двадцать минут расстреляют без суда и следствия. Мальгашей оставят, в худшем случае продадут в рабы, а нас убьют. Если же дело дойдет до суда, то повесят при обильном стечении народа. Либо повысят наказание и четвертуют.
Наконец Устюжанинов понял, какая опасность нависла над ним, глянул на лежавшего не земле Беневского. Лицо у Устюжанинова дернулось.
– Учителя мы забираем с собою, – глухо произнес он.
– Унести мы его не сможем, нас догонят, – Дидье ухватил Устюжанинова за плечо, потащил с собою. – Не бойся, тело французы все равно отдадут и тогда мы похороним ампансакаба со всеми почестями, – вот и буканьер назвал Беневского ампансакабом. – Пошли, Алексис!
Устюжанинов положил на землю мушкет, опустился перед Беневским на колено и молча, не произнеся ни слова, поцеловал его в лоб. Краем сознания отметил, что убитый уже начал холодеть – лоб был стылый, влажный, будто тело Маурицы попало под секущий ветренный дождь, – нехорошо подивился этому.
– Алексис! – буканьер потряс его за плечо. – Уходить надо! Мы еще вернемся и похороним ампансакаба, как положено хоронить королей, – Дидье снова потряс его за плечо, с силой потряс, у Устюжанинова даже мотнулась на плечах голова.
– М-м-м! – немо выдавил из себя Устюжанинов, поднялся на ноги и, бросив прощальный взгляд на Беневского, издал сдавленный горловой звук. Устремился следом за буканьером.
Французы находились уже близко.
В цепи мальгашей образовалась брешь – взвод буканьеров покинул позицию, не покидать ее было просто нельзя, иначе бы солдаты Ларшера развесили бы буканьеров по ближайшим деревьям, как рождественские игрушки. Всякое сопротивление после гибели Беневского было бесполезно.
Дидье и Устюжанинов прошли крепость насквозь, войдя в нее через главные ворота и выйдя через задние, и вскоре догнали взвод, покинувший позицию. Дидье покрутил головой и проговорил горько и одновременно изумленно:
– Это надо же, один-единственный выстрел, а… и он решил все! А? Никогда не поверю, что это был случайный выстрел. – Жан вновь неверяще покрутил, потряс головой, стукнул по ней свободной от мушкета рукой, словно бы хотел вытряхнуть из черепа боль и вообще избавиться от всякой иной боли, застрявшей в его теле – пусть уходит в землю, в небо, в зелень травы и кустов. – Вот жизнь, – пробормотал он обреченно и умолк.
Действительно, все подчинено законам жизни, – даже смерть, – законы эти неписаные невозможно обойти, да и обходить их не стоит – себе может стать дороже. Многое в жизни происходит случайно, – как, например, сегодняшняя гибель Беневского. Но нет ничего более закономерного, чем эти случайности, и их надо учитывать во всяком деле.
Буканьеры проводили Устюжанинова до ближайшей деревни бецимисарков и оставили его там, из деревни в крепость послали несколько жителей – надо было забрать у французов тело Беневского и доставить его в деревню и здесь похоронить, как героя, погибшего за Мадагаскар. Устюжанинов тоже хотел вернуться назад, в крепость, но Дидье не пустил его.
– Тебя там только не хватало, Алексис, – укоризненно произнес он, – лишь тебя там и ждут – уже веревку приготовили… Даже намылили ее, я в этом уверен.
Устюжанинов сник, вздохнул горько, будто из него выпустили весь воздух, загорелое лицо посерело. Буканьер был прав.
– Ладно, – наконец тихо, каким-то скрипучим незнакомым голосом проговорил Устюжанинов, – я все понял.
– Я могу быть уверен, что без нас ты не наделаешь никаких глупостей? – спросил у него Дидье. – Могу уйти спокойно, без всяких опасок в свою деревню?
– Можешь быть спокоен, Жан, я уже взял себя в руки, – благодарно и твердо произнес Устюжанинов, пожал буканьеру руку. – Обещаю.
– Мне надо спешно к Джону Плантену. Как бы французы не пожаловали и к нам?
– Уверен – не пожалуют. К вам без пушек они вообще не сунутся, – скрипучесть из голоса Устюжанинова исчезла, – а пушки они через лес не протащат… Увязнут.
Буканьер обнял Устюжанинова, оглядел своих спутников, словно бы проверял, не потерял ли кого и, призывно махнув рукой, растворился.
Вскоре лучший взвод войска Беневского исчез в лесу.
Некоторое время Устюжанинов печально смотрел буканьерам вслед и с местп сдвинулся лишь когда к нему подошел староста деревни.
– Идем, я покажу тебе дом, в котором ты будешь жить, – староста потянул Устюжанинова за рукав, добавил еще несколько тихих ободряющих слов, но Алексей их не разобрал, у него словно бы заложило уши. – Идем, мбвана, идем!
Опустив голову, Устюжанинов двинулся следом за старостой. В руке он продолжал держать мушкет. Конечно, в деревне Устюжанинов будет защищен, бецимисарки ни при каких обстоятельствах не выдадут его, но кто знает – в жизни всякое случается… Вдруг мушкет понадобится? Жизнь есть жизнь, оружие существует для того, чтобы защищать ее.
Он незряче посмотрел на мушкет, подкинул его в руке, словно бы сомневался в том, что ружье это может вообще стрелять. Сглотнул соленые слезы, собравшиеся во рту.
А нужна ли ему жизнь сейчас, когда нет Беневского? Этого Устюжанинов не знал. Кадык у него дернулся, гулко подскочил вверх, застрял где-то там, под языком вроде бы, но где конкретно – не понять. Во рту сделалось еще солонее.
– Идем, мбвана, – староста деревни был настойчив, вновь потянул его за рукав камзола.
Камзол был испятнан грязью, озеленен травой, но этого Устюжанинов не видел, он очень многого не видел сейчас. Что-то в нем, глубоко внутри, возникло, отвердело, окуклилось, мешало дышать и если сейчас не раздавить этот нарыв, не сломать в себе некую болевую облатку, он задохнется…
Солнце, висевшее над головой, исчезло, закатилось куда-то за облака. В глотке у него родился сам по себе тоскливый скрип, схожий со стоном и обеспокоенным птичьим голосом одновременно. Устюжанинов помотал головой слепо и двинулся следом за старостой деревни.
Французы, несмотря на свою обычную легковесность, даже безалаберность, пытались его искать, но из попыток ничего не вышло, даже верные ищейки сафирубаи и сакалавы не смогли этого сделать – белоголовый человек Устюжанинов как сквозь землю провалился… В итоге Ларшер пришел к выводу, что он вообще покинул Мадагаскар.
Позади осталось еще несколько месяцев, и капитан Ларшер вообще перестал думать о нем – забыл, выплеснул из памяти.
А Устюжанинов находился на Мадагаскаре, в деревне бецимисарков и покидать остров пока не собирался. Он пришел в себя, окреп, в льняных волосах его появились седые пряди… Но жизнь перемалывает все, в том числе и такую горькую штуку, как гибель близких.
Тело Беневского французы не выдали, закопали его в землю под стеной крепости, с тыльной стороны, бецимисарки, узнав об этом, были очень недовольны: обращаются подданные короля Луи Шестнадцатого с королем Мадагаскара, как с собакой, но поделать ничего не смогли.
Устюжанинов только стискивал зубы, да прикладывал руку к кадыку – ему казалось, что горло у него вот-вот разорвется от скопившихся там слез.
Вначале французы присматривали за местом захоронения Беневского, некоторое время у стены даже прохаживался часовой, потом часовой стал появляться реже, а затем и вовсе исчез. Это означало, что французы забыли о Беневском точно так же, как и об Устюжанинове.
Однажды ночью бецимисарки, – и Устюжанинов с ними, – раскопали захоронение и перенесли прах на высокий холм, расположенный неподалеку от крепости, где росло гигантское, с широким тенистым шатром, дерево. Под деревом выкопали могилу и опустили в нее тело, завернутое в дорогой пурпуровый плащ, специально выделенный для этой цели королем Хиави.
В жесте Хиави было сокрыто нечто символическое: непризнанный король Мадагаскара будет покоиться в земле в королевском одеянии. Это было достойно Беневского.
Можно было, конечно, похоронить Беневского в деревне бецимисарков, где жил и приходил в себя Устюжанинов, но это было бы несправедливо: ведь граф Беневский был же не старостой одной-единственной деревушки, а королем огромного Красного острова, значит, и лежать он должен был, как король, на высоком берегу, откуда видно далеко-далеко, первым встречать солнце и корабли, идущие на Мадагаскар, он должен был своим духом освещать крепость, построенную специально для того, чтобы защищать мальгашей.
Через неделю на могиле появился большой, похожий на сердце, гладкий камень, на котором было высечено изображение сокола – главного символа здешних мест, ставшего покровителем не только бецимисарков, но и многих других племен Красного острова.
У Устюжанинова такой сокол висел вместе с православным крестиком на груди согревал душу – об этом подарке сына короля Хиави Устюжанинов никогда не забывал.
После того как Беневский обрел постоянную могилу, Устюжанинову сделалось легче, он поспокойнел, во взгляде появилась взрослая глубина, словно бы он познал нечто очень важное, нервозность, сопутствующая всем его движениям, исчезла – произошел перелом. Да и время, как известно, лечит, затягивает раны, приводит человека в порядок…
Лучшего лекаря, чем время, в природе пока не существует.
Рядом с Устюжаниновым неотлучно находился Сиави, – поселился в доме напротив, вместе они ходили на охоту.
Подстрелить какого-нибудь юного кабанчика, нежного, тающего во рту, было самое милое дело: поросят на Мадагаскаре водилось много.
– Что думаешь делать дальше, брат? – спросил Сиави во время одного из привалов.
В ответ Устюжанинов неопределенно приподнял плечи.
– Не знаю. Пока думаю.
– Оставайся у нас. Мы тебе найдем хорошую жену – лучшую девушку в народе бецимисарков, поставим дом, ты станешь членом королевской семьи… Оставайся, брат!
Устюжанинов медленно покачал головой.
– Спасибо, Сиави, но сказать ничего определенного пока не могу. У меня же на Камчатке остался отец. Что с ним, жив ли он, а если жив, то где находится? Камчатка же такая большая, как и Мадагаскар, человек что иголка в стоге сена…
– Понимаю, – Сиави вздохнул. – Отец – это отец, двух отцов у человека не бывает. А мать где?
– Умерла, – глаза у Устюжанинова поугрюмели. – Давно это было. – Я тогда был очень маленьким. Даже не помню, как она выглядит.
Сиави вздохнул еще раз.
– Ты уверен, что тебя на этой Камчатке ждут? – Сиави одной рукой отогнал комаров, вьющихся около лица. Во второй руке он держал посох, символ причастности к королевской фамилии.
– Не уверен, – приподнял плечи Устюжанинов, – но если отец мой жив, он будет ждать меня до самой гробовой доски.
– Если ты уедешь, тебя не будет хватать, – Сиави снова вздохнул, что-то в нем давало сбой, рождало жалость – Устюжанинов был для него очень близким человеком, расставаться с такими людьми непросто.
– И мне тебя не будет хватать, – Устюжанинов положил руку на плечо Сиави, добавил слово, самое подходящее для этого момента, – брат.
– Брат, брат… – Сиави согласно кивнул, – брат… Но все-таки ты еще некоторое время побудешь у бецимисарков, не уедешь сразу…
– Сразу уехать никак не удастся – к поездке надо подготовиться.
Род Устюжаниновых, некогда большой, мастеровитый, потихоньку растворился в огромной России и его не стало, – время съело, единственное, что знал Устюжанинов – у него есть сестра в дальнем третьем колене, и все. Почти седьмая вода на киселе. Но хотя и «седьмая вода», а все-таки родственница, одной крови с ним – дальняя родственница.
Дважды в детстве он видел ее – приезжала в Ичинск. Была сестра высокая, с крепкими мужскими руками, не боящимися никакой работы, с доверчивыми небесно-голубыми глазами и длинной, почти до пят косой цвета спелой пшеницы – красивая была.
Алешку она боготворила – братец был на двенадцать лет моложе ее, в детстве эта разница бывает велика, как целый век, это уже потом, годам к пятидесяти-шестидесяти, возраст сравнивается, – подкидывала на руках и таскала за собой на реку – ловить рыбу.
Ловить рыбу Алешке нравилось, лучшего занятия, чем ловля рыбы Всевышний, наверное, и не придумал.
Звали сестру Полиной.
Где она сейчас, дорогая сестра Полина, жива ли? Наверняка вышла замуж, наверняка у нее дети… Устюжанинов почувствовал, как внути у него родилось что-то теплое, способное вызвать слезы, воздух перед глазами сделался рябым. Его звали к себе родные места, звали неухоженные могилы родичей, вполне возможно, что и могила отца, которую обязательно надо подправить, очистить от бурьяна, облагородить, звали Ичинск и Большерецк, звали предки, дух их…
Тяга домой, в места родные, присуща, говорят, только русским, иногда тоска по родине достает так, что человек плачет навзрыд, его трясет, как в падучей. И даже если дома его совсем не ждут, либо ждут с веревкой в руках и кандалами, он все равно возвращается – родина ведь у каждого из нас одна…
Поэтому надо было возвращаться домой. Независимо ни от чего. Если его приговорят к каторге, он согласится с этим, безропотно натянет на запястья тяжело громыхающие цепи, если определят ссылку, он тем более согласится с этим – и в ссылке живут люди и при этом остаются людьми, если заточат в тюрьму, то Устюжанинов будет рад и зарешеченному холодному окошку, перекрывающему выход на волю. На первых порах свет дневной будет дразнить его, стискивать сердце и вызывать слезы, но потом он привыкнет и к решетке – ведь человек привыкает ко всему, даже к самому плохому в жизни.
И если кто-то забывает родные места, дорогие могилы, близких своих, то теряет в этой жизни едва ли не все, что есть у него, а может быть, и все…
Очень бы не хотелось Устюжанинову оказаться таким человеком.
Пробыл он в деревне бецимисарков до двадцать третьего мая 1787 года. В годовщину гибели Беневского молча посидел на его могиле – с сухими глазами и оцепеневшим лицом, ни Хиави, ни Сиави старались не трогать его, вели себя деликатно, не заглядывали в душу, да Устюжанинов ничего не скрывал, не искал общения, он сидел молча и вспоминал прошлое, перебирал его страницы одну за другой и на каждой из них видел лица людей, которых уже нет в живых. И прежде всего – Беневского.
Иногда лицо Беневского, фигура его были настолько зримыми, а сам он улыбался так тепло, призывно, что казалось – стоит только протянуть руку и в ответ протянется его рука, загорелая, сильная, со светлыми порезами на темной загорелой коже – остались следы от прошлого боевого времени, – Устюжанинову очень хотелось протянуть руку, но он не делал этого – боялся, что остановится сердце.
Беневского нет и он, увы, уже никогда не вернется в мир живых. От него осталась только память.
Кроме Мориса Августовича были другие люди, не менее светлые, не менее талантливые, желавшие другим людям добра и хлеба, но их не стало и неведомо, целы ли их могилы?
Старик с вырванным языком и иззубренными ноздрями – палач, видать, был молодой, неумело работал клещами, а может, наоборот, пожалел бывшего камер-юнкера Анны Иоановны, – с очень красноречивым мычанием и тоскливыми глазами. Как же его фамилия? Имя Устюжанинов помнил – дед Сашка, – а вот фамилию забыл… Выветрилась из головы, хотя не должна была выветриваться.
А фамилия деда Сашки была Турчанинов. Очень активный был заговорщик против своей государыни в пользу Анны Леопольдовны.
Так же отчетливо, как и лицо Беневского маячит перед ним лицо и гвардейского поручика Петра Хрущева, спокойного умного человека, обладающего способностью принимать быстрые и точные решения… Как ему служится у французов, которых ныне Устюжанинов начал яростно ненавидеть. И вообще, жив ли он? Хотелось, чтобы он выжил в мясорубке времени и вернулся в Россию.
Впрочем, в Россию его вряд ли пустят, а если пустят, то только для того, чтобы отрубить голову…
Вспыльчивый дядя Вася Панов, гвардейский поручик, способный мгновенно загораться – ну будто порох, – и так же мгновенно остывать. Что еще было важно в нем – он никогда не помнил зла. Лицо его возникло из притеми воздуха – нервное, худое, с запавшими щеками и жестким сухим ртом. Россия Панову уже не нужна, кости поручика сгнили, да и сам он, встретив на том свете душу капитана Нилова, повинился перед ней. И, вполне возможно, получил прощение за то, что сгубил капитана Нилова.
Ипполит Степанов в стареньком офицерском мундире без знаков различия. Хоть и был он богатым человеком, владел обширным имением под Москвой, лесными и водными угодьями, а от родных своих ни вестей, ни денег, как слышал Алешка Устюжанинов, не получал. Впрочем, это было делом обычным, от государевых преступников родные отказывались очень часто.
Наверное, выхода у них не было, иначе могли они попасть в немилость и сами стать людьми, неугодными трону.
Шумный, полный, широколицый Батурин, чье сложное имя Устюжанинов забывал даже находясь на Камчатке, а сейчас его ни за что, конечно, не сумеет вспомнить. Не всплывет оно, не возродится… Возрождаться было не из чего.
А вон и Митяй Кузнецов, к которому Алексей относился с таким же благоговением, как и к Беневскому. Огромный, – о таких принято говорить «косая сажень в плечах», открытый взгляд и такая же открытая улыбка – свидетельства доброго характера, за плечами – старое ружье с облегченным прикладом, чтобы удобнее было таскаться по камчатским увалам, одолевать буреломы, простенький мешок, перетянутый бечевкой, в котором болтались несколько луковиц, коврига хлеба, да крохотный берестяной туесок с солью. Мясо и рыбу он добывал в лесу и в реках – без обеда никогда не оставался. Где ты сейчас находишься, Митяй Кузнецов?
Митяя Устюжанинову было жаль так же, как и Беневского – меткого стрелка очень не хватало на Мадагаскаре… И зверинец около Митяя всегда колготился забавный – чего стоил только один кот Прошка – гроза большерецких собак, которые завидя кота, немедленно поджимали хвосты и старались нырнуть в какую-нибудь подворотню – лишь бы он их не заметил…
Наверное, косточки Прошкины уже превратились в обычную землю, из которой проклюнулся новый росток.
Капитан «Святого Петра» Максим Чурин, штурманский ученик Дмитрий Бочаров, казак Иван Рюмин, шустрый, как веник Спиридон Судейкин… Большая часть этого народа уже наверняка лежит в земле.
Лекарь Магнус Медер уже тоже, наверное, покоится на одном из европейских кладбищ – он и в пору побега был уже древним стариком, – за семьдесят лет, – хороший был дед и эскулап хороший.
Лицо у Устюжанинова напряглось: это сколько же людей, находившихся когда-то рядом, с которыми он ел из одной миски, ушли? Ушли они, чтобы никогда уже не вернуться. Устюжанинов отер пальцами глаза, втянул сквозь зубы воздух в себя – нечего сырость разводить…
Надо жить дальше и продолжить дело тех людей, которых уже нет, – в таком разе и тех людей народ будет помнить, а самого Устюжанинова – благодарить.
Далеко в море показался корабль с белыми парусами, шел он на всех парах, торопился в Европу, что-то вез в своих трюмах: может быть, чай, может быть, шелк, а может, специи – кто знает! Но шел он не пустой, это точно, – суда в Европу пустыми не ходят…
Над кораблем так же быстро, подгоняемое тем же ветром, плыло большое розовое облако – ну словно бы это была душа Беневского, принадлежавшая Мадагаскару.
И верно ведь, душа – проплыв немного по небу, облако вдруг остановилось словно бы в раздумий, простояло несколько минут, не делая ни одного движения, а потом, дрогнув, неторопливо направилось к берегу.
И верно ведь, это была душа Беневского. Устюжанинов еще раз вытер пальцами глаза, снял с ресниц соленые капли, попытался успокоить задрожавшие губы. На душе было муторно.
Если умирает человек, если тело его перестает существовать, то душа остается живой, не умирает, а уходит в безбрежное пространство, в горние выси и обретает там. Потом достается другому человеку и новый владелец ее характером обязательно будет похож на предыдущего владельца, может быть, даже будет полной его копией.
С другой стороны, недаром говорят, что пути Господни неисповедимы – так что всякое может быть…
Розовое облако доплыло до берега, до высокой точки, на которой под приметным деревом покоилось тело Беневского, и неожиданно растаяло. Растаяло прямо на глазах.
Устюжанинов все понял, он был человеком сообразительным…
На следующий день двадцать четвертого мая, Устюжанинов исчез из деревни бецимисарков. Попрощался с королем Хиави, ставшим уже совсем старым, с его сыном Сиави и исчез.
Вещи в доме, где он жил, находились на своих местах, все было прибрано очень аккуратно, вымыто, выскоблено, – Устюжанинов умел наводить чистоту, в доме не было ни пылинки, ни соринки, казалось, что жилец вышел ненадолго подышать воздухом и скоро явится обратно, но Устюжанинов не вернулся…
Деревня, в которой Устюжанинов провел целый год, за это время разрослась, стала походить на город. Наверное, прежде всего потому, что в ней теперь постоянно проживала королевская семья (хотя столицей племени бецимисарков официально считалось селение Таматав – крупное и в военном отношении почти неприступное, с другой стороны, деревня располагалась на реке, а всякая река – это торговая артерия… Бецимисарки умели продавать рис, бороны, двухколесные телеги, синих, добродушных быков-зебу, строительный бамбук, вяленое мясо и многое другое, и также умели покупать.
Пустынный ранее берег ныне был застроен домами, поставленными на сваи – с одной стороны сваи были возведены, чтобы крокодилы случайно не напали на скот, не попереглатывали индюков и уток, с другой – мало ли что может быть, вдруг в реке поднимется вода?
Так или иначе, на глазах Устюжанинова деревня изменила свой лик.
Путь Устюжанинова в Россию был долгим, хотя он шел проторенной дорогой – вначале добрался до Франции, до Парижа, там через нашего посланника подал прошение в Санкт-Петербург матушке-императрице. Так поступали все те, кто вернулся в Россию. В Париже Устюжанинов попытался найти Митяя Кузнецова и Петра Хрущева, но все попытки оказались неудачными. Ни в гвардии, ни в пехоте, ни в прочих иных войсках их не было. Скорее всего и Кузнецов и Хрущев были зачислены в легионеры и отправлены воевать куда-нибудь в Африку.
На этот раз Париж удивил Устюжанинова запущенностью улиц, грязью и обилием крыс, закопченой серостью и чернотой домов, делавшей романтический облик города приземленным, скучным, лишенным таинственного флера. И что еще показалось Устюжанинову удивительным, заставило сжаться его сердце – в Париже пахло кровью. Ошибиться Устюжанинов не мог.
Похоже, Франция находилась на пороге беды. А вот какой конкретно беды – не угадать. Не дано.
Но как бы там ни было, несмотря на все запахи, откуда бы они ни исходили, Устюжанинову надлежало сидеть в Париже и ждать. Ждать, когда придет ответ из России и делить с Парижем все, что выпадет на его долю.
Устюжанинов снял небольшую комнатушку, очень похожую на госпитальный чулан, в котором он лежал после ранения и не мог сделать лишнего движения без охраны. А охраняли его тщательно и обещали после выздоровления вздернуть на высоком и крепком суку.
Комнатушка имела всего одно окно, которое хозяйка ни разу в жизни, наверное, не мыла, оно было очень темным от плотной пыльной налипи, свет в помещение почти не проникал – в доме всегда стоял холодный сумрак. Выходило мрачное окошко это на канал.
В канале плавали дохлые крысы и кошки, старые чепчики, обломки от табуреток и деревянной кухонной утвари, тряпки и размокшая бумага – канал был замусорен так же непостижимо, безобразно плотно, как и сам город. От воды канала несло помойкой и сортиром одновременно, маленькое оконце нельзя было даже открывать.
Да его, похоже, никогда и не открывали.
В этом заплесневелом чулане Устюжанинов провел три с половиной месяца, ожидая ответа из Санкт-Петербурга.
Поскольку времени свободного было много, занять его особо нечем, он раздобыл пачку не самой лучшей бумаги (главное было не качество, главное – на ней можно было писать), несколько свинцовых карандашей, два десятка перьев, пузырек роскошных фиолетовых чернил, которые, высыхая, приобретали золотисто-радужный «дворянский» оттенок и уселся за записи.
Надо было вспомнить многое из того, что было, что осталось позади, и сделать это именно сейчас, поскольку дальше возвращаться к воспоминаниям будет сложнее – все накроет туманная пелена времени.
Насколько мы помним, когда Беневский собрался отплывать из Балтимора на Мадагаскар, – это было последнее плавание Беневского, – на борт судна вместе с ним ступила и жена Сюзанна… Вместе с дочерьми.
Но, едва выйдя из порта в открытое море, «Интрепид» угодил в лютый шторм, Сюзанне сделалось плохо.
При многометровых волнах и жестоком ветре корабль пришлось разворачивать, – Сюзанну нужно было обязательно высадить на берег – в море женщина, находящаяся на сносях, могла погибнуть.
Через сутки «Интрепид» снова встал на свое привычное место у причальной стенки, оно оказалось свободным – похоже, шторм не пускал в порт другие суда, они отстаивались где-то в других местах.
Беневский деловито попрощался с Сюзанной еще в доме, поцеловал ее, затем, глянув в окошко на задымленное темными тучами небо, произнес сухим озабоченным тоном, словно речь шла о расставании до сегодняшнего вечера:
– Я жду тебя на Мадагаскаре вместе с сыном, – тут Беневский на несколько мгновений задержал в себе дыхание и добавил каким-то внезапно оробевшим незнакомым голосом, – когда он, естественно, появится на свет, – лицо его украсила тихая улыбка. – Очень жду.
Сюзанна слабо улыбнулась в ответ. Чувствовала она себя плохо. Море, сильная качка измотали ее, лицо у Сюзанны было серым, на лбу блестел пот.
Она прижалась к мужу, вздохнула слезно – не хотелось оставаться здесь одной, в этой холодной чужой Америке, но выхода не было, – Сюзанна не выдержала, всхлипнула.
В конце концов, с нею – дочери, она все-таки не остается здесь одна, так что не все дни будут темными и тоскливыми.
Беневский поцеловал ее еще раз – в лоб, будто покойницу, – и ушел.
Сквозь слезы Сюзанна видела его размытый силуэт, смаргивала с глаз крупные горькие капли, молила немо: «Ну, оглянись же, оглянись!» – но Беневский так ни разу и не оглянулся.
Никому из нас не ведомо, кто родился у Сюзанны на американском берегу, мальчик или девочка – историки не нашли этому подтверждения, хочется верить, что мечта Беневского все-таки сбылась – родился мальчик… Только где он, что с ним, какова его судьба – неведомо.
Через некоторое время, – впрочем, срок этот был долгим, Сюзанне он вообще показался вечностью, – до Америки докатились слухи о гибели Беневского, Сюзанна им не поверила, хотя и плакала несколько дней, не переставая. Потом, когда слез уже не стало – все выплакала, пошла на прием к Франклину.
Для детей Беневского, для девчонок, он был просто улыбчивым дядей Бенджамином, неистощимым на выдумки другом девчонок и мальчишек.
Выслушав Сюзанну, он сказал:
– О смерти вашего мужа у меня нет никаких сведений. Наберитесь терпения, а я пока сделаю официальный запрос. Бог даст, сведения о смерти его недостоверны – обычные слухи… Не верьте им, пока не будет официального подтверждения.
Сюзанна ушла от Франклина успокоенная: может быть, слухи о гибели Маурицы – обычные слухи, может, все не так уж и плохо?..
Но, увы, слухи оказались верными – уже несколько месяцев, как Беневского не было в живых. Сюзанна не выдержала, расплакалась прямо в приемной Франклина. Жизнь ей казалась конченой.
Несколько дней она пролежала дома без движения, оглушенная, не похожая на себя. Надежда, вселенная в нее Франклином, сгорела, как горстка пороха в запальной выемке пушки – в одно мгновение – была надежда и не стало ее.
За эти несколько дней Сюзанна сильно изменилась, постарела, в голове ее появилось много седых волос. Иногда она закрывала глаза и перед ней проносились счастливые картинки ее жизни – вот она с отцом катается в светлый рождественский день на легких кружевных санках, вот с братьями в пруду ловит золотобрюхих, словно бы отлитых из дорого металла карасей, вот она в лесу собирает ландыши и гоняется за яркими верткими стрекозами, а неподалеку, на поляне, на широко расстеленной кошме, мать ее, милая панночка в длинной, до земли, клетчатой юбке достает из корзины два жбана с земляничным морсом и кулек с коржиками… Ох, какой вкусный морс умела варить родная матушка – ни одна женщина в Польше не умела варить такие морсы. А коржики, те были даже вкуснее морса.
Ушла та пора безвозвратно. Мать умерла совсем молодой, отец, в одиночку воспитавший двух сыновей и двух дочерей, тянул до последнего и, выдав Сюзанну замуж за блистательного графа, очень быстро сгорел – полугода не прошло, как его снесли на погост.
Отец у Сюзанны был добрым, хотя и шумным человеком, готов был каждому, кто попросит помощи, протянуть руку, мог отдать последнее, лишь бы кому-то было хорошо. Сюзанна всегда вспоминала его с теплом и слезами одновременно. Даже с родной матерью она расставалась не так тяжело, как с отцом, отец ей был ближе матери.
Немного оправившись и поднявшись на ноги, Сюзанна засобиралась домой, в Европу. В Америке ей делать было нечего. Даже учитывая тот факт, что дочери ее зовут всемогущего Бенджамина Франклина дядей, еще чаще – дядюшкой и, когда видят его, обязательно стараются забраться на колени.
Вскоре она отплыла из Балтимора в Европу. Единственный человек, с которым она попрощалась, был Франклин, – страна эта, во многом непонятная, так и не стала для нее своей.
Вместе с ней уехали и ее дочери, постепенно превращающиеся в хорошеньких барышень. Если серенькую, очень скромную Сюзанну нельзя было назвать красивой, то дочери Беневского сильно отличались от матери – графская кровь, влитая в простую шляхтецкую, сделала свое дело.
Одно время Сюзанна жила в своем скромном имении, потом – в имении Беневского, в городе, среди знати, на светских раутах старалась не появляться – более того, к жизни светской относилась, скажем так, холодно, с предубеждением. На балах, где было шумно, гремела музыка и было много назойливых людей, она ощущала себя чужой: балы были не для нее.
А вот сельская тишь, единение с природой, неспешное течение времени устраивали Сюзанну.
Умерла Сюзанна Беневская в глубокой старости, пережив своего мужа на сорок лет (без малого) – в 1825 году. Ничего выдающегося в своей жизни, как отметили историки, она не совершила. Да и не могла, если честно, совершить при таком ярком муже.
Устюжанинов чувствовал, что он совсем закисает в Париже – слишком долго не приходил ответ из Санкт-Петербурга. Порою ему казалось, что неровен час – и в дверь его забрякают эфесы сабель, он откроет, а там стоят угрюмые, недобро насупившиеся стражники, пришедшие его арестовать и в кандалах доставить в российскую столицу.
Холодный пот готов был появиться на теле Устюжанинова. Но пот не появлялся, а вот острекающая дрожь пробегала по коже.
Как-то он оказался на широкой, полной народа площади, где какой-то облезлый господин в новеньком котелке показывал публике диковинных африканских зверей.
В клетке из толстых железных прутьев, связанных проволокой, лежал усталый заморенный лев с гноящимися глазами. Он не двигался, глаза его были безжизненными – зверь больше смотрел в себя внутрь, в глубину, чем на людей, которых ему показывали – царь Африки предчувствовал свою скорую кончину.
По некому недомыслию, либо просто по нелепости рядом с клеткой на камнях лежала небольшая козочка с острыми рожками и полосатой спиной. Африканская антилопа. На черном, насквозь прожаренном солнцем континенте лев всегда был могучим едоком, любителем вкусно перекусить, а антилопа – желанной, очень сытной пищей.
По вкусовым качествам лев мог сравнить антилопу только с бородавочником – знаменитым африканским поросенком.
Сейчас антилопа и лев лежали рядышком на грязной заплеванной мостовой, почти не замечая друг друга и едва дышали – неволя довела их до такого состояния. Облезлый господин в котелке нахваливал их, эпитетов не жалел.
Но стоит только зверей вернуть домой и дать им чего-нибудь поесть, как они мигом забудут все беды, которые перенесли и все вернется на круги своя и сильный будет жевать слабого, хрустеть сладко косточками и щуриться от удовольствия.
Говорят, однажды звери, – как и люди, – захотели быть равными между собой, одинаково свободными и иметь такую же долю, которую Беневский желал гражданам государства Солнца.
Права свои разделили и антилопа со львом, хотя по части еды вкусы их и потребности разошлись – лев никак не мог обойтись без антилопьего мяса.
Подали бумагу в высший звериный совет. Совет рассмотрел обе петиции и выдал два разрешения-запрета: львам разрешили есть мясо и запретили употреблять в пищу траву, антилопам же разрешили есть траву, но запретили есть мясо. Вот тебе и равенство. Все как у людей.
Грустно. Печально. Хотя печаль, говорят, обладает очищающим свойством, наводит в душе порядок и лечит от разных болезней. Устюжанинов постоял немного на площади, посочувствовал льву, антилопе, крокодиленку, сидящему в длинном жестяном корыте с водой, маленькому жирафу с вяло опущенными губами и, низко опустив голову, побрел в свою замызганную комнатенку на берегу канала.
Когда же все-таки придет ответ из Санкт-Петербурга? И придет ли вообще?
Ответ пришел, когда Устюжанинов даже перестал его ждать – слишком уж много парижской пыли пришлось проглотить за это время. Ответ был немногословный и исходил не от Императорского двора, а от Правительствующего Сената – видать, поменялись правила политической жизни в столице Российской.
Впрочем, вряд ли бы Сенат принял такое решение без милостивого царского кивка – отмашка двора так или иначе была.
Устюжанинову сообщали, что для проживания он будет «направлен в любой из сибирских городов по собственному его усмотрению, где должен жить трудами рук своих, любым дозволенным занятием или ремеслом…»
Через месяц Устюжанинов уже находился в Санкт-Петербурге. В таможенной будке подле канцеляриста, шлепающего на бумаги разрешающие печати, находились трое солдат с ружьями, у Устюжанинова при виде их нехорошо сжалось сердце, но он не подал вида, что внутри у него что-то происходит, весело глянул на гвардейцев, глянул на служку и когда тот, как показалось Устюжанинову, слишком долго вертел в руках его дорожный документ, справился беспечным голосом:
– Что-нибудь в путевом паспорте не так?
– Да нет, все так, – поспешно отозвался канцелярист и шлепнул на бумагу большую красную печать.
Красный цвет был неприятен Устюжанинову – слишком напоминал кровь, но тем не менее он вышел из таможенной конторки в приподнятом настроении.
Впрочем, приподнятость вскоре сменилась озабоченностью – надо было выбирать постоянное место жительства. Он решил вернуться в место, которое покинул без малого два десятка лет назад – на Камчатку, в Большерецк.
У него даже дыхание стиснуло при упоминании Большерецка. Собственно, так оно и должно быть.
Но до Большерецка надо было ехать как минимум полгода. А если где-нибудь в пути он, не дай Бог, занеможет, то тогда клади на кон весь год. За меньший срок до Камчатки не добраться. Да и неведомо еще, какова будет обстановка в море, когда пролив очистится от льда.
Лед в проливах обычно намерзает толстый, тает медленно, вода долго не хочет его уносить – видать, не под силу ей глыбы по нескольку десятков, а то и сотен пудов весом…
Чем дальше ехал Устюжанинов на восток, тем скорее ему хотелось очутиться в Большерецке, а если быть точнее – в Ичинске.
Может быть, он застанет в живых отца? При мысли об отце у Устюжанинова посветлело лицо, усталые морщины, возникшие на лбу, разгладились.
Он представил себе, как приедет в Ичинск, войдет в скромный храм, стоящий на пригорке, откроет дверь и около икон увидит отца, освещенного неярким спокойным пламенем лампад. У Устюжанинова всегда сердце перехватывало от такого видения, он вскидывался невольно, устремлялся вперед и в следующее мгновение останавливал себя – ничего перед ним не было, ни отца, ни храма… До ичинской церкви еще надо было доехать.
На постоялых дворах к Устюжанинову относились с опаской: этот человек большинству людей не был понятен, слишком загадочный, таинственный, и вообще неведомо было, к какому сословию он принадлежал – то ли благородным дворянам был, то ли безродным смердам – поди разбери. Относились к нему примерно так же, как отнесся канцелярист Петербургской таможни, теснящийся вместе с тремя вооруженными солдатами в жалкой конторке…
Прошло очень много времени, прежде чем Устюжанинов добрался до Иркутска. Иркутск в ту пору был центром огромной территории – всей Восточной Сибири, в том числе и Камчатки – и птице не облететь, и глазом не окинуть – в Иркутск стекались все сведения великого края, сведения здесь сортировались, шлифовались, причесывались и переправлялись в Санкт-Петербург.
Впрочем, не все новости, естественно, шли в Санкт-Петербург, а только те, которые были лично отобраны губернатором.
Первым делом Устюжанинов отправился в управление епархиального архиерея, там должны были знать, жив ли ичинский священник отец Алексий Устюжанинов или нет. В управлении епархии ему сообщили, что в Ичинске уже несколько лет служит новый протоиерей, а старый отец Алексий скончался четыре года назад. Похоронен там же, в Ичинске.
Имелись в епархии и сведения о сестре Устюжанинова, она сейчас живет недалеко от Иркутска, на нерчинских рудниках – вышла замуж за священника местного прихода отца Николая и считается почтенной матушкой.
Вот и обрезан путь на Камчатку. Раз нет отца, то незачем пока в Ичинск и ехать. Если только побывать на кладбище, на могиле, но это он может сделать позже… Так оно и будет, а пока нужно было устраивать свою жизнь, искать приют – нельзя, чтобы над головой не было крыши. Без крова своего человек – это не человек. Половина человека. Что-то близкое к животному…
Устюжанинов решил остаться в Нерчинске. Все-таки здесь находится родная душа – его сестра Полина. Больше родных у него нет нигде в России. Ни в одной вотчине…
Встречу его с Полиной описать невозможно, описанию она не поддается; вначале сестра едва не грохнулась в обморок, а потом плакала целых полчаса, не переставая – выплакала все слезы, которые у нее имелись, задыхалась и сглатывала их, – успокоилась лишь, когда слез не стало.
Жилье у матушки Полины с мужем было тесным, но на Руси всегда считалось, что в тесноте – не в обиде, поэтому Устюжанинову был выделен за занавеской угол с топчаном.
Он поставил дорожный сундучок на пол, сел на топчан и вытянул ноги. Вот и конец путешествию, которое продолжалось восемнадцать лет.
По дому, радостно вскрикивая, носилась Полина, выставляя по случаю приезда брата на стол все, что имелось в продуктовом подполе, а муж ее, приходской батюшка, отменил по этому поводу вечернюю службу.
Устюжанинов, вздохнув, достал из кармана костяного божка Ажуналачье. Все семнадцать лет скитаний божок находился с ним, обошел весь свет и вернулся на родную землю – до Камчатки ведь совсем недалеко… Да и Нерчинск – это тоже родная земля, своя. На Камчатке не только местный народ, туземцы островные держали этих божков в юртах и чумах, русские – особенно казаки, держали тоже.
Именно в ту пору известный историк Федор Каржавин писал: «Божок Ажуналачье у всех камчадалов караулит юрту от лесных духов, а в поставце – посуду от воров. Он хоть и болванчик, а пользу делает. Сему не дивись!»
Далее Каржавин довольно ехидно замечал, что в России у бедного, но разумного человека все идет на пользу – в отличие от «богатых дураков»: те отливают божков из чистого золота, но это не помогает им – золотые божки не умеют служить человеку так верно и надежно, как те, что сделаны из простых материалов – выточенные из камня, кости или вырезанные из дерева.
Устюжаниновский божок был вырезан из старого моржового клыка. Устюжанинов погладил его пальцами и с нежностью поморгал влажными глазами: «Спасибо тебе, Ажуналачье, что не дал сгинуть в скитаниях и вновь привел меня домой».
Небо в маленьких оконцах Полининого дома было светлым, чистым и очень холодным. На Камчатке такого неба, например, не бывает, там небо – совсем иное, более теплое, что ли… Хотя зимой морозы там зверствуют по-настоящему, на лету сшибают птиц и те падают на землю, кувыркаются по снегу уже мертвые.
А небо подает надежду – невзирая на холод, в нем должны появиться теплые краски.
Полина тем временем перестала суетиться, бегать по дому и стучать плошками – принарядилась, стала совсем девчонкой, в которой от дородной, изображенной во многих сказках попадьи не было совершенно ничего, и позвала Устюжанинова и мужа своего за стол.
От вида разваренной дымящейся картошки у Устюжанинова даже горло стиснуло; это было по-русски, по-нашенски, нигде больше семьи так не усаживаются вокруг блюда с дымящейся картошкой, как в России.
– Мы тебя местной рыбкой угостим, – пообещал Полинин муж Николай, – на Мадагаскаре такой точно нет.
– И на Камчатке нет, – добавила Полина, – это я знаю по себе. – Она вся светилась – так была рада приезду брата.
Местным деликатесом оказался ленок – нежная сильная рыба, украшенная святым пером, что свидетельствовало о ее благородном происхождении. Особенно вкусен был ленок скорого посола, отец Николай приготовил его в глиняной крынке, куда натолкал ленка, порезанного крупными кусками, и присыпал солью.
Накрыв горло крынки широкой ладонью, отец Николай потряс посудину, чтобы соль распределилась равномерно, поставил на подоконник, прилаженный к слюдяному окошку и дал постоять минут десять. Потом вывалил рыбу в оловянное блюдо, украшенное иркутским гербом – продукт был готов.
Всякую рыбу доводилось пробовать Устюжанинову, в том числе и экзотическую южную, тающую во рту, будто свежее коровье масло, но такой рыбы он еще не ел.
– Пробуй, пробуй, – поощрял его отец Николай, – съедим это блюдо – приготовим новое.
Хорошо было Устюжанинову у сестры Полины, душа здесь ощущала себя совсем по-иному, чем в других местах, – раскрепощенно, удобно, светло. О теле уже и говорить не приходилось, – поскольку Устюжанинов бывал в разных передрягах, то тело его к неудобствам привыкло, на них хозяин уже не обращал внимания…
Да, решение принято правильное: надо оставаться здесь, от добра добра не ищут, лучшего места, чем Нерчинск, на нынешний день не найти. Конечно, хотелось бы и в Большерецк заглянуть, может быть, даже Гришку Нилова увидеть, – если, конечно, он там обретается, – и в Ичинске на могилах побывать, но пока не дано.
На это надо будет отвести как минимум полгода…
В общем, поездка в Большерецк откладывалась.
Прошло еще немного времени. Устюжанинов устроился работать в контору, управлявшую Нерчинскими рудниками, канцеляристом и жизнью своей скромной был доволен.
С отцом Николаем он подружился, разногласий с ним никаких не было, хотя в церковь ходил редко, но священник не попрекал этим Устюжанинова, знал, что наступит время и тот все равно придет к Богу, просто человеку этому надо малость осмотреться, поувереннее, попрочнее встать на ноги.
Как-то Устюжанинов узнал, что недалеко от дома, где жил священник с Полиной, продается изба – добротная, сложенная из отстоявшейся сухой лиственницы, – хозяин, отработав свое на рудниках, отбывал в «Расею», – Устюжанинов долго размышлять не стал и сходу купил хату.
Полина взгрустнула:
– Как же, Алеша, жить нам порознь-то? Мы ведь родные люди, одна семья – нельзя нам расходиться-то.
– А мы и не расходимся, каждый день будем наведываться друг к другу в гости.
Через три года отца Николая перевели в другое место – освободился большой приход и православным потребовался опытный настоятель. Хотелось бы Устюжанинову поехать вслед за сестрой, ее мужем и детишками в другой, город да не мог он это сделать – купить новый дом он уже не сумеет. Не осилит просто. Горечь сжала ему горло.
«Неужели я остаюсь один?» – мелькнула в голове ознобная мысль. Он неверяще покачал головой.
Но это было так – он оставался один. Новый приход, куда уезжала сестра Полина, находился в нескольких сотнях километров от Нерчинска. Ясно было – видеться так, как они виделись, живя в одном городке, но в разных домах, уже не удастся. Дай Бог, если случится раз в год и то будет хорошо. Чаще – вряд ли. Устюжанинов с трудом освободился от горького капкана, стиснувшего ему горло и пошел к сестре прощаться.
Устюжанинов так никуда и не уехал из Нерчинска, так здесь и состарился. Работал он до глубоких старческих лет на одном и том же месте – в конторе рудников.
Жил совершенно один, жениться не стал. Дом у него едва ли не целиком был забит книгами – читал Алексей Алексеевич много и совершенно беспорядочно, иначе говоря – все подряд.
Впрочем, любимая тема в чтении у него все-таки имелась – путешествия, пути-дороги заморские, приключения и познание неведомого, встречи с людьми, которых в России никогда не встретишь и описания животного мира далеких земель, – такие книги он выискивал специально. Среди них больше всего ему нравились две: записки купца Афанасия Никитина, ходившего «за три моря» и толстый том Федора Каржавина, изданный в типографии Зотова, – где речь шла об увлекательных приключениях капитана де Сивиля.
– Книга сия – диво, как хороша, – сказал Устюжанинов, прочитав том, – это первое, и второе – де Сивиль, судя по всему – это сам Каржавин.
Ему захотелось написать автору. Некоторое время Устюжанинов колебался, но потом взял лист бумаги и сел за стол. Писать было трудно. Он вообще не подозревал даже, что писанина – такое трудное дело.
Очень скоро у него потяжелели и отекли плечи, в спине возникла боль, затылок тоже потяжелел, сделался чужим. Устюжанинов помял его пальцами, но затылок пальцев не ощутил – онемел совершенно.
Слова, выходившие из-под пера, были неинтересными, неуклюжими какими-то, деревянными, словно бы и не Устюжанинов их писал. Не думал он, что окажется таким косноязычным. Но что было, то было. Хотя те заметки, которые он пытался делать, находясь в Париже, давались ему много легче. Постарел он, что ли?
Целых два дня понадобилось ему, чтобы завершить работу, долгих два дня он потратил в трудах и муках, сочиняя простое, в общем-то, письмо. Когда сочинил, то еще два дня потратил на сомнения: отправлять письмо в Санкт-Петербург или не отправлять? Да и адреса Каржавина у него нет.
Он отправил письмо на адрес владельца типографии Зотова, выпустившего в свет описание приключений капитана де Сивиля, не зная, дойдут ли его несколько листов плотно исписанной бумаги до Каржавина или не дойдут…
Письмо дошло. Через полтора года Устюжанинов получил ответ. Каржавин писал, что удивился посланию, пришедшему из далекого Нерчинска, как удивился и судьбе человека, отправившему его. «Пути Господни неисповедимы, – написал Каржавин. – Никто, кроме Всевышнего не знает, где нам суждено оказаться завтра. Сам я провел в скитаниях по дальним странам двадцать семь лет, из них семнадцать – по землям Южной и Северной Америк, бывал в таких местах и у таких народов, о существовании которых я даже не подозревал. Мне было интересно. Думаю, что жизнь Ваша так же была интересна – незнакомые дальние страны обязательно оставляют след в памяти, забыть их невозможно».
Завязалась переписка, которая продолжалась до самой смерти Федора Каржавина, хотя пожить великий бродяга Каржавин мог бы и еще, умер он совсем нестарым…
Когда он скончался и весть об этом дошла до Нерчинска, для Устюжанинова наступило почти полное одиночество – сестру свою троюродную Полину с мужем Николаем, повзрослевших племянников и племянниц он не увидел уже ни разу – отец Николай получил повышение и они переехали в новый приход, еще дальше от Нерчинска.
На рудниках, в самой конторе Устюжанинов слыл за великого чудака и нелюдя и с ним никто не водил дружбу.
Крепкое хлебное вино, столь любимое рабочими рудников, он не употреблял, в различных праздниках, кончавшихся обычно драками, не участвовал, в гости к соседям, как это было принято на Руси, не ходил – ущербный, словом, был человек, – так считали местные работяги. Так считало, кстати, и начальство, поглядывавшее на него с откровенным недоумением: как мог в их среду затесаться мужик, знающий около десятка языков, – кроме, конечно, дикого камчатского, туземного и матерного, – исходивший своими ногами весь мир (а может, это не так, может, канцелярист Устюжанинов привирает и черпает рассказы о своих приключениях из чужих книг), утверждающий, что он видел многое из того, чего не видели другие?
Странная история… И мужик этот очень странный.
Об Устюжанинове доложили даже управляющему рудниками – почтенному, погруженному в себя, будто в аквариум, господину, отрастившему такие огромные бакенбарды, что их можно было принять за конскую гриву, выращенную на физиономии человека в порядке эксперимента; управляющий глянул на канцеляриста и, неожиданно поскучнев, равнодушно махнул рукой: не приставайте, мол, ко мне с такими глупостями.
У него был свой взгляд на мир, очень рациональный, пропущенный через формулу «Пронесет это выгоду или нет?» – недаром управляющий носил немецкую фамилию и умел хорошо считать деньги… Это сложное мастерство он освоил до тонкостей.
«Странный человек» Устюжанинов старался держать себя в форме, в сорокаградусный мороз растирался снегом, на коротких, подбитых мехом лыжах совершал пятнадцатикилометровые походы по здешним горам и лиственничным падям, купался в прорубях, летом обязательно уходил в плотно набитую комарьем тайгу за живительной смолой и лечебными травами. Причем, невиданное дело – местные комары, способные высосать всю, до последней капли кровь у большого теленка и мертвого уложить его в канаву, а уж что касается голопузых, совершенно незащищенных щенят, то их они укладывали сотнями, – Устюжанинова не трогали совсем.
Более того – опасливо облетали его стороной.
Имел место какой-то колдовской фокус, не иначе. Мужики, которые из-за писклявоголосых паразитов боялись летом совать нос в лесные дебри, озадаченно скребли ногтями затылки:
– А ведь, ей-богу, колдун! – И старались держаться от Устюжанинова подальше.
Прошли годы. Устюжанинов стал ощущать, что внутри у него все чаще и чаще возникает усталость, просачивается откуда-то из глубины, возникает словно бы из ничего, рождая состояние, когда ни руками, ни ногами даже шевелить не хочется, организм начинает протестовать, стоит только сделать лишнее усилие, в глубине груди, под сердцем рождается опасный холод.
Это подает о себе весть приближающаяся старость – она, зар-раза, больше никто и ничто. Так что остается Устюжанинову только расчесывать длинную седую бороду, да со смиренным видом отдыхать на лавке.
– Чему бывать, того не миновать, – смиренно произносил он в такие минуты и слушал самого себя, сердце свое – что там творится внутри?
Начали сильно отекать ноги, лодыжки раздувались так, что не пролезали в голенище валенка, пальцы шевелились с трудом.
До смерти своей Устюжанинов хотел довести до конца еще одно дело, к которому когда-то прилаживался еще в Париже, – сочинить полновесную книгу о Беневском, о товарищах своих и их приключениях, о короле Хиави и Джоне Плантене, о самом себе, хлебнувшем беды сполна, и Митяе Кузнецове, – каждый день упрямо брался за перо и, кряхтя, усаживался за стол, придвигал к себе медную чернильницу и несколько листов бумаги.
Работал над записками так же трудно, как и над письмом Каржавину, иногда по полчаса подыскивал нужное слово и не мог найти, вновь переживал былое, морщился от боли либо расцветал в улыбке, молодившей его лицо, иногда ложился лицом вниз на лавку и свешивал к полу правую руку – она наполнялась болезненной, какой-то свинцовой тяжестью… Рабочей руке требовался отдых.
Писать было очень трудно.
Однажды он заметил, что минул уже целый год, – а может, даже более года, – с момента, когда он начал работать над заметками. Неужели так долго он корпит над стопкой бумаги, а? Уж слишком медленно она покрывается строчками…
Пересчитал страницы. Их было всего шестьдесят две, исписанные с обеих сторон, – шестьдесят две! Да, трудно дается это дело. Физической нагрузки вроде бы никакой, но тогда почему у него каждый вечер становится свинцовой голова и тяжелеют, делаются чужими руки? Особенно правая рука…
Этого Устюжанинов не знал.
Выходит, есть работа потяжелее, чем рытье земли под пороховые склады и пушечные капониры или отчаянное единоборство с железными деревьями, которые ни топорами не взять, ни порохом, ни десятком запряженных цугом быков зебу.
Помахивать небрежно зажатым в руке гусиным пером и иногда задумчиво поскребывать пальцем затылок, выковыривая оттуда какую-нибудь мысль зачастую и не шибко умную, но дельную, – штука гораздо более трудная и сложная, чем строительство города в далеких мадагаскарских топях.
Надо бы еще написать столько же двойных страниц, или даже немного побольше и тогда задачу свою он выполнит, дай только Бог сил справиться с этим, совладать с неувертливыми, пьяно плывущими перед глазами бумажными листами… После этого можно будет связываться с владельцем типографии Зотовым, договариваться об издании книги, которая, возможно, будет называться так «Обыкновенная жизнь и необыкновенные приключения камчатского крестьянина Лексея Лексеевича Устюжанинова». Каково, а! Звучит?
Устюжанинов поморщился: не звучит. И есть в этом «обыкновенном» и «необыкновенном» что-то нарочитое, показное, высосанное из пальца, то самое, чего камчатский крестьянин Лексей Лексеевич должен стыдиться. Лицо у Устюжанинова сделалось усталым и мрачным.
И тем не менее, какие муки ни одолевали бы его, он должен продолжать работу над книгой. Иначе, кто же оставит в памяти имена людей, которых уже нет и будет взывать, чтобы живые поминали их в своих молитвах?
Панов и Степанов, Турчанинов и Чурин, Батурин и сам Маурицы, он же Морис Августович Беневский… Вздохнул Устюжанинов, вновь достал из конторки чернильницу с десятком отточенных перьев и придвинул к себе чистый лист бумаги.
Подстегивала Устюжанинова переписка и с Каржавиным, тогда еще живым, – он ощущал себя неловко перед уважаемым человеком, путешественником, писателем, мыслителем… Письма от Каржавина приходили хотя и редко, но регулярно, из них Устюжанинов узнавал большинство литературных и общественных новостей Санкт-Петербурга.
Собственно, не только санкт-петербургские новости узнавал Устюжанинов от «любезного друга», в одном из писем тот рассказал, что командир Устюжанинова по саперному подразделению в Штатах Тадеуш Костюшко вернулся в Польщу и поднял восстание крестьян, которых из-за того, что они были вооружены косами, прозвали косиньерами. Восстание это, плохо подготовленное, было, конечно, разбито русскими войсками и бывший полковник-сапер пан Тадеуш угодил в плен.
После смерти императрицы Костюшко, попавший под «милость нового государя», был освобожден и уехал во Францию.
Это обрадовало Устюжанинова. Костюшко жив, находится в здравом уме, деятелен, раз у него хватило сил на восстание, поэтому, вполне возможно, что жизнь, которая любит разные неожиданные сюжеты, столкнет Устюжанинова с Костюшко вновь.
Но этого не произошло.
Состарившись, Устюжанинов уже редко где появлялся, даже редко выходил из дома, занимался своим небольшим садом, причем, совсем не стремился сажать яблони-ранетки, очень популярные у населения и продавать урожай, чтобы на вырученные деньги купить хлеба, а приносил из леса цветы и сажал их под окнами, вдоль завалинки.
Так же охотно высаживал и лесные ягоды и мелкие растения эти, почти не приживающиеся на земле, по которой часто ходит человек, легко приживались, росли и через некоторое время у Устюжанинова образовалась целая плантация диких растений.
Местный народ, глядя, как Устюжанинов ковыряется в своем саду, обихаживает какие-то цветочки, невзрачные с виду, бормочет что-то под нос, словно бы уговаривает их выжить после пересадки, крутил пальцами у виска: канцелярист на старости лет, похоже, совсем сбрендил…
А он вовсе не сбрендил. Хотя слава о нем, как о человеке не от мира сего пошла не только по Нерчинску, но и по всем Зерентуйским рудникам.
Книгу свою, которую так долго держал на письменном столе, Устюжанинов одолел, старое название на титульном листе зачеркнул, вывел новое. Рукопись теперь называлась так: «Повесть об Алексее Устюжанинове, поповском сыне, королевиче острова Мадагаскар».
Конечно, несколько претенциозно, вычурно, но в общем-то верно.
Устюжанинов долго держал рукопись у себя дома, вносил поправки, тетешкал, будто дорогого ребенка (так, собственно, оно и было, поскольку семьей своей старик Устюжанинов так и не обзавелся), потом понял, что поправки он может вносить бесконечно, решительно расписался на последнем листе и отправил толстый пакет в Санкт-Петербург типографщику Зотову, другу покойного Каржавина.
Жаль, конечно, что Федора не было в живых, иначе бы он проследил за сочинением, помог бы довести его до читателей, но Каржавина уже не было и неведомо ни единому человеку, получил издатель рукопись или нет? Во всяком случае она нигде не всплыла, не появилась среди волн жиденького книжного моря тогдашней России.
Где застряло сочинение, которое ныне прочитал бы с превеликим удовольствием каждый из нас, куда нырнула книга, в какой щели спряталась, не знает никто.
И цела ли рукопись, тоже неведомо.
Часть четвертая
В 1977 году мне посчастливилось попасть в большую и довольно длительную поездку – туристическую, – за рубеж по линии редакции «Известий». По плану группа наша вначале прибывала в Париж, в Париже мы должны были провести около суток, а потом на самолете компании «Эр Франс» вылететь далеко на юг, на другую сторону земного шара – на остров Маврикий. С Маврикия – на Мадагаскар, с Мадагаскара – в Танзанию, из Танзании – в Кению и уж потом, оставив позади полтора десятка тысяч километров, вернуться в Москву.
Время было еще советское, о распаде великой страны подумывали только стратеги из соответствующих вашингтонских и прочих «обкомов», разбросанных по всей Америке – научно-исследовательских институтов, центров, лабораторий, служб, контор с вполне безобидными вывесками, но с очень «обидным» содержанием, мы же об этом не говорили, не думали, считали страну свою оплотом, крепостью, которую никто никогда не сумеет разрушить, жили своими заботами, довольно безбедно, думали, что будущее у нас будет таким же безбедным и интересным, как и настоящее…
Были мы молоды, беззаботны, весь мир считали своими друзьями – страна наша ведь тогда помогала очень многим.
Перед самым отъездом, вечером, в Москве появились друзья – молодые литераторы из Венгрии. Первым делом решили пропустить по стопке холодной водки и забрались в знаменитое место – ресторан Центрального дома литераторов.
Здесь я должен сделать небольшое отступление. Где-то году в семьдесят шестом, в начале осени в Венгрии состоялось совещание молодых писателей социалистических стран – первое, кажется, в истории наших литератур, раньше таких совещаний не было.
Проходило совещание в Кёсеге – небольшом старинном городке, густо осыпанном золотой листвой осени, – была пора листопада, городок, расположенный рядом с австрийской границей, до Австрии было рукой подать, просто сверкал от ярко полыхающей желтизны…
Писатели – головы буйные, черепушки набиты разными мыслями, в том числе и крамольными, и полукрамольными, – всякими, словом, так на совещании этом неожиданно родилась программа, против которой была вынуждена выступить наша делегация.
Все дело в том, что в Советском Союзе шла очень активная кампания по созданию произведений о рабочем классе – в издательских планах даже имелись свободные строчки, отведенные книгам на эту тему. Но написать толковую повесть или роман о каком-нибудь молотобойце или токаре было не то, чтобы очень сложно, а как считали литературные чистюли (извините за выражение) – неинтересно. Совсем другое дело – исторический роман со скандальным сюжетом или любовная проза, где главным героем выступает какой-нибудь лихой столичный красавец-ловелас или жгучий пожиратель слабых дамских сердец, с горящими глазами.
Поэтому группа молодых писателей, посовещавшись в одной из комнат отеля, где мы жили (советская делегация на совещание, естественно, приглашена не была), предложила новую программу развития литературы социалистических стран.
По этой программе польские писатели должны были сочинять исторические романы, венгры – кропать стихи про любовь, румыны – заниматься исключительно маринистикой, болгары – городскими повестями, немцы из существовавшей тогда Германской Демократической Республики – спортивной литературой, поскольку у них было много хороших спортсменов, вьетнамцы – писать о джунглях и бананах с ананасами, а советские «письмэнники» – заниматься исключительно делами заводов и фабрик и толкать вперед рабочую тему. Вперед и только вперед.
Если потом все соединить вместе, то получится многогранная, многотемная литература, широкая, как река, сдерживаемая лишь берегами, сработанными из особо прочного материала, именуемого социалистическим реализмом.
Вот такой подарок был получен нашей делегацией на том совещании.
Дело дошло до голосования.
Идея, разработанная в Кёсеге, не прошла.
Совещание окончилось, дебаты были быстро забыты, участники разъехались по своим городам и весям, а друзья остались. Среди них были и венгры. Они-то и прилетели в тот вечер в Москву, два человека, Миклош Вереш и Сильвестр Эрдег.
Узнав, что мне доведется быть на Мадагаскаре, оба гостя воскликнули в унисон – произнесли, будто пропели:
– Беневский!
– А что Беневский?
– Обязательно поищи там следы Маурицы Беневского. Не может быть, чтобы на острове его не знали и от него ничего не осталось. Не такой это был человек!
Тогда я еще ничего не знал о Беневском, фамилия эта была мне неведома – пусть простят друзья мою неотесанность, а я за это привезу им в Будапешт пару бутылок хорошей водки.
Позже, в книге «Лето в декабре» я написал, что был «Беневский, судя по всему, чрезвычайно обаятельным, красивым и сильным человеком, смелым, напористым, способным убедить в своей правоте любого, даже самого закоренелого и сонного скептика, умел писать стихи и песни, околдовывать женщин, подниматься на защиту обиженного, оскорбленного, давать отпор людям более сильным, чем он».
– Маурицы Беневский – венгр польского происхождения, – сказал мне Миклош Вереш.
Позже польские коллеги, с которыми я встречался, обязательно вносили свою поправку:
– Беневский – поляк венгерского происхождения.
В общем, все походило на то, что за Беневского шла негласная борьба: какой стране он принадлежит? Если быть точнее, то какой стране он принадлежит больше, а какой меньше? Спор этот тихий, – громких голосов в нем не слышно, – продолжается, по-моему, до сих пор, и вообще вряд ли когда закончится.
Пока известно одно, что мать Беневского – скромная набожная женщина была полячкой, отец – граф Беневский, генерал австрийской армии… Кто он по национальности? Австрии тогда как таковой не было, существовала Австро-Венгрия, в которую входила собственно Венгрия, а также – Чехия, государства Балканского полуострова и Словакия. Да потом, по-моему, не суть важно, кто Беневский по национальности. Важно другое – факт, что человек этот – реально существовавшее лицо, он жил, вошел в историю многих стран мира, воевал, путешествовал, ценил справедливость, любил, уважал мужественных людей, умел вырываться из мест заключения, стремился построить государство, где все были бы равны и погиб за это… Ушел он из жизни в сорок с небольшим лет – возрасте еще очень молодом.
Он многое хотел сделать, о многом мечтал и вел за собою людей, действовал решительно, храбро, принимал быстрые и точные решения, но планы свои не успел осуществить, – и не его в этом вина. Так распорядилась судьба. Беневскому просто не повезло.
Но вернемся на Мадагаскар. Наша группа тогда объездила остров вдоль и поперек, побывала и в глубинке, где добывают роскошные, сочного зеленого цвета изумруды и яркий розовый кварц, и на океане, – весь морской окоем зарос пальмами, океан подмывал деревья, заваливал их в воду, пальмы же сопротивлялись, круто выгибали свои стволы и прямо из волн круто устремляли макушки вверх, к небу, – держались как могли.
Сколько я ни спрашивал у мальгашей (теперь весь народ Мадагаскара называется мальгашами, по имени одного из племен знают ли они такую фамилию – Беневский, в ответ следовало только отрицательное покачивание головы: нет.
Даже просвещенные мальгаши, – такие, как министр культуры Мадагаскара, тоже отрицательно качали головой: Беневский, Беневский… Нет, никогда не слышали о таком человеке.
Переводчиком у нас был Джозеф, мальгаш – кстати, из племени сакалавов, по-русски он говорил довольно сносно, – звали мы его Джозеф-худенький, был он похож на ходячую спичку, это первое, и второе – у мальгашей не принято обращаться друг к другу по фамилиям, только по именам, даже в официальной переписке, поэтому переводчик для нас был просто Джозеф. Иногда – с добавлением Худенький… Раз Джозеф сносно знает русский язык – значит, интересуется Россией и должен был слышать (где-нибудь когда-нибудь) фамилию Беневского…
Но он не знал ее – лишь недоуменно приподнял плечи и отрицательно покачал головой:
– Такого человека на Мадагаскаре, по-моему, не было. Во всяком случае, я о нем ничего не знаю.
Все понятно. Французы постарались напрочь выжечь имя Беневского из истории Мадагаскара, а то, что он построил – крепости, города, – разрушить. Разрушили до основания, даже названия их не сохранились; дороги же, возведенные Беневским, заросли, на их месте сейчас высится дремучий тропический лес – пятидесятиметровые деревья, обвитые лианами и населенные обезьянами, – надо заметить, в этом колонизаторы преуспели.
Через несколько дней Джозеф-Худенький, – видать, переговорив с кем-то из начальства, – сказал, что Беневский действительно когда-то бывал на Мадагаскаре, вспоминают о нем крайне редко, примечателен был тем, что женился на местной королеве Бетти и, само собою разумеется, стал королем Красного острова.
К слову, эта версия была высказана и более того – описана в одном из французских любовно-приключенческих романов, критики она не выдерживает совершенно никакой: у Беневского, как мы знаем, была преданная, очень скромная, невзрачной внешности жена по имени Сюзанна и ее он не собирался на кого-либо менять.
С другой стороны, если бы на Мадагаскаре оказалась какая-нибудь холостая (а точнее, овдовевшая) королева лет восемнадцати, он мог бы приударить за ней. Хотя бросить старую жену и с головой нырнуть в новый семейный омут… это вряд ли. Это не для Беневского.
У Беневского существовали некие жизненные правила, которые он никогда не нарушал – он был очень последовательным и твердым человеком.
Через некоторое время после той поездки на Мадагаскар имя Беневского неожиданно зазвучало в мальгашской печати. Зазвучало несколько опосредованно, вместе с другим именем – Николаса Мейера.
В столице Мадагаскара городе Антананариву проходила юбилейная сессии Малагассийской академии наук. На сессии прозвучал доклад ученого-историка Г. Рацивалаки, который рассказал собравшимся о Беневском, о его походах по Красному острову и выдвинул версию-предположение, что граф, опубликовавший «свои записки у Гиацинта Магеллана, просто-напросто приписал себе результаты походов Мейера…» Потому, дескать и имя его забыли на Мадагаскаре.
Доклад вызвал бурное обсуждение, хотя сам Рацивалака даже предположить не мог, что реакция его коллег по академии будет такой бурной. Оказалось, что собратья по науке уже кое-что слышали о Беневском и у каждого из них имелась на этот счет своя точка зрения.
Николас Мейер прожил на Мадагаскаре двадцать шесть лет, с Беневским находился в самых добрых отношениях. Красный остров исходил, изъездил вдоль и поперек и, поскольку имел дружеские связи со многими местными племенами, то помогал налаживать эти связи и Беневскому. Это у контактного Мейера получалось хорошо.
Рассказами о своих многочисленных походах он делился с Маурицы Беневским. «Когда стали известны описания мейеровских экспедиций, обнаружилось, что барон Беневский искусно, очень находчиво использовал два первых путешествия Мейера, – отметил в своем докладе Рацивалака. – Одаренный писатель, барон употребил немногие сведения, собранные Мейером, для прославления самого себя».
Так это или не так, ныне никто не сумеет ни подтвердить, ни опровергнуть.
И вот еще что. Несмотря на теплые отношения с Беневским, Мейер был проводником отряда Ларшера – капитан приблизил его к себе. Почему это произошло, кто скажет? Все-таки неразрешимые загадки иногда нам подкидывает прошлое.
Знал Мейера, конечно, и Устюжанинов, но в памяти бывшего камчатского мальчишки Мейер не отложился совершенно.
Писали о Беневском не только французы и поляки, – писали японцы, китайцы, англичане – книг издано много, в каждой есть что-то свое, не похожее на то, что написано в других книгах.
Но вернемся в недавнее прошлое, в поездку, которую посчастливилось совершить автору этих строк на Мадагаскар. Остров, конечно, сказочный, способный потрясти любое воображение, населенный очень трудолюбивыми людьми, с кладбищами, украшенными деревянными произведениями искусства, с шумной зумой – пятничным базаром, где можно купить все, даже дирижабль, способный взлететь в воздух прямо с зумы, лопату из копий царя Соломона, первое издание Библии и окаменевшего мамонта. Но мамонт мне не был нужен, и лопата, на которую с презрением смотрел царь Соломон, тоже не нужна, а вот книги были нужны…
Книги о Маурице Беневском.
Но книг этих на Мадагаскаре не оказалось, а вот много позже, уже в Москве, я прочитал у поляка Аркадия Фидлера, совершившего в тридцатые годы довольно длительное, по-настоящему исследовательское путешествие на Мадагаскар, побывавшего во всех местах, где бывал Беневский, очень грустные строки о том, что он не отыскал на Красном острове ни одного места, где сохранились бы следы графа Маурицы – все было тщательно затерто, зачищено, подметено временем (и людьми тоже), не осталось ни одной малой детали, ни одного крохотного следа, ничего нет.
Прошлые хозяева Мадагаскара французы еще до того, как остров стал свободным, постарались выскрести не только материальные свидетельства пребывания там Беневского, стерли даже память о нем.
И хотя на Мадагаскаре ныне есть гора Беневского, а в столице Антананариву – проспект его имени, местный народ не знает, кто такой Беневский, увы.
Фидлер обошел, исследуя по сантиметру, берег залива Антонжиль, облазил гору, на которой Беневский построил форт Августа, даже попробовал копнуть лопатой землю – ведь Маурицы жил здесь, за стенами форта – все бесполезно, ничего не нашел.
«Ныне там, понятно, непроходимый, лес, – написал он, – а на склонах – мальгашские плантации гвоздики, и это все. Ничто не напоминает о Беневском».
Я же был на Мадагаскаре через полвека после поисков Фидлера и, конечно же, тем более ничего не мог отыскать там – даже тени следов, отзвука, отсвета их.
«Как-то я пригласил учителя Рамасо на чай, – сообщал в своей книге Фидлер. Рамасо, как я понял, учил уму-разуму детишек в школе селения, основанного Беневским и считался просвещенным человеком. – Историю Беневского он преподносит по французским учебникам. Других историй, местных, он не знает. Гора Беневского хранит молчание. Во всем этом есть какая-то нелепая, тревожная загадка. Нынешние мальгаши совершенно не помнят истории Беневского, не знают ни легенд, ни былин о нем. Я пытался узнать о Беневском в Мароанцентре – ничего, расспрашивал в Амбинанитело – никаких следов».
Впрочем, учитель Рамасо пытался объяснить Фидлеру эту странную забывчивость (мягко говоря) по-своему. Он стал ссылаться на традиции своего родного племени.
«– Бецимисарки знают точно, что делал даже самый отдаленный предок, зато они совсем равнодушны к делам чужих, – терпеливо втолковывал Рамасо. – Беневский не создал мальгашской семьи, здесь у него нет наследников по крови, вот память о нем и предана забвению».
Наверное, учитель был прав, с другой стороны, ему было неприятно, что уважаемого гостя так сильно огорчает столь незначительная вещь, как память. Прошлое ушло – и ладно, нечего тревожить его, гораздо главнее – настоящее, а еще главнее – будущее.
– У Беневского нет потомков, которые напоминали бы о его деятельности, – такое заключение сделал учитель Рамасо.
Ну что ж, это – нравственная позиция, а позицию принято уважать, даже если она и не очень-то нравится.
В России же к прошлому относятся совсем по-иному, остро реагируют на больные тычки, приносящиеся оттуда. Впрочем, все зависит от человека, от того, как он воспитан и каков у него уровень внутренней культуры – не показной, той, что находится на поверхности, а – глубинной, внутренней. Если культура – «культур-мультур», то тут до совести вряд ли достучишься и сочувствие, а тем более понимание вряд ли у человека найдешь…
По-разному к Беневскому относились и в России. Официальная власть в большинстве своем относилась, в общем-то, никак, но если бы он попал в руки к какому-нибудь губернатору, то, несмотря на это «никак», тот задумываться бы не стал, мигом отправил бы на виселицу; простой народ, что-то слышавший о нем от коробейников, торгующими легкой мануфактурой и железными наперстками, или от бродячих певцов, разносящих новости от деревни к деревне, относился с симпатией.
Сам Беневский к официальной России относился пренебрежительно и часто позволял себе выпады в ее адрес. При этом совершенно не думал о том, что иногда перегибает палку и напраслину возводит не только на государство, но и на народ, задевает верного своего ученика Устюжанинова, других людей, близких к нему.
Видать, считал Беневский по старинке, что лес рубят – щепки летят, и ничего страшного, что пара щепок попадет в Устюжанинова. А леса было вырублено много.
Спустя полвека после случившегося в Большерецке, на Камчатке, появился один из великих русских мореплавателей Головнин, жил там некоторое время, услышал довольно много рассказов о Беневском, которые из уст в уста передавали аборигены, не поленился и записал их, затем сравнил с текстами самого Беневского, изданными Магелланом, нашел уйму не только несовпадений, но и фактов, противоречащих друг другу.
Будучи толковым литератором, Головнин написал книгу, где специально отметил, что Большерецк стал известен просвещенной Европе только благодаря «повествованию графа Беневского, одного из польских конфедератов».
Но…
«Я видел в Камчатке много стариков из природных русских, которые очень хорошо помнят Беневского и тогдашнее состояние Большерецка, – специально подчеркнул Головнин, сделавшийся, кстати, к концу жизни адмиралом. – Сравнивая от них услышанное с повествованием Беневского, видно, что в нем нет и одной трети правды. Надеясь, что в Европе ничего не знают о Камчатке, он лгал без всякого стыда: ему хотелось только показать, что он сделал великое дело».
Впрочем, дальше следовали и добрые слова. Вот они.
«Но если бы он и правду написал, то и тогда довольно было бы чести его уму и отважности! Первым он сумел несколько десятков всякого состояния ссылочных и людей распутных удержать от раскрытия заговора, продолжавшегося несколько месяцев; и, не быв мореходцем, мог он постигнуть сам возможность достигнуть из Камчатки в Китай, а последняя помогла ему предпринять и совершить столь опасное морское путешествие без всяких пособий, кроме карты, приложенной к вояжу адмирала Ансона».
Талантливый был человек Маурицы Беневский, отчаянный, но небезрассудный – им двигали совершенно иные внутренние силы. Это очень хорошо разглядел руководитель тайной канцелярии – тогдашней госбезопасности, – князь Вяземский.
Он считал, что Беневскому совершенно безразлично, что с ним произойдет, будет он жить или через несколько минут окажется мертвым – жизнь свою он почти не ценил, как не ценил и смерть…
Князю Вяземскому даже показалось, что он совершил некое открытие, раньше такие люди ему не попадались… Надо заметить (ради истины), что не попадались и позже. Беневский являл собою очень редкий тип человека.
Сейчас на Мадагаскаре о Беневском знают немного больше, чем, скажем, в пору Фидлера – его имя можно найти уже в энциклопедии… Но все равно фигура эта изучена недостаточно, в ней таится много неведомого.
Как не изучены и люди, сопровождавшие его с Камчатки, пытавшиеся принести на Красный остров свободу, в том числе и Устюжанинов.
Впрочем, думаю, вряд ли появятся новые материалы – слишком много воды утекло с той поры, слишком плотные напластования «культурных слоев» образовались наверху – не раскопать. И это печально.
Сноски
1
По другим сведениям Винблада звали Адольфом или Августом, в разных источниках имя дается по-разному.
(обратно)2
Остров Хоккайдо.
(обратно)3
Канторович «По Советской Камчатке» (Москва, 1931 г.).
(обратно)4
Эта история была подробно описана Владимиром Балязиным в книге «Дорогой богов».
(обратно)5
Студеным морем в ту пору называли Северный Ледовитый океан.
(обратно)6
А. Фидлер. Горячее селение Амбинанитело.
(обратно)
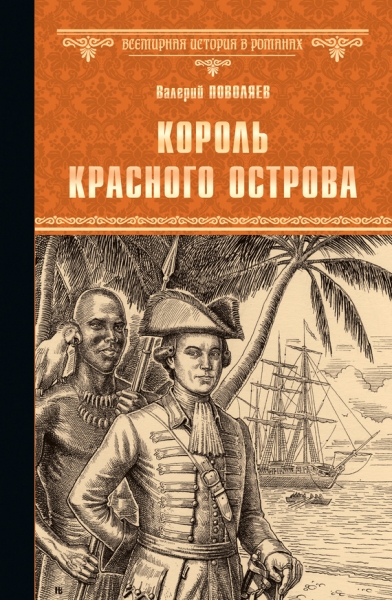
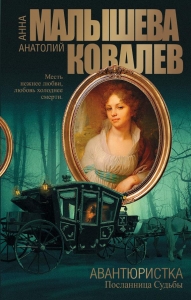


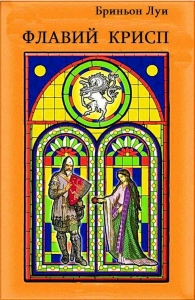
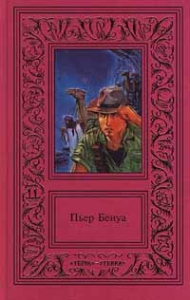
Комментарии к книге «Король Красного острова», Валерий Дмитриевич Поволяев
Всего 0 комментариев