Валерий Поволяев Лесная крепость
Лесная крепость
Если во cне Чердынцев видел дорогу, уходящую к задымленному горизонту, к неровной полосе леса, откуда в любую минуту могли выскочить немецкие мотоциклисты, темные однообразные кусты, обрамляющие не только большаки, но и тропки, в которых не живут птицы, такие кусты растут едва ли не вдоль всех путей-дорог России, и их много, насквозь пропитанных пылью, грязью, бедой, то сон его невольно делался схожим с болезнью.
При виде дорог, кустов, недоброго неба, далёкого леса, облаков, похожих на летящие самолёты, Чердынцеву прямо во сне начинало больно сжимать грудь, он громко кашлял, словно бы пытался вывернуть самого себя наизнанку, до остатка, мучительный кашель этот заставлял его обязательно проснуться.
Проснувшись, Чердынцев некоторое время лежал в темноте неподвижно, вглядывался в потолок землянки, начинал вспоминать недавнее прошлое, людей, в том числе и напарника своего, маленького солдата с великой русской фамилией, стычки с фрицами, различные эпизоды из тяжёлой окруженческой жизни, и ему делалось легче.
Хорошо, что Ломоносов проделал вместе с ним этот путь, не отступился, не нырнул в кусты – лежит маленький солдат в соседней землянке, видит свои сны. В них тоже, наверное, возникают разные картинки из бесконечного пути, который они проделали сюда, в край лесов и болот, от самой границы, хлебнули всего по самое горло – хлебнули, но не захлебнулись, – и путь, который они проделали вместе сюда, им придется когда-нибудь проделать и обратно… Другого не дано.
В груди, там, где сердце, под ключицами, в легких, в животе возникала тяжесть, она давила, давила, здорово давила… Лекарств от неё не было никаких, да и Чердынцев уже знал, что лекарства в таких случаях не помогают, да и не это главное.
Главное другое – прошлое, о котором он всё время думает, недавнее прошлое, оставшееся позади, наука, которую они получили, отступая к своим, как рванулись от границы двадцать второго июня, так и не смогли догнать своих до самой зимы – немцы шли быстрее их.
В результате приходится зимовать в этих лесах. Ну, а что касается прошлого… то прошлое должно перекрыть будущее, то самое будущее, в котором они сломают глотку врагу. Должны сломать.
Конечно, ни Чердынцев, ни маленький солдат, ни Мерзляков, ни Геттуев, ни те люди, которые находятся рядом с ними в партизанском отряде, этого сделать не смогут, не одолеют просто, зато смогут сделать все, собравшись вместе. Только вместе. Иначе разрушить чудовищную машину, прикатившую на их землю, не удастся никак: слишком уж она могуча.
Вот и снятся тяжёлые, усталые сны, будто напоминание о былом, о том, как они отступали.
Но ничего, ничего-о… Придёт время, и они будут наступать, в это лейтенант Чердынцев верил твёрдо.
Разные моменты из фронтовой жизни вспоминались, виделись во сне Чердынцеву: и то, как он светлым июньским вечером прибыл в штаб пограничного отряда, чтобы проходить службу после училища – прибыл за несколько часов до войны, совсем не зная, не предполагая, что скоро все и начнётся, и как они с маленьким крепкоплечим бойцом Ломоносовым добирались до разбитой, целиком погибшей заставы, на которую лейтенант Чердынцев получил назначение замбоем – заместителем начальника по боевой части, и то, как они потом уходили на восток, как плутали по лесам, голодали, как убегали от танков, преследовавших их, и как попали в плен к своим, таким же окруженцам, что и они сами, и обрадовались: наконец-то влились в боеспособную, хотя и отступающую часть. Но радовались рано – старший лейтенант, командовавший окруженцами, сдал своих подчиненных немцам. Всех, скопом. За несколько буханок хлеба. Помогала старшему лейтенанту в той операции его походная подружка с диковинным именем Асия. Асия Шичко. Уходить пришлось с боем.
Зима застала отступающих недалеко от районного центра со старинным названием Росстань. Там в лесу, на неприступном берегу реки они выкопали землянки и организовали партизанский лагерь[1].
Лейтенант Чердынцев стал командиром отряда, бывший интендант Мерзляков – комиссаром.
Как-то Мерзляков, человек уже немолодой, много повидавший, неожиданно спросил у лейтенанта, есть ли у того мечта.
Чердынцев подумал, подумал и подтверждающе наклонил голову.
– Есть. Хотя сейчас совсем не время об этом говорить.
– Какая же?
Но лейтенант не был склонен продолжать разговор.
– Как-нибудь потом расскажу, – пообещал он.
– Потом, так потом, – не стал настаивать Мерзляков.
А мечтал Чердынцев о простом, о том, что может быть в голове у всякого молодого человека: о любви, о встрече со своей невестой. Невеста у него была, осталась в Москве. Наденька Шилова, студентка медицинского института. Эх, Наденька, Наденька… Где ты сейчас находишься? Знать бы! И удастся ли когда-нибудь встретиться с тобой? Случится это или нет, известно было только на небесах. Впрочем, одно было хорошо в их «осадном» положении – отряду Чердынцева удалось наладить связь со своими, с Большой землей, со штабом партизанского движения, и сейчас они ожидали прибытия самолета из-за линии фронта…
Радист и женщина-врач были сброшены с парашютами на нескошенное пшеничное поле в восьми километрах от отряда Чердынцева. Чердынцев вместе с разведчиками отправился сам встречать дорогих гостей из партизанского штаба. Хорошо будет, если эти гости задержатся в отряде как можно дольше – надо будет попросить полковника Игнатьева, чтобы так оно и было, – ведь без связи, без врача отряд будет неполноценной боевой единицей.
День выдался прозрачный, ветреный, к вечеру в пепельном морозном сумраке Ломоносов вместе с разведчиками зажёг два костра. Как и было оговорено.
Вскоре послышалось неуверенное, слабое громыхание, и над лесом возник появившийся с восточной, затенённой до черноты стороны небольшой двухмоторный самолёт.
Самолёт пропахнул на низкой высоте над полем, затем, сыто пророкотав двигателями, развернулся и снова прошёл над полем. В воздухе заколыхалось несколько парашютов с подвешенными к ним прочными прорезиненными мешками.
Поскольку ветер уже стих, то разброс у приземлившихся мешков был небольшой, собрали дорогой груз быстро, самолёт тем временем сделал третий заход, метров на триста выше первых двух, из приоткрытого чёрного нутра вывалились две фигуры. Парашютисты. Приземлились они мастерски – между двумя кострами: вначале мужчина, одетый в чёрный овечий полушубок, потом женщина – тонкая, как стебелёк, гибкая, с бледным точёным лицом.
Чердынцев как увидел её лицо, так невольно зажмурился – очень уж женщина была похожа на Наденьку Шилову. Но нет, Наденька никак не могла оказаться здесь – это раз, и два – приземлившаяся женщина, несмотря на сходство с Наденькой, всё-таки была старше её.
Первым к приземлившимся кинулся маленький солдат – он всегда в таких случаях оказывался самым проворным, отряхнул снег с полушубка врачихи, потом – с полушубка мужчины.
– Живы? Всё в порядке? Не поломались?
Мужчина, не слушая Ломоносова, напряжённо вытянул голову – на шее даже жилы вздулись, – глянул в одну сторону, потом в другую, пробежался глазами по резиновым мешкам.
– Там рация! Проверьте, как она. Не пострадала?
В мешках тех сверхпрочных много чего, кроме рации, было напихано плотно, вплоть до новогодних подарочных наборов фабрики «Рот фронт» и полусладкого «Советского шампанского».
Радист, косолапя, утопая в снегу по колено, ринулся к мешку с рацией, ощупал чёрный железный бок передатчика, вздохнул облегчённо.
– Тьфу! От сердца отлегло! – Ощупал рацию ещё раз, выпрямился и, по-военному вскинув руку к шапке, назвался: – Радист Петров. А кто будет командир отряда?
– Я командир. – Чердынцев присел на корточки перед рацией, также ощупал её руками – слишком дорогой ценностью было это для партизан, очень уж нуждался в ней отряд, улыбнулся довольно и поднялся с корточек. – Лейтенант Чердынцев.
Врачиха, услышав его фамилию, побледнела ещё больше, лицо её сделалось неверящим и скорбным одновременно, глаза округлились.
Она сбросила с себя парашютные лямки, которые не решалась скинуть с плеч до последней минуты, вытянулась и произнесла едва слышно:
– Женя…
Чердынцев то ли не разобрал, то ли не услышал своего имени, вновь в лихом ловком движении приложил руку к шапке:
– Лейтенант Чердынцев!
– Женя! – вторично произнесла женщина в армейском полушубке, и Чердынцев виновато оторвал руку от виска – он словно бы не хотел видеть то, что видел, вернее, кого видел, помотал головой отрицательно:
– Нет! Не может быть…
– Не нет, а да, Женя, – сказала женщина в армейском полушубке.
Ломоносов той порой подтащил к ней мешок с медикаментами.
– Это ваш?
– Мой, – коротко ответила женщина.
– Лекарства, – с почтением произнёс маленький солдат, огладил мешок ладонью, но врачиха не смотрела на дорогой груз, как не смотрела и на Ломоносова, она смотрела на Чердынцева, узнавала и не узнавала его. Лейтенант, ощутив, что внутри у него вспыхнул жаркий огонь, вздохнул хрипло, затяжно и шагнул к врачихе:
– Надя!
Это была Наденька Шилова…
Вот такие иногда случаются встречи, они вообще с каждым человеком случаются. Хоть раз в жизни, но случаются обязательно. Чердынцев обхватил Наденьку за плечи, прижал к себе, потом зарылся лицом в воротник её полушубка, ощутил тонкий нежный дух, идущий от густого, коротко остриженного меха, от Наденькиной шеи, от её волос, покачнулся неожиданно – слишком непрочно стоял он в этот момент на земле, слишком неожиданной была для него эта встреча.
– Надя… – вновь молвил он и умолк – больше ничего не сумел сказать, у него словно бы чем-то закупорило горло, зажало его, в висках возникло тепло – так всегда бывало в детстве, когда ему хотелось заплакать.
Рядом растерянно топтались, месили снег при свете двух угасающих костров радист Петров и маленький солдат, они понимали и одновременно не понимали, что происходит… Чердынцев очнулся, зашевелился, поцеловал Наденьку в щёку, выпрямился.
– Всё, пошли на базу… – Ладонью он разогнал пар, искристым облачком вымахнувший у него изо рта, поправился: – Домой пошли.
Наденька, услышав это, улыбнулась невольно.
– Вот ведь как – домом может быть не только московская квартира…
– Да, Наденька… – Чердынцев в невольном порыве ухватил её под руку, поцеловал запястье. – Да. Пройти нам, кстати, предстоит довольно много – восемь километров.
На краю поля, где партизаны встречали гостей, неожиданно раздалась автоматная очередь, за ней вторая. Потом громко бухнула винтовка – явно не немецкая, а наша трёхлинейка, затем вновь прострекотала автоматная очередь, попробовала разорвать морозное пространство, но не сумела – слишком крепко спёкся леденеющий воздух. Чердынцев сдёрнул с плеча автомат, взвёл затвор, тот масляно клацнул, поддался неохотно – смазка на морозе загустела, сделалась клейкой, не одолеть, – крикнул маленькому солдату:
– Уводи отсюда скорее людей, Ломоносов! Нас засекли!
– Вот мать честная! – Ломоносов выругался. – Хорошо, хоть груз уложить успели.
Мешки были уложены на волокуши и перетянуты верёвками.
– Ты куда, Женя?! – тонко, как-то надорванно, будто её подсекла пуля, вскрикнула Наденька.
– Я догоню вас. А вы уходите! Уходите скорее! Мы вас прикроем. – Чердынцев бегом устремился к краю поля, на выстрелы, следом за ним, утопая по щиколотку в снегу, устремились ещё пять человек – личная гвардия командира партизанского отряда.
– Опоздали фрицы! – удовлетворённо произнёс Ломоносов. – Пусть теперь лижут нашу задницу!
Грубо сказано, но точно. Ломоносов спешно повёл гостей на другой конец поля, за ним бегом потянулись разведчики с волокушами, оставляющими на снегу широкий след да взвивающуюся в воздух хрустящую серую пыль.
Чердынцев на бегу засёк передвигающиеся по закраине тёмные фигуры, по суетливости движений, по поспешности, которая бывает дозволена при отступлении, но никак не в бою, по частой пальбе, которую вели эти фигуры, понял – это полицаи, и дал по ним очередь из «шмайссера». Бил наугад, на авось, совершенно не рассчитывал, что пули дотянутся до бегущих целей, но расчёт оказался верным – пули всё-таки дотянулись до неприятных фигур, до Чердынцева донеслись крики, два человека на бегу ткнулись в снег и не встали, остальные беспорядочно рассыпались по закраине.
Стрельба раздавалась и справа, в темнеющем углу поля, где Чердынцев выставил пост охранения. Хорошо, что пост он догадался сделать усиленным, а вообще-то надо было его усилить ещё больше и дать бойцам ручной пулемёт.
Но если бы да кабы, росли б тогда во рту грибы, и был бы тогда это не рот, а целый огород, и не надо было бы ходить в лес, искать грибы, а потом заботиться, чтобы они не пропали – зажарить их или засолить. Тьфу, и откуда только принесло этих продажных обормотов? В том, что это были полицаи, Чердынцев уже не сомневался. Но наверняка с ними есть и немцы.
В сугроб в полуметре от Чердынцева воткнулись несколько пуль, снег пронзительно зашипел, отплюнулся холодным светлым паром, Чердынцев упал на землю, отполз немного в сторону и снова поднялся на ноги. Послал в тёмные, опять начавшие мельтешить фигурки очередь, бойцы из личной гвардии поддержали командира огнём, мельтешня на закраине разом прекратилась – тёмные фигурки попадали в снег и сделались невидимыми.
Конечно, противника неплохо было бы уничтожить совсем, но для этого надо иметь побольше силёнок, ещё – и пару-тройку пулемётов да и время для маневра… Впрочем, задача такая перед партизанами не стояла, задача была другая: встретить прибывших товарищей и благополучно доставить их на базу. На саму базу ни немцы, ни полицаи сейчас не сунутся – до тех пор не сунутся, пока болото не промёрзнет хотя бы метра на три, а это произойдёт не раньше, чем месяца через полтора…
Чердынцев вновь дал очередь по возникшим в темноте поля, очередь была короткой – кончились патроны. Чердынцев поспешно сменил рожок. Люди, находившиеся на закраине поля, ответили, несколько пуль по-воробьиному чиркнули, проносясь над самой головой лейтенанта.
Он вдруг подумал о том, что его могут убить. Ранее такая мысль никогда не приходила в голову, а сейчас пришла. И он понимал, в чём причина. Очень будет обидно погибнуть сейчас, когда Наденька прибыла в его отряд. Чердынцев засёк новые вспышки на закраине поля, дал по ним очередь, ствол «шмайссера» пополз вверх, будто живой, – попался рожок с усиленными зарядами, лейтенант чуть опустил автомат, и пули точно накрыли чёрный ночной пятак, украшенный приплясывающими оранжевыми глазками чужих выстрелов.
Глазки исчезли.
Через несколько минут он добрался до охранения, по снегу перекатился в утоптанное углубление, где лежали двое партизан.
– Все целы? – просипел надорванно. Бегать и ползать по снегу – дело нешуточное, трудное.
– Один раненый, остальные все целы.
– Кого ранило?
– Игнатюка знаете?
– Конечно.
– Его вот…
– Надо срочно выносить его из-под огня.
– Пока нет такой возможности… Видите, на всякое шевеление они бьют из автоматов. И бьют, гады, плотно.
Чердынцев перевалился через край углубления, по снегу перебрался в следующее гнездо, где находился раненый Игнатюк, с ним трое партизан, возглавляемых Ерёменко. Ерёменко своей привычке решил не изменять – вновь обрил голову наголо, хотя зачем брить её, когда стоят такие морозы, лейтенант не понимал, холодно ведь. Игнатюк находился в сознании. Чтобы не стонать, он закусывал губы, жевал их, обнажая крепкие блестящие, с правой стороны испачканные кровью зубы. Лейтенант тронул его рукой:
– Как чувствуешь себя?
– Пока держимся, – с трудом просипел Игнатюк, стиснув челюсти.
– Держись, браток, скоро эвакуировать тебя будем, – пообещал Чердынцев, – чуть осталось… Как только темнота наступит.
В ответ Игнатюк сипло, выворачивая себя наизнанку, застонал – а может, и закашлялся, – на лбу у него вздулись жилы.
– Потерпи немного. У нас в отряде теперь врач есть! Свой, – успокаивающе проговорил Чердынцев. – Умереть тебе не дадим… – Лейтенант ощутил, как у него невольно задёргалась щека: не надо было произносить слово «умереть», такие слова – вообще табу, когда имеешь дело с ранеными, но делать было нечего, слово это вылетело… Чердынцев вскинул автомат и дал очередь по двум фигурам, уползавшим с поля, уже перевалившим через закраину, но сделали это запоздало – Чердынцев опередил их.
Впрочем, попал он или не попал, разобрать было трудно, всё уже стала поглощать быстро наваливающаяся вечерняя чернота. Огонь стал слабеть. Через десять минут Чердынцев скомандовал:
– Отходим! Первым уносим раненого. Два человека – со мной, будем прикрывать отход.
Старое нескошенное поле покинули благополучно: стрельба стихла совсем, и одной и другой стороне было жаль впустую жечь патроны. Игнатюка вынесли, и он, «рыжий, рыжий, конопатый», был первым человеком в отряде, которому врач Надежда Шилова оказала медицинскую помощь: вытащила пулю из предплечья, перевязала и потребовала от командира отдельную землянку для «медсанчасти». Командир подивился Наденькиной напористости и землянку выделил.
Они сидели вдвоём и пили чай с роскошным печеньем московской фабрики «Рот фронт» – Чердынцев и Наденька Шилова, двое влюблённых друг в друга людей, вспоминали прошлое. Верно говорят, что без прошлого нет настоящего, без него невозможно и будущее, – эти двое вспоминали прошлое, Москву, безмятежные походы в кино, светлые майские вечера, пахнущие сиренью.
– Москву ты не узнаешь, она стала совсем иной, – сказала Наденька, подняла алюминиевую кружку, подержала в руке, бережно, словно шампанское, отпила немного. – Москва стала суровой, как никогда. Тёмные окна, заклеенные бумажными полосками, патрули на улицах, в небе аэростаты. Ничего от безмятежного прошлого, Женя, совершенно ничего. Жёсткий военный город. Если патрули встречают на улице хулиганов, грабителей – расстреливают на месте. Потом приходит специальная машина, подбирает трупы. Я сама видела…
Чердынцев прижал к себе Наденькину голову.
– Лучше бы ты этого не видела. К маме моей не заходила, не общалась?
– Нет. По-моему, она эвакуировалась. Москва ныне совсем пустая. От прежнего числа жителей остались, думаю, лишь пятая часть. А может, и того меньше. Большинство эвакуировались. За Урал, в основном. В Среднюю Азию. Артисты, насколько я знаю, уехали в Ташкент. Писатели – в Алма-Ату.
– Хотел бы я написать письмо отцу с матерью. Только как оно дойдёт?
– Штаб партизанского движения, думаю, это сделает…
Военная гимнастёрка сидела на Наденьке, как влитая, и очень ей шла. Зелёные защитные петлицы, по два жестяных, окрашенных в такой же защитный цвет лейтенантских кубаря, медицинская эмблема: чаша с заглядывающей в неё змеёй, широкий комсоставский ремень, ладно подогнанные по ноге меховые сапоги – всё это делало Наденьку взрослой и очень привлекательной. Хотя в памяти Чердынцева, в его мозгу прочно запечатлелось недавнее прошлое, Наденька в нём не была взрослой, не могла просто, была худенькой инфантильной девчонкой, до потери сознания любившей своего отца, Москву, библиотечную тишину, мороженое, красную пузырчатую газировку с вишнёвым сиропом, первомайские демонстрации, глубокомысленные дискуссии, а также дежурства во время практики в больнице, когда она оставалась одна на несколько палат и помогала больным… Милосердие, желание облегчить страдания, утишить боль, вернуть хворому человеку сон в бессонную ночь, поднести в мензурке лекарство, всё это было не только в крови у Наденьки, это составляло часть её сути.
Чердынцев никак не мог поверить в то, что видит её, что жизнь неожиданно сделала ему такой королевский подарок и вообще совершила такой зигзаг, свела вновь двух людей, которым, может быть, уже и не было дано встретиться. Лейтенант зарылся в Наденькины волосы и спросил запоздало – собственно, он должен был давно задать вопрос, но не задавал, что-то останавливало его:
– Как отец?
Далёкий жалобный стон возник у Наденьки внутри, плечи её опустились.
– В сентябре ушёл в ополчение, – наконец ответила она, – больше я ничего о нём не слышала. – Несколько мгновений она боролась с собой, потом произнесла с сырым вздохом: – Запросы ничего не дали… Знаю только, что ополченческий батальон, с которым он отправился на фронт, погиб почти полностью… – В Наденьке снова возник и исчез стон.
Лейтенант погладил её по голове, поправил прядь волос, потом вторую, произнёс тихо, тщательно подбирая слова:
– Ещё не всё потеряно. Раз нет официального извещения, значит, не убит. Может быть, жив, но не может дать о себе знать. Как я, например. Я же до сих пор не могу подать о себе весть.
– Официальное извещение, о котором ты упомянул, называется похоронкой. Похоронки – это самое тяжёлое, что есть ныне в жизни Москвы. М-м-м… – Наденька выпрямилась, в ней словно бы что сломалось, сорвалось, она сейчас пыталась сопротивляться самой себе, но не могла – вспомнив отца, она едва сдерживала подступившие к глазам слёзы.
– Верить, что отец жив, надо… Веру терять никак нельзя, – проговорил Чердынцев чужим голосом, подивился тому, что сказал, – не его были эти выспренные слова, не его… Чьи – он не знал.
– Хорошо здесь у тебя, – задумчиво произнесла Наденька, уходя от воспоминаний и слушая, как трещат дрова в печке, как гудит труба, выведенная из землянки не прямо, а двумя хитрыми коленами (сделано это было специально, с одной стороны, для маскировки, чтобы дым впитывался в землю, а с другой, чтобы тепло не улетало из жилья со скоростью свиста), как поскрипывает уютно, по-домашнему ласковый чёрненький сверчок, неведомо откуда взявшийся и поселившийся в выковырине за самодельным столом. – Даже не подумаешь, что идёт война…
– Она где-то идёт, не здесь, – не очень-то ловко и складно проговорил Чердынцев, – здесь её сегодня нет. А завтра может быть…
– Скажи, Женя, я могу с твоими бойцами сходить на операцию? – задала Наденька неожиданный вопрос, который Чердынцев не сразу и понял.
– На какую операцию? – спросил он недоумённо.
– Ну-у… С подрывниками, с разведчиками.
– Нет. Это категорически запрещено.
– Кем?
– Полковником Игнатьевым. Знаешь такого?
– Знаю, – нехотя ответила Наденька, шевельнулась, отстраняясь от Чердынцева, – довольно суровый полковник. Ходит в форме НКВД.
– Видать, всех партизан причислили к этому ведомству, – сказал Чердынцев, – к НКВД. – Ему важно было отвлечь Наденьку от разных глупых мыслей и желаний, от походов на боевое задание, от дурацкой, извините, тяги увидеть живого врага… Этого ещё не хватало… Лучший враг – мёртвый враг.
– Не мог Игнатьев такое распоряжение дать. Вообще-то он мужик, конечно, суровый, но такое распоряжение дать не мог.
– Это тебе кажется – не мог. А на самом деле мог и дал его.
– Глупое распоряжение!
– Полковник так не считает.
– Я к нему сама обращусь по рации за разрешением.
– Имей в виду – я буду против. – Чердынцев вновь зарылся носом в волосы Наденьки, чмокнул губами в завиток, прикрывавший шею, и замолчал.
Молчание прервала Наденька, шевельнулась обеспокоенно:
– Ты чего затих?
– Думаю.
– О чём? О Москве?
– О тебе.
– Весьма похвально. Даже более чем похвально. И что же у тебя в мыслях?
– Наденька, выходи за меня замуж! – неожиданно сдавленным, каким-то деревянным шёпотом произнёс Чердынцев.
Наденька съёжилась, сделалась совсем маленькой, беззащитной, будто школьница, проговорила тихо:
– Господи!..
– Я серьёзно предлагаю… Я не хочу больше терять тебя!
– Господи! – вновь произнесла Наденька, повернулась к Чердынцеву, глаза у неё были влажные и встревоженные. – Да ты и не терял меня!
– Это тебе так кажется. А мы с Ломоносовым отступали от самой границы, много раз попадали в разные передряги, иногда казалось – всё, уже не выберемся… Но везло – в живых остались, и я не потерял тебя…
– Остаться в живых на войне – это главное.
– Не это, Наденька, не это… Главное – остаться неискалеченным. С руками, с ногами, с глазами. Умереть не страшно, страшно быть инвалидом.
Наденька на это не отозвалась, только плечи у неё дрогнули раз-другой и опустились низко. В печушке продолжали потрескивать дрова, по сухой, кое-где прижатой ошкуренными жердями стенке земляного жилища бегали светлые блики, сверчок, разогревшийся в тепле, блаженствовал, тянул свою бесконечную скрипучую песню.
– Надо попросить разведчиков, чтобы притащили откуда-нибудь патефон, – сказал Чердынцев. – Уже забыл, как поют Козин, Утёсов, Козловский.
– Артисты сейчас сколачиваются в бригады и разъезжаются по фронтам. Появились новые песни, Женя…
– Надо полагать. Но я их не слышал.
– Люди здорово изменились. Беспечных, счастливых лиц, как до войны, уже нет.
У Чердынцева затекла спина, хоть и лёгкой была Наденька, а прислонилась к нему – и тяжело сделалось, но Чердынцев боялся пошевелиться, даже вздохнуть боялся, чтобы не потревожить Наденьку. Он вообще боялся спугнуть судьбу: ведь то, что Наденька очутилась в его отряде, – подарок судьбы. Очень дорогой подарок… Но что скажет Наденька в ответ на предложение? Чердынцев втянул в себя воздух, затих, буквально зажав его зубами. Наденька спросила:
– Ты чего так тяжело дышишь?
– Совсем не дышу. Жду от тебя ответа.
– Ах, Женя, Женя, – с упрёком произнесла Наденька, повернулась к Чердынцеву, приложила палец к его губам. – Не говори больше ничего, ладно?
– Почему?
– Потому что я согласна…
Это были счастливые для Чердынцева дни. По рации – теперь у отряда была своя рация! – он запросил у партизанского начальника Игнатьева разрешение на брак с Наденькой, полковник же изумился шустрости молодого командира отряда, но добро дал: человеком он был хоть и суровым, но очень неглупым, понимал, что на войне может произойти всякое, в том числе и поспешное бракосочетание, так что чего ему перечить и ломать мимолётное счастье своих подопечных?
Перечить и ломать чужое счастье он не стал…
Из партизанского штаба по этому поводу передали двадцатилитровую канистру спирта-ректификата и тяжёлую, чёрного благородного стекла бутылку «Советского шампанского» с личной поздравительной запиской полковника.
Стол накрыли в командирской землянке. За посажёного отца был Мерзляков. К роли своей он отнёсся серьёзно – как к выдвижению на пост первого секретаря райкома партии. Конечно, весь отряд в землянку вместить было невозможно, но посменно, поочередно, с заходом в гости на несколько минут можно было пропустить всех – каждый мог опрокинуть «наркомовскую» стопку за командира и врачиху, которая пришлась отряду по душе: и обходительная она, и вежливая, и лечить умеет. А что может быть главнее для воюющего человека, чем осознание, что, если он будет ранен, продырявлен вражеской пулей, ему не дадут умереть… Когда есть уверенность в этом, то и пули бывают не страшны.
Мерзляков заметил, что кроме посажёного отца на всякой свадьбе должен быть дружка – человек, близкий к жениху, как должна быть и подружка – товарка невесты.
Насчёт дружки определились сразу – маленький солдат, – а вот насчёт товарки дело обстояло сложнее. Женщин в отряде не было. Если только пригласить из райцентра Октябрину, но это – штука невозможная, нарушение всех правил, о райцентровских помощниках никто не должен знать…
– А нельзя ли это место оставить вакантным? – спросил Чердынцев у комиссара.
– Не положено, – важно ответил тот, разгладил усы.
– Ну нельзя же на этот ответственный пост назначать мужчину… – Чердынцев засмеялся. – Нелепо это… Да и к чему всякие дружки и подружки – война ведь.
– Мужчину? – Мерзляков запоздало нахмурился. – И это не положено.
– Значит, обойдёмся без дружек и подружек, – решительно заявил Чердынцев.
Мерзляков пробовал настоять на своём, но Чердынцев, как Чапай, лихо рубанул рукой воздух, и комиссар отступил.
Когда откупорили шампанское и налили его в стакан Наденьке, Чердынцев предупредил набившихся в землянку бойцов:
– Только не вздумайте орать «Горько»!
Бойцы заулыбались плотоядно – все, как один, и гаркнули дружно, в общем воодушевлённом порыве:
– Горько!
Чердынцев нахмурился:
– Я же просил вас, товарищи… Не вгоняйте меня в краску.
– Горько! – раздалось в ответ ещё более громкое.
Пришлось Чердынцеву подчиниться народным массам – он наклонился к Наденьке и произнёс ей на ухо, тихо-тихо, так, что никто более не услышал: «Я тебя люблю!», потом поцеловал её. Он стеснялся происходящего, бойцов своих, Мерзлякова, и Наденька тоже стеснялась…
Через десять минут состав бойцов сменился: одни выпили спирта, закусили тушёнкой, хлебом и солёными огурчиками, доставленными из деревни, поблагодарили командира с его молодой женой и ушли, на их место заступили другие… Новый состав также слитно, дружно, в одну глотку заорал: «Горько!» Чердынцев не выдержал, вздохнул:
– Мужики, не мучайте нас с Надеждой Ивановной! Ну, пожалуйста!
– Нет, командир, пока не поцелуешься, не отпустим, – светясь рыжей головой, громко проговорил Игнатюк, – кричать будем.
Пролежал он в землянке, отведённой под лазарет, недолго, Наденька быстро подняла его на ноги, рана у Игнатюка затянулась, и он начал ходить, – сегодня был первый день, когда он вышел на улицу. Судя по бодрому голосу, через неделю Игнатюк уже будет готов отправиться на новое боевое задание.
– Горько! – оглушительно выбил из себя Игнатюк. – Горько! – Тут командир глянул на него так выразительно, что Игнатюк перешёл на сип и закашлялся, но форса не растерял, выколотил кашель в кулак и, улыбаясь во весь рост, прокричал вновь: – Горько!
Вот настырный хохол! И как только ему кричать не больно, ведь ранен же…
Чердынцев нагнулся к Наденькиному уху, поцеловал в завиток волос, спрятанный за маленькой розовой мочкой, и прошептал едва уловимо – он по-прежнему стеснялся своих бойцов:
– Я тебя люблю!
– Горько!
Чердынцев осторожно, словно бы обращался с ценным хрупким хрусталём, поцеловал Наденьку в щёку, потом в уголок рта, обнял её за плечи и поднял алюминиевую кружку:
– За вас, бойцы! За то, чтобы мужество никогда не покидало вас!
– За нашу советскую Родину! – азартно прокричал Игнатюк.
Что было, то было, этот простой лозунг считался одним из самых популярных в сорок первом – сорок пятом годах. По популярности с ним мог соперничать лишь отчаянный крик, который звучал во время штыковых атак под свист немецких пуль: «За Сталина!»
Все бойцы побывали в тот вечер в землянке командира, все подняли «наркомовскую» пайку за Чердынцева и его жену, некоторым, наиболее проворным, досталось даже по две пайки.
Ночь была тихая, мглистая – ни одной звёздочки не было видно, – где-то, конечно, и были видны сонные серебристые сколы, и радовали чью-то душу, но не здесь… Здесь свет звёзд угасал на полдороге.
Неподалёку выли волки – их напугала война, и они стаями покидали места, где часто звучала стрельба и рвались гранаты, уходили в глухие леса, но там им нечего было есть, и волки вновь потянулись в заселённые, обжитые края, где и люди были, и скот был – желанная пожива для серых. Вой их наводил тоску – не думал Чердынцев, что свадьба его будет проходить под такой аккомпанемент.
Впрочем, звучала не только волчья музыка. В самый разгар торжества маленький солдат подал сигнал разведчикам, и те внесли в землянку открытый патефон с пластинкой, поставленной на диск. Ломоносов поднял руку, прося тишины, принял ношу и водрузил патефон на середину стола.
Поскольку стол был маленький, то патефон, обтянутый чёрным тусклым дерматином, занял едва ли не половину пространства, хотя среди стаканов и кружек с разведённым спиртом, банок с тушёнкой и кусков хлеба, нарезанных крупно, с мужицкой щедростью, он выглядел вполне уместно.
Ломоносов поклонился молодожёнам:
– Примите на добрую память от разведчиков!
Указательным пальцем он поддел рычажок тормоза, и диск патефона тяжело и неспешно закрутился, Ломоносов удовлетворённо кивнул и поставил на пластинку головку, увенчанную большой глазастой мембраной, будто короной. Из-под иглы послышалось шипение, затем возник голос, которого многие из собравшихся не слышали уже очень давно, голос этот, молящий, печальный, заставляющий учащённо биться сердце, невольно выбивал из глаз слёзы.
Если мы расстанемся с тобою, Помни обо мне, Если будешь счастлив ты с другою, Помни обо мне…Пела Кето Джапаридзе. Господи, неужели, кроме войны, существует ещё какая-то жизнь, и они ею жили, совсем не думая о том, что придётся браться за оружие и стрелять в других людей, у которых тоже своя жизнь, были радости и светлые дни, и они ни о чём не думали… Наденька украдкой смахнула что-то с одного глаза, потом с другого.
Жаль, пластинок было мало – только одна, но и одна она подняла настроение: без Кето Джапаридзе и праздник не был бы праздником, а свадьба – свадьбой.
Даже волки, облюбовавши себе место за болотом, перестали выть – услышали молящую печальную песню.
Кто может ответить – вернётся безмятежная довоенная жизнь или нет? Чердынцев прижал к себе Наденьку. Как бы там ни было, он сделает всё, чтобы её защитить, чтобы чёрные месяцы лихолетья промахнули мимо, не задели её. Это будет, конечно, трудно, но лейтенант готов был принести себя в жертву, чтобы Наденька не познала даже вкуса беды, не говоря уже о самой беде.
По рации от Игнатьева, пробившись сквозь треск и завывания метели, пришло тревожное распоряжение: «В районе города Калинина идут тяжёлые бои. Немцы беспрестанно атакуют. По вашей ветке движутся основные эшелоны с подкреплением, все – в район Калинина. Необходимы свежие данные: сколько эшелонов проходит в день, какая техника стоит на платформах, сколько людского состава находится в вагонах. Необходимо активизировать подрывную деятельность». Чердынцев вызвал к себе маленького солдата, протянул ему бумагу с расшифрованным текстом:
– Читай!
Ломоносов, по-детски шевеля губами, прочитал, ярко полыхнул пунцовыми щеками.
– Держится, значит, Россия?
– Ещё как держится! И впредь будет держаться.
– Я так понял, товарищ командир, надо собираться в поход на железную дорогу?
– Правильно понял. И группе Бижоева – тоже.
– Это само собою разумеется – куда же мы без бикфордова шнура?
– С вами пойдёт прикрытие – взвод Геттуева.
– Геттуева уважаю, – серьёзно проговорил Ломоносов, в светлых глазах его заплясали, задвигались крапинки. – Надёжный товарищ, с таким можно и водку пить, и коней воровать, – добавил он.
– Готовься, Ломоносов, – сказал лейтенант, протянул к печушке стынущие пальцы: морозы прижали так, даже в жарко натопленной землянке было холодно, а на улицу вообще нельзя было высунуть нос, но высовывать надо было, иначе кто же будет бить фрицев? Не медведи же с волками. – Обязательно возьмите с собой топлёного сала, – приказал Чердынцев.
Из Тишкина им передали целую миску топлёного почерневшего сала, которым хорошо лечить обмороженные места, да и натираться им, прежде чем выйти на мороз, тоже невредно – помогает здорово…
– Без этого мы – никуда… – Маленький солдат улыбнулся, слизнул языком капельку крови, проступившую из трещинки на нижней губе, потрогал губу пальцем – вот он, очередной укол мороза.
Утром партизаны, уходившие на железную дорогу, выстроились на речном берегу, под грядою заснеженных сосен – отсюда открывался отличный вид, от которого внутри что-то сжималось невольно: сиреневая снежная даль с провалами, образованными извилистым руслом Тишки, зеленоватая, в белесость, щётка хвойного леса, смыкающаяся с небом, мутное красное пятно, плавающее в выси, – отсвет солнца. Простая картина, ничего в ней выдающегося вроде бы нет, а за душу берёт.
Чердынцев прошёлся вдоль строя, вглядываясь в лица. Не ведал он, все ли бойцы вернутся обратно, и сами они не ведали этого… Понимал лейтенант – надо сказать какие-то напутственные слова, и он скажет их обязательно, но не знал, как начать эту речь, с какого обращения, с какого доходчивого сердечного слова – одного-единственного?
Обратиться к ним «бойцы!» – это будет казённо, сухо, «товарищи!» – тоже не бог весть что, хотя само слово «товарищ» – надёжное, доброе, противостоит барскому словечку «господин»… Есть и ещё слова, другие, но какие именно, лейтенант не знал, их словно бы выдуло из головы, вот ведь как.
– Друзья! – произнёс он негромко и почувствовал, как мороз перехватил ему глотку. – Из штаба партизанского движения пришла хорошая новость – немцы под Москвой разбиты наголову и откинуты на добрую сотню километров. Это только начало! Дальше мы будем бить ещё жёстче, ещё сильнее, до тех пор будем бить, пока не выпроводим всех их за пределы нашей Родины. Нечего им делать у нас. Победа не за горами. Но к ней ещё надо прийти. Поэтому и отправляетесь вы сегодня на задание, которое получено из штаба: произвести детальную разведку на железной дороге – это раз, и по возможности пустить под откос воинский состав с фрицами – два. Задание опасное, но почётное. Помощь от него фронту будет ощутимая.
Чердынцев говорил, а про себя думал – не те слова он всё-таки произносит, слишком много в них сухого, казённого, газетного, от пропагандистов, которые читают мораль трудягам перед началом рабочего дня и в перекур, не те слова он рождает всё-таки… И Мерзляков вряд ли родил бы те слова – это трудно.
Через несколько минут группа, ведомая маленьким проворным Ломоносовым, ушла, Чердынцев же не покидал берега речки, прозванного остряками «плацем», до тех пор, пока в заснеженном лесном пространстве не скрылся последний человек.
Ушли бойцы на задание, и на душе разом сделалось беспокойно, начала грызть тревога: всё ли будет в порядке с людьми, все ли из них вернутся?
И лагерь с уходом группы здорово опустел, куда ни глянь – глухо закрытые двери землянок, будто заколоченные, и ни одного человека около них.
Днём засекли немецкий самолёт, низко летевший над речной поймой. Над далёким лесом самолёт развернулся и неспешно отправился в обратный путь – опять над речной поймой.
– Может, попробовать его из пулемёта? – предложил Мерзляков, озабоченно пощипывая кустистые, густо разросшиеся усы.
– Бесполезно. Только себя обозначим. А так он вряд ли что разглядит со своей верхотуры. Деревья да деревья. А что между деревьями – не больно-то и поймёшь.
– А я бы саданул по нему, – не согласился с командиром Мерзляков, – чтобы знал, где можно летать, а где нет.
– Меня беспокоит другое, Андрей Гаврилович. Этот самолёт – разведчик. Если что учует, то, несмотря на нашу тщательную маскировку, за ним могут и бомбардировщики пожаловать. Надо подыскивать место для запасного лагеря и рыть там землянки.
– Надо, – не стал спорить комиссар. – Такова жизнь, как говорят мудрые люди…
– В общем, надо посылать людей на поиск.
– А не проще ли подождать Ломоносова, когда он со своими ребятами вернётся?
– Нет, не проще. У Ломоносова и без этого дел по горло.
Кое-какие намётки по части запасного лагеря у них уже имелись, они были сделаны ещё в ноябре, но всё это было не то. Нужно было отыскать такое место, чтобы и по земле к нему подобраться было трудно, и с воздуха его не было видно.
– Кого пошлём на это задание? – поняв, что Чердынцева насчёт разведчиков не переубедить, деловито спросил комиссар.
– Самого старого, самого опытного бойца из всех, что у нас есть, с ним двух человек. Пусть походят по земле, посмотрят, пальцами пощупают, понюхают, а потом доложат нам свои соображения.
– Согласен, – сказал Мерзляков.
Самым старым и самым опытным бойцом в отряде был дядя Коля – седоусый, с серебряными висками и морщинистым лицом сутулый партизан, прибравший к своим рукам хозяйственные дела. Фамилия у дяди Коли была странная, на фамилию совсем не похожая – Фабричный.
– Это прилагательное какое-то, а не фамилия, – смеялись над дядей Колей отрядные остряки.
Надо отдать должное дяде Коле – на подковырки и всякие насмешки он не обращал внимания совсем, лишь добродушно топорщил усы, разом становясь похожим на северного моржа, вылезшего из холодной воды погреться на освещённую весенним солнышком льдину.
– Прилагательное так прилагательное, – согласно кивал он, – я своей фамилией доволен. Ни у кого такой фамилии нет, а у меня есть… Завидуйте, громодяне!
– Ну что, пошлём на поиск дядю Колю Фабричного? – предложил Чердынцев.
– Человека-прилагательное? – Комиссар не выдержал, раздвинул губы в улыбке. – А что? Самое то будет. Хотя и не разведчик.
Утром дядя Коля вместе с двумя помощниками, взяв с собой запас еды и патронов, пристегнул к валенкам самодельные лыжи, чтобы не утонуть в снегу, и растворился в лесу. Чердынцев проводил его, никаких наставлений на прощание давать не стал, только приобнял Фабричного да молвил коротко:
– Мы с комиссаром на тебя, дядя Коля, надеемся.
Тот часто поморгал глазами, неожиданно сделавшимися влажными – ну будто покидал этот лагерь навсегда, – и поклонился по-старомодному учтиво.
– Постараюсь не подвести.
– Осталось нам, Евгений Евгеньевич, ещё одну группу отправить куда-нибудь, и всё – лагерь совсем пустой останется, – сказал Мерзляков.
– Не останется, комиссар, не боись. Даже если нас не будет – другие найдутся, займут наши места.
Через четверо суток с железной дороги вернулась группа Ломоносова. Несколько человек в группе поморозились – кто нос, кто щёку, кто ухо, подчерёвочное сало не помогло. Но это было ничто по сравнению с тем, что двое партизан остались лежать на шпалах железной дороги.
– Немцы опыт обрели, научились, – сказал Ломоносов, – видать, их везде бьют и в хвост и в гриву… Теперь они перед паровозом платформу с пулемётом пускают, а то и пару платформ – те выкашивают всё подозрительное, снег выскребают до самой земли… В общем, попали мы под пулемётный расклад, не убереглись – двух человек я потерял.
– Кто это? – коротко спросил Чердынцев.
– Гордеев и Кофман.
Знал их Чердынцев плохо – в отряде они появились в конце ноября, особо себя ничем не проявили и вот на первом же задании угодили под пулемётную очередь, пущенную с платформы, обложенной туго набитыми песком мешками.
Ломоносов покусал жёсткие, в трещинах и заусеницах губы.
– Движение на дороге такое плотное, что машинист поезда, идущего сзади, видит хвост переднего состава, к полотну не пробраться. – Маленький солдат покусал губы вновь. – Но мы изловчились, подобрались… Фейерверк устроили – один эшелон пустили под откос.
Чердынцев не удержался, шагнул к Ломоносову, обнял его. Похлопал ладонью по спине:
– Вот это, Иван, хорошая новость, молодец! Поздравляю!
– Побольше бы таких новостей! – патетически воскликнул Мерзляков, присутствовавший при докладе.
– Эшелоны, которые шли к Москве, переписали, все до единого… Технику, которая стояла на платформах, грузовые вагоны, пассажирские – словом, всё, всё, всё, товарищ командир. – Ломоносов вновь облизал губы, покачнулся, Чердынцев увидел, что он едва стоит на ногах – так устал. – Через полчаса готов положить вам на стол бумагу с подробным перечислением.
– Может, ты полчаса поспишь, а уж потом положишь бумагу?
– Нет, вначале я доложусь, а потом со спокойной душой выпью сто граммов и завалюсь спать.
– И это верно, Иван. Ты садись, садись. – Чердынцев подвинул маленькому солдату скамейку. – В ногах правды нет…
– Это ещё не всё, товарищ командир. Есть одна интересная новость.
– Выкладывай.
– В Росстани появился новый начальник полиции.
– Чего ж тут интересного, Иван? Он и должен был появиться. Взамен выбывшего не по собственной воле… – В глазах лейтенанта промелькнуло насмешливое выражение, уголки губ дёрнулись – вспомнил прежнего начальника.
Ломоносов прищурился жёстко, будто заглядывал в прицел винтовки, крапинки в светлых глазах его сжались, сделались крохотными, как маковые зёрна.
– Баба это, товарищ командир, – произнёс он, – и вы её знаете…
– Знаю? Откуда, как? Ничего не понимаю, Ломоносов.
– Помните, нас однажды на дороге задержала группа солдат – такие же они были, как и мы, отступающие? Командовал ими старший лейтенант, то ли связист, то ли артиллерист… помните?
– Левенко была его фамилия. Ушёл в деревню за продуктами и привёл немцев.
– Он же был не один, помните? Около него всё время фельдшерица отиралась – то ли Нюся, то ли Ася, то ли Муся, то ли ещё как-то…
– Помню её. Красивая такая женщина. Похожа была на греческую богиню.
– Вот её-то немцы и привезли откуда-то. И назначили начальницей полицейской управы района.
Чердынцев не выдержал, присвистнул изумлённо:
– Вот тебе, бабушка, и серенький козлик! Ещё тогда, похоже, подобралась парочка, баран и ярочка.
– Ничего, товарищ командир, – успокаивающим тоном произнёс маленький солдат, – ярочку отправим туда же, куда и барана. Парочка не должна разлучаться.
– Погоди, Ломоносов, надо посмотреть, как она поведёт себя… А вдруг это какой-нибудь наш агент, внедрённый к немцам?
– Ну вы и скажете, товарищ командир! Может, она вообще за свою работу в немецкой полиции будет награждена орденом Красной Звезды?
– Такого не скажу, Ломоносов, но всё может быть… А вообще новость ты принёс непростую. Это что же выходит, немцы настолько отощали в кадрах, что даже баб стали себе на службу брать?
– Бабы бывают более упёртые, чем мужики. Если зациклятся на чём-нибудь, то в сторону ни за что не свернут… И не колеблются – не то что иные мужики. Но взять бабу на та-акую должность, товарищ командир…
Вечером во время сеанса связи Петров отстучал в партизанский штаб сведения, которые принесла группа Ломоносова. В ответ пришло короткое, деловое, будто речь шла об урожае морковки на колхозном поле: «Поздравляю! Игнатьев».
– Ну что ж, и на том спасибо, – сказал Чердынцев, подержав в руках бумажку с полковничьим поздравлением, достал из кармана трофейную костяную зажигалку, подаренную ему маленьким солдатом, хотел было сжечь сообщение, но Мерзляков удержал его.
– Я понимаю, Евгений Евгеньевич, это очень противное дело – всякая переписка, бюрократия, канцелярия, бумажки и прочее, но тем не менее я бы канцелярию всю эту сохранял – мало ли что! Когда-нибудь наступит момент – и они понадобятся.
Наверное, Мерзляков прав. Чердынцев помедлил немного, глядя на синеватое пламя зажигалки, потом щёлкнул головкой, гася его. Молча протянул бумажку с текстом комиссару. Тот готовно перехватил листок.
– Вот-вот, – сказал он, – я для этой цели специальную папку приготовил, скоросшиватель из-под сельсоветских документов, в него мы эту ценную бумагу и подошьём.
Для группы, вернувшейся с успешного задания, вечером накрыли стол. В одну землянку, естественно, не вместились, накрыли в двух. Хоть и скудны были партизанские харчи и выпивки особой не было – только немного спирта, а праздник получился, людям это понравилось, и комиссар с молчаливой поддержки командира решил сделать такие «посиделки» регулярными.
– Это то самое, что нам надо… – Он отогнул большой палец левой руки, вознёс над рогулькой щепоть правой руки, выразительно помял пальцами воздух, потёр ими друг дружку – так обычно посыпают солью еду, – и добавил: – Это сплачивает коллектив.
Через несколько дней в лагерь пришло печальное сообщение: в Росстани полицаи задержали партизанскую связную Таню, бросили в старый холодный подвал, расположенный под управой – и здание, и подвал были возведены до революции здешним купцом Масловым для хранения привозных заморских вин, – там её пытали, а через сутки вывели на площадь, расположенную недалеко от маслобойни, на казнь.
Руки Тани были скручены за спиной проволокой, на лице – засохшие кровяные струпья, телогрейка была заскорузлой от крови, поблескивала, будто железная кольчужка, на груди болталась подвешенная на пеньковом шпагате фанерка. На фанерке – надпись, сделанная густым чёрным дёгтем: «Партизанам – смерть».
Таня была спокойна, к месту казни шла ровным, хотя и ослабшим шагом – во время пыток её, конечно, измучили сильно, издевались над ней, на мёртвенно белом лице жили лишь глаза – тёмные горящие угольки.
Когда Чердынцеву рассказали об этом, он чуть не застонал – вспомнил, какие тонкие, изящные руки были у неё, с длинными музыкальными пальцами, совершенно детские, да и сама она была ещё ребёнком, обычным подростком, ещё не устоявшимся, не окрепшим, не уверенным в себе.
Таню привели к виселице, под ноги поставили табуретку, принесённую из конторы маслобойни, заставили на эту табуретку забраться.
Таня молча забралась на возвышение, глянула поверх голов людей, собравшихся на площади, в темнеющую сумрачную даль. Что она там увидела, было непонятно, только на лице её неожиданно появилась детская обрадованная улыбка.
Немцы, находившиеся рядом с ней, изумлённо переглянулись – не ожидали увидеть улыбку на лице человека, приговорённого к смерти, потом потупили головы, словно бы им стыдно стало, что они не смогли сломать эту слабую тоненькую девчонку, у которой сил-то – тьфу, на одно дуновение ветра, но которая сейчас выглядела сильнее их. Единственный человек, который поглядывал на неё с победным видом, была начальница управы Ассия Шичко. По документам она была Асей, а не Ассией – странное какое-то имя при простонародной, занюханной – судя по всему, местечковой – фамилии…
Шичко выстроила в каре подопечных полицаев, подошла к коменданту, лихо вскинула руку к виску:
– Герр гауптман…
Ася немного знала немецкий, гауптман немного знал русский – для объяснения, чтобы понять друг друга, им хватало. Комендант поправил на голове фуражку с меховыми наушниками, сквозь зубы втянул в рот морозный плотный воздух, прополоскал им челюсти и заговорил:
– Великая Германия, придя в Россию, совершила милосердие. Мы принесли вам цивилизацию, культуру, вы должны быть благодарны нам за это…
Шичко, стоявшая недалеко от гауптмана, широко, по-хозяйски расставив ноги и закинув руки назад, покивала головой – так, мол, это, всё верно, гауптман её кивки засёк, улыбнулся, приподняв аккуратную, словно бы приклеенную к верхней губе нашлёпку усов. Он подражал Гитлеру, и нашлёпка усов у него была, как у Гитлера: квадратная, наодеколоненная (отчего комендант не ощущал никаких других запахов), плотная, как собачья шерсть.
– Но вы не есть благодарны, – продолжал свою речь комендант, – а потому мы должны вас наказывать. Вот эта женщин, – ткнул он рукой в сторону Тани, продолжавшей смотреть поверх голов в даль пространства и улыбаться, собравшиеся бабы ёжились, глядя на эту неземную улыбку, – есть враг Великой Германии. А врагов своих мы уничтожаем. Так мы поступим и с эта женщин. – Он снова ткнул рукой в сторону Тани, потом повернулся к начальнице полиции. – Приступайте, госпожа Шичко.
– Телиться, извините за выражение, мы не будем. – Шичко подтянула на руках кожаные перчатки. – Мы без церемоний, раз – и готово!
Она подошла к виселице, примерилась и резким ударом сапога выбила из-под ног Тани табуретку. Бабы, неотрывно глядевшие на партизанскую связную, едва сдерживали грудной стон – не ожидали, что всё так быстро произойдёт. Улыбка исчезла с лица Тани, голова подломилась набок, и худое избитое тело закачалось на верёвке.
Комендант негромко и очень неторопливо похлопал в ладони:
– Браво, госпожа Шичко!
Шичко готовно наклонила голову.
– Стараемся ради Великой Германии, герр гауптман!
Три дня Танино тело висело в петле, а потом вечером, в темноте, неизвестные сняли его – тело исчезло бесследно. Комендант разъярился не на шутку, кричал так, что его было слышно на другом конце райцентра:
– Виноватые будут жестоко наказаны! Отыскать их!
Поиски ни к чему не привели – тело партизанской связной пробовали искать даже с собаками, но всё было бесполезно: в Росстани под руководством Октябрины Пантелеевой действовала целая подпольная группа. Танино тело было спрятано в лесу, а через неделю, когда всё утихло, похоронено на кладбище райцентра.
– Друзья, запомните это место, – сказала Октябрина тем, кто находился с нею на кладбище, – когда прогонят немцев и кончится война, на Таниной могиле будет установлен памятник.
Было темно, в домах райцентра – ни одного огонька, лишь около комендатуры тускло светил прикреплённый к столбу фонарь, раскачивался из стороны в сторону, то пропадал, то возникал вновь, будто подавал сигналы, отбивал морзянку, на небе также не было ни одного огонька – темно и холодно там, а в чёрном лесу, в километре от кладбища, голодно и одиноко выл волк.
По команде Октябрины спутники её начали расходиться. Это в большом городе подполье может действовать, особо не остерегаясь, там полно разных неприметных закутков, готовых спрятать подпольщика, а в маленьком городке, в посёлке либо в райцентре, больше похожем на деревню, чем на приметный населённый пункт, работать тяжело, опасно – здесь и укромные места все наперечёт, и дворняга каждая может гавкнуть на подпольщика и выдать его немцам…
Но подполье в Росстани действовало.
Октябрина возвращалась домой и думала о Шичко: кто она такая? И вообще откуда берутся подобные люди – неужели их рожают женщины? Октябрина дошла до крайнего дома, встала за угол, вгляделась в тёмную бездонь улицы. Ничего на улице и никого – пустая, да и сам райцентр будто вымер: пустой, совершенно пустой, ни одного человека. Она прислушалась: может, жёсткий, промороженный до стеклистости снег где-нибудь хрупнет, подаст голос под нажимом неосторожной ноги?
Нет, было тихо. Октябрина, прижимаясь к стенкам домов, двинулась дальше. Конечно, и с немцами здешними, и с этой пьянью – полицаями можно поквитаться, достаточно только сообщить в партизанский отряд Чердынцева, своими силами подпольщикам, увы, не справиться, но и самим тоже не следует сидеть сложа руки. Нужно… нужно выпустить листовку – на смерть партизанской связной Тани. Пусть полицаи во главе со своей новоиспечённой начальницей малость задумаются. Октябрина огорчённо качнула головой – листовку надо было выпустить неделю назад, сразу после казни, и как только ей не пришла в голову такая простая мысль?
Примчавшийся из темноты ветер вымел из-под ног мелкую крошку, поднял её наверх, жёсткой горстью кинул в лицо, едва не окровенив щёки. Октябрина нагнула пониже голову, притиснула к лицу руку в варежке.
На улице по-прежнему ни одного человека. И ни одного огонька.
До дома она добралась без приключений – так ей никто и не встретился, и хорошо, – нырнула в тёплые сенцы и там, прислонившись к стене, немного отдышалась. Перед глазами плавали, медленно перемещаясь с места на место, какие-то странные желтоватые кольца.
Она сбросила с ног валенки, на которые были натянуты галоши, чтобы валенки не растаптывались, подхватила их в руки, в шерстяных носках прошла в дом. Хозяйка, у которой она снимала комнату, морщинистая старушка с гладко причёсанной головой, в которой не было ни одного седого волоска, приподнялась на своей постели.
– Где же ты, родимая, была? Неужели нашла себе молодого человека?
– Нашла, бабушка Вера, – стараясь придать голосу весёлое выражение, отозвалась Октябрина, – не ругайся, пожалуйста.
– Это хорошо, Октябрина. Не то такая молодая, красивая – и всё одна да одна… Хватит быть одной.
– Война, бабушка Вера.
– Война войной, а жизнь жизнью. Война не есть конец жизни, – произнесла бабушка Вера мудрёную фразу и, похоже, сама удивилась тому философскому фортелю, который сочинила на ходу. – Тебе надо детей рожать, а не о войне думать…
– Всему своё время, бабушка.
Утром к Октябрине пришли две подружки, две сёстры-близняшки Проценко, Вета и Вита, которым Октябрина в десятом классе преподавала литературу, втроём они от руки написали пятьдесят листовок.
Текст был простым, как и предложение к жителям Росстани, оно тоже было простым: люди, поднимайтесь на борьбу с захватчиками – не ходила Россия под чужой пятой, а если и ходила, то старалась быстрее избавиться от неё, врагам давала по шее и пинками выгоняла за пределы родной земли, только волосья из чубов под ноги убегавшим сыпались… Надо дать по шее и сейчас!
Ночью листовки разбросали по Росстани, часть наклеили на заборы, а сёстры-близняшки вообще подвиг умудрились совершить – одну листовку наклеили на дверь полицейской управы, чтобы начальнице было чем полюбоваться, вторую – на столб около комендатуры. К самой комендатуре подойти не удалось – там маячил часовой.
Утром Шичко собралась устроить разнос своим подчинённым – одну из листовок ей положили на стол, – но не успела, примчался переводчик коменданта.
– Мадам, вас вызывает шеф, – запыхавшись, сообщил он, подышал на покрасневшие пальцы. – Холодно в вашем краю.
– Не холоднее, чем в вашем, – сдвинула губы в улыбке начальница полиции. – Герр гауптман – злой?
– Не могу сказать, что настроение у него благодушное, скорее… – Переводчик замялся, подбирая нужное слово, вновь подышал на пальцы.
– Скорее, хреновое… Так?
– Так, мадам.
– Это связано вот с этим? – Она двумя пальцами, будто препарированную лягушку, подняла листовку, лежавшую перед ней на столе, встряхнула.
– Может быть, – неопределённо отозвался переводчик и, тяжело шаркнув ногами, исчез из кабинета.
Шичко глянула ему вслед осуждающе – и отчего это мужик не научится легко ходить, – со вздохом стала собираться к гауптману.
У гауптмана на столе тоже лежала листовка, написанная на тетрадочной страничке в клеточку красивым девчоночьим почерком. Когда начальница полиции вошла к гауптману, тот даже не поднялся со стула, хотя всегда старался быть вежливым. Нажав на кнопку звонка, пригласил в кабинет переводчика. Шичко поняла, что словарного запаса, который знают она и гауптман, для объяснения будет недостаточно. Похоже, дело пахнет керосином… Шичко запоздало вскинула руку к меховой чёрной шапке, украшенной длинным прямым козырьком:
– Герр комендант!
– Герр, герр… – зло пробурчал комендант. – Я с утра был герром, – прозвучало это у него неприлично, – и вечером буду герром, а вот как насчёт вас – не знаю.
Шичко выпрямилась:
– Как скажете, так и будет, герр гауптман.
Комендант ткнул пальцем в листовку – звук получился громкий, будто палец у него был деревянный.
– Что это? – Комендант колюче глянул на начальницу полиции. Шичко благоразумно промолчала. – Молчите? Ладно… Чтобы найти тех, кто это написал, даю вам три дня.
– Три дня мало.
– Росстань – посёлок небольшой, чтобы найти этих неразумных школьниц, – он снова ткнул деревянным пальцем в листовку, – одного дня хватит… А я слишком щедрый, даю вам целых три – это очень много времени!
Вот такой неприятный состоялся разговор.
– Идите и выполняйте! – сказал на прощание комендант.
«Школьницы, неразумные школьницы… А ведь наводку он дал правильную, – подумала Шичко, выйдя на крыльцо комендатуры, потуже натянула на руки перчатки. Ветер остудил её погорячевшее лицо, она стала лучше соображать. – Это делают школьницы, учащиеся… Скорее всего, действительно девчонки. Почерк, которым написаны листовки, – детский. Даже молодые доярки уже так не пишут. Со школы и надо начать поиск». Она решительно сбежала с крыльца вниз и, скрипя стеклисто снегом, понеслась в управу – надо было спешить, слишком мало времени ей дал герр гауптман…
– Жень, а нас не накроют немцы в этом лагере? – спросила Наденька мужа, с трудом разглядев во влажной темноте землянки его лицо. Лампа была погашена – берегли керосин.
Чердынцев сидел на лавке, свесив тяжёлые, натруженно гудящие руки к босым ногам, и что-то обдумывал, спать ещё не ложился.
– Не накроют, – ответил он Наденьке. – Прохода в болоте они не знают, а там, где можно пройти, стоят мины. Они, конечно, могут подсуетиться и вызвать летунов, чтобы разбомбить нас с воздуха, но и это непросто – лагерь с неба разглядеть трудно. Но ты правильно опасаешься – а вдруг? Поэтому я уже отправил на поиск опытного умельца, чтобы он подыскал нам место для запасного лагеря где-нибудь километрах в двадцати отсюда. Только вот… – Голос Чердынцева сделался озабоченным, лейтенант умолк, шевельнул кистями рук, наполненными тяжёлым гудом, и застыл снова.
– Чего – вот?
– Должен был человек этот, по фамилии Фабричный, вернуться ещё вчера, но он не вернулся…
– Может, в снегах застрял где-нибудь, а может, ушёл дальше, чем нужно было…
– С ним были ещё двое, тоже опытные, тоже не вчера родились… Уж могли бы втроём сообразить, что к чему, повернуть назад, если слишком далеко ушли или отклонились в сторону, выдернуть друг дружку из снега, коли завязли в нём… Тьфу!
– Не нервничай, Жень. Всё будет в порядке, главное – терпение.
– Вот чему я хорошо обучился, пока отступал от границы, так это терпению.
– Ложись спать.
– Да мне всё равно через полчаса вставать придётся – надо проверять посты.
– Мерзляков сделать это не может?
– Может, но Мерзлякову – Мерзляково, а мне – моё! – Хоть и возражал Чердынцев жене, а приглашение принял – притулился рядом с нею на краю топчана.
– Жень, а Жень, – прошептала едва слышно Наденька, обняла мужа одной рукой, притянула к себе.
– Ну?
– Ты знаешь… – Наденька задышала неожиданно часто, счастливо. – Ты знаешь… у нас, кажется, будет ребёнок.
– Ну-у-у… – Чердынцев вскинулся в темноте, прижал к себе жену. – Вот это здорово! – Он ошалело покрутил головой. – Только мальчика, пожалуйста… А?
– Не знаю, Жень. Это как получится.
– Мальчика, мальчика, мальчика! – Чердынцев поцеловал жену, потом поцеловал снова. Соскочил с топчана на пол, зажёг лампу – неровный жёлтый свет затрепетал, задвигался нервно по стенкам землянки, кое-где укреплённым для прочности (и для уюта тоже) ошкуренными жердями. Чердынцев вновь переметнулся на топчан. – Только мальчика, Надюш!
Наденька улыбнулась снисходительно: если бы можно было узнать, кто родится, мальчик или девочка? Но нет таких аппаратов, которые загодя, ещё до рождения, определяют, мальчик будет или девочка, когда-нибудь они, может, и появятся, а сейчас их нет, человечество ещё не изобрело… Чердынцев схватил Наденькины руки, подышал на них, потом прижал к губам пальцы. Выдохнул едва слышно:
– Ох, Наденька! – Встревоженно вгляделся в неё. – Ты не застыла?
– Нет. А что?
– Пальцы у тебя холодные. Пять тоненьких симпатичных ледышек на одной руке и пять тоненьких симпатичных ледышек на другой… Потому и спрашиваю. Дай, я их ещё погрею. – Он вновь поднёс Наденькины пальцы к губам, подышал на них. – Если бы мы были в Москве – отметили бы шампанским.
– Мы и здесь можем отметить. У меня есть медицинский спирт.
– Нельзя. Я командир, а ты… Выпивка может повредить сыну.
– В таком возрасте – нет.
Чердынцев снова лёг рядом с Наденькой, затих. Ощущения, которые он испытывал сейчас, ранее ему не были знакомы, он никогда не испытывал такого – это была смесь радости, внезапно нахлынувшей заботы, восторга, тревоги и ещё чего-то, очень сложного.
– Наденька, – прошептал он, в темноте нашёл её руку и опять прижал её к губам, потом прошёлся по каждому пальчику в отдельности, подышал на них теплом. – Пусть пальцы согреются быстрее. Давай вторую руку.
Наденька протянула ему вторую руку. Неожиданно Чердынцев услышал лёгкий, совершенно невесомый, неощущаемый и неслышимый всхлип.
– Ты плачешь? Что с тобой? – Чердынцев встревоженно приподнялся. – Что случилось?
– Не знаю… – Наденька снова всхлипнула, прижалась к мужу. – Наверное, от радости. Думаю, каждая женщина, впервые в жизни узнав, что у неё будет ребенок, плачет. Наверное, так…
– Наденька! – вздохнул Чердынцев нежно, он не знал, что надо говорить в таких случаях, да и вообще существуют ли подходящие для этого слова, скорее всего, нет, опять подышал на пальцы жены – ему хотелось, чтобы она всегда чувствовала себя с ним надёжно и вообще была за Чердынцевым, как за каменной стеной. – Надюша! – Шепот его сделался благодарным и – он сам услышал это – беспомощным.
Он не знал, чем подсобить, как оградить от войны крохотного младенца, у которого и разума ещё, наверное, нет, он ничего не смыслит, но всё понимает и всё чувствует. Чердынцеву сделалось страшно – даже колючие мураши по коже побежали. Страшно за малыша, который ещё не увидел света, за Наденьку – вдруг с ними что-то случится? Ведь всё-таки это – война, партизанский отряд. И не просто отряд, который сидит где-нибудь в болоте да из-под снега мороженую клюкву выкапывает, радуется каждому мёрзлому грибу – хорош будет в супе! – а отряд воюющий.
Худо-бедно, а диверсии на железной дороге имеются, счёт открыт, Бижоев готовится к очередной, маленький солдат тоже готовится – понравилось ему это дело, да и в прикрытии никто лучше не сработает… Чердынцев откинулся на спину, затих.
Они лежали рядом, лейтенант и Наденька, и молчали. Но как много было сокрыто в этом молчании – такое молчание бывает гораздо содержательнее и говорливее самых красивых и убедительных речей.
Было слышно, как наверху над накатом землянки завывает зимний ветер – пронесётся над землёй с самолётной скоростью, упрётся в стенку деревьев, о которую зубы обломать может кто угодно, не только злой и глупый ветродуй, и, раздосадованный, с хрипом и воем мчится обратно, да ещё слышен голодный голос волков. Волки, поселившиеся на болоте, не уходят отсюда, ничто их не пугает… Значит, есть причина.
– Наденька, – едва слышно, почти не шевеля губами, прошептал лейтенант, других слов он сейчас не знал, все слова, кроме имени жены, исчезли в эту минуту, он думал, что жена не услышит его, но она услышала, прижалась к Чердынцеву лёгким, почти невесомым телом.
– Господи, – прошептала она так же, как и Чердынцев, едва различимо, не разжимая губ.
– Наденька!
– Как хорошо, что ты у меня есть.
Чердынцев благодарно коснулся губами её волос, потом вновь поцеловал пальцы.
– Я всё никак не могу поверить в то, что мы вместе, что ты и я – одно целое, что всё происходящее – явь, а не сказка. С другой стороны, когда идёт война, какая может быть сказка? На войне сказок нет, плохо всем – и своим, и чужим…
Наденька вздохнула – она тоже успела познать, что такое война.
Фабричный пришёл утром – последнюю ночёвку со своими напарниками провёл среди волков, на дальнем краю болота, на опушке соснового бора, километров семь оставалось пройти, а идти Фабричный не решился, боялся в темноте заплутать.
Нос у Фабричного был обморожен – облупился, почернел, блестел, словно лаковый. Фабричный свёл к носу глаза и проговорил виновато:
– И на старуху, случается, нападают дождевые червяки, товарищ командир!
Чердынцев пожал ему руку.
– С возвращением! Остальные как, все целы? Не поморозились?
– Малость есть. Уж больно дедушка вызверился – кроме меня ещё один боец пострадал. А в остальном всё путём, в порядке.
– Почему задержались?
– Да увлеклись. Нашли три места для запасного лагеря. Два места хорошие, одно – очень хорошее.
– По карте показать можете?
– А как же! Само собою разумеется.
Конечно, на местности, среди снежных топей, в нагромождениях сосновых завалов, в гнетущем однообразии здешних ландшафтов Фабричный разбирался лучше, чем в самой понятной, доходчиво составленной карте, поэтому бывалый человек мигом вспотел, прислонил к облупленному носу какую-то серую от грязи тряпицу, промокнул розовый, пропитанный сукровицей пот, перевернул карту вверх ногами, потом возвратил в прежнее положение.
– Дык… дык… – Фабричный ткнул пальцем в синюю извилистую бечёвку, словно бы прилипшую к зелёному полю карты. – Это река наша? Тишка?
– Точно так, Тишка.
– От Тишки мы старались не удаляться, река была для нас привязкой. – Фабричный вспотел ещё больше, промокнул нос тряпочкой, по лбу прошёлся рукавом, повздыхал немного и в конце концов обвёл указательным пальцем кусок зелёного пространства. – Вот тут это.
– Все три места?
– Нет, только одно, самое лучшее, а два – чуть дальше.
– Немного дальше?
– Одно примерно на пять километров, другое – на семь.
– Тоже рядом с рекою?
– Рядом с рекою, товарищ командир. Река ведь для нас – и кормилица, и поилица, и защита надёжная, этого мы не забывали ни на минуту.
– Ну что ж, дядя Коля, через пару дней, когда малость оклемаетесь, пойдём смотреть… Добро? – Поймав утвердительный взгляд Фабричного, лейтенант усомнился в сроке и спросил: – Двух дней, чтобы оклематься, хватит?
– Думаю, хватит.
– Подойдите к комиссару, он вам нальёт по сто пятьдесят.
– Без вашего распоряжения?
– Распоряжение он уже получил.
Фабричный потоптался ещё немного, привычно вытер нос тряпицей и хотел было исчезнуть, как командир вновь обратился к нему:
– Дядя Коля, загляните к Надежде Ивановне, она вам какую-нибудь примочку или мазь от обморожения выдаст.
Фабричный скосил глаза на свой нос и пробормотал виновато:
– Да я на ночь погуще подчерёвочным салом смажу – к утру совсем другой коленкор будет. А за два дня вообще всё исчезнет, новая кожа вырастет. Пойду я… – Фабричный неуклюже, задом выбрался из командирской землянки, приподнял дверь, чтобы не скрипела – и она действительно не заскрипела, – потом также беззвучно прикрыл её.
Нужной мази у Наденьки не нашлось, она, как и все остальные, уверовала в подчерёвочное сало – лучшего снадобья, мол, нету, если только медвежий жир, но где возьмёшь медведя, здесь же не Сибирь, – поэтому Фабричный со своей командой с удовольствием хлопнули по сто пятьдесят водки, закусили тушёнкой, вывалив её из банок на алюминиевые немецкие тарелки, которыми партизаны обзавелись благодаря разведчикам, запили ужин чаем, наштукатурились подчерёвочным салом и улеглись спать.
Сало это они, конечно, брали с собою, но на морозе, при бестолковых лесных ночёвках, когда ночь приходилось коротать и под ёлкой, зарывшись в палую хвою, и под вывернутым дубовым корнем, и в яме, прикрывшись сверху лапником, чтобы было не так холодно, всякие процедуры да намазывания не помогали, носы всё равно норовили облупиться, как созревшие кукурузные початки, а вот дома, в тепле, подчерёвочное сало помогло очень даже.
К утру красный, лаково поблескивающий нос Фабричного перестал сочиться сукровицей, подсох и несколько увеличился в размерах. Наденька осмотрела дядю Колю и сделала вывод:
– Дело идёт на поправку.
– Так оно и должно быть. Через пару дней всё заштукуется. Как на собаке.
Не привык дядя Коля, чтобы с ним нянчились, как с дитятей в изнеженной семье, хотел было уйти, но Наденька сделала жест ладонью, придавливая партизана к скамейке, проговорила командным тоном:
– Поражённые места смазывать каждые четыре часа. Понятно?
– Да чего на меня продукт изводить – его и так мало осталось. Другим понадобится.
– Для других, если потребуется, ещё достанем. Кто с вами был ещё, дядя Коля, давайте их сюда!
От врачихи вышли наштукатуренные салом все трое, несколько ворон, поселившихся в лагере, проводили партизан завидущими глазами и, пока те не скрылись в землянке, возбуждённо щелкали клювами – очень уж вкусный запах исходил от этих людей.
А начальница полицейской управы устроила тем временем просеивание населения райцентра, совмещённое с проверкой на лояльность к германской власти, ей очень надо было узнать, кто же мог написать и распространить листовки.
В конце концов она оставила в списке двадцать четыре человека – двадцать одну девчонку и трёх пареньков, – в большинстве своём почерк на листовках был очень уж девчоночьим, ученически правильным, ровным, несколько же листовок, как разумела Ассия Робертовна Шичко, были написаны кем-то из мальчишек – слишком небрежно они были исполнены.
У неё, у начальницы полиции, те дни были не только заботами заполнены, но и радостью – с запада откуда-то, то ли из Белоруссии, то ли того дальше, из Литвы или Латвии, приехал её отец – сухой, тощий, прямой, как оглобля, мужчина с чёрной, без единой седой прядки шевелюрой и крупным, похожим на гигантский орлиный клюв носом.
Дочка по случаю приезда родного папеньки своим подчинённым даже послабление сделала – и кричала на них меньше обычного, и каждому определила по два выходных дня, чтобы отдохнули да в бане помылись… Но о деле своём главном, которое комендант держал на контроле, не забыла, согнала ребят, которых оставила в своём списке, в пустую холодную школу – новые власти возобновлять занятия в ней не думали, – рассадила их по партам, у дверей поставила двух полицаев с винтовками, чтобы никто не вздумал убежать из класса.
Небрежной походкой, будто заправская учительница, прошлась вдоль рядов, оставляя на каждой парте по выдранному из обычной школьной тетрадки листку, рядом клала карандаш, затем встала перед классом около доски и, оглядев всех, начальственно качнулась на ногах.
– Ну что, юные преступники, вздумавшие воевать с Великой Германией? Дураки вы, и родители ваши дураки… – Она вытянула шею, прислушалась к вою ветра, раздающемуся за окном. – Вверху на листках напишите свою фамилию и имя…
Начальница полиции выждала с минуту, привычно качнулась на ногах, с пятки на носок и обратно. Тишина в классе стояла такая, что было слышно, как у этих ребятишек под телогрейками бьются сердца. Начальница молчала. Ребята тоже молчали.
Напряжение росло, будто перед вынесением приговора. Шичко понимала это и улыбалась презрительно, холодно, потом достала из кармана свёрнутую в несколько долей бумагу, встряхнула её в руке.
Это была листовка.
– Пишите, – сказала Шичко, усмехаясь, – писатели! – Прочитала громко, с выражением: – «Дорогие товарищи земляки, граждане райцентра! Поднимайтесь на беспощадную борьбу с немецко-фашистскими оккупантами, мстите за каждого убитого советского человека, гоните врага прочь с родной земли!» Написали? – Шичко прошлась вдоль парт, заглядывая в тетрадочные листки: кто-то, особо не задумываясь над тем, что произойдёт дальше, написал, кто-то, наоборот, испуганно сжался, притих и даже не коснулся карандашом бумаги – за такие слова ведь не помилуют… Было страшно.
Красивое лицо начальницы полиции побледнело, сделалось незнакомым, она поправила перчатку на правой руке, поплевала в неё, потом со всего маху ударила кулаком по затылку невысокую худенькую девчонку с двумя косичками волос, брошенными на спину. Девчонка вскрикнула и ударилась лицом о парту.
Из носа и рассеченной брови у неё потекла кровь.
– А ты почему ничего не написала, сучка малолетняя?
Плечи у девчонки затряслись в беззвучном плаче, она, брызгаясь кровью, замотала головой – ошалела от боли. Шичко, боясь, что капли крови запачкают её одежду, поспешно отскочила в сторону, выругалась.
Следующий удар кулаком она нанесла пареньку, который явился в школу без шапки, шапки у него не было, на голову в виде неряшливой женской нахлобучки был натянут старый вязаный шарф; робкий паренёк этот так и не притронулся к карандашу и тетрадочному листку. Удар оглушил его – паренёк, не издав ни звука, в одно мгновение очутился под партой, в тесном пространстве.
Начальница полиции, даже не глянув на него, поправила перчатки на руках и проследовала вдоль ряда дальше, заглядывая в листки. Через несколько мгновений последовал ещё один лихой удар, за ним – испуганный вскрик и падение разом обмякшего, сделавшегося неуправляемым тела на пол.
Остановившись у доски, бывшая фельдшерица развернулась лицом к классу и брезгливо дёрнула ртом.
– Подберите вот этих… – Она небрежно ткнула перчаткой в поверженных ребят. – Диктую снова. Если кто-то не напишет и в этот раз – обижаться будет на самого себя. Понятно?
Полицаи, стоявшие у двери, переглянулись – похоже, будет работёнка и по их части. Спустить штаны с худосочного паренька и вломить ему по чреслам по первое число, чтобы память осталась на ближайшие пятнадцать лет, это они умели делать, а ещё лучше – содрать трусишки с какой-нибудь девчонки и тоже вломить… Это даже ещё лучше, девчонка – не мальчишка, тут и по иной части может кое-что обломиться… Ха-ар-рашо!
– Диктую снова, олухи, – раздражённо проговорила начальница полиции. – Те, кто зевнул, не написал – пишите, те, кто написал, напишите ещё раз. Дубьё деревенское! – В голосе Шичко прозвучало нескрываемое презрение. – «Дорогие товарищи земляки, запятая, граждане райцентра, восклицательный знак».
Стоявшие в дверях полицаи снова переглянулись – понимали, что сегодня обязательно будет работёнка… Правильно поступает Ассия – пора показать этим малолетним тараканам и их родителям, кто в районе хозяин.
Начальница полиции собрала исписанные листки, велела задержанных школьников запереть в соседнем классе (там на окнах стояли железные решётки, когда-то в том классе располагался военный кабинет, запах оружейной смазки, которая была обильно нанесена на стволы старых дырявых винтовок, сохранился до сих пор, из-за решёток кто-либо из этих огольцов вряд ли вылезет), сама ушла в управу изучать написанное.
Через три часа она вернулась в школу, велела остаться пятерым, в том числе близняшкам Вете и Вике Проценко, пятёрку эту увести в полицию, остальным же выдать для острастки по паре плетей и прогнать домой.
Угостить плетями малолеток было для полицаев удовольствием – райцентровскую ребятню они не любили: слишком уж с откровенным презрением те относились к людям, пожелавшим надеть немецкую форму, – исполнив приказ, полицаи прогнали всех домой, а пятерых задержанных перевели в управу и заперли в подвал. «Служебное» помещение это за многие годы сделалось сырым, отчаянно пахло клопами и крысиным помётом.
Клопов в подвале, правда, не было, а вот крысы имелись в изобилии – в сумраке усатые пасюки выползали из нор, нюхали воздух, не пахнет ли где съестным, потом по земляным и прочим ходам направлялись в другие помещения – ходы эти уводили их куда угодно, вплоть до чердака, оружейной комнаты и кабинета начальника полиции.
Через сутки Шичко доложила коменданту:
– Подпольщики, распространявшие листовки, найдены.
Тот вскинул одну куцую бровь.
– Кто же это?
– Вы были правы – обыкновенные школьники, имеющие тупых, враждебно настроенных к великому фатерлянду родителей.
Комендант опустил бровь, поморщился недовольно.
– Дети-и… А Германия с детьми не воюет. Это вы, русские, можете воевать с детьми, а мы, немцы, – нет.
– Вы не знаете этих детей, герр гауптман, – заводясь и повышая голос, проговорила Шичко, – эти дети умеют убивать лучше взрослых.
Комендант снова вскинул бровь и почесал её пальцем.
– Мы с вами не понимаем друг друга.
– Ну почему же… – Начальница полиции испугалась: а вдруг комендант изменит о ней своё мнение? – Понимаем, понимаем… Просто я русских детей знаю лучше.
– За детьми всегда стоят взрослые, вы же сами сказали, – наставительно произнёс комендант. – Ищите их! Они должны быть.
– Й-йесть искать! – Шичко вытянулась, щёлкнула каблуками.
Конечно, привязать взрослых к листовкам будет сложнее, взрослые начнут юлить, вертеться и всё отрицать, но не на ту напали они – Ассия Шичко выведет их на чистую воду. Войдя в свой кабинет, она приблизилась к зеркалу, висевшему на стенке в углу, глянула на собственное отображение – оно понравилось ей, Шичко подмигнула молодому красивому лицу…
Плохого настроения, оставшегося после разговора с комендантом, как не бывало, она села за стол, выгребла из ящика несколько листовок, которые удалось собрать в Росстани, затем достала тетрадочные листы, заполненные под её диктовку ребятнёй.
Она найдёт взрослых, которые укрываются за этими огольцами, отыщет, в какую бы потайную щель те ни заползли… Гауптман будет доволен.
Она просидела до двенадцати часов ночи и поняла, кто стоит за деятельностью этих райцентровских дурачков. Приказала привести к ней сестёр-близняшек, Вету и Вику. Пока сестёр извлекали из подвала, снова подошла к зеркалу, потянулась сладко.
Фигура у неё была всё та же, что и несколько месяцев назад, – девчоночья, тонкая, гибкая, и лицо всё то же, юное, хотя в уголках рта уже возникли, врезались в кожу две горькие морщинки-скобки. Ну словно бы ещё вчера она тоже была школьницей, сидела за партой, грызла немудрёные науки, которые положено одолеть всякому десятикласснику, потом были фельдшерское училище и комсомольский призыв в Красную Армию, на зов этот громкий она и клюнула, пошла – нравились ей армейская форма, пилотка, посаженная на густые волосы, – только не думала она, что так скоро начнётся война. Война всё смешала, жизнь сделала такой ошеломляющий зигзаг, что она ни в яви, ни в одури предположить не могла. Отсюда и морщинки-скобки… Хорошо, что хоть слёз они не вызывают.
В дверь раздался небрежный грубый стук, и грузный одышливый полицай с отёкшими слезящимися глазами швырнул в кабинет двух девочек. Они покорно распластались на полу и, боясь подняться, лежали, вывернув головы и глядя на начальницу полиции побитыми, украшенными синяками глазами.
Та помяла пальцами скобки около губ и, отвернувшись от зеркала, ощутила, что внутри у неё вскипает злой огонь. Взмахнула кулаком.
– Вста-ать! – Голос у неё не выдержал, надорвался, обратился в петушиный крик. Девочек испугал не сам крик, не злобный вид начальницы полиции, испугала эта самая фистула и ещё осознание того, что такие люди, как Шичко, не прощают свидетельств своей слабости – не себе самим не прощают, а тем, кто увидел это. Вета и Вика поспешно поднялись.
Шичко стиснула пальцы в кулак и ловким ударом – натренировалась – сбила с ног Вету. Та молча покатилась по полу и беспомощно растянулась в углу. Потом сбила Вику. Удар у этой тонкой красивой женщины был мужским.
– Вста-ать! – вновь резко и, как и минуту назад, срываясь на фистулу, прокричала Шичко.
Первой поднялась Вета, по лицу её текла кровь.
– Вста-ать, кому сказали! – не отрывая глаз от лежащей Вики, прокричала Шичко, Вету она словно бы и не видела.
Вика с трудом поднялась с пола.
– Кто у вас была самая любимая учительница? – Голос Шичко снова сорвался на петушиный фальцет, истончился, словно глотку у начальницы полиции перетянули петлёй. – Как её зовут?
Размазывая по лицу слёзы и кровь, Вика заплакала.
Через два дня смотреть место для запасного лагеря ушли четверо – сам Чердынцев, Фабричный, маленький солдат, который настоял, чтобы его взяли в этот поход – никто, мол, лучше разведчиков не сможет обследовать все подступы к лагерю и определить, удачно выбрано место или нет, и Еременко, набравший в разведке очки – ныне Ломоносов, если куда отлучался, оставлял вместо себя Еременко. Это уже был не тот жиглявый, похожий на мальчишку солдатик, который когда-то конвоировал Чердынцева к шалашу старшего лейтенанта Левенко. Да, собственно, и Чердынцев был уже не тот, что когда-то покорно топал под дулом автомата неведомо куда, сегодня он, не раздумывая, вырвал бы автомат из рук и оглушил бы любого, кто вздумал его задержать, огрел бы кулаком по темени и сиганул в ближайший куст. Жизнь, в общем, идёт, народ мужает, у молодых начинают серебриться виски.
Перед тем, как выступить из лагеря, Чердынцев собрал команду, чтобы оглядеть каждого, понять, все ли готовы выступить, особенно это касалось Фабричного, ещё вчера косившего глаза на свой помидорный нос, косоватость эта ещё не прошла, зрачки так и норовят слипнуться друг с дружкой, а вот нос, тот был в полном порядке, блестел сально – можно было снова соваться на мороз.
Оглядев подопечных, Чердынцев остался ими доволен, спросил у Ерёменко:
– Ну, какой сюрприз ты нам обещал?
Ерёменко бегом помчался в землянку разведчиков. Через несколько минут приволок оттуда четыре пары широких финских лыж, на которых было удобно ходить по сыпучему снегу, Фабричный не выдержал, восхищённо присвистнул.
– Вот это да! – Голос у него сделался звонким от восторга: Фабричный когда-то баловался лыжами, принимал участие в соревнованиях, организуемых Осоавиахимом, кружками ворошиловских стрелков и обществами содействия армии, подхватил пару лыж и с видом знатока стал общёлкивать её, обстукивать крепким прокуренным ногтём. – Вот нам чего не хватало в прошлый раз!
– В прошлый раз лыж не было, их только вчера добыли в Тишкине – отняли у полицаев.
На лыжах стояли ременные крепления с пряжками, их можно было раздвигать в разные стороны и подогнать под любую обувь – и на узкие изящные штиблеты натянуть, и на громоздкие катанки, и на меховые унты… Фабричный закончил обследование, поцокал восхищённо языком:
– Ни одной трещинки!
Ерёменко подмигнул своему начальнику – маленькому солдату:
– Как и положено!
Через несколько минут покинули лагерь. Фабричный всё никак не мог успокоиться, вздёргивал голову довольно и в такт движению бормотал:
– Да с этими шустрыми вездеходами мы в три раза быстрее обернёмся!
Чердынцев молчал – смотрел, как под лыжи с твёрдым аппетитным хрупаньем уползает серое крупчатое одеяло, спекшееся от недавнего мороза, хрупкая корка под тяжестью лыжников проламывалась, трещала, треск этот колол уши, вызывал внутреннее беспокойство, которое лейтенант старательно давил в себе, как давил и возникающее вместе с беспокойством раздражение – ещё не хватало выказывать свою слабость перед подчинёнными. Иногда на губах у него появлялась отстранённая улыбка – он вспоминал Наденьку, и в висках у него возникало невольное тепло, да ещё горло сдавливало что-то сладкое, щемящее… Была бы его воля – никогда бы не разлучался с ней. Но такое можно допустить, только когда нет войны…
Война, к сожалению, разводит людей, расшвыривает их в разные стороны, и нет, кажется, такой силы, которая могла бы справиться с войной…
Двигались они сторожко, опасаясь наскочить на какой-нибудь немецкий отряд, вылезший в леса, чтобы сразиться с партизанами либо дровишек себе нарубить… Впрочем, насчёт дров фрицы не дураки, сами ломаться не будут, пошлют полицаев либо местный люд под командой какого-нибудь горластого надсмотрщика, а вот насчёт борьбы с партизанами – тут немцам деваться некуда, начальство на них жмёт… В общем, к вечеру почти добрались до места – нескольких километров не дотянули, лыжи помогли очень, ходить на них по лесу – милое дело, особенно там, где нет завалов, – заночевали в снегу, в глубоком сугробе. Разрыли его, на дно настелили еловых лап, развели костёр, в котелок набили снега и приготовили себе чай.
– Подъём – на рассвете, – объявил Чердынцев, укладываясь спать. – Как только посветлеет чуть, пойдём дальше.
Он долго не мог уснуть, лежал на спине, глядя в чёрное небо широко распахнутыми глазами и слушая шум елей. Думал о Наденьке. Конечно, если бы имелась возможность, он бы немедленно отправил её из отряда в Москву – ребёнка, который бился у неё под сердцем, надо было во что бы то ни стало сохранить. Чердынцев, ещё не видя его и не зная, кто появится на свет, мальчик или девочка (Наденька тут права), уже заранее любил малыша, наполнялся гордостью и счастьем, видел себя тетешкающим ребёнка – подкидывал его и ловил, подкидывал и ловил, – радовался, слыша возбуждённый его смех. Слышать смех своего ребёнка – разве может быть что-нибудь значительнее в жизни, чем это?
Наверху, над ямой, с вкрадчивым скрипом пронёсся ветер, стукнулся в ствол одного дерева, другого, расшиб себе лоб и сконфуженно утих. Отдышавшись и придя в себя, ветер вновь устроил пробежку по снежным завалам, подгрёб остатки того, что плохо лежало на поверхности сугробов, снова врезался в какой-то уж очень толстый ствол, свалился вниз, к корням, и опять затих, оглушённый. Через несколько минут очнулся, заскрипел, зашуршал, засипел, приподнялся над землёй.
Под шум ветра Чердынцев и уснул. Спал чутко, часто просыпался. То вдруг хруст снега неподалёку засекал – на хруст он высунулся из ямы с автоматом наизготовку и несколько минут сторожил ночь, то его буквально приподнимал над лапником неожиданный выстрел – оглушающе громкий, похожий на пальбу полкового миномёта, – и Чердынцев лежал тогда с открытыми глазами, пока до него не доходило, что выстрел издало располовиненное дерево – ствол лопнул от мороза… Ночи в таких походах всегда бывают тревожными.
Поднялись, когда до рассвета оставалось ещё часа полтора, оживили костёр, поставили на него чёрный от чада котелок.
– Через два часа обязательно будем на месте, – заявил дядя Коля Фабричный, громко отхлёбывая кипяток из кружки, у Фабричного своя заварка, цветочная.
– Вроде бы раньше должны быть, – проворчал маленький солдат. – Ты говорил, что раньше придём…
– Не-а. Не говорил я тебе, Ваня, этого, – отмахнулся Фабричный от начальника разведки, – говорил другое, но не это.
– Отставить разговорчики! – скомандовал Чердынцев. – Ещё не хватало поссориться! – Выглянул наружу, осмотрелся.
Деревья стояли плотной чёрной стеной, слипшись друг с другом. Пока стена эта не разредится, не станет прозрачной, идти нельзя – легко можно поломать лыжи либо, хуже того, ноги.
– Можно ещё испить чайку, – предложил Чердынцев, – дальше уже не до чаёв будет.
– Чай – не водка, товарищ командир, много не одолеешь. – Фабричный рассмеялся дробно, в следующую минуту он словно бы застеснялся слов своих – наверное, так оно и было, поскольку дядя Коля тут же отвёл глаза в сторону.
Всё-таки отношение у пожилых людей к командирам не то, что у молодых: в пожилых прочно сидит прошлое, им памятна жизнь при царе, ещё дореволюционная, когда количество звёзд на погонах почиталось особо и всякий рядовой солдат очень сосредоточённо внимал офицеру, поедал его глазами, ни в чём не перечил, а уж чтобы произнести какую-нибудь неуклюжесть, как это сделал Фабричный – ни-ни… Но если уж произнесёт случайно – под землю бывает готов потом залезть от смущения. Молодым же это несвойственно.
Серая пятнистая мга отрывалась от снега неохотно, клочьями, прилипала, словно бы наштукатуренная клейстером, в посветлевшие прогалы были видны стволы деревьев, обмахрённые окостеневшим мёрзлым снегом, когда прогал затягивало утренней дымкой, стволы исчезали вновь, но вот наступил момент, когда прогалы перестали затягиваться, и Чердынцев объявил:
– Можно идти дальше.
С места взяли хорошую скорость, завалов не было, снег держал лыжи прочно, руки-ноги за ночь отдохнули – хорошо!
До места добрались без приключений и, главное, уложились в два часа, как и обещал дядя Коля. Фабричный сошёл с лыж, воткнул их стоймя в снег, обвёл рукой заснеженное неровное пространство и произнёс коротко:
– Вот!
Октябрину арестовали утром – на улице ещё темно было, тяжёлое рябое небо низко висело над землёй, по единственной расчищенной улице райцентра мела позёмка, затыкала липкой порошей все щели и норы, заползала под дома, плотно забивала опустевшие собачьи конуры, запечатывала подкрылечные пространства – в общем, бабушка-зима работала, нагоняла в души людей уныние и злость, кого-то вообще умудрялась скрутить в бублик, подмять тоской, но фокус этот проходил не со всеми. Октябрина только что проснулась и собиралась затопить печку, когда на крыльце затопали тяжёлые сапоги. Бабушка Вера, которая ещё с ночи чувствовала себя неважно, обеспокоенно приподнялась на своей постели.
– Кого это там черти несут?
Действительно, людей этих могла принести только нечистая сила. Первым в дверь всунулся старший полицай Федько – личность, в районе известная, бывший командир Красной Армии, окруженец, так и не вышедший из окружения, на полпути осевший в райцентре у одной сдобной вдовушки и поступивший на хлебную службу к немцам. За Федько в двери появились ещё двое полицаев.
– Эй, учителка! – окликнул Федько Октябрину. – Собирайся, с нами пойдёшь.
У Октябрины под сердцем возникло что-то больное, дыхание перехватило, но она быстро справилась с собою, спросила спокойно:
– Зачем?
– В управе узнаешь, зачем… Собирайся!
В голове у Октябрины мелькнула мысль, до ненужного чужая, мелкая: а не убежать ли? На улице растолкать полицаев и шмыгнуть за дома, за сараи – мужики эти её всё равно не догонят, дыхание у них спёртое. Прокуренное, выхлоп такой, что без закуски устоять на ногах невозможно: пьют эти люди беспробудно, словно бы пожар внутри себя заливают, пытаются помочь сами себе, но ничего у них не получается. Так что догнать им её не дано. Конечно, они стрелять в неё будут. Из винтовок, из пистолетов. Автомата у них нету, а из винтовки они в неё не попадут. Во-первых, на улице ещё темно, во-вторых, глаза у них после самогонки кривые, они не то что в бегущую цель не угодят – они даже если в самих себя будут стрелять и то промахнутся. В следующий миг Октябрина отогнала от себя мысль о побеге, ведь арестованы её девочки, она не может их бросить.
Бабушка Вера продолжала лежать на кровати, онемевшая, наполовину мёртвая, она с нескрываемым ужасом смотрела то на полицаев, то на Октябрину, подбородок у неё мелко, расстроенно подрагивал, глаза влажно блестели.
– Бабушка Вера, – шепнула ей Октябрина – говорить в голос не решилась, побоялась, что голос сорвётся, – ты не горюй… Я вернусь.
Подбородок у старухи затрясся ещё сильнее, она попыталась что-то сказать, но не смогла – так неожиданно и быстро ослабела, – лишь всхлипнула зажато, тихо, будто мышка, она видела и ощущала то, чего, может быть, не видела и не ощущала Октябрина: вряд ли уже жиличка вернётся в этот дом…
Хоть и не сумела она ничего сказать, а вот руку из-под одеяла вытащила, перекрестила Октябрину. Из влажных глаз её потекло, потекло мокро, заслонило всё на свете, бабушка Вера уже ничего не видела… Она только услышала, как заскрипела открываемая в сенцах дверь да брякнуло пустое ведро, за которое в темноте зацепился нетрезвый полицай, ругнулся полицай матом, и всё стихло.
Бабушка Вера ощутила, как тело её встряхнулось словно бы само по себе, внутри раздался тихий коростелиный скрип, бабушку Веру перекрутило, лицо её сморщилось, превращаясь в вынутое из печки коричневое печёное яблоко, и она заплакала.
Октябрину вели по улице, ещё не оправившейся от ночи, тёмной, морозной, подталкивали в спину, но она этих тычков не замечала, оглядывалась по сторонам, словно бы прощалась с райцентром, а может быть, и не прощалась, может быть, здоровалась, но это было возможно только в том случае, если она собиралась жить вечно. Но сельская учительница Окрябрина Пантелеева жить вечно не собиралась.
Плохо было ей. Дай Бог мужества перенести, одолеть всё, что ей уготовано. Она подумала о том, что её учили – Бога нет, но в таком разе кого просить, чтобы дал сил, мужества, – только Бога. Не комсомольское же начальство, в конце концов. Да и где оно, это начальство?
Дядя Коля Фабричный поработал на славу – вот что значит иметь опыт жизненный, его не пропьёшь, – все три места, которые он подобрал для будущего лагеря, оказались то, что надо. Остановиться пришлось, конечно, на одном – том самом месте, которое Фабричный хвалил больше всего.
Главными были старые параметры – чтобы и подойти к лагерю незамеченным было нельзя, и чтобы сверху он был прикрыт, и чтобы вода неподалёку имелась, и чтобы площадка для посадки самолёта находилась на досягаемом расстоянии, не под Брянском или Курском, и чтобы естественная защита существовала – болото, крутой береговой взъём, река или озеро, овраг, что-нибудь ещё… Чердынцев достал трофейную карту, посмотрел, чем же немцы обозначили здешнее место, каким словом. Чёрная строчка названия словно бы сама по себе выпрыгнула из-под пальца, лейтенант прочитал её вслух, раздельно, по буквам:
– Сос-ня-и-ковка… Что за Сосняиковка? Сосновка, скорее всего.
Да, неподалёку от облюбованного под лагерь места находилась маленькая угасающая деревушка Сосновка, разведчики в ней даже бывали один раз, в деревне было всего пять или шесть заселённых жилых хат, больше народа в Сосновке не было.
– Ну что же, значит, назовём наш новый лагерь Сосновкой, – решил Чердынцев.
Проверили, насколько промерзла здесь земля. Оказалось – неглубоко, сантиметров на двадцать, хотя при нынешней лютой студи могла промёрзнуть глубже.
Чердынцев, узнав об этом, повеселел – мёрзлый слой они одолеют легко, а раз так, то, значит, не надо будет рвать жилы, горбатиться до обмороков при рытье землянок…
Место это очень напоминало лагерь действующий, расположенный на Тишке, тут тоже протекала река – всё та же знакомая Тишка, только здесь она была шире и располагалась чуть дальше от лагеря, и болото в окрестностях имелось – бездонное, широкое, гораздо больше того, что прикрывало их нынешний лагерь.
– Дядя Коля, ты достоин премии, – сказал лейтенант Фабричному. – Сто пятьдесят граммов сверх нормы.
– Благодарствую премного. – Фабричный церемонно, очень учтиво поклонился. Имелась в нём интеллигентная закваска, та самая, которую московский уроженец Чердынцев ценил в людях.
– И обдув хороший имеется, – отметил лейтенант на прощание, – комаров сметать в сторону будет, и сверху место хорошо прикрыто – кроны у сосен раскидистые и густые.
Наскоро попили чайку – с дымом и хвойным духом, с горящими угольками, нечаянно заскочившими в котелок – прыгуны эти добавили напитку своего вкуса, заправили чай сахаром, загрызли сухарями и отправились в обратный путь.
Думали, что дорога домой также обойдётся без приключений, ан не получилось – в лесу наткнулись на группу пленных, которые под охраной полицаев и двух немцев-автоматчиков заготавливали дрова.
– Интересно, где тут поблизости лагерь такой имеется, где содержались бы пленные? – задал себе невесёлый вопрос Чердынцев, лёжа под густой елью и наблюдая за лесорубами. Что-то ни разведчики об этом ничего не знают, ни в штабе полковника Игнатьева – оттуда ни одного намёка не поступало, даже полунамёка и то не было, и Октябрина ничего не говорила…
Неужели пленные прибыли в последние дни и сведения о них ещё не успели просочиться в народ? Интересно, интересно… Пленных было пятнадцать человек – Чердынцев пересчитал их трижды, охранников же – на немецкий манер, чтобы была кратность, – пять человек. Двое фрицев с автоматами и трое полицаев с винтовками.
Пленные работали молча, угрюмо, нехотя. Четыре человека пилили невысокие, чтобы легче было вывезти, деревья, двое обрубали сучья, остальные готовились выволочь лесины из чащи. Поскольку ни лошадей, ни тракторишки какого-нибудь завалящего поблизости не было видно, стало понятно: эти бедолаги поволокут брёвна на себе… Жалко было людей. Чердынцев ощутил, что к щеке у него прилипло что-то щекотное, клейкое, смахнул досадливо ладонью, но невидимая налипь продолжала держаться, он понял: это нервное… Нервы, увы, ни к чёрту стали, лечиться надо. Все болезни, говорят, от нервов происходят.
Он отполз к своим спутникам, лежавшим в стороне от ели, потёр щёку снегом, желая избавиться от неприятного нервного ощущения, но снег не помог.
– Значит, так, мужики, – проговорил он свистящим шёпотом, – пленных надо освободить.
– И мы за то же, товарищ командир, – поддерживая его, произнёс Фабричный. Вооружён он был карабином. Автомата не признавал, считая его баловством, больше всего любил родную трёхлинеечку, но винтовка в походе была тяжела, поэтому он взял с собою карабин.
– Двое немцев, трое полицаев – сила невеликая, одного залпа для неё будет достаточно. Ты, Иван, – Чердынцев повернулся в сторону маленького солдата, – возьми на себя немца, который стоит справа, сонный такой мужичок, он из всех выделяется, словно бы вчера перепил бимбера, я беру второго немца, который слева, а вам, мужики… – Лейтенант дотронулся пальцами до плеча Фабричного, потом ткнул во второго бойца: – Вам надлежит уложить полицаев… Желательно с одного выстрела, чтобы не колыхнулись. Стрелять только по моей команде, кучно. Всё ясно? На подготовку – три минуты.
Чердынцев даже ответа не стал дожидаться, и без того всё было понятно, пополз на прежнее своё место – под ель.
На площадке, где пленные топтались неуклюже, боясь попасть под падающее дерево, ничего не изменилось: немцы молчаливо мёрзли на своих местах – они даже не двигались, не хлопали привычно руками, чтобы согреться, полицаи вели себя более живо, громко покрикивали, раздавали налево-направо тумаки, один из них, высокий и тонкий, как болотный хвощ, вислоусый, рычал злобно и ловко работал прикладом – хорошо освоил эту технику… Видно было невооружённым глазом: выслуживается перед немцами.
Чердынцев посмотрел на часы – до сигнала оставалось ещё полминуты, – скосил глаза в сторону: ну как там чувствуют себя бойцы? А бойцов не было видно – ни одного, кроме Фабричного, – умело замаскировались мужики. Лейтенант ухватил руками покрепче автомат и подвёл мушку под немца, страхующего левый угол площадки, остановил ствол на оловянной пряжке, украшавшей живот этого человека.
При стрельбе «шмайссер» чуть задирал ствол вверх, Чердынцев это учитывал, поэтому и целился ниже: если мушкой поддеть разъём ног, то пули попадут в верх живота, если подцепить пряжку ремня – угодят в грудь.
Вновь посмотрел на часы. Огонь партизаны откроют по его выстрелу, это – команда.
Он вдавился подбородком в снег, чтобы лучше видеть цель – из-под низко опущенных еловых лап немец был виден всё-таки не очень отчётливо, – и надавил пальцем на спусковой крючок. Почти в унисон со стрекотом чердынцевского автомата прозвучали выстрелы Ломоносова – лейтенант услышал их: негромкие, по-сорочьи частые, с мелким, вызывающим ломоту на зубах отзвоном.
Обе очереди попали в цель: чердынцевский немец исчез стремительно, будто бы провалился сквозь землю, ломоносовский попытался схватиться скрюченными пальцами за воздух, удержаться на ногах, но это ему не удалось, автомат повис безвольно на груди у немца, и охранник шлёпнулся затылком в жёсткий, как наждак, снег.
Фабричный снял свою цель с одного выстрела, напарник его также уложил полицая, тот укатился под ель, а вот третий полицай оказался удачлив – это был злобный подвыпивший мужик с висячими запорожскими усами, он проворно сиганул в сторону, заполз за толстый обрубок дерева и открыл огонь из винтовки.
Но стрелял он недолго – к нему бросились двое военнопленных с топорами наперевес. Долговязый полицай лишь один раз успел передёрнуть затвор своей винтовки, больше не удалось, на голову ему обрушились топоры, а следом тело просекла автоматная очередь – один из военнопленных подхватил из снега автомат убитого немца и издали всадил несколько пуль в полицая. Стрелял он метко – имел навык.
Несколько секунд понадобилось для того, чтобы и остальное оружие оказалось в руках у пленных. Они сбились в кучу, выжидательно поглядывая на партизан.
Чердынцев первым подошёл к ним, с каждым поздоровался за руку, назвался.
– Возьмите нас к себе, – попросился ловкий парень в рваной телогрейке, к которой был пришит нитяной лоскут с нанесённым краской номером, это он всадил очередь в полицая, лицо его заросло густой золотистой щетиной, лоб украшала свежая ссадина.
Лейтенант глянул на номер – 1442. Парень перехватил взгляд Чердынцева, по лицу его пробежала судорога, один глаз контуженно задёргался, он подцепил ногтями нитяную тряпицу и с силой рванул.
Хоть и крепко был пришит номер – немцы, видать, того требовали, – а отлетел, как гнилой, разом обратившись в жалкую мятую тряпку, парень скомкал её и швырнул себе под ноги. Выпрямился, словно бы вновь почувствовал себя в строю.
– Старшина Иванов, – доложился он.
– Самая популярная русская фамилия, – не удержался, подметил Чердынцев, – на ней вся Россия стоит.
– Я не просто Иванов, а и по имени Иван, и по отчеству Иванович.
– О, тёзка! – обрадовался маленький солдат, протянул старшине руку. – Я тоже Иван. – В следующий миг лицо его сделалось строгим, словно бы Ломоносов вспомнил, кто он есть на нынешний день, произнёс значительно: – Начальник разведки партизанского отряда…
Лейтенант оглядел пленных, спросил, скорее, для отвода глаз, и без того было понятно, каков будет ответ:
– Все готовы вступить в партизанский отряд?
Ответ прозвучал единым выдохом – только над облаком взвился над головами людей:
– Все!
– Построиться! – приказал Чердынцев.
Пленные поспешно выстроились в неровную линию – лицом к партизанам, спиной к месту схватки.
– Сколько нас? – спросил, ни к кому не обращаясь, Чердынцев, хотя знал, сколько пленных находилось в лесу, прошёлся по строю пальцем, считая людей, озабоченно наклонил голову. – До взвода не хватает половины… Но ничего страшного. Народ к нам постоянно прибивается, думаю, вскоре и взвод наберём. А пока командиром своим, товарищи, считайте… – Он остановился напротив Иванова. – Его вот. Всё ясно?
Пленные в ответ прокричали что-то нестройно.
– Тих-ха! – Чердынцев поднял руку. – Первым идёт дядя Коля Фабричный, как лучше всех знающий дорогу, замыкает движение разведка. – Чердынцев говорил, будто заставой командовал: чётко, по-военному кратко и сурово… Впрочем, эти люди уже стали его подчинёнными, завтра он пошлёт их на задание, а послезавтра кого-нибудь из этих некормленых, грязных, наряжённых в истрепавшуюся одежду бойцов уже не будет в живых. – Двинулись! – буднично произнёс Чердынцев и посторонился, пропуская вперёд Фабричного.
Пленные, проваливаясь в снег по колено, сопя шумно, чертыхаясь, потопали следом за ними, по лыжным отпечаткам. Старшина Иванов, почувствовав себя командиром, иногда выбирал место, где снега было поменьше, отбегал в сторону и строго, как Чердынцев, осматривал своих подопечных, сравнивал их с партизанами, шедшими впереди, и ожесточённо скрёб щетину на щеках: бедолаги выглядели так, что партизаны могли отказаться от них. Этого старшина боялся, крякал с досадою и возвращался на своё место, покорно месил снег вместе со всеми, с надеждою вскидывал голову, ловил глазами спину партизанского командира, освободившего их, и думал: чем же он со своими братьями по беде и плену может быть полезен партизанам? Одно он знал твёрдо: за унижения свои, за плен должен будет расплатиться.
Осознание того, что это произойдёт обязательно, придавало сил.
Начальница полицейской управы провела следствие быстро, напористо, в методах не стесняла себя, она их вообще не выбирала, признавая только одно – истязание. Когда человеку больно, он признаётся в чем угодно. Поэтому чем больше боли будет причинено, тем лучше – любой подпольщик рот откроет, зашипит пробито и начнёт выкладывать свои тайны – это закон. И Шичко, как медик, привыкший изучать не только запоры, желудочную слабость и завороты кишок, но и души людские, этого закона придерживалась строго.
Если сёстры-близняшки ещё как-то сохранились – на них после ареста Октябрины уже мало обращали внимания, то саму Октябрину уже нельзя было узнать: она представляла из себя сплошной кровоподтёк – от глаз до пяток. С расплющенными пальцами рук и сломанными рёбрами, с перебитым левым запястьем, из которого вылезла кость, с одним отрезанным ухом… Смотреть на неё было страшно.
– Ну и что вы предлагаете сделать с вашими… с вашими арестантами? – прищурив один глаз и, будто любопытная ворона, склонив голову на плечо, спросил у Шичко комендант райцентра.
– Как что? – Шичко даже покраснела, вопрос показался ей неуместным, она ни на секунду не сомневалась в справедливости своего расследования, как не сомневалась и в приговоре. – Все виноваты, всех казнить, господин гауптман. Только виселица, и других вариантов нет.
– Даже этих самых? – Комендант выразительно придавил ладонью воздух. – Маленьких-маленьких девчонок?
– Не такие уж они и маленькие, господин гауптман, я уже вам говорила об этом. Упёртые, злобные, гнусные, способные с гранатой пойти на танк. Вы хотите, чтобы немецкие танки подрывали гранатами русские дети?
– Естественно, нет.
– Тогда рецепт один – стерилизация общества… – Яркие губы начальницы полиции растянулись в язвительной улыбке. – Таких детишек надо уничтожить. Взрослых – тем более.
Гауптман поразмышлял ещё немного, потом сложил ладони вместе и воздел глаза к потолку:
– Ну что ж… уничтожайте!
Виселица в райцентре уже стояла – после казни партизанской связной её не стали сносить, – старательно сработанная двумя немецкими солдатами из технической службы, скреплённая медными скобами – хозяйственные фрицы даже дорогой меди не пожалели, чтобы виселица жила дольше, видать, рассчитывали подвести под виселицу ещё кого-то, и не промахнулись завоеватели: виселица должна была поработать снова, одно плохо – производительность у неё невысокая. Если сдвинуть верёвки, уплотниться – максимум на ней три человека повесить можно. Да и то будут мешать друг дружке, толкаться, переплетаться пальцами и волосьями, а это не дело. Неплохо бы ещё одну виселицу возвести.
Гауптман позвонил куда-то – наверное, начальству и, вызвав к себе Шичко, встал из-за стола, торжественный, прямой, как верстовой столб, со стёклышком монокля, вдетым в глаз – раньше монокля он не носил, – и объявил ровным, без единой простудной трещинки голосом:
– Можете строить вторую виселицу.
Шичко молча щёлкнула каблуками меховых сапожков – получилось очень лихо, наклонила голову, прощаясь, и покинула кабинет.
Вторую виселицу строили не немцы – русские, райцентровские плотники, пошедшие на службу в полицию, соблазнились сытой жизнью да возможностью безнаказанно лазить под подолы к солдаткам, других обязанностей они за собою не признавали. Но Шичко быстро поставила их на место.
Один из плотников, говорливый, со ртом, полным холодных железных зубов, работал охотно, споро, видно, не осознал до конца, на что его подрядили, второй тюкал топором с жалобным стонами, всё время ахал и хватался руками за поясницу – страшился дела, к которому его приставили; только сейчас он, похоже, осознал, во что вляпался. Как осознал и другое: служба в полиции – это не просто возможность обеспечить себя харчишками, это предательство. Но предателем он не был и не считал себя предателем, но, как говорят в школе, два пишем, один в уме – он стал предателем.
К плотникам дважды приходила начальница, строгим оком осматривала сделанное и недовольно качала головой. В последний свой приход заявила:
– Плохо работаете! Никакого старания не вижу. Если будете работать так дальше, прикажу всыпать вам плетей. Понятно?
Передвинула кобуру с пистолетом на живот, сделала это на немецкий лад, выпрямилась, разом делаясь выше и значительнее, и, поскрипывая снегом, поигрывая сапожками занятно, ушла.
Второй плотник проводил её недобрым взглядом и сплюнул себе под ноги:
– Вот курва!
– Не обращай внимания, – попробовал успокоить его первый плотник, потюкал легонько топором и, видя, что слова его никак не подействовали на напарника, добавил лениво: – Плетью обуха не перешибёшь, сила на её стороне.
Погода стояла тихая, даже ветры, которые в этих краях никаких правил не признавали, и те угомонились, позабыли про свой гонор – почуяли беду. Воробьи, живущие в райцентровских деревьях да под крышами домов, не то чтобы перестали галдеть – перестали даже летать. И люди на улицу не выходили – пустынным было окружающее пространство.
Лишь дымы вставали над печными трубами, поднимались высоко и растворялись вверху, там, где ползали беспорядочно, нагромождаясь друг на друга, облака.
Обошлось без плетей: два полицая-плотника сгородили-таки виселицу. Конечно, она здорово уступала виселице существующей – и медных скоб немецких на ней не было, и деревянные сочленения были сработаны не так старательно, но всё равно виселица получилась. Когда Шичко пришла осмотреть ей, первый плотник, игриво постреливая глазами – начальница полиции нравилась ему, ладная была баба, – хлопнул ладонью по столбу, укреплённому двумя подпорками:
– Принимайте работу, ваше высокородие! Можно повесить кого угодно, хоть корову, – изделие получилось прочное.
Шичко стукнула носком сапожка по подпорке и осталась довольна.
– Ладно. Плети отменяются. – И, видать, вспомнила своего незабвенного старлея, хахаля и командира, добавила: – Можете взять с полки пирожок.
Полицаи-плотники недоумённо переглянулись: какой пирожок имеет в виду начальница? Где пирожок? И с чем он? Первый плотник пирожки любил, особенно с повидлом, горячие, он даже облизнулся… Но пирожка не было.
А Шичко тем временем небрежно махнула работягам перчаткой и ушла. Полицаи присели около виселицы на корточки, достали из кармана по дешёвой немецкой сигаретке и с наслаждением втянули в себя едкий табачный дым.
– Всё-таки надо отдать должное немчуре – они всё умеют делать лучше нас. В том числе и это. – Первый плотник приподнял руку с аккуратной, как детский мизинец, сигареткой, с шумом всосал в себя воздух, смешанный с дымом, прополоскал им рот и с наслаждением выдохнул.
От сигаретки после такой мощной затяжки осталась лишь треть. Он глянул на окурок и произнёс с сожалением:
– Горит только дюже быстро. Как порох. Вот тут немчура малость не рассчитала…
– А может, наоборот, специально это сделала? – угрюмо пробормотал его напарник.
– Для чего? – Брови на лице первого плотника поднялись недоумённым домиком.
– Чтобы клиенты почаще в магазин за сигаретами бегали… больше проданных сигарет – жирнее карман, больше выручки, толще кошелёк.
– Не, немчура на такую хитрость не пойдёт, это только наши жулики могут… У наших нет ничего святого.
– Ты думаешь, что у немцев есть что-нибудь святое?
– Ну-у… – Первый полицай замялся – не знал, что сказать и вообще что привести в пример, покрутил догоревшей сигареткой в воздухе.
– Пхе! – презрительно произнёс второй полицай. – Нет слов – душат слёзы.
– Кого душат, а кого и нет.
– Это что же выходит – на нашей виселице будут душить каких-то несчастных школярок? – Второй полицай докурил сигаретку, сунул её себе под каблук, придавил и горестно покрутил головой. – Эхе-хе-хе. Никогда не думал, что буду принимать участие в убийстве детей.
– Наше дело – сторона: убивать будем не мы, убивать будут другие.
– Да, наше дело – не рожать, сунул, вынул да бежать. Но нас во всех грехах обязательно обвинят, вот увидишь, вместе со всеми под одну раздачу попадём.
Первый полицай дёрнулся, будто от укола, крякнул и достал из кармана ещё одну сигаретку.
– Ну и зануда же ты, до самой печёнки способен дырку просверлить.
– Извиняй! Но лучше задуматься и быть готовым к тому, что в нас будут кидать гнилые яблоки с тухлыми яйцами, чем ничего не думать и не быть готовым ни к гнилым яблокам, ни к тухлым яйцам.
Вели полицаи разговор, и вроде бы беспокойным он был, а главного они не касались, поскольку оба знали – за верную службу оккупационным властям, за то, что сколотили эту виселицу, в них не гнилью будут кидать – кидать будут другим, счёт выставят жёсткий, и оплатить его придётся сполна.
Чердынцев благополучно довёл свой небольшой отряд до базы, расселил новеньких по землянкам, велел пригреть их, помочь, не то ведь с непривычки они будут маяться, постесняются даже спросить, где находится нужник. Рукой отодвинул в сторону Мерзлякова, сунувшегося было к нему с докладом – чуть позже, Андрей Гаврилович, – и рванул к своей землянке: как там жена?
Наденька чувствовала себя неважно. Чердынцев присел перед топчаном, где лежала Наденька, взял её руки в свои. Поцеловал пальцы.
– Что случилось, Надюш?
Она виновато улыбнулась в ответ.
– Мелочи, не обращай внимания.
Голос у Наденьки был слабым. Чердынцев занервничал.
– Ну как не обращать внимание, как не обращать внимание?.. Тебя тут хоть кормили, пока меня не было? – воскликнул он, понимая, насколько нелеп этот вопрос, но не задать его он не мог.
Наденька вновь улыбнулась.
– Смеёшься? Меня просто закормили, Жень! – Она сделала сытое, довольное жизнью лицо, будто девчонка с праздничной открытки.
– Закормили? При скудном-то партизанском рационе? Не верю.
– Увы, Жень, это так.
Лейтенант вновь поцеловал её пальцы.
Господи, как же всё здорово в жизни придумано! Мужчина и женщина встречаются, происходит это по велению природы и имеет высокий смысл – поддерживают один другого, вместе отмеривают вёрсты, которые им надлежит пройти, вместе строят дом, вместе воспитывают детей, стараясь с кровью своей перелить, передать им всё лучшее, что получили когда-то сами от собственных родителей, и если очень любят друг друга, то и умирают вместе. Чердынцев собрал пальцы Наденьки в горсть, пощекотал ими себе губы, потом приложился к ним лбом, подумал в который раз, что, будь его воля, он никогда бы с Наденькой не разлучался и вместе с нею, в один день, в один час, в одну минуту, ушёл бы в мир иной…
Но человек предполагает, а Бог располагает. Как получится у них с Наденькой, как распорядится судьба их жизнями, никто не знает.
Он подумал о ребёнке, ощутил сладкое тепло, натёкшее в виски, от которого ему сделалось хорошо, покойно, так хорошо не должно быть человеку на войне, но ему было хорошо.
– Как маленький? – тихим шёпотом, едва шевеля губами, спросил он.
– По-моему, ему неплохо, – таким же, едва приметным шёпотом ответила Наденька. – Не хулиганит, не дёргается, ногами не бьёт, не ругается – значит, всё в порядке.
– Но сейчас ему рано дёргаться и бить ногами, он ещё слишком маленький. Вот подрастёт, тогда почувствуешь, какой он.
Наденька, беззвучно дохнув теплом на Чердынцева, рассмеялась.
– Много ты знаешь!
В следующий миг она затихла, и он затих – усталость взяла своё. А может, и не усталость, может, думы разные наползли в голову, наполнили Чердынцева тревогой… Что с ним будет, с ним и Наденькой, кто скажет?
– Надя, тебе надо эвакуироваться на Большую землю, – сказал он, – у тебя ребенок… Наше с тобою будущее… – В следующий миг он понял, что произносит какие-то безликие, затёртые слова, протестующе дёрнул головой, а ведь где-то он услышал их, где-то подцепил, и они запали в голову…
– Ещё рано. Пару месяцев я могу побыть с тобой, может быть, даже ещё больше, а потом да, потом надо будет уезжать…
Чердынцев задержал в себе вздох – очень хотелось бы, чтобы с женой всё было в порядке, как хотелось бы, чтобы она как можно дольше пробыла с ним, потом протестующе шевельнулся и проговорил упрямо:
– Всё равно тебе надо эвакуироваться.
В ответ – тишина. Наденька решила промолчать: у неё была своя правота, у Чердынцева своя, и обе правоты надо было совместить.
Райцентр затих, он буквально съёжился, как некое живое существо в предчувствии страшных событий, люди по-прежнему почти не выходили из домов, если выходили, то с бледными, осунувшимися лицами и опущенными глазами, они боялись смотреть друг на друга, будто были в чём-то виноваты, и говорить что-либо боялись, встретившись где-нибудь случайно, разбегались молча, испуганно, отводя глаза в сторону либо вовсе не поднимая их. Все знали, что молодая учительница Пантелеева находится в руках у Аськи-полицейской, а с преподавательницей – трое учеников, две девчонки и один парнишка; раньше было пятеро, но двоих Аська отпустила. Все местные, с малых лет райцентровскому люду знакомые, росли на виду… Страшные две виселицы приготовлены для этой четвёрки, учительницы и её учеников, вот ведь как…
Затих райцентр, поугрюмел. И природа в местах здешних, кажется, изменилась – ветер стал дуть сильнее, молодые ёлки из снега выворачивает прямо с корнями, скрежещет, словно старый дед вставными челюстями, воет, вгоняет народ в нервную оторопь…
А Шичко тем временем спорила с комендантом.
– Великая немецкая армия не можно бороться с детьми, – в очередной раз упёрся комендант, словно бык, воткнувший в землю рога.
– Это не дети! – возражала ему в крайнем волнении Шичко, у неё голос иногда даже сдавал, в нём, будто в дисковой пиле, отлетали зубья, начальница полиции взвизгивала, делала на коменданта охотничью стойку и перечёркивала рукой пространство. – Это полновесные враги рейха! Они могут навредить гораздо более взрослых. Это очень опасные существа. Вы недооцениваете их, господин гауптман.
В конце концов коменданту надоело спорить с дамой, он приподнял одну мохнатую бровь, под которой тускло поблёскивало стёклышко монокля, стекло выпало из-под брови, и комендант, словно бы разом обессилев, вяло махнул рукой.
– Ладно, делайте что хотите! – сказал он.
Ближе к вечеру Шичко в сопровождении полицейских на двух санях отправилась на железнодорожную станцию – отвезла на поезд дорогого папаню, выхлопотала для него специальный литер, дающий право садиться на немецкие поезда, с этим литером дорогой родитель и отбыл на балтийские просторы, поближе к пенистому серому морю.
Дочка, проводив отца, отряхнула ладони – с глаз долой, из сердца вон, дорогой папаня ей изрядно надоел – и скомандовала своим подопечным:
– Гоним домой!
На следующий день состоялась казнь. С самого утра, едва тёмный ночной морок над крышами райцентра начал редеть, в нём появились жидкие серые проталины, по домам пошли полицаи, они стучали прикладами винтовок в двери и выкрикивали зычно:
– Выходи, народ, на главную площадь – представление будет!
– Какое представление? – задушенными, испуганными голосами спрашивали люди и невольно ёжились, словно бы хотели вжаться в землю, они знали, что за страшное представление ждёт их.
– Придёте на площадь – увидите! Местный театр готовит вам хороший спектакль. – В голосах полицаев звучала наигранная бодрость, и сами они держались бодро, а вот глаза… Испуганные, мечущиеся глаза выдавали их – полицаи сами страшились того, что должно было произойти, давились бодрыми выкриками: – Все на площадь!
Они боялись Шичко.
А Шичко сейчас была занята одним делом – слишком уж чёрным, избитым выглядело после пыток лицо учительницы, с таким лицом её нельзя было выводить на площадь, и начальница полиции ломала себе голову, не знала, как быть. Забелить всё извёсткой – слишком грубо получится; краской – краску такую не сразу подберёшь, да потом краски телесного цвета ни в России, ни в Германии не выпускают, её надо составлять из многих других красок; мелом – и мелом не получится… Оставалось одно – убрать подбитые черноты и синяки пудрой.
Шичко не выдержала, зачертыхалась: это сколько же пудры придётся потратить на одну только преступную бабскую рожу? Но делать было нечего. Шичко достала из стола картонную коробочку с пудрой. Довоенное производство, московская фабрика «ТэЖэ». Начальнице полиции эта пудра нравилась – была мягкая, не вызывала раздражения… Конечно, пудра, привезённая из рейха, лучше, запах имеет райский, нежности она необыкновенной, но пудра «ТэЖэ» тоже на дороге не валяется, её тоже жалко тратить…
Тем более на кого тратить – на врагов Великой Германии… Шичко стиснула пальцы в кулак, жёстко хрястнула по столу – коробочка с пудрой даже подпрыгнула. Хорошо, драгоценный порошок не рассыпался, не лёг млечным путём на зелёное сукно, обтягивавшее стол. Шичко накрыла пудру ладонью и позвонила в колокольчик, вызывая к себе помощницу Эльзу. Та вошла в кабинет неслышно – сутулая, в круглых железных очках, неудобно оседлавших горбатый вороний нос, немногословная.
Начальница полиции ногтём подбила к ней коробочку с пудрой.
– Сходи в камеру, где сидит эта самая… – Шичко покрутила пальцами в воздухе, будто болт какой завинтила в пространство. – Ну эта… которую мы должны казнить первой…
– Э, поняла, – неторопливо произнесла Эльза.
Шичко вторым ударом ногтя подбила коробочку ещё ближе к помощнице.
– Наштукатурь её, убери синяки, чтобы рожа выглядела прилично… Да пудру не транжирь особо, береги! Понятно?
– Всё понятно, – прежним неторопливым, лишённым всякого выражения тоном проговорила Эльза. Подхватила коробку и исчезла из кабинета, словно бы её и не было.
В дверь заглянул Федько. Широкая, с тёмными, будто нарисованными углём бровками физиономия его была озабочена. Шичко нервно вскинула голову:
– Ну что там ещё?
Федько выпятил нижнюю влажную губу.
– Да ничего, Ассия Робертовна, всё в нормальке.
– Тогда чего пришёл? Народ, что ли, собираться не хочет?
– Собирается понемногу, а куда ж он денется? Сгоняем, как и было велено.
– Так чего тебе надо?
Федько выпятил нижнюю губу ещё больше, весь вид его выразил недоумение, он часто похлопал глазами, будто подцепил ресницами соринку, и отрицательно мотнул головой:
– Ничего… Ничего не надо!
Такие пустые ответы, как и пустые разговоры, беседы вообще, очень раздражали начальницу полиции, она уже открыла рот, чтобы врезать Федько как следует, по первое число, словом, но Федько уже не было, и Шичко ограничилась тем, что раздражённо дёрнула головой и, словно бы устав от стояния, опустилась в кресло, поёрзала в нём, устраиваясь поудобнее.
Конечно, дятел этот приходил с одной целью – отговорить её от казни. Тоже, заступник нашёлся. Шичко с негодующим шумом втянула в себя воздух, ноздри у неё сделались широкими, будто у африканской женщины, которую начальница полиции живьём не видела, на книжных картинках полюбовалась вдоволь, и этот туда же! Мало ей одного коменданта, теперь в радетели затесался старший полицай… Фу!
Эльза вернулась через двадцать минут, доложила бесстрастно:
– Заключённая к казни приготовлена.
– Морда у неё очень страшная?
– Вполне подходящая.
– Народ на площади не испугается?
– Не должен.
– Молодец! – похвалила Шичко свою помощницу. – Только Пантелеева не заключённая, а, как заявил мне комендант, арестованная.
– Что в лоб, что по лбу, Ассия Робертовна.
– Ладно, иди, знаток современного словоблудия! – Шичко приблизилась к зеркалу, оглядела себя – хорошо ли она смотрится?
Смотрелась она неплохо, только коменданту почему-то никак не понравится, совсем не обращает на неё внимания господин гауптман. Шичко недовольно подёргала ртом – комендант не только на неё, он вообще ни на кого не обращает внимания, ни на одну женщину в Росстани. Это наводит на определённые мысли. А понравиться гауптману начальнице полиции очень хотелось, тогда многие вопросы можно было бы решать в одно касание, без споров и разногласий.
Она достала из стола губную помаду, подкрасила себе губы, крепко сжала, словно бы хотела проверить, склеятся они или нет. Посмотрела на часы. Времени было ещё мало, а с другой стороны, чего тянуть-то? Пора. Раньше начнёшь – раньше закончишь. Или как там говорили бывалые уголовники из воркутинских лагерей: раньше сядешь – раньше выйдешь. Да, это так. Она натянула на себя шинель, плотно подпоясалась широким чёрным ремнём с висевшей на нём кобурой пистолета… Снова подошла к зеркалу, вытянулась. Сама себе понравилась – стройная, гибкая, как горянка, в хорошо подогнанной форме, в кепи с длинным козырьком, которое обычно мало кому идёт, а ей идёт. Казалось бы, фуражка эта германская должна была сделать её мужиковатой, грубой, а она, наоборот, сделала её лицо женственным, тонким, подчеркнула то, что ни платок, ни берет, ни шаль с кистями не подчёркивают… Шичко поправила на кепи оловянную «птичку» – орла, зажавшего в когтистых лапах лавровый венок с впаянной в него свастикой, стряхнула с форменного воротника невидимую пылинку и вышла в коридор.
Там уже в готовности толпился, погромыхивая сапогами по полу, наряд – собрались полицаи, которые должны будут вести к виселице несчастных узников, по два человека на каждого приговорённого. Шичко оглядела полицаев – по глазам ведь можно легко угадать, что в душе держит человек и как поведёт себя в ближайшие минуты. У всех полицаев физиономии были бодрые, красные, словно наждаком натёртые, ко всему готовые, а у одного лик – тусклый, взгляд безжизненный, и старался человек этот всё больше в землю смотреть, но никак не на начальницу…
Шичко это дело засекла, остановилась перед полицаем и, закинув руки назад, сцепила пальцы в один кулак, качнулась начальственно на ногах, словно лектор, пришедший в захудалый сельский клуб, с пятки на носок и обратно.
– Ну и чего ты, Легачёв, так поганенько выглядишь? Жалость, что ли, заела? А?
Тот не стал ничего отрицать, опустил глаза ещё ниже.
– Жалость, ваше благородие… – Начальницу он называл, как офицершу времён Гражданской войны, «благородием».
– Дурак ты, Легачёв. Я, конечно, могу заменить тебя другим человеком, но тогда ты как был бабой, так бабой и останешься. – Шичко вновь презрительно качнулась на каблуках своих роскошных сапожков.
Полицаи, стоявшие рядом с Легачёвым, захохотали. Шичко не обратила на смех никакого внимания, словно бы и не слышала его.
– Но я тебя менять не буду, останешься в конвое, который поведёт арестованных, понял?
Легачёв переступил с ноги ни ногу и согласно кивнул, кивок был робким, неуверенным. Шичко осталась недовольна его поведением и, бросив через плечо: «Пришлите ко мне Федько», – вернулась в кабинет.
Федько, успевший познать нрав начальницы – ожидать та не любила, приказы повторять тоже, – нарисовался незамедлительно и вошёл в кабинет буквально следом за нею. Начальница полицейской управы с недовольным видом стянула с одной руки перчатку.
– Ты вот что, Федько, – проговорила она нервно, – присмотри-ка за Легачёвым, чего-то он мне не нравится. Ежели что будет не так, живо ему голову под микитки и – в управу. Там разберёмся.
– А ежели он пойдёт на какую-нибудь крайность?
– Такого быть не должно, но, если он всё-таки пойдёт, сорвётся с катушек, можешь застрелить его. Понял, Федько?
Федько заморгал недоумённо, потом сомкнул вместе два пальца, приставил их к виску и чикнул губами:
– Так?
– Не прикидывайся дураком, Федько! Я-то тебя хорошо знаю… Но имей в виду – сделать это желательно без свидетелей. Отволоки его куда-нибудь за сараи… Понял?
– Ежели, конечно, удастся, Ассия Робертовна.
– Никакие «ежели» не принимаются, Федько. Всё! – Шичко шагнула к двери, открыла её, выпуская старшего полицая.
Через десять минут из подвала вывели арестованных. Первой – Октябрину Пантелееву с белым напудренным лицом, сквозь пудру проступали чёрные кровоподтёки, всё-таки Эльзе не удалось до конца заштукатурить их, следом сестёр Вету и Вику Проценко, ослабших, тонких, как хворостинки, в изодранной одежде, едва державшихся на ногах. Последним вытащили на свет паренька с синяком, залившим половину лица, на вид испуганного, но шедшего без посторонней помощи. С левой стороны паренька конвоировал Легачёв, державший наперевес тяжёлую винтовку, с другого боку шёл невзрачный, с прикушенными губами полицай, очень похожий на налима, вылезшего из-под донного камня, бывший лагерник, фамилию которого Шичко несколько раз пыталась запомнить, но так и не запомнила. Знала только, что некормленый плоский человечек этот был здорово обижен советской властью, несколько лет провёл за решёткой и из тюрьмы его освободили немцы.
Начальница полиции шла рядом с конвоем, отступя от него метра три в сторону, поглядывала на полицаев, державших винтовки наперевес, на обречённых людей, на лице её играла яркая победная улыбка, а в глазах прочно застыло мстительное выражение.
Кому она хотела отомстить и за что? Или за кого? За убитого Чердынцевым старшего лейтенанта Левенко? За кого-то ещё? Жёсткий снег неприятно повизгивал под ногами. Интересно, герр комендант придёт на казнь или нет? Если не придёт, то придётся его чем-нибудь ублажить… Только вот вопрос – как ублажить, ежели он не допускает до своего, пардоньте, тела?
Когда Шичко увидела на площади коменданта в окружении двух офицеров и пяти автоматчиков, в голове у неё невольно грянула победная музыка, литавры ударили так, что барабанным перепонкам даже сделалось больно.
Она подошла к гауптману, небрежно козырнула. Тот вставил в глаз увеличительное стекло, ловко прихватил его сверху бровью, зажал, уставился зорко и недружелюбно на начальницу полиции. Спросил:
– Никак не могу понять, мадам, почему вам не жалко этих молодых людей?
– Не жалко, и всё тут, – коротко ответила та, будто отрезала. – Мне власть их жизнь испортила.
– Это будет грустное зрелище, – сказал комендант, приподнял бровь, и круглое занятное стёклышко, привязанное к шнурку, заправленному за ухо, свалилось на меховой воротник шинели.
– Всякий народ смотрит те зрелища, которых он достоин, герр гауптман, – не ударила в грязь лицом Шичко, нашлась, что ответить.
– Ну-ну… – сдаваясь, проговорил комендант. – Можете начинать.
Площадь была полна – полицаи постарались, согнали всех, кого застали дома, Шичко заметила, что у одной бабки судорожно подёргивались плечи, поняла – старая карга плачет, – недовольно вскинула голову: всыпать бы ведьме десятка два плетей… Но нельзя – будет перебор, как в игре в «очко».
– Вам надлежит произнести перед народом речь, – сказала Шичко коменданту.
– Обойдитесь без меня, пожалуйста, – очень чисто по-русски проговорил тот, – речь скажите сами. Битте!
Когда Шичко приготовилась уже произнести первые слова своей речи и, выпрямившись, строгим взором обвела тёмный, словно бы обугленный горизонт, видневшийся за домами, под ноги ей кинулась какая-то полурастерзанная женщина в потёртом жеребковом жакете, обхватила руками нарядные сапожки начальницы полиции и заголосила так, что у Шичко мигом заложило уши. Это была мать сестёр-близняшек.
– Поща-ади-и! – просила несчастная мать, слюнявила губами нарядные сапожки.
Шичко брезгливо дёрнулась, попятилась от плачущей женщины.
– Да уберите же кто-нибудь её отсюда!
– Мама! – выкрикнула одна из близняшек, кто именно, было уже не разобрать – лица арестованных стали одинаковыми от побоев. – Не унижайся, мама, перед фашистскими подстилками!
– Подстилками – это что? – обратился комендант к переводчику и, продолжая любопытствовать, сунул под бровь стёклышко монокля. – Ковёр, по-моему… Да?
– Вы почти угадали, герр комендант. – Переводчик учтиво наклонил голову к начальнику. – По-русски это – продажная женщина.
– А при чём здесь ковёр? – В голос коменданта натекли хмурые нотки – когда он чего-то не понимал, то обязательно начинал хмуриться. – О ковёр вытирают ноги, а о продажную женщину ноги вытирать слишком дорого.
– Продажных женщин настоящие мужчины подстилают под себя, герр комендант, – вежливо, как даме на балу, пояснил учтивый толмач.
– Н-не понимаю… – В коменданта было трудно что-либо вбить, если он этого не хотел.
А над площадью висел надорванный, налитый слезами крик матери сестёр-близняшек, от которого с ближайших деревьев на людей сыпалась алмазная серая пыль:
– Пощадите моих девочек, госпожа начальница!
Двое полицаев пытались оторвать её от земли, поднять и отволочь в сторону, но не могли – переполненная горем мать была сильнее их.
– Пощадите моих девочек, прошу вас!
К ней примкнула старуха с трясущимися плечами – это была бабушка Вера, у которой квартировала Октябрина, – тоже повалилась на колени и, прилипая выцветшими нитяными чулками к жёсткому, но такому клейкому снегу, поползла к начальнице полиции, протягивая к ней руку и давясь слезами:
– Ы-ы-ы-ы-ы!
Всё было смазано, смято, превращено в кашу, в висках у Шичко полыхнул неведомый жар, она едва не заскрипела зубами, еле удержалась – начало церемонии было скомкано.
– Чего медлите, раззявы? – закричала она на подчинённых полицаев. – Чего рты пораскрывали? – добавила несколько крепких слов – видать, для убедительности. – Тащите их к скамейкам! – Ткнула рукой в виселицы, под которыми стояли табуретки – по одной под каждой петлёй. – Живее!
Петли обмёрзли на холоде, залубенели, сделались жёсткими – ни одна голова в них не пролезет, и это разозлило Шичко ещё больше. Краем глаза она засекла, что гауптман вновь сунул под бровь увеличительное стекло, выглядеть перед начальством взвинченной, нервной не хотелось, увиденное малость остудило её, и Шичко, шипя недовольно, по-гусиному втягивала воздух внутрь.
А арестованных не надо было вести к виселице, они сами подошли. Спокойно, без усилий переступая через страх перед смертью, с достоинством – понимали, что очень скоро наступит конец их мучениям, за смертью начнётся бессмертие и так больно, как было раньше, уже не будет. Главное, так больно больше не будет. Они были так спокойны, что Шичко позавидовала им.
Они умрут за Родину, за землю, на которой жили, а за что будет умирать она? Наивный вопрос! Но вопрос этот бывает наивен только до той поры, пока не коснётся человека впрямую, а когда коснётся и окажется, что высокой цели, оправдывающей смерть, нет, то приговоренный будет выть тоскливо, словно волк, угодивший в капкан, извиваться, кусать себе локти и просить маму, чтобы родила его обратно…
Никаких речей произносить она теперь уже, конечно, не станет – не та ситуация сложилась, и настроение приподнятое (для одних массовая казнь – тоска лютая, для других – способ отличиться) сошло на нет, было оно и не стало его, умеет герр комендант портить праздники людям, в общем, всё не то… «Надо быстрее сделать дело и – домой, домой, – решила Шичко, – плевать, в конце концов, на гауптмана с его доберманьей спесью, моноклем, увлечённостью Шопенгауэром и мужской никчемностью», – у него своя жизнь, а у Шичко своя.
Она ощутила, как за воротник ей заполз холод, вцепился в кожу. Начальница полиции втянула голову в плечи, будто неопытная мокрогубая девчонка, перекрывая дорогу неприятной колючей струйке, и снова сделала решительный взмах рукой, подгоняя подчинённых:
– Не валандайтесь, живее действуйте!
Те подсадили арестованных на табуретки, накинули им на головы тяжелые мёрзлые петли.
Девчата-близнецы держались мужественно, молчали, тела их были невесомы, любой малый порыв ветра, даже самый ничтожный, способный лишь пыль с дороги поднять, мог сдуть их с табуреток, но ветра не было. Октябрина тоже молчала, глядела какими-то неживыми, словно бы остановившимися глазами на заснеженные крыши Росстани и молчала, держалась мужественно. А вот паренёк хотя тоже держался, не сваливался с табуретки, не гнулся, но глаза его были полны слёз – умирать не хотелось.
Шичко подтянула перчатки, будто голенища сапог, подошла к Октябрине, глянула ей снизу вверх в глаза – Шичко показалось, что Октябрина сейчас попробует вымолить прощение, заголосит, но всё произошло иначе.
Глаза у Октябрины ожили, проклюнулся в них неясный далёкий свет, она измерила взглядом начальницу полиции с головы до ног, пожевала избитыми губами, словно бы хотела что-то сказать, но не произнесла ни слова – вздохнула прощально и плюнула Шичко в лицо. Плевок цели не достиг, но разъярённая Шичко едва не подпрыгнула в воздух, зашипела по-кошачьи зло, развернулась, прочнее устраиваясь на земле, и лихо, ловко, не сходя с места, ударила сапожком по табуретке.
Табуретка отлетела в сторону. Октябрина повисла в петле.
Следом Шичко выбила табуретку из-под ног паренька, тот дёрнулся в воздухе, словно бы в него попала автоматная струя, нашпиговала тело свинцом, изогнулся мученически, пытаясь рукой дотянуться до шеи, и стих.
– Ну а вы, сучки малолетние, сталинские, может, вы чего-нибудь хотите сказать всем нам? – Шичко остановилась перед девочками-близнятами, поиграла желваками, сёстры почему-то злили её больше всех.
Одна из сестёр неожиданно выпрямилась, хотя ей на шею давила жёсткая грузная петля, приоткрыла побелевшие, заплывшие от побоев глаза, внезапно брызнувшие тяжёлой взрослой ненавистью, ещё чем-то, что обожгло начальницу полиции, и проговорила негромко, собрав на это последние силы:
– Ты сама сучка! – так же, как и учительница, пожевала вспухшими синими губами и плюнула в Шичко. Добавила, опасно покачнувшись на табуретке: – Гитлеровская.
– Доченька! – понёсся над угрюмо колыхнувшейся площадью крик, силы вконец оставили девочку, она сникла, и в то же мгновение Шичко выбила из-под неё табуретку.
Девочка – то ли Вика это была, то ли Вета, не понять, ни один человек на площади из знавших близняшек не разобрал этого – по-птичьи выкинула в стороны руки, будто крылья, и повисла над землёй. Людям, стоявшим около виселицы, показалось, что она куда-то полетела…
Следом Шичко выбила табуретку из-под ног второй девочки.
Не произнеся больше ни слова, Шичко круто развернулась на одной ноге – сделала это красиво, по-офицерски, словно бы её специально обучали шагистике, издали козырнула коменданту и направилась к дому, в котором располагалась полицейская управа.
Гауптман, глядя ей вслед без всякого монокля – стёклышко опешивший человек просто забыл навесить на глаз, так дурно он почувствовал себя, – только головой покачал. И непонятно, что это было – то ли осуждение, то ли восхищение, то ли ещё что-то, всколыхнувшее душу его, во всяком случае, вести себя так, как вела Шичко, он не умел, пороху на это не хватало и ещё чего-то – взрывчатки, способной рвать сталь, что ли…
Шичко очень быстро пришла в себя. Первым делом вызвала в кабинет старшего полицая, раскрасневшегося от холода, отчего-то весёлого – уж не от казни ли? Спросила:
– Ну что там, друг ситный Федько, как вёл себя человек, за которым я просила присматривать?
Федько переступил с ноги на ногу, с шумом втянул в ноздри простудную жидкость, заметил, что начальница поморщилась, и сказал:
– Да ничего себя вёл, нормально. Как и все.
– За винтовку не хватался?
– Не было такого.
– Ладно. Будем считать, что вопрос снят, мне померещилось. Можешь идти.
– Спасибо! – невпопад произнёс Федько.
«Дурак набитый, – усмехнулась Шичко, не скрывая усмешки от полицая. – Только вот где взять умных? Умных людей в райцентре нет. Не родились ещё, не вывели их». Она вздохнула надсаженно, словно бы ей поручили решить непосильную задачу – вывести в Росстани породу умных людей.
Когда Федько уже переступил порог кабинета, начальница полиции проговорила негромко:
– Стой!
Федько остановился, замер с поднятой, согнутой на весу ногой:
– Стою, Ассия Робертовна!
– Да развернись ты!
Старший полицай послушно, на одной ноге, вторую он продолжал держать по-гусиному на весу, сохраняя равновесие, развернулся.
– У виселицы выстави пост, – сказала Шичко.
– Уже выставил, Ассия Робертовна!
– Весьма похвально, молодец, – одобрила его действия громко начальница полиции, а про себя добавила: «Хотя и дурак!»
– Только тут вот что… – Федько наконец опустил ногу, вздохнул освобожденно, словно бы поднятая нога чего-то ему перекрывала – то ли воздух, то ли мочу, бурая краска, прилившая к его щекам, стремительно отхлынула, лицо сделалось бледным. – Партизаны могут налететь… Один раз они уже налетали.
– С партизанами мы скоро покончим, – недовольно поморщилась Шичко и добавила многозначительно: – Этот вопрос – решённый. Сидеть в своих кустах им осталось недолго… Ну и что ты предлагаешь?
– Усилить пост пулемётом.
Шичко задумчиво пощипала пальцами нижнюю губу.
– А что, в этом чего-то есть, может, так и надо поступить. Действительно, вдруг эти сумасшедшие из своих берлог выкатятся? Нужно с господином гауптманом посоветоваться. Плохо, телефона нет…
У коменданта телефон имелся, он со своими немаками был связан прямым проводом, а вот с полицейской управой нет – то ли провода не хватило, то ли ума, и если понадобится о чём-нибудь предупредить его либо попросить помощи, то телефон заменяют только «свои двои» какого-нибудь полицая, обутого в разношенные сапоги, не всегда немецкие причём…
– Ладно, Федько, давай, готовь пулемётчика, – распорядилась начальница полиции, – меры предосторожности никогда не бывают лишними. А я всё-таки схожу к коменданту. Не то он на площади стоял с козьей мордой.
Когда она появилась в кабинете гауптмана, тот проворно поднялся со стула и, сунув под бровь увеличительное стекло, поспешил навстречу гостье.
– О-о, я был сегодня приятно удивлён, – проворковал он душевным тоном, – и поражён вашим хладнокровием и мужеством, мадам. – Он подошёл к Шичко и почтительно подцепил её руку, поднёс к губам – раньше он этого никогда не делал. – Я буду хлопотать о награде для вас…
Шичко было приятно услышать это, но тем не менее она сделала независимое лицо:
– Не за награды служим, герр гауптман!
– О, да, да! Но тем не менее награда всегда бывает хорошо!
– Хорошо… это верно. Мои источники донесли мне, герр гауптман, что может быть налёт партизан.
Командир отступил на несколько шагов от Шичко, стёклышко сверкнуло, пятнышком вывалилось у него из глаза и повисло на шнурке.
– Партизан? – переспросил комендант, на щеке у него задёргалась нервная жилка.
– Да, – твёрдым голосом подтвердила Шичко.
– Что вы предлагаете?
– Поставить у виселицы пулемёт. Ведь первое место, где появятся партизаны, будет виселица.
– Верное решение! – одобрил действия Шичко комендант, пальцами изловил стёклышко, сунул его под бровь. – Пулемётный пост поставьте также у себя в полиции, мы в комендатуре сделаем то же самое. Партизан встретим достойно. Как они того заслуживают. – Комендант негромко, как-то дребезжаще, будто горло у него было деревянным и ни с того ни с сего пошло трещинами, захохотал, потом оборвал смех и потёр руки. – Такая внезапная встреча станет залогом нашего успеха. Мне будет, что доложить начальству, более того, я постараюсь, чтобы об этом стало известно в Берлине. Целую вашу руку, фрау. – Комендант лихо, как молодой гусар, щёлкнул каблуками и поклонился начальнице полиции.
Шичко вышла от коменданта довольная, будто провела с ним время в ресторане. Ещё несколько таких шагов, и комендант будет её. Придя в управу, закричала освобожденно, во весь голос, словно бы её уже наградили немецким орденом:
– Федько, ты ещё не установил у виселицы пулемёта? Не медли! Дежурство у пулемёта – круглосуточное. Понятно?
Райцентр был тих, безжизнен, даже вороны, любившие сидеть на деревьях, покинули свои наблюдательные посты, подевались куда-то. Людей – ни души. Только полицаи мёрзли около виселицы, гулко топали сапогами, пытаясь согреть озябшие, ставшие деревянными ноги, хлопали рукавицами друг о дружку да вытирали обшлагами форменных шинелей носы и слезящиеся от мороза глаза.
Пусто, холодно было в Росстани, неуютно, смертью пахло, перепуганные люди попрятались по домам.
Покачивались на мёрзлых верёвках повешенные, скрипели перекладины виселиц, когда приносился ветерок, внутри деревянных столбов возникал и тут же гаснул тихий страшный стон, мороз от него по коже бежал, кололся острыми лапками, вызывал страх нешуточный – плохо было сейчас людям, живущим в Росстани, ничего светлого не предвиделось.
В углу площади, около палисадника, ограждавшего территорию бывшего купеческого дома, прямо на обледенелом снегу лежала женщина, скребла ногтями твёрдую корку наледи, уже до земли проскребла и выла тихо, едва слышно:
– До-оченьки мои-и… до-о-оченьки-и…
Полицаям она не мешала, поэтому служившие не обращали на неё внимания, считали её вой чем-то вроде музыкального сопровождения – приравняли одно к другому… Сердечные были люди.
Когда из управы притащили пулемёт и установили его на громоздкой треноге, полицаи оживились. Ещё более оживились после того, как на санях привезли несколько кулей, набитых песком, и соорудили из них защитный бруствер для пулемётчика.
– Всё, налетай теперь партизаны сколько хошь! – веселились они. – Встретим достойно, граждане-товарищи! Налетай!
Правда, пулемётчик был не очень доволен тем, что его выдернули из тепла и бросили на мороз, на охрану виселицы, лицо у него перекосилось, словно от зубной боли, съехало набок и таким перекошенным, слева направо, и осталось.
– То ли ещё будет, – веселились полицаи, с топотом отгоняя от себя мороз, они знали, что делали, другого способа бороться со стужей не существовало, если только поочередно сбегать к какой-нибудь вдовушке и хлебнуть бимбера, но они боялись Шичко – не дай бог, застукает… Тогда всё. Поэтому оставалось одно – веселить самих себя.
– А что будет, если сбегать за самогонкой? – внезапно ожил пулемётчик.
– Сбегай – увидишь, – сказал один полицай.
– Может, нам твой пулемёт продать? – предложил другой. – Или обменять на большую бутыль самогона?
– Щаз! – вновь погрузился в сонное, недовольное состояние пулемётчик. – Разбежался!
В воздухе возник лёгкий шум, принёсся ветер, трупы повешенных со скрипом закачались на отвердевших верёвках. Пулемётчик невольно съёжился – страшно сделалось, выровнявшееся было лицо вновь поползло в сторону, перекосилось, сделало лик недоделанного воина незнакомым, будто он перенёс какую-то опасную для человека хворь. Лошадиную, например. Или собачью. Кожа на лице стала зеленовато-землистой, мешки под глазами вспухли и обвисли, рот приоткрылся, обнажив чёрный отёкший язык с несколькими узловатыми жилами и пузырьками слюны, застывшими на нём. Ну словно бы пулемётчика самого повесили!
Ветер стих, через несколько секунд возродился вновь, поднял сноп жёсткого снега, опять пронёсся над землёй… Лицо у пулемётчика позеленело ещё больше, добавилось и серого мертвечиного цвета, поры вытемнились, проступили чёрными глубокими точками. Слишком уж жутко скрипели мёрзлые твёрдые верёвки, будто проржавели до самого нутра… Полицаи тоже притихли – и им сделалось страшно, вот ведь как. Очень страшно – кровь даже остановилась в жилах, им показалось, они сейчас окаменеют…
Но ещё страшнее было ночью – всё чудилось, что на улочках райцентра вот-вот зазвучат выстрелы и партизаны своим огнём выметут из Росстани и самих полицаев, и их хозяев немцев, уложат в рядок и тех и других и не пощадят никого, ни единого человека.
Улочки же Росстани были тихи и безлюдны, никто той страшной ночью на них так и не появился – страхи полицаев были напрасны. Хотя повешенные, раскачивавшиеся под порывами ветра в своих петлях, пугали их здорово. Пулемётчик от страха даже едва не обмокрился. Но – пронесло. Напарники по дежурству ничего не заметили.
О казни, совершенной в Росстани, Чердынцев узнал через два дня – раньше связи с райцентром не было. Расстроенно помял пальцами горло, потом рванул крючки на воротнике гимнастёрки – дышать было нечем.
Отдышавшись, позвал к себе начальника разведки.
– Иван, пошли пару человек в Росстань. Пусть узнают там в деталях, как всё произошло… Всё в деталях, повторяю. Ладно? – Чердынцев вздохнул, опустил голову, желваки на его щёках напряглись, опали. Снова напряглись. – Договорились?
Маленький солдат тоже опустил голову, он успел хорошо узнать Октябрину Пантелееву, пару раз провожал её от базы до райцентра, оберегал по дороге, следил, как бы чего не случилось. Учительница нравилась ему, у Ломоносова даже красные пятна на щёках вспыхивали, когда он видел её, и маленький солдат обязательно старался вдвинуться в тень, чтобы зоркая партизанская публика не засекла его покрасневшей физиономии и блестящих глаз.
И вот Октябрины нет. Ломоносов так же, как и лейтенант, горько вздохнул. Выпрямился.
– Всё понял, товарищ командир, – произнёс он тихо, сморщился страдальчески. – Сегодня же пошлю людей.
На разведку отправились двое – Ерёменко и Игнатюк.
– В село вместе не суйтесь, – предупредил их Ломоносов, – один пусть обязательно останется… На атасе. Ты, Ерёменко, человек шустрый, сообразительный, тебе сам бог велел пойти в райцентр, ты из любой передряги выкрутишься, немцы не страшны, а ты, Рыжий, останься на стрёме… Впрочем… – Ломоносов махнул рукой. – Действуйте по обстановке… – Ломоносов пожевал губами, в горле у него что-то булькнуло, поплыло, потекло, и он не сумел ничего больше сказать, вновь махнул рукой: идите, мол.
Расстроенный вид Ломоносова говорил о многом. Разведчики ушли.
Километрах в двух от Росстани в дупле старого кряжистого дуба у них имелась схоронка – очень нужная в условиях леса вещь, туда они прятали одежду. В холодную пору без костров не обойтись, любая тряпка пропитывается дымом настолько, что её невозможно даже поднести к лицу – крутой запах щиплет, выворачивает наизнанку ноздри, любой немец, даже безносый, по пропитанной дымом одежде безошибочно угадывает в партизане партизана, поэтому в лесной телогрейке либо в армянке было опасно появляться в райцентре – это провал, вот разведчики и переодевались, подыскав для одежды подходящее дупло… Свернули они к схоронке и в этот раз.
Ерёменко натянул на плечи зипун, зябко передёрнул плечами – слишком тот охолодал в дупле, свою телогрейку скатал в комок, внутрь сунул ушанку с красногвардейской звёздочкой, перетянул свёрток ремнём. Одёрнул на себе зипун, на голову напялил облезлый заячий треух – и мгновенно превратился в забитого несчастного селянина, явившегося в райцентр, к властям здешним искать защиты от притеснений старосты, ну, ни дать ни взять, заморенный, задавленный хлопотами, бесправный сельский мужичок…
Ерёменко, будто заправский демонстратор одежды, крутнулся перед Игнатюком, словно на помосте:
– Ну, как, Рыжий?
Тот вздёрнул торчком большой палец:
– Во! От деревенского дурачка не отличишь.
– Дымом от меня сильно пахнет?
Игнатюк покрутил носом, пофыркал, посопел, шумно втянул ноздрями воздух, также шумно выдохнул.
– Говнецом попахивает, а дымом… дымом – нет!
– Рыжий, не дразни дядю!
– Я честно говорю: говном попахивает, дымом нет.
– Это хорошо, – довольно произнёс Ерёменко. – Держи! – Отдал Игнатюку автомат, сумку с запасными рожками и пистолет.
– Пистолет, может, оставишь?
– Нет. У меня есть оружие получше пистолета. – Ерёменко достал из кармана нож с выщелкивающимся лезвием – месяц назад нашёл его в ранце у одного убитого мотоциклиста, научился прилично пользоваться им. Щёлкнул кнопкой и произнёс горделиво, а главное, к месту: – Стреляет без промаха. Осечек не бывает.
Но на Игнатюка эта горделивость впечатления не произвела, он шмыгнул носом, подцепил рукавицей простудную влагу и пробурчал, недовольный тем, что Ерёменко не прислушался к его совету:
– Не говори «гоп», пока плетень не одолеешь. Вернёшься назад живой, целый, без красной вьюшки, размазанной по физиономии, тогда и скажешь.
– Ладно, не бурчи, Бурчалкин. Лучше молись за меня, пока я буду находиться там… – Ерёменко повёл головой в сторону, в которой находился райцентр.
– Договорились. Вали и… и возвращайся побыстрее. Не то мне тут одному будет скучно. – Игнатюк поспешно замаскировал дупло, критически оглядел напарника со стороны и двинулся за ним следом. Пробормотал на ходу: – Бурчалкин, Бурчалкин… Ну и словечки же ты подбираешь, брат Митюха!
Он довёл Ерёменко до опушки леса, там достал из кармана гранату, подкинул её в руке. Попросил:
– Возьми с собой хоть гранату… На всякий случай. Мало ли что!
– Гранату давай, – неожиданно согласился Ерёменко, сунул её за голенище валенка, подёргал ногой. – Нет, неудобно. – Переложил её в карман зипуна. – Пусть побудет пока тут, погреется. – Не прощаясь, не произнеся больше ни слова, натянул треух на глаза и двинулся через поле к райцентру, к темнеющим разноликим приземистым домам.
Игнатюк долго стоял на опушке. Одинокая, наполовину съеденная пространством фигурка вызвала у него невольное щемление, почти боль, родила разные тоскливые мысли, от которых, если честно, на войне надо освобождаться, иначе рванёт, как та граната, и от человека только одни подошвы да ногти и останутся… Тьфу! Игнатюк до боли вглядывался в поле, залитое ровной седой белью, не выпускал из глаз неторопливо бредущей фигурки до тех пор, пока фигурка не исчезла совсем – её растворили снега, снега, снега…
Ерёменко благополучно добрался до площади, где располагалась виселица, а на верёвках продолжали раскачиваться четыре негнущихся, превратившихся в камень тела, несколько минут стоял там, шмыгая носом и внимательно рассматривая повешенных, словно бы хотел запомнить эти лица, внезапно сделавшиеся ему дорогими, на всю жизнь.
Долго находиться тут было нельзя, его уже приметил дюжий полицай, стоявший на часах у трупов, цепким взглядом он оглядел Ерёменко с головы до ног и поинтересовался с ухмылкой:
– Ну что, нравятся?
– Да как сказать… – попытался уйти от ответа Ерёменко.
– Как есть, так и скажи. – Полицай сощурился, вновь измерил взглядом мужичка, который ему чем-то не приглянулся, а вот чем конкретно, он понять не мог… Да, собственно, всем! Всё в нём было плохо. Полицай – это был Федько, – рассерженный до икоты от того, что ему пришлось заступить на дежурство и вместо законного выходного дня он теперь должен отгонять от виселицы разных деревенских дурачков типа этого малахольного кацапа в облезшем треухе, никак не мог прийти в себя, потому и привязывался. В треухе у кацапа небось тараканы водятся. И клопы со вшами. – Скажи-и, – с угрозой протянул полицай.
Ерёменко видел, что происходит внутри у часового – это было без всяких объяснений понятно по его роже, туго обтянутой лоснящейся кожей, по усталым от выпивки, маленьким багровым глазам, – и был спокоен: этого красномордого деятеля он не боялся.
– Ну, чего молчишь, козёл деревенский? – повысил голос Федько, стаскивая с себя тяжёлую немецкую винтовку.
«Кто из нас козёл, ещё надо разобраться», – подумал Ерёменко без всякого зла и страха – эка невидаль, винтовка, в двух метрах из-за мешков с песком выглядывает более грозное оружие – пулемёт с длинным дырчатым кожухом, надетым на ствол, неопределённо приподнял одно плечо и спросил тихим, скучным голосом:
– А чего говорить-то?
– В райцентре я тебя раньше не видел, – просипел Федько жёстко, – говори, откуда пришёл?
– Из Тишкина, – без запинки ответил Ерёменко.
– И в Тишкине я тебя не видел, – заявил полицай. – Чего ты там делаешь?
– Как чего? – сделал недоумённый вид Ерёменко, глазницы у него округлились. – Живу.
– Где конкретно?
– В третьей хате по правой стороне, если выезжать из Тишкина в райцентр.
– А фамилия твоя как будет?
– Рыбачков! – Ерёменко знал, что говорил, половина семей в Тишкине носила эту фамилию, чтобы проверить её, этому красномордому деятелю надо будет поехать в Тишкино, дорога же туда неблизкая, на проверку полицаю понадобится пара дней, не меньше, поэтому вряд ли он будет дальше придираться.
Скорее бы он отлепился. Но полицай не думал отставать от не понравившегося ему мужичка, приблизился к Ерёменко, засопел шумно, пробуя ноздрями воздух.
– Ты это, – заявил он громко, – от тебя дымом пахнет. Ты – партизан!
– Да какой я партизан, – устало заявил Ерёменко, – окстись, дядя! А дымом… да, дымом от меня пахнет, поскольку печка в хате старая, перекладывать её надо, да только кто ж печи в домах зимой перекладывает? Тем более морозы вон какие стоят – до костей пробирают.
– Не нравишься ты мне, козёл деревенский… – Полицай, придерживая винтовку, звучно высморкался себе под ноги.
– Я не пряник, чтобы нравиться. Это жамки глазированные всем нравятся…
– Пошли в управу, будем разбираться.
– Пошли, – покорно вздохнул Ерёменко, – хотя чего тут разбираться?
– Топай, топай передо мной! – Федько ухватил его за воротник, больно ткнул костяшками кулака в шею. – И не вздумай шаг влево или вправо сделать – мигом продырявлю. Иди прямо и подчиняйся моим командам.
– Тишкинский я… – взялся за своё Ерёменко.
– А по-моему, лесной. Партизан!
– Ну, дядя, ты и даёшь! – Ерёменко пальцем поддел треух, сдвигая его вверх, из-под треуха показалось остриженное под «нуль» темя. Полицай заметил это, воскликнул неожиданно радостно:
– Да таких лысых, как ты, в Тишкине отродясь не бывало. Партизан!
– Сам ты партизан! – с досадою произнёс Ерёменко.
Федько снова ткнул его костяшками кулака в шею. Прорычал:
– Счас мы тебя на дыбу вздёрнем – живо в своих грехах признаешься!
Ерёменко знал, где располагается полицейская управа. Как знал и то, где разместилась комендатура. Эти два места были в Росстани самыми опасными. Управа находилась дальше комендатуры, но, прежде чем они достигнут её, от этого назойливого любителя свекольного первача надо будет освободиться, иначе Ерёменко действительно вздёрнут на дыбу. А этого очень не хотелось…
Знал Ерёменко и некие укромные места, о которых полицай, возможно, даже не догадывался – имелись такие в самом центре, среди домов, за сараями, – это были очень угрюмые уголки, куда, в основном, заглядывали собаки, да и то до войны, когда они тут водились, ныне же немцы почти всех собак выбили…
Сейчас, например, будет поворот в тёмный кривой проулок, очень короткий, выводящий на площадь, на эту же площадь выходит и длинная кривая улица, на которой располагается управа… Но этот путь не один, можно двигаться и по улице, которую они сейчас одолевают, дальше, а потом по перпендикулярной улочке выйти к управе. Этот путь короче. Интересно, какую дорогу изберёт конвоир?
– Иди, иди поногастее! – просипел сзади полицай – он сипел всё время да ещё всё время норовил ткнуть Ерёменко кулаком в шею. – Повёртывай направо!
Значит, полицай решил сократить расстояние – сейчас они свернут в небольшой, вечно пахнущий гнилью проулок. Ерёменко повернул в проулок, полицай, не отставая, – следом. В очередной раз потянулся к мужичку, чтобы ткнуть его своим пудовым кулаком в шею, мужичок же неожиданно остановился и, приседая, резко нырнул вниз и в следующий миг ловко выбил у полицая из рук винтовку. Та, как обычная деревяшка, утяжеленная железом, отлетела в сторону, забряцала глухо, Ерёменко стремительно развернулся, щёлкнул кнопкой трофейного ножика и всадил лезвие в полицая.
Похмельная бурость разом сошла с лица Федько, глаза побелели от ужаса – боли он ещё не почувствовал, – зашипел полицай, словно бы из него выпустили воздух, беспорядочно замахал перед собой руками. Ерёменко всадил ножик поглубже, провернул его внутри, и Федько тихо пополз вниз, перестал метелить лапами, разгонять перед лицом партизана навозный воздух, полезший из него. Ерёменко выдернул из полицая ножик, ухватил обеими руками Федько за воротник – точно так же, как пять минут назад полицай сам хватал его, – и, напрягшись, поволок в расщелину, образованную стенками двух сараев.
Следом заволок в расщелину винтовку, выдернул из неё затвор – надо будет забросить его где-нибудь в огороды, подальше отсюда, либо на заснеженную крышу сарая, там затвора вообще никто не найдёт, саму винтовку сунул под прелую поперечную доску, чтобы не было видно, и, озабоченно отряхивая руки, будто что-то искал, вылез из расщелины.
В проулке никого не было, ни одного человека – у местных жителей имелись свои проходные места, они предпочитали передвигаться по центру боковыми тропами.
Главное в Росстани место, где всегда можно было отогреться, отдышаться, выпить чаю и прийти в себя – комната, которую снимала Октябрина, – перестало существовать. Сердце у Ерёменко сжалось, он тяжело вздохнул: «Эх, Октябрина!..»
У Октябрины в райцентре оставалась подруга и помощница, которую Ерёменко тоже знал, такая же учительница, преподававшая в младших классах рисование, Галина Сергеевна Трухина. Галина Сергеевна была одинокой, уже в годах, молчаливой женщиной, умевшей неплохо писать акварелью и маслом – её работы, говорят, даже выставлялись в Москве, а уж что касается областного центра, то там они бывали не раз, – как всякая художница, она обладала точным глазом и хорошей зрительной памятью.
С другой стороны, раз у него случилась стычка с краснолицым полицаем закончившаяся для краснолицего не совсем складно, скажем так, надо было уходить, ведь в любую минуту эту помидорную физиономию, налитую алкоголем, могут начать искать… А оцепить такое село, как Росстань – плотно оцепить, чтобы ни одна мышь не проскочила, – штука несложная, закупорят все входы и выходы и начнут чистку… Тогда ведь и спрятаться негде будет.
Но уходить, не имея ясной картины о том, что тут было, тоже нельзя – приказы ведь для того и дают, чтобы их выполнять…
Ерёменко беззвучной тенью одолел проулок, перекочевал во второй, такой же сумеречный и пустой, там перемахнул через плетень и, прикрываясь стенкой сарая, прошёл в третий проулок, косоватый, серый, более тёмный, чем предыдущие. Двигаться проулками было легче, чем улицами, а главное – безопаснее.
Минут через десять он очутился у дома, в котором жила учительница рисования. Осмотревшись, проверил, не наблюдает ли кто за ним, ничего подозрительного не обнаружил и скребнул ногтями в окно, потом трижды стукнул пальцами по стеклу.
– Галина Сергеевна!
В окошке показалось встревоженное блеклое лицо. Учительница козырьком приложила ко лбу ладонь, всмотрелась в окно. Узнала Ерёменко, вскинула в приветственном движении одну руку, потом махнула ладонью, приглашая разведчика в дом. Ерёменко в ответ скрестил обе руки – известный запрещающий жест: не могу, мол, потом показал пальцем на запястье, где должны были находиться наручные часы. Галина Сергеевна всё поняла, выскочила на улицу, держа в руках горбушку тёплого хлеба.
– Угощайся! Хлеб только что из печи.
Дух от хлеба шёл такой вкусный, что на уголках глаз у Ерёменко возникли и скатились одна за другой вниз крохотные свежие слезки. Ему захотелось прошептать потрясённо: «Мам-ма моя!» – но он промолчал. Спросил лишь тихо:
– Галина Сергеевна, что тут произошло?
Та рассказала, как полицаи похватали девчонок-близняшек, как арестовали Октябрину, как была устроена показательная казнь. Ерёменко сжал кулаки так, что у него захрустели костяшки пальцев.
– С-сволочи продажные!
Через несколько минут он снова нырнул в проулок, одолел его, затем, прижимаясь к плетням и загородкам, перекочевал в другой проулок.
Дни в зимнюю пору стоят короткие, пальцев одной руки хватит, чтобы измерить протяжённость, темнеть начинает быстро. Едва он прошёл второй проулок, как воздух начал густеть, в нём зашевелились, задвигались неровные пятна с неряшливо раздёрганными краями. Факту этому природному, естественному, Ерёменко обрадовался – темень вечерняя, а потом и ночная надёжно укроет убитого полицая, до утра его не найдут.
Точно, не найдут. Вот что значит везение. Только Ерёменко подумал о везении, об удаче, как совсем недалеко от него на крыше комендатуры взвыла сирена. Ерёменко тормознул, будто в грудь ему кто-то упёрся колом, не пустил дальше.
Похоже, рано он обрадовался – убитого нашли. Иначе отчего так пронзительно визжит немецкий ревун? Он огляделся. Услышал сзади топот. Обернулся. По проулку неслись двое полицаев с винтовками, громко долбили ногами по земле, разбрызгивая в разные стороны сухой колючий снег. Ерёменко перепрыгнул через плетень, приземлился в ноздреватом, с прочной макушкой сугробе, утонул в нём по колени, потерял на этом прыжке время, мотнул досадливо головой, почувствовал, что дело запахло керосином, если он не оторвётся от этих битюгов, ему будет худо.
С другой стороны, может, и не надо было шарахаться и сразу перемахивать через плетень, может быть, нужно было подождать этих деятелей – глядишь, они и пронеслись бы мимо.
Вряд ли.
Ерёменко отчаянно месил ногами обледеневший снег, стараясь выбраться из сугроба, ступить на твёрдое место, но это ему не удавалось – снеговая корка вновь и вновь проламывалась под подошвами, хрустела невкусно. Тем, кто шёл за Ерёменко, дюжим полицаям, было легче, они двигались по пробитому пути.
– Сто-ой! – прокричал один из полицаев. Глотка у него была что надо, крик наверняка был слышен на другом конце Росстани.
Протестующе помотав головой, Ерёменко сделал несколько прыжков, выкарабкался вроде бы на твёрдый участок, но через мгновение вновь провалился в сугроб, покрытый пожелтевшей пористой коркой.
– Тьфу! – отплюнулся он, выбил из себя тугой горький комок, глянул назад – где там полицаи?
Полицаи не отставали от него, разгребали коленками снег, плыли по следу бегущего Ерёменко.
– Шкуры продажные, – прохрипел разведчик, хватая ртом, зубами воздух. – Суки немецкие… И откуда только вы берётесь?
– Сто-ой! – вновь прокричал один из полицаев – тот, с громовой глоткой. – Стрелять буду! Стой, гад!
– Ага, счас! – привычно отплюнулся Ерёменко. – Разбежался и остановился.
Полицаи настигали его. Хрипя, стискивая зубы, Ерёменко сбавил ход, потом остановился, упёрся валенком во что-то твёрдое, подвернувшееся ему под ногу, пригнулся, сделал это вовремя, в следующее мгновение на него навалился полицай, похоже, тот, с трубным голосом. Ерёменко качнулся вместе с насевшим на него человеком, выбил из себя хрип и ударил полицая снизу ножом. Потом ударил ещё раз – в самое нежное для мужчины место, в разъём ног. Полицай закричал. Судя по тому, что это был не крик, а, скорее, пароходный рёв, на ножик насадился человек со слоновьей глоткой.
Ерёменко сбросил полицая с себя и подхватил винтовку, которую тот выпустил из рук, винтовка уткнулась стволом в снег. Очень удачно уткнулась винтовочка, прямо под руку. Ерёменко передёрнул затвор и в то же мгновение выстрелил. Полицай, бежавший вторым, даже понять ничего не успел, как его оторвало от земли и он, заваливаясь на спину, увидел собственные сапоги.
Развернувшись, Ерёменко прикладом ударил первого полицая, лежавшего в красном окровененном снегу, безуспешно пытавшегося зацепиться за что-нибудь пальцами, бросил винтовку рядом с ним. Увидел лежавший нож – он не помнил, как уронил его, в какой миг это произошло, тряхнул головой от досады, сбивая треух на нос, подхватил нож и побежал дальше.
А сирена продолжала выть, воздух от неё подрагивал нехорошо, будто студень это был, а не воздух, искрился, с крыш ссыпалась серая пороша, невесомой бязью ложилась под ноги. Дело осложнялось.
Надо было забраться в какой-нибудь сарай, переждать – пусть утихомирится всё, уляжется, а там видно будет… Ерёменко остановился у одного из сараев, прижался спиной к двери. Нужно было хотя бы немного оглядеться, вслепую бежать нельзя. Дыхание рвалось в нём, перед глазами плавала красная пелена. Если бежать вслепую – можно очень быстро вляпаться… А с другой стороны, медлить нельзя – счёт идёт на секунды. Ведь это же по его душу так отчаянно блажит сирена, не по убитым же полицаям она ревёт.
Вправо уходила стенка разноликих, разнодверных, разнобоких, разнородных сараев… Те, что побогаче, были окрашены в зелёный и салатный колера, ещё – в коричневый, так называемый половой цвет, сараи победнее были некрашеными, обычными, потемневшими, в ржавых пятнах, образовавшихся подле старых гвоздей, дерево пропиталось ржавью, стало некрасивым. Ох, не то лезет в глаза, мозолит зрачки. Ерёменко дёрнул на себя одну дверь – заперто, вторую – заперто, третья, недавно окрашенная защитной масляной краской, была увенчана большим висячим замком, словно орденом, на четвёртой тоже висел замок.
Дело было швах. Ерёменко ухватился обеими руками за скобу, привинченную болтами к четвёртой двери, рванул на себя что было силы, потом рванул ещё раз.
Одна из петель, на которой держался замок, не выдержала, со звоном отлетела вместе с гвоздями – гвозди, к счастью, были недлинными, непрочными, сопротивляться долго не могли, – и дверь открылась.
Это был обычный сарай, заставленный и заваленный разным хламом. Чего только тут не было! От мусора, который хозяйки с удовольствием выметают из своих комнат, до старых вёдер, тазов и продавленных стульев. Ерёменко поплотнее притянул дверь изнутри и уселся на стул поблизости – ему важно было слышать, что происходит снаружи.
Сирена продолжала выть. «Интересно, долго она будет так упражняться? – устало подумал Ерёменко. – На зубах от неё уже зуд образовался». Рёв сирены мешал слышать то, что происходило на улице.
Где-то недалеко – в соседнем проулке, похоже, – послышались командные вскрики, кто-то пытался организовать погоню, Ерёменко даже разобрал тонкий визгливый возглас «Партизанен!» – то ли женский был этот возглас, то ли мужской, не понять, – затем вскрики прекратились, и через несколько минут за тыльной стенкой сарая раздался громкий топот… Несколько человек пробежали мимо, и топот растворился в вое сирены. Ерёменко сунул руку в карман, ощупал пальцами гранату. Как хорошо, что он взял её у напарника!
Но было бы ещё лучше, если бы он взял пистолет. Но… как говорят, и на старуху бывает поруха… Или как там ещё выражаются? Проруха? Ерёменко не был знатоком русского языка, не ведал, как будет правильно. Да и не в этом дело.
За тыльной стенкой сарая снова раздался топот ног, потом ещё – пробежала вторая волна, раздался прежний визгливый выкрик, родивший на этот раз у Ерёменко звон в висках:
– Ищите лучше! Он где-то здесь!
Ерёменко сжал гранату, нащупал одним пальцем кольцо, подцепил его ногтём.
Сирена продолжала выть.
В следующее мгновение топот ног раздался за дверью сарая. Кто-то ожесточённо потряс за ручку соседнюю дверь, выругался.
– Проще таракана в собственной заднице найти, чем этого партизана!
Ерёменко ощутил, как у него сам по себе задёргался рот, поспешно выдернул руку из кармана, прижал её к губам. Ещё не хватало расклеиться, дать слабинку… Он стиснул зубы.
Рот перестал дрожать. Ерёменко сделался спокоен. Так спокоен, что ему показалось: он слышит стук собственного сердца. Неторопливый, размеренный, какой-то чужой, будто стук этот доносился до Ерёменко откуда-то извне, со стороны.
Обстановка в райцентре, похоже, раскалилась совсем, сирена продолжала выть.
Ерёменко ждал. Мимо сарая вновь пронеслись несколько полицейских, в дальней стороне, справа, где кончались сараи, начали что-то долбить ломом, потом стук прекратился. Сирена вдруг издала несколько трубных болезненных звуков и умолкла. То ли перегорела машина, то ли устала, из сарая не определить. Ерёменко продолжал ждать.
Неужели пронесло? И голосов высоких, надорванных вроде бы не слышно – убежали полицаи в другой конец райцентра, и сирены не слышно…
В сарае тем временем ожили мыши, заскреблись нетерпеливо – им надо было доесть пару вкусных книг с кожаными корешками и страницами, пахнущими масляной краской, лучшее лакомство в зимнюю пору. Ерёменко не выдержал, вздохнул завистливо: никому эти грызуны не нужны, никто их не ловит, не палит в них, не преследует…
Тихо. Не может быть, чтобы пронесло. Ерёменко не верил этому – слишком уж много шума было, до сих пор голову ломит от воя сирены.
Прошло ещё несколько минут. Чуткое ухо разведчика различило, что мышиный шорох раздаётся теперь и в другом месте, за стенкой сарая, прислушался к нему и снова на всякий, что называется, случай просунул руку в пройму кармана, ощупал гранату и просунул указательный палец в предохранительное кольцо: шорох этот запечный вне сарая не понравился ему…
– Э-э-э! – неожиданно раздался суматошный крик. – Давайте все сюда! Сюда! Тут замок сорванный… на одной петле висит. Сюда, народ!
Оглядев ещё раз внутренность сарая, Ерёменко сожалеющее покачал головой – укрыться негде, выдернул кольцо и крепко прижал чеку к корпусу гранаты. Сунул кулак с гранатой в карман.
– Сюда давайте, граждане! – продолжал кричать суматошный полицай. – Здесь он находится… Здесь!
Вновь послышался топот ног, кто-то вбухнулся в дверь всем телом, отскочил, на несколько мгновений всё затихло – ни топота ног, ни буханья. Похоже, полицаи боялись сунуться в сарай.
Потом послышался хриплый отрывистый выкрик:
– Эй, партизан. Выходи! Иначе сожжём вместе с сараем. Выходи!
Ерёменко стиснул зубы, в ушах у него затенькали звонкие печальные колокольчики. Дверь сарая открылась со ржавым скрежетом, в неё просунулся винтовочный ствол, и бухнул выстрел. Запахло горелой кислятиной, ещё чем-то – прелым, противным, порох в патроне был немецкий, русский порох так не пахнет, в нём нет вонючей гнили. Винтовочный ствол поспешно убрался.
– Сдавайся, партизан!
Где-то сбоку, будто доносился из-под снега, раздался новый топот: к полицаям, окружившим сарай, подоспела подмога.
– Ну-ну, давайте, давайте, – прошептал Ерёменко, с трудом раздвигая холодные белые губы – замёрз он что-то в этом промерзлом пыльном сарае. – Сгребайтесь в одну кучку. Чем больше вас будет – тем лучше… – Он усмехнулся – нашёл в себе силы, закончил брезгливо: – Очески собачьи…
Граната, которую он сжимал пальцами вместе с чекой, стала частью его тела, срослась с ним.
– Выходи, партизан! – послышался из-за двери хриплый начальственный выкрик. – Иначе убьём! Мы уже пулемёт подтянули.
«Раньше огнём стращали, сейчас пулемётом, – невольно отметил Ерёменко, – ничтожные людишки. Очески!»
Смутная мысль возникла в нём и тут же увяла, он зашевелился, ожил и, набравшись сил, преодолев в себе последнюю преграду, вздохнул освобожденно и, окутавшись паром, прокричал в ответ:
– Не стреляйте! Я выхожу… Не стреляйте!
За дверью раздался хриплый торжествующий смех:
– Так-то лучше!
– Не стреляйте! – Ерёменко ощутил в себе неожиданный прилив сил, поднял повыше голову и ногой толкнул дверь сарая. – Ваша взяла!
– Правильно, против ветра ссать не каждый умеет. Как ни изгаляйся, штаны обязательно мокрыми будут.
На сером снегу рядом с сараем стояли человек семь полицаев, впрочем, сколько их было, Ерёменко, ослеплённый слабым светом вечерней темноты, не сразу и сосчитал, у всех было оружие, большей частью винтовки, у двоих – автоматы. Все стволы наставлены на него одного, из каждого в любое мгновение могла выскочить раскалённая пуля. Ерёменко поморщился – больно сделалось. И обидно.
Впрочем, в следующее мгновение обида прошла, её сменили злость и вместе с нею какое-то победное торжествующее чувство, будто Ерёменко оказался выше всех этих людей, победил их…
– Руку, руку вытащи из кармана! – запоздало заорал один из полицаев, молоденький, но, несмотря на молодость, уже здорово научившийся соображать. – Иначе стрелять буду! Руку вытащи из кармана!
Ерёменко разжал пальцы и бедром, кожей своей, телом услышал – нет, не услышал, а почувствовал щелчок, раздавшийся у него в кармане. Всё, это сработал боёк гранаты. Через четыре секунды раздастся взрыв – ровно через четыре секунды. Он вытащил руку из кармана, показал её полицаям – ничего, мол, нету, пусто.
Молоденький полицай заулыбался – так-то лучше, – шагнул к Ерёменко, занося приклад для удара, следом за ним, подчиняясь стадному чувству, шагнули другие.
На Ерёменко обрушился один удар, потом второй, слипшийся с первым, но боли он не почувствовал. Он увидел, что небо над райцентром неожиданно посветлело, обрело весеннюю желтизну, вечер, кажется, раздвинулся… А полицаи продолжали бить Ерёменко, считаные секунды тянулись мучительно долго – успели нанести ещё три удара, потом навалились на партизана кучей, облепили его, накрыли плотно, сбили с ног.
Один из ударов винтовочного приклада пришёлся по голове, полицай саданул его прямо в висок, удар был очень сильным, Ерёменко услышал, как у него хрупнула височная кость, но боли и на этот раз не почувствовал.
Да и чувствовать что-либо было уже поздно – в следующее мгновение раздался взрыв, разметал сразу три сарая, нескольких полицаев закинул на крышу. Из всех, кто примчался брать партизана, в живых остались только двое, да и то их так посекло осколками, что вряд ли когда они смогут вернуться в полицейскую управу. Один из них без памяти свалился в снег, другой устоял на ногах и, скособочившись пьяно, хлопал теперь ртом, глотал кровяные пузыри, глядя на развороченные сараи и мясное месиво, смешанное с обрывками полицейской формы, обрывками кишок и кровяными сгустками, образовавшееся у него под ногами…
Игнатюк ждал своего напарника до сумерек, потом, когда Ерёменко не пришёл, понял – случилась беда. Он слышал и глухие, задавленные расстоянием выстрелы, раздавшиеся в райцентре, слышал и взрыв. Встревоженно вытягивал шею, понимая, что пальба может быть связана с Ерёменко, затем, когда всё стихло, немного успокаивался и продолжал ждать.
Что за выстрелы прозвучали в райцентре, что за взрыв был – непонятно. Чтобы получить на это ответ, надо было идти в Росстань. Но идти пока нельзя. Вот уже и воздух начал наливаться угольной чернотой, а Ерёменко всё не было…
В чём дело?
В конце концов Игнатюк решил идти в райцентр. Сунул в карманы телогрейки пару гранат, под ремень втиснул пистолет, поставил его на предохранитель, в нагрудный карман положил нож. Похлопал себя по бокам, проверяя, всё ли он взял с собою, затем, пройдя по следам Ерёменко, утопленным в снегу, очутился на дороге, ведущей к райцентровским домам.
Все адреса, которые имелись у Ерёменко, были и у его рыжего напарника. Через час с небольшим Игнатюк стукнул в окошко к Галине Сергеевне. За занавеской шевельнулась усталая сгорбленная тень, приподнялась выжидательно. Ничего не разглядев в вечерней мгле, Галина Сергеевна накинула на плечи шерстяной полушалок и открыла дверь. С Игнатюком она была знакома. Увидев партизана, прижала пальцы к губам и произнесла коротко и горестно:
– Ох!
Игнатюк понял, в чём дело, обузился лицом и прошептал неверяще:
– Не может быть… Неужели Ерёменко взяли?
Галина Сергеевна вновь горестно охнула, помотала отрицательно головой:
– Не знаю.
– Тогда где же он?
– Он у меня был, потом ушёл. Через некоторое время послышались выстрелы, затем раздался взрыв. Все говорят, что какой-то партизан подорвал себя вместе с полицаями гранатой.
– Это был он, – убеждённо произнёс Игнатюк, – Ерёменко! – Повёл головой в сторону, словно бы хотел отогнать от себя услышанное, лицо у него сделалось бледным, восковым, будто не Ерёменко, а сам Игнатюк подорвал себя гранатой, он отступил от учительницы на несколько шагов, вгляделся в темноту и сказал: – Ну всё-ё… Теперь с меня начальник разведки шкуру спустит, скажет – не уберёг…
– Но вы-то тут при чём?
– У нас всегда кто-нибудь при чём оказывается: жизнь такая. Даже если не виноват. – Игнатюк поморщился: не то он говорит, речь не о том ведёт. Это всё от растерянности, от того, что горько на душе. Уж лучше бы он сам погиб. Пробормотал печально и сконфуженно: – Простите меня. Что-то не о том я талдычу.
Через десять минут он ушёл из райцентра, унося с собою те сведения, которые несколько часов назад унёс и Ерёменко, только уходил Игнатюк из Росстани другими тропами, не теми, которыми двигался его погибший напарник, и через полтора часа уже находился у заветного дупла-схоронки, забрал оттуда автоматы – свой и Ерёменко – и растворился в ночи…
Идти ночью по лесу – штука непростая, голову себе свернуть можно в два счёта: хрясь на ходу лбом в какой-нибудь сук, и полчерепа нету. Особенно если, опасаясь погони и выстрелов в спину, будешь спешить, а уж насчёт того, чтобы глаза себе выстебать какой-нибудь жёсткой веткой, тут и вопросов нет, запросто можно стать незрячим… Поэтому Игнатюк прошёл по лесу километра полтора, остановился в густоте ёлок – деревья стояли там так плотно, что снега на земле почти не было, земля была покрыта мягким хвойным настилом, ковёр, и только, жаль, что ковром этим накрыться нельзя, лежать на нём можно, а накрыться нет, – выбрал место поудобнее и улёгся на нём, прижался спиной к стволу старой ели, подтянул к подбородку ноги в катанках, в изголовье положил два автомата, свой и Ерёменко, и уснул.
Славный сон снился рыжему Игнатюку, он даже рот довольно приоткрыл, сладкую слюну пустил себе на воротник – видел собственное детство, розовое, безмятежное, деда своего видел, бородатого, с добрыми морщинками вокруг глаз дедушку Мишу, улыбающегося так широко, что были видны даже белесые сработавшиеся дёсны, зубов у деда не было уже давно, остались только дёсны, и он дёснами этими крепкими умел крушить даже сухари. Дед подбрасывал маленького Серёжку к темному потолку избы, вскрикивал азартно, и Игнатюк вместе с ним вскрикивал боязливо и одновременно счастливо, летая вверх-вниз, потом дедушка Миша прижал его к себе, и Игнатюку сделалось тепло-тепло, никогда ранее так тепло не было.
Он затих, и дедушка затих со скорбным вздохом – хорошо обоим было. А потом дед поставил его на пол, что-то произнёс, и Игнатюку стало очень тревожно, он почувствовал опасность. Огляделся – дедушки не было, исчез он, а вот тепло от общения с ним осталось, только радостное, светлое ощущение это из него очень стремительно выталкивала тревога…
И вот уже и свет пропал, и зоревые радостные краски – ничего не стало.
Игнатюк открыл глаза. Было холодно, неподалёку стеклисто похрустывал снег, недобрая темнота гнездилась под ёлками.
Вдруг в темноте возник одинокий огонёк, угас на несколько мгновений и возник снова, уже сильный, яркий, спаренный, недалеко от него образовались два новых огонька, сдвинулись в сторону… Игнатюк протёр глаза – что за чертовщина? Через несколько мгновений возникло ещё с полдесятка спаренных огоньков. Огоньки заметались, заюлили по пространству, они то разгорались ярко, зловеще, то угасали, словно бы при перемещениях теряли свою силу, казалось, что они вообще должны были пропасть, но навязчивые огоньки эти не пропадали… И только сейчас Игнатюк понял: это волки.
Он посильнее притиснулся к стволу дерева – движущиеся огоньки привели его в состояние растерянности, такое состояние, что Игнатюк даже про оружие позабыл…
Да и волки, видать, оголодали сильно, раз решили окружить человека с оружием. Обычно они чувствуют оружие издали и на человека со стволом стараются не нападать, обходят стороной, а здесь желудки, прилипшие к хребтам, придали им смелости и погнали на «венца природы».
Но Игнатюк об оружии по-прежнему не думал, пока не дошло до него, приподнялся на локте и махнул на огоньки рукой:
– Кыш!
Огоньки завращались в темноте ускоренно, закрутились хороводом, сделались ярче, увеличились в размерах – волки решили приблизиться к человеку. Игнатюк ещё плотнее притиснулся спиной к стволу. Неожиданно ему показалось, что у него с головы свалилась шапка, он потерял её… Как же так, без шапки он никак не может. Игнатюк зашарил вокруг себя, захлопал ладонями по палой хвое, по настилу и через несколько мгновений наткнулся на автомат.
Вначале он не понял, что за железка попалась ему под руку, слишком сильна была сонная одурь, да и страх добавлял своё, потом понял и зашёлся в сухом коротком кашле, точнее, в полукашле-полуплаче. За несколько секунд его чуть не вывернуло наизнанку, но Игнатюк справился с собою и, выплюнув изо рта тугой сладковатый комок слюны, подтянул автомат к себе. Вспомнил про шапку, проверил, на месте ли она. Шапка была на нём.
– Ну давайте, давайте… – прошептал он злорадно. – Ближе, ближе!
Волки видели, что человек взял в руки автомат, но не испугались этого – их было много, а количество, как известно, придаёт смелости, – они были хозяевами положения. Откашлявшись, отплакавшись, придя окончательно в себя, Игнатюк поднял ствол автомата и длинной очередью полоснул по бегающим огонькам, слева направо, дугой…
В ответ раздались вой, лай, скулёж, харканье, в воздух взлетели куски шерсти, мяса, неподалёку от Игнатюка в снег шлёпнулась оторванная лапа, непонятно, по какой траектории совершившая полёт в обратную сторону, к стрелку, несколько огоньков погасло, но всё равно, как показалось Игнатюку, меньше их не стало, они приблизились ещё на несколько метров, сделались ярче, злее…
– Ах вы, ур-роды! – просипел Игнатюк и вновь дал очередь – стрелял до тех пор, пока «шмайссер» не умолк: в магазине кончились патроны.
Он откинул автомат в сторону и, продолжая ругаться, подхватил второй автомат – Ерёменко, – полоснул из него по волчьим глазам, стрелял до тех пор, пока и во втором автомате не кончились патроны.
Отстрелявшись, обессилено откинулся назад, закрыл глаза.
После стрельбы сделалось тихо, очень тихо, лишь звон стоял в ушах, кроме него, Игнатюк ничего не слышал, только долгий сверчковый звон, проникающий глубоко внутрь, способный, кажется, разгрызать, будто ножом, и мышцы, и кости. Потом звон чуть разредился, и до Игнатюка донёсся задавленный скулёж – раненый волк залез под ёлку напротив и теперь подыхал там в муках.
Отдышавшись, Игнатюк выщелкнул магазин из своего автомата, потом поменял рожок и в «шмайссере» Ерёменко, встал под ёлкой на колени.
Было холодно, в сухом тёмном воздухе что-то стеклисто щёлкнуло, будто ломались невидимые льдинки, пахло горелым порохом, псиной и кровью.
– Ур-роды! – выругался Игнатюк. – Выспаться не дали.
Сна больше не будет, это точно, надо уходить отсюда. Он повесил на плечо один автомат, рядом – сидор, сделанный из обычного картофельного мешка, второй автомат взял на изготовку и шагнул в темноту.
По дороге споткнулся обо что-то скользкое, неприятное, пригляделся – это были внутренности, вылезшие из убитого волка, выругался гадливо. Нужно было скорее уходить с этого места. Игнатюк шарахнулся в сторону, наткнулся на длинные еловые лапы, слипшиеся в одну, отскочил от них и услышал тихое, пропитанное кровью и болью рычание, от которого по коже у него побежали колючие муравьи, заставившие Игнатюка передёрнуться.
Волк. Хоть и темно было – ничего не разберёшь, глаза можно выколоть о кромешную густую темень, а Игнатюк разглядел волка, лобастого, огромного, с пулей, сидевшей в шее, и залитой кровью шерстью… Или ему показалось, что он разглядел волка, вспомнить это потом Игнатюк не смог, в мозгу произошло смещение, явь он перепутал с одурью. Может, это действительно приблазнилось? Глаза у волка уже не горели, они погасли…
А вот то, что он дал по волку очередь, Игнатюк помнил хорошо – это было.
Некоторое время он шёл по лесу, натыкаясь на деревья, путаясь в кустах, матерясь, на открытых участках проваливаясь в снег едва ли не по пояс, пока наконец не выбрался на небольшую поляну, прикрытую сверху деревьями, где снега было совсем немного… Он понял, что выдохся окончательно, и свалился на землю под каким-то кустом, на котором среди засохших листьев виднелись крупные обледенелые ягоды.
Устало удивился про себя: и как эти ягоды до сих пор не склевали птицы? Закрыл глаза и уснул.
Спал он недолго. Проснувшись, обнаружил, что начало светать – в прогале между деревьями нарисовалась мерцающая жёлтая полоса, Игнатюк обрадовался ей: слишком трудная выдалась у него ночь… Лучше бы немцы на него напали, а не волки. Немцы – это привычнее, проще, при желании с ними можно сталкиваться каждый день. Пока голова цела и находится на своём месте, – на плечах, – сталкивайся сколько влезет, а когда головы не будет, то станет не до стычек… Игнатюк подцепил пальцами немного снега, бросил себе в лицо, застучал зубами от холода, слишком жёстким и мёрзлым был снег, протёр пальцами глаза, снова глянул на желтеющий прогал, обрамлённый тёмными макушками деревьев, словно железом каким, и раздвинул обрадованно губы.
Всё, ещё одну ночь он перемог, не умер, не покалечился, избежал пули – и не только пули, но и зубов волчьих, – в общем, было, чему радоваться.
Он оглядел поляну, на которой остановился ночью, облюбовав её вслепую, а ведь не ошибся в темноте, нюхом почувствовав, что такое хорошо, а что никуда не годится, сумел плохое обойти и отыскать то, что надо.
Снега на поляне было мало, хвойный настил украшали шишки, лежали они густо, в некоторых местах сплошным ковром. Игнатюк сгрёб их в кучу, подсунул под край клок бумаги и подпалил с одной спички.
Светлый небесный прогал разом потемнел, будто силы всевышние отвернулись от Игнатюка, но Игнатюку было не до этого, он колдовал, стараясь распалить костерок, и преуспел в этом: бумага прогорела – зажглись, защёлкали смолой шишки, слабенький поначалу огонёк окреп, развернулся и пошёл, пошёл полыхать… Игнатюк погрел вначале руки – важно, чтобы они начали нормально гнуться, слушались его, не то ведь конечности от холода совсем превратились в грабли, потом достал из сидора котелок.
Хотел набить его снегом, но остановил себя, на полпути остановил, глаза у Игнатюка повлажнели – вспомнил напарника своего погибшего, откинул котелок в сторону и замер в горьком раздумье. Что же он скажет, когда вернётся в лагерь, чем объяснит, что он жив, а Ерёменко нет? Игнатюк представил себе, как набычится, побелеет лицом и сделается холодным, далёким начальник разведки, как высветлятся от боли и печали глаза Чердынцева… Не-ет, этого лучше не видеть. Да после всего этого его даже Рыжим перестанут звать. А ведь в прозвище этом есть что-то тёплое, доброе, и вообще оно сопровождает Игнаюка с самого детства, с того самого времени, когда он впервые увидел в зеркале, что он рыжий.
Плечи у него дёрнулись, взлетели вверх, потом опустились и снова дёрнулись, взлетели – глубокие взрыды встряхнули его тело, на мгновение он услышал собственный вой, потом всё угасло.
Зима сорок второго года. Конец февраля. Время это было и неуютным, и тревожным, и горячим одновременно – по всей линии фронта, от впаянных в обледеневшие камни суровых северных посёлков до барбарисовых рощ юга шли затяжные бои. Линия фронта особо не перемещалась ни в одну сторону, ни в другую, войска ощетинились штыками и пулемётными стволами, обложились минными полями – не подступиться, караулили сами себя, караулили противника, взвешивали силы, планировали новые операции, но из окопов особо не вылезали. Активно действовали, в основном, разведчики, действовали партизаны – научились подрывать немецкие эшелоны так лихо, что колёса у перегруженных вагонов отрывались с такой же лёгкостью, как пуговицы у старого сопревшего пальто, умело действовала конница, ходившая по гитлеровским тылам, как у себя дома (впрочем, она у себя дома и была), да ещё немало хлопот доставляли гитлеровцам знаменитые лыжные батальоны, для которых чем холоднее было – тем лучше. Хватанули лиха фрицы в ту пору.
Но, несмотря на то что им здорово дали по зубам под Москвой, оттеснили от Тулы, вышвырнули из Калинина, в Заполярье они вообще не продвинулись ни на сантиметр, немцы всё же считали себя хозяевами положения, более того, были уверены, что победа в этой отчаянной войне достанется им. Ну, а наши, в том числе и бойцы из отряда Чердынцева, так не считали.
Узнав о гибели Ерёменко, лейтенант сжался, словно его оглушило взрывом гранаты, лишь на потяжелевшем лице его двигалась из стороны в сторону нижняя челюсть – как у боксёра, получившего удар в лицо. Когда оглушение прошло, он произнёс грустным тоном всего лишь одно слово:
– Та-ак… – Произнёс и снова умолк. Потом, после паузы, поднял голову, смахнул с глаз что-то невидимое и спросил тихим бесцветным голосом: – Как это произошло?
Игнатюк выложил всё, что узнал, большего выложить не мог, он же при гибели Ерёменко не присутствовал – это раз, и два – рассказал, как была повешена Октябрина Пантелеева со своими товарищами, кто вышибал из-под ног обречённых табуретки, затем сжал кулаки, тряхнул ими, будто опасным боевым оружием, и проговорил с неожиданной одышкой, словно ему перекрыли воздух:
– Была бы моя воля, я бы эту козу драную, начальницу полиции, с удовольствием вздёрнул на той виселице, сунув её башку в ту же петлю, что досталась Октябрине… Чтобы знала…
– Всё это ещё впереди, – пообещал Чердынцев, – всё впереди…
При разговоре присутствовал маленький солдат, он молчал, лишь иногда с печальным видом кивал – переживал, – так, не произнеся ни слова, и покинул землянку Чердынцева, ушёл вместе с Игнатюком. Закрыли за собою дверь разведчики, и сразу света в землянке вроде бы меньше стало…
Чердынцев не сдержался, что было силы долбанул кулаком по столу. Опустил голову. Он словно бы сам был виноват в гибели Ерёменко – не уберёг его, лишний раз не напутствовал командирским словом, не сделал чего-то ещё. Но если бы даже и напутствовал, он что, сумел бы отвести от него беду?
От осознания, что он всё равно ничего бы не смог сделать, легче не становилось.
Дверь землянки хлопнула, хоть и была она подбита по окоёму ватными рукавами, оторванными от телогреек – сделано это было и для того, чтобы в щели не пролезал холод, и для «мягкости хода», если тепло рукава всё-таки держали, то «мягкость» не очень, – в землянку заглянул Мерзляков.
– Комиссар, слышал, что Ерёменко погиб? – хмуро проговорил Чердынцев, не поднимая головы.
– Слышал. Надо бы представить его к ордену.
– А имеем мы на это право?
– Раз попали в списки, значит, имеем.
– Тогда, Андрей Гаврилович, за дело! Надо сочинить реляцию поубедительнее и в штаб её, к полковнику Игнатьеву. По рации. А потом со связным передадим бумаги.
– К какому ордену представим Ерёменко?
– Красного Знамени. Посмертно.
Комиссар подсел к печке, облепил её ладонями, заухал, будто лесной филин, хорошо было, тепло, посидел так несколько минут, поблаженствовал, потом поднялся с корточек и нахлобучил на голову шапку.
– Пойду оформлять представление.
Чердынцев ничего не сказал на это, только проводил комиссара опустошённым взглядом, подумал, что ведь, по сути, он ничего не знает о Ерёменко, кроме некоторых поверхностных сведений, как ничего не знает о Бижоеве, о лейтенанте Сергееве и сержанте Крутове – командирах взводов, о дяде Коле Фабричном и очень толковом мужике, которого они недавно освободили из плена, старшине Иванове, о других… А людей своих надо знать лучше, поскольку в любом бою приходится доверять им самое дорогое, что есть в каждом, – жизнь свою; ценнее жизни ведь у человека нет ничего (может быть, только жена, да и то с точки зрения жены), а Чердынцев не всех их знает даже по именам…
Он в странном, сеткой спеленавшем его бессилии откинулся на топчан, лёг на него, ощутил спиной, лопатками твёрдый настил и закрыл глаза.
Конечно, они допустили ошибку, когда не пристрелили вместе со старлеем Левенко его незабвенную кралю – по ней, похоже, и тогда плакала автоматная пуля… Что ж, надо снова готовиться к визиту в райцентр – и казнь росстаньских жителей, и гибель Ерёменко оставлять безнаказанными нельзя.
Он забылся на несколько минут, усталый, выжатый буквально до последней капли, будто пробежал десять километров при полной выкладке, обмундированный по-зимнему, в полушубок и сапоги с двумя портянками на каждой ноге; через четверть часа открыл глаза обновлённый – от усталости даже тени не осталось, – и услышал тихий серебристый смех. Повернул голову – рядом с топчаном сидела жена. Он потянулся к ней со вздохом:
– Надюша!
– Спи, спи, – успокаивающе произнесла она, – поспи ещё немного, прошу тебя.
– Да хватит уже, прикорнул малость – и ладно. – Он приложил руку к животу жены. – Как чувствует себя маленький?
– Взрослеет. Уже ножками бьёт, большой.
Чердынцев растянул губы в дурацкой улыбке, произнёс довольно:
– Хорошо! – Тут на лицо его наползла тень, будто в печке потухли дрова и в землянке сделалось сыро, холодно и темно.
– Ты чего? – обеспокоилась Наденька.
– Тебе надо возвращаться на Большую землю, домой, в Москву. Ради нашего малыша, Надюш. – Взгляд Чердынцева сделался умоляющим. – Уезжай, а! У нас здесь здорово может осложниться обстановка.
– Что такое? Случилось чего-то?
– В Росстани погиб Ерёменко. Повешены люди, с которыми мы поддерживали связь. Предстоит поход на Росстань.
– Вот тут-то я как раз и понадоблюсь, Женя… Будут раненые. А кто их, скажи, станет перевязывать?
– Медбратья… – Чердынцев хмыкнул, и хмыканье его было понятно. – Перевязывальщики всегда найдутся, в любой драке. Это закон.
– Женя, – ласковым тоном проговорила Наденька, невесомо дотронулась пальцем до его щеки, – а, Жень…
– Ну?
– Не отправляй меня, пожалуйста, я ведь и здесь, в отряде смогу родить, и ребёнок будет здоровым, поверь мне…
Чердынцев помотал головой: нет, нет и ещё раз нет! Произнёс коротко:
– Нельзя. Предстоят тяжёлые бои, а это, извини, совсем не для беременных женщин.
Нежное лицо Наденьки поникло, обвяло, под глазами появились скорбные тени, она опустила голову.
– Я даже не знаю, стоит ли мне обижаться на твой отказ или нет. – Она вновь вслепую провела пальцами по щеке мужа, вложив в этот жест и досаду, и нежность, и жалость – словом, всё, что скопилось в ней, произнесла тихо, едва слышно: – Прости меня.
– И ты меня прости, – в унисон, также тихо произнёс Чердынцев.
– За что?
– За то, что не согласен с тобою.
Он замолчал. И она молчала. Было слышно лишь, как пощёлкивают сосновые полешки в примитивной печке да где-то высоко, над землянкой, над трубой печки, плюющейся серым смолистым дымом, недобро посвистывает ветер, стремясь поднять снег с поверхности земли, взвихрить его, кинуть в небеса, подыграть холоду, причинить людям зло. Хорошо в такую пору сидеть дома, под крышей, в тепле.
Лесная землянка – это тоже дом, и когда в нём фыркает, потрескивает пламенем печушка, нагоняет в помещении тепло – не самый плохой дом, между прочим.
Оба продолжали молчать – и Чердынцев и Наденька. Очень часто, когда общаются двое, всякие слова бывают лишними, молчание говорит и значит больше, чем самые убедительные речи. Понятно бывает всё – и движения, даже самые малые, и жесты, и тихие улыбки, блеск глаз, биение жилки, ожившей вдруг на покрасневшем от смущения виске, и замирающий стук сердца, и дрожь, проступившая в пальцах…
Ну какие тут могут быть слова? Все слова – лишние.
Ох, как не хотелось Чердынцеву отпускать Наденьку из отряда!
Он обвёл глазами землянку, давшую ему и ей приют: пространство ограниченное, маленькое, конура для воробья, и то птичка очень скоро захиреет, поскольку здесь ей совершенно негде разминать крылья; чуть горьковатый, пропахший дымом воздух, портрет Сталина, вырезанный из журнала и, поскольку кнопок не было, приколоченный гвоздями к стенке, колченогий крепкий стол. Коренная москвичка Наденька достойна, конечно, лучшего жилища… Чердынцев виновато опустил голову: ничего лучшего он пока предложить ей не может.
Дверь, подбитая старыми ватными рукавами, две скамейки, врытые в тёплую сырую землю, пара табуреток, принесённых разведчиками из села. Разведчики, разведчики… Чердынцев перегнулся, выдернул из-под топчана вещевой мешок, покопавшись в нём, извлёк длинненькую, похожую на школьный пенал, нарядную коробочку, на которой не по-русски было написано «Paris», обтёр поверхность рукавом гимнастёрки, отчего коробочка засверкала дорого, торжественно, будто новенькая, протянул жене:
– Это тебе!
Та приняла пенал, несколько мгновений подержала на руках, словно бы взвешивая его, потом приподняла вопросительно брови:
– Что это? Парфюм?
– Да. Заморский. Видишь, написано «Парис» – в честь красивого греческого бога.
Наденька засмеялась.
– Да не Парис, Жень, а Париж. Есть такой город в Европе. Слышал когда-нибудь?
Чердынцев смутился.
– Извини меня, тёмного, неотёсанного… Надо же, перепутал Париж с Парисом.
Она взвихрила его волосы.
– Ничего, время обтесаться есть ещё. Всё впереди!
– Учти, что на войне год считается за три, так что насчёт «всё впереди» надо вносить поправочный коэффициент.
Наденька вновь взвихрила его волосы, взгляд её затуманился.
– И кто бы мог предположить – хотя бы на мгновение, хотя бы на секунду, – что я попаду в партизанский отряд, которым будешь командовать ты?
– А разве вам не называли фамилий командиров партизанских отрядов?
– Нет. Только цифровые обозначения. Ведь вы у нас засекреченные. – Наденька вскинула голову, со вздохом оглядела землянку. – А неплохо бы стенки обиходить. Одно украшение – товарищ Сталин собственной персоной. – На лицо её наползло озабоченное выражение. – Слушай, Жень, а что за операцию ты собираешься провести?
– Партизанскую.
– А именно? Давай, давай, выкладывай свою военную тайну!
– Сходим в Росстань, – неохотно проговорил Чердынцев. – Поквитаемся за погибших наших товарищей… никакой тайны тут нет. Но для тебя это – табу, полный запрет, тебе надо в Москву… возвращайся в Москву, Надюш!
Взгляд Наденьки вновь сделался умоляющим:
– Ну, Жень!
– Нет, нет и ещё раз нет, Надюша. И имей в виду – если ты не подчинишься мне, как командиру, я на тебя пожалуюсь в штаб, самому полковнику Игнатьеву.
Наденька дотронулась пальцами до щеки мужа.
– Ну ты, Жень, и даёшь стране угля, – неожиданно проговорила она и, поймав удивлённый взгляд мужа, добавила: – Это я в штабе партизанского движения услышала. Цитата, в общем.
– Ох, Наденька! – только и молвил Чердынцев.
– Что?
– Цитата твоя, между прочим, матом заканчивается.
Бледное Наденькино лицо залилось стыдливым румянцем, она замахала на мужа руками:
– Свят, свят, свят…
– Вот именно: свят, свят, свят!
С другой стороны, Чердынцев хорошо понимал, что перебросить жену через линию фронта, на ту сторону, к нашим – штука очень трудная: самолёт вряд ли рискнёт приземляться в здешних местах, отправить её по земле с проводником да с сопровождением – тоже штука нереальная, Чердынцев на это никогда не решится… Тогда как поступить? Как быть-то?
Хоть и настаивал лейтенант на возвращении Наденьки в Москву и втолковывал ей, что это крайне необходимо, а понимал – и с каждым днём всё больше и больше, – что этого может и не произойти. Обстоятельства сильнее его воли, его желаний и его самого, в конце концов. При всём том он знал одно: покой наступит в его душе только, когда Наденька будет на Большой земле, в Москве, в своей квартире, когда за её беременностью будет присматривать врач, тогда и воевать ему будет легче, веселее, если хотите, он перестанет каждый раз оглядываться в тревоге, а всё ли в порядке с женой. Очень важно бывает для военного человека, когда у него прикрыт тыл, когда не нужно оглядываться и беспокоиться о близком человеке…
А с другой стороны, в лихую военную годину часто бывает так, что и жизнь по-иному наладить нельзя – просто не дано, и разобраться в ней нельзя, и переставить фигуры, как в шахматах, нельзя. Война есть война.
– Слушай, Жень, а как заканчивается тот стишок… ну, про «даёшь стране угля»?..
– Не вводи в грех… – Чердынцев помотал ожесточённо головой, будто его стегнули чем-то. – Плохо заканчивается!
От того, что он не знал, как отправить Наденьку на Большую землю, ему сделалось плохо, внутри в комок сбилась обида, и лейтенант готов был заплакать… Но всякие слёзы – это слабость, а слабость, слёзы на войне недопустимы. Всякий воюющий человек должен распрощаться со своей чувствительностью, с жалостью, это всё – ненужное, лишнее, солдат просто обязан быть жёстким, изгнать из себя слёзы и слабость.
Дверь землянки тем временем шевельнулась, заскрипела – слишком быстро она начала скрипеть, климат здешний, видать, влияет, в щель протиснулся длинный хвост холода, аж засвистел, восхищаясь собственным проворством, – и послышался голос комиссара:
– Можно, Евгений Евгеньевич?
– Заходи, Андрей Гаврилович. Чай будешь?
– Не буду, начаёвался так, что даже из ушей капает. И мешать вам не хочу. Пошли ко мне в землянку, помаракуем немного. Не будем мешать Надежде Ивановне…
– Ох уж эти командирские секреты, – произнесла Наденька со вздохом, – да разве вы мне помешаете? Или думаете, что я их передам в Росстань, в комендатуру?
– Надя! – Чердынцев повысил голос.
Жена в ответ тихо рассмеялась.
«Ситуевина», – не вовремя вспомнил Чердынцев любимое высказывание училищного старшины-хохла и, накинув на плечи полушубок, вышел из землянки.
С налётом на Росстань решили не откладывать – сделать это надо по горячим следам, сейчас же, чтобы немцы со своими вертухаями знали: ни одно их зверство не останется безнаказанным. Око за око, зуб за зуб – так, кажется, говорили когда-то?
К этой поре группа Бижоева сходила на железную дорогу, но к путям пробраться не смогла: вдоль дороги стояли посты, часто, завывая моторами, шныряли дрезины с пулемётами, внезапно выплывали из тумана и, не задумываясь, били длинными очередями по всем подозрительным точкам – немцам теперь везде мерещились партизаны.
Видать, прижали их основательно – сразу, крепко и по всей географической карте, вот и обеспокоились они.
В нескольких местах Бижоев пробовал подобраться с группой к полотну и всякий раз разворачивался на сто восемьдесят градусов, уходил назад. Неудача следовала за неудачей, хоть пустыми возвращайся в лагерь.
Тут к нему обратился боец Овчинников:
– Товарищ командир, всем нам к полотну подойти не удастся, а вот мне одному где-нибудь в ложке ползком, низко, чтобы пятая точка не была видна, подойти можно.
– Значит, хочешь попробовать, Овчинников?
– Хочу.
Бижоев наморщил лоб – в глубокую думу впал командир, – потом морщины на его лице разгладились, он сплюнул в снег и сказал:
– Действуй, Овчинников! Но – аккуратно, аккуратно, понял? – Бижоев приподнялся над снегом, глянул на маячившего вдалеке замёрзшего часового – тот топал ногами, колотил сапогом о сапог, сбивая намерзь, – пригнулся вновь и неожиданно улыбнулся: – А вдруг действительно удастся поставить мину?
В следующий миг он вжался в снег поглубже, Овчинников тоже вжался – по полотну, погромыхивая железными суставами, повизгивая от натуги и мороза, на большой скорости промчалась дрезина. На дрезине на трёх неуклюжих металлических ногах стоял пулемёт, на мешке с песком, поставленном на попа, сидел нахохлившийся, похожий на безбородого Деда Мороза, красноносый пулемётчик. Бижоев проводил дрезину ненавидящими глазами.
– Тьфу! – В снег шлепнулся очередной плевок. – Вот шайтаны! И когда только земля под вами провалится? – Бижоев перевёл взгляд на Овчинникова, двинул крутым, рассеченным надвое подбородком в сторону – действуй, мол.
Овчинников натянул на плечи простыню – подрывники взяли с собой из лагеря целых две штуки, чтобы маскироваться, подхватил за ручку тяжёлую противотанковую мину и пополз наискосок к недалёкому ложку, очень удобно выходившему прямо к рельсам. Бижоев, оглянувшись на группу, показал пальцем: следуем за ним!
Главное – непонятно было, с каким интервалом ходят дрезины, они бегали, громыхали колёсами то часто, то редко, по-разному, словом, угадать невозможно, система отсутствовала, поэтому надеяться оставалось только на везение, на извечное «авось», другого не было.
След за Овчинниковым оставался длинный, приметный, найти человека по нему можно легко, но и тут иного пути не было. Овчинников довольно быстро добрался до ложка, скатился в него. Немного отдышавшись, приподнялся над снегом.
Один из охранников был еле виден – он едва просматривался в сером мареве, силуэт его расплывался в воздухе, подрагивал неровно, второй был виден лучше – кряжистый дядя с красной физиономией, в чёрном полушубке и новеньких негнущихся валенках… Он возвышался над снежной равниной, будто памятник.
Оба охранника друг на друга не смотрели, были заняты собою, словно находились в ссоре, хотя, надо полагать, это им было строжайше запрещено служебной инструкцией, ведь главное, чтобы к рельсам никто не подобрался, всё остальное – потом, в свободное от охранных дел время… Нарушение инструкции было на руку подрывникам.
Овчинников пополз по ложку к рельсам, с трудом волоча за собою мину, иногда приподнимал голову – охранников никак нельзя было выпускать из вида…
Неожиданно вдалеке послышался сдавленный железный стук, взвизгнули тормоза, потом взревел мотор. Дрезина! Овчинников не растерялся – дёрнул тесёмки, специально пришитые к простыни и завязанные под шеей, втянул под ткань ноги, втянулся сам. Будто свернулся в кокон, замер. И словно бы исчез. Только что был человек, двигался по снеговой ложбине-промоине, выработанной ветром, пыхтел – и не стало его. Бижоев, наблюдавший за подрывником, отёр ладонью лоб, на котором обильно проступил пот, зашевелил немо губами – творил молитву какому-то своему кавказскому богу…
Дрезина промчалась мимо, Овчинникова она не заметила. Бижоев снова стёр пот со лба.
Высунув голову из-под простыни, Овчинников настороженно огляделся, поймал взглядом одного охранника, потом другого, неторопливо двинулся дальше. Полз он умело – видать, при сдаче строгой армейской дисциплины под названием «Курс молодого бойца» имел пятёрку – и мину за собой тащил хоть и тяжело, но умело, постоянно прикрывался простынёй, то становясь невидимым, то вновь возникая из снега, словно некий дух бестелесный, колдовской.
Бижоев продолжал следить за ним в бинокль, цецекал довольно – не ожидал, что такие таланты откроются в его подчинённом, тихом и скромном бойце, – цецекал и стирал пот со лба, переживал. Никогда так обильно он ещё не потел.
А Овчинников подполз уже к самому полотну, начал ковырять ножом чёрную промасленную намерзь, прилипшую к шпалам, обметавшую понизу рельсы, грязную, неуступчивую – нож брал её с трудом, но Овчинников не сдавался, ковырял и ковырял. Бижоев подумал о том, что, может быть, проще было снять охранников, доставить на их место своих людей и обеспечить себе, как говорят разные чиновные писаки, сектор работы, но потом протестующе дёрнул головой – бесполезно. И опасно – можно погубить всю группу… Овчинников продолжал работать, и командир немо шевелил губами, молясь за него.
Ни поездов, ни дрезин пока не было. Охранники так же, как и полчаса назад, тупо топтались на своих местах, даже человек, похожий на памятник, боролись с холодом. Овчинников благополучно выскреб ножом углубление под рельсом, втиснул туда мину, стараясь, чтобы пятка взрывателя – чувствительного механизма – оказалась точно под тяжёлой чугунной плотью. Когда паровоз наедет, надавит на неё всей своей чудовищной тяжестью, произойдёт взрыв.
Остриём ножа Овчинников подскрёб немного липкой масляной намерзи, замаскировал мину, набросал немного снега, припылил железный блеск.
Конечно, в таких условиях много не сделаешь, но Овчинников сделал всё, что мог, даже более, чем мог…
Неожиданно он насторожился – почувствовал, как что-то ударило по рельсам, сильно ударило, чугун даже зазвенел… Это услышали и охранники, ожили на своих местах, зашевелились, энергично забрякали одубевшей обувью, отогревая ноги, захлопали рукавицами… Где-то за лесом, уже недалеко отсюда, шёл поезд – очередной воинский эшелон. Очень неплохо было бы его оприходовать.
Бижоев услышал звук эшелона даже раньше, чем охранники и Овчинников, такова была акустика пространства: в воздухе неожиданно послышался шмелиный гуд, на мгновение он исчез, потом возник вновь – неровный, назойливый, недобрый. Бижоев приподнялся над снегом, словно бы хотел подать команду работавшему у полотна подрывнику – давай, уходи! Отползай, отползай!
Но Овчинников чего-то мешкал – присыпал мину крошкой, подгребал к ней чёрные комки и на сам корпус мины, затем швырнул несколько горстей снега. Бижоев, переживая за него, недовольно крякнул, покрутил головой.
А шмелиный гуд усилился, рельсы уже пели по-настоящему, в голос, и песня их была громкой – поезд находился за близким, выщербленным снарядами леском, сейчас выскочит из-за деревьев, осталось всего несколько минут… А Овчинников всё находится у полотна.
Бижоев яростно покрутил головой, потом яростно хлопнул кулаком по снегу, пробив его едва ли не до самой земли:
– Ну!
Наконец Овчинников оторвался от дела – по-рачьи, приподнимая зад, на несколько метров отполз от полотна, потом развернулся и, прикрываясь простынёй, пополз проворнее. А от звука приближающегося поезда уже подрагивала, дёргалась мелко не только земля – дрожал сам воздух, в нём приплясывали тусклые искорки, похожие на угольную пыль, выброшенную из паровозной топки, над снегами здешними летали возбуждённые вороны, галдели оглашенно – что-то чувствовали, ворона ведь – птица умная, вещая, всё понимает… Бижоев снова стукнул кулаком по снегу:
– Быстрее, быстрее!
Из-за леска с грохотом и шипением выскочил чёрный зачумленный паровоз – наш, советский, красная звезда на длинном округлённом носу была замазана асфальтовой краской, перед собою паровоз толкал обложенную мешками платформу, на которой был установлен пулемёт и сидели несколько съёжившихся, похожих на больших замёрзших птиц немецких солдат.
– Ну, Овчинников! Быстрее! – вскричал Бижоев, приподнимаясь над снегом и блестя зубами. – Ну!
За паровозом, теснясь друг к дружке, постукивали колёсами несколько пассажирских вагонов – офицерские, один из вагонов был спальный, мягкий «шляфваген», в нём наверняка ехал какой-то крупный чин, может быть, даже генерал, за офицерскими вагонами тянулись два десятка теплушек с тонкими железными трубами, схожими с водосточными коленами, из каждой такой хлипкой трубешки валил густой дым, клочьями расползался по пространству, за теплушками следовали полтора десятка платформ с полевыми орудиями, замыкали этот длинный состав ещё несколько теплушек и второй паровоз, такой же чёрный, грязный и одышливый, как и первый. И такой же трудяга с красной звездой на лбу, замазанной асфальтовой, похожей на смолу краской.
– Уходи, уходи скорее, Овчинников! – закричал что было силы Бижоев, но крика своего не услышал.
Воинский состав стремительно наезжал на мину. Один из солдат, сидевших на платформе, обеспокоенно вытянул голову, приподнялся – заметил-таки Овчинникова, ткнул кулаком в плечо своего напарника, что-то проорал ему на ухо – Бижоев увидел, как широко открылся его зубастый рот.
Напарник глазастого солдата также приподнялся со своего места, округлил в ужасе глаза – понял, что сейчас произойдёт, – и кинулся к пулемёту.
Тут Бижоев впервые пожалел, что у них в группе нет ни одной винтовки, только автоматы, а сюда бы трёхлинеечку, всего одну родимую, российскую винтовочку, она быстро бы поставила всё на свои места, из винтовки пулемётчиков можно было бы снять всех до единого, по очереди, а из автомата – слабо… Автомат не достанет. Бижоев от бессилия даже застонал, оглянулся, не зная, что делать, обвёл побелевшим от внутренней досады и боли взглядом своих бойцов и, вскинув автомат, дал по платформе очередь.
Звука выстрелов не было слышно – увязли в грохоте поезда, пули до платформы не достали, стрелять было бесполезно, и Бижоев бессильно ткнулся лбом в снег, приподнял голову и снова всадился лбом в снег – он ничем не мог помочь Овчинникову.
А немецкий солдат, торопясь, понимая, что сейчас может произойти нечто непоправимое, развернул тяжёлый пулемёт вместе с треногой, опустил ствол и саданул пулями по снегу, в котором барахтался Овчинников.
Первая очередь прошла мимо, в воздух взлетела лишь серая крупчатая пыль да вверх устремился горячий парок, взбитый раскалённым свинцом, вторая угодила точно в подрывника. Бижоев застонал. Снег вокруг Овчинникова покраснел.
Солдат, ворочавший тяжёлое тело пулемёта, радостно захохотал – Бижоеву были хорошо видны его белозубый открытый рот и чёрный, обросший щетиной подбородок, – вскинул руки, заплясал на платформе.
Платформа наехала на мину, следом за ней наполз и паровоз, но взрыва почему-то не последовало. Овчинников был ещё жив, он понял, что, скорее всего, не сработал взрыватель, поднялся из последних сил и дал по мине очередь из автомата. Так что плясал белозубый пулемётчик недолго…
Рельсы под паровозом приподнялись, тяжёлый пулемёт невесомой пушинкой улетел за борт платформы, прямо на полотно, под нос паровоза, земля вспучилась, из продырявленного железного бока разгорячённой машины жгучим ревущим снопом вырвался пар, обварил стоявших на платформе немецких солдат.
Паровоз полез в небо – подрывники никогда не видели такого, чтобы здоровенная чёрная туша становилась на попа, подставляя своё тело наезжающим на него вагонам, – два офицерских вагона смялись легко, как обычные целлулоидные погремушки, только начинка полезла наружу, третий перевернулся, задрав вращающиеся колёса, затем, поддетый следующим вагоном, взлетел метра на три и шлёпнулся на крышу, сминая и её, и немцев, находящихся в вагоне, следом за пассажирскими вагонами наступил черёд теплушек.
Теплушки разбрызгало в мелкие щепки, разнёс, в общем-то, не взрыв мины, он для такого поезда был слабым, – разнесли скорость, с которой шёл состав, инерция, само движение. Во все стороны только доски полетели, следом – скрученные в восьмёрки железные крепления, перекладины, балки, станины, стойки – вся металлическая муть, которая топорами секла отчаянно орущих людей в немецкой форме.
Вагоны корячились, лезли друг на друга, вот по воздуху пролетела, теряя колёса, длинноствольная крупповская пушка, поставленная на мягкий резиновый ход, всадилась одним колесом в крышу поднявшегося стоймя вагона, из проломов которого пытались вылезти солдаты, ещё живые, подпрыгнула вверх, через мгновение опустилась и, оттолкнувшись от вагона одним колесом, по-циркачески лихо унеслась в сторону.
По лицу Бижоева продолжал катиться пот. Он покосился вправо – что этот ротозей сейчас делает? – и не увидел его, словно бы взрыв сдул охранника с земли, как невесомую пушинку. Не было охранника слева – его также сдуло.
А земля продолжала дрожать, приплясывать, в вагонах снаряды – немецкий полк, снятый с западных позиций то ли в Югославии, то ли во Франции, перемещался на восток не только со своими пушками, но и с солидным боезапасом, видать, гитлеровские военачальники, умеющие далеко глядеть вперёд, планировали бросить полк с ходу в бой без всяких доукомплектований, вот теперь солдаты и жарились на собственных снарядах. Вверх взмётывались чёрные пороховые клубы, в вагонах трещало, лопотало зло, уничтожая всё живое, пламя, щелкали, срабатывая в автоматных магазинах, раскалившиеся патроны, ухали гранаты, а сомкнувшиеся вагоны, подпираемые сзади вторым паровозом, всё ещё продолжали двигаться, наезжать друг на друга, иногда какой-нибудь вагон, похожий на некое чудовище, вываливался из общего ряда, обрывал сцепки с составом и катился под откос, уродовал ровную смёрзшуюся насыпь, в которую были вколочены шпалы.
Страшно сделалось людям, наблюдавшим за всем этим. Отблески пламени бегали по их лицам, подрывники были ошеломлены – не видели ещё ничего подобного, все прежние подрывы поездов и в сравнение не шли с этим – и подавлены.
Первым очнулся Бижоев, оглушенно потряс головой, словно хотел выбить из себя тупой недобрый звон, засевший под черепом, вновь смахнул ладонью со лба пот и прохрипел едва слышно – голос пропадал в треске и грохоте:
– Отходим! – Оттолкнулся ладонями от земли, отодвигая назад своё тяжёлое, настывшее на снегу тело, повторил приказ: – Отходим! Иначе тут скоро фашисты такой прочесон устроят, что даже спящие суслики вылезут из своих нор.
Бижоев развернулся на сто восемьдесят градусов и пополз в сторону леса. Вставать было нельзя – могли засечь охранники и открыть стрельбу из винтовок. Либо вообще секануть из пулемёта, у них ведь наверняка где-нибудь и пулемёт имеется. Рот Бижоеву забило снегом, он остервенело отплюнулся, затем сплюнул ещё раз – жаль было Овчинникова…
Хороший боец был: тихий, справный, от заданий никогда не отказывался, всякое поручение считал одинаково важным – что картошку на обед для бойцов начистить, что мину под рельсы положить, ко всему относился с предельной серьёзностью и вниманием… И вот Овчинникова не стало. Было отчего хрипеть командиру подрывников. Бижоев ожесточённо заработал локтями, коленями, носками валенок, пополз быстрее. Подальше от проклятого места, подальше…
На небе неожиданно образовалось светлое одуванчиковое пятнышко, словно бы плотный серый полог прожёг весёлый огонёк, облака раздвинулись, в промоину выбрызнул солнечный луч, достиг земли, проворно побежал по ней.
Выходит, где-то и солнышко существует, живо оно, не умерло… Снег снова попал в рот Бижоеву, выплёвывать его на этот раз он не стал, разжевал и проглотил – организм требовал охлаждения.
К одному одуванчиковому лучу добавился второй, также весело и проворно, как и первый, пробежался по земле, заглядывая по дороге в различные выбоины, щели, ямы, задержался на несколько мгновений, глядя на догорающий, окутанный чёрным дымом немецкий эшелон, потом поскакал дальше, по-птичьи невесомый, подвижный… Луч этот словно бы был неким знамением, вехой, этаким предвестником весны, к сожалению, пока ещё далёкой. Но то, что зима скоро пойдёт на спад, было понятно без всяких слов.
Через неделю усиленная группа партизан вместе с Чердынцевым отправилась в райцентр. Уходили, как уже повелось, ранним утром, в темноте, когда макушки сосен ещё смыкались с небом и ничего не было видно, ни наволочи, ни звёзд в раздвигах облаков, ни тропки под ногами, но уже через полчаса по небу забегали тусклые задымлённые полосы, макушки деревьев обрели плоть – были они неподвижны, и воздух, застоявшийся, перемёрзлый, тоже был неподвижен, ели и сосны врезались в него, словно бы в лёд впаялись, – стала видна и дорога.
Впрочем, Ломоносов, который был проводником и шёл первым, на подначки «Не заведи нас, Сусанин, сразу в Берлин» не обращал внимания, но, судя по решимости, с которой он шёл, если бы перед ним поставили задачу привести отряд в Берлин, он задачу бы выполнил – мог ходить и вслепую. Чердынцев шёл рядом с ним, молчал – не мешал проводнику, думал о своём…
По-прежнему беспокоила Наденька – как с ней быть, как переправить домой, в Москву? А с другой стороны, приедет она в Москву, появится в своей квартире… Что она там одна будет делать? А если дом её уже разбомблен? Или произошло что-то ещё? Вот ежели бы мать Чердынцева, Ираида Петровна, оставалась в Белокаменной, тогда было бы другое дело…
Привала не делали долго, шли и шли, на двадцать минут остановились лишь во время обеда: перекусить, перевести дух, выкурить по самокрутке – папирос из штаба не прислали ни разу, довольствовались тем, что добывали в районе да у немцев, – малость прийти в себя и топать дальше. А ночью, когда фрицы в своих шёлковых кальсонах будут нежиться в нагретых мягких постельках, – нанести удар по комендатуре и полицейской управе. И главное – не упустить бы эту суку, которая выбивала табуретки из-под ног учительницы Октябрины и её учеников, не дать ей улизнуть. Но то ведь бестия хитрая, крутится червяком, извивается, даже сквозь землю, на могильную глубину просочиться может.
Ровно через двадцать минут Чердынцев поднял людей, оглядел их – не поморозился ли кто, не подсвечивает ли себе в дороге красным носом или белым лбом, потом повелительно проговорил:
– Ещё один бросок, товарищи мужики, и мы будем на месте.
Провожала группу целая стая снегирей, откуда они взялись – непонятно. Крупные, красногрудые, шустрые, приветливые, они облепили деревья вокруг поляны и, дружелюбно поглядывая на людей, начали негромко переговариваться.
Бойцы при виде птиц разомлели, начали вытирать пальцами влажные глаза, словно бы соринки из них доставали, сморкались, сопели растроганно – вот так простая вещь может, оказывается, достать человека. Чердынцев тоже в первые минуты растрогался, размяк, но потом перекрутил в себе что-то, оборвал, будто проволоку, и, выпрямившись с суровым видом, проговорил приказным тоном, излишне жёстко:
– Не отставать! Подтянуться!
Идти было трудно, Чердынцев пожалел, что не взял с собою Мерзлякова, оставил его в лагере – там ведь тоже должен кто-то оставаться. Нельзя, конечно, бросать хозяйство, но комиссар был бы идеальным замыкающим…
У райцентра они оказались уже в темноте, обогнули его с двух сторон, беря в вилку и перекрывая дорогу: въезд и выезд. Если из Росстани удерёт комендант – нестрашно, если смоются пяток полицаев – тоже нестрашно, эта моль всегда водилась и будет водиться впредь в избытке на теле русском, но вот если улизнёт госпожа начальница полицаева – это уже будет худо, это никуда не годится, такого промаха не простят себе ни Чердынцев, ни Ломоносов, ни взводные командиры, которые пришли в Росстань все, каждый со своим взводом.
У Чердынцева, когда он подумал, что бывшая фельдшерица может удрать, даже горло перехватило чем-то жёстким – досадой, похоже, – он нащупал пальцами твёрдый костистый кадык, помял его, во рту сделалось горько. В райцентре убиты, казнены люди, юные граждане, которым ещё жить бы да жить, а им этого не дали… Пришли сволочи аж из самой Германии, не поленились, порядки свои установили, кусачих собак вроде этой «фершалицы» завели, лютуют. Но с немцами, прибывшими сюда с кукурузных полей и из пивных фатерлянда, – один счёт, а со своими, с предателями и оборотнями – другой.
Война всех вывернула наизнанку, сдёрнула одёжки, в которые рядился разный люд, обнажила нутро, в результате каждый человек предстал таким, каков он есть на деле, по сути своей, без всяких прикрас и одеяний. Вот и фельдшерица обнажилась, предстала в том, что носила всегда под платьем, – носила и умело скрывала.
Остановившись у какой-то старой кособокой бани, одиноко приткнувшейся к сараям, Чердынцев подозвал к себе командиров взводов; распорядился он своими силами так – два взвода послал громить комендатуру, один взвод, геттуевский, и с ним разведчиков оставил с собою.
– Будем брать полицейскую управу, – сказал он тем, кто остался.
В райцентре было тихо – ни одного звука, будто в мёртвом городе. Ни собаки не лаяли, ни коты ночные не бесились, не мяукали, ни молодёжь, собиравшаяся в это время суток на свиданки и «мотани», не подавала голосов.
Тишина такая у робкого человека запросто может вызвать припадок – уж больно она полная. Страшная, даже мурашки по телу бегут.
Повёл группу Ломоносов – он знал здесь все тропки, закоулки, заборы и огороды, бывал много раз и, слава богу, из каждого похода благополучно возвращался.
Полицейскую управу они окружили бесшумно – ни одна мёрзлая снежинка под ногами не заскрипела, – приблизились к крыльцу, полагая, что на нём топчется часовой, но на крыльце никого не было – пусто…
– Это плохо, – удручённо проговорил Чердынцев.
– Почему, товарищ командир? – шёпотом задал вопрос Геттуев, глыбой навис над Чердынцевым – он считал своим долгом прикрывать его.
– Потому что раз часового нет, то и фельдшерицы в этой поганой управе нет. Если бы была – на крыльце обязательно находился бы топтун.
– Всё равно в помещение надо ворваться, – сказал Ломоносов, – тогда мы всё поймём и узнаем: где мадам находится, как давно ушла отсюда и куда и что в этом «куда» делает.
– Шума будет много.
– А мы – ножиками. – Маленький солдат неожиданно улыбнулся, словно бы вспомнил что-то приятное. – В своё время вы ножом очень лихо действовали.
– То была необходимость.
– Сейчас – тоже необходимость, товарищ лейтенант. – Ломоносов потянулся к голенищу валенка, достал оттуда нож. – Кто со мной?
Людей, владеющих ножом, во взводе Геттуева не было, это Сергеев был ножевиком и проводил среди своих подопечных специальные занятия, покойный Ерёменко ножиком баловался, а Геттуев, мирный добродушный человек, старался таких страстей избегать.
– Пошли, – сказал Чердынцев маленькому солдату, – пошли вдвоём… Может, обойдёмся без выстрелов.
– Попытка – не пытка, товарищ командир.
Они беззвучно поднялись на крыльцо. В предбаннике управы мирно дремал, сидя за старым скрипучим столом, молодой упитанный полицай в тёмной форме со значком ворошиловского стрелка, пришпиленным к карману. Как открылась дверь, он не услышал, почувствовал лишь, как в натопленное помещение втиснулся хвост холода, ударил по ногам, полицай поднял голову.
– Закрывайте за собой дверь, козлы деревенские, – тихо и грозно произнёс он, приняв Чердынцева и Ломоносова за обычных райцентровских обывателей. Автоматов, висевших за их плечами, он не разглядел.
Ломоносов стремительно шагнул к полицаю, резким движением ладони поддел его под подбородок, голова у полицая задралась, будто тыква, в глотке что-то булькнуло, словно из бутылки вытекли остатки воды. Маленький солдат ловко провёл лезвием по горлу полицая, нож у Ломоносова был острый – он едва не отделил голову от плеч. На стол полицай лёг уже мёртвым.
– Напрасно, – тихо сказал Чердынцев. – У кого мы теперь узнаем, где находится фельдшерица?
– Найдутся такие люди, товарищ командир, и двух минут не пройдёт, как отыщем…
Помещения управы Чердынцев помнил ещё по первому налёту на райцентр – кабинет Шичко должен находиться на втором этаже… Если, конечно, она не подобрала себе другой. Чердынцев прижал к губам два пальца – тихо! Ломоносов замер.
Были слышны два негромких спокойных мужских голоса, раздающиеся в коридоре: полицаи, видать, местные, вели обычный разговор про коней, пиво и какую-то Люську, которая до войны любила разбавлять пиво водой. Чердынцев прислушался – не возникнет ли третий голос?
Нет, не возник. Чердынцев на носках прошёл немного вперёд, заглянул за угол коридора и показал напарнику два пальца – двое, мол. Махнул рукой – пошли! Маленький солдат ткнул себя в грудь и отклячил большой палец вправо – дескать, он берёт на себя правого говоруна, Чердынцев согласно наклонил голову – он возьмёт левого – и шагнул в коридор.
Коридор был освещён слабо – собственный нос даже невозможно разглядеть, говоруны, полицаи средних лет, прервали беседу и уставились на людей, внезапно возникших в коридоре.
– Чего вам тут надо? – истончившимся, словно бы после болезни, ребячьим голосом спросил один из них, много раз битый жизнью, с продырявленной шкурой, опытный мужичок, он что-то почувствовал, но предпринять что-либо не успел, Ломоносов, размахнувшись снизу вверх, всадил ему нож в подгрудье, Чердынцев приставил нож к горлу второго полицая.
– Шичко здесь?
– Ассия Робертовна? Нет её тут, – просипел тот дыряво, враз потеряв от страха голос, – домой ушедшая.
– Кто-нибудь ещё есть в управе?
– Нет. Сегодня у немцев праздник, нас домой отпустили, выдали по бутылке водки на руки…
«Праздник – это хорошо, – отметил про себя Чердынцев, – даже очень хорошо». Полицай, которого он держал на острие ножа, скосил глаза вниз, на валявшегося на полу приятеля, дёрнулся, будто от укола током, и замычал пугливо, с хрипом – ну ровно проколотая автомобильная камера: «М-м-м…»
– Тихо, тихо… – успокаивающе произнёс лейтенант. – Где живёт Шичко, знаешь?
– Ассия Робертовна? Конечно, знаю. Много раз ей домой всякую еду носил…
– Прислуживал, значит?
– Да вы что, товарищ хороший! Она приказывала, я приносил. Женщина всё ж…
– Да не женщина она… – У лейтенанта невольно помрачнело, пошло морщинами лицо, даже губы и те покрылись морщинами. – Обычное исчадие… На немецком празднике она не может быть?
– Не-а, дома она. Немцы её не очень жалуют. Это – после казни девочек-школьниц. Комендант был против, чтобы казнить детей.
«Выходит, не все немцы одинаковые, – мелькнула мысль у Чердынцева в голове, в то же мгновение он отогнал эту мысль от себя, – всё равно они все – враги».
– Пошли… – Чердынцев повёл головой в сторону. – Показывай, где живёт твоя разлюбезная начальница.
– Одну минуточку, – вмешался Ломоносов, обхлопал одежду полицая в поисках оружия.
– Пистолета у меня нет, – услужливо подсказал тот, – не положено, винтовка моя – в караулке.
– Смотри, не вздумай фортель какой-нибудь выкинуть. – Ломоносов демонстративно поправил на плече автомат. – Иначе живо продырявлю.
– Что вы, что вы… – испуганно забормотал полицай и поднял руки кверху.
Вышли на крыльцо.
– Ну что, тихо? – спросил Чердынцев у Геттуева, большой глыбой вытаявшего из темноты.
– Пока ни одного выстрела.
– Три человека – со мной, – распорядился Чердынцев, – а ты, Максим, пока проверь управу, забери в оружейной комнате затворы у винтовок – выбросим их по дороге – и боеприпасы… Жди нас здесь – мы мигом!
Он шагнул в темноту и в ту же секунду растаял в ней, следом шагнули маленький солдат с полицаем и также растворились: ночь нынешняя была словно бы специально сотворена для партизанских операций – тёмная, с позёмкой и посвистами ветра. Следом за командиром в темноту шагнули три бойца из геттуевского взвода.
Полицай вначале шёл уверенно, потом, на перекрёстке двух переулков неожиданно замешкался и после короткого раздумья шагнул влево.
– Ты чего? – встревоженно спросил Ломоносов.
Полицай остановился, вытер рукавом мокрый нос и ткнул рукой в правый переулок:
– Там немцы могут быть. Лучше их обойти.
– Ну ты и орёл, – коротко рассмеялся Ломоносов, лейтенант придержал его:
– Погоди! Может, нам вначале напасть на немцев, а уж потом заняться фельдшерицей?
– Уйдёт ведь, товарищ командир! Как только услышит стрельбу, так сразу и усвистит. И поминай, как её звали.
– Тоже верно. Пошли! – Чердынцев шагнул влево.
– А ты молодец, мужик. – Ломоносов хлопнул ладонью по плечу полицая. – Заботишься о нас.
– Будешь заботиться, когда жизнь дорога, – пробормотал тот беззлобно, с обеспокоенными нотками бывалого человека, вляпавшегося в нехорошую историю.
Минут пять они шли молча. Ломоносов, словно бы предчувствуя что-то, взял автомат на изготовку.
– Сюда, к тому вон дому, – молвил полицай, сворачивая к высокой, не так давно, судя по всему, перед самой войной, окрашенной светлой масляной охрой изгороди. В доме за изгородью призывно светились окна дома. Всего окон в этом справном доме было пять – хорошие хоромы возвёл себе какой-то хозяин, надёжные, просторные, надеялся, наверное, прожить без войны, но война началась, и неведомо теперь, живёт хозяин тот здесь или нет, зато дамочка одна, служка фашистская, живёт. – Сюда, – повторил полицай и, подойдя к калитке, перегнулся. Нашарил изнутри щеколду, с тихим стуком отодвинул её. – Сюда вот.
Чердынцев скинул «шмайссер» с плеча.
На крыльце полицай гулко потопал валенками, сбивая с них трескучие ледышки, потом, разглядев стоящий у двери старый голячок – ободранный веник, – пошмурыгал им по обуви, опять потопал валенками и уж потом стукнул костяшками пальцев в дверь. Подёргал её – дверь была закрыта, – снова постучал.
Наконец в сенцах загремело попавшее под неловкую ногу ведро, и недовольный женский голос поинтересовался:
– Кто это?
– К Ассии Робертовне! Передайте, что Григоренко, дежурный из управы пришёл.
– А до завтрева подождать не мог?! – Недовольство в женском голосе сменилось злостью.
– Раз пришёл, значит – не мог, – невозмутимым тоном ответил полицай. – Открывайте!
За дверью заскрежетал железный засов – выдвигался он трудно, заржавел, видать, в этом доме не было мужика, чтобы привести его в порядок, потом заскрежетал другой засов, размером и мощностью поменьше. Дверь отворилась.
Полицай решительно шагнул в сенцы, вытер рукавицей нос.
– Ассия Робертовна где?
– У себя. Ужинает.
– Скажите ей – Григоренко пришёл. Гри-го-рен-ко. Дело у меня срочное.
– Ладно, – смиряясь, проворчала недовольная женщина – объёмная, грузная, занимавшая половину сенцев, – я поняла: Гри-го-рен-ко. Проходи. А это кто с тобой? – воззарилась она на Чердынцева и маленького солдата.
– Это наши. – Полицай небрежно махнул рукой. – Из управы… Со мной пришли.
– Ладно. – Грузная женская фигура нехотя отодвинулась в сторону. Проворчала: – Нанесёте мне тут грязи.
– Грязь не сало, потёр – и отстало, – произнёс полицай, хихикнул довольно: очень уж ладно он высказался. И главное – к месту.
Испуг, навалившийся на него в управе, похоже, прошёл, он вновь почувствовал себя в своей тарелке, перестал бояться партизан.
Чердынцев сильным движением руки отодвинул хозяйку в сторону, шагнул вслед за полицаем в нагретое помещение.
Фельдшерица сидела за столом в форме, украшенной какими-то оловянными бляшками и значками, ушитой по талии, делающей её фигуру очень стройной, и ужинала. Она почти не изменилась, точнее, совсем не изменилась, у неё было всё такое же точёное лицо, гордый постав головы, как у греческой богини, длинные ресницы, нежная матовая кожа, застенчивый румянец на щеках. Красивая женщина! Но, странное дело, увидев эту красивую женщину, Чердынцев ощутил, что в нём растёт, ширится и вот-вот переполнит его некое брезгливое чувство – ну будто бы он съел что-то не то, какую-то заплесневелую пакость, способную вывернуть наизнанку не только человека…
На столе перед фельдшерицей в тарелках находилась еда сугубо русская, не немецкая – яичница-глазунья, порезанная на квадратные доли, в каждом квадрате – оранжевый, схожий с маленьким солнышком желток; сало с прожилками, тонко и умело напластанное, хлеб-ситник пшеничный, пышный, недавно испечённый, и хлеб ржаной, душистый, ноздреватый (Чердынцев давно не пробовал такого хлеба), в алюминиевой миске высилась горкой домашняя, обильно начесноченная колбаса; в одной половине блюда – кровяная, напластанная крупными скибками, с другой – обычная, варёная, из прокрученного мяса, для вкуса подкопченная на ольховом дыму… Неплохо питалась начальница полицейской управы!
Богатый стол этот венчала бутылка старой, ещё довоенного производства водки, которую в Москве повсеместно величали «красноголовкой» – горлышко бутылки и пробку прямо на заводе заливали красным сургучом. Продавалась в Москве и «белоголовка» – со светлым сургучным горлышком, но она в магазинах появлялась реже, особой популярностью не пользовалась, и знатоки наперебой утверждали, что вкус у неё хуже, чем у «красноголовки».
Выходит, в райцентре имелись немалые запасы популярной водки, раз часть её досталась фельдшерице. Большую часть, конечно, забрало себе немецкое начальство из комендатуры для своих нужд и потребностей, меньшая досталась разным сошкам типа этой дамы…
Водки в бутылке оставалась ровно половина, в гранёном стакане, стоявшем рядом, плескалось немного, чуть на самом донышке, значит, всё остальное фельдшерица выпила. На столе среди тарелок лежал пистолет. Марку можно было даже не определять, марка известная – вальтер. В немецкой армии вальтеры выдавали только офицерам.
– Ну, Григоренко, чего у тебя? – не поворачивая головы, хриплым голосом спросила фельдшерица, ловко ухватила бутылку изящной рукой и налила себе полстакана. – Что случилось?
У полицая сразу и голос пропал, и ноги начали дрожать – при виде начальницы наступило некое онемение. Он выдавил из себя что-то невнятное, сплющенное, слова тут же смялись, как непрочные бумажки из-под конфет, и превратились в обычное мычание:
– М-м-м-м!..
– Перестань мычать! – раздражённо потребовала Шичко.
Полицай дёрнулся, сгорбился, враз уменьшаясь в росте, в это время его беззвучно обошёл Ломоносов, очень лёгким, каким-то невесомым движением ухватил за рукоять пистолет, лежавший на столе.
Шичко невольно вздрогнула, выпрямилась:
– Это что такое?
– Ничего, мадам, – небрежно произнёс Ломоносов, – обычная экспроприация.
– Ты кто? Как ты тут очутился? – матово-нежное лицо Шичко налилось грубой помидорной краской.
– Кто? Дед Пихто. Слышала про такого?
Фельдшерица стремительно соскользнула со стула и кинулась к внушительному, блистающему лаком комоду. Ломоносов понял – в комоде явно спрятан ещё один ствол, ухватил Шичко за руку.
– А ну стой, падла!
– Прочь от меня! – резко, на визгливой ноте выкрикнула Шичко, попыталась выдернуть руку.
– Тих-ха! – повысил голос маленький солдат, ткнул фельдшерицу стволом автомата в бок.
Та глянула на Ломоносова негодующе, проколола его зрачками, будто гвоздями, и втянула голову в плечи, сразу становясь маленькой и беспомощной – точно таким же только что стал полицай Григоренко. Ломоносов крепко сжал её локоть – не вырваться.
– Пошли!
– Куда? – Глаза Шичко неожиданно наполнились слезами. – Никуда я не пойду!
Чердынцев подхватил её под второй локоть.
– Пошли, пошли…
– Не пойду!
– Не пойдёшь – силой выволочем. – Лейтенант ухватился покрепче и приподнял Шичко над полом. Та дёрнула ногами один раз, другой, дёрнулась сама, пробуя освободиться, но не тут-то было, Чердынцев сделал несколько шагов к порогу, неся фельдшерицу, будто некий целлулоидовый манекен, вытащенный из-под витринного стекла модного магазина. Ломоносов помог ему.
К Чердынцеву, по-утиному переваливая своё тело с одной ноги на другую – слишком полной она была, – кинулась хозяйка.
– Пальто хоть возьмите, ироды, – вскричала она. – Ася замёрзнет без пальто.
– Пальто ей не понадобится. – Маленький солдат с трудом отстранил женщину от Чердынцева. – Ни к чему…
Лейтенант вытащил трясущуюся, дёргающуюся, переполненную немым мычанием Шичко на улицу, попросил Ломоносова:
– Кляп сооруди – в рот засунем. Не то она на весь райцентр заорать может.
– Зачем сооружать? У меня кляп уже готовый. – Ломоносов выдернул из кармана тряпичную скрутку, ткнул торцом в губы бывшей фельдшерицы. – А ну, открой рот, падла! – потребовал он от Шичко.
Та плотно стиснула зубы.
– Открой, открой! Если не разожмёшь зубы, я их стволом автомата выкрошу, поняла? Тогда нечего будет сжимать! – Ломоносов с силой втиснул кляп фельдшерице в рот, довольно кивнул и поправил сползшую на нос шапку – мешала смотреть. – Куда двигаем, товарищ командир?
– На площадь, – тихо ответил тот, – к виселице.
– Хорошее дело, – одобрил Ломоносов решение командира. Шичко промычала что-то, дёрнулась, но её уже подхватили ребята из взвода Геттуева. – Держите эту дамочку крепче, – предупредил их маленький солдат, – я вперёд пойду.
Он провёл группу к площади, примыкавшей к маслобойне, без осложнений – ни один человек им не встретился по пути, первым выскочил на площадь и предостерегающе поднял руку: стой!
Было на удивление тихо, просто не верилось в то, что до сих пор не прозвучал ни один выстрел. Значит, и у второй группы, у Сергеева с Крутовым, тоже всё идёт удачно… Где-то недалеко возникла и исчезла, прихлопнутая дверью, патефонная музыка – звук пластинки был слышен хорошо.
Пластинка была немецкая, и музыка – соответственная, записанная на студии где-нибудь в Берлине… Шичко, подстёгнутая бравурными звуками, дёрнулась в одну сторону, в другую, но бойцы держали её крепко – Ломоносов предупредил, что за птичку доверили им. Шичко замычала, пытаясь выплюнуть кляп, но добилась того, что конвоир вогнал тряпичную затычку ей ещё глубже в рот.
К виселице фельдшерицу уже волокли, как неподвижный сноп, только носками своих нарядных сапожков Шичко чертила след – длинные неровные борозды, то расширяющиеся, то сужающиеся, идти она уже не могла: поняла бывшая фельдшерица, что с нею собираются сделать.
Один из бойцов, волокших начальницу полиции, неожиданно громко засопел, покрутил головой из стороны в сторону.
– Братцы, вы ничего не чуете? Ссаками вроде бы пахнет.
Напарник его, волокший фельдшерицу с другого бока, подтвердил хмуро и брезгливо:
– Она обоссалась, я это ещё несколько минут назад заметил.
– Тьфу! Не только обоссалась – хуже… – Первый конвоир зажал пальцами нос.
На виселицах болтались верёвки, их для устрашения жителей снимать не стали, оставили, верёвки обледенели, отяжелели, висели неподвижно, страшно.
Под одну из таких верёвок, под петлю, поставили Шичко. Держаться на ногах она по-прежнему не могла, ноги подкашивались, гнулись, уходили то в одну сторону, то в другую. Фельдшерицу с двух сторон под мышки подхватили бойцы, встали рядом, не давая ей упасть.
Чердынцев глянул вверх – петля болталась довольно высоко, чтобы до неё дотянуться, нужна была табуретка или скамейка. Маленький солдат попытался изловчиться, подпрыгнул, но куда там – не достал.
Дядя Коля Фабричный тоже задрал голову, крякнул и отодвинул в сторону бойцов, поддерживающих Шичко.
– Посторонитесь-ка, громодяне! Всё учи вас, молодых, учи… – кряхтел он по-стариковски, становясь на четвереньки. – Давай-ка, Иван, забирайся на меня…
Ломоносов всё понял, с ходу, по-обезьяньи ловко вспрыгнул на спину Фабричного, дотянулся до петли, раздвинул её, распрямил, чтобы было удобнее накинуть на голову фельдшерице, скомандовал сверху бойцам, державшим Шичко:
– А ну, поднимайте сюда эту тварь!
Последние слова его потонули в грохоте недалёкой автоматной очереди. Похоже, началось.
– Поднимайте быстрее! – подгонял бойцов маленький солдат.
На площадь, хрипя моторами, выскочили сразу два патрульных мотоцикла, полоснули лучами фар по собравшимся. Чердынцев ударил очередью по фарам, потом, опережая пулемётчика, по нему.
Угодил точно – и фары мотоциклов погасли, и пулемётчик, выбитый очередью из люльки, откатился в сторону, распластался на снегу, похожий на большую мятую тряпку. Бойцы, державшие фельдшерицу, начали спешно поднимать её к петле. Один из мотоциклистов, ещё живой, сумел стянуть с себя через голову автомат, висевший у него на груди, дал ответную очередь. Чердынцев стиснул зубы, прошёлся ответной очередью по мотоциклисту, с досадой отметил: не попал. Слева и справа от него также застрочили автоматы. Мимо, мимо! Третья очередь оказалась меткой – мотоциклист, подвернув под себя руки, опустился на руль. Готов!
Лейтенант развернулся и, увидев почти рядом с собою бело-восковое лицо фельдшерицы с торчащим изо рта кляпом, плоские от страха глаза, невольно отшатнулся от неё. Потом, потянувшись одной рукой, выдернул кляп. Шичко взвыла что было мочи.
Бойцы напряглись, приподняли её ещё немного, и маленький солдат, изловчившись, накинул на её голову петлю. Стрельба уже шла кругом, не было в райцентре, наверное, места, где бы сейчас не стреляли. Чердынцев проговорил фельдшерице в лицо громко, печатая каждое слово, хотя понимал, что вряд ли она в эту минуту что-либо соображает, но лейтенант посчитал необходимым это сделать:
– От имени советской власти… За измену Родине!
– Не надо! – давясь слезами, закричала Шичко.
Бойцы отпустили фельдшерицу. Тело нырнуло на полметра вниз, вытянулось, ноги, обутые в роскошные сапожки, задёргались, каблуки звонко застучали друг о друга, голова подломилась, поползла набок, почерневший рот распахнулся сам по себе, обнажая неестественно красивые, ровные белые зубы.
Чердынцев выдернул из кобуры ракетницу, нажал на курок, послал в воздух зелёную, сыро зашипевшую ракету – сигнал, что можно отходить.
Из-за забора, окружавшего маслобойню, вывалились несколько немцев, с ходу открыли стрельбу. Бойцы, находившиеся рядом с Чердынцевым, поспешно попадали в снег, начали огрызаться огнём.
– Иван! – крикнул лейтенант Ломоносову. – Этих деятелей надо обойти и ударить по ним с тыла, иначе они хрен нам дадут выскользнуть отсюда.
– Счас сделаем, товарищ лейтенант, не беспокойтесь! – Маленький солдат метнулся в сторону, за ним ещё двое, скрылись в темноте, слабо освещённой вспышками выстрелов, собственно, только по вспышкам и можно было понять, кто где находится.
Чердынцев оглянулся на виселицу. Фельдшерица висела в петле неподвижно – успокоилась навсегда, вытянула длинные ноги в роскошной обуви. Под ней лежал кто-то, судорожно цеплял одной рукой снег, пытаясь загрести хотя бы немного, но у него ничего не получалось. Лейтенант вгляделся, расстроенно выругался – это был дядя Коля Фабричный… Как же тебя угораздило, дядя Коля?
Громыхнул взрыв гранаты, вверх плоско взметнулось пламя, рассыпалось на мелкие брызги, взрыв откинул в сторону смятую каску, сорванную с головы какого-то несчастного баварца или франкфуртца, она докатилась до самой виселицы, стукнулась о деревянную опору и, отскочив от неё, завертелась волчком на снегу.
За первым взрывом последовал второй – Ломоносов свою задачу выполнил.
– Фабричного заберите! – приказал Чердынцев, позвал громко: – Ломоносов!
А Ломоносова и звать не надо было, он уже находился рядом с командиром.
– Ваня, эвакуация дяди Коли Фабричного – на тебе. Отвечаешь головой.
– Понял, товарищ лейтенант! – Ломоносову не надо было объяснять, что надо делать, а чего не надо. Двое разведчиков подхватили дядю Колю под мышки и потащили прочь с площади, Ломоносов с автоматом метнулся в сторону, увидел что-то подозрительное, на бегу дал очередь, сбил кого-то с ног, присел к земле, перезаряжая автомат, в магазине кончились патроны, снизу снова открыл стрельбу.
Услышав за собою топот, Чердынцев развернулся, увидел двух немцев с винтовками – озябших, в пилотках, глубоко натянутых на уши, даже самому непонятно стало, как он их разглядел в темноте, видать, в пиковых ситуациях, в моменты опасности зрение наше обостряется предельно, становится звериным, вскинул автомат.
Короткая очередь цели не достигла, да и охолодевшие на русском морозе фрицы не очень-то хотели воевать, они отвечать не стали, а просто плюхнулись мордами в снег и застыли, будто мёртвые. Чердынцев усмехнулся и побежал вслед за бойцами, тащившими Фабричного.
Сейчас главное – без потерь отступить из райцентра. А как сделать, чтобы без потерь? Знал бы это лейтенант – подсказал бы самому себе, но чего не знал Чердынцев, того не знал. И бойцы не знали.
Всё будет зависеть от того, как сработают взводные командиры, как поведут себя Сергеев, Крутов, Геттуев. Война – штука непредсказуемая, на ней бывает всякое. А всякая ситуация, в том числе и пиковая, состоит из тысячи разных случайностей; собранные вместе, случайности составляют закономерность.
Перед тем, как скрыться за забором маслобойни, Чердынцев огляделся: как там ведут себя фрицы в пилотках? Те продолжали лежать на снегу. У-умные.
Соединяться было решено за райцентром, у дороги – у двух групп были разные пути отхода. Когда Чердынцев прибыл на место встречи, Геттуев был уже там. Максим – молодец, добыл несколько санок, на которых в деревнях возят воду, на них поставил пустые ящики, крашенные в защитный цвет, с немецкой маркировкой, набил их добром, взятым в управе, в отдельном мешке, тяжёлом, здоровяк Геттуев приволок затворы от винтовок.
Приподняв мешок за горловину, взводный коротко доложил командиру:
– Вот!
– Молодец, Максим! Железо это надо будет утопить где-нибудь по дороге… В глубоком месте.
– Сделаем, – пообещал Геттуев. В том, что он обязательно это сделает, можно было не сомневаться.
– Одни санки надо освободить. – Чердынцев повёл головой назад, где тихо постанывал дядя Коля Фабричный (он был без сознания). – У нас один раненый.
– Нас пронесло, – сказал Геттуев, – мы без потерь. – И неожиданно добавил грустно: – До следующего раза.
– Тьфу, тьфу, тьфу! – суеверно отплюнулся через плечо Чердынцев. – Нам этого не надо.
– Что с начальницей полиции, товарищ командир?
– Висит.
– Туда ей и дорога. – Геттуев вытянул голову, прислушался с видом охотника, решившего узнать, где водятся утки, оспины на его лице побелели. – Похоже, стрельба в райцентре прекратилась.
– Значит, Сергеев ушёл.
Через десять минут подоспела вторая группа – под командой Сергеева. Лейтенант Сергеев был мрачен, сплюнул на снег кровью.
– Ранен? – спросил Чердынцев.
– Есть немного. Но не это главное – у меня двое убитых.
Чердынцев ощутил, что внутри у него зажёгся некий тоскливый огонь, поморщился… С другой стороны, чего морщиться, всякая операция обязательно предполагает потери. Раз на раз не приходится. Война есть война.
– Вынести убитых, я смотрю, не удалось…
– Нет. Слишком плотно насели немцы. Их вообще оказалось больше, чем мы предполагали.
Не знали ни Чердынцев, ни Сергеев, ни Ломоносов, что вечером, уже в сумерках, за два часа до прихода партизан, в райцентр прибыла комендантская группа из Брянска – командированные в глушь фрицы собирали тёплую одежду, бельё, шерстяные носки и варежки, вязаные «подгузники», позволяющие охранять мужское достоинство от укусов лютого здешнего мороза, меховые шапки, даже старые. Сборщики тряпья были неплохо вооружены – на случай нападения на них озверевших от поборов местных жителей у всех имелись автоматы с хорошим запасом патронов…
«Тряпичники» и пришли на помощь усиленному взводу и хозкоманде, которые находились под рукой у гауптмана.
– Коменданта взяли?
Сергеев отрицательно покачал головой, стёр кровь с разбитой нижней губы, оглянулся назад, пытаясь разглядеть в темноте дома райцентра, но всё поглотила ночь, и взводный проговорил раздражённо:
– Буквально из рук выскользнул. Больно уж ловким оказался, гад… Как налим.
– Жалко. Кто погиб?
– Одного вы должны знать, он из старичков, Овсяник его фамилия, второй… Второго вы вряд ли знаете, он из последнего пополнения, из военнопленных – тех, что вы освободили в лесу.
– Было такое дело. Как его фамилия?
– Фёдоров.
Конечно, может быть, Чердынцев и вспомнил бы Фёдорова, но времени на воспоминание не было, надо было уходить, лейтенант втянул сквозь зубы морозный воздух, словно бы остужал в себе боль, и выдохнул глухо и печально:
– Жаль…
По одному, шагая след в след, партизаны начали втягиваться в лес. Лес был чёрный, глухой, не видно в нём ни зги. Первым в цепочке шёл Ломоносов, вёл за собою людей, замыкающим – лейтенант Сергеев, перед ним на санках, утопая в снегу, тащили боеприпасы, впереди везли дядю Колю Фабричного, который так и не пришёл в себя. Задача у Ломоносова была сложная – вывести группу на старый след, а там идти будет уже легче.
Через час Ломоносов нашёл утерянную тропу, партизаны повеселели: раз дорога домой найдена, то до самого дома осталось не так уж и далеко, путевая ниточка обязательно приведёт к родным землянкам.
Ещё через час устроили привал с ночлегом – Чердынцев дал людям возможность отдохнуть до утра. Некоторое время он сидел у дяди Коли Фабричного, которого сняли с санок и положили на лапник, слушал, как тот сипит дыряво, с трудом, жалел, что далеко до Нади – Наденька бы живо сообразила, чем можно помочь раненому.
Он склонился к Фабричному – может, тот что-нибудь скажет, попросит воды или курева, но нет, ничего тот не говорил, только сквозь крепко стиснутые зубы наружу просачивался сдавленный стон, да ещё было слышно, как у дяди Коли что-то сильно хрипит внутри, булькает, клокочет, словно бы в нём прорвало какую-то жилу и теперь в дырку выхлестывает, булькая глухо, то ли кровь, то ли вода, то ли ещё что…
В разных концах поляны, которые партизаны облюбовали себе на ночлег, Чердынцев поставил двух дозорных, одного с одной стороны, второго с другой, чтобы их не захватили врасплох, кинул под себя несколько еловых лап и смежил глаза.
Несколько минут он ещё держался, боролся с сонной вялостью, фильтровал звуки, доносившиеся до его уха, пробовал по ним понять, что происходит вокруг и есть ли в ночной жизни леса что-нибудь опасное для партизан, вдыхал щекотный смолистый дух хвои, а потом сдался – не устоял, погрузился в плотный тёмный сон. Устал он очень, потому и не удержался.
Спал провально, будто нырнул в глубокую воду и лёг на дно, ни одного светлого пятна не увидел, очнулся от того, что кто-то тряс его за плечо.
Схватился за автомат – автомат находился рядом, вспышка тревоги, стремительно возникшая в нём, прошла. Он открыл глаза. Вначале ничего не увидел, потом в угольно-тёмном поле прорезался светлый круг, а посреди его – лицо маленького солдата.
Ломоносов продолжал трясти его.
– Товарищ командир, а, товарищ командир…
Чердынцев пошевелился, ощутил, как остыли, окаменели у него плечи, в мышцы натекла тяжесть.
– Ну? – Лейтенант застонал, в следующее мгновение задавил в себе стон, приподнялся. – Что случилось?
– Дядя Коля Фабричный помер…
Сна как не бывало, вместе со сном стряхнуло и сковавшую мышцы тяжесть, и ознобную боль, рождённую холодом.
– Как помер? – неверяще пробормотал Чердынцев.
– Я посты менял, подошёл к Фабричному проверить, как он, а дядя Коля лежит с открытыми глазами, холодный… Уже остыл.
– Эх, дядя Коля, дядя Коля… – сожалеюще прошептал Чердынцев, больше ничего сказать не смог, все слова словно бы пропали – ни в голове их не было, ни на языке. Лейтенант приподнялся, выбил в кулак застрявший в глотке кашель. – Сколько времени там накрутило?
Ломоносов глянул на дешёвые трофейные часики – очень красивые, – которыми обзавелись все разведчики, но ненадёжные.
– До подъёма ещё ого-го сколько – два часа. Десять раз можно выспаться. Что с дядей Колей делать будем? С телом то есть? – Вид у Ломоносова сделался виноватым, будто он проглядел что-то и упустил Фабричного.
– Повезём в лагерь. Там похороним. На партизанском кладбище.
– Есть похоронить на партизанском кладбище, – коротко, по-военному, будто дело происходило в действующей части, произнёс Ломоносов и исчез.
Чердынцев ощутил, как некая – впрочем, вполне понятная – обида перехлестнула ему глотку, дыхание забила мокреть, он попробовал вспомнить лицо Фабричного и не сумел, хотя видел его всего полтора часа назад, оно неожиданно стёрлось… Какие-то причуды бесовской силы. Если, конечно, такая сила существует, поскольку Чердынцев, как комсомолец, в бесовщину не верил.
Впрочем, наваждение скоро пройдёт, и лицо дяди Коли, увядающее, с пучками морщин под глазами вспомнится, и его испытующий, чуть насмешливый, исподлобья взгляд, и дела его, сотворённые во благо, – всё это будет жить в отряде. Пока отряд будет жив, будет жить и дядя Коля. Как же они потеряли Фабричного? Лучше бы оставили его в лагере. С другой стороны, останься Фабричный в лагере, были бы убиты другие. Судьбу не обмануть, если уж она решила ущипнуть партизан, то сделает это обязательно, своего не упустит. Эту чертовку не провести…
Чердынцев вставать не стал, хотя надо было бы, но дядю Колю этим не оживить, поэтому он перевернулся на другой бок, пытаясь улечься поудобнее, но ничего из этого у него не получилось, и лейтенант замер горестно, в неудобной позе, скорчившись, подтянул к подбородку колени и, подхватив их обеими руками, ощущая холод, проникающий в него снизу, и совсем не беспокоясь о том, что холод этот может оказаться опасным. В таком онемении пролежал до той минуты, когда надо было поднимать партизан.
Он включил фонарик, осветил циферблат часов, спрятавшихся глубоко в рукаве, поскрипел колёсиком завода. Пора. Над ним склонился Ломоносов.
– Разжигай костры, – приказал ему Чердынцев.
Ломоносов, будто дух бестелесный, растворился в темноте. Через несколько минут на поляне затрещал, заухал подпаленный спичками лапник, горел он сильно, громко, словно порох, быстро раздвинул черноту ночи, осветил неровные обледенелые стволы деревьев. Кругом зашевелились присыпанные снегом люди. Лес ожил.
Послышались ахи, охи, кашель, чихи, негромкие стенания: ночёвка на морозе – штука непростая, обязательно оставляет какой-нибудь след. Чердынцев обошёл людей – все ли живы? – свернул немного в сторону, зачерпнул ладонью снега, бросил себе в лицо и чуть не охнул от неожиданности – мёрзлый снег огнём опалил щёки и лоб. Лейтенант, морщась, растёр его. Холод сменился жаром, горсть снега привела Чердынцева в себя.
– Ах, дядя Коля, дядя Коля… – пробормотал он глухо и печально и пошёл снимать посты. Ощущение утраты, конечно, пройдёт, но это будет нескоро.
Едва он углубился в черноту леса, как послышался свист и раздалось короткое, как выстрел, предупреждение:
– Стой!
Лейтенант остановился. Позвал часового:
– Игнатюк!
– Так точно, товарищ командир, я это.
Игнатюк устроился капитально, с умом – сразу видно хозяйственного человека, – вырыл себе в снегу гнездо, накидал в него мягких еловых лап, расположился в нём удобно, прикрытый деревом. Обзор из гнезда был прекрасный, во все стороны, по всему кругу, отличный обзор, отметил Чердынцев, похвалил про себя бойца, спросил, окутавшись мелким, на глазах превращающимся в мелкую морозную пыль парком:
– Ну что, Игнатюк, тихо?
– Волки пару раз подходили, и всё. Больше ни единой живой души.
– Значит, не полезли немцы за нами… Это хорошо.
– В лес они в ближайшее время вряд ли сунутся, товарищ командир. Они теперь будут ждать подкрепления и лишь потом проведут какую-нибудь операцию. Да и то с опаской.
– А что волки?
– Ничего. Как подошли, так и отошли. Повыли немного с голодухи и успокоились.
– Когда они чувствуют запах оружия, горелого ствола, то не нападают, опасаются. Это давно подмечено.
– И людей много. Если бы был один человек – навалились бы, это я по себе знаю, а так… – Игнатюк развёл руки в стороны. – Кишка тонка и зубов во рту маловато.
– Иди, попей чайку, Игнатюк, я за тебя пока постою… Через пятнадцать минут уходим. Ломоносову скажи, чтобы подменил второго часового.
Игнатюк по проторённому следу отправился к костру. Чердынцев остался один и, едва под ногами Игнатюка стих противный визгливый скрип снега, услышал волчий вой. От него по коже даже блохи заскакали – бесшабашные весёлые блохи, – виски сжал болезненный твёрдый обруч. Чердынцев невольно провёл пальцами по стволу автомата, словно бы проверял, на месте ли оружие, прислушался к вою.
Выли волки недалеко, в трёх сотнях метров от ночёвки людей, заводилой в стае была, судя по всему, волчица, голос у неё был хрипловатый бабий, словно бы у отжившей свой век сельской женщины, но, несмотря на годы, не собиравшейся сдаваться, ей вторили три «сеголетка» – молодые волки, судя по всему, её сыновья. Вместе получался хор, от которого мороз мог побежать по какой угодно коже, даже слоновьей.
Но в такую ночь – извините, в такое утро, хотя рассветом ещё не пахло – незамеченными подойти к лагерю им не удастся. Выдаст снег, прокалённый, скрипучий, он визжит не только под ногами людей – визжит даже под лапами волков.
Волчья песня повторилась снова, на этот раз звери переместились ближе к партизанам, уселись кружком подле какой-то остекленевшей ёлки и завыли опять. Тоскливо, громко, на длинных протяжных нотах, будто несчастные музыканты, потерявшие в этой жизни всё, с волками даже ветер, привыкший властвовать в этом краю, не посмел соперничать – посчитал, что волки сильнее его…
Неожиданно прозвучала короткая автоматная очередь, смахнула волчий вой, будто стакан со стола, – вой мигом угас. Кто стрелял? Неужели немцы? Всё-таки рискнули ввязаться за ними в погоню? Чердынцев вгляделся в темноту – не шевельнётся ли там что, не появятся ли люди?
Морозный воздух втиснулся ему в глотку, ошпарил изнутри рот и ноздри, лейтенант скорчился, чтобы не закашляться, сдавил пальцами кадык. Кашель так и остался в нём, похоронил он его…
Тёмное предутреннее пространство продолжало оставаться пустынным – никто его не потревожил… Но очередь всё-таки была? Была. Значит, по их следам всё-таки кто-то двинулся.
Чердынцев выждал ещё десять минут и хотел было идти к костру, чтобы поднимать людей, но на тропке показался Игнатюк. Пришёл он вовремя. Игнатюк хлопнул себя ладонью по животу:
– Хорош был горячий чаёк!
– Автоматную очередь слышал? – спросил Чердынцев.
– Нет, – удивлённо ответил Игнатюк. – А что, разве стрелял кто-то?
– Да. – Чердынцеву было неприятно, что люди, находившиеся у костра, ничего не засекли, ничего не услышали, внутри у него возникло раздражение, но он быстро подавил его, сказал Игнатюку: – Через десять минут выдвигаемся.
Маленький солдат тоже не слышал автоматной очереди, похожей на треск рвущейся материи, но на сообщение Чердынцева среагировал, как и положено.
– Отход надо основательно прикрыть, – сказал он. – На всякий случай, а вдруг?..
– Вот именно – а вдруг? – тихо проговорил Чердынцев и, хотя непонятно было, то ли он поддержал Ломоносова, то ли не поддержал, сказал: – Действуй, Иван!
Костёр забросали снегом, снялись с места и цепочкой втянулись в черный, недобро замёрзший лес. Волки перестали выть, сколько Чердынцев ни вытягивал голову, ни прислушивался, так ничего и не засёк: то ли добычу какую обложили целой стаей и занялись ею, то ли поняли, что ничего не обломится им в этот раз, и примирились со своей судьбой.
Двигались молча – ни одного возгласа. Умершего Фабричного также волокли с собою – упокоится он на своей земле, среди своих, – на партизанское кладбище, царствие ему небесное.
Над головами людей промахивали какие-то птицы, похожие на потусторонние тени, в макушках елей и сосен сочувственно помаргивали запутавшиеся в хвое утренние звёздочки, от стволов отскакивали отбитые морозом сучки…
Произошло это уже днём, когда темнота сгреблась в кучу и схоронилась где-то в гуще деревьев, воздух сделался лёгким и прозрачным, а над головами людей безмятежно заголубело чистое небо.
Где-то далеко послышался рокот мотора, люди прислушались к нему – не танк ли это прёт по лесу? – но рокот исчез. Впрочем, исчез ненадолго, через несколько минут возник снова, удвоенный, потом утроился, учетверился, сделался назойливым, от него даже кожа на висках зачесалась.
– Прекратить движение! – запоздало скомандовал Чердынцев. – Встать под сосны! Воздух!
Но легко скомандовать, да непросто выполнить команду, непросто развернуть санки с несколькими ящиками патронов – сани в снегу проседают по самый хребет, след за собою оставляют заметный, видный издали, а уж с неба, где вся земля находится, будто на ладони, тем более.
– Воздух! – продублировал кто-то крик Чердынцева, люди зашевелились проворнее, движения их сделались суетливыми, резкими, кто-то, метнувшись в сторону, угодил в яму, видать, это была воронка от бомбы, засыпанная снегом, провалился в неё по самое горло, забарахтался беспомощно…
– Спокойнее, спокойнее, без паники! – прокричал Чердынцев, страдая только от одного вида растерянности людей, от их внезапно проступившей слабости… Действительно, слаб человек!
Низко над деревьями, едва не задевая крыльями макушек, пронёсся самолёт. Длинный, с узким фюзеляжем, украшенный чёрным, с белой, блестящей, будто эмаль, обводкой крестом, он напоминал огромную странную рукастую рыбу, невесть как оказавшуюся в воздухе.
Похоже, это был либо разведчик, либо вожак стаи, который вел за собою ещё пяток таких же сильных, гладкотелых, опасных, злых машин. Чердынцев разобраться в этом не успел, поскольку ранее не бывал под налётом авиации, смешивающей с землёй всё живое, и слава богу, что ему не довелось пережить такое, – самолёт, взревев моторами, тут же исчез, только дрожь пробежала по макушкам деревьев…
Исчез он ненадолго, сделал боевой разворот и вновь очутился над партизанами.
Люди засуетились. Санки с убитым дядей Колей, обесцветившимся до восковой – нет, до свечной белизны, чертившим обледеневшим острым носом воздух, застряли в снегу, рядом застряли вторые санки, на которых громоздились ящики с патронами, несколько человек безуспешно дёргали их, пытаясь вытащить, но всё было тщетно – плотный снег засосал полозья, будто обычная болотная грязь.
– Бросайте санки! – прокричал Чердынцев что было силы, ощутил, что у него вот-вот порвётся жила на шее, от крика даже ключицам сделалось больно. – Уходите! Уходите!
Из брюха самолёта вывалились две удлинённые серые капли, понеслись к земле.
Партизаны – а это были молодые бойцы, на чью долю всегда выпадает нагрузка потяжелее, на то они и молодые, – наконец бросили застрявшие санки, рванули кто куда, в разные стороны. Лишь один из них, совсем ещё не оперившийся мальчишка, задрал голову, поймал глазами несущуюся прямо на него бомбу и закричал подсеченно, страшно… Крик его оказался сильнее воя бомбы.
В следующий миг в воздух понеслись комья снега, рыжие, плюющиеся крошкой ошмётья земли, свившиеся, уродливо изогнутые тонкие корни, следом – коренья толстые, останки молодого партизана, угодившего под взрыв, впрочем, от него ничего не осталось, лишь полетели в разные стороны куски материи, оторванный от автомата ремень, сдёрнутый с ноги разлохмаченный валенок да что-то красное, жидкое, и всё.
Горячая волна приподняла Чердынцева, ударила боком о неровный, сплошь в наростах сосновый ствол, лицо залепило дымящейся, отвратительно пахнущей землёй. Сделалось трудно дышать. Хорошо, что хоть боком в выемку угодил между наростами, если бы угодил в нарост – сломал бы себе несколько рёбер. Чердынцев застонал и поспешно заполз за ствол – на партизан уже зашёл второй самолёт, с неба на землю валилась ещё одна партия серых, хорошо видных снизу капель, следом за вторым самолётом заходил третий, был слышен его надрывный вой.
Две бомбы шлёпнулись в снег, будто торпеды, одна за другой, первая пошла параллельно земле, проткнув, просадила её метров на двадцать, зацепила ребристым стабилизатором за какую-то выковырину, а может, за сосновый корень, неосторожно вымахнувший на поверхность, неожиданно подпрыгнула резво и тяжело, а потом с визгом ушла вниз, в промороженную твердь и взорвалась там.
От взрыва застонал, закачался лес, завалился на одну сторону – такой силой обладала взрывная волна, осколки начали сечь стволы и сучья, большие и малые, сосны заплакали от боли… В лицо Чердынцева ударила горячая вонючая струя, обварила лоб и щёки, вывернула наружу ноздри – слишком едкая она была, лейтенант закашлялся, но выкашляться до конца не смог, к глотке подступило удушье, сдавило хрящи, сплющило кадык… Из глаз мутным потоком хлынули слёзы. Лейтенант размазал их по чёрному, испачканному сажей лицу – он словно бы попал под самолётный выхлоп.
– Берегись! – заорал кто-то неподалёку.
Над перепаханной поляной пронеслись ещё два самолёта, с рёвом взмыли вверх. Снова затряслась, застонала земля, оборванные корни деревьев взмыли вместе с дымной землёй к макушкам сосен, повисли там бессильно, похожие на небрежно обрезанные верёвки, сделалось горячо… Вот она, смертушка, совсем рядом находится. Никого и ничего не пожалеет.
Самолёты исчезли так же внезапно, как и появились – ну будто бы провалились в преисподнюю. Чердынцев, оглушённый, ничего не слыша и почти ничего не видя, ощупал себя – ничего не оторвало?
Ноги, руки хотя ничего и не чувствовали – они были словно бы кипятком обваренные, – находились на месте, гнулись, складывались и раскладывались… И то хорошо. А вот подняться на ноги он не смог – всё время заваливался, что-то в нём нарушилось, тело кренило то в одну сторону, то в другую… Но через несколько минут это прошло. И слух вернулся – в висках что-то захрустело, щелкнуло, и он стал слышать, следом прояснился и взор. Чердынцев на согнутых ногах выбрался из-за сосны, огляделся.
Через мгновение около него оказался Ломоносов – для маленького солдата словно бы никакого налёта не было, – сосредоточенный, с вертикальной морщинкой, пролёгшей между глаз, чуть побледневший.
– Шестеро убитых, товарищ командир, – доложил он.
– Раненые есть?
– Есть. Но я их ещё не считал.
– Иван, посчитай обязательно.
– Сейчас, только народ из своих нор повыбирается. – Ломоносов готовно козырнул. – А что будем делать с убитыми?
– Заберём с собой. Похороним по-человечески. – Чердынцев соскрёб с щеки какую-то чёрную пакость, попробовал разглядеть её, понять, что это такое, но не разглядел, не понял, отплюнулся гадливо. – Тьфу! – Это было что-то похожее на солидол – машинную смазку. – Тьфу!
Ломоносов, сочувственно глядя на лейтенанта, протянул ему чистый квадратный лоскут. Лейтенант помял его пальцами, удивился:
– Шёлк! Откуда?
– Парашют в лесу нашли. На платки пустили…
Земля поплыла перед глазами Чердынцева, он ухватился рукой за низко свисающую сосновую лапу, покачнулся – стоял ещё слишком нетвёрдо. Через мгновение земля перестала плыть и удаляться от него, лейтенант резкими, какими-то ожесточёнными движениями обтёр лоскутом лицо.
– Тьфу! – отплюнулся он. – Иван, проверь ещё раз людей… Нам надо уходить. Налёт может повториться. Погода – вишь?.. – Лейтенант вскинул глаза в небо, не по-зимнему яркое. – Будь она проклята! Самолёты найдут нас в два счёта.
– Одних санок у нас уже нет – бомба попала.
– Тьфу! – снова отплюнулся лейтенант. – Час от часу не легче.
– В те санки попала, к которым был привязан дядя Коля Фабричный… Лишь мокрое пятно осталось.
Чердынцев пожевал разбитыми губами, ещё раз отёр шёлковым лоскутом лицо, бросил его под ноги.
– Ну хоть что-то осталось? Чтобы в могилу можно было опустить? Обувь, телогрейка, рука оторванная?
– Нет, – жёстко ответил Ломоносов. – Ничего.
– Ладно. Проверь людей, пересчитай раненых… Мне ещё несколько минут надо, чтобы прийти в себя. Голова гудит. – Чердынцев опять покачнулся, перед ним поплыли багровые пятна, они вытягивались в нити, извивались по-змеиному, вновь превращались в пятна…
Убитых оказалось не шесть человек, а семь, Ломоносов посчитал неточно, одного партизана, засыпанного снегом и землёй, он не обнаружил, просто не мог обнаружить, понятно это стало при пересчёте… Убитого сохранившиеся после бомбёжки партизаны извлекли из его невольной могилы.
От дяди Коли Фабричного тоже кое-что нашлось. Впрочем, его это были останки или не его, утверждать никто не мог – бомба всё перемешала, тело изрубила в фарш, но ломоносовские разведчики в один голос заявили – его это останки… Дяди Колины.
С проклятого места того, едко пахнувшего убийственной кислятиной, выворачивающей не только ноздри, но и загонявшей глаза на лоб, под отросшие волосы, снимались бегом – все понимали, что место это надо покинуть как можно скорее. Чердынцев, ещё не отошедший от оглушения, бежал вместе со всеми…
Конечно, за ними оставался след, хорошо видный с самолётной высоты, – кроме санок, они теперь тащили за собой волокуши с привязанными к ним телами убитых партизан, – но когда они пройдут лесную редину, гладкостволье, рождённое подступающей из земной глуби болотной гнилью, и окажутся в настоящем лесу, густом, спасительном, самолётные наблюдатели уже вряд ли их разглядят… Партизан надёжно прикроют густые еловые и сосновые шапки, и в каком конкретно квадрате гигантского массива будут находиться партизаны, фрицам унюхать не дано – нюхалка у них не та…
Достигли границы густого леса, прошли метров двести и остановились, попадали, обессиленные, в снег, не в состоянии не то что двигаться дальше на своих двоих – не в состоянии даже ползти, вот как выложились.
Но Ломоносов всё-таки нашёл в себе силы, малые остатки их, взял двух разведчиков и, прижимаясь к стволам деревьев – на всякий случай, – заторопился по следу назад: надо было проверить, не увязался ли кто-нибудь за ними. Ведь слышна же была автоматная очередь… А чья это была очередь, кто скажет?
Разведчики обложили след волоком с двух сторон, попрятались, ушли под низкие еловые лапы – у молодых ёлок лапы всегда бывают густыми и низкими, – затихли.
Ломоносов подгрёб под себя побольше мягкого елового мусора, улёгся на него, как на перину, обломил ветку, застилавшую взор, она не только обзор перекрывала, но и мешала стрелять – вдруг придётся дать отпор каким-нибудь гаврикам в полицейской форме или их покровителям в бабских полушалках, намотанных на уши? В раздвиге ветвей было видно и небо, необычайно ясное, без единого мусорного пёрышка, невесть по какому поводу такое нарядное.
Вдалеке послышался звук, заставивший Ломоносова насторожиться, даже более – звук этот, знакомый после пережитого, взбил на коже колючие прыщи-пупырышки, в ушах родил тревожный звон.
Это был звук многих самолётных моторов. Выходит, эскадрилья возвращается. Сосновые макушки возбуждённо затрепетали, по стволам побежала нервная дрожь. Ломоносов автоматом отодвинул в сторону лапу, делая обзор пошире…
Голубеющий на солнце глубокий волок уходил далеко, на полкилометра отсюда, терялся в редине чахлых кривобоких стволов – там был край болота. Ломоносов вгляделся в глубину пространства – не зашевелится ли там кто-нибудь, не объявятся ли живые муравьи – человеки. Нет, земля была мертва, живой рёв доносился только с неба.
Рёв усилился, в воздухе раздались пистолетные хлопки, звук этот плющился о твёрдые стволы, вот показался низко идущий самолёт, промахнул у Ломоносова над головой, разломил пространство и исчез в нём. Ушёл, нагруженный бомбами, ни одной из них не сбросил.
Следом за ним низко, почти цепляясь широко расставленными колёсами за сосновые макушки, пронёсся второй самолёт, гладкотелый, с блестящими крыльями, украшенными чёрными крестами, и хищно вытянутым фюзеляжем. Снизу хорошо были видны масляные потоки, тянувшиеся по корпусу из-под моторного кожуха.
– Хоть бы ты, гад, завалился где-нибудь, – неприязненно пробормотал маленький солдат, – или бы в тебя кто-нибудь из ракетницы шарахнул прямо в бензопровод!
Самолёты потеряли партизанскую группу, бомбы сбросили неприцельно в лес, погубили десятка три ни в чём не повинных елей и ушли.
Комиссар результатами рейда был недоволен, озабоченно расчесывал пальцами усы.
– Из-за какой-то недоделанной сучки мы потеряли десять человек, Евгений Евгеньевич, – сказал он. – Слишком дорогая это цена!
– Дорогая, – согласился Чердынцев, – только выхода у нас не было. Если бы мы не пришли в Росстань и не взяли, как ты говоришь, недоделанную сучку за шкирку, люди бы перестали верить в нас, нам, а вместе с нами и Советской власти. Любой подобный поход обязательно подразумевает жертвы. Их обязательно берут в расчёт. И ничего тут не поделаешь – это закон.
– Ну ладно бы потери – один человек, два, три – это ещё куда ни шло, но десять человек… – Глаза у Мерзлякова наполнились неким недоумением, усы встопорщились, он схватился обеими руками за голову, будто за кавун какой, крепко сжал её. – Десять челове-ек…
– Тихо, комиссар, – жёстко, свистящим опасным шёпотом произнёс Чердынцев, – перестань пускать слюни. Это война, а не игры на песчаной площадке в «эники-беники», «соловьи-разбойники», да в догонялки. Тут убивают не понарошку, а взаправду. Понятно?
– Так точно, понятно. – Мерзляков вытянулся, мягко пристукнул пятками валенок, изображая строевую стойку, но по лицу его было видно, что ничего ему не понятно, он недоволен…
Чердынцев ощутил, что внутри у него вскипает злость, ещё немного, и она выплеснётся наружу, надо было сдержать себя и хорошо, что он понял это вовремя, закрутил до отказа некие внутренние гайки и проговорил спокойно и тихо:
– Ты неправ, комиссар!
– Так точно, неправ, Евгений Евгеньевич, – повторил за ним Мерзляков, продолжая тянуться и пристукивать одним валенком о другой.
– Есть случаи, когда погибают целые партизанские отряды, чтобы наказать изменников Родины, и эти потери считаются оправданными. Понятно?
Чердынцев не стал больше разводить «антимонии» с Мерзляковым, оборвал разговор и пошёл в свою землянку – не терпелось увидеть Наденьку.
А Наденька находилась в санитарной землянке, лечила двух обмороженных бойцов – споткнулись ребята о морозы, не рассчитали своих сил. В такие морозы человека, живущего в лесу, только земля и может спасать, только в неё и нужно закапываться по самую трубу, недаром нехитрое убежище это величается землянкой; хоть и убого оно и слепо, и тоскливо при виде его делается, а надёжное, согреть может лучше костра жаркого, лучше тулупа овчинного…
Не рассчитали бойцы, зазевались на улице и слишком поздно нырнули в тёплое убогое нутро…
Когда неподалёку от санитарной землянки раздался шум, под ногами многих людей завизжал снег, один из бойцов не выдержал, выглянул наружу.
– Наши вернулись!
Наденька вытянулась свечкой, побледнела.
– Все живы?
– Не знаю. Командир жив, с комиссаром объясняется, а остальные – не понять.
– Не понять, не понять… – заведенно повторила Наденька, завершая обработку подмороженного носа молодого бойца. Выскочила наружу и зажмурилась от помидорно-красного, очень злого вечернего солнца. Такое солнце не к добру – и ветер сильный предвещает, и мороз трескучий…
Наденька огляделась: где командир? Командира не было видно. Она помчалась в землянку. Влетела с ходу, следом за ней ворвался целый столб тугого, как резина, пара, ничего не стало видно. Наденька на ощупь нашла мужа, прижалась к нему.
– Жи-ив… Слава богу, жив!
– А что мне сделается? – пробормотал Чердынцев с некой детской горделивостью. – Ни огонь не берёт, ни вода…
– Тьфу, тьфу, тьфу! – суеверно отплюнулась Наденька. На войне почти все люди верят в приметы, она тоже верила. В том, что слова обладают вещей силой, даже не сомневалась.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил Чердынцев.
– Хорошо.
– А малыш?
– Малыш – ещё лучше. У малыша – никаких хлопот, никаких забот. – Наденька улыбнулась, улыбка у неё получилась радостная. – Сидит себе и ножками подёргивает…
– Ощущаешь?
– Ещё как. – В голосе Наденьки прозвучала гордость.
Если на земле с немцами можно было совладать, то в небе – нет, не было таких средств у Чердынцева, и когда над рекой появлялся самолёт, украшенный чёрными крестами, у лейтенанта невольно сдавливало сердце, а по спине ползла горячая струйка пота – был свеж в памяти недавний налёт на партизанскую колонну. Запасной лагерь уже был почти готов. Если засекут и превратят в труху лагерь этот, придётся перейти туда.
Из штаба полковника Игнатьева пришло обширное радиосообщение – Петров, радист, прикреплённый к отряду, тщательно переписал его вчистую, сообщение едва вместилось в две страницы… Заканчивалось оно личной припиской полковника и бодрыми словами: «Так держать! Поздравляю!»
Это был указ о награждении партизан, отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Фамилии в указе мелькали до того знакомые, что на них странно было смотреть: Ломоносов, Игнатюк, Фабричный, Пантелеева, Ерёменко, Бижоев, Сергеев, Геттуев, Чердынцев… Лейтенант не поверил тому, что увидел, перечитал фамилии один раз, второй, третий… Не поверил снова и протёр глаза – показалось, что всё это происходит во сне или в какой-то одури, когда один глаз спит, а другой бодрствует, снова прочитал текст.
Ошибки не было: указ впрямую касался их отряда. Ерёменко был посмертно награждён орденом Красного Знамени, Октябрина – «Звёздочкой», орденом Красной Звезды, очень популярным в солдатской среде, дядя Коля Фабричный, как и комиссар Мерзляков, – медалью «За отвагу» (правда, в указе около фамилии дяди Коли не было приставки «посмертно», представляли ведь Фабричного, когда он был ещё жив), командиры групп разведки и подрывной – также «Звёздочкой»… И командира отряда Чердынцева отметили Красной Звездой. Наконец он поверил в то, что читал, обрадованно тряхнул головой и позвал к себе комиссара.
Когда тот пришёл, сгорбившийся от простуды, кашляющий по-стариковски, Чердынцев усадил его за стол и положил два листа бумаги, тщательно разгладив их ладонями:
– Читай, Андрей Гаврилович… Внимательно читай!
У того реакция на указ была такая же, как у Чердынцева: комиссар не поверил в то, что видел, и так же, как и лейтенант, трижды прочитал текст, бережно расправил бумагу пальцами, только потом поднял глаза. В глазах – и смятение и непонимание одновременно.
– Это не утка? – неверяще спросил он.
– Исключено!
– Ну что ж. – Мерзляков встал, с торжественным видом, будто находился уже в Кремле и лицезрел самого товарища Калинина, пожал Чердынцеву руку. – Поздравляю, Евгений Евгеньевич!
Утром к Чердынцеву заявился начальник разведки – маленький солдат – в последнее время, кажется, восторженное детское выражение, ранее появлявшееся в его глазах, исчезло, рот опоясали две скобочки-морщинки. Чердынцев как-то даже сказал ему:
– Изменился ты, Иван, здорово изменился…
– Знаю. Как говаривал у нас в отряде товарищ Терёшкин, возмудел и похужал.
– Ну, не совсем так, – пытался смягчить высказывание Чердынцев, но Ломоносов оборвал его:
– Так, так, товарищ командир, возмудел и похужал.
На этот раз лицо Ломоносова было встревоженным. Чердынцев оторвался от карты.
– Ты чего, Иван?
– Мои ребята в клюве новость принесли: в Росстань прибыла специальная команда. Эсэсовская.
– Мало ли их туда прибывало и точно так же убывало? В том числе и эсэсовских?
– Это особая команда, специализирующаяся на борьбе с партизанами.
– И такую невидаль, Иван, мы тоже лицезрели. А за предупреждение спасибо. Если сунутся в лагерь – подготовим достойную встречу.
Наиболее выгодные точки в лагере, где можно было ставить пулемёты, Чердынцев наметил ещё осенью. На второй день пребывания здесь он первым делом задумался, как построить оборону, если на базу нападут. Но теперь надо будет по выбранным точкам пробежать ещё раз, обновить память, это первое, и второе – обязательно поставить дополнительные минные поля. К тем, что уже есть. Лишние мины никогда не помешают.
А то, что фрицы засуетились, команду эсэсовскую прислали, – это показатель хороший, признак того, что партизаны допекли фрицев.
Чердынцев вышел из землянки вместе с Ломоносовым. Утро занималось сказочное. Пахло весной – пожалуй, первый раз в этом году лейтенант ощутил дух весны, бодрящий голову и душу, дух этот содержал в себе тонкий, едва уловимый аромат тающего снега, растекающегося едва приметными струйками, прошлогодней зелёной травы, сумевшей остаться свежей, зелёной до самой весны, цветов, которые должны будут распуститься, лесных кореньев и ещё чего-то, чему Чердынцев не знал названия.
От неожиданности он зажмурился, втянул сквозь ноздри воздух в себя, не сдержался, рассмеялся легко – всё, назад дороги уже нет, зима начала сдавать свои позиции. Эх, если бы не война… Улыбка сползла с лица лейтенанта, взгляд сделался озабоченным.
– Я не знаю, товарищ командир, может быть, я преувеличиваю, но нюхом своим, печёнками я чую – эта эсэсовская ух-команда появилась в Росстани не случайно, – со вздохом проговорил Ломоносов. – Явно они пришли по нашу душу.
– Поживём – увидим, Ломоносов. Пусть твои ребята держат ухо востро. Ладно?
На следующий день разведчики засекли появление в Росстани ещё одной команды – на этот раз полевой, с тремя тяжёлыми пулемётами, установленными на санях. Таскали сани здоровенные широкозадые битюги, неторопливые, но очень выносливые…
– Похоже, мы доигрались, Евгений Евгеньевич, – сказал Чердынцеву комиссар, – если эта орда попрёт на нас, то сметёт, как пить дать. Дунет – и нас не будет.
– Ты что, хочешь сказать, что мы напрасно дерёмся с фрицами, напрасно пускаем поезда под откос, напрасно казним изменников?
– Этого я не говорил.
– Эх, Андрей Гаврилович, – с горечью произнёс Чердынцев. Больше ничего не сказал – умолк. Внимательно оглядел Мерзлякова: и седины у того в голове стало больше, седина пробралась даже в усы, и морщин на лбу, и усталости в глазах – то ли стареет комиссар, то ли хворь какая его гложет, то ли ещё что-то происходит, сразу и не поймёшь… Может, надломился в нём некий внутренний стержень, отсюда и неуверенность?
Мерзляков выдержал взгляд командира и, стараясь держаться спокойно, сказал:
– Ты не горячись, пожалуйста, Евгений Евгеньевич! То, что я выложил тебе, это моя точка зрения, личная, ты не можешь с нею не соглашаться, но она есть… Есть, есть, и мне с нею надо жить…
– Вот именно – жить, – хмуро пробормотал Чердынцев. – Все хотят этого: жить… А думаешь, те, кто умер, хотели умирать?
– В общем, не делай выводов, Евгений Евгеньевич. Если понадобится умереть – я умру, как и все. От других не отстану и Родины не опозорю.
– Ладно, забудем про этот разговор. – Чердынцев поправил шапку на голове. – Считай, что я ничего не слышал и этого разговора не было… – Он отвернулся от комиссара.
А ведь разведка права, и комиссар прав – команды эти хреновы появились по их душу. Конечно, насчёт тяжёлых пулемётов фрицы явно чего-то недотумкали либо просто поторопились: не пройдут ни битюги, ни пулемёты по здешним снегам. И танки не пройдут, и хвалёные вездеходы фирмы «Опель» застрянут. Чердынцев огляделся вокруг – неплохо бы ординарца или просто вестового при себе иметь, как это положено в Красной Армии, чтобы всё время находился под рукой, ловил каждое слово командира с открытым ртом и пулей мчался выполнять поручение. Гаркнул зычно и неожиданно зло – никак не проходило ощущение досады, оставшейся после разговора с комиссаром:
– Ломоносов!
Маленький солдат услышал лейтенанта и вскоре, запыхавшись, раскрасневшийся, предстал перед командиром.
– Явился – не запылился, – фыркнул тот и, остывая, отмякая от всего, что услышал за последние полчаса, сказал: – Значит, так, Иван. Срочно надо послать двоих твоих орлов в Сосновку – как там лагерь? Вырыли землянки или нет? Команда там работает немаленькая – двадцать человек… Бывшие военнопленные и кое-кто из наших.
– Сделаю это сейчас же, товарищ командир. Через час туда уйдут люди. Час нужен на подготовку. Может, даже ещё меньше – минут сорок…
– Аллюр три креста, Иван. Чем быстрее, тем лучше.
– Понял, товарищ командир.
– Не то, не ровён час, немцы навалятся на нас, а мы не успеем себе и отход подготовить…
– И это понял, товарищ командир, – шустро отозвался Ломоносов.
– Конечно, тебе самому надо было бы побывать там, но ты нужен здесь.
– Может, с моими ребятами отправить комиссара?
Качнув головой, Чердынцев хмуро свёл брови в одну линию, засунул пальцы под шапку и поскрёб затылок – непростой разговор с Мерзляковым не выходил у него из головы. Наконец он вздохнул и проговорил неохотно:
– Может, отправить и комиссара… Пусть побывает на месте, посмотрит, что к чему, на зуб попробует…
Так Чердынцев и поступил – отправил Мерзлякова в Сосновку. Правда, комиссар засомневался в необходимости этого похода, вспушил колючие, густо обмахрённые инеем усы.
– Ты прикинь, Евгений Евгеньевич, где я буду тебе нужнее – тут или там? Используй, исходя из важности, так сказать, момента.
– Иди в Сосновку, Андрей Гаврилович, осмотри там всё хозяйским глазом – я в таком разе буду спокоен. Иначе – сплошное беспокойство, а это – сам понимаешь…
Мерзляков ушёл с разведчиками.
Испив чаю, отдохнув немного, похлебав коньячку и закусив его русским салом, фрицы, прикомандированные к райцентру, решили действовать – построились в две колонны, одну чёрного цвета, другую мышиного, и двинулись к лесу.
Вообще-то у эсэсовцев, находящихся на фронте, также имелась мышиная форма, предписанная им по уставу на случай военных действий, но эти почему-то прибыли в чёрной форме – то ли для устрашения местного люда, то ли приехали откуда-то и не успели сменить одежду, то ли это была чья-то недоработка, не понять, видны были эсэсовцы издалека, их хорошо было брать на мушки мосинских винтовок.
С карателями выступили и местные полицаи. Поскольку Шичко не стало, её место занял Легачёв, больше поставить было некого, он единственный среди полицаев имел образование десять классов, но повышение это временное меланхоличного Легачёва почему-то не обрадовало… О повышении Легачёву объявил сам комендант.
– Охо-хо-хо! – замотал головой новоиспечённый начальник, поморщился болезненно и схватился обеими руками за поясницу. – Нарежут из меня господа партизаны длинных гибких ремней, не посмотрят на заслуги перед профсоюзом.
– Ремней из него – для чего? – Комендант запоздало нагнулся к переводчику. – Суп варить?
– Это присказка такая у русских, герр гауптман, – поспешно пояснил переводчик, – иносказательная. У русских всё шиворот-навыворот, куда ни плюнь – всюду иносказания…
– Дурацкая присказка!
– Я тоже так считаю, герр гауптман.
– Он что, не хочет работать? – Комендант потыкал пальцем в Легачёва.
– Нет, хочет, но жалуется, что у него болит спина.
– Спину мы быстро вылечим. Двадцать пять плетей – и никаких ремней не надо будет резать. – Комендант достал из кармана хорошо отглаженный, со стрелками-линеечками, пахнущий французским парфюмом платок, протёр им стекло монокля – с этим увеличивающим мир кругляшком он теперь старался не расставаться, – сунул под лохматую, начавшую дурно куститься бровь и неожиданно рассмеялся. – А что… Резать ремни из спин непослушных людей – это мне нравится. В России, похоже, только так можно навести порядок.
Как бы там ни было, Легачёв, человек нерешительный, квёлый и в полицаи-то угодивший по недоразумению, случайно, оказался во главе целой управы и вынужден был возглавить отряд.
Разведчики засекли карателей, едва те вошли в лес. Игнатюк, видя такое дело, только пальцем покрутил у виска – и охота фрицам в такой холод мошонки себе морозить, – но старшина Иванов, бывший старшим в этой тройке, отнёсся к делу серьёзнее и скомандовал Игнатюку:
– Давай-ка, друг, быстрее в лагерь, к Чердынцеву, предупреди его – идут, мол… И смотри, на мину не напорись случайно, наши там много новых мин поставили.
Каратели шли по лесу медленно, битюги увязали в снегу, перегруженные сани переворачивались, офицеры ругались в голос, вдобавок ко всему эсэсовский начальник вдребезги разругался с командиром полевиков – чего-то они не поделили, скорее всего, славу… А в том, что они развесят партизан, как ёлочные игрушки, по деревьям, фрицы были уверены на все сто процентов. Знали каратели, что при случае они могут и авиацию вызвать, и орудия подтянуть, у них были на вооружении не только пулемёты.
Серый тёмный пар грозовым облаком висел над отрядом карателей, плыл вместе с людьми в неведомое… К реке Тишке плыл.
Чердынцев готовился встретить гостей. Игнатюк, ловко скользя на лыжах между деревьями, быстро обошёл отряд немцев и предупредил командира.
– И много фрицев в итоге сюда направляется? – спросил лейтенант.
– Там не только фрицы, там и наши имеются… Полицаи. Целая рота.
– Так сколько же всё-таки спальных мест надо готовить?
– Думаю, человек двести пятьдесят к нам идут…
– Ого! – Лейтенант усмехнулся привычно. – Не берегут фрицы своего здоровья, дедушку мороза совсем перестали бояться. Ладно… Как сказал товарищ Сталин, наше дело правое, победа будет за нами.
Но одно дело – сказать, и совсем другое – добыть эту победу. Лицо у Чердынцева сделалось горьким, каким-то сморщенным, будто у старика. Единственный человек, за которого он сейчас боялся, была жена. И за малыша, который ещё не успел родиться, тоже боялся. Главное – уберечь их. Что же касается самого Чердынцева, то он смерти не опасался совсем. Разучился опасаться. Раньше при мысли внутри рождался мёртвенный холодок, в висках возникал стылый звон, сейчас – нет. Сейчас Чердынцев спокоен – война изменила его, приучила ко многому тому, к чему человек, кажется, вообще не способен привыкнуть.
Лейтенант глянул на часы – появилась у него эта особенность, чуть что, глядеть на часы, – к вечеру, в крайнем случае завтра утром немцы подойдут к лагерю.
Надо успеть заминировать все подходы, все до единого. Правда, двое разведчиков останутся по ту сторону, но они не пропадут – и запас продуктов у них есть, и в лесу они люди не чужие, и, где Сосновка находится, знают. Не пропадут.
А пока несколько человек надо прямо сейчас же отправить в Сосновку, к Мерзлякову, не то, не дай бог, фрицы где-нибудь дорогу перекроют.
Группа Бижоева продолжала минировать подходы к лагерю. Старалась делать это умело, ставить заряды не абы где и не абы как, а с хитрецой, так, чтобы не сразу можно было разгадать сапёрную загадку и понять, стоит мина под какой-нибудь лохматой заснеженной кочкой или нет.
В командирской землянке, куда Чердынцев попал с яркого солнечного света, было мрачно, темно, вязкая сумеречь плотно осела в углах, Наденька, одинокая, закутавшаяся в шерстяную шаль, кипятила прямо в печке бокастый чумазый чайник.
– Сейчас будет готов чай, – сказала она.
– Надюш, немцы!
– Ну и что? – спокойно произнесла Наденька.
– Надюша, оставить тебя на базе не могу, не имею права. Ты и радист Петров подлежите немедленной эвакуации.
– Эх! – с досадою произнесла Наденька, подкинула в печку несколько свежих, истекающих смолой поленьев. – Я же врач, Жень, ты понимаешь… А врач должен находиться там, где идёт бой.
– Врач должен находиться, Надюш, в лечебных палатках, в тылу, в эвакогоспитале, а поле боя – это забота санинструктора, мужчины, умеющего перевязывать раненых, и не более того. Он даже из винтовки должен уметь стрелять лучше, чем перевязывать, понимаешь?
– Не понимаю, – качнула головой Наденька, торцом полена поправила чайник, прикрылась рукой от искр, сыпанувших ей в лицо. – Если бы у тебя в отряде имелись санинструкторы, хотя бы один, тогда всё было бы понятно. А так извини, Жень…
Лейтенант шагнул к жене, почти силой оторвал её от печки, прижал к себе.
– Надя, ты пойми, я не переживу, если с тобой что-то случится.
Чердынцев уткнулся лицом в её волосы, втянул ноздрями сухой дух, исходящий от них, легонько, едва касаясь губами, поцеловал. Прошептал едва различимо:
– Береги маленького, Надюш… – Затем решительно выпрямился. – А теперь слушай приказ, товарищ военврач! Чтобы ни радиста, ни тебя через час на базе не было! Уходите! Проводник уже ждёт вас.
– Женька! – в сердцах воскликнула Наденька.
– Надя!
– Ну-у… я прошу тебя, Женя. – В голосе Наденьки послышались умоляющие нотки.
– А я приказываю, Надюш!
Наденька сникла, опустила руки, плечи у неё тоже опустились, сделав её фигуру угасшей, потерявшей силу и стать, она поняла, что мужа ей не переубедить, муж-командир прикажет, и она вынуждена будет подчиниться.
На горящих поленьях завозился, задёргался закипающий чайник, плеснул кипятком в огонь, попал, в ответ печка закашляла недобро. На глазах Наденьки появились слёзы.
– Вот видишь, Женя, на тебя даже чайник ругается.
– Это он на тебя ругается, а не на меня, просит, чтобы ты его скорее перевезла на новую базу. – Чердынцев достал из кармана шёлковый платок – Ломоносов подарил, он нарезал платков из парашютного шёлка на весь отряд, – промокнул слёзы на Наденькиных глазах. – Приказы командиров, как тебе известно, не обсуждаются. Невыполнение приказа бывает равносильно дезертирству. По законам военного времени, знаешь, что за это бывает?
– Не знаю, – сказала Наденька, – и знать не хочу.
Тут Чердынцев смущённо крякнул, затоптался на одном месте, смущение его было понятным… Зачем он ей всё это говорит?
– Прости меня, – произнёс он тихо, – но приказ свой я отменить не могу.
В конце концов Наденька побросала в мешок вещи, что у неё были, и вместе с Петровым в сопровождении двух разведчиков и одного провожатого отбыла в Сосновку. Когда группа ушла, Чердынцеву сразу спокойнее сделалось на душе, хотя сердце отозвалось на уход Наденьки тоскливой болью – ему показалось, что видит он жену в последний раз, больше не увидит. На глаза его не то чтобы слёзы навернулись, а что-то мутное, мешающее не только смотреть, но и дышать; борясь с собою, он досадливо стёр с глаз эту муть и очень скоро стал самим собою.
Хотя Наденька ушла и исчезло иссушающее чувство опасения за неё, и появилась некая уверенность, которой должен обязательно обладать всякий командир, ощущение печали, тягучей тоски всё-таки не проходило ещё долго. Человек есть человек, в какие бы условия он ни попадал, всё равно в чём-то проявит слабину…
Группа Бижоева продолжала перекрывать подходы к лагерю, остальные готовились к схватке. Ни суматохи, ни растерянности, ни обречённости, которая иногда появляется в таких ситуациях, не было.
Маскировать мины в снегу было трудно, поэтому в лукошках специально приносили снег, накрывали заминированные места, пространство вокруг забрасывали еловыми ветками, шишками, обрабатывали метёлками, будто ветер прошёлся по снегу, немного взвихрил его, потом придавил сверху, – картина, в общем-то, получалась довольно реальная. Было тихо. Люди работали молча, сосредоточенно, лишь иногда перебрасывались друг с другом парой-тройкой слов, и всё.
А немцы тем временем на несколько часов застряли в снегу – завязли битюги. Сани, не приспособленные к движению по лесу, часто переворачивались, пулемёты приходилось извлекать из сугробов, оттуда же выскребли и ящики с патронами – в общем, мука для карателей была невыносимая, тьма сплошняком, ни одного светлого пятнышка.
С трудом пройдя половину пути, намаявшись, оберштурмфюрер, командовавший операцией – и полевая команда и полицаи были подчинены ему, – принял решение отправить битюгов с пулемётами назад, в Росстань, иначе можно было потерять и коней и пулемёты… Шеф полевой команды, долговязый обер-лейтенант, попробовал было возразить, но эсэсовец придавил его начальственным рявканьем.
– Мы с этими пулемётами ещё трое суток будем ползти, – заявил он, – партизаны за это время могут тысячу раз испариться, зарыться в землю, уйти по реке…
– Уйти по реке они никак не могут – лёд, несмотря на морозы, слабый.
– Почему слабый? – недоумённо воззрился эсэсовец на обер-лейтенанта. – Зима ведь…
– В реке много тёплых подземных источников, они даже в сильный мороз образуют во льду окна.
– Плевать! – воскликнул эсэсовец. – Повозки эти сковывают нас. Отправляйте их назад! Немедленно, обер-лейтенант! Иначе мы никогда не выполним приказа.
Обер-лейтенанту ничего не оставалось делать, как подчиниться эсэсовцу, битюгов с трудом развернули в лесу, поставили на проторённый след и отправили обратно. Сопровождения не дали – в санях остались только возницы да осиротевшие пулемёты, угрожающе посматривающие стволами в лесное пространство, пулемётчиков же с саней сняли и поставили в общий строй, эсэсовцу показалось, что народу в карательной группе мало, надо больше, поэтому пулемётчики поплелись вместе со всеми дальше, к партизанскому лагерю, чтобы атаковать его, смять лесных леших, сжечь их, победить и на грудь себе повесить желанные Железные кресты.
Оставшийся без охраны пулемётный обоз уже почти выбрался из гнетущего чёрного леса, как неожиданно перед битюгом, шедшим первым, возник невысокий человек в заячьей шапке, с немецким автоматом, вольно болтающимся на груди, одной рукой ухватился за повод, останавливая могучего коня, второй метнул в возницу нож.
Тот молча повалился в сани, спиной ударился о станину пулемёта и тихо сполз вниз.
Возницы, находившиеся в задних санях, не поняли, что произошло.
Один из них, правда, схватился за автомат, но выстрелить не успел, его прикончил второй партизан, Бойко, дал короткую очередь, и возница, взбрыкнув ногами, улетел в снег. Битюг недоуменно глянул на него, потянулся мордой к еловой лапе, откусил её и начал медленно, с вкусным хрустом жевать. Двумя врагами стало меньше. Третий возница, увидев, какой оборот принимает дело, поднял руки.
– Кузьма, а пленник нам зачем? – проговорил старшина Иванов. Он давно просился в разведчики, ходил и к Чердынцеву и к Мерзлякову. Чердынцев его долго не отпускал, ему больше был нужен командир четвёртого взвода, чем разведчик, но в конце концов сдался. Вместе со старшиной в разведку ушёл и Кузьма Бойко из той же, лагерной команды.
– Мне не нужен, – сказал Бойко.
– И мне нет, – сказал старшина.
Возница, неведомо каким образом поняв, о чём идёт речь, вздернул руки ещё выше и завопил:
– Нихт шиссен! Нихт шиссен!
– Когда я сидел у вас в лагере и меня били прикладами по зубам, а потом повели на расстрел, я не кричал «нихт шиссен!». Не кричи и ты, паскуда, – сурово проговорил старшина и, вскинув автомат, дал по вознице очередь.
Битюг с прежним равнодушным видом покосился на хозяина и, срезав зубами ещё одну еловую лапу, принялся неспешно жевать её. Иванов подошёл к саням, ногой спихнул возницу в снег.
– Ну, Кузьма, что будем делать?
– Я бы пару пулемётов раскурочил либо спрятал их в лесу, а один бы ствол развернул на сто восемьдесят градусов и догнал бы немцев. И врезал по ним с тыла так, чтобы только щепки полетели. Всё нашим подмога будет.
– Хорошее дело, – одобрил идею Кузьмы Иванов. – Пулемёты мы, конечно, курочить не будем, мы их спрячем… И фрицев догоним – это хорошая мысль. – Иванов крепко стиснул крепкие белые зубы. В глазах его появилось жёсткое выражение – немцев он ненавидел люто.
Сани оттащили в сторону, пулемёты перенесли в сухое еловое место, плотно накрыли лапником, проверили, не выглядывает ли где из хвои чёрное угрюмое железо стволов, оставшиеся сани загрузили боеприпасами, кормом для битюгов, двое других загнали в распадок и также замаскировали – пригодятся в партизанском хозяйстве. Битюгов решили забрать с собой. Во-первых, если сани завязнут где-нибудь, то три битюга – это три битюга, они вытащат из плена не только сани, но и трактор – выдернут обязательно, во-вторых, не бросать же коней – живые всё же существа, хотя и фрицевы… Без людей они погибнут – их очень скоро скушают волки.
Одного битюга привязали к оглобле, из вожжей сделали повод, чтобы конь мог помогать своему напарнику-битюгу, на второго коня вскарабкался старшина, Бойко уселся в сани.
– Поехали! Но-о-о! – скомандовал старшина зычно, но битюг даже ухом не повёл, он словно бы не слышал приказа Иванова, он вообще не понимал русских команд. Старшина задумчиво поскрёб пальцами щеку, заросшую золотистым волосом, потом что было силы хлестнул коня вожжами по крупу.
Битюг нехотя побрёл по санному следу, глубоко проваливаясь в снег, сани с косо накренившимся тяжёлым пулемётом заскользили следом словно бы сами по себе.
Через несколько минут всё поглотил тихий заснеженный лес. Только глубокий неровный след остался…
Освободившись от саней, карательный отряд двинулся быстрее, оберштурмфюрер неистовствовал, погоняя людей, он был готов даже «парабеллум» выдернуть из кобуры и пристрелить кого-нибудь. Для начала хотя бы полицая. Командир полицаев, вялый сонный мужик с бледным мятым лицом, не нравился ему особенно, этому пальцем сделанному человеку сторожем бы на мукомольне работать либо посудомойкой в столовой для солдатского состава, а не боевым отрядом руководить, слишком уж тупой, нерасторопный, с неподвижными судачьими глазами – ни рыба ни мясо, словом. Вот его и можно шлёпнуть для устрашения. Следом оберштурмфюрер пристрелил бы кого-нибудь из своих, из полевой команды: очень уж злобно поглядывают полевики на эсэсовцев. С другой стороны, если дело дойдёт до серьёзного и будет стычка, эсэсовцы передавят этих серых мышей, как насекомых, ползающих по стенке, одним нажимом ногтя.
Идти было трудно – слишком много снега. И главное – партизанских следов нигде нет, эти лешие что, перемещаются с места на место по воздуху, что ли? Ну ни одного следочка нет, словно бы тут и самих партизан нет. Но партизаны в здешнем лесу есть, это оберштурмфюрер знал точно.
– Вперёд! – призывно махнув рукой, проорал он. – Освободим завоёванные нами территории от партизанской нечисти!
Эсэсовцы, шедшие за ним, только удивились: и как это у их горластого командира силы не кончаются? Орёт и орёт себе, снег месит без устали… Нет бы привал сделать, перевести дыхание.
Но оберштурмфюрер проорал снова, с прежней чертенячьей лихостью:
– Вперё-ёд!
Партизаны карателей ждали. Чердынцев выслал вперёд дозор – трёх человек, чтобы те предупредили о подходе немцев. Предстоял бой самый тяжёлый, пожалуй, из всех, что отряду их приходилось когда-либо вести.
К вечеру, уже в темноте, вернулся один из дозорных, невысокий черноглазый партизан с бледным лицом, доложил:
– Вряд ли немцы будут сегодня нападать… Остановились в лесу, разожгли костры, подкрепляются. Еда у них знатная – консервированная колбаса в банках. От вкусного духа её даже волки перестали выть.
– Далеко отсюда они остановились? – спросил Чердынцев.
– Километра три будет. Может, чуть поболее… Но ненамного.
– Что ж… Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. Может, нам по-тихому навестить их? А?
Ломоносов, присутствовавший при докладе, вспыхнул, как свечка, азартно потёр ладони.
– Я бы сделал это обязательно, товарищ командир!
– Тихо, тихо, Иван! Спешка нужна, знаешь, где? И когда?
– Так точно, знаю.
– А раз знаешь, то не суетись. Уж коли немцы устроились на ночлег, так сон им мы обязательно испортим. Это ежу понятно.
– «Ежу понятно» – это хорошо, товарищ командир. Значит, устроим фрицам маленькое Ватерлоо!
– Ого, как высоко ты хватил, Иван! Ну, Ломоносов!
– Это я так. В голове что-то закоротило и выскользнуло прямо на язык.
В минном поле сделали временный проход, в него бесшумно, бестелесно – даже теней не было видно – проскользнули двадцать человек. Самые надёжные, самые боевые партизаны, в которых Чердынцев был уверен, как в самом себе. Руководить «маленьким Ватерлоо» ушёл Ломоносов. Бижоев с сапёрами остался ждать их у минного прохода, чтобы, как только смельчаки вернутся, незамедлительно заткнуть горлышко бутылки пробкой и поставить мины обратно.
Ночь обещала быть, похоже, ветреной, чёрная, недобрая, с трескучим шумом еловых лап, заглушающим неосторожные шаги, – погода такая была на руку партизанам, и если ветер не стихнет, это будет то самое, что надо, лишь бы ветер не сбавил своих оборотов.
Остановку сделали и старшина Иванов с Кузьмой Бойко, они уже почти догнали хвост колонны и могли бы напасть на карателей, но не делали этого: нападать надо было, когда гитлеровцы затеют бой и втянутся в него. Сейчас нападать бессмысленно: часть отряда просто развернётся, прихлопнет двух пулемётчиков и спокойно двинется дальше.
Удивило партизан другое: немцы шли с неприкрытым хвостом, обычно задница у таких колонн прикрывается обязательно – выставляется замыкающий дозор с пулемётом, по снегу шустро, как мыши, бегают долгоногие немчики, обшаривают глазами пространство, страхуются, иногда для острастки дают пару очередей в пустоту, от которых страдают только деревья, в общем, прикрытие делает своё дело. А тут – ничего.
– Удивительная штука, – поняв это, произнёс Иванов и недоумённо поцокал языком. – Ведут себя, как в какой-нибудь Бельгии, а не в России. Но это же Россия!
– Ну что будем делать? – спросил его напарник хмуро – не в настроении был, устал.
– Оттянемся малость назад… – Старшина решительно потыкал пальцем себе за спину, в глубину леса. – Рассупонимся, коней покормим, сами поедим…
Так и поступили.
Отошли на полкилометра и устроили привал. Бойко хвоей обтёр потную спину битюга, весь день безропотно волокшего сани (пристёгнутый сбоку конь помогал ему мало, всё-таки для этого нужна специальная упряжь), похлопал ладонью по могучему крупу.
– Хороша машина! В партизанском лагере может здорово пригодиться.
– Погоди! – остепенил его старшина, зло пожевал губами. – До лагеря надо ещё добраться. И в живых остаться надо.
На морды битюгов накинули прорезиненные мешки с кормом – у аккуратистов немцев для каждого коня была приготовлена своя персональная «едальня», завели в тихое, окружённое молодыми елками место, Бойко похлопал по спинам битюгов:
– Ну а насчёт питья – извините! Закусите снегом.
– Снег – это тоже неплохо, – одобряюще произнёс старшина, также похлопал по конским спинам. – У меня в роте было полтора десятка лошадей. Более преданных человеку существ, чем лошади, по-моему, нету.
Для костра вырыли яму – нашли снеговую насыпь, нанесённую ветром, вгрызлись в неё. Костёр в такой яме бывает невидим совершенно, только в небо уползает переливающийся пятак света, ложится нехотя на облака, и всё, – ватная облачная масса поглощает всякий отсвет, съедает его без остатка – ничего не оставляет.
Подойти близко к лагерю карательной группе Ломоносова не удалось – оберштурмфюрер Клёст на этот раз действовал по всем правилам военной науки: выставил посты, окружил ими лагерь, в одном месте по движению колонны даже ручной пулемёт велел держать наготове – «МГ» с длинным дырчатым стволом, немцы любят такие пулемёты устанавливать в мотоциклетных люльках и сажать за них неподвижных боровов в рогатых касках… И ещё что было плохо: ветер неожиданно стих и все звуки лесные попрозрачнели. К лагерю нельзя было подползти незамеченным и по другой причине: на одном из постов сидел специальный ракетчик, который обвешивал небо ракетами, делал это без перерывов, в мёртвенно-синеватом свете ракет всё было хорошо видно – не хуже, чем днём, всякое малое движение засекалось немедленно. Едва в небе стоило погаснуть одной ракете, как на её месте уже горела, шипя сыро, искрясь и плюясь огнём, другая.
Ломоносов попробовал в одном месте подползти поближе к посту, разглядеть его, но повернул назад – понял, что сейчас его засекут.
В другом месте произошло то же самое – три фрица в касках, ощетинившись автоматами, буравили ночное пространство круглыми испуганными глазами, фиксировали каждое движение, даже лёгкий бег белого пуха по снеговой корке, подбиваемого воздухом, и тот не оставался незамеченным.
Маленький солдат задумался. Можно, конечно, уничтожить один из постов и напасть на лагерь, но успеха в ночном бою им всё равно не видать: фрицы не спят, а бодрствуют, у всех костров сидят, нахохлившись, похожие на ворон немецкие солдаты, мёрзнут, горбятся, чихают, никто о сне даже не думает – боятся партизан. И правильно делают, что боятся. Но если Ломоносов нападёт сейчас на лагерь, то угодит под гибельную лавину огня.
Надо уходить отсюда. Он с сожалением развернул своих людей, скомандовал им шёпотом:
– Возвращайтесь в лагерь. Маленькое Ватерлоо отменяется.
– А вы?
– А я ещё задержусь минут на десять, поприкидываю, что можно сделать завтра… и сегодня тоже.
Бойцы уползли бесшумно – ни одна ледышка под ними не скрипнула, ни один сучок не хрупнул перемороженно… А Ломоносов надумал вот что: раз не удастся тряхнуть фрицев по-большому, то надо тряхнуть их хотя бы по мелочи, пощипать…
И он пощипал. Пользуясь тем, что на месяц надвинулась какая-то тёмная рвань, а ракетчик замешкался (старый запас световых ракет у него закончился, а новый надо было подтащить), Ломоносов подполз поближе к гнезду, усиленному пулемётом, понаблюдал немного за фрицами, сидевшими в углублении, словно птенцы, с нахлобученными на головы касками, потом вытащил из кармана лимонку, редкую по той поре гранату, поцеловал её в плоскую чугунную пятку и, выдернув кольцо, кинул гранату прямо в гнездо.
Вверх плоско, вышвырнув людей из гнезда, взметнулся резкий синеватый сноп, коснулся низкого чёрного неба, осколки гранаты защёлкали по веткам деревьев, срезали несколько лап, посекли служивых фрицев – досталось всем троим… В тот же миг раздался многослойный автоматный стрёкот – всполошился весь лагерь.
Даже Клёст и тот лупил в чёрный воздух из чужого «шмайссера», кричал что-то, но крика своего не слышал, вращал глазами ошалело и дивился нехорошо, не понимая, почему земля перед ним неожиданно опрокинулась и встала вверх ногами.
Воздух был буквально нашпигован пулями, в один момент Ломоносов даже подумал, что не уйдёт он, но ушёл. Одна только пуля всадилась ему в плечо ватника, выдрала толстый клок, осушила руку, но рука вскоре отошла, а вот плечо ещё некоторое время гудело глухо, побаливало, но потом и это прошло, – счастливая, в общем, оказалась эта пуля.
Он находился уже далеко, когда стрельба стихла, – немцы поняли, что стрелять уже не в кого, человек, бросивший гранату в гнездо с пулемётом, ушёл.
Костров в немецком лагере стало больше, и горели они ярче.
В партизанском лагере тоже жгли костры, в землянки не уходили. Чердынцев лазил по снегу, выбирал место для пулемётов, на каждый пулемёт – по паре точек: основную и запасную, налазился настолько, что едва добрёл до костра, уселся на кем-то подставленный ящик и застыл, вяло опустив голову.
– Устал, очень устал, – пробормотал он едва слышно. В это время к нему подскочил Ломоносов – до лагеря он добрался благополучно. Лейтенант скосил на него покрасневшие, ставшие какими-то чужими глаза. – Ну что, Иван, не удалось устроить маленькое Ватерлоо?
Ломоносов отрицательно помотал головой.
– Дело сложилось так, что, если бы я ввязался в драку, из двадцати человек, которые были со мной, в живых остались бы двое.
– Нам это совсем не нужно, Иван, – сказал лейтенант. – Правильно сделал, что ушёл. Все целы?
– Все.
Чердынцев закрыл глаза. Маленький солдат подёргал его за плечо.
– Товарищ лейтенант, часика три можно поспать совершенно спокойно – немцы с места не сдвинутся. А то и все четыре часа. Айдате в землянку, товарищ лейтенант.
Чердынцев в ответ вяло покрутил головой.
– Лучше дай мне, Иван, чаю, – попросил он, – горячего.
– Сей момент сгорожу, – засуетился начальник разведки, – сейчас же! Но чай землянки не отменяет.
Чердынцев не выдержал и, несмотря на усталость, улыбнулся. Ломоносов всё-таки добился своего – после чая проводил командира в землянку.
На лес опустилась ночь, она полностью вступила в свои права, тихая, зловещая. Ничего в ней не было слышно, она вообще не рождала никаких звуков – ни шума ветра, ни воя волков. Редко так бывает…
Земля ждала утра.
Хоть и долгой была ночь, а всё-таки ей пришёл конец. Каратели, не привыкшие спать на снегу, выспаться не сумели, кое-кто из них даже поморозился, и просились, несчастные, назад, в тёплые дома Росстани, но оберштурмфюрер заявил, что любого, кто ещё раз заикнётся об этом, будет считать дезертиром и отдаст под суд по законам военного времени.
Велел, чтобы обмороженными занялись русские полицаи, они лучше знают, что надо делать в таких случаях, в отличие от него, цивилизованного берлинского жителя, ведь эти гнусные людишки, полицаи, в России всё-таки родились. Лицо оберштурмфюрера наполнилось презрением.
Вскоре отряд карателей втянулся в просеку, прорубленную когда-то между деревьями (по ней до войны вывозили лесины с обрубленными сучьями), и двинулся по ней дальше. Чтобы не было неожиданностей, оберштурмфюрер выслал вперёд охранение.
Партизанам стало понятно, что ни старшина Иванов, ни его напарник не сумеют обойти карательное войско, и тропку, по которой они должны были вернуться, также запечатали минами.
На мины Бижоева и наткнулся передовой отряд карателей – один из фрицев, дюжий, конопатый, в натянутой на плечи простыне – подручная маскировка, наступил ногой на мину и вмиг оказался нашпигованным осколками. Да ладно бы только осколки – одна нога у него оказалась обрублена по самую лодыжку. Конопатый шлёпнулся в притоптанный, окроплённый кровью снег, задёргался от боли, выгибался дугой и бился спиной о землю. Двое его напарников поспешно отскочили в сторону, также попадали на землю, выставили перед собой автоматы.
Медлить не стали: один полоснул длинной очередью в одну сторону, второй в другую. Из минного пролома запоздало выплеснулась ядерная вонючая грязь, зафыркала злобно, залопотала – мина была поставлена на краю болотной бездони.
Конопатый эсэсовец выл и катался по снегу, его более удачливые напарники полосовали очередями пространство, уничтожая невидимого врага, колонна карателей остановилась. Клёст выслал вперёд группу из пятнадцати человек – в помощь передовому дозору.
Стрельба поднялась такая, что тошно сделалось даже зимующим болотным лешим, но пули немецкие никому вреда не причинили, и прежде всего партизанам – их позиции находились далеко впереди, струи горячего свинца на излёте просто шлёпались в снег, шипели, рождая облачка мутного пара.
Через пятнадцать минут каратели продолжили свой путь. Обледеневшая болотная корка держала людей прочно – не прогибалась, не проламывалась, взрывов больше не последовало, и каратели двинулись вперёд решительнее. Не ведали они, что за ними очень внимательно наблюдает человек, закопавшийся неподалёку в снег, командир подрывников Бижоев.
На болоте он соорудил несколько ловушек – поставил усиленные противотанковые мины, протянул к ним провода, присыпал их снежком, поверхность обработал еловыми лапами. Когда на противотанковую мину наступает человек – ничего не происходит, у него слишком маленький вес для взрыва, и пятьдесят человек пройдут по мине – тоже ничего не будет… Эту тяжёлую тарелку надо только взрывать.
Поэтому Бижоев ждал. Ждал той самой минуты, когда можно будет повернуть железную головку ключа, послать разряд тока к мине.
Первыми по противотанковой мине прошли каратели из охранения, ничего не заметили, потом – полицаи, их оберштурмфюрер перевёл из последних замыкающих рядов вперёд, в голову колонны, за полицаями двигались эсэсовцы, за ними – полевая команда.
Когда колонна в чёрной форме достигла крайней мины, которой Бижоев дал номер один (мина номер два приходилась на середину эсэсовского отряда, а третья – на полевую команду), Бижоев повернул ключ «адской» машинки… Под эсэсовцами разом разверзлось болото, под самые облака плеснулась чёрная вонючая гниль, человек двенадцать карателей мгновенно очутились в проломе, в булькающей засасывающей жиже, остальные с криками оттянулись в стороны… Бижоев усмехнулся недобро: вместо того чтобы спасать угодивших в подрыв сарделькоедов, фрицы спасают свои шкуры, себя самих. Он перекинул на разрядные шпеньки концы провода, ведущего к третьей мине, крутанул рукоять динамо-машины, добавляя в цепь энергии, и повернул ключ. Над полевой командой взметнулось чёрное облако, болото басовито вздохнуло, отзываясь на взрыв, заколыхалось, задрожало пьяно, промороженная твёрдая корка проломилась сразу в нескольких местах, белый, завораживающий своей чистотой снег сделался чёрным.
Последней Бижоев взорвал мину, имевшую номер один.
– Цурюк, цурюк! – кричал командир карателей, размахивая «парабеллумом».
– Дурак! – презрительно сплюнул через нижнюю губу Бижоев, натянул на себя белую ткань, защепил её под горлом булавкой и неспешно пополз в сторону. – Пистолетик-то тут при чём?
Следом за собой на шнуре он поволок «адскую» машинку – ей ещё предстояло поработать.
Крики, раздававшиеся на дымящемся почерневшем болоте, его больше не интересовали.
Он не видел, как один из эсэсовцев, вооружённый не «шмайссером», как все, а длинноствольной винтовкой, поспешно размотал полотенце, накрученное на трубу оптического прицела, и, отбежав в сторону, присел на корточки.
Вскинул винтовку, прильнул к прицелу, повёл стволом по болоту. Опытный вояка, он хорошо понимал, что подрыв танковых мин мог совершить только человек, следивший за ними, по-другому быть просто не могло. А раз это так, то, значит, человек не мог далеко уйти, он где-то здесь…
Вполне возможно, на болоте и находится.
Он не ошибся – нащупал Бижоева, когда тот уже считал, что ушёл…
Эсэсовец удовлетворённо цокнул языком, притиснул покрепче к плечу приклад винтовки и выстрелил.
Бижоев не понял, что же его так здорово поддело под лопатки, какая такая сила, вскрикнул задушенно, стараясь убыстрить своё движение и уйти от последующего толчка, но мощное послушное тело неожиданно отказалось повиноваться ему, сделалось вялым, бессильным…
За первым толчком последовал ещё один – эсэсовец выстрелил во второй раз, добил Бижоева.
И плыл теперь сержант Бижоев по кровавой каше, видел солнце и горы кавказские, слышал, как ласково журчат ручьи весенние и цветут дивные южные цветы. И ещё он увидел около самого своего лица ягоды, которых на его родине не было, не водились – сочные, красные, душистые, легко отделяющиеся от белых звёздочек, райским вкусом своим мигом вышибшие сладкую слюну у сурового сержанта…
Это была земляника. И водилась она только в России.
Видел Бижоев землянику и умилился ей недолго: через несколько мгновений не стало ни солнца, ни гор, ни цветов – всё исчезло. Бижоев ткнулся головой в снег, подтянул к груди ноги и застыл.
Снайпер-эсэсовец ласково похлопал винтовку ладонью по прикладу – хороший механизм сработан на оружейных заводах Германии. Не обращая внимания на суматоху, творившуюся вокруг, он достал из кармана утеплённой куртки перочинный ножик и быстрыми точными движениями вырезал на прикладе винтовки очередную зарубку. Посчитал зарубки, которые вырезал ранее, вместе с новой насечкой их было шестнадцать.
Эсэсовцы тем временем оттянулись со зловонного, испачканного грязью поля на край, остановились, ожидая распоряжений оберштурмфюрера. Полевая команда с полицаями оттянулась ещё дальше. Оберштурмфюрер достал из сумки карту, углубился в неё.
– Здесь мы не пройдём, – наконец объявил он, – болото! Удивительно, что русские заминировали его, могли бы и не минировать, тут обозначено… – Он встряхнул карту в руке. – Обозначено, что болото не замёрзает даже зимой. Идем в обход.
К командиру группы подошёл снайпер. Прицел винтовки он заматывать не стал – понятно сделалось, что винтовочка скоро может пригодиться.
– Оберштурмфюрер! Я подстрелил русского, который заминировал болото.
– Отлично! Я видел это. Будем надеяться, что минёров у партизан больше нет.
– Мне тоже кажется, что это так, оберштурмфюрер!
Клёст призывно махнул рукой: вперёд, в обход болота! Первым ступил на нетронутый, чистый снег – здесь, на целине, где ни одного следочка нет, нет даже отпечатков птичьих лап, вряд ли могут быть мины.
Пройдя метров двадцать, он остановился, несколькими взмахами руки подогнал отстающих, затем послал перед собой боевой дозор: партизаны находились близко, их дух буквально витал в воздухе, поэтому отгородиться от них хотя бы боевым дозором – дело нужное. Жаль солдат любимого фюрера, нырнувших во имя Германии в вонючую болотную глубь, но ещё более будет жаль, если кто-то снова пойдёт на грязное дно либо угодит под пулю какого-нибудь бородатого разбойника.
Болото обошли без осложнений, вот только времени на это потеряли уйму, что злило оберштурмфюрера очень – он кипел, негодовал, плевался, но делать было нечего. В Росстани он услышал недурную русскую пословицу: «Поспешишь – людей насмешишь». Глупые люди русские, а пословицу придумали умную: спешить нельзя.
Когда сделали привал, Клёст оглядел своих подопечных эсэсовцев и проговорил жёстко, металлическим голосом чеканил слова, будто монеты:
– Пленных не брать! Скоро мы вступим в прямую схватку с русскими, они будут прижаты к реке и никуда уйти не смогут, начнут сдаваться десятками, если же спустятся на лёд – мы расстреляем их с берега из пулемётов… Поэтому патронов не жалеть, пленных не брать. – Потом он перешёл к полевой команде и повторил тем же металлическим голосом: – Пленных не брать!
Несколько человек посмотрели на него без особого интереса и хмуро кивнули в ответ.
Клёст раздражённо поморщился и отвернулся от усталых, сидевших прямо на снегу солдат. Была бы его воля – он всех бы их засунул куда-нибудь под город… название этого города он так и не запомнил. Калинин – это слишком коряво для утончённого арийского уха.
К полицаям Клёст не пошёл, поскольку знал – эти партизан щадить не будут, поскольку боятся их, как огня, и партизаны полицаев щадить тоже не будут… Возвращаясь к эсэсовцам, Клёст обратил внимание, что над немецким войском летает много ворон – похоже, они двигались вместе с ним, эти любители мертвечины. Что ж, немецкие солдаты накормят их вволю…
Тем временем потеплело – на землю наползла тёплая пелена, прилипла к снегу, в твёрдом покрове сугроба образовались мелкие сусличьи норки. Дотоле молчаливые, сосредоточенные, боявшиеся лишний раз разинуть рот вороны, почувствовав тепло, неожиданно обрели голос – все разом, – загалдели, закаркали, закрякали, заскрипели ржаво, одна из них, с плоской, будто бы раздавленной головой, даже залаяла, как собака, умела подражать собачьим голосам.
Вообще-то Клёста вороны раздражали всегда, не только сегодня и не только в России, в Германии раздражали тоже, но в Великой Германии нет столько ворон, сколько их водится в России. Здесь, куда ни плюнь, обязательно попадёшь в ворону. Он выругался и расстегнул кобуру «парабеллума». Потом понял, что из пистолета ему в ворону не попасть, в неё не попадёт даже его хвалёный снайпер, поэтому он протянул руку к эсэсовцу, находившемуся рядом с ним:
– Хорст, дай мне автомат!
Тот сдёрнул с шеи ремень «шмайссера», протянул автомат шефу. Клёст оттянул затвор и длинной очередью полоснул по галдящей стае птиц. Стаю швырнуло в сторону, она стремительно ввинтилась в лес, скрылась за лапами густых елей, ни одной птицы не стало, все исчезли. На снег также не шлёпнулась ни одна ворона – Клёст промахнулся. Выругавшись недовольно, он вернул автомат Хорсту.
В это время воздух всколыхнулся, треснул, оглушил оберштурмфюрера – впереди, в голове колонны раздался взрыв. Клёст кинулся туда. Хорошо, что он на ходу произвёл рокировку и первыми пустил не своих собратьев по СС, а полевую команду, солдат, вдосталь нанюхавшихся пороху в окопах и земли накушавшихся столько, что её хватило б, чтобы посадить густое ячменное поле, а потом сварить из него сладкое ячменное пиво. Эсэсовцы шли сейчас в колонне вторыми, замыкали строй полицаи.
Если уж опытные фронтовики подорвались на мине, не углядели, что им попало под ноги, то славных эсэсовцев, не бывавших ещё в боях, накрошило бы столько, что трупы пришлось бы вывозить из леса на гусеничной военной технике.
Не успел Клёст добежать до головы колонны, как раздался новый взрыв– ещё одна мина. Оберштурмфюрер открыл рот пошире, ему сделалось горячо – в лицо, в грудь шибанула тугая кислая волна, он тормознул каблучками меховых сапог, только снеговая каша полетела в разные стороны, остановился. Понял Клёст, что началось… Началось! Подрывы – это начало затяжного боя с лесными духами, с партизанами.
Но партизан нигде не было видно. И оружие их – автоматы да гулкие русские трёхлинейки – голоса пока не подавало. Значит, сидят где-то в кустах, ловят их на мушку бородатые, пропахшие дымом и дурной едой грязные люди, ждут своего часа… Оберштурмфюрер почувствовал, что его буквально в бублик скручивает от злости, он ненависти к неведомым людям, не желающим подчиняться.
Колонна смешалась, начала растекаться по снеговой целине – казалось, что на целине мин быть не должно.
Ещё один подрыв – только тряпки с кусками ног и рук полетели вверх. Следом ещё подрыв… Раздалась автоматная очередь, потом, почти в унисон, сбившись в общий звуковой комок, несколько сразу, оглушили Клёста. Он схватился руками за уши, выругался. Надо отдать ему должное, он быстро понял, что стреляют свои, не партизаны, стреляют не от страха или чего-то ещё – от желания нащупать противника, вызвать ответный огонь. Когда партизаны ответят, сделается понятно, кто где находится, в кого можно и нужно стрелять. Клёст протестующе замахал одной рукой, делая широкие движения, словно бы что-то размазывал по воздуху:
– Прекратить стрельбу!
Стрельба прекратилась – не сразу, но угасла: вначале умолк один автомат, потом другой, за ним третий. Клёст отметил, что стрельбу вели только эсэсовцы, солдаты из полевой команды лишь недоумённо переглядывались.
В это время раздался четвёртый взрыв – подорвались ещё двое карателей, два приятеля, державшихся друг друга. С ума можно сойти от этих взрывов! Клёст зажал уши ладонями. Разжал. Было тихо. Только стонали находившиеся без сознания раненые да эсэсовец с оторванной ногой хрипел отчаянно, плевался, выл – он находился в сознании, и около него хлопотал санитар, такой же дюжий, тяжелолицый, умеющий долго и с толком ругаться эсэсовец.
Партизан не было ни видно, ни слышно. Клёст понял – до лесных духов ещё не дошли. А дойти надо было во что бы то ни стало, дойти и сломать горло страшным бородатым людям; приказ, который был поставлен перед оберштурмфюрером, он выполнит обязательно, иначе не быть ему оберштурмфюрером… Клёст снова произвёл перестановку: вперёд пустил отряд полицаев, следом – полевую команду, заключающими поставил эсэсовцев и торжественно выкинул перед собой руку ладонью вниз.
– Во имя великого фюрера – вперёд! Сокрушим русских бандитов! – Он сделал несколько шагов, неожиданно поскользнулся и упал на одно колено. – Хайль!
– Хайль! – вяло и нестройно отозвалось на выкрик своего предводителя войско и двинулось вперёд, к недобро темнеющему лесу.
Полицаи, оказавшиеся в первых – самых опасных, как стало понятно, рядах идущих, негромко ругались (ругаться громко боялись), плевались, недобро косясь в сторону фрицев:
– Сосискоеды хреновы, хотят из нас мясо сделать… Подставляют нас по первое число… Вот недоноски из фатерлянда!
Легачёв попробовал вмешаться в ругань, повысил голос:
– Прекратить разговорчики, пока господин оберштурмфюрер всех нас не прижучил!
– И не прижучит. А ты, если будешь выслуживаться перед ним, в первые же десять минут получишь пулю в черепушку. Понял?
После такого предупреждения Легачёв затих, словно бы сам себя пробкой заткнул. И больше не возникал. А полицаи продолжали тихо роптать, ругали оберштурмфюрера и Гитлера, Сталина и войну, ругали всех и вся, жалели себя и долю свою, шарили глазами по деревьям и, трясясь, ждали, когда же раздастся новый взрыв…
Уже на ходу Легачёв выделил из своей команды шесть человек и послал их вперёд.
– Идите, будете боевым охранением… Оберштурмфюрер приказал. Под ноги только смотрите – вдруг ещё попадутся мины?
Мины полицаям попались, и не одна, но, когда раздались эти взрывы, ни Легачёву, ни оберштурмфюреру уже было не до мин – загрохотали партизанские автоматы, а с двух сторон окопа, который занимал Чердынцев, ударили пулемёты, беря карателей в клещи.
Завязался бой – долгий, тяжёлый. Не было в этом бою пощады никому – ни нашим, ни немцам, ни птицам, ни зверям: всех корёжили пули, осколки гранат, раскалённые охлесты взрывов, лес стонал, недалёкая река тоже стонала – в нескольких местах лопнул лёд, природа горевала и мучилась. Клёст пытался командовать боем, поначалу ему казалось, что это удаётся, на деле же было не так: полевая команда слушалась только своего начальника, эсэсовцы приказов не слышали и действовали, кто как мог, полицаи вообще норовили расползтись во все стороны, как тараканы, а человек с сомнительной, на их взгляд репутацией, Легачёв совсем не был им указом. Когда Клёст понял, что наладить бой так, как ему хочется, не удастся, он решил действовать по старому методу: «Бей своих, чтобы чужие боялись!»
Он увидел, как два полицая, трясясь, пытаются укрыться за каким-то кустом, не выдержал, поднялся в рост – не побоялся пуль, – подбежал к ним и заорал что было силы:
– А ну встать, сволочи! – Увидел встревоженные, какие-то опрокинутые глаза полицаев, это разозлило его ещё больше, он совсем забыл, что полицаи не знают немецкого языка, поэтому и не понимают оберштурмфюрера, проорал снова: – А ну встать, скоты, кому сказано!
Полицаи хоть и не разобрали, что выкрикивает им эсэсовец, но через несколько мгновений всё-таки сообразили, чего он хочет, и, опасливо вжимая головы в плечи, кругом ведь свистели пули, начали, цепляясь пальцами за куст, подниматься.
– Вы трусы! – прокричал им, напрягаясь изо всех сил, Клёст. – А трусов в бою расстреливают.
Он ткнул «парабеллумом» в лицо одного полицая, нажал на спуск, и у того над правой бровью образовалось глубокое красное пятно, из которого выбрызнула густая мозговая кровь. Полицай, уже мёртвый, недоумённо похлопал глазами и повалился на куст, подмял его тяжёлым телом и сполз вниз, приклеился влажной, быстро пропитавшейся кровью головой к снегу.
– Трус! – прокричал Клёст в лицо второму полицаю. – Ты тоже достоин пули! А ну вперёд!
Полицай втянул голову в плечи так сильно, что она чуть по макушку не въехала у него в грудную клетку, подчиняясь команде эсэсовца, пробежал несколько метров и залёг. Огонь партизан был сильным. Надо много молиться, чтобы не зацепила партизанская пуля.
А немцы несли потери. Они хоть и мастера воевать, но победа даётся им только тогда, когда спины их уязвимые прикрывает тяжёлая бронированная техника. И у полицаев были потери – несколько человек застыли неподвижно на снегу, впаялись в него своими телами, один из подстреленных был, правда, ещё жив – ногами судорожно подёргивал, словно бы кому-то знак подавал, но конец его был очень близок.
Старшина Иванов с напарником Кузьмой двигались за немцами следом, почти впритык, правда, особо не торопились, хотя могли убыстрить ход, битюги бы здорово помогли им в этом, но старшина рассудил разумно: немцы – большие аккуратисты, они когда находятся в походе, то боевое охранение выставляют не только впереди, по движению, но и сзади, арьергард называется… Вполне возможно, они арьергард на этот раз выставили, поэтому упаси Господь на него наткнуться.
Иванов двигался верхом на битюге впереди, подбадривал засыпающего на ходу коня ударами каблуков в низ брюха. Кузьма, управляя двумя другими битюгами, шёл на санях следом. Иногда старшина останавливался, вглядывался в следы и произносил неспешно:
– Эсэсовцы идут первыми, полицаи последними…
– Откуда знаешь? – любопытствовал Кузьма.
– Обувь у них разная.
Через некоторое время он тормозил коня вновь и, перевесившись через круп, сосредоточенно вглядывался в следы.
– Немцы, как в шахматах, перестановку произвели, сейчас полицаи идут первыми, а эсэсовцы последними.
– Откуда знаешь?
– Я же говорю – обувь у них разная.
– Следопы-ыт, – произносил Кузьма невнятно, кашлял в кулак. Непонятно было, то ли уважительный это у него кашель, то ли неверящий, то ли ещё какой-то: Бойко принадлежал к числу людей, у которых на лице было одно, в голове другое, в душе третье.
– Ага, Джура я, – сказал Иванов, трогая коня, для этого ему понадобилось несколько ударов каблуками, слишком долго доходило до битюга, что надо сделать. – Джура – памирский барсолов, шесть пишем, один в уме, – добавил старшина.
– А при чём тут «шесть пишем, один в уме»? – Кузьма вопросительно поднял брови домиком.
– Да так, оказались слова неожиданно на языке и соскочили, – беспечно произнёс старшина, но напарник ему не поверил: чего-то мудрит Иванов, мужик он неглупый и при всех «пишем» и «в уме» ещё кое-что в уме оставляет… Причём не для общего пользования. Об этом он не сообщает.
Так они и двигались следом за боевой колонной оберштурмфюрера Клёста, по отпечаткам, по следам, загадившим снег, определяли, где находится эсэсовский начальник и что собирается делать дальше, ждали, когда забухают взрывы и по-сорочьи застрекочут немецкие автоматы, которыми были вооружены и наши, и фрицы.
А бой на подступах к базе разгорелся серьёзный, воздух насытился горелой кислятиной, смесью дыма и пироксилина, вытряхнутыми из животов внутренностями, запахом крови, опаленной огнём плоти: на маленьком участке пространства сбились воедино все запахи войны.
Перевес был на стороне немцев, и воевали они, несмотря на горластость и усталость, умело. Оберштурмфюрер Клёст в бою поспокойнел, перестал дёргаться сам и дёргать людей, организовал вперёд продвижение флангов. Чердынцев видел всё, что хотел сделать противник, старался поставить блоки, перекрыть Клёсту обходные пути-дороги, чтобы не попасть в кольцо, в давильню, но у Клёста и сил было больше, и боеприпасов он не считал, и оружие, не в пример партизанам, было у него помощнее и поразнообразнее – у эсэсовцев, например, были даже огнемёты.
А Чердынцев вёл счёт всему – и патронам, и гранатам, и стволам автоматным.
Когда эсэсовцы начали теснить правый фланг, окольцовывать его, Чердынцев, расстреляв магазин автомата, нырнул за земляной бруствер и прохрипел в глубину окопа:
– Сергеева ко мне!
Окоп был неровный, без деревянного крепежа, осыпающийся, другого для обороны лагеря вырыть не удалось: раньше об этом не подумали, а сейчас просто времени не хватило.
Кланяясь каждой пуле, пригибаясь низко – неохота было ходить с простреленной головой, – Сергеев пробрался по окопу к Чердынцеву, присел рядом с ним, подышал на красные озябшие руки.
– А рукавицы где? – спросил Чердынцев.
– Оставил где-то, не помню… А может, потерял.
– Тебе, как ребёнку, рукавицы надо пришивать к лямке, а лямку пропускать сквозь рукава… Тогда рукавицы ни за что не потеряются.
– Хорошее дело, – серьёзно проговорил Сергеев и сделал головой быстрое птичье движение вниз – над самой макушкой у него вжикнула пуля, впилась в толстую ноздреватую кору старого дерева. Сергеев глянул на дерево и закончил невозмутимо: – Надо будет воспользоваться советом.
– Бери десять человек из своего взвода и – срочно на правый фланг, там фрицы что-то жмут сильно, надо бы придержать их…
– Понял, – согласно кивнул Сергеев и, с трудом развернувшись – тесно было в земляной траншее, – стал поспешно пробираться по окопу обратно, в свой взвод.
Снять с боевой позиции десять человек он не смог – не получилось, это означало вообще оголить часть окопа, – взял с собою лишь одного бойца, москвича, который никогда не называл себя по фамилии, только по имени, при любом знакомстве, даже с командиром, говорил, что его зовут Славой, и всё, больше ничего, он вообще больше не произносил ни слова, так в отряде все его и звали Славой: Слава да Слава…
Ещё Слава был известен тем, что лучше всех научился метать нож, по этой части он обошёл даже своего учителя, лейтенанта Сергеева: прицельно сбивал сучок со ствола сосны на расстоянии в десять метров, дальше эта прицельность падала…
Сергеев и москвич взяли с собой несколько заправленных по затычку автоматных магазинов и гранаты – по три штуки на каждого – и ползком выдвинулись на правом фланге вперёд.
Когда со снега поднялись несколько эсэсовцев, человек семь, чтобы совершить перебежку, Сергеев вытянул зубами чеку из гранаты и, выждав мгновение, метнул гранату прямо под ноги немцам.
Больше делать перебежки те не пытались, затихли без движения. Один только подёргался немного, словно бы укладывался поудобнее спать, и тоже затих. Зато их подвиг пытались повторить другие, результат был тот же самый – под ногами инициативных вояк взорвалась вначале одна граната, потом другая. Всё повторилось.
Нажим на правый фланг ослаб. Когда отползали по ложбине обратно, пуля обожгла москвичу Славе плечо, он выругался с тоской в голосе:
– Чёрт!
Телогрейка москвича быстро пропиталась кровью. Сергеев подсунул руку под него.
– Давай, браток, давай… В окопе тебя перевяжем.
– Чёрт! – вновь выругался москвич. Ругаться матом он не умел.
Из окопа, видя такое дело, навстречу им выпрыгнул Игнатюк, плашмя всадился в снег, пополз, шустро работая локтями. Подцепил москвича с другой стороны, вдвоём они доволокли раненого до окопа быстро.
Нажим немцев усилился.
Сергеев и ещё пять человек, приданных ему из разных взводов, мотались теперь по всей длине окопа, появлялись то в одном месте, то в другом, то в третьем – помогали партизанам огнём. Москвич Слава, несмотря на ранение, окопа не покинул. Его перевязали, помогли остановить кровь, и он теперь отстреливался вместе со всеми.
На бруствер он положил три ножа, все немецкие, украшенные орлами с растопыренными лапами, с утяжеленными лезвиями, мастера из фатерлянда сделали это специально – такой нож летит ровно и втыкается острием точно в цель. Приготовил на всякий случай и гранату.
Он выждал момент, когда один из подползавших к окопу эсэсовцев неожиданно поднялся в полный рост и гигантскими прыжками, зигзагами, дёргаясь, уходя то влево, то вправо, понёсся на окоп. По нему ударило сразу два автомата, но – мимо, вот как умело шёл немец.
Спас положение москвич Слава. Ухватил один из ножей за рукоять, прицелился и всадил нож незваному гостю точно в горло, в самый низ, в нежную выемку.
Немец захрипел, ткнулся физиономией в землю, вывернул голову, показывая партизанскому окопу широкое белое лицо с остановившимися судачьими глазами. В следующее мгновение в это лицо впилась автоматная очередь.
– Один – ноль, – спокойно проговорил москвич.
Над окопом висел густой серый дым, очень вонючий, способный вышибать слёзы из любых, самых крепких глаз, москвич отёр рукавом засочившийся нос и дал очередь по проворному тощему немцу, пытавшемуся по неприметному ложку подползти ближе к партизанскому окопу. В руке фриц держал гранату. Пули взбили снег густым фонтанчиками перед носом немца и вреда ему не причинили.
Немец замер. Граната отчётливым чёрным пятном выделялась на снегу, была видна издали. Москвич чуть сдвинул ствол автомата, дал короткую очередь, не попал, сморщился от досады, будто от зубной боли, немного приподнял ствол и, задержав в себе дыхание, снова нажал на спусковой крючок «шмайссера». На этот раз очередь достигла цели. Пуля, попавшая в корпус гранаты, высекла сноп длинных рыжих искр, но из руки немца не выбила её, немец дёрнулся, не понимая, что произошло, и чуть отполз назад. В это время граната взорвалась у него в руке. Бедному гранатомётчику будто серпом отделило голову от туловища, голова откатилась в сторону и, изумлённо разинув чёрный страшный рот, начала хлопать губами: открыла рот – закрыла, открыла – закрыла… Она будто бы не верила в случившееся.
Туловище же несчастного немца было неподвижным, изрубленное осколками, оно даже ни разу не пошевелилось.
К позициям москвича Славы тем временем попытался подползти ещё один шустрый немец – очень ловкий, в меховом бушлате с цигейковым воротником, в пилотке с опущенными отворотами, натянутыми на уши.
Москвич подпустил его поближе, потом ухватил за рукоятку нож и, перегнувшись через бруствер, метнул его.
Тяжёлое лезвие, будто снаряд, пробило пилотку и всадилось немцу в голову. Фриц хапнул ртом воздуха, отплюнулся кровью и уткнулся лбом в дымящийся снег.
Но, как ни сопротивлялись партизаны, силы были неравны, ещё немного, и карательный отряд сомнёт их…
Старшина Иванов умело расшифровывал звуки, доносившиеся до него:
– Вот это пулемёт ударил… наш, «дегтярь», ручной, в отряде их два… А вот – «шмайссер», и это – «шмайссер», а вот чьи это автоматы, наши или немецкие, не определить. Не дано нам это сделать, Кузьма. А вот родная трёхлинеечка, голос у неё от всех других винтовок отличается… вот снова трёхлинеечка.
Кузьма стоял рядом со старшиной и подтверждающе, будто профессор, кивал: да, это трёхлинеечка, а это – «шмайссер»…
Один раз он не выдержал и глянул вопросительно на старшину.
– Ну что, пора?
– Погоди ещё немного, пусть фрицы втянутся в драку основательно. Наши их постараются намолотить.
– Но и наших же побьют, старшина!
– Не без этого, – согласился с Кузьмой Иванов.
– Так жалко же!
– И мне жалко. Но это, Кузьма, война, тут жалости места нет, тут всё подчинено жёсткому счёту: или ты врага уничтожишь или враг тебя. Понятно?
– Сколько ещё будем ждать?
– Минут десять.
Старшина рассчитывал время по наитию, на зубок, полагаясь только на собственный опыт и чутьё, ему можно было, конечно и не верить, но Бойко верил – у Иванова боевого опыта было больше.
– Всё, Кузьма, загоняем битюгов в лес, пусть там покантуются, – сказал старшина, разворачивая своего широкозадого Одера на девяносто градусов и загоняя в яркие, буквально сочащиеся красной краской кусты, за кустами плотной стеной стоял ельник.
Там старшина развернул коня кормовой частью к трескотне выстрелов, навесил на морду торбу с кормом и ободряюще похлопал по холке.
– Ешь, пока живот свеж!
Конь благодарно захрумкал германским концентратом, словно бы специально привезённым для него из фатерлянда. Кузьма отцепил второго битюга, подогнал его к первому и также навесил на голову мешок, крепящийся на брезентовых ремешках.
– Подправь себе пузо!
Битюгу, который был запряжён в пулемётные сани, дал какую-то коричневую травянистую плитку, найдённую под сиденьем возницы, видать, это было лакомство, раз конь с удовольствием захрумкал плиткой, только коричневые брызги полетели во все стороны из-под губ. Кузьма не сдержался и сунул коню вторую лакомую плитку.
– Трескай, друг!
Битюг довольно мотнул головой. Был он сильный, смирный, большой. Старшина залез в сани, раскрыл одну из железных коробок – внутри была аккуратно сложена новенькая пулемётная лента, не имеющая ни одной царапины, плотно набитая такими же новенькими патронами, – вытащил хвост ленты и вставил её в приёмник пулемёта.
– А ты, я смотрю, с немецким оружием обращаешься, как со своим, – уважительно произнёс Кузьма.
– Было дело, – недобро усмехнувшись, сказал старшина, – и время познакомиться было. Так что у меня перед фрицами кое-какой должок остался. Теперь пришла пора рассчитаться. – Он громко хлопнул тяжёлой крышкой патроноприёмника. – Поехали, Кузьма!
– Поехали, – покладисто сказал Кузьма и тронул вожжи. – Но! – Но битюг даже ухом не повёл в сторону своего благодетеля, угощавшего его прессованным лакомством, не говоря уже о том, чтобы стронуться с места хотя бы на сантиметр. – Но! – Реакции на команду никакой. – Вот что значит фрицева скотина, всю жизнь провела в Германии и по-русски ни бэ, ни мэ, ни кукареку.
– Это вполне естественно, Кузьма. У нас в Средней Азии лошади тоже не понимают русских команд…
– Откуда знаешь?
– Бывал там.
Кузьма хлестнул битюга вожжами. По гнедой шкуре побежала волнистая дрожь, битюг протестующее дёрнул головой, тем дело и закончилось.
– Во характер! – осуждающе произнёс Кузьма. – Как у Гитлера. Настоящий Гитлер.
Старшина поддал сзади шапку, сбивая её на нос.
– Если нам, Кузьма, повезёт и мы доберёмся до своих и коней сумеем сохранить, то упрямца этого так и назовём – Гитлер.
Кузьма протестующе покачал головой.
– Нет, старшина. Зачем же так обижать скотину? – Держась одной рукой за оглоблю, он потянулся и погладил второй рукой битюга по лоснящейся заднице. – Всякая животина, даже имеющая характер Гитлера, ласку любит, и этот конь – тоже… Давай, дружок, двинулись, не капризничай…
И конь послушался человека, покорно зашагал по перемолотому многими ногами снеговому месиву, потянул за собой сани с пулемётом. Кузьма торжествовал:
– Вот видишь!
Стрельба впереди усилилась, схватка там шла серьёзная, скулы у старшины сделались белыми, отвердели, глаза стали светлыми от нетерпения.
– Счас мы им покажем, пока-ажем… – угрожающе забормотал он.
Мешанина снеговая, по которой прошли каратели, казалось, конца-края не имела, была бесконечной, старшина, идя впереди повозки, нервно взмахивал руками, словно бы хотел за что-то зацепиться, и всё-таки конец этой вязкой мешанине наступил – они вышли на небольшую площадку, за которой тянулась редкая полоска деревьев, а за деревьями находилось чистое, обдутое ветрами место, где сейчас шёл бой.
– Давай, Кузьма, давай… – Старшина сделал нетерпеливое гребковое движение, тяня и напарника и битюга за собой, он уже налился азартом, яростью, и ему не терпелось как можно быстрее очутиться в самой схватке.
Бойко отметил невольно – слишком много боли и зла причинили этому человеку немцы: клокочет в нём всё от кипения, всё норовит быстрее нарваться на пулю.
– Разворачивай, друг, – прокричал старшина напарнику, – живее, живее! Устанавливаем пулемёт на боевую позицию.
Хоть и был битюг неповоротлив и даже неуклюж, а Кузьма лаской, уговором быстро справился с ним, натянул вожжи, чтобы тяжёлый конь не дёргался. Старшина прыгнул за пулемёт, поправил ленту, плоской змеёй уползающую в патроноприёмник, провёл вхолостую стволом по эсэсовской цепи, лежавшей неподалёку в снегу и хорошо видной отсюда, потом провёл ещё раз и, когда цепь зашевелилась и поднялась, чтобы совершить бросок вперёд, дал по ней длинную прицельную очередь.
С саней было хорошо видно, как идёт строчка пуль, как она взбивает белые снежные фонтанчики, рубит людей, как из сугробов вылетают длинные синие искры – это пули втыкались под снегом во что-то твёрдое, в камни и мёрзлую землю, картина, как в нехорошем кино, по ту сторону реальности, будто всё происходило не здесь и с другими людьми…
Старшина жал и жал на гашетку, лента выползала из ящика, устремлялась вверх, извивалась ломко, дёргалась, пули кромсали землю и людей, стрелял Иванов до тех пор, пока в ленте не кончились патроны.
А Кузьма, опытный солдат, уже открыл второй ящик и держал наготове ещё одну ленту – осталось только заправить её в патороноприёмник и вновь нажать на спусковую собачку. С этим старшина справился быстро и опять открыл стрельбу.
Нападение с тыла ошеломило немцев, этого они не ожидали, послышались крики – оберштурмфюрер пробовал перестроить свою команду, часть людей бросить в реденький лесок, находящийся за спиной, но в это время огонь усилил Чердынцев, и Клёст заметался – он очутился в щекотливом положении, между двумя огнями. Надо было срочно принимать решение – либо подниматься в атаку и сметать партизан на лёд реки, как и планировалось, либо откатываться назад, убирать помеху за спиной, а потом снова идти на штурм партизанского окопа.
Клёст находился в растерянности.
Пулемёт, работавший в редком леске, умолк, Клёст воспрянул духом, засуетился, но это продолжалось недолго – пулемёт вновь залаял по-собачьи резко, оглушающе, вдавил эсэсовскую цепь в снег, вместе с нею и полевую команду, несколько человек поползли вперёд, к длинному партизанскому окопу, и Клёст принял решение атаковать.
Надо было быстро, в несколько прыжков, добраться до окопов и перестрелять находившихся там людей. Клёст призывно махнул рукой, поднимая своих подчинённых, стремительно вскочил, на бегу подхватил автомат, валявшийся рядом с убитым немцем, оттянул рукоятку затвора и открыл стрельбу. Десятка три эсэсовцев поднялись вслед за оберштурмфюрером.
Это была отчаянная атака, но Клёст считал, что она обязательно увенчается успехом – как минимум половина атакующих должна добраться до окопа… Они и сделают своё дело, уничтожат русских. Остальные погибнут. Ну что ж, погибнуть во имя фюрера – благое дело!
Земля тряслась под Клёстом, подпрыгивала, она сделалась какой-то неровной, уязвимой, пули свистели у него над ухом, одна зацепила козырёк меховой французской фуражки и едва не лишила оберштурмфюрера головного убора – козырёк превратился в сплошную рваную дыру, но ремешок, который Клёст протянул под подбородком, не дал фуражке свалиться под ноги.
Оберштурмфюрер добрался до окопа, спрыгнул в него, поскользнулся на кровяном натёке и едва сам не плюхнулся физиономией в кровь. Услышал, как сбоку с руганью в окоп спрыгнули ещё несколько эсэсовцев. Клёст увидел перед собой русского с бледным лицом и белесой мокрой чёлкой волос, вольно выбивающейся из-под шапки, вскинул автомат, русский сделал то же самое и одновременно с оберштурмфюрером нажал на спуск. Автомат русского безмолствовал – перекосило патрон.
Клёст торжествующе вскрикнул, его автомат сработал. Несколько пуль всадились русскому в живот, разнесли, превратив в дыры, красноармейскую шинель, в которую тот был одет, из рук его выпал автомат, шлёпнулся на дно окопа, молодое лицо русского стало совсем белым, побелели даже глаза – боль ошпарила тело этого небольшого крепкого человека, на губах вместе с пятнами крови появилась жалобная, какая-то детская улыбка: он не верил в то, что может умереть…
Но оберштурмфюрер точно знал, что русский умрёт, а если он вздумает задержаться на этом свете, то СС поможет ему унестись на свет тот…
Он снова нажал на спусковой крючок автомата. Строчка пуль искрошила русскому грудь. Больше Клёст не смотрел на этого человека – вытряхнул его из своего сознания.
Слева и справа слышались глухие вскрики, сопение, мат – в окопе завязалась рукопашная. Кто кого одолеет – неведомо никому.
Если честно, Клёст рукопашной побаивался, это у него с детства – тогда его пару раз здорово приложили в уличных потасовках, когда они, жители центра, пытались «учить жизни» ребят из рабочего района. Город Дрезден, наверное, до сих пор помнит те драки. Однажды он вернулся из такого боевого похода с двумя фонарями, черно светившимися на его лице, а в другой раз бока ему намяли так, что он на целую неделю залёг в больницу.
Боль той поры, какое-то свербение да опаска – вдруг всё повторится? – оставили в нём свой след. И, видать, памятный след этот будет тянуться за ним до самого конца жизни…
Он снова одёржал победу – срезал из автомата простоволосого, с дикими глазами русского, внезапно появившегося перед ним. Тот шёл вдоль окопа, не разбирая дороги, круша прикладом винтовки, как дубиной, всех и вся – люди от него только отлетали, будто гнилые грибы, он чуть и Клёста не вымел из окопа, но оберштурмфюрер опередил его. Русский остановился, застонал, согнувшись, а потом снизу глянул с такой ненавистью на Клёста, что тому стало не по себе. Клёст дал ещё одну очередь из автомата, почти перерубил русского пополам, и тот тихо, без единого звука опустился на дно окопа.
Один из русских, невысокий, широкоплечий, с крепким сжимом челюстей, хрипя страшно, рубил эсэсовцев сапёрной лопаткой – у партизан кончились патроны. И ловко он рубил, очень ловко – двух человек уложил на глазах оберштурмфюрера. Клёст метнулся было к нему, вскинул автомат, зажигаясь ненавистью к этому русскому, но его опередил фельдфебель из полевой команды, короткой очередью пришил партизана к стенке окопа.
Слева и справа продолжали работать пулемёты. Клёст определил – стреляют русские, короткими, очень экономными очередями, и никто не может заткнуть им рот, а заткнуть надо обязательно, иначе эти ненасытные два ствола перекосят всех его солдат. Он устремился на один из флангов, по дороге дал очередь, а когда автомат умолк, присел на четвереньки сменить магазин, отщелкнул его и увидел, что магазин пуст только наполовину…
Всем хорош «шмайссер», но в морозы, случается, отказывает – не рассчитан на сильную стужу.
Значит, немецкий солдат оказался сильнее, выносливее стали, в сильные морозы не пасует – обмотается шалью, нацепит на сапоги шкуру, содранную с убитой собаки, на руки натянет ватные рукава, отрезанные от русской телогрейки, изнутри подогреется яблочным крепким шнапсом, и никакой мороз ему не страшен. У Клёста даже в ушах зазвенело от гордости за немецкого солдата, а вискам сделалось горячо.
Он почти пробился к пулемёту – расчищал себе дорогу, как лев, валил бородатых налево-направо, но до пулемёта не дошёл, перед ним неожиданно возник человек с усталым, каким-то страдающим лицом и мягкими светлыми глазами; неуловимым, но очень точным движением он выбил из рук оберштурмфюрера автомат, а в следующее мгновение ударил эсэсовца кулаком в лицо.
Клёст упал, но подняться не успел – рядом со светлоглазым русским оказался малорослый, похожий на мальчишку солдат и с предупреждением «Товарищ командир, не рискуйте собой!» выстрелил в оберштурмфюрера из пистолета, который держал в руке, потом перекинул пистолет светлоглазому.
Оберштурмфюрер успел заметить, что из-под наполовину расстёгнутой одежды светлоглазого виднеется воротник гимнастёрки с нашитыми на него зелёными петлицами. В каждой петлице красовалось по два прямоугольничка – знак командирского отличия. «Этого человека надо обязательно застрелить», – подумал Клёст, зашарил у себя на поясе, ища «парабеллум», но найти не успел – на него упало красное кровяное полотно, он тяжело вздохнул, закрыл глаза и умер. Долг свой офицер СС Клёст выполнил…
А схватка в окопе продолжалась.
Пулемёт, неожиданно начавший работать в жидком леске, никак не мог остановиться, все для него были одинаковы – и эсэсовцы, и ленивые полицаи, и опытные «полевики», он бил и бил, месил снег, землю, людей, всё превращал в кашу.
Обер-лейтенант из полевой группы попробовал направить к леску десятка полтора опытных солдат, но удача повернулась к фронтовикам, извините, задницей – неведомый пулемётчик засёк вояк, и их не стало.
Ну а в партизанский окоп продолжали втискиваться, вползать всё новые люди, в последней волне было много полицаев. Окоп был набит телами уже почти до краёв, вперемежку лежали и немцы, и русские, а схватка всё продолжалась. Снег на подступах к партизанскому лагерю сделался клюквенно-красным, на морозе он быстро костенел, ломался с громким фанерным хрупаньем, проваливался под ногой и снова костенел.
Тяжёлым был этот бой, много полегло в нём народу. И если бы не неведомые пулемётчики, ударившие по немцам с тыла, партизан полегло бы ещё больше, – молодцы пулемётчики! Впрочем, Чердынцев догадывался, кто они, знал их пофамильно.
Патроны у Чердынцева кончились давно. И в автомате магазин пустой, и в пистолете, который ему бросил маленький солдат, в обойме тоже ничего не осталось, ни одного «маслёнка». Он отбросил автомат в сторону, вывернул из рук мёртвого эсэсовца его «шмайссер» и послал короткую очередь в трёх полицаев, кучно навалившихся на партизана по фамилии Брысов, двух налётчиков сшиб с ног, третий отпрыгнул от Брысова сам, перемахнул через бруствер окопа и по-собачьи, на четырёх конечностях, поскакал прочь, крутя на ходу головой и жалобно подвывая, – видать, обожгла пуля…
Воздух посерел, потяжелел, сгустился, вечер брал своё, на плотном фанерном снегу, словно бы специально чем-то подсвеченные, лежали длинные чёрные тени.
Одна группа эсэсовцев, особенно настырных, прорвалась к землянкам и, думая, что там кто-то прячется, закидала их гранатами, только щепки к облакам полетели… Жить в этих землянках было уже нельзя.
Пулемётчики, так здорово подсобившие Чердынцеву, умолкли – и не потому, что устали или отчего-то там ещё, – и у них, как понял лейтенант, кончились патроны. Драка теперь шла на равных – одинаковое количество людей было и у немцев, и у партизан, и надо было очень здорово извернуться, чтобы победить в этой схватке.
Кругом хрипели, сопели, плевались кровью люди, рубили, кромсали друг друга ножами, ломали глотки прикладами, махали сапёрными лопатками, будто вениками в бане, и страшной была эта окопная баня, под ногами хлюпала, не успевала замерзать кровь. Силы у людей кончались, а рубка не стихала.
И непонятно было до последнего момента, кто кого одолеет, немцы партизан или партизаны немцев.
Небо совсем провисло, прогнулось, воздух, несмотря на минусовую температуру, посырел – скоро, значит, потеплеет, – пахло горелой кровью и порохом.
Не на своей земле были фрицы, на чужой, потому, наверное, и не выдержали они – побежали. Несмотря на то что и к землянкам прорвались, и лагерь жилой, партизанский, загадить успели, и победа вроде бы была за ними, а не выдержали они… Впрочем, первыми побежали не немцы, а райцентровские полицаи – раз из-за леска за спиной перестал бить пулемёт, значит, опасность миновала, посчитали они, развернулись и дали дёру. Впрочем, силы особой они из себя не представляли, гораздо опаснее их была полевая команда.
Хоть и не было уже слышно выстрелов – почти не было, – а один выстрел всё же прозвучал: в Чердынцева. В него почти в упор всадил пулю невысокий кривоногий немец с хищным лицом и витыми светлыми погончиками на шинели – офицер. Острый орлиный нос у него, как у хищной птицы, был испачкан кровью.
Видать, угадал он в Чердынцеве командира, раз через мешанину дерущихся людей устремился к нему, размахивая зажатым в руке «парабеллумом». И не стрелял ведь до тех пор, пока не прорвался к Чердынцеву, крушил мешавших ему людей рукояткой пистолета, бил наотмашь, почти не разбирая, – правда, своих не трогал, – пробивался к партизанскому командиру.
Выстрелил он с расстояния метров пять, Чердынцев слишком поздно его заметил, но, даже если б и заметил, ничего поделать бы не смог: у него не было ни одного патрона, а у немца патроны были.
Пуля попала Чердынцеву в живот – удар был сильный, лейтенанта откинуло метра на полтора, едва не сбило с ног, но на ногах он всё же устоял, лишь согнулся сильно, почти ткнулся подбородком в колени, застонал обречённо. В следующее мгновение рядом с ним оказались двое – маленький солдат и лейтенант Сергеев. Сергеев, прорычав что-то невнятно, с ходу метнул в немца нож. Попал точно – в голову, в глаз. Нож всадился в череп прочно, бросок был сильным, в следующее мгновение Сергеев попробовал вытащить нож простым движением руки, но не тут-то было, лезвие застряло в кости, тогда Сергеев упёрся ногою в грудь немца и с силой рванул нож за рукоять.
И опять не повезло – рукоять была скользкой от крови, пальцы сорвались с неё, лейтенант ухватился за ручку покрепче, рванул и освободил нож, использовав неведомо где подхваченное незнакомое ругательство:
– Пся крэв!
А Ломоносов присел рядом с Чердынцевым, заглянул ему в глаза, всё понял – неземной холодок появился в зрачках лейтенанта, вместе с ним обеспокоенность, тревога. Не за себя тревожился Чердынцев, это было понятно Ломоносову, как божий день.
– Товарищ командир, товарищ командир, – зашептал он, болезненно морщась. – А, товарищ командир… Вы слышите меня?
Чердынцев шевельнул губами, из уголков рта вытекла струйка крови, пролилась на подбородок, застряла на крутом сгибе. Он закрыл глаза.
– Товарищ командир! – закричал что было силы маленький солдат, затряс Чердынцева. – Товарищ командир, не уходите!
Через несколько мгновений тот приподнял веки, взгляд был замутнён болью, мукой, ещё чем-то и одновременно такой лютой тревогой, что Ломоносову захотелось завыть.
– Товарищ командир!..
Чердынцев слизнул языком кровь с уголка рта, проговорил угасающим шелестящим голосом, протискивая слова сквозь губы по одному:
– Так и не удалось нам с тобою, Иван, вернуться на заставу. Столбы…
– Да бог с ними, со столбами, товарищ лейтенант! Живы будем, ещё тыщу раз установим!
– Жи-ивы, – протянул лейтенант тихо, неверяще, опять слизнул языком кровь со рта, – жи-ивы… – Он пожевал губами, опустил голову, собираясь с силами.
– Товарищ лейтенант! – прокричал Ломоносов громко. – Не умирайте, прошу вас!
– Иван, а я прошу тебя о другом: отправь мою жену на Большую землю… Очень прошу…
– Не беспокойтесь, товарищ лейтенант, всё будет сделано!
Чердынцев вновь пожевал губами, хотел сказать что-то ещё, но сил не было, голова беспомощно опустилась на грудь, он вздохнул тяжело, со стоном, замер на несколько мгновений. Ломоносову показалось, что он умер, но Чердынцев не умер…
Лейтенант, молодой, полный сил, в ладной военной форме, шагал сейчас по освещённой московской улице, на правой руке, на сгибе, держал маленькую светловолосую девочку – дочку свою, другой обнимал любимую жену. Асфальт под ногами дымился от горячего солнца, какие-то люди в форме отдавали Чердынцеву честь, один из них был в форме подполковника авиации, другой с погонами пехотного майора, и Чердынцев не понимал, почему старшие по званию первыми отдают честь ему, рядовому лейтенанту. А потом понял – они отдают честь победителю…
Хорошо быть победителем.
В эту минуту Чердынцев был счастлив.
Прошло ещё несколько мгновений, и освещённая Москва исчезла. Чердынцева не стало.
Похоронили лейтенанта Чердынцева Евгения Евгеньевича, 1921 года рождения, в братской могиле на берегу реки Тишки, вместе со всеми, на общем партизанском кладбище.
Похоронили своих партизаны, оставшиеся в живых, и покинули базу, переместились в Сосновский лагерь.
А жизнь шла. И война шла. Над братской могилой тихо и печально шумели сосны, и птицы пели мёртвым свои песни, солнце добела выжарило фанерный лист, на котором были начертаны фамилии убитых, обесцветило имена: могила, как и положено быть могиле, просела, её засыпало хвоей, и вскоре место это сровнялось с остальной землей, стало неприметным, щит вывернуло ветром и унесло – ни одной вешки, ни одной метки, указывающих на то, что здесь находится братская могила, не осталось… Люди, вышедшие из земли, в неё и ушли – всех прибрала к себе родимая, всех сделала своими, в том числе и чужих людей, пришельцев незваных…
Впрочем, об этом совсем не хочется говорить. Их сюда никто не звал.
Эпилог
Поздней весной сорок четвёртого года от немцев был освобождён небольшой приграничный городок, в котором когда-то располагался штаб отряда, тот самый штаб, в который поздним вечером двадцать второго июня сорок первого года прибыл лейтенант Чердынцев, чтобы отметиться в канцелярии и утром отбыть на заставу, но ранним утром началась война, от здания штаба, собственно, ничего не осталось – одни лишь засохшие головешки.
Дорога, которая вела к некогда нарядному, ухоженному куску земли, любовно обрабатываемому солдатами в зелёных фуражках: тут и розы цвели, и огромные, величиной с капустный кочан георгины, и редисочку с огурчиками здесь выращивали, и даже помидоры у военных огородников вызревали – вкусного сорта «слива», поскольку солнца было более чем достаточно, дорога эта теперь заросла, трава на ней перепуталась, крапива слилась с чертополохом, а чернобыльник с лебедой и кипреем – ни пройти, ни проехать…
И тем не менее к пепелищу осторожно, опасаясь наткнуться на мину либо острую железку, на малом газу пробралась новенькая армейская полуторка с номерами, выведенными белой краской на дверцах кабины, остановилась около чёрных скорбных головешек.
Из кабины выпрыгнул невысокий, с ловкими точными движениями младший лейтенант в пилотке, украшенной жестяной звёздочкой, с тремя орденами на груди, задумчиво обошёл пепелище, вздохнул.
Шофёр, сидя за рулём машины, наблюдал за ним. В конце концов, его дело десятое – крути баранку, и вся недолга. Ему сказали, что он вместе с машиной на несколько суток прикрепляется к младшему лейтенанту Ломоносову и выполняет только его указания, вот шофёр и действовал согласно распоряжению. Поскольку младший лейтенант не приказывал ему вылезать из кабины, он и не вылезает.
В общем, ленивый человек был шофёр этот.
Младший же лейтенант был немногословен, он больше молчал, чем говорил, он вообще был человеком действия; обойдя пепелище и прикинув что-то про себя, направился к следующей обугленной груде, тускло поблескивающей на солнце, это было пепелище жилого дома, дощаника, в котором обитали холостые командиры. С прежним задумчивым видом офицер обошёл его.
«И как он только мин не боится? – ужаснулся шофёр. – Ведь сапёры сказывали, что тут полным-полно сюрпризов… А лейтенанту хоть бы хны… Вот кривоголовый!»
Младший лейтенант тем временем присел на пенёк, ухватил пальцами зелёную травинку, сунул её в рот, пожевал… Всё, что находилось вокруг, порушенное, спаленное, чёрное, страшное, вбитое в землю, сровнявшееся с нею заподлицо, надо было восстанавливать. И штабной дом ставить надо, и жилые дощаники возводить, и столовую для бойцов, и площадочку, присыпанную нежным речным песком, делать, и многое-многое другое, поскольку без этих простых вещей и граница – не граница.
Впрочем, вряд ли Ломоносову поручат заниматься восстановлением этого городка, он поедет дальше, на шестую заставу, ибо получил назначение на неё… Начальником.
Это была та самая застава, до которой он должен был добраться с лейтенантом Чердынцевым и привезти туда новые пограничные столбы.
Чердынцева он вспоминал часто, многому у него научился, и, собственно, если бы не Евгений Евгеньевич, вряд ли бы Ломоносов стал офицером – до Чердынцева и думал он по-иному, и цели у него были другие, и к военной службе он относился, как к некой временной напасти, пройдёт она, и жизнь заблистает перед молодым человеком своими радужными красками.
Увы! Годы старят не только самого человека, но и его мысли.
Понимал Ломоносов и другое: останавливаться на лейтенантских звёздочках нельзя, надо учиться и учиться серьёзно, фронтовые курсы младших лейтенантов не в счёт, а выучится, то будет везде желанным человеком – и в воинском строю, и на гражданке.
Как-то в одной из разбитых изб на Украине ему попалась разлохмаченная, разорванная книжка Куприна, ещё дореволюционная, из неё он вычитал, что в купринскую пору офицеры звали штатских штрюцкими. В конце концов, если Ломоносову надоедят погоны, он, имея корочки об образовании, легко переместится в штрюцкие.
Что-то спёрло ему дыхание, сердце билось неровно – то неожиданно делалось оглушающе громким и норовило порвать сосуды на висках, то, наоборот, стихало настолько, что заставляло с опасением думать: а есть ли у Ломоносова сердце вообще?
Он поднялся с пня, молча обошёл головешки, которые когда-то были жилым дощаником, носком сапога раздвинул заросли кипрея в одном месте, потом в другом. Буйно гнездится кипрей и цветёт буйно: в глазах рябит от ярких розовых метёлок, облепленных дикими пчёлами и шмелями…
Младший лейтенант проверял, а не найдутся ли пограничные столбы, которые они в сорок первом году так и не доставили на шестую заставу. Ломоносов сам красил эти столбы, рисовал полосы и прибивал алюминиевые пластины, на которые красной краской по трафарету нанесён герб Советского Союза. Конечно, столбы могли сгнить или местные жители пустили их на растопку печей, но пластины с гербами должны были остаться.
Он обследовал заросли кипрея долго, упрямо, более часа изучал землю и в конце концов нашёл то, что искал… Даже удивился своей находке – обнаружил облезший, поблекший, усохший, растрескавшийся, но совершенно целый столб. Ни капельки не сгнивший. И алюминиевая пластина, привинченная шурупами к головке столба, была цела. Только в трёх местах прострелена – видно, изгалялись фрицы, палили в герб из винтовки, избрав его мишенью. Ломоносов, сжав губы в плоскую твёрдую линию, негодующе помотал головой, словно бы стрельба эта велась по нему самому, потом очистил столб, оторвал его от земли и, держа крепко руками, изловчился, подсунулся под тело столба, закряхтел по-стариковски, покраснел от натуги, ставя столб на попа.
Шофёр, сидевший за рулём полуторки, дёрнулся было, чтобы подсобить младшему лейтенанту, но дальше благих намерений дело не пошло – он так и не вылез из-за руля, ленивый был человек. Хотя и гвардеец, его гимнастёрку украшал единственный знак отличия – внушительный гвардейский значок. Подумал гвардеец – если надо будет, младший лейтенант сам позовёт его. Но Ломоносов не позвал – продолжал упрямо возиться в зарослях кипрея, поднимая столб.
И поднял его. Несколько минут постоял рядом, придерживая руками, чтобы столб не завалился, наладил себе дыхание, подождал, когда оно перестанет сбиваться, затем подлез под столб и поволок его к полуторке.
На этот раз шофёра-гвардейца проняло, он, громко хлопнув дверью кабины, выскочил наружу и пристроился к младшему лейтенанту, но сделал это неловко – не знал, как помочь, тот тащил столб, будто ломовая лошадь, не видя помощника, тащил на спине и тащил да ещё кряхтел. Так и дотащил до машины, а водитель только прыгал рядом, да руками взмахивал заведенно, – совершал много бесполезных движений. Подтащив столб к кузову полуторки, младший лейтенант приказал гвардейцу:
– Отваливай борт!
Водитель поспешно откинул борт и кинулся было к столбу, чтобы помочь закинуть его в кузов, но младший лейтенант обрезал помощника суровым возгласом:
– Не надо, я сам!
Возглас прозвучал так, что гвардеец не замедлил отступить от лейтенанта, вздохнул и обиженно поджал губы: чем же это он не угодил офицеру?
Младший лейтенант засипел, запрокинул головку столба на край кузова, простреленной алюминиевой пластиной кверху, потом напрягся, поддел тело столба плечом, приподнял и одним сильным движением подвинул его в кузов на целые полметра.
Лихой гвардеец снова сунулся было к нему, чтобы подсобить, по выражению его лица было понятно, что сам бы он, в одиночку, ни за что не взялся за такую меринову работу, Ломоносов это видел, а то, чего не видел, чуял нутром, как всякий разведчик, поэтому он вновь шуганул помощника:
– Не надо!
Он так, в одиночку и загнал тяжёлый столб в кузов полуторки. Отёр лицо ладонью и приказал водителю:
– Закрывай борт!
Пока гвардеец возился с бортом, скрежетал запорами, лейтенант надвинул пилотку на голову и уселся в кабину. Шофёр, отряхнув руки, уселся в кабине рядом, не успел спросить, куда ехать дальше, как младший лейтенант скомандовал:
– Давай вперёд!
Гвардеец завёл мотор и медленно тронул полуторку с места, обогнул пепелище и по старому следу, проложенному в рослой траве, выехал с территории штаба отряда. Спросил с плохо скрытым опасением:
– А на мину не напоремся, товарищ младший лейтенант?
– Бог не выдаст, свинья не съест, – однозначно ответил младший лейтенант.
– А если я мусульманин? – неожиданно решил продолжать разговор гвардеец.
– Я же сказал – бог не выдаст.
Шофёр, окончательно поняв, что разговора не получится, обречённо махнул рукой: чудной какой-то младший лейтенант ему попался, ни каши с ним не сваришь, ни горохового киселя. Надрывно, на тонкой ноте ныл мотор полуторки – что-то в нём было отрегулировано не так, а как сделать так, чтобы плаксивого нытья не было, шофёр не знал либо просто ленился, предпочитая отдавать свободное от поездок время привычному занятию – сладкой дрёме.
Впрочем, крутить баранку он научился – довольно ловко объехал подбитый немецкий танк с дочерна закопчённой башней, вдавил в землю чужую каску, будто старую консервную банку, и вырулил на примятую колёсами колею.
– Дальше куда, товарищ младший лейтенант? – Он покосился на хмурого, сосредоточенного Ломоносова.
– Давай прямо до развилки дорог, на развилке повернёшь налево.
– А на мину не наедем? – вновь взялся за своё гвардеец. – Сапёры предупредили – здесь много неснятых мин. И немецких полно, и наших. Наши, говорят, ещё с сорок первого года стоят… Минировали, когда ожидали прихода немцев.
– Враки! – Ломоносов усмехнулся. – Я сам был тут в сорок первом году, никто ни одной мины не поставил. Сведения совершенно верные.
– Этого я не знаю, и вообще я не я, и хата не моя… Что услышал от сапёров, то и передал. За что купил, за то и продал.
Ломоносов покосился на гвардейца, понял: врёт, отвернулся от него – такого парня он не взял бы к себе на заставу. Гвардеец понял, что для младшего лейтенанта он не представляет никакой загадки, и обиженно поджал губы, решил, что больше вступать в разговоры с офицером не будет, себе дороже.
Мимо машины полз изломанный войной лес, в изувеченных, с расщепленными, разодранными, рваными стволами деревьях пели птицы. Радостно, ликующе, громко, как в жарком июне сорок первого года. И всё-таки песня птиц сорок четвёртого года отличалась от птичьих трелей сорок первого…
Ломоносов молчал – думал. Водитель тоже молчал – дулся. В тон его настроению тонко, обиженно подвывал мотор, под колёсами полуторки что-то стеклисто хрустело, младший лейтенант вгляделся – это был шлак. Немцы насыпали его, чтобы не буксовать, – видать, неподалёку отсюда у них находилась какая-то контора, они и облагородили дорогу.
Вспомнился Чердынцев. Мрачный, неразговорчивый Ломоносов помрачнел ещё больше, кадык у него дёрнулся, подпрыгнул, потом тихо опустился, словно поплавок, утонувший в слезах.
Чердынцева было жаль – до сих пор эта жалость, боль эта не прошли в Ломоносове… Просьбу умирающего командира он выполнил – переправил жену его Наденьку на Большую землю, в Москву, а вот как сложилась её судьба дальше, Ломоносов не знал совершенно.
Да и много ли узнаешь, находясь вначале в партизанском отряде, а потом, когда фрицы побежали, в действующей армии?
Сейчас, когда его выдернули из армии и перевели в пограничное управление НКВД, назначили начальником заставы, времени, возможно, будет побольше, и он сможет сделать запрос, узнать, что сталось с женой командира. Ломоносов невольно вздохнул.
Мимо проплыл ещё один танк, наш – «тридцатьчетвёрка» с задранной вверх пушкой и расклёпанными тяжёлым ударом гусеницами, танк окружали несколько сожжённых немецких машин – схватка тут была нешуточная. Шофёр-гвардеец – человек малоопытный, порох, видать, нюхал только при учебной разборке патронов, когда новобранцев знакомят с содержимым боеприпасов, и не более того, – не знает, что там, где есть следы прямого боестолкновения, как на этой дороге, где валом громоздится сожжённая техника, мин быть не может, их просто не успели поставить, здесь война двигалась на хорошей скорости и сапёрам было не до этого. Другое дело, если бы тут шли затяжные оборонительные бои.
Хотя, конечно, во всех случаях ухо надо держать востро. Ломоносов подтянул к себе автомат, лежавший в ногах, родной ППШ, сапогом на всякий случай ткнул вещмешок – там среди консервных банок с харчами, в основном, с американской тушёнкой, лежали и круглые автоматные диски, три штуки, набитые патронами под «верхнюю пуговицу», и пара гранат. Ломоносову показалось, что впереди в небольшой горелой пади мелькнули тени в мышиной форме – по здешним лесам бродит немало недобитых фрицев, и поодиночке бродят они, и группами, и этих обозлённых вояк следует опасаться. Особенно эсэсовцев, которые знают, что в плен брать их не будут, а взяв, особо чикаться не станут – расстреляют.
– Что там? – краем глаза уловив движение младшего лейтенанта, спросил гвардеец.
– Ничего.
– Немцы, может?
– Может.
Дорога тем временем плавно пошла под откос, деревья подступили к колее близко, совсем близко, снаряды по какой-то причине обошли это место – видимо, целей лакомых не было, авиация тоже не тронула густой корабельной чащи, в общем, место это было недоброе.
Над травой тучами висело комарьё – влаги здесь было больше, чем наверху, цветов было больше, яркими пятнами мерцали такие, которых на холодной земле Ломоносова просто не знали. Воздух зримыми пулями перечёркивали шмели и дикие пчёлы.
Неожиданно из ободранных, исхлестанных кузовами машин кустов, подступивших к самой колее, выскочили трое немцев в сероватой выгоревшей форме, с засученными рукавами, в пилотках.
– Мать твою! – выругался гвардеец.
Младший лейтенант молча вскинул автомат и высунулся из кабины. Он на десятую долю секунды опередил поджарого фрица, дал очередь. Поджарый спиной вдвинулся в кусты и исчез – ветки хоть и были исхлёстанными, голыми, а скрыли человека целиком, двое напарников поджарого также исчезли.
Гвардеец рукавом гимнастёрки стёр со лба пот, рукав потемнел – пота было много, – поинтересовался предательски подрагивающим голосом:
– Чего это они?
– Голодные, – пояснил Ломоносов. – За пару банок тушёнки они сейчас даже своего любимого фюрера ухайдакают и не поморщатся.
– Может, сказать о них в штабе, пусть прочешут лес?
– Прочёсывать устанешь. Окружённые фрицы на месте не сидят, они всё время движутся. Сегодня лес прочешешь, завтра в нём фрицев в два раза больше будет.
Шофёр вновь рукавом гимнастёрки осушил свой лоб, выругался коротко:
– Гады!
Дорога поползла вверх, на неровно скошенный бугор, украшенный старой ржавой полуторкой, вросшей в землю полусгнившими железными дисками. Сквозь деревяшки кузова проросла трава.
«С сорок первого года стоит», – определил Ломоносов, хотя в сорок первом, когда они шли по этой дороге с Чердынцевым, никаких полуторок тут не было… А с другой стороны, не всё же время они двигались по дороге, часть пути проделали лесом – и путь себе спрямляли, и от немцев прятались, всё было, словом.
Ломоносов открыл дверь кабины и, ступив сапогом на подножку, глянул назад – что там, в клубящемся пыльном мареве?
– Ну что? – спросил гвардеец. – Фрицы есть?
– Нет.
– Попрятались, гады, – удовлетворённо произнёс гвардеец, оторвал от руля руки, потёр их. – Счас они совсем не те, что были ещё полтора года назад.
Ломоносов с сомнением покосился на гвардейца: вряд ли этот человек знает, как вели себя немцы полтора года назад, вновь уселся на сиденье и смежил глаза. Неплотно смежил, так, чтобы видеть колею, ползущую под колёса полуторки.
Солнце поднялось уже совсем высоко, округлилось, побелело, небо также побелело, сделалось плоским и каким-то твёрдым, птицы, самозабвенно гомонившие, начали стихать. Монотонно, с жалобными всхлипами, появившимися от перегрева, продолжал выть мотор полуторки. Кабина раскалилась. Переднее – ветровое – стекло плотно залепили мухи, они садились прямо на ходу и припечатывались к стеклу, будто были намазаны клеем, и ничто, кажется, не могло сбить их. Шофёр-гвардеец пробовал стучать кулаком по стеклу изнутри, из кабины, прогнать их – не тут-то было.
Гвардеец не выдержал, выругался матом – мухи, будто тёмная тряпка, перекрыли ему обзор.
– Не мухи, а настоящие эсэсовцы, – отплюнулся он, – враги советского народа.
Ломоносов молчал, у него был вид дремлющего человека, но он не дремал, сквозь полусжим век следил за тем, что происходит вокруг, ничего не упускал – ни тень, наползшую на солнце, ни сороку, спугнутую кем-то на далёком дереве, ни следы сапог с коваными подковами, оставленные в сырой низине, ни горсть немецких автоматных патронов, случайно рассыпанную в траве… А в общем, ничего интересного.
Прошло ещё полчаса, и они оказались около спаленного дощаника заставы. Ломоносов выпрыгнул из кабины, вытащил автомат – мало ли кто может оказаться тут, ведь фрицы со «шмайссерами» ему не померещились, он в них стрелял, – медленными, изучающими шагами обошёл сгоревший дощаник. Повсюду следы запустения, тлена, какой-то странной гнили.
От броневика, который они когда-то облили бензином и сожгли с Чердынцевым, ничего, ни единого следочка, немцы куда-то уволокли его, а возможно, даже починили, и он ещё принёс немало горя нашим солдатам. Могилы, которую они вырыли с лейтенантом для погибших пограничников, тоже не было – её словно бы срезали с земли. Нету могилы.
Но ничего-о… Ломоносов постарается отыскать дорогую могилу, по сантиметрам всё высчитает, но могилу найдёт. И памятник свой, рукодельный, нефабричный, но очень скорбный поставит. И сделает кое-куда нужные запросы, чтобы узнать фамилии погибших ребят. Негоже могиле быть безымянной.
Шофёр-гвардеец из кабины опять не вылез – продолжал сидеть за рулём, недовольный, угрюмый, с плоским потным лицом.
Ломоносов обошёл территорию заставы дважды – он совмещал настоящее с прошлым, искал метки, предметы, принадлежащие к сорок первому году, щурился недовольно, постукивал носком сапога по земле, пробуя её на плотность, потом вернулся к полуторке. Гвардеец оторвал от руля сонное лицо, уставился на младшего лейтенанта.
– Лопата у тебя есть? – спросил младший лейтенант.
– А как же! Есть…
– Бери лопату, пошли со мной!
Водитель нехотя вылез из кабины, достал из кузова лопату, подбросил её на руке.
– Вот!
Ломоносов откинул задний борт и вцепился руками в столб, в изъеденное трещинами основание, потянул столб на себя. Гвардеец отставил лопату в сторону.
– Товарищ младший лейтенант, может, я помогу?
Младший лейтенант ничего не ответил, закряхтел надсаженно, потащил столб из кузова, потом повесил автомат на шею и, расставив ноги пошире, укрепляясь на земле, подсунулся под столб, поддел его снизу хребтиной.
– Я помогу, товарищ младший лейтенант, – вновь предложил свои услуги гвардеец, голос его был жалобным – проникся человек к Ломоносову и уважением, и сочувствием, понял, что тот испытывает, вернувшись в своё собственное прошлое, кинулся было к младшему лейтенанту. Но тот просипел, обрезал гвардейца:
– Не надо!
Кренясь всем телом из стороны в сторону, приседая, он поволок столб к остаткам ограды, которой когда-то была обнесена территория заставы, целя в дальний угол. Водитель, подхватил лопату, поплёлся за ним. Автомат, висевший на шее лейтенанта, раскачивался из стороны в сторону, будто часовой маятник, мешал Ломоносову, но оставлять автомат было нельзя.
Наконец он дотащил до нужного места, свалил столб на землю, сам свалился рядом, совершенно обессиленный.
– У-уф, – выдохнул он и закрыл глаза.
Гвардеец, не выпуская из рук лопаты, затоптался рядом, потом громко хлобыстнул ладонью по щеке, сбивая здоровенного, покрытого яркими, керосинового цвета разводами овода. Выругался:
– Фашист!
Младший лейтенант открыл глаза. Усталости как не бывало – всего несколько минут хватило, чтобы одолеть её. Ломоносов приподнялся и нежно огладил рукой нагретое дерево столба, ощупал пальцами крупную щель, словно бы хотел проверить, развалит она столб или нет. Приказал гвардейцу тихо и жёстко:
– Дай сюда лопату!
– Я помогу, я помогу, товарищ младший лейтенант… – заторопился, зачастил гвардеец – очень уж непонятен был ему этот офицер, но Ломоносов обрезал его с прежней тихой яростью:
– Не надо!
Он сам вырыл яму под столб, лопата за лопатой вышвырнул наверх рыжую жёсткую землю, поплёвывая себе на ладони, чтобы не образовались мозоли. Помощью гвардейца так и не воспользовался, подтащил к яме несколько камней, самых разных, и покрупнее и помельче – столб надо было укрепить, – и уселся на землю перевести дыхание.
– Может быть, я всё-таки подсоблю, товарищ младший лейтенант? – Гвардеец вновь по-вороньи угловато, кособоко заскакал вокруг Ломоносова. Младший лейтенант упрямо помотал головой: нет!
– Что вы всё – нет да нет, товарищ младший лейтенант? – обиженно промямлил гвардеец. – Будто я не советский человек…
– Советский, – глухо произнёс младший лейтенант, – только с другой биографией.
Он поднялся, сапогом придвинул к яме несколько камней, затем загнал столб в яму, подпёр его плечом, пододвинул большой камень, спихнул его в яму, потом подгрёб несколько камней поменьше.
Припекало солнце. Но Ломоносов не замечал его, лишь иногда стягивал с головы пилотку и вытирал ею лицо. Было жарко. Самая пора забраться куда-нибудь в тихое прохладное озеро, засесть там среди цветущих кувшинок, послушать, как смачно чавкает жующая водяную ряску и коренья куги крупная рыба, нырнуть в светлую глубь, коснуться руками дна и вынырнуть, держа во рту тёплый лучик солнца, со счастливым ребячьим ощущением, что всё впереди – вся жизнь, – и ничего худого нет в ней… Ни боли, ни зла, ни войны. Реалии же существовавшие имели окрас с точностью до наоборот. Не было ни тихого озера, ни жующей рыбы, ни цветущих кувшинок – была война, которая ещё не кончилась, были раны, кровь и боль.
Гвардеец на месте младшего лейтенанта тысячу раз бы бросил неподъёмную работу со столбами, залез куда-нибудь в тенёк, расслабиться, забыться в сладком коротком сне, а Ломоносов расслабиться себе не позволял, трамбовал землю подле столба, бросал в свободные щели камни – под каждую щель свой камешек, подходящий по размеру, и не успокаивался до тех пор, пока не установил столба.
Вытирая лоб пилоткой, обошёл столб кругом, похмыкал довольно – с работой он справился. Лейтенант Чердынцев, если бы был жив, был бы им доволен… Кто знает, может, дух лейтенанта сейчас витает здесь, над этим куском границы, над старым этим столбом, который будет стоять долго – как память о былом, о тех, кого здесь не стало, кто лежит в этой земле, как напоминание о том, что живые остались должны мёртвым. Может быть, и сам-то Ломоносов остался жив лишь потому, что его прикрыли ребята, лёгшие в эту вот нагретую, ласковую землю?
В висках возник звон… Всё дело в нервах, видать, в усталости, ещё в чём-то… Того гляди, определят его куда-нибудь в госпиталь, на лечение. Но ни лечения, ни госпиталя, ни тишины учебных аудиторий в ближайшее время не будет и, если честно, не предполагается – война-то не кончилась. Впрочем, чего сейчас об этом думать?
Ломоносов поднял автомат и дал в воздух короткую очередь, рваным эхом пронёсшуюся над деревьями, поднявшую в небо несколько ворон, расположившихся со всеми удобствами на ближайшей сосне и с интересом разглядывавших младшего лейтенанта – хотели понять лесные колдуньи, чего человеку тут надо.
Обиженный гвардеец вновь залез в кабину полуторки и теперь клевал там носом, жарился, потел нещадно, видя сны из своей прошлой деревенской жизни: бегал по улицам и щупал молодых и не очень молодых бабёнок, изображая из себя темпераментного петуха.
Услышав автоматную очередь, испуганно вскинулся и в то же мгновение исчез – залез под руль. Непонятно ему было, что происходит, где, по какому поводу громыхнул автомат, – всё понял он, лишь когда прозвучала вторая очередь, вылез из-под руля со смущённым видом, крикнул Ломоносову в своё оправдание:
– Педаль что-то заело! – Достал откуда-то фуражку, которой раньше у него не было, и нахлобучил на голову, сразу становясь похожим на армейского начальника средней руки.
Ломоносов дал третью автоматную очередь в воздух, повесив в пространстве закуржавленную дымную ветвь, быстро, впрочем, растёкшуюся, проговорил тихо, ни к кому не обращаясь:
– Ну вот и всё… Вот мы и вернулись.
Он окинул глазами пограничный столб – ровно ли стоит, кивнул удовлетворённо: столб стоял ровно и, главное, прочно и простоит он так ещё очень долго.
Это устраивало Ломоносова.
Воздух сделался влажным, потяжелел и даже, кажется, загустел от жары – лето сорок четвёртого года обещало быть горячим.
Погиб Ломоносов через два с половиной месяца, когда на полях стала желтеть трава и запахло осенью – и воздух уже сделался другим, и небо, и земля, уставшая от боли, кажется, начала немного отмякать, выплёвывать из себя, выталкивать на поверхность разные военные железки.
Ночью застава была поднята в ружьё – пришло тревожное сообщение о том, что издалека, чуть ли не из глубины Белоруссии прорывается группа эсэсовцев, сотрудников одного из лагерей смерти, руки у этих людей испачканы в крови не по локоть, а по самые ключицы. Группу надо было во что бы то ни стало задержать.
Армейских частей в районе не было, только пограничная комендатура, следовательно, на малочисленных погранцов эту сложную задачу и возложили.
Своих людей Ломоносов собрал в ночи, при тусклом свете фонарика, в котором едва работала полуразряженная батарейка, а когда стало рассветать и низко над землёй рваными клубами поплыл серый туман, из равнины немцы и выплыли. Страшные люди. Обвешанные оружием, с чёрными лицами, давно не бритые, завонявшие от грязи, с красными глазами и неровными судорожными движениями, видно, для того чтобы держаться на ногах, глотали какие-то бодрящие таблетки, от которых человек превращается в животное, но не спит, не спит – вот что главное. За своего убогого Гитлера сражается.
В сером клубящемся тумане и схлестнулись. Поскольку эсэсовцев было много, они забили лес так плотно, что казалось, свободного места не стало. Дрались эсэсовцы молча, страшно, вся шестая застава в том бою и полегла. Целиком полегла, ни один человек не уцелел. Но и эсэсовцы получили своё, не прошли, накошено их было столько, что когда приехал большой важный чин с лампасами, то подивился увиденному несказанно: в некоторых местах трупы лежали в три, а то даже и в четыре ряда, оплывшие кровью, с успокоенными лицами – отмучились наконец-то фрицы!
И наши отмаялись, лежали тут же, с автоматами ППШ, в дисках которых не оставалось ни одного патрона, – прикрывали друг дружку до последнего…
Похоронили пограничников в одной могиле, общей, вместе с командиром, отделять его от остальных не стали, да и чин младшего лейтенанта был невелик. На прощание дали салют из трёх винтовочных стволов, переполошили здешнюю птицу, но ненадолго, выпили по стопке «наркомовской» за «упокоение душ рабов Божьих» и уехали.
Приехали другие люди и начали налаживать жизнь на заставе – границу-то дырявой оставлять нельзя.
Лежит теперь маленький солдат там, где началась его дорога в войну, где дрался он. Не за самого себя дрался и погиб не ради себя самого – погиб за общее дело, за будущее светлое, надеясь его приблизить к нам. Да только будущее это радостное, как показало время, что-то не очень-то хочет приближаться, оно отдаляется от нас, вот ведь как. И почему это происходит, объяснить не может, по-моему, ни один человек на свете. Не дано…
2009 г.
Луноход
Отец у Калачёва был деревенским пожарником. Должность пожарника в ту пору считалась общественной. Каждый колхоз имел специальный пожарный закуток, на стенках которого висели багор, две лопаты и топор, черенки пожарного инвентаря были окрашены в знойный клюквенный цвет, в чём и было отличие его от инвентаря обычного. Ещё висело ведро, на боку которого белыми масляными буквами было выведено «пож. охр.» – вот то имущество, за которым отцу надо было следить.
На общественных началах, за полтора десятка трудодней, что в дом ничего не приносили – на трудодни тогда давали ноль целых, ноль десятых и ноль сотых денег, столько же зерна и овощей, сверху добавляли увесистый довесок в виде нуля. И всё равно отец не бросал этой должности, считая, раз сельский мир, или, иначе говоря, сход, общее собрание – люди, словом, попросили его быть общественным пожарником, значит, им надо быть.
Ещё в его распоряжении имелась бочка, мёртво прикрученная к телеге, с ручным насосом, который не то чтобы не подчинялся людям, нет – сладить с ним можно было, но только целым миром, насос был тяжёл и упрям, сипел, возмущённо клекотал, когда его пытались заставить работать, чинить его пробовали все – и трактористы, и кузнец, не говоря уже о старшем Калачёве, но всё без толку, и в конце концов люди отступились от сиплого двуручного механизма.
Потом Калачёв-старший перестал быть пожарным. Произошло это следующим образом. Деревню в те времена все кому не лень старались приструнить, считая, что в селе живут только одни кулаки, плодят ворон и грачей, чтобы те побольше сжирали зерна, да хорьков – любителей колхозных несушек, закручивали гайки так, как Калачёв не закручивал проволоку на увёртливой пожарной бочке, чтобы она не вертелась на телеге, стригли под самый корень: душили налогами, отнимали молоко, которое должны были выпить детишки, из-под кур забирали только что снесённые, ещё тёплые яйца, картошку заставляли отвозить на спиртзавод, чтобы ничего не могли оставить себе, без зазрения совести шарили у старух за иконами – нет ли там заначки?
А потом вообще всякий стыд потеряли: налог стали брать с того, с чего вообще никогда не брали, – с яблонь и груш, с каждого корня. Да так завернули крестьянину руки за спину, что сладкие яблоки сделались такими, будто их скрестили с хреном и перед тем, как подать на стол, мазали горчицей. Платить за яблони было нечем, и тогда Калачёв-старший, вскипятив несколько вёдер воды, вылил кипяток под корни. Яблони умерли быстро – так быстро, что Калачёв даже заплакал, листва на яблонях обвяла, пожухла и на следующий день опала совсем, комли оголились – с них сползла кора, обнажив нежную, вкусного сливочного цвета древесину.
По чьему-то сигналу из района очень быстро прикатил на бричке бритоголовый хмурый милиционер. Скрипя сапогами, молча походил по участку, потом вызвал Калачёва-старшего на улицу.
– Ты чем яблони потравил? – спросил милиционер, Калачёву-старшему показалось, что голос у представителя власти очень уж высок и резок, милиционер будто бы напильником ездит по железу. – Каким таким ядом?
– Я тут… Ну как сказать? Ничем, в общем… – Калачёв отвёл глаза в сторону. – Парша на яблоньки напала, внутренняя, значит, болезнь, схожая с туберкулёзом. Она загубила деревья. Враз.
– Враз, значит? Туберкулёз, выходит? – Нижняя губа у милиционера поехала в сторону, придав его лицу брезгливое выражение. Ну будто сом вместо вкусной ракушки смолотил гальку. – Внутренняя парша, говоришь? Ну хорошо, – молвил он тягуче и полез в бричку.
– Доброй вам дороги! – вежливо произнес Калачёв-старший на прощание.
Милиционер посмотрел на него холодно, раскрыл планшетку и, настрочив что-то на разлинованном листке бумаги, вручил листок Калачёву.
– Держи произведение искусства! Завтра явишься в район.
Он мог бы и сейчас забрать Калачёва, увезти его на бричке, а в райцентре запереть в тёмную и выдержать до утра, но, видать, что-то дрогнуло в милиционере, сломалось; вполне возможно, с кем-нибудь из его родственников тоже произошло подобное, и милиционер дал Калачёву немного подышать и напоследок насладиться волею. А мог бы и не дать.
Из района Калачёв-старший уже не вернулся, вернулся через два года из других мест, худой, лысый, с отбитыми лёгкими, пробовал работать в колхозе, но работать не мог, не хватало сил, он всё больше лежал; иногда вспоминал, как был добровольным сельским пожарным, и вроде бы оживлялся в воспоминаниях, глаза его начинали блестеть, но потом блеск пропадал, взор становился тусклым и чужим – жизнь уходила из Калачёва-старшего…
Когда Игорь Калачёв пошёл в первый класс, отца не стало, похороны были малолюдными, тихими, на поминках вспомнили прошлое старшего Калачёва, кто-то из деревенских мыслителей предложил на могилу вместо креста поставить багор, мыслителя обозвали дураком, что, общем-то, было недалеко от истины, и вскоре после похорон деревенского пожарника забыли.
Уходя в армию, Игорь увидел фотокарточку отца, которой раньше не видел, у него что-то защемило в груди, лоб прорезала вертикальная морщина – отец на фотографии был изображен счастливым, с просветлённым лицом и шальными глазами: похоже, сидя перед ФЭДом заезжего мастера, он не верил, что вернулся с фронта живым, целым, непокалеченным, с руками, с ногами, без дырок в голове и в теле, но зато верил в другое – былое не возвратится, они своё отвоевали, наелись землицы под завязку, нанюхались пороха – хватит! На плечах у отца красовались погоны с блестящей широкой лычкой старшего сержанта, но что погоны, погоны – ерунда, они могут быть даже лейтенантскими, на груди у отца красовались награды – три ордена и три медали. Ни орденов, ни медалей отца Игорь раньше никогда не видел, как, собственно, не видел и этой щемяще-радостной фотокарточки, вполне возможно, награды изъяли после суда. Когда Игорь думал об отце, ему делалось горько.
Фотокарточку отца он взял с собою в армию, в Афганистан.
Разное случалось у Игоря на «ридной Афганьщине» – и красной пыли поел он не меньше, чем отец земли в свою войну, и пороха нанюхался вдоволь. В армии Игорь служил в «полосатых» – в десантных войсках. Душманы, в принципе, не боялись «зелёных» – сорбозов народной армии, не боялись «соляры» – нашей пехоты, а вот «полосатых» боялись.
Как-то зимой в Кабуле один дуканщик разоткровенничался, излил, что называется, душу. Хитрый был дед, умный, с острым стремительным взором и цепкими, изящными пальцами музыканта. Не дуканщик, а пианист Ван Клиберн.
Игорь в составе патруля зашёл тогда в дукан – искали дезертира. Дуканщик спросил солдат:
– Что вам тут надо?
Объяснялись с ним через переводчика – сержанта-таджика.
– Да вот, кое-кого ищем.
– Я не про то. Что вам надо в Афганистане? У нас в Кабуле, в Герате, в Хосте, в Бамиане?
Переводчик, пригнувшись, посмотрел в мутное, давно не мытое оконце дукана. Из окна была видна половина Чикен-стрита – торговой улочки, на которой находился дукан. Назвали так улочку на английский, а точнее, американский манер: чикен – это цыпленок, куренок, курица, ну а стрит – понятно без всякого перевода. Хотя курами на Чикен-стрит никогда не торговали – торговали коврами, поделками из меди, монетами, кувшинами и самоварами, дублёнками, которых не хватало даже на один сезон, шкурами волков и лам, а улочку всё равно звали Чикен-стрит. Переводчик задержал взгляд на старухе в фиолетовой чадре, остановившейся у колонки, чтобы набрать воды, поёжился – на улице было холодно. Зима, декабрь – пора, когда солнца в Кабуле бывает мало, с Гиндукуша наползает серая липкая пелена, иногда идёт дождь, но чаще идёт снег, что много хуже дождя – мокрый, клейкий, снег словно бы замешан на специальном составе. В кабульских домах, особенно в старом городе, холодно. Холоднее, чем на улице.
Многие дома здесь не имеют окон – летом ведь в Кабуле стоит жара такая, что не продохнуть, вместо дверей – старые одеяла, повешенные на гвозди. Дрова продаются на килограммы или сиры[2]. Один килограмм дров – дороже килограмма хлеба.
Переводчик отвернулся от окна.
– Мы, отец, сюда не по своей воле пришли, а по вашему приглашению. Вы позвали – мы пришли. Скажут уйти – уйдем.
– Вот и уходите!
– Ты, отец, кто? Глава государства? Бабрак Кармаль?
Дуканщик смял редкую седую бороду, приподнялся на цыпочках, чтобы лучше увидеть переводчика, понял, что другие солдаты патруля языка не знают и разговор хоть и идёт при свидетелях, а всё равно без свидетелей – солдаты ничего не смогут подтвердить.
– Сорбоз, ты знаешь, видать, не только язык моего народа… Верно? Ты знаешь мой народ, и тебе, явно, ведомо, как мы умеем сражаться.
– Ну?
– Можете не уходить отсюда все, не надо. Оставайтесь ради аллаха! Пусть уйдут только ваши полосатые, с барашковыми воротниками, остальных мы придавим. И ваших и наших – со всеми справимся.
«Полосатые с барашковыми воротниками» – это десантники в зимних бушлатах. Воротники на бушлатах действительно были, только не барашковые, но всё равно из натурального меха – цигейковые.
– Сволочь ты, дед, – по-русски сказал переводчик, добавил на дари: – Ты плохо кончишь свою жизнь! – И обращаясь к начальнику патруля, вновь перешел на русский: – Надо идти, товарищ лейтенант. Тут мы ничего не узнаем.
Никого не было на Чикен-стрит, пусто, только холод и колючая зимняя морось, вызывающая ощущение беды и бесприютности. Многие дуканы уже закрылись – на дверях висели решётки.
– Торговля свёртывается. – Лейтенант пощипал свои едва наметившиеся усики. Несмотря на то что он и растительностью ещё не обзавёлся, и возраст его был такой же, как у подопечных солдат, лейтенант уже успел понюхать пороха, целый год охранял перевал Саланг. – К чему бы это, а?
Закрывающиеся дуканы – примета плохая, связь у дуканщиков лучше всякого совершенного телеграфа, торговцы прекрасно знают, когда начнётся стрельба, и заранее прячутся в норы. И кто их только оповещает?
– Стрельбы не будет, товарищ лейтенант, – убеждённо произнёс переводчик. – Закрылись из-за холода. Покупателей нет.
– Чего тебе говорил этот старик?
– Разное, – уклончиво ответил сержант.
– А ты ему чего сказал?
– Сказал, что он плохо кончит.
– Значит, это не наш человек.
Из-за высокого, с большим бетонным основанием, мокрого стояка колонки неожиданно выкатился, мягко перебирая коротенькими лапками, щенок, устремился к патрулю. Торчком хвоста он вилял так старательно и резво, что казалось, у щенка вот-вот вывихнется задница, рот был растянут от уха до уха в щенячьей улыбке, маленькие влажные глазёнки сияли. Был щенок мокр и грязен.
Игорь Калачёв – солдат молчаливый, в час говорит по чайной ложке, и то по большим праздникам, – сделал шаг навстречу щенку, присел, хлопнул рукой по прикладу автомата, и щенок мгновенно разгадал в нём родственную душу, закрутил репкой хвоста, как вертолёт пропеллером, привстал на коротеньких, неуклюжих и совсем ещё неразвитых лапках, кинулся к Калачёву. Он, несмышлёный, старался быть выше и взрослее, чем был на самом деле, он хотел быть большой, сильной и ловкой собакой и был сейчас ею и принадлежал только одному человеку – хмурому парню с добрыми глазами и крупными негритянскими губами, несколько странно выглядевшими на широком крестьянском лице. Хоть странно выглядели губы на лице Игоря, но именно они делали облик его запоминающимся: сильные, чуть вывернутые, тёмные, будто запечённые на солнце, – некая выразительная примета, невесть как занесённая в тихую среднерусскую деревню.
Щенок прыгал только вокруг Игоря Калачёва, на остальных не обращал внимания – ни юный лейтенант со слабыми следами растительности на лице, ни переводчик не были ему интересны. Игорь достал из кармана кусок сахара, снял с него прилипшую нитку, вложил кусок щенку прямо в рот – аккуратно, легко, и щенок также аккуратно и легко взял его.
– Откуда знаете, Калачёв, что этот кабысдох любит сахар? – Лейтенант снова потеребил свои слабенькие усики и, видя, что Игорь не отвечает – собирается, видать, с мыслями, не привык так скоро реагировать, – проговорил: – А грязен-то, грязен наш четвероногий друг!
Щенок из-за грязи действительно потерял цвет – это был мохнатый мягкий клубок земли. Калачёв отдал ему ещё два куска сахара – всё, что оставлял себе, чтобы погрызть где-нибудь в задумчивом уединении, размышляя о том, кто он в этом мире, о ребятах, которых уже нет, о том, что на родине их похоронили так, будто они были в чём-то виноваты: тайком, ночью, без оркестров и слов прощания, как хоронят воров и преступников, и хорошо, если на их могилах лежат каменные плиты, а то ведь полно таких могил, где ни плит, ни меток, ни деревянных столбиков. Есть такие, кому и пирамидки никто не поставит, – из родственников никого в живых. Эх, земля родная! Девчонки, танцы, тихая печальная музыка магнитофона, купания по воскресеньям – где всё это, за какими горами-долами осталось?
Афганистан разрубил жизнь пополам, выел огнём прошлое – былое, оказывается, обладает способностью вытаивать из человека. Даже память и та исчезает, ничего не остаётся. Хотя говорят, что память – единственное, что нельзя вытравить. Можно – вместо тихой музыки недорогого кассетника звучит музыка пуль, материнскую нежность заменяет нежность душманская, замешанная на особом составе. В начале нынешнего года к правоверным попал в плен прапорщик из соседней роты – душманы живьем сожгли его: развели под деревом костер, прапорщика связали проволокой, чтобы было попрочнее, проволока ведь не перегорает, перекинули её через сук дерева и начали опускать потихоньку в огонь. У прапорщика, прежде чем он умер, отгорели ноги, потом таз. Нежность!
…Через три месяца, уже весной, жаркой, гулкой и недоброй, Игорь Калачёв сидел в засаде. Среди плоских, вылезших из земли камней был вырыт мелкий неприметный окопчик, прикрывающий один из подходов к колпаку. Колпак тот, или, выражаясь военным языком, временная огневая точка, находился на рыжем пыльном бугре, контролировал караванную тропу и был у душманов бельмом на глазу. Душманы несколько раз пытались атаковать колпак, сбросить оттуда ребят-пулеметчиков, но каждый раз проявляли слабину; били по колпаку эресами – реактивными снарядами, кидали мины и гранаты – ничего не помогло: как сидели в колпаке ребята, так и продолжали сидеть. Только в разные стороны вынесли пикеты – отрыли окопчики, замаскировали их, проделали проходы, снабдили НЗ – неприкосновенным запасом пищи и воды и неприкосновенным запасом патронов и гранат. НЗ – вещь нужная, ведь мало ли что – а вдруг этот выносной окопчик отсекут? Тогда надо держаться и ждать подмоги. Если помощь не подоспеет, то придётся погибать – подорвать себя гранатой, пустить последнюю пулю в рот либо в висок. Но ни в коем случае не сдаваться в плен.
Ночь та была тёмной, гулкой, будто в мороз, звёзды словно бы кто-то ножом соскрёб с неба. Обычно они гнездятся так густо, что их на небе бывает больше положенного, целая несметь, а сейчас ни одной, непроглядная чернота, огромная страшная дыра, просверлённая в иной мир. Как правило, ночь бывает полна шорохов, топота, писка, жизни – разных, в общем, звуков, когда кто-то кого-то ест, кто-то кого-то преследует, звери жалуются друг другу на тяжёлую жизнь, хвори и отсутствие взаимопонимания в их среде, а тут и звери вроде вымерли – были они, жили, дышали, кушали друг друга, запивали мутной запашистой водой из недалекой речушки, которую нельзя пить людям, и вдруг не стало зверья. Хорошо, что рядом ещё Луноход находился – смышлёный белобровый кобель с узкой мордой, доставшейся ему от породистого папаши-охотника, но сам Луноход статью до папаши не дотянул – туловище его походило на обрубок, лапы были хоть и длинные, но слабые, шерсть разноцветная, одна половина головы – песчано-жёлтая, с седым отливом, другая чёрная, с ночной синевой, шкура Лунохода будто бы была сшита из разных кусков; что оставалось на столе полупьяного криворукого портного, то портной и пустил в ход.
Пришёл пёс к ребятам от душманов. Недалеко от колпака рассеяли банду в сто с лишним стволов. Когда подбирали трофеи, из камней, прижимаясь к земле, извиваясь по-рабьи униженно, вымаливая прощение и прося подарить жизнь, выползла собака. Вид у неё был такой, словно собаку пробило осколком. Игорь Калачёв оторвался от группы, ощупал голову пса, туловище, ноги: не ушиблены ли?
– Ты чего? – недовольно спросил его майор из штаба полка, командовавший операцией.
Калачёв не ответил. Кто-то из ребят рассмеялся.
– Он же немой! С детства не научен говорить.
Собака была цела, просто она чувствовала себя униженно. Калачёв погладил собаку по голове, и та поднялась на ноги. Раздался смешливый голос:
– Луноход!
Несуразна была укороченная собачья фигура, пёс действительно походил на лунохода. Кличка пристала к бывшему душманскому сторожу.
Служил Луноход ребятам верой и правдой, душманов ненавидел люто, определяя их по запаху, ведомому лишь ему одному, – если неподалёку от колпака появлялся декханин с мотыгой в руках и Луноход начинал с простудным шипением скалить зубы – значит, этот декханин двадцать минут назад бросил автомат. Лаять Луноход не умел, с шипением скалил зубы, будто в нехорошей улыбке, и молча кидался на недруга – характер у Лунохода был такой же, как и у его покровителя, никто не слышал голоса этого короткотелого некрасивого пса.
Луноход никогда не ошибался: человек, к которому он совершал скользкий бросок, обязательно оказывался душманом.
Нет, всё-таки Игорю Калачёву и сейчас интересно: как Луноход отличал душманов от недушманов? Ведь к солдатам приходили люди, ничем не отличающиеся друг от друга, душманы и недушманы, и пёс на недушманов не скалился – они действительно не были душманами, хотя и носили оружие, крестьяне из отрядов самообороны, Луноход относился к ним дружелюбно, кротко повиливал хвостом, а появлялся иной улыбчивый человек в чалме и халате – и Лунохода приходилось сажать на верёвку.
И как он только определял душков, по запаху, что ли? Либо по каким-то иным, неведомым людям приметам? Из солдат он почитал одного Игоря, готов был сутками ходить следом за ним.
В ту ночь Игорь пополз дежурить в выносной окопчик. Луноход так же, как и Игорь, на брюхе, в кровь обдирая мелкие коричневые сосцы о твёрдую землю, пополз следом: ребята только подивились, как ловко пёс копировал человека.
Днём в колпаке была работа – вгрызались в землю, рыли почти без перекуров, потому что знали: чем раньше зароются, тем будет лучше, разведка предупредила, что через два дня тут пройдет крупная банда, колпаку предстояло перекрыть ей дорогу. А держать бой лучше, зарывшись в землю, уплотнив свою плоть её плотью, прикрывшись ею, – вкалывали так, что даже тем, кто уходил ночью в засады, не удавалось отдохнуть.
Ночь опустилась быстро, в несколько минут – длинные тени от каменистых холмов начали стремительно увеличиваться, соединяться друг с другом, вытеснять светлые рыжие окошки, и едва Игорь успел добраться до окопчика, как сделалось темно, а точнее, черно, совсем черно. Игорь в этой черноте растворился, будто малая таблетка в огромном пузырьке чернил.
Поудобнее улёгся в окопчике, послушал тишину, в которой не было ничего недоброго, подумал: «Это пока ничего нет недоброго, пока! А через два дня тут небо сплюснется с землёй, камни будут жариться, как яичница на сковородке, – вздохнул тяжело. – И когда же эта чёртова война кончится?» Отзываясь на вздох хозяина, также тяжело, протяжно и понимающе вздохнул Луноход. Игорь Калачёв прижал пса к себе – Луноход, словно бы того ожидая, притиснулся к нему покрепче. Вдвоём теплее.
Вспомнилось, что в общежитии училища, которое находилось в их селе, девчонки холодными зимними ночами обкладывались, извините, кошками – кошек в общежитии было видимо-невидимо, самых разных, – с этими ласковыми пушистыми колобками им спалось много теплее.
Черна ночь, опасна. Вначале полая была, тихая, никаких звуков, а потом словно бы плоть обрела и с плотью потеряла немоту; лежит Игорь с автоматом, вслушивается в ночь, иногда ощупывает её особым биноклем, в котором чернота разреживается, делается сетчатой, серой – бинокль этот специально для ночного видения предназначен, – старается Игорь зацепить что-нибудь, засечь ползущего человека, верблюда, идущего по низине с тюками на спине, но нет, неподвижна земля. Часы дежурства изматывают, в голове начинает что-то попискивать, поскрипывать, словно там завелась некая голосистая птичка, и чем дальше – тем больше звуков, начинает шуметь лес, монотонно крапать дождь; внутренние звуки расслабляют, убаюкивают человека. Игорь ещё раз обшарил пространство биноклем, отметил, что пустота ночи однообразна, пожалел о том, что внутренние звуки заглушают звуки земли, царапанье и шорохи змей, ящериц, мышей, тявканье лис, хотел что-то сделать с собой, взбодриться, но вместо этого, убаюканный, пригретый тёплым телом Лунохода, положил голову на автомат и отключился.
Что он видел в этой короткой одури, которую и сном-то нельзя назвать? Ничего. Был провал – длинный-длинный, наполненный какими-то неясными, высветленными изнутри тенями, тени двигались, сопровождали долгий полёт Игоря; в сторону, словно бы выбитые прикосновением ножевого лезвия к наждаку, летели искры, роились, горели печально, гасли.
Прошло немного времени, минут семь-восемь, и Луноход забеспокоился, привстал в маленьком каменном окопчике, поглядел на хозяина, потом ткнулся носом в темноту и с шипением ощерил зубы, шерсть у пса вздыбилась на загривке – что-то он видел в ночи… Лапой Луноход потрогал хозяина, надеясь, что тот очнётся, поскрёб по рукаву старой, выжаренной до бумажной тонины десантной куртки, но был тяжел и длинен полёт Игоря по тёмному провалу; он был словно бы мёртв, этот человек, продолжал лежать, пристроив голову на автомате. Луноход опять ощерил пасть, высунулся из окопа, ловя ноздрями чужой запах, засекая острым взором движение совсем недалеко от окопчика.
К окопчику ползли четверо. В чалмах, в куртках из плотной ткани, с жёсткими лицами, наученные всё делать бесшумно, вооружённые ножами и автоматами. Перед проходом группы, появившейся раньше, чем её ожидали, эти люди должны были снять колпак, к которому аллах неожиданно оказался милостив, и то обстоятельство, что аллах был милостив к кафирам – неверным, несколько озадачивало душманов.
Пёс вновь с шипением оскалил зубы, поскрёб лапой по плечу Игоря Калачёва, тот не шевельнулся, не издал ни одного звука – ну хоть бы промычал что-нибудь в ответ, знак подал, застонал либо проворчал, живой ведь всё-таки человек. Луноход высунулся из окопа, растерянно забрался назад, опять оскалился – душманы были уже недалеко. У Лунохода на глазах даже слёзы появились – пёс понимал, что происходит, точнее, понимал, что может произойти, заранее страшился этого, корябал лапой по плечу человека, тыкался в него носом, страдал. Тиха была ночь – ползущие люди не издавали ни единого звука. Было слышно, как гоняется за мышами лисёнок, как шуршат в сухой траве, позванивают окостеневшими былками две влюбленные гадюки, как ворочается в своей норе суслик. Вот над норой со свистом промахнула большая ночная птица, и испуганный суслик мгновенно затих, через секунду встрепенулся, зашуршал вновь… А под ползущими людьми даже трава не шуршала, они были словно бы бестелесны.
Пёс жалобно прижался к Калачёву, он будто бы хотел прикрыть его коротким некрасивым телом, дохнул ему за воротник, вздох был горячим, слёзным, словно эта собака могла плакать, и вроде бы прощальным – пёс молил Игоря проснуться, но Игорь Калачёв не проснулся, что-то с ним произошло, и Луноход, понимая, что надо действовать, надо защищать беспомощного, самого себя предающего человека, поднял морду к чёрному небу, ощерил пасть, потом легко выпрыгнул из окопчика и, дробно опечатывая лапами землю, понёсся на душманов.
В Луноходе происходили какие-то перемещения, видать, этому способствовал стремительный бег, в горле вдруг начали прокатываться, стукаться друг о друга свинцовые пули, глухой чужой стук этот ширился и неожиданно перерос в хриплый отрывистый лай. Пёс обрёл голос, расколол им ночь и сам удивился этому – не знал он, что может лаять, способности подавать голос Луноход лишился ещё в детстве, в щенячьем возрасте. Он взлаял сильнее, громче, торопясь разбудить хозяина, торопясь оповестить тех, кто находился в колпаке: ребят, кормивших его говяжьей тушёнкой, консервированной картошкой, пустые банки из-под которой остро пахли кислым, больно шибали в нос, угощавших колбасой, белым хлебом и салом – делились всем, что получали, различия не было, и то, что всё делилось на равных, пополам, без различия, кто просит поесть – человек или собака, радовало Лунохода, вызывало восторг. Пёс понимал, что он должен отплатить людям добром за добро, за то, что они кормили, поили, ласкали его, он знал, что такое пули и боль, – неверно говорят, будто животные не чувствуют приближения смерти, не ощущать её могут, наверное, только насекомые-однодневки. Луноход понимал, что ещё секунда-другая, и с ним произойдет нечто такое, о чём он ещё не знает, видел, но сам никогда не испытывал, из глотки его вместе с лаем вырвалось предупреждающее шипение, рычание, на ходу он споткнулся о камень и больно отбил себе правую переднюю лапу. В следующий миг навстречу Луноходу выплеснулись три цветные струи, чуть запоздав, ударила четвертая.
Пули превратили Лунохода в крошеную капусту, пёс умер прежде, чем успел ощутить боль, но успел, правда, понять одно: он смог добром отплатить людям, сделавшим для него добро, они будут благодарны ему за это, душа его вмиг опустела, обратилась в мелкое, слабо посвечивающее облачко, которое в следующую секунду растворилось в ночи, а тело расстрелянного пса ещё долго катилось по земле, булькало выхлестывавшей из пробоев кровью, сгребало пыль вяло мотавшимися лапами.
Ночь распорола тяжёлая пулемётная очередь – ударил наряд из колпака, заработал автомат проснувшегося Игоря, трассирующие пули скрестились на твёрдом земляном пятаке, где находились душманы, перепилили пятак на несколько долей, разошлись, затем снова сошлись и снова перепилили землю – четвёрка душманов осталась лежать, сухая каменная земля вобрала в себя их кровь и в тот же миг опять сделалась сухой, как вобрала она в себя и кровь Лунохода и тоже сделалась сухой. Всех примирила земля, объединив на прощание в неразделимое целое, хотя хоронили пса и душманов совсем в разных местах.
Только после того, как кончилась стрельба, Игорь Калачёв понял, что пёс – несуразный, страшноватый, словно бы сшитый из разных пород, составленный из разных кусков и заплат, не ведавший человеческой речи, но знавший человека, – спас его. Не заслони он собою Игоря Калачёва – Игорь погиб бы. Игорь вытер ладонью глаза – ладонь стала мокрой.
Ночь по-прежнему была тиха и черна. Недалеко, остро, почти стеклисто позванивая окостеневшей травой, проползла змея. Калачёв взялся за бинокль ночного видения, провёл им по земле, но ничего не увидел – всё было размыто, двоилось, троилось, растекалось мокрым мутным пятном.
Демобилизовавшись, Игорь Калачёв пошёл работать в пожарную охрану райцентра. Нервы у него были хорошие, спал он обычно без снов – ни единой картинки, проваливался в сон, будто в омут, как и тогда, в мелком неудобном окопчике, но вот ведь как – иногда он видел длинную белобровую собачью морду, печальные, широко поставленные глаза, чёрную грушу носа с чувствительными дульцами ноздрей, и ему больно сжимало грудь; сердце, почти всегда неощущаемое, как у всякого здорового человека, начинало колотиться гулко, вразнобой – пропадал в его работе обычный порядок, всё пропадало, тело прокалывало зарядом электротока. Игорь просыпался и остаток ночи проводил с открытыми глазами.
Война сильно меняет психологию людей – раздражительный становится спокойным, даже чересчур спокойным, и это состояние, увы, болезненное, спокойный, наоборот, возвращается домой дёрганым, нервным; никогда не хворавший в военные будни, начинает хворать в мирную пору, в кою кажется – живи да живи, отдыхай, набирайся сил, а силы эти уходят и уходят, слабеют лёгкие, сердце, печень, почки, всё вдруг начинает отказывать, человек прижимистый делается широким, вольным в жестах, особенно в тех, когда надо бросать деньги, – война многое переворачивает с головы на ноги. Изменила ли война Игоря Калачёва?
Человек, в общем-то, замкнутый, он сделался ещё более замкнутым, и раньше-то мало говоривший, сейчас вообще перестал говорить, совсем закупорился в своей раковине. Мать, озабоченно сводя брови на переносице, допытывалась у сына:
– Может, за тобой вина какая-нибудь имеется, а? Там, в Афганистане, а? Имеется или не имеется?
В ответ Игорь молча качал головой – никакой вины за ним нет. На лбу у матери возникала длинная глубокая морщина, делавшая её лицо горестным и одновременно изумлённым.
– А может, ты влюбился?
Вновь знакомое отрицательное движение головы – нет.
– Тогда почему бы тебе не влюбиться, а? – Мать садилась на табуретку рядом с сыном, устроив на коленях тяжёлые, совсем не женские, со вспухшими зеленоватыми венами руки. – Сколько у нас бегает хороших девчонок… Самых разных, а? Ведь пора уже, Игорёша, сам видишь. Дальше будет труднее – привыкнешь, оглядываться начнешь… А?
Молчал Игорёша, и мать, понимая, что попыталась забраться в запретную зону, в дело очень деликатное и тонкое, вздыхала подавленно, уходила на кухню.
Работы в райцентре было немного – пожары в небольших посёлках случаются редко, народ тут живёт бдительный, с огнем шуток не шутит, со спичками не играет – знает, что случается, когда его превосходительство огонь вырывается из-под контроля, и добрым ведь бывает этот генерал и злым, и молятся ему, и ругают, но если уж огонь взыграет над крышей какого-нибудь дома, то на пожар наваливаются всем миром. Кто с чем – кто с ведром, кто с тазом, кто с железными граблями, а кто и просто с мокрой тряпкой, всё зависит от подготовленности граждан к стихийным и прочим бедствиям.
Тянулись дни, очень похожие друг на друга, единственно чем отличающиеся – погодой. Мать вздыхала, сводя брови к переносице.
– Может, тебе лучше в город определиться, чем сидеть в райцентре, а? Село, ведь оно и есть село. В большой город, в областной, или даже ещё больше – в Москву, например… Там всё другое. А, Игорёша?
Игорь молчал – нет, не подходит ему большой город, здесь лучше.
– Тогда, может, тебе на учёбу поступить, а? В институт. Пусть будет педагогический. Очень представительная и уважаемая профессия – учитель. Все шапки сымают. А?
Идея Игорю Калачёву понравилась, институт – это хорошо, но только не педагогический, мать видит только одну сторону учительского дела – «представительную и уважаемую», а есть и другие стороны, Игорь их знает, поскольку сам только недавно окончил школу, в памяти всё ещё свежо, лучше уж вуз инженерный. Строительный, например. Он покивал молча и достал с полки старые школьные учебники, раскрыл один – историю, последнюю часть, за десятый класс, подержал минут двадцать на коленях с хмурым, отчуждённым видом, немо шевеля губами, потом снова молча наклонил голову. Насчёт института он был согласен с матерью.
За учебниками он просидел до самого дежурства. Поднялся, когда надо было уходить на работу. Мать прокричала ему вдогонку:
– А может, учебники с собой возьмёшь? На работу, а? Свободного ведь времени – прорва. Позанимаешься. Наука любит, чтоб ею каждый день занимались. Возьми учебники-то! А, Игорёша?
В ответ Игорёша молча помотал головой – он не собирался путать домашние заботы, пусть даже такие важные, как поступление в институт, с работой. Мать, горестно смежив губы, долго смотрела ему вслед – не нравился ей сын, не нравились его отрешённость, замкнутость, его непонятность – никак она не могла разгадать Игоря, раньше он был ей родным, а сейчас стал далёким. Что происходит?
В тот вечер в райцентре случился пожар.
На отшибе стоял старый дом, ветхий, с ломкими таинственными линиями. Как всякий древний дом, он имел своё прошлое и свои загадки, в нём не было центрального отопления и водились привидения. Прописанная в доме угрюмая бабка Ветошица наотрез отказывалась от центрального отопления – жила, целиком полагаясь на привидения и печку, – топила свою голландку углём, кизяками, дровами, чем придется; печка и грела Ветошицу, и от болезней спасала, и радость в душу вселяла, и кормила, а разве, извините, сможет кормить бабку громоздкий чугунный радиатор водяного отопления старой конструкции, который определили во все дома, кроме двух каменных особняков хозяев райцентра? Понятно вам, в чем дело? То-то и оно.
Старики и пожарные знают: когда топишь печку чем попало, в трубе, в отсеках и изгибах дымохода обязательно образуется, горючей налипью напластываясь на стенки, клейкая, блестящая, словно смола, сажа. Сажа эта на обычную сажу похожа мало и обладает свойством загораться – вспыхивает, будто порох, горит горячо и долго, поднимаясь над трубой высоким жёлтым столбом. Случается, от горящей сажи и кирпичи рассыпаются, и крыша загорается – в доброй половине всех случаев горит, особенно если изба покрыта дранкой или соломой, а если крыша «негорючая» – допустим, железная, то полыхают перекрытия. Потому и чистят трубы – испокон веков так повелось, а в Прибалтике это делают до сих пор. В Прибалтике, но не в России… Что до Прибалтики бабке Ветошице – кряжистой, с лиловым, плоско расплывшимся лицом старухе, недоброй, словно столетняя бессмертная колдунья, что никак не может умереть. Да, впрочем, самой бабке было, кажется, не менее ста лет, она никогда не отрывала взгляда от земли и не смотрела людям в глаза, всё в землю да в землю, словно бы моля, чтобы земля наконец забрала её к себе.
Под вечер бабке стало холодно, она и вздумала подтопиться. Не посоветовавшись с привидениями, накидала в печное нутро поленьев, плеснула керосина, чтобы пламя быстрее разгорелось, и послушное пламя разгорелось: в трубе словно бы граната хлопнула, чуть не разворотив дымохода, несколько кирпичей свалилось в печной под, а вверх с паровозным гудением понёсся жёлтый, плохо пахнущий дым, через несколько секунд дым был вытеснен голодным голосистым пламенем. И пошло, и пошло!
Бабка выскочила из избы, всплеснула руками, ощутив жар, мелкой жгучей искрой сваливающийся на неё с неба, вздернула руки вверх, призывая бога смягчиться, простить старую грешницу, но, видать, здорово провинилась колдунья – молитва не дошла до адресата. Не только она была виновата – привидения тоже. Ветошица захватила побольше воздуха в рот, метнулась в избу, уже наполненную дымом, чёрные кудрявые струи ползли из всех щелей, длинными хвостами тянулись к земле, норовили укусить Ветошицу, но старуха, надо отдать должное, умело увёртывалась от них, вытащила из избы фибровый, с поехавшими в разные стороны боками чемодан, узел с постелью и полотенцами, следом вынесла чайник и тяжёлую стопу грязной посуды, будто Ветошица только что выпроводила из избы дорогих гостей и не успела вымыть тарелки, но стопа эта набиралась долго, потом выволокла ещё один чемодан, за ним изящный, с ловко выгнутой спинкой венский стул, затем хотела ещё что-нибудь вытащить, но сверху на дверной проём опустился жаркий жёлтый полог. Пламя облизало порог, и порог загорелся. Ветошица заголосила.
К дому её дружно понёсся райцентровский люд, кто с чем. Земля задрожала от топота многих ног.
Подоспела и пожарная машина, чуть ли не с ходу ударила струёй по ветхому домику, пытаясь спасти бабкино жилье, но спасать было поздно – изба была обречена с первой минуты, когда Ветошица плеснула в печку керосина. Бабка, похоже, осознала это и стояла теперь молча, неподвижно, с вялым отрешённым лицом, скрестив на груди руки. Глаза были привычно опущены к земле.
Внутри дома что-то ударило, звук был гулким, многослойным, кажется, привидения уселись в ракету и отбыли в неизвестном направлении, а может, рухнула одна из притолок, за первым ударом последовал второй – старому строению приходил конец. Лицо бабки вздрогнуло и замерло. Изба словно бы приподнялась над землёю, всем показалось, что дом вот-вот поплывет, раздался третий удар, на третий удар бабка уже никак не среагировала, лицо её осталось неподвижным, видать, что-то в Ветошице окостенело, умерло, и вообще сама она в эти секунды обратилась в кость.
Раздался вой, похожий на волчий, высокий – так волки воют на луну. Вой доносился из дома.
– Кто там у тебя, бабка? – выкрикнул командир пожарников, совсем ещё юный, одетый в брезентовый плащ, очень похожий на лейтенанта, начальника патруля, с которым Игорь Калачёв ходил когда-то по кабульским дуканам.
– Кобель, – преодолев саму себя, нехотя отозвалась Ветошица.
– Где кобель, бабка? Спасать кобеля надо!
– Лях с ним, пускай горит, – по-прежнему не отрывая взгляда от земли, злым голосом проговорила Ветошица.
– Бабка! Окстись! Креста на тебе нет! – раздражаясь и одновременно удивляясь тому, что слышит, вскричал командир пожарников и обеспокоенно покрутил перед собою рукой. Лицо его, освещенное пламенем, было словно бы отлито из красного металла, напоминало лик древнего героя, жившего в Греции либо в Риме, глаза от неверия в то, что он услышал от Ветошицы, тоже сделались металлическими, красными, плоскими.
– Есть на мне крест, есть! – глухо, будто бы изнутри, чужим голосом проговорила Ветошица, и это тоже удивило пожарного начальника: люди, у которых горят не избы – горят всего лишь какие-нибудь жалкие пристройки или сараи, и то в голос кричат, ничего не соображают, потом от горя валятся наземь, и их приходится откачивать, а у этой горит дом, через полчаса бабка по миру пойдёт, но разговаривает жёстко и вполне трезво. Ну Баба-яга, настоящая Яга, Костяная Нога! Не успел начальник ничего скомандовать, как в огонь, отзываясь на очередной всплеск собачьего воя, метнулся Игорь Калачёв.
– Ты куда? – вскричал начальник, но Игорь не услышал его; прикрывшись от огня рукавом – детское движение, которое до самой смерти живёт в каждом из нас, – он нырнул в горящий дверной проём. Начальник кинулся следом, сделал несколько шагов и остановился. Приказал, чтобы водяную струю перенесли с крыши на дверь. Вдогонку Игорю ударил мощный жгут воды, сбил жёлтую простыню с двери, из проёма вылетели чёрные, похожие на смятые тряпки лохмотья пепла.
Бабка Ветошица оторвала глаза от земли и с интересом посмотрела на страшную чёрную дверь, губы её шевельнулись, поползли в сторону – то ли молилась бабка, то ли ругалась, поди пойми. Отзываясь на немую бабкину речь, в доме вновь что-то тяжело ухнуло, следом по-волчьи тоскливо, предсмертно завыла собака. Струя воды била теперь только в проём, оттуда всё время летели чёрные ошмётья, ветхий бабкин дом на глазах превращался в пепел.
Облака на вечернем небе, словно бы вобрав в себя пламя, тоже сделались горячими; изнутри, прорвав тёмную рыхлую ткань, проступила желтизна, заиграла, заклубилась весело – небу не было дела до земного горя, – с радостным шумом откуда-то принёсся ветер, сгреб ошмётья пепла в кучу, поднял над землёй и поволок в угол, ведомый только ему одному. Застыло время. Под порывом только что ушедшего ветра, одинокого и хмельного, погнулась, сделалась рыжей и костянисто-колкой, как в афганских равнинах, трава. Приникнув раз и навсегда к земле, она так и не выпрямилась. Впрочем, если говорить об Афганистане, никто из тех, кто находился сейчас подле горящего бабкиного дома, не знал, какая трава растет на «ридной Афганьщине». Наверное, такая же, как и везде. Знал только Игорь Калачёв, но он как нырнул в огонь, так и не выныривал оттуда.
В толпе, не выдержав, заголосила какая-то баба – что за баба, чья конкретно, не разобрать. Пожарный начальник забеспокоился – Игорь Калачёв долго не выходил из огня, – выругался про себя, молодое лицо его постарело, сделалось жёстким, он махнул подопечным рукой, командуя, чтобы струю подали на него, и, подскочив к дымной двери, загородившись так же, как и Игорь, от жара рукой, скрылся в доме, но тут же вынырнул назад. Пригнувшись, повалился на траву, захватил ртом свежего воздуха. Встал.
В проёме показался Игорь Калачёв. На руках он держал собаку с пережженным обрывком веревки на шее.
– Ай да бабка! – выкашлял из себя дым пожарный начальник. – Даже в доме собаку держала на привязи. Ну! – отплюнулся он зло, хотел выругаться, но вместо этого лишь махнул рукой. – Пережиток капитализма!
Ветошица даже не шевельнулась, не оторвала глаз от земли.
Пёс, спасённый Игорем, мокроглазый, боязливо скулящий, имел странный вид, словно бы и не псом он был: туловище короткое, чуть косо обрубленное, лапы длинные, словно у козла, беговые, как говорится, голова лобастая, широкая, посередине разделена ложбиной, будто у медведя, и украшена ярко-седыми, почти светящимися на чёрной морде бровями, шкура пятнистая, ровно бы и не собачья.
– Во животное! Помесь табуретки с хорьком, – ахнул кто-то. – С луны в бабкин дом, видать, прямым ходом свалилось когда-то. Умереть можно от страха.
И действительно, может быть, права Ветошица – стоило ли спасать кобеля? Не то разведётся такая порода, распространится по свету – никакого угомону тогда не будет. Умрём в страхе.
– А ну, умолкните там! – выкашлял из себя вместе с остатками дыма пожарный командир. В следующий момент к месту, надо заметить, применил старый и давно угасший лозунг: – Болтун – находка для врага!
Острые, с тёмным медовым отливом глаза Игоря сделались яростными, чужими. Плащ на его плече был разорван.
– Что это? – спросил командир.
Игорь не ответил, поморщился болезненно и погладил собаку по голове. Лицо его ослабло, сделалось печальным и чужим, будто Игорь Калачёв познал нечто такое, чего никогда не дано было познать другим, глаза угасли (ярость в добром человеке никогда не бывает долгой, она живёт только в злых людях), крупные африканские губы дрогнули, расползлись в сожалеющей улыбке – он не хотел привлекать к себе внимание, всегда стеснялся и избегал этого, а тут невольно очутился в самом центре. Болело плечо – ударило горящим косяком, неожиданно упавшим на него, но вот ведь как – сейчас ему было много легче, чем, допустим, десять минут назад, сползла с души некая злая короста, отсохла отжившая своё болячка.
– Ты чего улыбаешься? – разозлился командир. – Тебе в больницу надо, а ты улыбаешься! Сильно задело? – и вдруг, словно бы что-то почувствовав, не выдержал, улыбнулся сам.
Скособоченный бабкин домик перестал дымиться, угасла мощная водяная струя, подаваемая машиной. Бабка стояла с отрешённым лицом, широко оттопырив локти и прижимая к животу какую-то безделушку. Подбородок Ветошицы дрожал – она, не осознав пока всего происходящего, неожиданно осознала одно: ночевать ей будет негде.
Но не случалось ещё на Руси такого, чтобы погорельцу негде было ночевать, обязательно найдется добрая душа, предложит кровать и подушку. Бабку Ветошицу увели две сердобольные женщины, вещи её, кряхтя, унесли два широкоплечих мужика, похожих друг на друга, как родные братья, – мужья этих женщин. Калачёв держал собаку на руках, не опускал на землю, а перед ним, словно бы восстав из ничего, из сна или из бреда, вновь – в который уж раз – возникли душная афганская ночь, тяжёлое небо, сухой змеиный треск, подбородком он почувствовал нагретый металл автомата, ушибленным плечом своим – тепло живого существа. Повлажневшими глазами покосился – уж не Луноход ли?
Калачёв втянул сквозь обваренные дымом губы воздух, остудил рот, подумал горько, осуждая самого себя: ничто в жизни не повторяется, и если возникает что-то похожее, может быть, даже точно, один к одному скопированное, то вновь возникшее не будет, увы, повторением, как спасённая собака не повторит Лунохода, а собственная боль не перекроет никакой иной боли – той же бабки Ветошицы, к примеру. Не повторяются ни люди, ни вещи. Не повторяются дожди, ночи, грозы, радуги, не бывает одинаковой вода на речном перекате, не повторяются предметы, даже если они сделаны из одного и того же материала, не повторяется радость, не повторяется подлость – каждый раз будет что-то новое. Но не старое.
И всё же ему легче – жёсткий обруч, сковавший тело Калачёва, голову, виски после той тяжелой ночи, ослаб, обжим невидимого железа перестал быть опасным, ощущал он сейчас себя человеком, к которому неожиданно пришло второе дыхание, всё Игорь видел, всё слышал, всё чувствовал, ощущал множество запахов – десятки, сотни. Впереди предстояла долгая дорога – вся жизнь, собственно, – и многое ещё выпадет на этой дороге, и хорошее и плохое, но то, что было, уже не повторится…
Сын депутата
Я сидел в небольшой, плохо проветриваемой комнатке сборного солдатского барака, именуемого модулем, в котором располагался штаб полка, читал письма, присланные в Афганистан матерями, отцами, любимыми девушками ребят-«афганцев», читал ответы командира полка и его зама по политчасти и с горечью осознавал, что судьбы многих людей, прошедших афганскую молотилку, никак не повернуть вспять, не проиграть вновь, как магнитофонную ленту, ничего в них не изменить – поезд ушёл, время ушло, всё ушло. Остались лишь пятна, следы. Боль, недоумение, тоска – пятна, пятна, пятна, все одинакового цвета, принадлежащие одной шкале человеческих эмоций. Да, собственно, другого война не может предложить, если бы могла, то тогда и войны были бы схожи с праздниками, с весёлыми карнавалами, а так война – это война…
Иногда в комнатку заходил командир полка Корпачёв, некрасивый, тяжеловатый в движениях, с прямыми костистыми плечами, словно бы специально существующими для того, чтобы на них наваливать тяжести побольше, и жизнь наваливала их на Корпачёва, наваливала от души, другой бы не потянул, а он тянет – спокойный, с умным внимательным взглядом подполковник. Корпачёв глядел на вороха писем, спрашивал одними глазами, не нужна ли помощь, получал такой же немой ответ и покидал комнатку.
А я продолжал читать письма – мне надо было сделать материал об Афганистане по письмам. Чтобы прикрас никаких не было, никакого газетного геройства – надлежало рассказать всё, как есть, как было, со слезами и с заботой, безыскусно, без литературных натяжек. В письмах было много жалоб на то, что убитых ребят хоронят на Родине абы как, чуть ли не воровски, запрещая вскрывать гробы, без почестей, без людей, провожающих покойников в последний путь, с расплесканными эмоциями, с переживаниями, которые не то чтобы исчерпаны до донышка, они даже не были начаты, остались закупоренными в сосуде, с никому не нужными запретами, хотя ребята были героями, выполняли свой долг до конца и выполнили, и не их вина, что они попали в Афганистан. Горькие это были письма. И ответы на них были горькие.
В солдатском бараке было душно, пропитанная потом десантная куртка, одетая на голое тело, плотно прилипала, вызывала раздражение, сковывала движения, всё вокруг также казалось влажным и солёным – хоть выжимай. Даже стены модуля и те, кажется, надо было выжимать. Не работали ни вентиляция, ни кондиционер. Из-за аварии на ЛЭП, идущей из Суруби, не хватало электричества, дизельная станция полка была разбита из гранатомёта и теперь спешно ремонтировалась, – впрочем, всё это можно было терпеть. Нехватка электричества – это не нехватка боеприпасов. Когда нет «маслят», как тут зовут патроны, и нечем отбиваться, бывает хуже.
Одно из писем, довольно пространное, было отложено в сторону – Корпачёв попросил посмотреть его специально. Письмо было написано на хорошей финской бумаге, которую ни пот, ни влага не брали, почерк – властно стремительный, с сильным нажимом шариковой ручки, писал человек начальственный, при должности, привыкший, видать, к повиновению других, которому слабости человеческие, разные капризы душевные были чужды, так мне, во всяком случае, показалось: человека по почерку можно познать не хуже, чем по анкете. Анкета, она что, уведёт в сторону, выдаст лишь внешний рисунок, беспристрастные данные: родился тогда-то, в городе таком-то, окончил техникум или институт, к суду не привлекался, выговоров не имел, за границей не бывал, в оккупации тоже, а почерк не соврёт, он, если внимательно приглядеться и расшифровать, почти всё расскажет о человеке. Даже в подсчёте годов не позволит ошибиться.
Недалеко, на холмах сухо протрещала автоматная очередь, вторя ей, гулко два раза подряд пространство вспорол одиночными выстрелами крупнокалиберный пулемёт. Хоть народ здешний к стрельбе и привык, а всё ухом каждый хлопок ловит, старается понять, кто бьет, в каком конкретно месте, люди останавливаются, задерживают в себе дыхание, слушают, считают выстрелы – воздух перенасыщен звуками и запахом пороха, глядишь, само небо однажды не выдержит и взорвется алым бутоном, словно внезапно распустившийся цветок, только аромат у этого цветка будет совсем не цветочным.
Каждый, кто находился в солдатском бараке, повёл себя одинаково – и новичок, недавно прибывший из учебного полка, и старичок, добивающий положенные два года в Афганистане, – все напряженно вслушались: не раздадутся ли выстрелы ещё и не понадобится ли по тревоге покидать модуль?
Территория полка охранялась хорошо – на ближайших холмах были построены каменные колпаки, где десантники дежурили по двое, по углам вместо сторожевых вышек были выставлены помятые в боях гусеничные «беэмпешки» – боевые машины пехоты, а полоса, отделяющая полк от длинного прочного дувала, из-за которого по ночам били из автоматов душманы, была заминирована. Чтобы никто случайно не залез на эту страшную, начиненную жаром полосу, предусмотрительные десантники воткнули в землю фанерки с короткими выразительными надписями, да ещё на каждой фанерке полковой художник сделал изображение из категории тех, что рисуют на столбах высокого напряжения: «Не влезай – убьет!»
Выстрелы не повторились, пальба была случайной, вполне возможно, по какому-нибудь мелкотравчатому зверьку, неудачно вылезшему из норы, чтобы подышать воздухом, вот и подышал зверёк воздухом, теперь лапками подпирает небо либо икает от страха.
Письмо венчала замысловатая, в зубцах и кудрявых вензелях роспись, под которой в скобках стояло «В.П. Жислин», а через запятую было добавлено: «Депутат районного Совета». И что ещё бросалось в глаза – обратный адрес. В.П. Жислин жил на улице Петра Жислина.
Надо заметить, что в часть к Корпачёву было прислано не само письмо, а копия – письмо было отправлено в приёмную министра обороны. Это тоже кое о чём говорило, в частности, о характере автора – смелом, напористом, о способности, если понадобится, противостоять кому угодно, даже самому… вы понимаете, кто этот сам… и смелость эта была не просто неким безрассудным кухонным мужеством, позволяющим мужчине вести поединок у кастрюли, не той минутной храбростью, что заставляет его идти в атаку с автоматом наперевес или, не боясь пуль, спокойно выжидать за камнем свою минуту, а именно чертой характера, которая так же естественна, как способность передвигаться на двух ногах.
Хотя бывает, что люди, храбро воевавшие, увешанные крестами, очутившись дома, робеют и сжимаются боязненно от грохота кастрюль, от коридорного рявканья соседок, панически спасаются от них бегством, а едва увидев красный нос жэковского смотрителя, просто-напросто поднимают руки – бо́льших страхов и страстей, чем в быту, на кухне, в бане и в общественном туалете, для них нет. Вот и оспаривай после этого высказывание малоизвестного немца Бёрне, который заявил, что люди и суда обычно разбиваются близко от берега, а не в открытом море, где нужны ловкость и мужество, – действительно ведь, в море, в бою, в туманных далях мужественные люди чувствуют себя в своей стихии, суда спокойно режут пространство острыми форштевнями, моряки делают своё дело, а у берега, подвластного докерам и пьяницам, не могут справиться с пеной, мусором прибоя и разной пластмассовой дрянью, плавающей в воде.
Все мы часто встречаем пену, много пены – жизнь человеческая, увы, не всегда может быть удачной, она, как шутили в пору моей студенческой молодости, очень похожа на зебру, всё время одно чередуется с другим, светлая полоса чередуется с чёрной. Неудачи старят человека, успехи старят ещё больше, испытание успехом выдерживают единицы. А испытание войной? Слишком многие здесь умирают… Одно лишь справедливо: когда умирают молодые, они навсегда остаются в памяти молодыми, и есть люди, которые им завидуют. Представляете себе – завидуют! Но зависть эта ненормальная…
«Здравствуйте, глубокоуважаемый товарищ Министр!
Здравствуйте, товарищ командир в/ч 109063 “К” и весь Ваш командный состав.
К Вам с просьбой обращается Жислин Вадим Петрович. Мой сын Пётр Вадимович при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан погиб 16 июня 1985 года. Правда, прошло уже некоторое время со дня его гибели, но я, как отец, потерявший единственного сына, убедительно прошу Вас рассказать нам, родителям, при каких обстоятельствах он погиб. Ведь когда привезли его гроб, то нам даже не разрешили его вскрывать. Прапорщик, который привозил гроб, сказал, что Пётр погиб при сопровождении колонны.
Но, говорят, есть и другая версия. Дело в том, что в нашем районе один товарищ, который вернулся с выполнения интернационального долга, как-то по секрету рассказал, что сын наш Пётр был захвачен душманами и убит.
Мы просим написать всю правду, ведь мы знаем, когда душманы убивают наших солдат, то сильно над ними издеваются. Просим Вас написать всю правду про то, что он цел был или в гробу ничего не было. Мой сын Пётр окончил отлично 10 классов, после школы от военкомата окончил ещё одну школу – специальную, где обучают будущих солдат, экзамены сдал на “отлично”, у нас лежит благодарственное письмо за воспитание сына. Я сам лично и моя супруга не можем пережить такое горе, каждую неделю ходим на его могилу, с нами также постоянно ходят его одноклассники.
Ещё одна просьба. Я еще полон сил и могу приносить много пользы на службе Родине, но для этого мне нужна машина. Желательно машина “Волга”, у неё и проходимость выше и металл прочнее, чем у машин “москвич” и “жигули”. Я об этом прошу, как отец единственного сына, которого я потерял в Афганистане. Если нет “Волги” новой, то можно подержанную, которая прошла тысяч 10–12 километров. Но не больше 15. Когда 15, то “Волга” теряет свои качества, она для водителя чужая и может рассыпаться на дороге. Я об этом говорю, потому что я это знаю. Имел разные машины, в том числе и “Волгу”. Прошу о “Волге” не в порядке возмещения ущерба за сына, а потому, что хочу быть в строю. Я ещё много могу принести пользы.
Если бы мой единственный сын был жив, он одобрил бы мою просьбу – Пётр очень любил машины, и у меня вызвало недоумение, что в армии он стал рядовым солдатом, а не шофёром. Когда я думаю о нём, то не знаю, куда деваться, а моя супруга плачет. Напишите нам всю правду.
А машина нужна за тем, что я могу принести ещё очень много пользы. Если Вы справитесь в районе о том, кто я, Вам ответят – уважаемый человек, который умеет приносить пользу. А сына нет. Кто мне заменит сына?
Машина нужна для дела, чтобы государству оказывать помощь. И чтоб на могилу к Петру лишний раз съездить».
Насчёт машины Вадим Петрович Жислин адрес выбрал, видать, точный, ведь есть же в воинских частях «Волги», командиры на них ездят, машины, надо полагать, списываются после определенного срока, а раз списываются, то куда, спрашивается, они идут? Дорога у них одна – на продажу. Своим же, близким, так сказать, людям. Погибший сын давал право Жислину быть своим – Вадим Петрович отдал армии Петра, армия должна была хоть чем-то возместить дорогую потерю.
Вполне возможно, что по ночам Вадим Петрович стонал от боли, закусывал зубами угол подушки, чтобы не расплакаться, но когда слышал плач супруги, то не сдерживал себя – внутри отказывали тормоза, и он нёсся на большой скорости под откос, сердце обрывалось, поспешно покидало мертвеющее тело, из жизни ведь ушёл единственный зелёный росток, проклюнувшийся из земли и землею же взятый, с ним исчезла в холодной глуби и последняя надежда. А что он без надежды, Вадим Петрович Жислин?
Он долго пребывал в обморочном онемении, когда прапорщик с бледными, словно бы всосанными внутрь худыми щеками – такие щёки бывают только у больных либо тяжелораненых – привез серый, сваренный по рёбрам металлический гроб, вошёл в дом и молча поклонился Вадиму Петровичу и его супруге.
– Что, что, что? – тяжело задышала жена Вадима Петровича, взнялась над самою собой, тело её будто бы наполнилось водою, колыхнулось вяло, она слишком быстро всё поняла и безжизненно опустилась на стул.
Вадим Петрович не сразу понял, в чём дело, подумал, что это к нему явился проситель по депутатским делам – будет клянчить квартиру побольше, хотя забывает, что чином всего-навсего прапорщик, а не генерал, потребует работу для жены по какой-нибудь совершенно городской специальности, допустим, по части лечения домашних попугаев либо лаборантского баловства: брать пробы пыли, воздуха, воды, что в их селе совсем ни к чему, в их селе всё чисто, прапорщики испокон веков берут себе в жёны лаборанток, поморщился недовольно, не сразу уловил то, что мгновенно уловила жена, и охнул только, когда прапорщик проговорил медленно, почти механически, словно бы это ему приходилось делать каждый день, бесцветно, тщательно подгоняя друг к другу слова:
– Ваш сын, выполняя интернациональный долг, погиб в Афганистане.
Супруга Вадима Петровича убито молчала. Сменяя её, часто и горько задышал сам Вадим Петрович.
– Что, что, что?
– Я привёз тело вашего сына, – сказал прапорщик.
Простые слова, но какой страшной они делают минуту, в которой звучат, – такие слова слышит не всякий отец. Вадим Петрович неверяще помотал головой, крепко сжал сухие глаза.
– Ваш сын пал смертью храбрых, – сказал прапорщик. Он словно бы выполнял некий, уже знакомый ритуал, идя по его засечкам, словно бы по неким школьным ступеням, где ставят отметки, – по тому, как он будет произносить эти горькие фразы, ему будут выдавать жалованье, худое лицо прапорщика с тусклыми глазами и тёмными взлохмаченными бровками было бесстрастно.
– Как это произошло? – спросил Вадим Петрович.
– При сопровождении колонны, – ответил прапорщик прежним механическим голосом, и Вадим Петрович, несмотря на свою внезапную глухоту, на боль и тошноту, понял, что прапорщик чего-то недоговаривает, темнит, горько покачал головой.
– При сопровождении, говорите?
– У нас многие гибнут при сопровождении колонн. Из Союза ведь везём всё, до мелочи, от бензина до селёдки, идём сквозь контролируемую душманами территорию, а душки, отец, не спят… – Прапорщик, отклоняясь от разработанного сценария, вздохнул.
Лучше бы не было этого прапорщика! Не услышал бедный воин тех слов, что возникли в Вадиме Петровиче, – Вадим Петрович, вяло шевеля одеревеневшими губами, проклял его, слова проклятия были простыми, как вода, как воздух и хлеб, они родились в мозгу Вадима Петровича, прожили короткую жизнь и угасли.
Слышал Вадим Петрович, что у запаянных гробов, приходящих из Афганистана, есть маленькие окошечки, в которые можно поглядеть на лицо убитого. Прапорщик запретил распечатывать гроб, Вадим Петрович хотел бы хоть в страшное окошечко увидеть лицо сына, но гроб окошечка не имел. Вадиму Петровичу сделалось обидно, он хотел было сделать прапорщику замечание, но у того был такой вид, что замечания ему было лучше не делать: щёки втянулись внутрь больше обычного, отчего лицо совсем оголилось, глаза заблистали сталью, в них были сокрыты ярость, злость, ещё что-то сложное, недоброе, он сжал в кулаки пальцы, спиною прислонился к стене и застыл, будто в нём умерла жизнь. Прапорщик, сам разделивший со многими своими сослуживцами Афганистан, ходивший по минам и падавший в горящем вертолёте, не раз отстреливающийся от заросших, схожих с тенями душманов, был далёк от горя, от плача, раздававшегося в жислинском доме, и одновременно он находился в этом горе, он словно бы соткан был из материи, идущей на погребальный саван. То, что он уже разделил с другими, теперь разделял с семьёй Жислиных.
Похоронили Петра, так и не вскрыв гроба. Прапорщик уехал назад, к себе в часть. Супруга Вадима Петровича всё время плакала, горе подрубило её, смяло – был человек, жил, дышал воздухом, радовался и вот подрубили, не стало человека, не стало радости, всё исчезло, теперь, куда ни глянешь, всё залито слезами.
Горько было и Вадиму Петровичу. Ночами он просыпался от того, что во рту было солоно. Думал, что кровь, включал ночник, плевал себе в ладонь – крови не было, тёр пальцами глаза – глаза были сухи. Прислушивался к ночи, ловил едва приметные мышиные шорохи, неспешные пролёты филинов и сов, которые в окрестностях ещё, слава богу не перевелись, замирал, когда ему казалось, что филин вот-вот закричит, а крик филина, как известно, не к добру, это всё равно что похоронка, вздыхал, если слышал плач супруги – она плакала совершенно беззвучно, внутри у неё что-то натягивалось, сочилось тихо, прозрачная кровь проступала на глазах да ещё тряслась спина.
Потом на свежей ране образовалась защитная пленка – первый признак того, что рана зарубцовывается, появилась способность мало-мальски соображать. Прошло ещё немного времени, и Вадим Петрович, воспользовавшись депутатским правом, поставил вопрос о том, что именем погибшего сына-героя надо назвать улицу в их селе. Когда выступал на сессии, не удержался, глаза ему обожгло горячим, он заплакал, слепо отодвинулся назад от трибуны, скрылся за кулисами и минут пять не выходил, всё не мог успокоиться – его изнутри прокалывало током, он перестал видеть. Оглянулся один раз, другой, увидел, что его окружает темнота, в которой совершенно нет людей – ну ни одного человека, поглядел в зал – и хотя добрая половина зала была заполнена народом, а в президиуме вообще мест не хватало, людей тоже не увидел. Темнота, окружившая Вадима Петровича, прошла вместе со слезами, и он вернулся на трибуну.
Каждому, кто сидел в зале, было понятно его горе, каждый разделял с Вадимом Петровичем тяжёлую долю. Имя Петра Жислина было присвоено улице, на которой жили Жислины, в школьном музее организовали уголок погибшего, выставили его фотокарточки, тетради, два учебника и две книги из библиотеки героя – «Русские народные сказки» и томик прозы одного современного писателя. Добровольные экскурсоводы охотно рассказывали о русских народных сказках, считая, что истоки героизма могут быть сокрыты именно в этой нарядной многоцветной книжке, в ней и Пётр черпал мужество, но вот на другом томике часто спотыкались, не понимая, чем же этот литератор привлёк Петра Жислина. Одна девочка даже заявила, что это ошибка героя. Затем экскурсоводы переходили к тетрадкам Петра, сохранившимся в идеальном порядке, они были словно новые, в тетрадках стояло много пятёрок – младший Жислин хорошо учился, и энтузиасты-добровольцы пространно и охотно говорили о его школьных успехах. Недавно Вадим Петрович передал в музей школьную форму Петра, сказал, что форма напоминает ему живого сына – не мёртвого, а живого, он до сих пор не верит, что Петр мёртв, хотя каждый раз удерживается от плача, а вот жена… О жене и говорить не приходится.
Школьную форму Петра действительно было лучше держать в музее – такие вещи дома не хранят, но вот ведь Вадим Петрович, отдав костюм сына в музей, как-то сгорбился, угас, перестал походить на самого себя – может быть, он только сейчас до конца осознал, что произошло. Вскоре он написал письмо в приёмную министра обороны, копию прислал в часть, где служил Пётр.
Часть подполковника Корпачёва два дня назад вернулась с «войны» и отдыхала. «Войнами» здесь зовут любую боевую операцию, будь то малый поход в горы или широкое, развёрнутым фронтом, со знамёнами и барабанным боем наступление на гигантское ущелье, густо населённое душманами, – всё это «войны». Впрочем, широкие наступления с барабанами и картинным ходом изжили себя, в Афганистане их нет – прошла пора. За гусарство и картинность надо расплачиваться жизнями.
Ответ командира полка был пространным, больше, чем другие ответы, хотя воинские письма обычно отличаются лаконизмом и бесстрастностью – солдаты скупы на слова и чувства, – а тут Корпачёв изменил правилу, и это было оправданно.
«Уважаемый Вадим Петрович! – писал он отцу погибшего Петра Жислина. – Понимаю, как Вам и Вашей супруге трудно переносить потерю сына. Мне не хочется огорчать Вас, но, поскольку Вы требуете рассказать правду, я должен сообщить следующее. Начну с того, что прапорщик Власьев, который был командирован к Вам с гробом, запретил вскрывать гроб не потому, что тело Вашего сына было изуродовано, а в целях Вашей же безопасности. Дело в том, что в Афганистане существуют болезни, которые мы стараемся не пропускать через границу. Таковы требования карантинной службы нашей страны.
Все солдаты, которые служили с Вашим сыном, на нынешний день либо демобилизованы, либо направлены для прохождения дальнейшей службы в Советский Союз. Свидетелей гибели Вашего сына Петра Жислина нет, но по сохранившимся документам в штабе части хорошо известны обстоятельства его гибели…»
Корпачёв рассказал мне, что произошло. Он не стал чего-либо скрывать, не стал набрасывать на происшедшее маскировочную сетку. Худо говорить плохо о мёртвых, но Петя Жислин пришёл в часть пареньком избалованным – всё-таки единственный сын у родителей, которому всё было дозволено, в руки попадали самые сладкие куски, он говорил, что хотел, и делал, что хотел, умел жить на полную катушку, несмотря на свои девятнадцать лет и примерное школьное поведение, даже не верилось, что жил он в небольшом районном посёлке, а не в Москве, однополчане его считали, что Жислин – москвич и папа у него не скромный депутат районного Совета, а шишка важная, с толстым портфелем и чёрной лаковой машиной, но дети шишек в Афганистане не служат, они в армии вообще не служат, имея хорошее прикрытие, броню и знакомства в военкоматах.
Попал Пётр Жислин в комендантский взвод – тот самый, что в «войнах» почти не участвует, он всё больше по части караульной службы: охраняет штабы, склады, модули с мылом и портянками, в перерывах между бдениями под ружьём усиленно забивает «козла», с азартом молотя костяшками домино по массивным канцелярским столам. Жизнь комендантского взвода по сравнению с теми, кто ходит на «войны», скажем прямо, не самая худшая.
Солдаты наши – люди, которые в себе замыкаются редко, они общительны, доброжелательны к тем, кто протягивает им руку, делятся хлебом, сахаром, той немудреной воинской едой, что у них есть; если имеются домашние разносолы, то делятся разносолами – такова натура, воспитываемая уже бог знает сколько времени, четырьмя столетиями, как минимум. Встречаются, конечно, нелюди и буки – из старообрядцев, жителей глуши, до армии ни разу не повидавших паровоза, монахов и схимников, которым белый свет в тягость, но их так мало, что о них и говорить-то не стоит. Пётр Жислин относился к первой категории, он всегда тянулся к общению.
Познакомился, в частности, с четырнадцатилетним афганским пареньком – смышленым, зубастым, умеющим, несмотря на свои четырнадцать годков, объясняться и по-английски, и по-немецки, и по-чешски, и по-русски. Паренёк был из торговых помощников – таких работников полным-полно в Кабуле, в Газни, в Герате и Мазари-Шарифе, они помогают в дуканах седобородым дедам, зазывают покупателей, щепками малюют бумажные плакаты с надписями «Захади пожалойста! У нас самие дишовые кожаные пальто!», кувыркаются через голову, улыбаются, смеются, строят из себя чертей – словом, делают всё, чтобы завлечь покупателя в дукан. Если завлекут и тот что-нибудь приобретёт, пацан-зазывала получает от дуканщика бакшиш – монетку в пятьдесят пулей. В переводе на нашу неконвертируемую валюту это примерно пятак. Никто не знал имени паренька, с которым подружился Пётр Жислин. Когда паренька спрашивали, как его зовут, он вздергивал ладонь вверх, словно бы показывая её небу: в небе есть аллах, он всё знает, а шурави вовсе не обязательно знать имя простого афганского парня-бачонка. Бачонок, и всё. «Бача» по-афгански означает «паренёк», «сын», хотя такого языка, как афганский, нет – есть пушту, есть дари, но всё равно солдаты говорят «афганский язык». Слово «бача» тут знакомо всем, даже немым.
Паренёк был услужлив, открыт, много смеялся, мало рассказывал, тянулся к оружию, несколько раз приходил к Петру Жислину на банно-мыльный пост, и, поскольку посты у склада с мочалками и резервуарами воды незначительные, это же не у знамени стоять, Пётр допускал к себе нового приятеля. Паренёк, белозубый, улыбчивый, с искрящимися антрацитовыми глазами, источающими ласку и преданность, приносил Петру афганские лепёшки, сильно уступающие, по мнению солдат русскому хлебу, были они слишком пресными и быстро черствели (когда с пылу с жару, то ещё ничего, но стоило им немного обвянуть на воздухе, края у них тут же жестяно заворачивались и начинали слабо похрустывать), приносил разные безделушки, какими обычно бывает богато пацаньё, взамен просил пару автоматных патронов, ножик либо старый напильник, чтобы можно было немного поработать с металлом (у паренька имелась рабочая жилка, сидеть всю жизнь в дукане он не хотел) или просил кусок мыла, и Пётр ему не отказывал – и патроны давал, и мыло, и два ножика подарил, напильников подарил тоже два, оба были новые. В общем, паренёк нравился Петру Жислину, и Пётр Жислин нравился пареньку.
Однажды паренёк извлёк из-за пазухи конвертик. Обычный небольшой конвертик, раза в три меньше почтового, склеенный из плотной, глинистого цвета бумаги с блестящей изнанкой. Развернул конвертик и показал Жислину. Внутри был невзрачный белесый порошок, совсем немного насыпано, щепоти две-три.
– Хочешь? – спросил паренёк Петра Жислина.
– А что это? – довольно спокойно спросил тот, хотя уже понял, что за порошок предлагает ему афганский друг.
– Эт-та? – Паренёк пошмыгал носом, пощёлкал пальцами, искрящиеся антрацитовые глаза у него сделались лукавыми, брызнули жарким огнем. – Эт-та? – Он снова пощёлкал пальцами, словно бы не решаясь сообщить солдату, что за гостинец принёс на пост, лицо у него напряглось, залучилосъ ещё больше – а ведь верно, он не решался вот так, с ходу сказать Петру о порошке, – потом округлил ноздри и сверкнул свежими зубами. – От этого бывает очень хорошо! Понял?
– Гашиш, значит? – подумав, произнёс Пётр Жислин.
– Не знаю, как по-вашему называется, может быть, и гашиш. А по-нашему – насвар. На-ас-ва-ар, – повторил он, растягивая слово.
– Как пользуетесь?
– Как? Просто. Смотри! – Паренёк достал из кармана брюк небольшой газетный листок, восьмушку или, может быть, ещё меньше, из таких клочков бумаги солдаты когда-то на фронте крутили знаменитые «козьи ноги», способные своим дымом замаскировать, укрыть под спасительным пологом целый взвод, насыпал на листок немного белесого порошка. – Дальше вот так! – сказал паренёк и осторожно втянул ноздрями порошок. Напряжённое лицо его обвяло, сделалось девчоночьим, расцвело яркими красками, а глаза, наоборот, угасли, чтобы Жислин не видел глаз, паренёк прикрыл их веками.
– Интересно, интересно! – Пётр Жислин улыбнулся.
– Попробуй! – сказал ему паренёк и протянул пакетик.
Жислин взял пакетик.
– Значит, как это будет называться, повтори! Марихуана, анаша? Героин, дуриловка?
– На-ас-ва-ар, – улыбаясь, повторил паренёк, приоткрыл глаза, – очень хорошо себя чувствуешь, когда сделаешь вот так, – знакомо округлил ноздри и втянул в себя воздух.
– Давно этим занимаешься? – Пётр осторожно понюхал порошок, стараясь определить, чем он пахнет, может быть, какой-нибудь химией? Либо резиной, табаком, смолой мумиё, одеколоном, жжёной шерстью? Нет, порошок почти ничем не пахнул – тянуло от него едва приметной растительной сладостью, и всё.
– Не имеет значения, – ответил паренёк.
– Сколько это стоит? – Жислин двумя пальцами приподнял пакетик.
– Тебе, шурави, бесплатно. По дружбе.
Жислин закинул автомат за плечо, взял из руки паренька бумажку, чуть отсыпал в неё порошка и быстро, словно бы отсекая в себе все сомнения, втянул порошок в ноздри. Ноздрям, носу, рту, нёбу, глотке сделалось тепло, но это тепло быстро истаяло. Словно бы ничего и не было, словно бы он и не нюхал волшебного порошка.
– Может, это обычный мел? – растянув губы в улыбке и становясь похожим на большого белого повелителя маленьких сказочных человечков, спросил Жислин. – Или молотый стрептоцид – лучшее средство от насморка?
– Нет, это не мел, – ответно улыбнулся паренёк, – это то, о чём я тебе говорил, насвар. Я не обманываю. Ты понюхай ещё.
Солдат нюхнул, в глотке снова сделалось тепло, в перламутровой глади неба неожиданно что-то вспыхнуло, Жислин пригляделся – звёзды! Днём он видел ночные звёзды – надо же! Он начал считать их:
– Одна, две, три, пять…
Звёзд было много, всё не сосчитать. Жислину понравился порошок. Если раньше он ловил себя на мысли, что не надо бы ему подпускать паренька слишком близко, нужно оставлять чуть-чуть пространства, чтобы иметь возможность посмотреть на него сбоку и иметь место для замаха, если понадобится (вдруг этот паренёк – душманский сын или племянник?), то сейчас эти мысли исчезли. Паренёк для него неожиданно сделался единственной отдушиной в горячей, схожей с большой пыльной казармой стране Афгании, стал светлым пятном – не будь этого бачи, жизнь Петра Жислина была бы другой.
Однажды паренька на жислинском посту застал командир роты. Паренёк сидел на траве в двух шагах от Жислина и, подогнув под себя длинные, чуть ли не по колено вылезшие из штанов ноги, тихо и очень складно играл на маленькой дудочке.
– Это что за концерт? – изумился командир роты. Лицо у него сделалось таким растерянным и обиженным одновременно, что сразу стало ясно, почему он забыл отругать Жислина. – И кто это?
– Паренёк, товарищ капитан. Бача, афганский товарищ, – пояснил Жислин, словно командир роты имел сомнения насчёт того, что паренёк этот – на самом деле паренёк, а не переодетая коза. – Из города, бедный… Пришёл сюда, играет на дудочке национальные мелодии.
– Нар-рушение устава кар-раульной службы… – В голосе командира роты послышались грозные, рычаще-львиные нотки – он умел быстро брать себя в руки. – К-как этот бачонок попал сюда?
– Не знаю… – Жислин приподнял плечи. – На КПП, наверное, пропустили.
– Не могли пропустить, – совершенно резонно заметил капитан. – Наверное, сам через забор перемахнул или подлез под него. – И был командир роты, естественно, прав.
– Не знаю… – Жислин снова приподнял плечи.
– Что ты заладил: не знаю, не знаю! А кто знает?
– Не знаю. – Жислин засмеялся. – Действительно не знаю, товарищ капитан. Не буду же я в него стрелять… – Он покосился на паренька, переставшего дуть в дудочку и вслушивающегося в разговор с напряжённым лицом.
– Он что, разумеет русскую речь? – спросил капитан.
– Немного. Он вообще-то ничего товарищ, он и английский знает.
– Вполне может быть лазутчиком!
– Ну, товарищ капитан, какой из него лазутчик? Не больше, чем из меня мэр города Львова.
– Напрасно считаете, Жислин, что из вас не получится мэр города Львова.
– Я так не считаю, другие считают.
– Р-разговорчики! – вмиг потвердевшим голосом, словно бы вспомнив, кто он такой на территории воинского подразделения, проговорил капитан. – Чтобы этого бачонка в части больше не было! Ясно, рядовой Жислин?
– Так точно! – Жислин пристукнул десантными ботинками, каблуком о каблук, звук получился мягкий, какой-то тряпичный: десантная обувь выдается солдату не для того, чтобы звонко щелкать каблуками, приветствуя командира, в этой обуви солдат по-кошачьи бесшумно ходит по камням, карабкается, словно муха по вертикальным стенкам, и не срывается.
Капитан отметил старание Жислина и сменил гнев на милость.
– На первый раз прощаю, но чтоб этого больше не было! Если повторится, то пеняйте, душа Жислин, на себя, – не по-уставному, усталым, размякшим от того, что была поставлена точка, голосом закончил капитан, напоследок бросил одно только слово, которое объясняло и покрывало своей сутью всё: – Война!
Капитан взял паренька-дудочника за плечо, подмигнул ему свойски, словно приглашал в солдатский клуб – жестяный модуль, и зимой и летом нагревающийся так, что в нём невозможно было находиться, – выступить с концертом художественной самодеятельности, поскольку братская смычка и дружба солдат с местным населением – дело святое, и увёл с поста.
Паренёк ушёл с капитаном, даже не оглянувшись на Жислина, а Жислин до конца дежурства жалел, что не дослушал горькую музыку юного дудочника с ласковыми антрацитовыми глазами. Думал о том, что смычка с местным населением нужна обязательно и паренька этого нельзя терять: когда кончится служба, паренёк поможет ему достать джинсы. Все, кто уезжает из Афганистана домой, обязательно везут с собою джинсы. Товара этого здесь – горы: дешёвый, беспошлинный. Иногда джинсы можно выменять на пару тельняшек – местным неразборчивым торговцам очень нравятся десантные тельняшки. Ещё нравятся прочные солдатские ремни с яркими латунными пряжками. Когда седобородые бабаи видят их – светятся в улыбке, будто дети. Тельняшка плюс ремень с пряжкой – этого товара вполне хватит для того, чтобы получить хорошие, сшитые из настоящего джинсового материала штаны с надписью «Суперрайф» или «Монтана». Жислин не удержался, его словно бы что-то подогрело изнутри, свет неземной разлился там, обласкал сердце, обдал приятным теплом, он улыбнулся.
Предупреждение капитана не испугало Петра Жислина: солдат существует не только для того, чтобы воевать, а и для шишек, окриков и нарядов вне очереди, да и потом – наказание того обходит, кто его не боится. Жислин не боялся наказаний – слава богу, с детства приучен не бояться, отец так воспитал, мать воспитала, воспитала и школа и… эта самая… Он улыбнулся ещё шире, почувствовал, как напряглись лицевые мускулы, кожа туго натянулась на щеках – пионерская организация. В школе он не боялся ни двоек, ни оплеух старшеклассников, ни строгих замечаний классных руководительниц, ни уличных драк, постарался выработать в себе некое рациональное спокойствие, позволяющее ему подниматься не только над самим собой, но и над теми, кто находился рядом. Часто Петру Жислину это удавалось. Иногда нет – случались срывы.
Хоть и выговорил ему командир роты, хоть и увёл собеседника-дудочника с собой и радоваться было вроде бы нечему, а приятное настроение не покидало Жислина до конца дежурства.
Он встретился с пареньком ещё несколько раз – их видели вместе, – обучил его новым русским фразам, паренёк, в свою очередь, обучил Жислина ходовым выражениям на дари и пушту, но не это было главным. Главное – то, что он приносил в конвертиках насвар. Ещё приносил чарс. Чарс – чаще. Чарс надо было курить, он знатокам напоминал гашиш, а насвар можно было и курить, и нюхать. Насвар опытные люди часто курили со специальной коричневой пастой – Жислин узнал и понял то, чего не знал и не понимал раньше.
После насвара и чарса в зыбком воздухе появлялся сиреневый дым, небо делалось золотым, оно будто бы освещалось изнутри, в нём появлялись звёзды, в ушах начинала звучать музыка, словно бы Пётр надевал на голову лёгкий, неощущаемый обод с хорошими стереофоническими наушниками, музыка была тихой, мелодичной, строгой, и Жислин всякий раз, когда она звучала, отбивал рукою такт. Насвар ему нравился больше чарса.
– Диво, настоящее диво, – шептал Жислин, улыбаясь, он видел то, чего не видели другие, и слышал то, чего другие не слышали. – Где ты только берешь это диво? – спрашивал он у паренька и каждый раз не получал ответа. Собственно, Жислин ответа и не требовал, косил глазами в сторону, засекал взглядом вытертые джинсы паренька – старые дырявые штаны с прогнившей клепкой казались ему новенькими, дорогими, модными, видел босые сбитые ноги и отмечал, что на пареньке – добротная фирменная обувь. – Диво, диво, – повторял Жислин, – откуда оно?
Вместо ответа паренёк неопределенно поднимал плечи, улыбался открыто и чисто – зачем это знать советскому другу? Жислин тоже улыбался, ему нравился паренёк-афганец, и он направлял в него указательный палец.
– Правильно!
Везло Жислину – паренёк ни разу больше не попался на глаза командиру, даже самый распоследний завалящий прапорщик, отвечающий за нитяные носки и материю для подворотничков, не засёк его с пареньком.
Утром после встреч болела голова, но боль очень скоро проходила, только яркий, полный насыщенных, часто свистящих красок день терял свои цвета, всё делалось блеклым, печальным, дрожащим, старым, колючая афганская природа обретала российскую мягкость и прозрачность, состояние, когда хорошо бывает думать о доме.
Несколько раз паренёк приходил на пост, у которого стоял Жислин, приносил фрукты – нежные, вроде бы по-девичьи смущённые, как казалось Жислину, персики, мышастенькие, в раю только такие мышки водятся, на земле водятся другие, приносил сизо-фиолетовый, без единой косточки виноград. Жислин благодарил, он был рад, что у него есть такой друг, бросал на парнишку вопросительные взгляды, и бачонок не выдерживал, давал Жислину пакетик.
– Диво, диво, ой какое диво! – Жислин в эти минуты делался радостным и торжественным – снова он будет слышать музыку, одета на нём будет не опостылевшая десантная роба, а фирменная тужурка с лейблом – красочной матерчатой маркой, свидетельствующей о том, что вещь эта не поддельная, а дорогая, сшитая на фирме, на ногах – ладные кроссовочки «Адидас», на руке – модные японские «котлы» «Сейка» или «Ориент-колледж», – всё как надо, всё тип-топ. Жислин привык к пареньку, паренёк привык к Жислину.
– Когда кончится война, наступит дембель, я тебя к нам, в Советский Союз, приглашу. Поедешь? – спрашивал Жислин, и паренёк в ответ сиял чистыми зубами.
– Обязательно поеду.
– Я в Хакасии живу. В Хакасию поедешь?
– Поеду.
– У меня мамахен, знаешь… во-о! – Пётр Жислин показывал пареньку большой палец.
Паренёк улыбался и, повторяя жест друга, тоже поднимал большой палец.
– Во-о!
– А папахен, знаешь, какой? Во-о-о! – Жислин поднимал палец повыше.
– Во-о-о! – смеялся паренёк.
– Только просьба у меня к тебе перед дембелем будет… – Жислин серьезнел, смех пропадал, хотя уголки губ у него продолжали радостно подрагивать, на лбу возникали озабоченные морщины. – Перед самым дембелем, когда придёт пора уезжать… Великая будет просьба.
– Какая?
– Потом узнаешь. Я скажу, всё скажу!
В горах грохотали взрывы, ночью, случалось, часть, в которой служил Жислин, обстреливали «эресами» – китайскими реактивными снарядами, и тогда поднималась караульная группа, садилась на бэтээры и сеткой накрывала место, откуда стреляли. Иногда душманы запутывались в ячее, иногда сетку вытаскивали пустой. Жислину везло – он ни разу не закидывал сеть, ни разу не принимал участия в рыбной ловле, ни один волосок, как принято говорить, не упал с его головы. Пётр Жислин считал, что у него счастливая судьба. Звёздочка его на небе, может быть, и неприметная среди огромного хаоса искрящейся светлой россыпи и, может, не такая яркая, но она хорошо охраняет его – время худых коров, как говорят у них в Хакасии, должно обойти Петра.
– Что это такое – время худых коров? – поинтересовался у Петра афганский друг.
– Это значит – плохая пора. Это когда надо подтягивать брючный ремень на все запасные дырки и почаще оглядываться.
– И всё?
– А что ещё? Время худых коров – это беда, это всё черное, недоброе, что есть на свете. Разве непонятно?
Вообще-то у Петра были в запасе разные мудреные фразы. И «время худых коров», и «сезон прозрачного воздуха», и «тень мертвого оленя», и «час, когда надо надвигать на голову шапку», – все эти красивости и иносказания имеют, конечно, свой смысл, но они из прошлого и вползли в наше время только на четвертушку, а остальное, три четверти, осталось в прошлом. Поэтому арифметика предельно ясна, как два плюс два равно четырём; так и со «временем худых коров» – всё в прошлом, в прошлом, в прошлом… Три пишем, один в уме.
– А ты знаешь, что такое «сезон прозрачного воздуха»? – спросил как-то Пётр Жислин у паренька, когда тот пришёл к нему в очередной раз на пост, вопрос был неожиданным, паренёк ему удивился, как удивился и сам Жислин: зачем, собственно, он спрашивает об этом паренька? Но слово, как стремительная верткая птичка – вылетела из клетки, и всё, поймать уже нельзя, если только прибить из ружья либо пустить вдогонку крупную хищную птицу, кобчика или сокола, и Жислин хотел было уже вслед птичке пустить кобчика, но паренёк, подавив в себе удивление, мотнул головой.
– Нет! – И выпалил на знакомый российский манер: – А что?
– И не надо знать, что такое «время прозрачного воздуха», – сказал Жислин, – рано пока. Когда приедешь ко мне в Хакасию, тогда узнаешь. – Не те слова произносил Жислин, не то говорил – он хотел привлечь к себе внимание паренька речевыми сложностями, образностью, красками, философией народа, которого не знал афганский друг, а получилось наоборот: паренёк перестал улыбаться, антрацитовый блеск в его глазах угас, губы сжались в прямую твёрдую линию, но Пётр не заметил этого и нетерпеливо пощёлкал пальцами. – Принёс чего-нибудь?
Паренёк посмотрел на него внимательно и сощурил глаза.
– Принёс!
Жислин уже втянулся в это дело, чарс и насвар для него стали хлебом и консервированной картошкой, придёт время, когда без пакетиков он уже жить не сможет. Лицо паренька было бесстрастно. «Как это произносил Пётр? “Время худых коров”, так? В Афганистане все коровы худые. Из-за жары. Ещё из-за войны – скотина боится выстрелов. Из-за мин – подрывается на них. Зато худые коровы бегают быстро. А кто в этом виноват?» Он вытащил из кармана старых, колких от грязи джинсов младенчески белый, незапятнанный пакетик.
– На!
– Ой, спасибо, ой, спасибо! – Движения у Жислина сделались быстрыми, целенаправленными, деловыми, он отставил в сторону автомат и принял пакетик. – Насвар?
– Насвар, – подтвердил паренёк.
Не сказал только паренёк, что этот насвар покрепче тех, которые он приносил раньше.
– Ой, какое диво, какое диво-о, – произнёс минут через пять Пётр Жислин, и это были последние слова, которые он вообще произносил в жизни: паренёк-афганец схватил автомат, стремительно оттянул затвор и длинной очередью перепилил Жислина буквально пополам.
В теле Петра обнаружили восемнадцать пуль.
А паренёк-афганец в грязных ломких джинсах исчез, он как сквозь землю провалился. Вместе с автоматом. Сколько ни искали его – не нашли.
Вот такая горькая история произошла с сыном Вадима Петровича Жислина. Да что там «горькая»? Более горькой не бывает. Не придумаешь. И человека не вернёшь. Впрочем, всё это слова, слова, слова – возникают они будто бы из ничего почему-то здесь, в тесной комнатке полковой канцелярии, над папками с письмами. Письма пронумерованы, подшиты, к каждому подколота копия ответа, каждой бумаге – своё место. Отдельно – письмо В.П. Жислина, отложенное командиром полка.
Кто виноват в этой истории? Сам Пётр, жизнь его либо те, кто воспитывает детей в далеком хакасском поселке – все мы ведь выходим из школы, из пионеров, из комсомола, – или отец Петра, чей характер хорошо чувствуется по письму? Либо те, кто послал наших ребят в Афганистан? Сколько подобных историй кроется в этой аккуратной канцелярской папке?
– Немного, – сказал Корпачёв.
– Ну, а министр… Министр… что ответил?
– Не знаю. Это дело министра. – Озабоченное, красновато-кирпичное, будто у индейца, загорелое лицо Корпачёва сделалось холодным – он не хотел вести разговоры о том, что располагалось не на его этаже, и даже не на том, который шёл следующим от него по счёту.
Естественно, Корпачёв – человек военный, у него свои заботы, у меня свои, я максимум чем рискую – лёгким нагоняем, а для него это вопрос дальнейшей службы; командир полка был на год или на два моложе меня, ему ещё служить и служить – и быть непременно генералом. Мне, во всяком случае, хотелось, чтобы Корпачёв был генералом, поэтому оставалось мне только одно – сойти по обшарпанным ступеням вниз и не искушать подполковника расспросами.
Скажу только, узнав о судьбе Жислина, прочитав письмо его отца, испытал я нечто похожее, что испытывает человек, кидающийся наперерез трамвайному вагону. Слишком малая мошка человек, чтобы задержать железную электрическую махину; Жислина можно было спасти только в том случае, если бы не было Афганистана. В Афганистане такой человек обречён, как и многие другие с его психологией, рано или поздно обязательно что-нибудь случится, не одно, так другое, рано или поздно командир или замполит обязательно будут давать родителям однозначный ответ.
При той жизни, что там, даже одной смерти много, а мы вон сколько ребят положили! Каждого из них жалко, и Жислина тоже. Наверное, только одних жаль меньше, других больше, хотя мёртвые все одинаковы. И перед нами, и перед земным начальством, и перед тем, кто выстроил их в ряд на небесах…
Возможно, об этом думал сейчас и Корпачёв – некрасивое лицо его распустилось, сделалось добрым, ещё более некрасивым и незнакомым, человек с таким лицом готов во всём участвовать – в мужской компании пойти на опасную охоту и в упор уложить вепря, нырнуть в воду за оброненным женщиной перстеньком, сразиться с чемпионом мира по шахматам и выиграть матч, забраться в райский сад за золотыми яблоками, – это было лицо брата, друга, солдата, который никого не бросит в лихую минуту.
Пожалуй, это единственно хорошее, это самое лучшее, что Афганистан выработал в людях, побывавших здесь, и это немало. Хотя… хотя лучше бы мы сюда не входили. Но русский мужик, как известно, всегда был крепок задним умом: если бы да кабы, лучше бы, да ещё лучше было бы, но мы сюда вошли и понесли потери. Теперь надо думать, как выходить из этой истории раз и навсегда, окончательно, и всякого человека, хорошего и не очень хорошего, сложившего голову здесь, помнить.
Погибших жаль. Так жаль, что хочется плакать…
Модуль тем временем раскалился, словно сковородка, душный воздух насытился токами, над полом неподвижно повисли пылинки, схожие с микробами и крохотными дирижабликами одновременно, опускаться на пол им не давал жар.
– Прочитали ответ до конца? – спросил Корпачёв.
В конце письма, посланного Вадиму Петровичу Жислину, Корпачёв сообщал, что ни одной списанной «Волги» в части нет, в его части вообще нет «Волг», ни единой машины, «Волги» в Афганистане имеются лишь в посольстве, ещё в трёх-четырёх местах, но не в корпачёвском подразделении, и помочь Вадиму Петровичу он не в состоянии.
– Прочитал до конца, – ответил я. – Всё ясно. Вот только насчёт присвоения улице имени Жислина вы ничего не написали…
– А зачем? – спокойно поинтересовался Корпачёв, шевельнул ртом, будто губы ему прижгла выкуренная до мундштука сигарета.
– Незаконно ведь!
– Ну и что? Это не мое дело. Даже если на карте появится город Жислинск или Петрожислинск, либо станция Жислино, иль деревня Жислинка, я и тут голоса не подам.
Что ж, в этом тоже была сокрыта некая правда. Правда «афганца» Корпачёва. Хотя и есть расхожее утверждение, что проповедующий правду должен отвергать всякую ложь, но ведь часто бывает и другое: проповедующий правду начинает проповедовать ложь, разве не так было в последние годы, когда правда и ложь совмещались? Командир полка Корпачёв жалел своего солдата. Законно – незаконно, правда – неправда – это всё мелочи по сравнению с тем, что Петра Жислина не было в живых. Вот и всё.
Я вернулся к машине.
– Так и не помогли депутату быть полезным Родине, товарищ подполковник?
– Я ему могу предложить только списанный бронетранспортёр. Горелый… Но имеет ли Вадим Петрович Жислин право на списанный бэтээр?
Горелые бронетранспортёры, грузовики и боевые машины пехоты не списываются – они, в общем-то, никому не нужны, если только сборщикам металлолома: стоят там, где их подожгли, чёрные, нехорошо пахнущие порохом, углём, старым железом и палёной пластмассой, ещё чем-то таким, чему и названия нет, – хотелось бы описать, да описанию это дело не поддается. Погибшие машины – это тоже памятники. Печальные, тяжёлые, вызывающие одно только чувство и одну думу. Сто лет простоят они – и сто лет мы будем помнить об Афганистане. А потом эта память высохнет и превратится в обычные бесстрастные строчки истории, которую люди прочитают в будущем.
И станут они по этой истории учиться. Как мы в своё время по своим учебникам. Только мнится мне, что будут те учебники иными.
Счастливчик Сарычев, который…
Ещё в детстве Сарычева научили верить в приметы – мать не раз втолковывала, что рассыпанная соль – это к ссоре, кошка, перебежавшая дорогу, и найденные на полу деньги – к беде, разнесённое в брызги зеркало – к крови, свист в доме и крошки, сметенные со стола в руку, – к безденежью, голубь, нечаянно влетевший в окно, – к смерти близкого человека. В общем, примет столько, что хоть составляй «энциклопедию» и живи по ней. Но жить-то по такой энциклопедии, согласитесь, противно, лишнего шага нельзя будет сделать, то не моги, это не моги, не теряй осмотрительности, оглядывайся – засохнуть прямо на корню можно.
И всё равно – так уж получилось – Сарычев верил в приметы. Не потому, что они обладали некой мифической силой – нет, по другой причине: однажды не сумел оборвать нить примет, собственную привязку к ним, а позже всё это уже начало срабатывать с такой верностью, что назад дорогу отрезало. Потом и профессия наложила свой отпечаток.
Сарычев был лётчиком. А лётчики всегда верили, верят и будут верить в приметы.
Утром, когда Сарычев брился перед тусклым квадратиком зеркала, непрочно прибитого к стенке дощаника, в окошко на хорошей скорости врезалась незнакомая пичуга с рыжеватым крапчатым оперением, вскрикнула надорванно, громко, словно больной ребенок, и грудкой смятого тряпья распласталась на земляном полу. Сверху на пичугу легло крошево стекла. У Сарычева защемило сердце: не потому, что погибла незнакомая птаха – Сарычев таких не видел, и не потому, что это плохая примета, другое резануло – птица перед смертью закричала, словно ребенок. Хотя у Сарычева детей не было – он даже жениться не успел, всё время перебирался со своей вертолётной эскадрильей с аэродрома на аэродром, сейчас вот попал в Афганистан, – а всё-таки, видать, было заложено в нём что-то отцовское, нежное, озаряющее душу теплом и добрым светом. Он поморщился, отложил бритву и, пачкая себе руки кровью, вынес птицу на улицу.
Вернувшись, очень явственно, ощутимо, словно в командирском дощанике действительно кто-то находился, хотя в этот час тут никто не должен был находиться, услышал, как громко, назойливо и одновременно жалобно заскрипела дверь – раз, другой и третий, а ей начал вторить, отзываясь на каждый звук внутренним несмазанным вздохом, кто-то живой, недобрый, и Сарычев насторожился, потянулся к пистолету, висевшему на боку. Сдёрнул кожаную петельку, накинутую на латунный глазок облегчённой кобуры – а вдруг душманы подкоп под дощаник сделали, пролезли под землёй и сейчас возникнут в помещении, бессловесные, страшные, стремительные? Взялся пальцами за рукоять «макарова», чтобы можно было мгновенно выдернуть и в ту же секунду выстрелить.
Но нет, в дощанике никого не было. Сарычев поддел ботинком горку стеклянного крошева, обрызганную давленой ягодой, – цвет птичьей крови был неестественно ярким, заглянул в соседнее помещение и застегнул кобуру.
Вспомнил, что скрипящие двери – это тоже худая примета: раз двери скрипят – значит, из дома кто-то должен уйти.
Задумчиво осмотрел своё лицо в зеркало, помял пальцами щеки и, не спеша, добрился.
Через час он вылетел со своим напарником на задание.
Те, кто бывал в Афганистане, перемещался с места на место по горам на своих двоих либо по воздуху, испытывает к вертолётам особое чувство, очень сложное: тут и нежность, и благодарность, и некая сердечная теплота, вызывающая тревожный стук в сердце и лёгкое жжение в висках, вертолёты в горах – самые незащищенные… м-м-м… существа. Именно существа. Живые! Сарычев, во всяком случае, был в этом твердо уверен – да, живые, каждая машина со своим дыханием, кровью, со своими лёгкими и уязвимым сердцем, вся защита вертолёта – только человек, командир и второй пилот: удастся им увернуться от огненной струи, сманеврировать – значит, машина будет цела, не удастся – машина погибнет.
Каждый обязательно остановится и посмотрит вверх, когда услышит тяжёлое проволглое хлопанье винтов – вертолёты обычно возвращаются с задания усталые, в чёрной копоти, подрагивающие от напряжения и того, что было сделано, часто с помятыми боками и рваными дырами в железе, работа на долю вертолётов достаётся трудная. Хоть и считаются вертолёты Ми-8 армейскими, а на самом деле они обычные гражданские, штатские, так сказать, шпаки: брони почти никакой, обычное железо, которое даже ружейная дробь дырявит. Чтобы командир вертолёта и второй пилот целее были, снизу наваривают по небольшой броневой плитке, вот и вся защита. Потом, уже после первых боев, оказалось, что плитки лучше не снизу наваривать, а сверху, поскольку душманы стараются держаться на высоте и бьют с хребтов, из многочисленных горных щелей и излучин.
Пока летели, Сарычев думал о том, что хорошо военному человеку жить без семьи: семья сковывает, это всё равно что медлительный, обрюзгший от скарба обоз, пристроенный к современной, привыкшей к скорости армии. С обозом армия превращается в медлительный передвижной колхоз, где на первом месте стоит еда – ох и хороша же бывает распаренная гречневая каша, заправленная шкварками, а к еде, как обязательное добавление, поросячий визг да стук ложек, которыми так ловко умеют управляться опытные едоки. Тьфу! Ладно, вернёмся на старое место, к тому, что холостяку легче, чем женатому. Майору Сарычеву, например, легче, чем его ведомому капитану Новикову: Новиков больше думает о доме, о двух маленьких дочках, о жене, оставленной в Душанбе, чем о военных делах. Лицо Новикова делается тёмным, удлинённым, черты обостряются, щёки втягиваются под скулы, глаза гаснут: младшая дочка Новикова часто болеет, и капитан тревожится о ней.
Другое дело – Сарычев. Он холостяк, у него нет привязки к земле, к жизни, которая есть у женатого человека. Сарычев пожевал губами и сузил глаза: это как сказать, есть или нет привязка, и женатый человек, и холостой одинаково сильно любят жизнь и одинаково чувствуют боль, и кровь у них одинаковая… Хотя по убитому женатику плача будет, конечно, больше, чем по холостяку.
Второй пилот Федяев поглядывал на Сарычева искоса, поблескивал глазами, но заговорить не решался – считал, что командир не в духе.
Они шли низко, очень низко – на высоте примерно десять метров, иногда вообще жались к земле, чуть не сдирая на ходу колёсами камни, а скорость держали предельную – двести восемьдесят километров в час. Земля с тяжёлым гудом проносилась под вертолётами, скручивалась спиралью и устремлялась вверх, в жёлтые, задымленные в любую пору дня и в любую погоду небеса и только там, в далёком далеке, приобретала свои обычные очертания: горы становились горами, складчатыми, недобрыми, с тёмными угрюмыми щелями, из которых в любую секунду может выплеснуться огонь крупнокалиберного пулемёта, а равнина – равниной. Хотя равнин тут раз-два и обчёлся, низкий полёт – самый лучший в этой местности, душманы редко когда засекают, где идёт вертолёт. А стоит подняться над хребтами, как вся нечистая сила здешняя будет знать, куда движется машина, кто в ней находится, что везёт и когда полетит обратно.
– Чего у тебя, Федяев?
У Федяева брови чёрные, густые, сросшиеся на переносье – настоящие янычарские, а глаза какие-то беззащитно-доверчивые, очень яркие, по-девчоночьи синие, наверняка красивой казачке должны были достаться, женщине, а достались мужчине. Федяев был родом с Кубани, хлеб, реки и кубанское небо ему снились по ночам, он тосковал по дому и домашним, но никогда в этом не признавался, хотя яростная синь его глаз в минуты печали угасала, возникало там что-то горькое, далёкое, мелькали мелкие проворные рыбёшки да беззвучно шевелились сморщенные, сожжённые нещадным здешним солнцем губы.
– Я думаю о том, что ни в одном учебнике не расписаны такие полёты, как наш.
– Ни в одном учебнике не расписаны и войны, которые никто никогда никому не объявлял.
– Вы, командир, говорите так, как будто со мною политзанятия проводите.
Слева возник тёмный, страшновато голый огромный каменный выступ, перегораживающий ущелье, по которому шли вертолёты, чуть ли не пополам, свободного пространства было мало, и у Федяева, который уже несколько месяцев летал с Сарычевым и по этому ущелью ходил не раз, невольно изменилось, поползло вниз лицо – показалось, что они сейчас врежутся в выступ. Сарычев не сбавил скорости ни на йоту и поднимать машину над выступом не стал, он её только чуть подвернул, приподнял брюхо и опустил винт и так, боком, на скорости вогнал вертолёт в щель.
Оглушающе громко стучал двигатель, у самого лица проносились камни, ноги упирались в небо, пахло порохом, дымом и машинным маслом, сердце Федяева сжималось в невольной тоске: а ну как врежутся, ведь точно сейчас врежутся! И Федяев невольно закрыл глаза и задержал в груди воздух. Кожа на лбу и щеках у него стянулась, во рту сделалось сухо, в следующий миг он усилием воли открыл глаза и удивился тому, что увидел – вертолёт уже шёл ровно.
Задание, которое получил в этот раз Сарычев, было простым: забрать группу десантников, окруженную на горном пятаке душманами, со всех сторон обложили ребят, двое суток отбиваются, отбиться не могут. Сарычев покосился на Федяева, невольно улыбнулся. Тот перехватил улыбку.
– А помните, как я чуть пулю из «бура» в пятую точку не получил?
Этого Сарычев не помнил, но на всякий случай утверждающе кивнул. Дно ущелья круто поползло вверх, появились глубокие выбоины – надо было следить за землёй. В просвет, образовавшийся впереди, проворно втиснулось солнце, колючий свет ударил по глазам, ослепил, ожёг, и Сарычев на мгновение сбросил скорость. В следующий миг снова дал газ.
– Я с этим самым летел… – Федяев беззвучно пощёлкал пальцами, словно бы пробовал, каков из себя солнечный свет, из какой материи состоит, из мягкой или твёрдой. – Ну, с капитаном из соседней эскадрильи, который недавно орден Красной Звезды получил… во память старческая! – Молодой Федяев снова беззвучно пощёлкал пальцами. – Совсем бестолковка дырявой стала, – потрогал голову, – ничего не держится, как в худом кошельке: бросил – и мимо!
Сарычев знал скромного, очень молчаливого капитана, недавно награжденного «Звёздочкой», безотказного и доброго, на таких людях, принято говорить, воду возят, фамилия у него была из тех, что нечасто встречается, и подсказал Федяеву:
– Политыко.
– Вот-вот, Политыко! – неожиданно по-ребячьи обрадовался подсказке Федяев. – Шли мы нормально, стрельбы никакой не было, всё тихо-мирно, я сидел справа по борту, потом решил переместиться на левый край – показалось, что оттуда «стрелкой» могут ударить. Благополучно, значит, переместился, вгляделся в горную муть и почувствовал, что вертолёт наш в ту же минуту здорово тряхнуло. Словно он колёсами на валун наехал. Выходит, по машине били. С правого борта, значит, били. Я мигом переметнулся к правому борту, на свое сиденье. Сел и тут же вскочил – показалось, что на битое стекло сел. Больно. Рванулся и разодрал брюки. Присмотрелся: ба-ба-ба! И нехороший такой холодок по коже пополз. Мурашки кусачие, коготками царапаются, ползут медленно, сыпь выбивают – в сиденье дырка. Такая, что кулак пролезает – во! – Федяев поднял руку, сжал пальцы в кулак и с каким-то победным видом, торжествующе выворачивая голубовато-яркие белки глаз (самих глаз не было видно, только белки), помотал кулаком перед собою. – Хотели взять, да не взяли – из «бура» били, а меня на месте не оказалось… – Федяев захихикал меленько-меленько, дробно, по-ребячьи. – А говорят, Бога нет. Ну, если Бога нет, так кто-то же ещё есть. – Федяев ткнул пальцем в потолок. – Кто всё видит, всё знает? Вы верите в Бога, командир?
Федяев был с Сарычевым на вы – штука на войне редкая, здесь все на ты, и понятно, почему на ты. Сарычев неопределенно поднял плечи, склонил голову набок. В следующий миг сбросил скорость, прижал вертолёт ко дну ущелья – показалось, что с ближайшей гряды полоснуло жёлтым резким огнём, сейчас раздастся грохот, по обшивке секанёт металл, в кабине запахнет дымом и окалиной, но было тихо. Видать, на гряде действительно находились люди и наблюдали за вертолётами – солнце огнём отразилось в стеклах бинокля, – но машины не тронули, пропустили. Сворачивать с курса и атаковывать наблюдателей Сарычев не имел права – у него была другая задача. Надо вот только засечь яркий секущий сверк, поставить на штурманской карте точку, и всё.
Он бросил Федяеву:
– Приметь место!
Наверное, у лётчиков все-таки есть бог, свой бог – об этом не раз писали, да и сами лётчики часто об этом говорят, верят в приметы, в нечаянно попадающиеся мятые рубли и хлебные крошки, ссыпанные в ладонь, верят в удачу, в свою звезду, слабо мерцающую лучиками в огромном пространстве. Может, та вон серенькая звезда, которую Сарычев только что увидел в просвете, и есть бог? У каждого лётчика свой персональный бог, поскольку каждый имеет свою персональную звезду. Важно только, как эта звезда светит, тепло или холодно, и как велика её помощь человеку.
Как-то Сарычев шёл на задание с «нурсами» – неуправляемыми реактивными снарядами – накрывать банду одного муллы, пришедшую из Пакистана и вырезавшую пуштунский кишлак, шёл вот так же низко, цепляя колесами землю, выжимая из вертолёта всё, что можно было выжать, спешил, взлетая на каждую каменную горбушку, ныряя в каждый увал, весь рельеф ущелий своим вертолётом повторял, ну будто бы старательно срисовывал всякую встречающуюся на пути неровность. И всё на предельной скорости.
От таких полётов потом обязательно немеет, делается чужим мозг, пространство уменьшается до размеров пятака, ориентиры исчезают, ноги и руки начинают невольно дрожать, а в голове бьется-колотится что-то странное, незнакомое – то ли барабан неведомый музыкант опробывает, то ли кто-то, объявив тревогу, с силой прикладывается увесистой железкой к висящему на тросе лемеху. Но, несмотря на тревогу и усталость, на напряжение, которое ещё долго потом будет спадать, тело одновременно бывает наполнено радостью: полёт кончился, лётчик стоит на твёрдой надёжной земле и по лицу его невольно растекается – не появляется, не ползет или ещё какие там жгучие глаголы есть, а именно растекается блаженная улыбка: всё позади! Хотя, казалось бы, чего радоваться – завтра начнется новый день и пройденное придётся повторять.
Со временем Сарычев привык к таким опасным полётам, и ему начало казаться: иных полётов просто не бывает.
Так вот, летел Сарычев как-то на задание, шел, как и сегодня, на предельной скорости, впритык к земле и, вместе с ущельем совершив крутой поворот, вымахнул на ровное, какое-то домашне весёлое место. Место это было словно бы специально создано для пикников. Чистое, обжаренное солнцем, с хрустально-прозрачной речушкой, окаймлённой белой галечной крошкой и затенями, в которых можно было спрятаться от жара.
Пикниковую площадку точно посередине пересекала линия-высоковольтовка. Сарычев не успел приподнять вертолёт над линией – ни силы у двигателя, ни времени на это не хватило, зато успел до мельчайших деталей рассмотреть, что это за линия – и толстый, глянцево-чёрный, словно бы отлитый из чугуна провод, и желтовато-светлые, будто вырезанные из кости изоляторы, и переходной бандаж, похожий на лубок, который накладывают на сломанную ногу, он даже буквы, начертанные на стволе железной опоры прочитал. На всё у него хватило времени, кроме одного…
Он думал, что электрический удар швырнет машину на камни, рассыплет по деталям, а от людей оставит пепел, но, видать, была его звезда счастливой, и светила эта звездочка ярче других. Машину действительно повело вниз, людей встряхнуло, в кабине запахло гарью, от слепящей вспышки в глазах стало темно, иллюминаторы вылетели – они просто обратились в прозрачную сталистую крошку, но люди остались живы. И машина жива. Во всяком случае, полуослепший и полуоглохший Сарычев смог довести её до Кабула.
Там кое-как посадил вертолёт, заглушил мотор и долго сидел в звонкой полой тиши, соображая, как же он все-таки остался в живых – по всем законам должен был погибнуть, превратиться в горку крупного серого пепла, в воздух, в спекшийся камень, в жаркое, во что угодно, а он уцелел.
Что это может значить? Под каким таким счастливым небом он вырос? Сарычев больно, чуть ли не до крови закусил губу – ещё не хватало копаться в сентиментальных мелочах. Небо у всех одно, и воздух один – главное, чтобы его хватало.
Он повёл крутыми плечами, тесноватый выгоревший комбинезон, который Сарычев одевал чуть ли не на голое тело, затрещал.
Старухи из сарычевского детства говорили, что у счастливых растут волосы, а у несчастных ногти. Жуткая, если хорошенько вдуматься, примета и, видать, точная: Сарычев, которому всегда везло – тьфу, тьфу, тьфу три раза через плечо, – был гриваст, как стиляга конца пятидесятых годов: любая женщина могла позавидовать его волосам – густым, жёстким, спелого пшеничного цвета, без единой седой нитки.
Солнечную горную проплешину миновали быстро, промелькнула она щемяще-светлым, очищающим душу пятном и исчезла – двойка вертолётов вошла в тёмное, промозглое и бесконечно длинное ущелье. За одним ущельем последовало второе, как две капли воды, похожее на первое, потом третье, четвёртое, и через двадцать минут вертолёты пришли на место. Каменная площадка, где десантники держали оборону, была крохотной, поэтому приземлялись по очереди: вначале Сарычев – напарник его в это время висел в воздухе, страховал командира, потом напарник, а Сарычев страховал его.
Взяли десантников и, благополучно миновав заслон огня, нырнули в ущелье.
– Ну, кажется, всё… – Федяев облегчённо поддел пальцами шлем вверх и вытер со лба мелкий искристый пот, потом оттянул горловину комбинезона и потряс ею, остужая тело.
– Ещё не всё, – жёстко проговорил Сарычев.
– Всё, – упрямо мотнул головой Федяев, чёрные янычарские брови кустисто приподнялись. «Будто лесопосадка, – подумал Сарычев, – как растут! Мичурин никак руку приложил». – У нас трюм под загрузку.
– На обратной дороге на нас могут перчика насыпать.
– Что, это самое чует? – Федяев похлопал ладонью по груди, снова потряс горловину комбинезона. Маленький вентилятор, прикреплённый на прозрачной плексиглазовой стойке перед ним, прохлады не давал.
– Ракетницы готовы?
– В этом районе «стре́лок» не должно быть, разведка не докладывала.
Наивный человек Федяев, ну будто бы первый день, как родился, на всё синими счастливыми глазами смотрит: вчера тут ракет-«стрелок» не было, сегодня будут. Душманы давным-давно освоили их. Американские «стрелки» – это небольшие тепловые ракеты, которые умеют пристраиваться в след любого самолёта либо вертолёта и по тёплой струе, бьющей из двигателей, настигать цель и входить точно в сопло.
Но, как говорится, голь на выдумку хитра – и от «стрелок» изобрели защиту.
Сарычев снизил вертолёт, он снова начал цеплять колёсами за камни – не цеплял, конечно, но почти цеплял, Федяеву даже показалось, что он слышит, как свистит уносящаяся назад земля, но на деле что он мог услышать, кроме вязкого грохота двигателя да сарычевского голоса, раздающегося в наушниках? Вытащил из брезентовых кобур две ракетницы, проверил их. Лицо его потяжелело, яростная синь глаз сделалась ещё более яростной. Склонив голову набок, Федяев прислушался: как там ведут себя пассажиры-десантники?
Десантники вели себя тихо. Сарычев предупредил Федяева:
– Смотри внимательнее по сторонам!
В ответ Федяев молча приложил руку к вытертому до рыжей ворсистости лётному шлему. Сарычев подумал, что сейчас второй пилот улыбнётся, но Федяев не улыбнулся – не до шуток было, и удовлетворённый Сарычев, который любил, чтобы люди на работе вели себя серьёзно, отвернулся, направил вертолёт в каменную излучину, возникшую справа.
Он как в воду глядел, Сарычев: через семь с половиной минут после того, как Федяев обнажил ракетницы, из разъёма одной из каменных седловин тихо и невесомо выскользнула лёгкая серебристая пылинка, едва приметная в пространстве, и направилась к вертолёту. Сарычев не видел её – засёк востроглазый Федяев, протёр глаза, – действительно он заметил эту пылинку или она ему почудилась? Нет, не почудилась – пылинка уже перестала быть пылинкой, она шла к ним, на глазах увеличиваясь в размерах, искрясь в солнечном свете. Федяев подобрался, отодвинул в сторону прозрачную плексигласовую форточку, чтобы было удобнее стрелять, и, прицеливаясь к «стрелке» – что за зверь? – задумчиво пожевал губами. Ни страха, ни дрожи в его лице не было.
Ракета сделала полукруг, заходя в хвост вертолёту. Федяеву показалось, что она неподвижно зависла в воздухе, приготовилась к прыжку, но пока ещё не прыгнула. Федяев сжал зубы, высунул руку в форточку и навёл на безмятежно-мирную, дорого поблескивающую в лучах «стрелку» ствол своей старой, не раз побывавшей в деле ободранной ракетницы. Когда он выстрелит, «стрелка» среагирует на всплеск выбитых из ракетницы огней и отвернёт от Ми-8: жар ракет более сильный, чем жар вертолётных сопел. Хотел выстрелить, но что-то удержало его, и он невольно закусил нижнюю губу зубами. На висках у Федяева проступил пот – мелкий, искристый, едкий, – Федяев всегда жаловался, что пот у него, будто кислота, глаза, если не уследишь, может выесть, и вздыхал обречённо, вытаскивал из кармана какую-то рваную, сплошь в дырах и прогорелостях тряпку – очередной платок, съеденный потом, демонстрировал его окружающим, как некое наглядное пособие, – лицо его выострилось: и нос, и подбородок, и даже кончики ушей стали острыми, какими-то напряжёнными – Федяев перестал походить на самого себя.
Но Сарычев не глядел на Федяева – у него была другая забота: лавировать в ущельях, выбирать наиболее безопасный путь, а Федяев… Федяев справится со «стрелкой» и без Сарычева.
Хотя вертолёт шёл с большой скоростью, трясся, словно машину допекал приступ лихорадки (металл бездушен, но, как считал Сарычев, способен болеть теми же болезнями, что и человек), увы, ракета шла со скоростью куда большей, чем Ми-8, она догоняла вертолёт, а Федяеву почему-то казалось, что ракета стоит на одном месте. Стоит, и все тут – как зависла в воздухе, так и продолжает висеть, никак она не может оторваться от вертолёта.
У Федяева невольно задрожала рука – старая ракетница была тяжёлой, пальцы быстро занемели, и Федяев задержал в себе дыхание, ожидая: когда же ракета стронется с места, когда начнет приближаться? Или она передумала и сейчас оторвётся и пойдет вниз, рухнет на прозрачно-сизые, успевшие нагреться на солнце камни?
Вот ракета качнулась, стрельнула острым серебряным лучиком, стараясь угодить Федяеву в глаза, но Федяев пропустил секущий больной луч сквозь себя и нажал на спусковые собачки ракетницы. На обе сразу.
Длинный дымный сноп вымахнул из стволов, вначале он был бесцветно-серым, неприметным, потом окрасился в яркую, светящуюся розовину, будто по воздуху провели невидимой сочащейся кистью, «стрелка» мгновенно среагировала на дымный след, дрогнула, отклоняясь от курса, и поплыла, набирая скорость, в сторону, за двумя пушистыми огненными шариками. Федяев бросил ракетницу на пол, поднял вторую, высунул ствол в форточку.
Повторный дуплет делать не пришлось – «стрелка» ушла за алыми светящимися шариками в камни. Федяев облегченно вздохнул, когда услышал взрыв.
– Молодец, Федяев! – похвалил командир, подмигнул второму пилоту, по радио предупредил своего ведомого капитана Новикова, чтоб тот тоже был начеку, посматривал налево-направо, а вдруг откуда-нибудь выплывет еще одна «стрелка», снова вывернул голову и вторично подмигнул Федяеву. – К десантникам сходи, Федяев, предупреди, чтобы тоже посматривали по сторонам – коли один раз врезали, то врежут и второй.
– Есть! – Федяев расплылся в улыбке, лицо его сделалось широким, черты помельчали, густые янычарские брови разошлись, он неторопливо выбил из расстрелянной ракетницы пустые гильзы, хотел было швырнуть в распахнутое оконце вертолёта, но вовремя остановил самого себя и сунул гильзы под сиденье.
Сарычев никак – ни жестом, ни словом, ни поворотом головы – не отозвался на это, лишь только выровнял вертолёт, качнувшийся от взрыва, в следующий миг уголки губ у него удовлетворенно дрогнули: правильно поступает Федяев, после себя лучше всего не оставлять никаких следов. Картонные гильзы от ракетницы – это следы. Ребята из десантных батальонов, когда ходят на задание, даже окурки за собой подбирают, ничего не оставляют: ни бумажек, ни консервных банок, ни полиэтиленовой упаковки, ни пуговиц, всё сгребают в один мешок, потому никогда по внешним приметам не определишь место, где они побывали, так и лётчикам не надо после себя оставлять следов. Федяев загнал в спаренный ствол ракетницы два новых заряда. Потетешкал тяжёлую, похожую на обрез ракетницу в руке и положил её себе под ноги.
Потом поднялся и, горбясь, цепляясь пальцами за ребристые выступы, выбрался из кабины к десантникам.
По ним ещё раз ударили «стрелкой». Десантники первыми заметили серебряный пенальчик, плывущий в воздухе, подняли крик, Федяев, резко посунувшись к форточке, чуть не вынес её головой, сморщился от боли, сплюнул себе что-то в ладонь, потянулся было за ракетницей, но стрелять второму пилоту не пришлось – пенал был уведён в сторону новиковским вертолётом, оттуда точно угодили по пеналу спаренным выстрелом.
Федяев выдернул из кармана свой изожжённый по́том платок, жалобно сморщился и показал его Сарычеву.
– Это надо же, а?
Командир согласно наклонил голову.
– Крепкий организм!
– Сплошные убытки.
– Тебе бы с такими исключительными способностями какой-нибудь цех по переработке отходов заменить – большая бы польза народному хозяйству была.
– Спасибо, командир, – снова сморщился Федяев – на этот раз он обиделся, рот его выгнулся дугой, шов на бровях разошёлся, они расклеились и, вопреки обыкновению, расплылись в разные стороны. Но долго обижаться Федяев не умел, он просунул в дырки платка сразу три пальца и повертел рукою. – Дамская перчаточка!
– Только на балах появляться.
– А насчёт пользы народному хозяйству я подумаю. Когда вернёмся домой, командир…
– Тьфу, тьфу, тьфу, – трижды плюнул через плечо Сарычев.
Им осталось лететь совсем немного, когда вдруг совсем близко, из-за камней в упор по сарычевскому вертолету ударил «дешека» – так тут называют все крупнокалиберные пулемёты, послышался треск лопающегося металла, потом резкий, вышибающий мурашки на коже грохот, Федяев подшибленно вскрикнул. Отзываясь на этот вскрик, заохал один из десантников. Сарычев даже не шевельнулся на своем командирском сиденье. Уходя от очередей, он резко повел вертолёт вверх.
Что-то, видать, случилось в мудрой машине, что-то надсеклось – вертолёт перестал слушаться Сарычева, и Сарычев, напрягаясь, с трудом проталкивая сипенье сквозь стиснутые зубы, мокрый и враз сбросивший в весе – у него даже шея сделалась худой, как у голодного школяра, жилы на ней напряглись, кожа туго обтянула крутые монгольские скулы, – продолжал вести вертолёт вверх.
Пулеметная очередь ещё раз настигла их, встряхнула вертолёт, переднее стекло неожиданно заволокло дымом (хотя не должно было заволочь, даже если бы вертолёт полыхал целиком), металлическая крошка выбила кровь на сарычевской щеке, но он и на это никак не среагировал, всё продолжал тянуть машину вверх.
Вертолёт начало трясти, лопасти как-то расхристанно, словно бы и в них тоже что-то разладилось, взбивали воздух, вспарывали задымленную синь, будто ткань, с дребезжанием и хряском, пулями отсекло кусок колеса, и бесформенная железка эта, с которой так и не слетела резина, обгоняя вертолёт, унеслась вперед, а потом, блеснув седой истертой поверхностью покрышки, нырнула вниз и исчезла. Сарычев спокойно, с окаменелым, окропленным кровью лицом, ни на что не реагируя, продолжал тянуть вертолёт вверх, к срезу старой, до дыр изъеденной ветром и дождями скалы.
Откуда-то сбоку ударил ещё один пулемет, дымная светлая струя опасно вспорола пространство (у Сарычева мелькнуло тревожное, холодное: «Все, в капкан влезли»), но пулемёт бил неприцельно, он простреливал другое ущелье, стыкующееся с этим километрах в двух, и Сарычев враз вырубил белёсую струю второго пулемёта из сознания. Он тянул и тянул вертолёт вверх, уходя от первого пулемёта. А тот всё продолжал грохотать где-то сзади, крупные пули вышибали огонь из камней, плясали, щелкали об обшивку машины, вертолёт хрипел болезненно, трясся – он словно бы смерть собственную чуял. Сарычев, в свою очередь, понимал, что чувствует машина, этот «живой-неживой» механизм, и щурил глаза холодно, жёстко: сейчас было не до жалости.
Даже до собственной крови и до той не было дела – в горле у него что-то болезненно сжалось, глотка обварилась холодом, на глазах выступили слёзы. В следующий миг холод медленно пополз вниз.
Вертолёт снова сильно тряхнуло – опять попали! – из трюма вторично донёсся крик, педали управления ушли из-под сарычевских ног, и он, страшась того, что могло произойти, хотел немедленно что-то предпринять, но не успел, и слава богу, что не успел – педали вернулись обратно. Сарычев зажал зубами стон, с благодарностью подумал о вертолёте и о неведомых людях, создавших его – все-таки прочно и надёжно сделана машина, хоть и трещит в полёте, и трясётся, и пули отвести от себя не может, а всё живёт, до последнего живёт, дышит, дымит, стремится вызволить себя и человека из беды.
В момент опасности время растягивается: сколько минут Сарычев потратил на думу о вертолёте – одну, две, три? Не минуты он потратил, а секунды – жалкие краткие миги, которые ничего не значат в жизни человеческой, а на самом деле значат всё.
Пулемёт ещё раз смог достать до них, прежде чем вертолёт дотянул до выщербленной скалы, прикрылся ею, а оттуда по скользящей уже пошел вниз, в пёстрое, с редкими, пьяно растущими во все стороны деревцами ущелье. Некий неведомый художник, оформлявший это ущелье, наверное, был под хмелем – одно деревцо мелконькое, тонкое, как спичка, растёт ровно, свечой смотрит вверх, другое, стоящее рядом, согнуто дугой, сваливается вниз и свешивает голову в опасную каменную бездонь, третье скручено в три восьмёрки, чередующиеся одна за другой, четвёртое по-змеиному обвивает рыжую гранитную валежину – у каждого деревца своя жизнь и свой рисунок. Сарычев вздохнул и покосился назад: как там ведомый, капитан Новиков?
Вертолёт Новикова появился через минуту. Он вынырнул снизу, даже не вынырнул, а словно бы вытаял из белёсой пыльной мути, небольшой, беззащитный в своей кажущейся невеликости и хрупкости, беззвучный. Ведомый сориентировался точно – когда Сарычев уходил от пулемёта и тянул вверх, Новиков прижался к земле и пополз по ущелью буквально по-собачьи, прижимаясь брюхом к камням. Хотя куда уж там прижиматься, идти ниже было невозможно, и всё-таки Новиков сумел снизиться, люди, сидевшие за «дешека», не достали до него.
Пристроился к Сарычеву. Майору сделалось ещё легче – за Новикова он боялся не меньше, чем за себя и за свой вертолёт, в следующий миг лицо его дёрнулось, перекосилось от боли – из разбитой форточки откололся кусок пластика и ударил по окровяненной щеке. Сарычев сглотнул слюну, надеясь с ней сглотнуть и боль – детская вещь, но иногда помогает, – на этот раз не помогла, и Сарычев невольно стиснул зубы. Поглядел на Федяева.
– Как ты тут?
– Живой, – глухо, словно бы из далекого далека, отозвался Федяев и потряс головой. Приборный щиток перед ним был испачкан кровью.
– Ты в приметы веришь, Федяев?
Вопрос был неожиданным, совсем не к месту, и у любого другого человека вызвал бы озноб, оторопь, удивление, если бы в кабине оказался кто-нибудь из десантников, то невольно б подумал: рехнулся Сарычев, но только не Федяев, он просипел сквозь зубы что-то невнятное, задавленное, потом произнес четко и чисто.
– Верю.
– Раз веришь, значит, до Кабула дотелепаем… – И Сарычев, с трудом преодолевая боль в посечённой щеке, улыбнулся.
Машина тянула еле-еле, дымила, хрипела, кашляла – видать, несколько пуль попали в мотор, и Сарычев, внешне спокойный, уверенный в себе и в своём вертолёте, а внутренне напряжённый, настороженный, до звона в висках стискивал зубы, сопротивлялся боли и слабости, молил неведомого бога, машину и самого себя, не давал ей клюнуть носом вниз, проскрести пузом по камням, обессилеть окончательно.
В каждом из нас живут два человека: один тот, которого мы знаем, он очень хорош, он ведом нам по поступкам, по движению дней, по жизни нашей, по всему, что с нами происходит, второй – неведомый, трезвый, критично ко всему настроенный, жёсткий, неуступчивый, помогающий держаться в трудную минуту. Именно этот второй Сарычев и тянул сейчас вертолёт.
По дороге Сарычева ещё один раз обстреляли из «дешека», но не достали – майор вёл вертолёт слишком низко, пулемётчики не могли бить себе под ноги, а потом их отвлек Новиков: вывернулся из прожаренной тени ущелья и с угрожающим грохотом пошёл на пулемётное гнездо. Пулемётчики бросились врассыпную, стремясь побыстрее забиться в щели и выбоины, на ходу теряя галоши и головные намотки, им показалось, что вертолёт ударит сейчас «нурсами». Но «нурсов» на машине Новикова не было, капитан брал душманов на испуг.
– Молодец, Новиков, молодец, Лёня, – немо зашевелил губами Сарычев, чувствуя, как боль и слабость наваливаются на него, подминают, стараются согнуть, сплющить в лепёшку, и, сопротивляясь, он замотал резко головой, вытряхивая из себя слабость и боль. Напрасно он это сделал – боль стала нетерпимой.
Чтобы уйти от боли, надо думать о чём-то постороннем либо, наоборот, о чем-то очень близком, вызывающем тепло и благодарное щемление: о доме, о родных, о жене, которой у Сарычева, увы, не было, ещё о чем-нибудь, о переулках детства, о школе и учителях, это отвлекает, уводит боль в сторону, и человеку обязательно делается легче.
Впереди, в длинном опасном разрезе ущелья засветилась задымленная глубокая розовина: там начиналось чистое пространство, зажатая горами спокойная долина, в которой находился Кабул. Тянуть осталось немного, совсем немного, но Сарычев чувствовал, что он доходит – стеклянная крошка посекла ему не только лицо, в его теле, похоже, сидели осколки. Вначале, в горячке полёта, он их не чувствовал – те вошли в тело безбольно, стремительно, ничем не дав о себе знать, хотя должны были дать, ибо металл не поражает без боли. Сарычев их не чувствовал, а сейчас чувствует, бок его намок, во рту сделалось кисло, в голове звон, во всех мышцах – слабость, словно бы в каждый порез, в каждую малую пробоину из него вытекала жизнь.
И бог знает, чувствовал ли ещё когда-нибудь Сарычев себя так, как чувствует сейчас, хуже, чем в эти минуты ему никогда не было.
Их обстреляли снова – в который уж раз! – в том месте, где огня вообще никогда не было, «дешека» негде ставить, и все-таки пулемёт там оказался. Вертолёт тряхнуло, он своим железным телом взял половину свинца, выпущенного в него, зачадил, засипел, сбиваясь в движении, чиркнул одной здоровой ногой по камням, подпрыгнул, потом чиркнул покалеченным колесом, затем снова прошёлся целым, взбил облако мелкой каменной крошки, и Сарычев, собрав последнее, что у него было, всю мочь, до крови зажав нижнюю губу зубами, приподнял вертолёт над землёй.
– Федяев, помоги! – просипел он.
Но Федяев не двигался. Кровь на его лице запеклась, сделалась чёрной, под цвет янычарских бровей.
Небо задрожало, покраснело над Сарычевым, в густой кровяной красноте его образовались тёмные пятна – дыры, что-то в этих дырах копошилось, двигалось, перемещалось с места на место, а что именно, не поймешь. Сарычев тряхнул головой: сгинь, нечисть, но нечисть не исчезала, и он невольно застонал. От бессилия, от того, что остался без помощи, один на один с машиной, даже бортмеханика нет рядом – тот сейчас явно с ракетницей в руках, как Федяев сорок минут назад, караулит горы, оберегает подбитый вертолёт от «стрелок».
«Лишь бы не потерять сознание, лишь бы не потерять сознание, – забилось в голове тревожное, вызывающее ожоги и немоту, от которой отсыхали пальцы, плохо слушались руки и ноги, глотку ошпаривало чем-то горьким, похожим на раздавленную желчь, и Сарычев вновь протестующее тряхнул головой. – Лишь бы не сдох движок… Сдохнет – тогда и я тогда сдохну!»
Качалась перед ним земля, качалось небо, вместе с землей и небом раскачивался вертолёт, мотался, тряся тяжёлой головой из стороны в сторону, Федяев, раскачивались люди, находящиеся в трюме. «Только бы не сдох движок… только бы не потерять сознание, только бы…» Кровью намок бок, силы окончательно истаяли, Сарычев сдавал, всё кружилось перед ним, вертелось в хороводе, но всё же он сопротивлялся, спасая ребят-десантников, раненого Федяева, машину, самого себя, хотя на себя ему было наплевать, он тянул и тянул вертолёт в Кабул.
Сарычев дошёл до Кабула, в густом красном мареве почти вслепую нащупал пыльный пятак площадки и, взбив винтами плотное высокое облако, опустил на него вертолёт.
Почувствовав, что напряжение рукояти шаг-газа ослабло, вырубил двигатель.
Наступила тишина, полая, сухая, в которой не было ни одного звука, ничего не было слышно, кроме звона в висках да надсаженного, хриплого стука покалеченного двигателя, продолжавшего раздаваться в голове. Сарычев попробовал оторвать руки от шаг-газа и не смог – они были тяжёлыми, страшно тяжёлыми, словно бы отлитыми из чугуна и плотно припаялись к головке шаг-газа. Сарычев напрягся, краснота перед его глазами сделалась ещё гуще и ярче, в густой красноте этой заполыхало что-то ещё более красное и более яркое, нестерпимое, ударившее по глазам. Сарычев застонал и повалился набок, попытался ухватиться за брезентовый ремень, привинченный к узкому проёму кабины, попытался удержаться, но не удержался и грохнулся на пол, не ощущая уже ничего – ни боли, ни слабости, не видя ничего – ни недоброй густой красноты, плавающей перед ним, ни слепящих зарниц, вспыхивающих в этой бездне.
Больше месяца пролежал он в госпитале и снова вернулся в часть. Вместе с ним вернулся и Федяев – исхудавший, с ярким женским взором и жгуче-чёрными, издали видными бровями. Федяева так же, как и Сарычева, посекли осколки, он потерял много крови. Ещё в вертолете были ранены двое десантников и один убит. Остальные остались живы.
– Ну и счастливчик же ты, Сарычев! – сказал майору замполит полка, когда тот переступил ворота небольшого лётного городка, сработанного из дощаников и палаток, и поздоровался с часовым, знавшим его в лицо. – Ох, и счастливчи-ик… – Замполит восхищённо покрутил головой. Был он моложе Сарычева и сохранил в себе непостоянство, школярскую задиристость и, что называется, несолидность, хотя звание имел такое же, как и Сарычев, – майор.
– Почему счастливчик? – Сарычев недовольно приподнял плечи, привычно бросил взгляд на недалёкий хребет, отделяющий Кабул от Баграма, – сглаженно оплавленный, задымлённый, такой близкий и домашний, но только до тех пор близкий и домашний, пока не полетаешь над ним и не попадёшь под огонь какой-нибудь душманской группы, которые тянутся в Кабул. Интересно, почему он ощущает в себе недовольство, вроде бы причин нет, а всё-таки внутри застойный клубок собрался, холодно там и туманно. Может, он что-нибудь предчувствует, а? – Почему? – повторил он вопрос.
Замполит оборвал свой смех, сделался серьёзным, озабоченным, около губ образовались складки, придавшие его лицу неожиданно горькое выражение.
– Ты же на одной лопасти в Кабул пришёл, разве не знаешь?
– Нет.
– Две лопасти были пробиты, одна крупной пулей… – Замполит приподнял правую руку, сжал большой и указательный пальцы в кольцо. – Вот такая дырка. Нет, не такая, больше! – Он развёл пальцы пошире. – С хороший грейпфрут, а вторая лопасть вообще на нитке держалась, её из гранатомёта просекли.
Сарычев невольно прищурил глаза: даже представить себе невозможно, что будет, если в полёте сорвётся одна перешибленная лопасть, просто мокрое место останется, рваные куски металла, перепачканные кровью. Выходит, он действительно из породы счастливых и все худые приметы на него не действуют.
– Что молчишь, Сарычев? – спросил замполит.
– Думаю.
– О том, будет новая мировая война или нет?
– И об этом тоже.
– Третьей мировой войны не будет, Сарычев, могу сказать это твердо. – Замполит сделал многозначительное движение рукой, лицо его потяжелело, черты сгладились – он будто бы знал нечто такое, чего не знал Сарычев, и мог отвечать сейчас за целые государства. Впрочем, замполит именно таким и должен быть. – Никто не нажмёт кнопку первым, это точно, никому ведь не хочется умирать…
– Но зато будет такая борьба за мир, что… – Сарычев невесело усмехнулся, снова поглядел на задымленную седловину перевала, довольно пологую, аккуратную выемку, за которой начинался спуск в Баграм, сощурил глаза, словно бы к чему-то приценивался.
– В этом тоже есть доля истины, Сарычев, – произнёс замполит примирительно. Он должен был распечь Сарычева за выражение насчет борьбы за мир, но не распёк. Сказал: – Поздравляю тебя с возвращением в часть. – Поправился: – В родную часть.
Сарычев нагнул голову, вид у него сделался угрюмым, чужим – он, похоже, раздумывал над тем, что сказал ему замполит, – сморщился недовольно, лицо его сделалось печёным, будто у старика, потным – из всех пор неожиданно полило, как у Федяева. Замполит, переступив с ноги на ногу, хотел было сказать ему что-то ободряющее, поддержать, но Сарычев неожиданно улыбнулся широко, раскованно, светло, словно бы не был только что тёмным и угрюмым, Сарычев стал самим собою, произнёс громко, отзываясь на поздравление замполита:
– Спасибо! – провёл перед собою рукой, словно бы ощупывая что-то, видимое только ему, вздохнул облегчённо: все-таки он родился под счастливой звездой, факт есть факт. Пошёл не к своему дощанику, а к вертолёту. Забрался в кабину, на сиденье второго пилота и словно бы замер там, сидел долго, почти не шевелясь, думая о последнем полёте и жёстко щуря глаза: перед ним стремительно наматывалась на невидимый стержень горная пестрорядь, схожая с домотканым полотном, вручную сработанным деревенской старушкой, в приоткрытый бустер врывался ветер, он слышал захлебывающийся сырой звук своего мотора и молил машину, чтобы она выдюжила, не развалилась, прошитая очередями крупнокалиберного пулемёта, продержалась еще немного. Если машина продержится, то он, человек, обязательно продержится…
Через полчаса Сарычев выбрался наружу, взял у техников лестницу и приставил её к вертолёту. Вскарабкался наверх, к винту, долго осматривал каждую лопасть, потом удовлетворённо поцецекал языком – молодцы техники, всё заделали так, что комар носа не подточит: и лопасти новенькие, свежим лаком поблёскивают, и в корпусе ни одной дырки, залатаны добротно, штопка мёртвая. Медленно спустился на землю, снова взглянул в сторону задымленного Баграмского перевала.
Афганцы перевал называли по-другому, сложно и для русского уха непривычно, а Сарычев на свой лад: Баграмский – всё ведь понятно, а потом так принято – перевал, ведущий в селение, называть по имени селения.
А где то ущелье, из которого он вывалился, когда тянул на подбитом вертолёте в Кабул? Ущелья не было видно, воздух жемчужно переливался, брызгал искрами, дымился – он был густ и по-горному свеж, хотя день уже находился в разгаре, а Кабул стоял в котловине, слабо продуваемой ветрами, тут иногда всё сбивается в колтун и замирает, в воздухе висят пыль, обрывки бумаги, старые ссохшиеся листья. Куда ему придется лететь завтра? Проходить над Баграмским перевалом в горы, а потом по косой вниз, в долину к Джелалабаду, или нырять в то ущелье, где он был подбит? Сарычев задержал в себе дыхание: показалось, что при мысли об ущелье, где по нему били из «дешека», внутри у него что-то дрогнуло, сердце будто бы споткнулось о невидимый порог, участило свой бег – так это или не так? Он прислушался к самому себе: кто он – малый человек или большой? От чего это зависит – быть малым или большим, от самого себя или от движения… ну, допустим, звёзд, от внешних примет, от находок и потерь, от того, выдан кем-то неведомым, непознанным на руки счастливый билет или не выдан? Сарычев невольно усмехнулся – не надо быть философом, теоретиком, не его это дело, надо быть практиком, кем, собственно, он и является. А разные приметы, счастливые билетики, чёрные кошки, разбитые зеркала и рассыпанная соль – это хоть и важно в профессии лётчика, но дело десятое, пятнадцатое, двадцатое. Главное – человек, и только он. Будет человек – будет и удача.
Он поднял голову, вгляделся в небо, ничего там не нашел, потом подёргал рукою лопасти: крепко ли сидят? Никто ещё не приходил домой на вертолёте с двумя пробитыми лопастями, а он пришёл.
И надо будет – придёт ещё: Сарычев в самого себя и в свою звезду верил. Как верил в то, что про него отныне будут говорить «А-а, это счастливчик Сарычев, который…»
Действительно, счастливчик Сарычев, который…
Примечания
1
См.: В. Поволяев. Лесные солдаты. М.: Вече.
(обратно)2
Один сир – 7 кг.
(обратно)

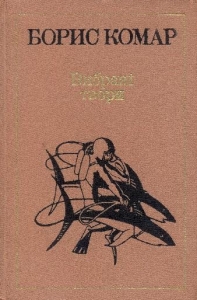

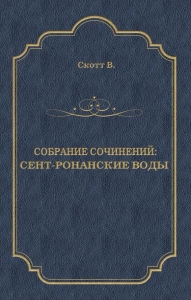


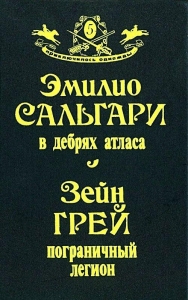

Комментарии к книге «Лесная крепость», Валерий Дмитриевич Поволяев
Всего 0 комментариев