Дмитрий Агалаков Воевода Дикого поля
© Агалков Д. В., 2009
© ООО «Издательство «Вече», 2015
* * *
Елене Григорьевне Агалаковой посвящаю
Пролог
Конный разъезд ногайцев рысью шел вдоль берега Волги. Великая река то открывалась, то уходила за леса и холмы, напоминая о себе лишь прозрачной голубой дымкой вдали, по-весеннему свежей. Несколько ногайских орд хозяйничали в этих местах, зовущихся Волжским диким полем, и никак не могли поделить здешние земли. Да и вольное казачество не давало покоя мурзам, выбрав ту же часть Волги плацдармом для нападения на осколки некогда великой Золотой Орды. Уже полстолетия Дикое поле жило в состоянии войны и редких перемирий…
Отряд в полном вооружении, с кривыми саблями, копьями и луками пришел с юго-запада. Небольшие черные кони, мускулистые и выносливые, ветром рассекали луговые травы, гудевшие мириадами насекомых, вырывались на обветренные пустоши, взрывая копытами желтую степную пыль.
В полдень, когда первое майское тепло набирало силы и грело уже по-летнему, разъезд оказался напротив Девьих гор. Лесистые вершины, приземистые и темные, плотной грядой намечали здесь путь реки, широкое русло которой изгибалось гигантской подковой, оставив на правобережье дикий, кишащий зверьем полуостров.
Вожак поднял руку, и отряд спешился. Узкоглазое прокопченное лицо предводителя было непроницаемо. Цепко сросшиеся бородка и усы резко очерчивали сухие тонкие губы ногайца. Левую скулу уродовал старый узловатый шрам. Степной ветер порывами трепал куний мех его шапки.
– Что случилось, Байарслан? – выехал вперед один из всадников. – Ты чуешь опасность?
Но тот остановил его властным движением руки. Вожак явно пытался услышать что-то. Прислушались и другие – странный гул раздавался совсем рядом, точно река пела…
– Туда, – сказал он, кивнув на запад.
И отряд пустил коней по указанному направлению. Они проехали еще немного. Впереди пошли пологие холмы, за ними, напротив гор, поднималась синяя дымка. Там была Волга. Гул теперь становился явным, отчетливым, грозным…
Плетью ударил ногаец своего коня, и тот рванул вперед.
Отряд ногайцев вылетел на холмы и тотчас врос в весеннюю землю. Многие кони встали на дыбы. Гул сотен голосов, эхом разносившихся по реке, разом обрушился на степняков.
Многие десятки исполинских плотов тянулись вниз по Волге, и каждый представлял собой большой дом – с палатками и шалашами. Плотами управлял пестро одетый люд. По всей Волге эхом разносились зычные окрики, и брань гуляла от берега к берегу. А рядом с плотами шли боевые струги – весело взмывали весла и резко уходили под воду. Красными пятнами читались стрелецкие кафтаны и шапки, грозно посверкивали на солнце бердыши. Караван переселенцев, да и только!
– Московиты, – с гневом тихо сказал вожак. Было видно, что даже он, опытный боец, впервые видит такое.
– Откуда их столько пришло сюда, Байарслан? – спросил второй ногаец. – И зачем они сплавляют столько деревьев? Ведь они растут по всей реке! Почему не нарубить там, куда плывут?
Глаза командира, и без того узкие, превратились в две свирепые щелочки.
– Скоро мы это узнаем, – сказал он. – Только жди худого, когда столько царских солдат московиты везут с собой. Поедем следом…
На главном струге, держась за борт, стоял крепкий мужчина в полотняной рубахе и богатом кафтане, наброшенном на плечи. Сабля в дорогих ножнах – не в пример стрелецким или казацким – висела на широком поясе. Волжский ветер легко цапал его густую чернявую шевелюру, чуть побитую серебром. В темной бороде тоже было немало седины. Хмурился воевода, оглядывая берега. Красивы они были. Но сколько опасности таили в себе! То и дело, отражая полуденное яркое солнце, сверкал на мизинце воеводы перстень с изумрудом. Непростой то был перстенек – подарок царя Иоанна Грозного…
Воеводой был сорокапятилетний князь Григорий Осипович Засекин из рода князей Ярославских, что вели свою родословную от Рюриковичей и Чингизидов. Бывалый воин, Русь исходивший с полками от Ливонии до Урала и от Ладоги до Крыма, в прошлом, 1585 году по приказу царя Федора Иоанновича, а на деле – его шурина Бориса Годунова, князь Засекин был послан Москвой ставить Волжскую засечную черту – супротив Ногайской орды. Главными крепостями засечной черты должны были стать Самара, Саратов, Царицын…
– Вот нехристи косоглазые, а? – весело воскликнул княжеский ординарец Мишка, кивнув на холмы, где остановился отряд ногайцев. – Глядят! И как глядят, батюшка Григорий Осипович! – Придерживая рукой гарду длинной сабли в ножнах, он ухмылялся в жиденькие светлые усы. – Ох, повидаться нам еще с ними, братцы, видит Бог, свидеться!
– Типун тебе на язык! – ухающим голосом осадил его стрелецкий сотник Савелий Крутобоков, чьи солдаты охраняли первый корабль флотилии. – Накаркаешь еще! Ногайцев только не хватало на нашу голову…
– А куда от них денешься? Не позовем – сами придут! – поддразнивал его Мишка.
Сейчас многие, и с плотов, и со стругов, глядели на крупный отряд степняков, что минуту назад так стремительно вылетел на холмы, обрывом подходившие к берегу Волги. Чего от них ждать? И может быть, это – всего лишь авангард полков зло ненавидевшего Москву здешнего ногайского владыки Уруса, что вдоль берега крадется за непрошеными гостями?
Смотрел туда и князь Григорий Засекин – черные глаза его не отпускали ногайцев, хмурились брови…
– Выпадет доля – свидимся, – сказал он обоим воинам. – И не таких видали!
Отряд степняков уже поворачивал коней и уходил за холмы. Князь пригладил окладистую бороду:
– Нам бы только все успеть в срок, пока ногайские мурзы не опомнятся. А там уж поглядим, кто кого!
Степняки не знали, что в связанных бревнах, образовавших плоты, таится крепость, которую срубили еще под Казанью и теперь сплавляли сюда, к большой Волжской Луке. Что переселенцы на бревнах – это рабочий люд, строители будущей крепости. А царские стрельцы в красных кафтанах и разудалые казаки – ее будущие защитники.
К вечеру, когда солнце зарделось над волжскими степями правобережья, фортификатор Тимоха засуетился: то и дело приставлял ко лбу широкую ладонь, щурясь от закатных лучей, что стелились рябью по Волге и слепили глаза. Неожиданно далеко впереди открылось устье другой реки, впадавшей в Волгу от левого ее берега.
– Туточки! – звонко крикнул Тимоха. – Вон урочище! Вот она – Самара! Веселая речка, казачий притон! Дом родной для душегубов и злодеев! – Но кричал он это радостно и задорно. – Чаль к берегу, братцы, чаль!
Но его не послушали, пока княжеский струг не опередил казачий – с атаманом Богданом Барбошей. Это он, матерый пират, знавший здесь каждую пядь, прошлой весной возил сюда строителей фортификаций. Несколько дней хватило братьям Буровым, санчурским мастерам – Тимохе и Трофиму, чтобы осмотреть местность и нарисовать образ будущей крепости. И вот теперь с казачьего судна дали отмашку, и струг стал медленно уходить влево.
Крики полетели над плотами и от струга к стругу. Флотилия стала тормозить, неспешно уходить рядами к левому, песчаному, поросшему кустарником берегу, прижиматься к нему…
И скоро уже головной корабль ткнулся носом в прибрежный песок, как раз там, где Самара впадала в Волгу. Тихим казался берег – большие холмы впереди, лесистая круча слева, покойный приток и другой его берег – с густым смешанным лесом.
– Добрая земля, – сказал князь.
Там, на подъеме, меж этих двух рек они и должны были как можно скорее поднять крепостные стены и башни, пока не очухались ногайские мурзы, пока не решились изничтожить непрошеных гостей…
Часть первая Новик его величества
Глава 1 Ливонская баталия
1
В январе 1558 года русские войска перешли границу Ливонии. Стычки возникали и раньше, и прежде царские воеводы предпринимали рейды на ее территорию. Причин на то было много. Дерптский епископ уже давно не платил Руси положенной дани с владений, некогда переданных ливонским рыцарям великими московскими князьями. Русских купцов, что стремились к выходу на запад, там повсюду прижимали и обирали. К тому же Ливония вошла в союз со Швецией – на то время лютым врагом Руси, которая тоже противилась всем попыткам Москвы выйти на большие европейские рынки. В первую очередь союзники делали все, чтобы Русь не вступила в торговые отношения с Англией, столь выгодные для обеих сторон. Из Нарвы ливонцы обстреливали гарнизон Иван-города. Наконец, на землях, принадлежавших Ливонскому ордену, жестко попирались все права людей православных. В Ревеле и Дерпте, Риге и Нарве, других крупных городах нагло обворовывались и разрушались русские храмы.
Мог ли молодой русский царь, человек несдержанный и вспыльчивый, терпеть все эти унижения? Четырьмя годами ранее крепнущее Московское царство официально объявило ордену войну и, чтобы остепенить рыцарей, громило пограничные территории Ливонии, но так и не добилось желаемых результатов.
Время для серьезного удара Иван Грозный выбрал неслучайно. За несколько лет до того Русь подчинила себе Казанское и Астраханское ханства, огромная армия освободилась и, пополнившись татарами, поступившими на царскую службу, была готова к новым битвам. Привечал русский царь и вольных казаков с Дона, Волги и Яика, платя им звонкой монетой за военные услуги.
Узнав, что к границам Ливонии подступают русские полки, рыцари, забыв о гордыне, помчались по своим командорствам собирать дань. А сумма была велика – 60 000 марок серебром! Только раньше стоило о том подумать: и половины не смогли собрать ливонцы! То, что нашли, они привезли в Москву – посольством командовал младший брат магистра ливонцев Вильгельма Фюрстенберга ландмаршал ордена Филипп, но оказалось поздно. Не помогло и обещание, что в кратчайший срок будет доставлена обещанная казна, а также восстановлены все православные храмы в городах Ливонии.
Ближняя дума во главе с окольничим Алексеем Адашевым, протопопом московского Благовещенского собора Сильвестром и князем Андреем Курбским не советовала до срока воевать с Западом. Существовал враг и посерьезнее: неспокойно было на южных и восточных границах Руси. Бунтовали черемисы, саблю точил на соседа могущественный крымский хан, во всем поддерживаемый турецким султанатом, да часть ногайских орд, рассыпанных по левому берегу Волги, зловеще скалила на московитов зубы.
Но Иван Четвертый, которому шел двадцать восьмой год, не принял посольство крестоносцев. Теперь по разумению первого русского царя все должна была решить война.
И началась баталия за здравие Руси и на помин ее врагам. В считанные месяцы царские войска под командованием Михаила Глинского, касимовского хана Шаха-Али, служившего царю Иоанну, князя Андрея Курбского и других полководцев взяли более двадцати ливонских городов и замков, огнем и мечом прошлись по земле беспардонного соседа, тысячами отправляя в Москву пленных, чтобы потом раздарить их в крепостные русским боярам и поместным дворянам за хорошую службу. А вот простой чухонский люд царь миловал, за что тот оказался бесконечно ему благодарен, потому что одним махом свергли московиты ненавистное трехсотлетнее немецкое иго.
11 мая рыцари дрогнули и сдали русским северный форпост своего военного государства – крепость Нарву.
В середине июля часть русских войск под командованием царского фаворита Андрея Михайловича Курбского окружила ливонский город Дерпт – самую сильную и лучше других оснащенную крепость Ливонии. Тут засел один из главных ненавистников Руси – ливонский архиепископ Евстафий. Отсюда, при поддержке магистра ордена, он направлял свои послания, одобряя грабеж православных храмов и побиение русичей. Шесть лет назад Курбский был среди командиров, лихо и смело взявших Казань, и считался удачливым полководцем. Он привел под Дерпт дворянские ополчения, стрелецкие полки и отряды призванных на службу казанских и астраханских татар, попавших под влияние Руси.
Разорив окрестности Дерпта, 12 июля русская армия выстроилась боевым порядком недалеко от крепости. Ей навстречу из города выехало ливонское войско, костяком которого были рыцари в белых плащах с кроваво-алым лапчатым крестом и мечом на груди и левом плече. Они должны были дать или принять генеральное сражение. Иначе им грозило одно – будет враг идти по земле ордена и брать одну крепость за другой, выжигая ливонскую землю.
За русскими стоял густой смешанный лес, по-летнему звеня птичьим многоголосьем, маня тенью, да и по флангам войска московского шли перелески, а впереди поднимались пологие холмы. Там, на фоне летнего неба и серых башен Дерпта, и кучилось конное рыцарское войско, сверкая шлемами, слепя белыми плащами; стояли пешие лифляндцы, эстляндцы и курляндцы, призванные магистром к битве, вооруженные мушкетами, пиками, мечами, луками и арбалетами.
Волновались обе армии, ожидая кровавой битвы…
На черном скакуне, в кирасе и боярской шапке из парчи да собольего меха, удерживал Андрей Курбский своего гнедого рысака. Числился он первым из московских красавцев! И роду знатного, и стати богатырской. К тому же ученый был – не в пример многим боярам. Да и сечи лютой не страшился. Билась о левое бедро широкая татарская сабля в ножнах, украшенных малахитом и янтарем. Сам плененный казанский хан Едигер отдал ему свой кривой меч, выкованный в далеком Дамаске!
Сабли были и у дворянской конницы, и у казаков, и у стрельцов. Столько срезавшая голов православных за три века лютого ига, кривая татарская сабля давно стала первым оружием московита, вытеснив старый прямой варяжский меч.
– А ну, Василий, трубу дай мне, – окликнул Курбский ординарца, – погляжу я на господ немцев!
Там, на зеленых холмах, стеной вросли в землю рыцари. На выносливых боевых лошадях, покрытых сталью и оттого похожих на чудовищ, дожидались ливонцы битвы. Флажки играли на поднятых вверх длинных копьях, развевались на летнем ветру их стяги, и первым среди них был стяг ордена – цвета крови меч и крест на белом полотнище. Старый седой магистр в черной броне смотрел в такую же трубу на русских. Фюрстенберг-старший решил сам возглавить войско, не перекладывая заботу на плечи Филиппа, личным присутствием поддержать цвет ливонского рыцарства. Его взору предстали ряды всадников – дворянская конница в шеломах, кольчугах и стальных нагрудниках, таких же наплечниках, в кожаных сапогах, при щитах.
– Эти русские храбры, но одеты как крестьяне, – ледяным тоном произнес магистр, стареющий бог войны. – Не им тягаться с моими рыцарями!
Он был уверен: его ливонцы, выкованные из стали, что касалось и опыта, и характера, и силы, и снаряжения, непременно справятся с русичами. Недаром первое, на что меняют русские свои меха – собольи и куньи, лисьи и беличьи, а равно мед, сало, лен и коноплю, да воск для церковных свечей, это – западная броня и оружие. Не научились еще русичи ковать настоящие кирасы и бацинеты! Оттого и уязвимы для длинных немецких копий и тевтонских мечей. Видел также старый магистр легкую татарскую конницу, косяками ходившую на флангах. Пусть быстра и неуловима, но и она вряд ли станет помехой: разобьются татары об их ряды, как волны о прибрежные скалы! А далее пылали красные кафтаны стрельцов, по большей части пеших – тысячи три, не менее. Рябью посверкивали на солнце их бердыши. Грозный противник! Но пеший…
Магистр Вильгельм фон Фюрстенберг и не думал нападать первым. Пусть русские сами подойдут к нему – под стрелы арбалетчиков, под смертоносный огонь мушкетов и копья рыцарей.
Издалека смотрели русские дворяне на закованных в железо рыцарей, беспокоились.
– На этом поле первые из первых собрались, – кивнул в сторону противника черноволосый и статный юноша, крепко сжимая в руке копье. С усмешкой добавил: – Точно рыба в чешуе!
– И то правда – щучье племя! – усмехнулся его русоволосый товарищ. – Одно паршиво, Гриня: копья ливонские, что рыцари для лобовой атаки приспособили, подлиннее и пострашнее наших будут!
– Рыцари в кирасах, а на каждой кирасе у немца и ливонца фокр прилажен, – согласился с ним первый. – Положит он на этот крюк копье – и вперед! А у нас – в руках держи…
– Зато мы ловчее будем! – нервно усмехнулся третий юноша, огненно-рыжий, у которого так и ходили желваки по скулам. – Нам-то проще налегке, а? Попробуй, рыцарь, повертись, как мы! – Голос звучал с хрипотцой, надсадно, и ярости рыжему было не занимать. – Я так кистенем пятерых басурман отхожу, что они и опомниться не успеют! Тоже не пальцем сделан!
Три приятеля, восемнадцатилетних юнца, едва не плечами касались друг друга, сидя на боевых лошадях в первом ряду дворянской конницы. Первым из тройки был князь Григорий Засекин, а его товарищи – тверской дворянин Петр Бортников и служилый человек знатного царского вельможи князя Михаила Воротынского Степан Василевский. У трех молодых воинов едва пробивались в цвет волос бородка и усы. Черные глаза Григория горели, как угли, восточная кровь была в нем! У Петра светились иначе – ясные, синие. Что до Степана, то и глаза у него были под стать шевелюре – рыжие, огненные. Как и другие конники из дворян, они ждали битвы, уже успев почувствовать в себе силу настоящих бойцов: вкус крови, как у молодых волков, уже ранил их сердца…
Призванные еще новиками, теперь уже в составе русской дворянской конницы постигали они военную науку. Карательные операции русской армии, все глубже врезавшейся в ливонскую территорию, не прошли для юношей даром. Окропили свои сабли чужеземной кровушкой! Успели разглядеть всю подноготную войны, ее безжалостную изнанку, когда за победой на поле брани, за взятием городов шел беспримерный грабеж и жестокое наказание всех без разбору. А свирепой ненависти русским хватало! Не прошли даром два с половиной века под татарским игом – истосковался русский меч по вражьим головам. И не важно, чьи они были – ногайские ли, польские, ливонские. Похож был русич той поры на голодного медведя, которого наконец-то спустили с цепи…
К Андрею Курбскому, по его требованию, летели на своих легких степных лошадях, в окружении смуглолицей свиты, татарские командиры. Туда же мчался и командир дворянской конницы Данила Адашев со своими сотниками и ординарцами, торопились стрелецкие воеводы. Переговорив, военачальники так же скоро рассыпались по своим частям.
Колыхнулось войско…
– Началось, – сказал Петр Бортников Григорию Засекину.
– Воистину началось! – откликнулся тот. – Потупим сейчас сабельки о ливонскую броню, ох потупим! – В устах юноши с едва окрепшим голосом не очень уверенно прозвучала эта фраза. От старших товарищей перенял он просто бравую присказку к большой битве, из которой, дай Бог, еще б выбраться живым.
И вот уже татарская конница, стоявшая на флангах, неожиданно сорвалась с места и полетела в сторону ливонцев. Но не копья держали в руках татары, не кривые свои мечи, а луки. Степные кони ветром донеслись до холмов, где разом, грозной грядой ощетинилось длинными пиками ливонское рыцарство, но не тут-то было. Взмыли вверх тысячи полторы стрел – и градом посыпались на рыцарей и пехоту. Сержанты ливонского ордена, рекрутированные лифляндцы, курляндцы и эстляндцы отвечали пальбой из мушкетов и арбалетными болтами, да только малоуязвимой была татарская конница. Что попало в пеструю гущу, рассыпавшуюся, летящую зигзагами, то и нашло свою цель. Татарские же стрелы причинили вреда поболее тем, кто стоял без движения. Успел укрыться щитом – хорошо. А нет – с пробитыми шеями и плечами полегли на месте.
Мрачно взирал магистр на хитрость противника. Он уже знал, что Андрей Курбский, гроза Казани, командует русскими. С этим держи ухо востро!
А татары, оставив с полсотни своих товарищей корчиться недалеко от позиций врага, уже вновь сходились двумя тучами. И с той же силой, но уже более прицельно, пустили новый град стрел по неприятелю.
Ливонцы забеспокоились – сколько так может продолжаться? Так и будут бить татары по их позициям, оставляя главные силы для решающего сражения? Вильгельм фон Фюрстенберг понимал: татар русскому князю не жалко. Ордынцев – тьма, на смену одной другая придет: точно с такими же луками, отчаянно смелых, быстрых, как ветер.
Каждый новый налет грозил стать решающим – стрелы жалили не только пехоту, но доставали и рыцарских коней. Для самого рыцаря стрельба татарскими стрелами навесом вреда не причинит – не пробить им надежную броню. Но нанести урон всей армии в целом подобные атаки, тем более частые, ой как способны!
А летнее солнце все сильнее накаляло броню ливонцев, тут и поджариться недолго. Рыцари волновались. Очередной татарский налет заставил магистра изменить тактику…
Седой Вильгельм фон Фюрстенберг, высохший, с ног до головы в подвижной пластинчатой броне, выпуклой кирасе, поднял руку – и герольды в круглых бацинетах, легких панцирях и алых накидках, прихватив обеими руками длинные медные трубы, выстрелили в небо гортанным и раскатистым многоголосьем.
Пронзительное эхо покатилось по предместьям Дерпта. Рыцари опускали забрала…
«Завыли, черти, – побежало по рядам дворянской конницы. – Сейчас пойдут, псы, сейчас!»
И точно – ожили ряды ливонских рыцарей и медленно покатились по пологим зеленым холмам навстречу неприятелю. Двинулась по флангам многочисленная пехота. Лишь сам Вильгельм фон Фюрстенберг с большим отрядом и остался стоять на холмах. Григорий Засекин, Петр Бортников, Степан Василевский и другие дворяне, нацелив копья на врага, уже приготовились к драке, но тут понесся Данила Адашев на белоснежном жеребце под дорогой попоной перед рядами своих бойцов, крича сотникам дворянской конницы:
– Как ливонцы будут близко, разлетайтесь второпях по флангам! Стрельцы будут встречать рыцарей! (А каких таких рыцарей – веселой бранью отметили сотники, да под бешеный гогот своих бойцов!) Но не торопись, дайте поближе подойти басурманам!
Привстав в стременах, Григорий оглянулся. Эти матерые бородатые мужики в длинных красных кафтанах и шапках горели-таки на солнце! Здоровенные, плечистые и высокие как на подбор, вооруженные до зубов, при саблях, они уже зажигали огнивами фитили пищалей, укладывали их на стальные шеи бердышей. Это шведские да немецкие мушкетеры нуждались в поддержке копьеносцев, что охраняли их в то время, когда те заряжали свое оружие и были бессильны против конницы. Потому что держали мушкетеры стволы на крепких рогатинах, дабы не промахнуться, потому что весило то оружие немногим меньше пуда. А стрельцы были горазды на все – пальнет горошиной с добрую черешню, а потом и себя защитит – поднимет бердыш, да хватит рыцарского коня по ногам или по брюху, а то и самого рыцаря смахнет за будь здоров.
И когда цвет ливонского рыцарства подошел на расстояние мушкетного выстрела, сотники дворянской конницы дали приказ: «Уходим на фланги!»
Сорвались с места полторы тысячи таких же молодцов, как Григорий Засекин и его товарищи, и открыли поле для схватки лавине рыцарей и заслону из стрельцов. Ливонцы, закованные в доспехи, уже опустили копья, готовясь насадить на них врага, как на вертел. И уже готовы были встретить их русские стрельцы в алых парчовых кафтанах, перед каждым из которых стоял втиснутый в землю бердыш и лежала на его стальной шее громоздкая пищаль, обращенная стволом к атакующим…
Когда две волны конницы разошлись, рыцари оказались так близко, что слышно было, как хрипят бронированные кони, как хлопают за спиной рыцарей белые плащи.
– Огонь! – рявкнул стрелецкий воевода, полосонув саблей воздух.
– Огонь! – завопили сотники, рубанув саблями воздух, точно отсекали головы невидимому противнику.
И более полутысячи пищалей одновременно плюнули огнем в ливонских рыцарей, до которых было уже рукой подать. Точно разверзлось под ударом грозы небо, белые дымные облачка окутали первый и второй ряд стрелявших. Как завороженная, глядела отступившая русская дворянская конница на ломающийся рыцарский строй. С пятидесяти шагов свинец разрывает броню, какою бы надежной та ни была, и пылающим углем вонзается в тело. Так и летит вон душа! И когда дым рассеялся и вперед выступили третий и четвертый ряды стрельцов, жуткая картина открылась обороняющимся. Сраженные пулями рыцарские кони, жалобно хрипя, бухались в летнюю траву, заливая ее кровью, сбивая друг друга и подминая раненых и убитых рыцарей. Первые из рыцарей, что с копьями наперевес летели на русских, едва не сшибли паливших по ним стрельцов. Грудой металла легли у них под ногами. Отступили два первых, уже отстрелявших ряда. Свежие стрелецкие силы взяли на прицел новые ряды ливонцев, пытавшихся остановить своих коней, чтобы не врезаться в братскую могилу. Еще один залп, вспышка белых дымных облачков, и свинец уложил еще пару сотен рыцарей и оруженосцев, образовавших чуть дальше вторую преграду.
Вновь отошли стрельцы, чьи пищали опустели, обнажив пятый и шестой ряды. Рыцари уже поняли – не пройти им русский заслон. Они поворачивали коней, чтобы отступить, когда полыхнула еще одна молния, и гроза расколола небо за их спинами. Недалеко ушли ливонцы! Резал свинец их латы, дробил кости, терзал тела. И еще пара сотен рыцарей полетели на землю, а на смену отходившим пятому и шестому ряду стрельцов открывались седьмой и восьмой…
С ужасом взирая на бойню, заспешила с холмов ливонская пехота, но Данила Адашев, в коротком алом кафтане и такой же шапке, с кривой саблей наперевес, уже взял по приказу Андрея Курбского половину дворянской конницы и обходил ливонцев с правого фланга, а с левого их молниеносно объезжали казанские и астраханские татары.
Засекин, Бортников и Василевский, нацелив копья на пехотинцев, в первом ряду летели на врага. Но первым и досталось! Ливонские мушкетеры и арбалетчики, поняв, что, подобно рыцарям, могут угодить в ловушку, оборотились не к стрельцам, а к русской и татарской коннице.
Мушкетеры уже втыкали в землю свои рогатины, укладывали массивные ружья, запаливали фитили, целились. Прилаживали к плечу свое оружие и арбалетчики. Но, в отличие от ливонцев, дворянская конница – и тем паче татарская – шла врассыпную, веером. Тут нельзя было ударить свинцом в гущу, приходилось целиться, а целятся, как известно, всегда в первых.
Двух ратников, что опередили Григория, Петра и Степана, тотчас сразил десяток свинцовых горошин, а арбалетные болты сбросили их с лошадей, которые, раненые смертельно, пролетели вперед, сбив при этом пяток ливонцев. А еще двух, что, отбросив мушкеты, поспешно извлекали из ножен мечи, накололи как поросят копья трех юных бойцов – Засекина, Бортникова и Василевского.
И тут же молодые бойцы, обнажив сабли, стали полосовать нападавших врагов – только б до коней не дотянулись басурманы!
Григорий заметил, как вырвался из гущи сражавшихся и бежал к нему копьеносец, нацелив стальное жало прямо ему в грудь. Для маневра не оставалось времени; спастись можно было, лишь подняв коня на дыбы. Так он и сделал. Вошло широкое, с зазубринами копье в брюхо боевого коня, но Григорий успел спрыгнуть и отсечь ливонцу левую руку по локоть. А когда тот падал – снести ему еще и голову под корешок.
Григорий поискал глазами друзей – живы ли?! – но не нашел их в этой кровавой гуще. Зато увидел другое: рухнул совсем рядом с ним красавец-конь, белоснежный, с дорогой багряной попоной, обшитой золотом; из распоротой шеи била фонтаном густая кровь, а конь все перебирал копытами, пытаясь встать, и только сильнее давил на своего недавнего седока-хозяина, подминая его под себя…
Ливонский пехотинец, щурясь от солнца, занес топор над поверженным воином в красном кафтане, который пытался дотянуться рукой до своей дорогой сабли, сверкавшей каменьями. И лежала-то она рядом! Да только смерть была ближе. Но Григорий успел – в два прыжка оказался рядом и ударил саблей по рукам ливонца. Взвыл тот, замахал культями как мельница и, брызгая кровью, повалился рядом и забился. А к ним, вырвавшись из толпы бьющихся, подступали еще двое басурман с мечами. Отбил Григорий круглым щитом удар первого, от второго отмахнулся саблей. Отступил. Но ливонцы наседали. Первый отвлекся, заметив хозяина белого жеребца, наполовину уже вылезшего из-под своего красавца-коня, теряющего последнюю кровь. Руками цеплялся Данила Адашев за землю, но та успела превратиться в бурую жижу, и дело потому шло медленно. Извернулся Григорий на удачу, открыв себя на секунды, полоснул того ливонца по лицу – снес всю образину, превратив в кровавую подошву, да успел отбить щитом удар второго пехотинца. Но нанести свой удар не успел. Полыхнул рядом стрелецкий кафтан, сверкнул адским пламенем стальной месяц, опустился на ливонца и рассек его ровнехонько надвое – от плеча до паха. Обернулась к застывшему Григорию бородатая физиономия стрельца, разъехалась в широкой улыбке.
– Раз – и нет чухонца! – гулко, точно полуночник-филин, гоготнул молодой матерый мужичище.
– Звать-то как тебя? – спросил Григорий. – Ты ведь мне жизнь спас.
– Да живи на здоровье, барин, – ответил тот, отряхивая топор. – А зовут меня Савелием Крутобоковым.
– Не забуду! – бросил вслед уже уходящему стрельцу Григорий.
– Ты по сторонам смотри лучше, – вполоборота ответил тот. – Живем шутя, а помрем вправду! – И пошел дальше махать страшным своим топором, утюгом врезаясь в ряды сражающихся.
Оглянувшись, нет ли скорой опасности, Григорий протянул руку командиру. Тот ухватил ее, рывком поднялся.
– На войне всегда так: один другому порукой! Я, отрок, должник твой отныне! – хлопнул Адашев его по плечу. – Жив останешься – отыщи меня. А коли убитым мне нынче быть, к пресветлому князю Андрею Курбскому иди – скажи, чтоб отметил. Передай, я так просил!
– Да, командир, – кивнул Григорий.
Данила Адашев подхватил свой меч и ринулся в гущу битвы. Повсюду уже мелькали красные кафтаны стрельцов, теснивших врага. Положив цвет ливонского рыцарства в чистом поле, стрельцы отбросили пищали и взялись за бердыши. Точно бравые косцы шли они по рядам поверженных рыцарей и выкашивали их, рассекая черепа, лица, шеи. Но бóльшая часть стрельцов уже торопилась на выручку редеющей под обстрелом русско-татарской коннице.
Отражая ее удары, ливонские пехотинцы и не заметили, как полчище московитов в красных кафтанах, от которых шарахались даже самые отважные враги, уже подступало к ним. Набранному из вольных мужиков, из самых крепких и бесстрашных, не было этому полчищу дела до дворянской чести! Наемники, чей труд на поле боя был один – убивать, безжалостно вырезали своих противников, походя рубя бердышами на части. И трудно было противопоставить столь опытным и свирепым душегубам другого какого воина!
– Садись на коня! – завопили у самого уха Григория.
Тот рывком обернулся: над ним, с окровавленной саблей, в седле сидел Петр и держал под уздцы другую лошадь, чьего седока, верно, уже подрезали и потоптали в этой бойне.
– Жив?! – просиял Григорий.
– Как видишь! – откликнулся весело товарищ.
– А Степка?!
– Не знаю, – замотал тот головой. – Не тяни, садись!
Григорий вскочил на коня, провернул его вокруг себя. Главная схватка смещалась к холмам. Там, вдалеке, в седлах бронированных своих коней неподвижно сидели избранные рыцари ордена. С ними была рота – а то и две – стрелков-мушкетеров. Ливонцы замерли, ожидая скорой и трагической развязки битвы. Только белый стяг на ветру колыхался, да белые плащи с алыми крестами легко подхватывались ему в такт.
– Эх, дотянуться б до магистра! – сокрушенно покачал головой Григорий. Но тотчас встрепенулся: – А что, Петька, может, рванем наверх?!
– Рванем, Гришка! – охотно согласился товарищ.
И оба, хватив лошадей шпорами, пошли в обход гущи битвы, цепляя ее лишь по краю – там, где секлись молодые дворяне с остатками рыцарей и ливонской пехоты.
– А ну, братцы, пошли брать магистра! – что есть силы прокричал на скаку Григорий.
– Ату его! – залихватски вторил ему Петр.
Часть освободившихся дворян уже пускала своих лошадей вслед за двумя удалыми юнцами-однополчанами.
Магистр ордена Вильгельм фон Фюрстенберг, застывший в седле боевого коня на холме, сразу отметил это движение. Его непроницаемое, испещренное морщинами лицо стало еще жестче. Вот она, оборотная сторона медали, именуемой «свободной обоюдовыгодной торговлей»! Вот чем приходится платить за песцовые и куньи шубы для знатных немецких дворяночек! За лён для парусов Ганзы! За русский мед, столь желанный и незаменимый во время застолий! За добрый и дешевый воск для католических и протестантских церквей, в коих священники творят молитву Богу, насылая пагубу на царя-схизматика! Так уж лучше совсем обойтись без этих свечей, лишь бы подальше держать московитов от даров Запада! Воистину по собственной воле загнали они Троянского коня в свою крепость, вложив в руки этих медведей мушкеты из немецких, английских и шведских оружейных дворов! На свою голову научили страшный и свирепый народ новой военной науке! Своей рукой подписали себе смертный приговор!
Вильгельм фон Фюрстенберг видел, что битва проиграна. Ливонцы глупо угодили в ловушку хорошо известной европейской военной стратегии «караколе», разработанной в свое время швейцарцами и французами. Треть его рыцарей и оруженосцев полегли под прицельным огнем стрелецких мушкетов. Еще половина потеряли коней и были ранены. Только оставшейся трети рыцарства удалось увернуться от русского свинца. Потеряв полководцев, они ринулись на русских разрозненным строем и теперь тоже таяли на глазах…
Видел магистр: больше числом было русских, как и земля их была куда обширнее ливонской; ожесточеннее они дрались, презрев все рыцарские правила. С какой-то веселой дьявольской злобой вырубали они все новые коридоры в чужих землях для своего неугомонного и ненасытного царя…
Магистр поднял руку в стальной чешуйчатой перчатке и дал отмашку. Герольдмейстер, глаз с него не сводивший, тоже махнул рукой. И вновь выстрелили трубы гортанной медью в летнее небо над Дерптом. Но теперь глас этот напоминал вой смертельно раненного волка, нарвавшегося на матерого медведя, зимняя спячка которого неосторожно была кем-то потревожена.
Это был сигнал к отступлению.
А отряд русских дворян уже во весь опор поднимался на холмы.
– Смотри, смотри! – указав острием сабли вправо, окликнул Григория Петр. – Да это ж Степан наш – живой, черт!
Григорий хоть мельком, но уловил взглядом первого всадника из небольшого отряда, что тоже рвался на холмы. Это и впрямь был Степан: как и они, он летел с парой десятков молодцов из дворянской конницы с явным намерением атаковать магистра.
– Опередим его, Петька?! – азартно прокричал Григорий. – Не отдам Степке магистра, сам возьму! Первым доберусь!
Увидев два отряда дворянской конницы, и часть татар оторвалась от битвы и понеслась вслед за ними на холмы Дерпта. А там, под стягами ордена, Вильгельм фон Фюрстенберг уже готов был принять свой жребий – разбитого наголову полководца, спешно покидающего поле битвы и оставляющего за спиной тысячи раненых соплеменников.
– Филипп, возьми их на себя, – кивнув на русских конников, сказал он брату, ландмаршалу ордена. – Преподай урок этим зазнайкам.
Тот кивнул, опустил забрало. Ряды сомкнулись за магистром, рыцари ощетинились копьями. Молодые русичи не рассчитали сил, решив атаковать противника: и числом их оказалось меньше, и ливонские рыцари были не в пример опытнее. Сотни полторы русских и татар, занеся сабли, влетели на холмы, но тотчас треть из них опрокинулись под градом свинца ливонских стрелков. И все-таки татарские стрелы выбили почти половину герольдов, заставив их, роняя медные трубы и хватаясь за пробитые шеи и грудь, пасть на землю. Положили те же стрелы еще и десятка два ливонских мушкетеров, а вот уязвить рыцарей, прикрывшихся щитами, они не смогли.
Уцелевшие ливонские рыцари врезались в ряды зарвавшихся русских дворян, показав им, каково это – идти с кривым мечом на рыцарское копье! Еще десятка три дворян ливонцы сбили с коней и пригвоздили копьями к земле. А затем, обнажив длинные тевтонские мечи, ударили русским в спину.
– Немчура, сукины дети! – отмахиваясь от ливонца саблей, кричал Петр Бортников. – Чтоб ты пропал, окаянный!
– Сдохни! Сдохни! – вопил где-то неподалеку Степан Василевский.
А Григорий оказался среди тех полутора десятков отчаянных, что успели прорваться и через огонь мушкетеров, и через линию рыцарей с копьями. Смельчаки влетели на самую вершину холма, где рыцари взяли своего магистра в круг. На несколько мгновений взгляд Григория встретился с непроницаемым, полным льда и презрения взглядом Вильгельма Фюрстенберга. Тот уже успел надеть шлем, но забрала не опускал, словно насмехаясь над своим врагом. Столь откровенное презрение еще более разбередило сердце юного воина, но что могла сделать против многочисленных копий его сабля? Чужеземные рыцари даже не обнажили мечей – они просто ощетинились и стояли недвижно, будто каменные изваяния.
Григорий Засекин ухватился за наконечник ближайшего копья и отвел его в сторону, намереваясь прорваться внутрь, но тут ландмаршал ордена Филипп Фюрстенберг поднял арбалет и отправил стрелу прямо в голову молодого русича. Лишь в последнее мгновение Григорий успел прикрыться щитом. Стрела однако пробила сталь и на дюйм вошла в плечо. Боль обожгла сильно и горячо, Григория повело в сторону. Но выстрел этот оказался далеко не последней опасностью, поджидавшей такого сорвиголову, как новик Засекин. Один из рыцарей, уложив мечом безвестного русского всадника и оглянувшись, увидел, что магистра атакуют. Он стремительно развернул коня и занес меч над дерзким русичем… Григорий почувствовал лишь, что в голове неожиданно зашумело, точно вечевой колокол ударил у самого уха, и что-то горячее покатилось по лицу, ослепив левый глаз. Но правым он успел заметить насмешку на сухих губах старого магистра. Увидел, как тот повернул коня и, в сопровождении свиты и знаменосца, будто ничего и не случилось, поехал с холма прочь…
А еще он увидел вновь занесенный над ним длинный ливонский меч, но тому так и не суждено стало выполнить свою смертоносную миссию. Потеряв сознание раньше и выпустив поводья, Григорий мягко соскользнул с коня вниз. Немецкий меч рассек воздух у самой его шеи, просвистев, точно порыв ледяного ветра…
2
…Ему было жарко на сеновале. От летнего пекла, горячей соломы, теплых женских рук. Солнце било отовсюду сквозь щели, где-то за двором звонким лаем заливался Волчок. Солома приятно покалывала тело, забивалась куда ни попадя…
– Ах ты, княжонок мой милый, – шептала она ему в ухо. – Сколько ж тебе годков-то исполнилось?
– Пятнадцать, – отвечал он. – А тебе?
– Ой, и не спрашивай! – засмеялась она.
– Нет, скажи!
– Не скажу!
– Скажи, Маруся, – настаивал он. – Я же сказал…
– А ты меня не разлюбишь?
– Да что ты?! Не разлюблю, конечно…
– Перекрестись.
Но как там было креститься, когда ее полная грудь всецело разлилась по его еще по-мальчишески худому телу с торчащими ребрами?! Русые волосы, что пахли лугом и цветами, густо облепили лицо, лезли в глаза, щекотали нос и губы. Зеленые глаза беспрерывно смеялись и смотрели на него зазывно, весело и упрямо. А он все гладил руками ее ягодицы, ляжки, спину – гладил жадно, ненасытно…
– Двадцать один годок уж мне, Гришенька, – созналась наконец она. – Так-то вот. Помру теперь, верно, старой девой…
– Я тебя, Маруся, никогда не забуду! – все, чем смог он утешить ее.
– Ох, не забывай! – добро улыбнулась она. И неожиданно расплакалась, ткнулась в него раскрасневшимся лицом: – Я тоже тебя помнить буду, Гришенька… А что батенька-то твой, хозяин наш светлый князь Осип Пантелеевич говорит?
– Говорит – скоро.
– Страшно небось?
– Нисколь не страшно! – взъерошился он.
– Это ж надо, в пятнадцать-то годков – да из родного дома! Да невесть Бог куда! В Московию, на чужую землю, да еще с саблей да на коня! Когда б любиться еще и любиться…
– Так надо, – упрямился отрок. – А с саблей я давно в ладах, отец меня сызмальства учил. Я любого крымца одолею! – храбро прибавил он.
– Ах ты, княжонок, воин мой драгоценный…
Она прижалась к нему щекой. Поцеловала в губы. И он стал целовать ее – жарко, смело. Совсем не так, как в первый раз, когда она, тут же, на этом же сеновале, подкараулив, когда они останутся одни, положила его ладонь на свою грудь.
– А ты норовистый паренек, молодчинка. Еще хочешь? – целуя, спросила его Маруся. – Хочешь, да?
– Хочу, – бесхитростно признался он.
– Рада послужить тебе, – улыбнулась она. – Ты ведь мой самый милый, самый-самый. Истинный крест, Гришенька! Истинный крест…
С этого самого сеновала и забрали его под чистые руки на службу государеву.
Вернулся он домой, счастливый, подошел к нему отец, хромая, обнял за плечи. Отец его был широкоплеч, носил простую рубаху, перепоясанную шнурком, штаны и добрые сапоги, хоть и старые, но из дорогой кожи. Польские!
– Ты эту дурь с бабами из головы теперь выбрось! – хмуро, но без гнева сказал он.
Григорий и не ведал, что отцу давно известно о его коротких встречах с Марусей, крепостной их девкой. Только до поры до времени виду не казал. А зачем? Пусть сын побесится, налюбится вдоволь, ведь иная совсем жизнь ждет его скоро. Приедут глашатаи царские, всех отроков, кому исполнилось пятнадцать лет, призовут на службу. И попробуй не явись по Разрядному приказу, ведавшему призывом! Это тебе не в Литовском княжестве, где новику откупиться можно, коли деньги есть, а то и отговориться: мол, один только сын у своих родителей, кто за имением присмотрит? Или на болезнь какую сослаться. В Московском царстве многим можно поплатиться за ослушание! И штрафом, и выселением, и острогом. И не важно – один ты сын у родителей, или вас пятеро. Царский указ – он один для всех и на всякие случаи жизни предусмотрен…
Бедны были князья Засекины. Родовиты, но бедны. А у Осипа Пантелеевича всего-то и было, что несколько тощих деревень в новгородских землях, в Бежецкой стороне, да крепостных душ три десятка. А ведь Засекины род держали от князей Ярославских, а те – от самих Ярославичей, в коих текла гордая кровь Рюрика, хозяином пришедшего на русскую землю и ставшего затем ее первым законным правителем!
Пожаловал отец Григорию крепкого еще коня, саблю старую, кольчугу, кафтан поношенный, но весьма по фигуре ладный, шапку и сапоги – хоть и великоватые, но тоже еще ноские. Отрядил слугу Фому, ординарца стало быть. Обнял, перекрестил, посадил на коня и напутствовал: «С Богом, сынок!»
Так и уехал Григорий Засекин – вместе с другими безусыми молодцами-дворянами, собранными по округе, – в далекую Московию нести царскую службу.
И страшно ему было, и любопытно. Но, как любой русский дворянин, Гриша с раннего детства знал, какой путь ему уготован: стать верным слугою царю православному и защищать отечество свое.
А в ту пору, когда взрослел Григорий Засекин, было от кого защищать Русь!
– Отрок, отрок! Жив? Глядите, пресветлый князь, глаза открывает…
Это он услышал над собой. Два лица к нему выплывали из тумана.
– Точно он? – спросил тот же голос.
– Что же вы думаете, Андрей Михайлович, я своего спасителя не разгляжу?
– Ну-ну, – усмехнулся все тот же голос, – подумать только, он и магистра решил в полон взять! Прямо на ливонские копья полез! Без страха и удержу! Молодец!
Григорий, с трудом сфокусировав взгляд, узнал в склонившихся над ним людях Данилу Адашева, командира дворянской конницы с лицом простым и веселым и тяжелой золотой серьгой в правом ухе, и пресветлого князя Андрея Михайловича Курбского. Сам же он, Григорий, лежал под пологом шатра; рядом, тут и там, корчились в муках раненые: остро кололи сердце их тяжкие стоны, а то и в голос кричали искалеченные храбрецы.
– Лекарь! – окликнул Адашев доктора. – Как-то голова у нашего героя, цела? Умом не повредился?
– Не извольте беспокоиться, Данила Федорович, голова цела-целехонька, кожу только и рассек меч – шелом спас. Добрый шелом!
– Ну, очнулся, вояка? – усмехнулся Адашев.
– Ага, – слабо откликнулся Григорий.
– Ага! – передразнил его Курбский. – Ты больше с саблей на копье-то не лезь. На копье рыцарское мушкет есть!
– Да, пресветлый князь, – покорно согласился Григорий.
– Будет жить, – утвердительно кивнул Курбский. – Да молодец же ты, молодец! – похвалил он молодого вина. – Поболе бы таких!
– Говорил тебе: я твой должник, – очень серьезно сказал раненому юноше Данила Адашев. – И таковым долго быть не привык.
Не переоделся еще после сечи лихой командир – вся его кольчуга была покрыта бурыми пятнами. Да и Андрей Михайлович, тоже не из брезгливых, что касалось крови врага, еще не успел снять европейскую кирасу.
– Так и я твой должник, – подмигнул князь Курбский Григорию. – Лучшего командира ты для меня спас нынче. Как твоя фамилия, отрок?
– Засекин, – проговорил Григорий. – Князь Засекин, – с гордостью добавил он.
Курбский нахмурился, прищурил левый глаз.
– Ярославские?
– Новгородские – из Ярославских.
– Значится, мы с тобой дальняя родня. – Воевода покачал головой. – Вдвойне приятно. Был такой князь на Руси – Федор Ростиславович Черный, из смоленских, если тебе ведомо. А после первой женитьбы еще и ярославским стал. Овдовев, вторым браком на ордынской княжне Анне, правнучке Батыя в Орде женился и детей нарожал. У Давида, его сына, тоже был сынок – Василий Грозный, вот его сыновья-то и стали нашими корнями: от Василия Васильевича Курбские пошли, а от Глеба Васильевича – Засекины. Так-то, брат! А через Анну еще и кровь самого Чингисхана примешалась. Славные у тебя предки были – гордись ими!
– Горжусь, – не без труда кивнул Григорий.
– Как и Данила Федорович, буду рад тебя видеть, княжич. Найдись, когда ноги поднимут.
– Так что же ливонцы – сдались? – набравшись храбрости, спросил Григорий.
– Как же им не сдаться, когда у нас такие бойцы, как ты? – Курбский переглянулся с Адашевым. – Не мудрено!
– А как Дерпт, будем брать? – не удержался от очередного вопроса Григорий.
– Будем, будем, – довольно усмехнулся Андрей Михайлович. – Ты пока раны зализывай, отрок, да сил набирайся!
Как только два полководца ушли, вихрем подскочили Петр со Степаном.
– Живой! Живой! – бухнувшись на колени, Петр Бортников ударил кулаком по скамье, но тотчас ойкнул, отдернул руку.
– Хорошо еще, не друга своего по башке хватанул, – урезонил его немолодой уже Фома. – Мечом не намахался, что ли?
– Цыц, – шикнул в ответ Петр. – Ишь, разговорился, холоп!
Степан, тоже опускаясь на колени перед постелью товарища, усмехнулся. На этот раз Петр тихонько дотронулся до здорового плеча раненого друга и вдруг совсем по-мальчишечьи… заплакал. Слабо сжав руки товарищей, заплакал от счастья и Григорий. При друзьях-то позволительно было.
– И не только сам живой, а еще и Даниле Федоровичу Адашеву угодил, – похвалил Петр. – Жизнь спас!
Степан Василевский охотно поддержал:
– Да уж, такого не позабудешь!
Вскоре Фома выпроводил их, а Григорий еще долго смотрел на грубую холстину – крышу походного лазарета, и слезы текли по его щекам, едва тронутым весенним пушком.
А еще два дня спустя, разбуженный канонадой, Григорий выбрался из санитарной палатки и, опираясь на саблю в ножнах, покачиваясь, забрался на холмы, где совсем недавно величаво сидел в седле рыцарского коня магистр ордена. Летнюю ночь в клочья рвала канонада. Адский пламень изрыгали бомбарды в сторону Дерпта – палили по его крепостным стенам и башням, а мортиры – посылая снаряды навесом – жгли сам город.
19 июля 1558 года не выдержал осады старинный город Дерпт – сдался на милость победителя и вновь стал Юрьевым.
Скоро Григорий вернулся в войско, что грозным маршем шло по ливонским землям, оставляя там, где возникало сопротивление, выжженную пустошь и дымящиеся руины. Сам русский царь благословил полководцев своих стать палачами каждому, кто осмелится перечить его монаршей воле. Не по нраву были юному княжичу кровопролитие и разбой, однако сдерживал он свое сердце – куда еще деваться пусть и родовитому, но бесправному холопу государя всемогущего? Петька Бортников тоже чурался безоглядной резни, но чуждо то было Степану Василевскому.
– Что с бою взято, то свято! – любил повторять Степка, и зло и весело звучала в устах его старинная присказка. – А война без крови – точно море без воды! Добуду свою пядь землицы чухонской, ой, добуду!
Так рассуждали тогда многие русские дворяне – их обещали наградить занятыми землями. Сегодня ты с мечом в руке лезешь в драку за городишко или деревеньку, а завтра ты здесь же – помещик и полновластный хозяин.
Один ливонский замок за другим сдавался московитам. В течение лета и осени все того же 1558 года до Ревеля и Риги дошли русские полки, взяли Курляндию и остановились на границах Восточной Пруссии и Литвы. Через многие бои под командованием Данилы Адашева прошли трое молодых новиков, матерея, набираясь жестокого опыта.
И тут Ливонский орден неожиданно запросил пощады. Иоанн поначалу не пожелал идти на уступки, но позже передумал. Орден уже готов был рассыпаться, как старое ветхое дерево, Москве же срочно понадобились свежие полки на южных границах. Алексей Адашев решил-таки осуществить давний свой план, который казался ему куда важнее всех ливонских завоеваний!
Полугодовой мир был подписан…
3
Курбский остался с армией устанавливать русские порядки на захваченной ливонской земле, а Данила Адашев в первой декаде марта 1559-го с большим отрядом самых приближенных дворян срочно выехал в Москву. Был среди его бойцов и Григорий Засекин с друзьями.
Через пять дней они въехали в столицу.
– Возьму и вас в Кремль, – сказал Адашев трем товарищам. – Покажу брату лучших моих витязей!
Кланялись Даниле Федоровичу думские бояре и дьяки, служилые князья и воеводы, когда ступал он по каменной лестнице, направляясь к палатам Алексея Федоровича. Адашевы роду были незнатного, но добились многого. Знали бояре: привечает братьев царь Иоанн Васильевич!
Алексей Федорович, друг и наставник государя, будучи человеком набожным и аскетичным, одевался строго – впростой кафтан без всяких золотых вышивок. Да и кабинеты свои обставлял так, чтобы ничего лишнего не было. Стол, стул, Священное Писание. Перо да бумага. Свечи. Всё.
Младшего брата он встретил с радостью, простер к нему руки:
– Живой да здоровый, слава Господу! – Алексей горячо обнял Данилу, поцеловал три раза.
Данила Адашев, прямая противоположность брату – в расписном кафтане, щегольских сапогах с серебряными пряжками и с серьгой в ухе, улыбнулся:
– Скажи спасибо вон тому отроку, – кивнул он на Засекина. – Жизнь мне спас в бою! Да иди же сюда, Григорий, что робеешь?
Молодой человек подошел, низко поклонился.
– Князь Григорий Засекин, – представил его Данила.
– Князь? – удивился старший Адашев. – Ишь ты!
– Дальний родственник светлейшему Андрею Михайловичу, – кивнул Данила. – Тоже из Ярославских.
– Что ж, спасибо тебе за брата, князь, – прищурив глаза, изрек Алексей Адашев. – Ну и как же наградил тебя твой командир, Григорий?
– Кафтаном с плеча, – запинаясь, чувствуя, что говорит глупость, ответил Засекин, но так оно и было.
– Да неужто кафтаном? Да со своего плеча? – рассмеялся Алексей Адашев. – Это ведь, видать, непростой подарок – кафтан! А слабо было хотя бы десятником назначить, а то и ординарцем, а, Данила?
Тут уж и сам Данила Федорович засмущался.
– Считай, уже десятник, – промолвил он. – И ординарец в придачу. А рубится как, – оживился на глазах, – загляденье просто! Одних только рук ливонских поотсекал сколько!
– А коль рубится хорошо, значит, и сотником может служить, а, Григорий?
Краской залилось лицо молодого воина.
– Ну, видать, согласен твой князь сотником у тебя быть, – сказал, посмеиваясь, Алексей Адашев. – А добрые сотники тебе в Крыму понадобятся, брат. И еще как!
– В Крыму? – нахмурился Данила.
Григорий тоже во все глаза смотрел на первого из чинов государства – ждал разъяснений. И Петр со Степаном в отдалении слух навострили.
– В Крыму, в Крыму, – утвердительно закивал Алексей Федорович. Пригладил чащу бороды. – Через неделю выступаешь с войском, Данила. За тем я тебя и вызвал из Ливонии – там пресветлый князь Андрей Курбский и один справится. Да у него помощников и без тебя хватает. А нам надобно хана Девлет-Гирея воевать!
Алексей Федорович, возглавлявший внешнюю политику всего Московского царства, был изначально противником войны с Ливонией. Поговаривали даже, что и с самим царем возникали у него размолвки по сему поводу.
– Прежде всего надобно искоренить неверных, злых врагов нашей родины и Христа, – не раз втолковывал царю Алексей Адашев, ярый сторонник войны с мусульманским миром, радетель за выход Руси к южным морям. – Ливонцы хотя и не греческого исповедания, однако ж христиане и для нас неопасны – как собаки битые, что, хвост поджавши, стороной бегут. Другое дело – крымцы. Эти и Христа, и русских ненавидят. А Бог благословляет только войны справедливые, нужные для целости и свободы государства. Об этом стоит помнить и не забывать!
Не просто так советник царя заговорил о грядущем походе. Ливонский орден запросил мира, и Адашеву-старшему открылись перспективы долгожданной войны с южными соседями Руси.
– Эта змея Девлет-Гирей со своим выводком так по Черному морю и катается, в Днепр заходит, вверх идет, города обирает. Купцам нашим головы рубит! Вот-вот ударит исподтишка, пока мы с ливонцами разбираемся. А змеенышей у него много! И все прибывает в полку его. К тому же султан турецкий так и подначивает Девлет-Гирея на Русь идти! – Алексей Адашев еще раз крепко обнял брата: – Вот что, Данила, как ты знаешь, в твою честь князь Михаил Иванович Воротынский, друг наш сердечный, пир сегодня решил устроить, так ты бери своих молодцов, – кивнул он на Григория и стоявших в отдалении Петра и Степана, – пусть меду вволю попьют, что и говорить, заслужили! – Подмигнул бойцам: – Да на дев юных заодно поглядят-полюбуются.
За Москвой-рекой рдел закат. Алое солнце разливалось по снегам, обложившим стольный град, по заледенелой и заснеженной реке. Розовым вечерним золотом рассыпалось по крышам слободских домов. Сани то и дело пролетали туда и обратно. Дым валил из печей. Огоньки уже светились в иных окнах. Счастливое Замоскворечье готовилось пить брагу и мед. Ветерок гулял – еще не весенний, холодный. Далекий женский голос, высокий и пронзительный, уже хмельной, выводил за Москвой-рекой песню…
– Слышь, Гринь, вот нам свезло, а? – толкал Петр своего друга в бок, когда они втроем шли вдоль берега к хоромам князя Воротынского. – Закрутилось колесо! Это ж надо: разок командира из полымя вытащил, вот тебе и удача на всю жизнь!
– Поумерь прыть-то, Петька, – осаживал его Григорий. – Как солнце светишься! Холодку напусти!
Друзья принарядились – в самое лучшее оделись. Кафтаны, расшитые штаны да сапожки из дорогой кожи. Сверху – шубы. Шапки из алой да изумрудной парчи с отворотами. При саблях на широких кожаных ремнях шли молодые воины.
– Ты – князь, ты и напускай холодок, – говорил ему товарищ, выкатывая грудь колесом. – А тверскому дворянину Петру Бортникову и так ладно будет. Пусть видят – радуюсь я жизни!
Шагов за двести до терема Михаила Ивановича Воротынского, до высоких и расписных его хором, Степан остановился.
– Не пойду я туда, – сквозь зубы процедил он.
– Почему? – удивился Петр.
– Не пойду и все.
– Не дури, Степан, – весело сказал Григорий. – Нас втроем пригласили – втроем и придем.
– А я и не дурю, – огрызнулся тот. – Пришли втроем, а к светлому князю Михаилу Воротынскому вдвоем идите. Или забыли, что я – его человек? Что оружие, которым я ливонцев бил, на его деньги куплено?
– Ерунда, Степан, – выдыхая пар, ободрил его Григорий. – Мы все – воины государевы, и потому равны.
– Ты сам-то веришь тому, что говоришь? – спросил Степан. – Это в бою мы равны, пресветлый княжич, а тут, у хором князя Воротынского, все иначе. – Рыжеволосый Василевский зло усмехнулся: – Как меня представлять будут – боевым холопом князя Воротынского? Меня и за один стол-то с ним не посадят, ведь дворянин я только наполовину. Мать моя, полька-бесприданница, которую отец и прокормить не мог, за простого княжеского десятника вышла, чтобы с голоду не помереть, так и звание свое шляхетское потеряла. Так что я для всех важных птиц на московской земле – черный человек. И заметили меня потому лишь, что мечом владею лучше других. Вот и вся заслуга. А коли усадит меня за стол твой добрый ангел-хранитель Данила Адашев, так сам Воротынский взглядом меня, раба своего, спалит! Так куда ж мне с вами? – Желваки так и ходили по крутым скулам Степана Василевского. – И в стороне стоять тоже не хочу, когда вы с ним кубками звенеть станете. – Он затряс головой: – Не пойду!
Но Григорий вовремя схватил боевого товарища за рукав:
– Я без тебя за стол не сяду! И Петр тоже. Прогонят – вместе уйдем!
– Может, ты вместе со мной еще и под розги княжеские ляжешь?
– О чем ты? – Рука Григория, державшая кафтан друга, сама собой ослабла.
– Светлый князь Михаил Иванович Воротынский однажды выпороть меня приказал, мне лет двенадцать тогда было. Я его сынку, княжонку, физиономию однажды разбил. Да за дело! Сам лез на рожон: думал, раз я холоп, так все съем. Ан не тут-то было! А меня скрутили, хоть я кусался и волосы драл дворовым, били, били, чуть дух не выбили. А что, ежели и на сей раз я ему не глянусь, а? А дворовых у него завсегда много – на любой случай жизни. Так что прощевайте, братцы. Без меня нынче обойдетесь.
Степан повернулся и, прижав саблю к бедру, быстро зашагал по скрипучему снегу в противоположную сторону. Ни Григорий, ни Петр так и не посмели окликнуть его: пустое дело, уж они-то характер своего друга знали.
Подходили два товарища к терему Михаила Ивановича уже невеселые. Прав был Степан: не на поле боя они тут, а пред очами родовитого князя Воротынского, и потому не равны.
А княжеский терем был сплошное загляденье – и выше, и роскошнее многих на Московской земле. Богаты и знатны были Воротынские, и горды своей кровью: родство вели от черниговских князей, потомков Рюрика, и кровь Гедиминовичей, великих князей литовских, через Ольгерда примешалась к ним. Долго они служили великим князьям в Литве, пока католическая вера на землях княжества не стала наступать на веру православную. Тогда Воротынские, как и многие другие князья, перешли на сторону Москвы и вот уже более полувека, как осели. Служили поначалу Ивану Третьему, взявшему в жены греческую царевну Софью Палеолог, затем их сыну Василию Третьему, а теперь вот уже и внуку русских венценосцев – Ивану Четвертому Рюриковичу.
Высокий терем с десятками крыш и резными наличниками бросался в глаза еще издалека. Прочный бревенчатый забор в три человеческих роста окружал его, высокое и широкое парадное крыльцо выходило на Москву-реку.
Тут уже было многолюдно и шумно. На крыльце и поблизости топтались десятка полтора княжеских слуг – бородатых, грозных и суровых, в длинных тулупах, с топорами и при саблях. Гости собирались – и много! Кого тут только не было – любой думский боярин считал за честь пожаловать к царскому вельможе и полководцу, старшему другу Алексея Федоровича Адашева и князя Андрея Михайловича Курбского. Это они, первые из первых, собрали Ближнюю думу, когда в порывах боярского своевластия, как меж пожаров, годами металась Русь. Они вразумляли словом и делом дикого сердцем молодого царя и смогли-таки за одно десятилетие навести порядок в Московском царстве.
Слуги разводили лошадей и коляски по двору.
– А девицы-то, гляди, Гриня, хороши, а?! – придерживая саблю, шепнул Петр. – Не соврал Алексей Федорович!
Во все глаза Григорий и Петр наблюдали, как отцы семейств, приближенных к Воротынским, помогают женам и дочерям выйти из повозок, изнутри выстланных мехами да шубами. Платки под самый подбородок и шапки собольи матерей семейств скрывали пол-лица, а все остальное – широкие расписные платья да шубы. Зато у девиц лица были открыты, волосы уложены косами на затылке, укрыты теплыми платочками.
Едва они увидели московских красавиц на выданье, как тотчас забыли о Степане: сам виноват – горяч больно, норовист. Еще опомнится, пожалеет.
В просторных сенях раздевались. Холопы из домашних князя, низко кланяясь, подхватывали шубы и кафтаны, волокли прочь. Натоплено было в тереме изрядно. Пахло свежей сосной, а еще – яствами. Крались ароматы из пиршественной залы, куда уже несли на серебряных блюдах поросят и осетров, пироги и закуски.
Данила Адашев первым подметил двух молодых людей, явно стеснявшихся, потиравших руки с холодка, поглядывающих на разрумянившихся от скромности и морозца девиц, что опускали глаза. В красном кафтане, расшитом золотом, с тяжелой золотой серьгой в ухе, с короткой стрижкой в скобку, русоволосый ясноглазый Данила Федорович был похож на удалого атамана с окраины Руси, разорившего богатый персидский караван.
Проходя мимо, подмигнул, хлопнул нерешительных своих бойцов по плечам:
– Смело держитесь, не робейте! – Адашев заговорщицки понизил голос: – Только моргайте перед девками поменьше, они этого не любят. А вот подмигивать не забывайте! Где еще столько цветов весенних среди зимы увидите? Разве что во снах молодецких!
Вскоре двух бойцов, входивших в пиршественную залу, объявили и всем гостям:
– Князь Григорий Осипович Засекин и поместный тверской дворянин Петр Бортников! – ударил посохом в деревянный пол окольничий князя Воротынского. – Из Данилы Адашева дворянской конницы!
На молодых людей смотрели с любопытством. И как же иначе: новые лица. Тем паче, уже молва прошла, один из них Данилу Адашева от смерти спас! Девушки из боярских семейств глядели с особенным вниманием – всякий юноша, привеченный в доме князей Воротынских, да еще прославившийся в битвах, долгожданным женихом мог оказаться.
Друзей посадили за стол, а гости все подходили – все новые имена громко проговаривал окольничий князя Воротынского.
– Боярин Дмитрий Иванович Курлятев с сыном Иваном и дочерью Людмилой! – особенно торжественно и с расстановкой объявил вновь вошедших бородатый стольник в долгополом кафтане и высокой шапке.
Дмитрий Иванович Курлятев, уже немолодой царский вельможа, хорошо был известен всей Москве и ратными делами, и тем, что считался приближенным еще Василия Третьего, отца Иоанна. Широкий в кости, важный, с лопатообразной бородой, любивший одеваться и жить богато, Курлятев внушал почтение каждому, кто оказывался пред его очами. К тому же он был одним из тех, кто входил в Ближнюю государеву думу. Как и князь Воротынский, слыл другом окольничему Алексею Федоровичу Адашеву и протопопу Сильвестру; прославился Курлятев и как один из реформаторов Московского царства.
Дмитрий Иванович держал под руки своих детей – молодого человека в богатом кафтане, похожего на отца статью и широкой фигурой, и светловолосую девушку лет шестнадцати в синем сарафане с золотым шитьем. Ее косы кольцами были уложены на затылке, золотистые завитки плелись от ушей и касались плеч.
– Вот это девица! – зачарованно прошептал Петр.
– Хороша! – поддержал его Григорий.
– Да как хороша! – не унимался друг. – Глаз не отведешь. Царевна!
– Да ты потише, не то отец ее услышит, – усмехнулся Григорий. – Или братец. Скажут, что за медведи такие? Откуда?
Но не тут-то было: сотней голосов гудела княжеская трапезная. А Людмила Курлятева, едва произнесли ее имя, покраснела и глаза опустила.
– Вот бы с такой полюбиться – и до самого до гроба! – продолжал Петр, но совсем тихо, когда дочь боярскую усаживали неподалеку от молодых людей. – Ох бы! Сабля острая, конь белоснежный и дочь Дмитрия Ивановича Курлятева – Людмила! Вот оно, счастье!
– Ты губы-то подбери, да слюни утри, – покачал головой Григорий. – За такую невесту отец ее с тебя поболе, чем коня с саблей потребует.
А потом вышел к гостям и сам хозяин дома, и тоже не один.
– Мария, дочь моя средняя, – представил он честному собранию девушку, которую держал за руку. – Кто ее знает, кланяйтесь, а кто не знает, знакомьтесь!
Вот когда Григорий увидел свою княжну! Свою Марию с темными косами, плотно свитыми на темени, в ярко-красном, расшитом золотом сарафане, в рядах янтарных бус на высокой груди и золотых серьгах. Синеокую, темнобровую, улыбчивую…
И глаз от нее уже отвести не мог.
«Только бы недалеко Воротынские от меня сели! Только бы недалеко!» – шептал Григорий, как заклинание, и краснел, точно рак.
А когда слуги отодвинули резной стул и девушка, подобрав сарафан, села напротив, едва зацепив взглядом ясных глаз молодого человека, сердце у Григория так и зашлось.
Он подтолкнул Петра локтем, чтобы указать ему на княжну, но тот и не дернулся.
– Смотри же на нее, смотри! – с придыханием вымолвил Григорий.
– Да уж обсмотрел всю с головы до ног, а все мало! – откликнулся Петр.
– Куда ж ты смотришь?!
– На кралю Людмилу Курлятеву и смотрю, а ты куда? – прошептал Петр.
Григорий не успел ответить – начался пир. Принесли миски с водой и полотенца, чтобы чистыми руками рвать птицу да зверя, брать хлеба и овощи. Забегали слуги, наполняя кубки вином, медом и брагой. Кубки поднимали за царя-батюшку Иоанна Васильевича, что нынче прихворнул, простудился; за грозу ливонцев Андрея Михайловича Курбского, который с войсками в Ливонии остался; за Адашева Данилу Федоровича и всю русскую армию.
Главным из гостей в московском тереме Воротынского был, конечно же, Алексей Федорович – первый советник царя Иоанна. Старший Адашев трапезничал скромно, вино едва пригубил, к мясу и сладостям не притронулся, но других под свою дуду плясать не заставлял. А стол буквально ломился от яств! Тут тебе и поросята жареные, и олени, и перепела… Осетрина и стерлядь! Икра!
Гости пили мед, раздирали рябчиков и перепелов.
– Так какой из этих храбрецов спас тебя от меча ливонского? – спросил Данилу Адашева князь Михаил Воротынский, утирая ладонью бороду, которую уже в меру побила седина.
– Да вот он, – указал через стол командир дворянской конницы на Григория. – Молодой князь Засекин! Из ярославских княжат. Прошу любить и жаловать! Отчаянный рубака и друг мой теперь на веки вечные.
Юная Мария Воротынская тут же потянулась взглядом к молодому человеку напротив, и Людмила Курлятева, что сидела поодаль, как и другие девушки, тоже вытянула шею.
– Вот когда позавидуешь тебе лютой завистью! – едва не плача, зашептал Петр. – И почто не я оказался рядом с Данилой в том бою?! Пусть хоть бы и руку потерял, зато моей бы стала Людмила, разом бы стала!
– Ты руками-то не разбрасывайся, – пунцовый от смущения и гордости, шикнул на товарища Григорий. – И не до тебя мне сейчас…
– Так пусть юный князь расскажет нам, как все было, – попросил хозяин дома.
Лицо Григория совсем залилось краской.
– А он, гляжу, скромен, – продолжал Михаил Воротынский. – Что ж, доброе качество души. Но рассказать все же придется. Просим, княжич! Уважь-ка хозяина!
И опять Григорий встретился взглядом с юной княжной. И опять она, улыбчивая, одарила его теплотой синих глаз.
– Да дело было так, – несмело заговорил Григорий. – Бью я ливонцев в самой гуще, смотрю, один из наших под конем лежит, барахтается. Ближе смотрю, а это Данила Федорович…
– Что ж ты под конем-то делал, Данила? – спросил кто-то из гостей, и все засмеялись.
– Ты, давай, дело говори, – хохотнул и Адашев-младший, – а не то мне самому рассказывать придется. – Он поглядел на остряка: – Убили моего белоснежного, вот я и барахтался под ним, выкарабкаться пытался…
– А тут два ливонца с копьями на Данилу Федоровича, – начал вконец стушевавшийся Григорий, – хотят, значит, его прикончить. Рядом уже совсем. Ну, я одному чухонцу руки отсек по локотки, а другому саблей всю физиономию снес. Тут Данила Федорович и выбрался из-под своего коня. Вот и вся история.
Воротынский рассмеялся:
– Добрый княжич, и рассказывать мастак! – Он оглянулся на Адашева-младшего: – Повезло тебе, Данила, с бойцом-то, ничего не скажешь…
А Григорий уже вновь смотрел на Марию. И та не отводила взгляда – смотрела теперь открыто и прямо, только по-прежнему слегка краснела и смущенно улыбалась.
Пир был долгим. Славили царя-батюшку, жену и детей его, холопов верных: князей и бояр, дворян служивых, митрополита Макария и все духовное сословие, всю землю русскую. Потом зазвали скоморохов, те дудели в дуды и трещали трещотками, пели и кувыркались на все лады перед разомлевшими от пищи и вина гостями.
Мария Воротынская и Людмила Курлятева, одногодки, оказались еще и подругами. Да и странно было бы, случись иначе: отцы-то их и сами дружны были, и делом одним занимались – воевали за Русь и обустраивали ее. Захотелось теперь обоим побахвалиться красавицами-дочерьми, вот князь Михаил Воротынский и попросил обеих девиц станцевать гостям. Дмитрий Курлятев, крякнув, одобрил его просьбу.
Да и девушкам под гусли и дудки не терпелось уж пройтись по кругу, показать себя, удивить не только скромностью и статью, но и огнем, которого тоже имелось в достатке.
И когда Григорий ловил взгляд раскрасневшейся в танце девушки, он уже точно знал, для кого она танцует сейчас. Ведь нашли они время, пока гости бражничали и галдели, и словом перемолвиться, и подержать друг друга за руки. Тем паче что за окном рано стемнело и принесли свечи. А гулянье только еще разворачивалось. Глядя на ее танец, Григорий сжимал кубок, а ему все казалось, что он держит на ладони, как и часом назад, нежную ручку Марии. Видит ее губы – и так близко! Потянись только – и коснешься! Темно-синие глаза, ясные и зовущие. И, конечно, пока стояли они вдвоем, было время услышать: «Буду ждать вас, Григорий Осипович, когда ратные дела улягутся, к нам в гости. Когда все подвиги совершите. Батюшка зело рад будет…» «А будет ли? – думал Григорий, пылая лицом и стоя слишком близко от юной барышни в одном из углов перевернутой с ног на голову шумной и хмельной трапезной. – Будет ли? Ведь я беден, непростительно беден…»
И у друга его, Петра Бортникова, тоже выдалась минута перемолвиться с милой Людмилой Курлятевой. Мария помогла – шепнула подружке, кто грозится иссохнуть по ней точно подрубленный молодой дубок, ежели не ответит она ласковым словом нежданно-негаданному воздыхателю. А тот, надо сказать, и без того приглянулся боярской дочери, смешливой Людмиле, и Петру для того даже с рукой не пришлось расставаться.
«Никогда ее не забуду! – думал Григорий, когда по окончании пира пришлось раскланяться с хозяевами дома и другими гостями и, одевшись, выйти с Петром на мороз. – Машеньку Воротынскую, милую мою! Всегда помнить буду…»
Хмельные, влюбленные, брели они под луной, рассыпавшей золото по засыпающей Московии. Брели от хором князя Воротынского в Замоскворечье, в сторону своих палат – только не княжеских, а для новиков: с тесными койками вплотную друг к дружке да сундучками для пожиток. Убьют кого в битве – вот и свободная койка другому новику, и место для другого сундучка.
На белом жеребце под дорогой попоною догнал их Данила Адашев, без шапки, в кафтане нараспашку. Ординарцам крикнул:
– Вперед скачите – догоню!
Разом остановил коня, провернулся на одном месте, едва не сбил юных своих бойцов.
– Хороши девки, а? – усмехнулся командир. – Приметил, как вы их по углам-то растащили! Спасибо скажите, отцы не видели, – он снова усмехнулся. – Да только не больно заглядывайтесь на девиц-то этих, други мои!
– Отчего ж не заглядываться-то, Данила Федорович? – хмурясь, поинтересовался Григорий. – На кого ж тогда и смотреть прикажете?
– Смотреть смотрите, милые отроки мои, да не обещайте многого ни себе, ни им. Скоро в седла возвращаться. При сабле, копье, в кольчуге. К Десне и ко Днепру мы поедем, да скоренько поедем! Битвы у нас будут лютые – не все вернутся. Крымские татары злые. Ох, злые! И много их, бесов, встретит нас за днепровскими порогами! Но коли заступиться перед какой девкой или родней ее надо будет – помогу. Слово Данилы Адашева. Так что пользуйтесь добротой моей, пока жив я! – Он весело хохотнул. – Да сабли точить не забывайте, когда языки устанут! – Командир подмигнул им, хлопнул рукой в перчатке по конской шее: – Поше-е-ел! – И только снег из-под копыт его бешеной лошади полетел комьями в сторону новиков.
Но о барышнях молодым людям и помышлять не пришлось – эти несколько дней были заняты сборами. Сабли надо было точить да кольчуги чистить.
В сотники Данила Адашев своего спасителя производить не торопился, а вот десятником среди новиков Григорий стал уже на следующий день после пира у князя Воротынского.
Одно удивило товарищей: Степан Василевский после той их пикировки держался особняком и все хмурился. Григорий и Петр были уверены, что он дуется на них за тот званый вечер, от которого сам отказался. Хотя они-то чем провинились пред ним? Но Степан точно таился от друзей, скрывал что-то. И вот за день до выхода конного дворянского полка из Москвы, когда у всех кафтаны были вычищены, кольчуга и оружие справлено, Григорий, глядя, что Степан будто и забыл обо всем, недоуменно заметил:
– Ты чем воевать-то будешь с крымцами – кулаками? Ты в моей десятке и потому должен лучшим быть!
Однако Степан вдруг криво усмехнулся:
– Не в твоей я десятке, пресветлый княжич.
– Как так? – посерьезнел Григорий.
– А вот так, – зыркнул исподлобья рыжеволосый Василевский. – В тот вечер, когда вы пировать пошли, я одного хмельного паренька от мужицких кулаков спас. Двух обидчиков его, из черного сословия, кажись, покалечил даже… Так вот этот самый спасенный, хмельной баламут, вельможей оказался – отец его из царевых ближних или вроде того. В Кремль, словом, вхож и в покои государевы. Паренька Федором зовут. Я до дома его проводил – хороший такой дом, у Неглинки. Отец так уж обрадовался, что меня аж пятью рублями наградил…
– Ого! – перебил товарища Петр.
– Вот именно – ого, – передразнил Степан.
– И что же дальше? – спросил Григорий.
– А то дальше, что отец этого парня, Федора, расспросил меня, кто я и откуда. Я все рассказал как на духу: мол, воевал целый год, ливонцев перебил тьму. А он: что, мол, хорош в битве? Ну что скрывать, я ему: саблей владею и копьем, топором, пищалью, ножом, да всем, чем угодно. В кулачном бою могу все кости пересчитать. Только вот родством не вышел. Кровью этому миру не угодил, а так все слава Богу…
Петр вздохнул, потупил взгляд. Григорий покачал головой:
– Как заноза засела в тебе эта кровь.
– Хуже! – огрызнулся Степан. – Хуже…
– Ну ладно… А дальше-то что?
– Тогда меня отец этого парня, Федора-шалопая, и спрашивает: а не хочешь ли ты, дескать, ко мне в услужение пойти? И жалованье тотчас пообещал. Причем в три раза поболе, чем на царевой службе, в коннице Данилы Адашева. Я говорю: дак кто ж меня отпустит? А он отвечает, чтоб у меня голова о том не болела, он-де все сам сделает. Тогда я другой задаю вопрос: а как же, мол, князь Воротынский, которому я служу даже тогда, когда войны нет, ибо я – его человек? Так не крепостной же ты ему, смеется мой благодетель, так? Так, отвечаю. Вот и ладно, молвит. Ну, а коли он тебя попросит рубашку последнюю снять, говорит отец паренька, что на его, то бишь князя Воротынского, деньги была куплена, все одно не печаль. Я тебя, говорит, сразу в парчовый кафтан наряжу и обратно его не потребую. А что до оружия – сам выберешь, по своему вкусу и усмотрению. Оружейная у меня – загляденье! Так пойдешь? Я и ответил: пойду.
Григорий хлопнул руками по ляжкам:
– Вот чумовой!
– И вовсе не чумовой я, – на сей раз куда увереннее усмехнулся Степан. – Мне сегодня и бумагу принесли, – он полез за пазуху, – что я могу быть освобожден от службы царской в дворянской коннице, как новик, ибо теперь я – служилый человек Алексея Григорьевича Басманова и к его дому приписан со всеми своими потрохами. – Одной рукой Василевский зацепил рубаху на поджаром животе и оттянул ее, другой – подал свиток уже бывшему соратнику: – Так что погляди да верни, десятник Григорий Засекин. – Меня уже сегодня Басмановы у себя ждут. И трапеза ждет сладкая, и постель мягкая.
Григорий развернул свиток, пробежал по строкам глазами.
– Да, видать, дружба с Кремлем у твоих Басмановых знатная, коль они вот так запросто тебя из войска, да еще во время войны, отписали, – коротко взглянул он на товарища.
– Выходит, знатная, – важно кивнул Степан.
– А вот как я порву сейчас этот свиток? – очень серьезно спросил Григорий. – Тогда что?
– Не советую, – вскинулся Степан. – Рвать царский документ с печатью Разрядного приказа – это преступление и наказуется палками, если не хуже! – Он протянул руку за свитком: – Верни!
Но товарищ медлил.
– Давай, говорю! – растопырил рыжую пятерню Степан.
Григорий со вздохом протянул свиток, и друг торопливо сунул его обратно за пазуху:
– Так-то надежнее.
– А как же ливонцы и крымцы с ногаями? – не удержался от вопроса Засекин.
– Оставляю их всех тебе, княжич, – прищурился Василевский. – Ты ведь у нас о славе грезишь, не так ли? И тебе, Петр, оставляю, – кивок в сторону Бортникова. – Вам теперь басурман на всю жизнь хватит – бить не перебить. До самой смерти. – Степан поднялся с койки, прихватил лежавший рядом кафтан: – Мне в Ливонии, которую я прошел от восточной границы до западной и от южной до северной, даже пяди земли не перепало! Молод я, видимо, землю свою иметь – так, наверно, полководцы наши решили. Повоевать, мол, еще надо, кровушкой с землей чужой поделиться. А выживу ли? – Он ткнул пальцем в Григория: – Знай, отныне я иную судьбу выбираю! Буду псом верным тому, кто кормить станет вволю и ничего для меня не пожалеет!
Григорий и Петр наблюдали молчком, как Степан собирал скромные пожитки, нехитрую одежду, оружие. Горько им было. Всем троим. Расходились их пути-дорожки – в разные стороны расходились…
Глава 2 Крымский поход Данилы Адашева
1
В конце марта у Чернигова, на реке Десне, стоял звонкий стук топоров. Вся округа дрожала – тысячи работных людей, а с ними стрельцы и казаки, валили лес. Точно скелеты огромных рыб тут и там вырастали остовы будущих лодок с высокими носами. Выходили они почти как те дракары, на которых ходили варяги.
Данила Адашев лично от рассветной зорьки до зари вечерней ходил меж лодок и следил за строительством. Корабельных дел мастера побаивались известного воеводу, приближенного к царю человека. Так и летали, все желания предугадывали. На каждый вопрос загодя готовы были ответить.
Молод был Адашев, но опытен – ничто не ускользало от его внимания. Месяц дали сроку – пятьсот лодок должны были по истечении его отчалить от черниговского берега. Оттого и работали все до единого. А голов лентяев Данила Адашев не пожалел бы!
– А и впрямь будешь моим ординарцем, – сказал он Григорию, когда в середине апреля одна за другой просмоленные лодки, пряно и остро пахнущие сосной, сползли с берега. Потом взглянул на притихшего Петра и добавил: – Да и ты тоже. Вижу я, вы друг без друга ни шагу, и на гулянье, и в бою вместе! А добрые сабельки мне завсегда рядышком сгодятся. – Зорко оглядывая «мелкокалиберную», но большую счетом флотилию, Данила шел, сунув пальцы за широкий кожаный ремень. – А то ведь я за спинами чужими не привык прятаться, да и теперь укрываться не стану. Мне ливонских рыцарей не шибко охота бить было, разве что любопытно. – Он сжал кулак в замшевой перчатке: – А вот к крымским татарам, будь они неладны, особый интерес испытываю! А главное, для веры Христовой полезный!..
В конце того же месяца, взяв восемь тысяч бойцов, в большинстве казаков, что променяли вольную жизнь на царскую службу, стрельцов и дворян, флотилия под предводительством Данилы Адашева тронулась вниз по Десне.
Через пару дней впереди открылось широкое русло Днепра – лю́бой сердцу казаков реки, не одно десятилетие кормившей их разбоем. А следом явился взору древний Киев – отец городов русских. На берегах собирались люди и глазели на царский флот: не просто так идет он в низовья Днепра, раз везет лошадей да пушки, ох, не просто! Наверняка замыслил царь московский наведаться во владения хана крымского, столько бед наславшего на землю русскую!
А Даниле Адашеву стоило торопиться! Ведь не только простой люд наблюдал за флотом, но и шпионы татарские могли прознать о планах русского воеводы. А потому шли по берегу конники, зорко приглядывая, чтобы никто из иноземцев, чьи глаза узки да креста у кого на груди нет, не опередил царский флот. Казаки запорожские в низовьях Днепра, на границе с Крымским ханством, тоже предупреждены были – выставили сторожевые разъезды.
Не ожидали крымцы этакой наглости, потому и не были настороже. В первые дни мая 1559 года флот подходил уже к турецкому городу Ислам-Кермен. Верст за десять до него притормозил флот, а когда опустилась на землю прохладная весенняя ночь, Данила Адашев отдал приказ:
– Потушить факела! Не болтать и не ржать, как кони! Плыть тихо, как рыба плывет, как мышь бежит! Как трава стоит! Лошадям морды повязать! Чей голос услышу, язык подрежу!
И уже разносилось по всем лодкам строгое его указание. А с другой стороны, знали и стрельцы все, и казаки, дворяне: от того, насколько бесшумно они проплывут, зависит, удачно ли сложится их поход. От Ислам-Кермена до Очакова еще день пути. Вот минуют они тихоходом здешние улусы, а потом налягут на весла и к вечеру пройдут мимо турецкой крепости Очаков, выйдут в Черное море, а там и Перекоп близко. А за ним и Бахчисарай – столица крымского хана Девлет-Гирея.
На рассвете, когда все уже немного подустали терпеть и жить ожиданием, показался впереди Понт – Черное море. Сколь враждебное, ибо буквально кишело мусульманскими воинствами всех мастей, столь и желанное для русского царства. Ведь Черное море, как и Северное, тоже открывало великие торговые пути на запад, но – через Босфор, уже столетие безраздельно принадлежавший турецким султанам. Сюда, по Днепру и Южному Бугу, по Дону через Азов уже не первый век свозили мусульманские завоеватели сотни тысяч пленных славян, мужчин и женщин, юношей и девиц, детей малолетних, чтобы потом, преодолев Мраморное и Средиземное моря, продавать их на самом крупном рабовладельческом рынке Европы – в Венеции. Циничной, жадной и беспощадной…
Первые лодки с Данилой Адашевым выходили в море осторожно – тут могли их встретить турецкие и крымские суда. С турками русский царь старался не ссориться – слишком силен был Стамбул; да и не стремились султаны заходить так далеко на русскую землю – например, штурмовать Москву. Ограничились они тиранией южных славян и греков. Другое дело – крымцы. Более века назад образовалось из Крымского улуса Золотой Орды отдельное ханство. В 1443 году учредил его хан Хаджи-Гирей. Но недолго его потомки держались мира с Москвой. Прошло три десятка лет, и захватили они Кафу и Судак, вторглись в Подолию, разорили Киевскую землю, Волынскую, Холмскую, Белзскую, а уже в 1507 году напали и на Москву, огнем и мечом пройдя по русским землям. А в 1522 году Девлет-Гирей, главный ненавистник Руси, подошел к стенам русской столицы и долго осаждал ее. И позже наведывались в Московию ненасытные крымцы: и Рязанские земли жгли, и Астрахань думали отвоевать. Более другого не давало покоя крымским татарам, что Казань и Астрахань, два ордынских оплота, пали под русскими мечами. Хуже того – подались в услужение царю-московиту. И злая судьба их служила точно предостережением братьям по крови, сулила грозу скорую, что таилась пока за лесами и степями древней Руси, упрямой и яростной в своих порывах вернуть былое могущество.
Выплыли первые лодки из устья Днепра в Черное море, и тотчас Адашев приказал грозно гребцам:
– Стоять! Стоять, говорю! Весла в воду!
Полководец неистово замахал руками, передавая сигнал и другим капитанам, а те – следующим. Уходили весла в воду, стопоря движение, давая задний ход. Там, впереди, у входа в Черное море, стояли на рейде два корабля. Да только под чьим вот флагом? В утренней дымке хорошо читались лишь их контуры, паруса…
Данила Адашев уже принял трубу, приставил к глазу. Багряный стяг с золотым серпом и такой же звездой выплывал из утренней дымки…
– Турки! – громко объявил он. – Турки, мать их! Оттоманское отродье, будь оно неладно!
«Турки! – понеслось от лодки к лодке. – Турки на рейде!»
После распада Золотой Орды и завоевания Азии и крайнего юга Восточной Европы турками-османами крымские ханы подчинялись константинопольским султанам. Именно из Стамбула направлялись подчас турецкой рукой крымцы воевать Русь. Султан делал вид, что ничегошеньки о том не ведает, да и русский царь отводил глаза в сторону. А вот казакам наплевать было на высокие церемонии – они легко и запросто отправляли злых оттоманских солдат в мусульманский их рай.
– Придется нам с султаном нынче повоевать, – подмигнув Григорию, покачал головой Данила. – Да простит нас царь православный! Их бы, нехристей, перетопить всех в Черном море как котят, конечно, да жаль, руки у нас пока коротки. Но ничего, найдется и для веселья на крымском берегу пожива! А пока что… Господь нам в помощь!
Турки русских лодок не заметили. На кораблях султана все мирно спали и видели седьмой сон. Самое времечко было – пять утра! Адашев дал приказ тихонько двигаться к турецким кораблям, и несколько десятков лодок с казаками быстро заскользили по тихому морю, легко вспарывая соленые волны. Стрельцов брать не решился Данила Федорович – приметны больно их красные кафтаны. Царское отличие: где стрельцы, там война, значит, объявлена! Вот и флагов тем более разворачивать не стали. А казакам – им все позволено. Лихой душе – лихой путь! Рассвет еще только таился за морем, за спинами казаков, а корабли становились все ближе в рассветной дымке.
– Носами в борта не биться! – сквозь зубы процедил Адашев. – Руками встречать!
И вот уже и пальцами коснуться можно. Разворачивали гребцы лодки. Два дюжих казака, устроившись ближе к носу, вытянув могучие пятерни, уперлись ими в борт. Еще один, на корме, страховал товарищей. На других лодках поступили так же. Эх, сколько купцов заморских этаким образом захвачено было! А теперь вот и царю московскому казачья сноровка понадобилась…
Данила Адашев вынул из ножен саблю – сухо лязгнул металл о металл. Глядя на командира, вытащили сабли и Григорий с Петром. Одни казаки поднимали багры – легонько, нежно, точно баб любимых касались во сне, – и цеплялись ими за высокие корабельные борта. Другие – лесенки с загогулинами туда же прилаживали.
Все казачье войско изготовилось к битве: одни сабли кривые достали, другие копьями на борта нацелились. Пищали давно были заряжены – дула так и тянулись к турецким бортам…
На том корабле, к которому подошла лодка Адашева, сонно залопотали по-турецки. А казаки уже тихонько взбирались по лесенкам.
– Пробудились-таки, – поправляя шапку, усмехнулся полководец.
– А что говорят-то, Данила Федорович? – едва слышно спросил Петр Бортников.
– Говорят, звуки странные расслышали. – И вновь процедил сквозь зубы: – Поторопимся, братишки!
Голова турка в чалме высунулась из-за борта. Заспанные глаза округлились – такой кошмар не каждый день снится! Лодки с душегубами-казаками окружили корабль!
Не выпуская саблю из руки, казак оттопырил палец и приложил его к губам:
– Тсс, басурманин! – И задал вопрос уже по-турецки. – Жить-то хочешь?
Турок отступил, потянув из ножен ятаган, истошно заорал:
– Казаки! Казаки!!!
Но казацкий атаман Могила, перегнувшись через борт, уже дотянулся до несчастного саблей – с небольшим замахом резанул турка чуть наискосок по открытой шее. Брызнула на палубу первая кровь. Выронив ятаган, турок, обливаясь кровью и хрипя, шагнул назад и повалился навзничь.
А Могила уже перепрыгнул через борт, выхватил еще и кинжал кривой, и другого турка, что бросился на него с копьем, тоже принял на себя. Саблей отбил копье, а ножом располосовал тому живот, обернутый широким поясом.
И тут взревели сотни голосов над морем, всколыхнулось утро. Казаки так и сыпались горохом на палубы турецких кораблей. Там же, вслед за атаманом Могилой, оказались и Данила Адашев, и оба его ординарца – Григорий и Петр.
Но легкой оказалась добыча. Кто бы знал из солдат султановых, что этакое с ними случится! Выскакивали турки, обнажив ятаганы, и нарывались на копья казацкие. Пищали сотрясали громом утро. «Казаки! Казаки!» – ошалело выкрикивали турки страшное для них слово. И падали на палубы под казацкими саблями.
А Данила Адашев ревел по-турецки:
– Сдавайтесь, нехристи! Всех перебьем!
Григорий и Петр, выглядывая любого, кто осмеливался подступить к командиру, не церемонясь, разили его наповал.
И только когда половина экипажа была перебита и победа была одержана, капитан головного судна, захваченного Адашевым, замахал белым флагом с капитанского мостика. А казацкий атаман Могила, точно оглохший, все еще махал саблей, терзая вражью плоть. Еле оттащили его.
– Кто вы? – спросил капитан – полный турок, бледный, в роскошном халате и широком поясе, в дорогой чалме. – Кому я отдаю саблю?
Перед ним уже стоял Данила Адашев, отирая турецкой чалмой, распотрошенной, свой клинок. Командир не торопился. Отер клинок, спрятал его в ножны – с тем же хлестким сухим звуком. Церемонно поклонился.
– Казачий атаман Семен Могила, – важничая, сказал он. – А вас как величать?
Казаки засмеялись, сам же Могила нахмурился. Товарищи весело поглядывали на него: ну, славы ему теперь уж точно не убудет!
– Али-Паша, – ответил турок и протянул саблю.
– Добрая сабля, – Адашев принял оружие, изъясняясь по-прежнему по-турецки. – Вы, крымские татары, знаете толк в оружии.
Брови пленного удивленно поползли вверх, полное тело принялось приосаниваться:
– А причем здесь крымские татары? Мы – солдаты пресветлейшего султана великой Османской империи!
– Надо же! Эка нас угораздило оплошать! – всплеснул руками хитрец Адашев. – Еще под Черниговом в русском войске была принята договоренность «принимать» всех турок за татар, поэтому командир продолжал без стеснения ломать комедию: – Мы приносим турецкому султану наши искренние извинения, однако после того погрома, что мы тут учинили, нам все-таки придется подержать вас какое-то время под замком. – Он строго оглядел казаков и даже пальцем для пущей достоверности погрозил: – Ни одного живота более у подданных султана не отымем! Слово даю атаманское!
Казаки, забрызганные кровью турецкой, неприкрыто скалились, слушая полководца. Улыбались и Григорий с Петром – удалой был у них командир, весельчак, что и говорить.
– Вот возьмем Крым с Бахчисараем, – договаривал тем временем Данила Федорович, – потешимся с женами Девлет-Гирея, тогда и отпустим вас на все четыре стороны. – Адашев «кротко» взглянул на турецкого капитана: – Ну, может, разве что пушки еще снимем с ваших кораблей… А кормить и поить вас будем, даже не сомневайтесь! И вина бы налили, не жалко, да знаем, что вам вера ваша не позволяет. А теперь, – повернулся командир к казакам, – добрые мои помощники, повяжите-ка вы наших соседей по рукам да в трюм отправьте. И поласковее с ними, поласковее! По-христиански то бишь.
Турецкий капитан хоть и хмур был с виду, но в душе успокоился – резать его никто не собирался. Добрым оказался атаман Семен Могила, милосердным! Жаль только, во флагах и гербах несведущ. Ну как можно было не заметить красный стяг с золотыми звездой и полумесяцем?! Сколько бы жизней турецких сохранил, разбойник!
Пленных турок уже загоняли в трюм, когда Адашев выдернул из вереницы одного из них – самого бледного, с трясущимися от вида окровавленных товарищей губами. Турок был не простой – офицер, судя по одежде и знакам отличия.
– Кто таков?
– Юзпаши Ибрагим ал-Батур.
– А ответь-ка мне, юзпаши Ибрагим ал-Батур, что тебе больше дорого – собственные уши или крымцы, татарва недоделанная? – спросил Данила Федорович у турка, пристально оглядывая его голову с боков, точно примериваясь.
– Уши, атаман-баши, – тарабарской скороговоркой пробормотал тот. – Уши дороги!
– И то ладно, – кивнул Адашев. – Улусы здешние крымские знаешь? Ты ведь на пограничном корабле ходишь, все должен знать… Ну?
Еще сильнее побледнел турок.
– Как не знать, знаю, – пролепетал едва слышно.
– Тогда скажи, сколько их, к примеру, в районе… Перекопа? Я-то и без тебя знаю, просто свериться хочу.
Турок быстро-быстро что-то залопотал, в подтверждение слов своих часто-часто кивая и активно жестикулируя. Ему в такт кивал, прищурившись, и Данила Адашев.
– Все верно говоришь? – он приблизил лицо к перепуганному лицу турка.
– Все верно, атаман-баши!
– Смотри, – погрозил ему пальцем Данила, – обманешь, по кусочкам буду резать! – Ухватил турка за шиворот, тряхнул могучей рукой. Отыскал глазами Семена Могилу, грозного, страшного, еще не успевшего обтереть саблю, отдышаться после схватки, подмигнул ему. (Тот подошел.) – Вот ему отдам в подарок. (Турок готов был упасть в обморок.) Он если за день руки-ноги хоть одному нехристю не обрежет, белугой воет. Ажно уши затыкай! Сердце вырывает одним ударом, а потом съедает его. Верно?
– Атаман правду говорит, – на турецком подыграл казак Адашеву и положил огромную окровавленную пятерню на грудь турецкому юзпаши. – Съедаю.
– Так не соврал? – еще раз тряхнул Данила сотника-турка.
– Нет, атаман-паши, я правду сказал.
– Поверю, – мрачно улыбнулся Адашев. – В трюм его!
Поставив матросами казаков, Данила Адашев созвал на головном корабле всех своих воевод. Прибыл на зов и князь Дмитрий Вишневецкий, командир конницы, обрусевший поляк, верой и правдой служивший русскому царю.
– Идем к Перекопу, – объявил Адашев свою волю главнокомандующего. – Оттуда ударим по крымцам! Покажем хану Девлет-Гирею, чего мы стóим!
2
Перекоп показался через двое суток на третьи. В подзорную трубу можно было разглядеть насыпной вал и канал под ним, соединяющий Черное и Азовское моря, сторожевые башни Перекопа. Их основание заложили еще киммерийцы две тысячи лет назад, но русские воины вряд ли знали об этом. Крымские ханы укрепили Перекоп – углубили ров, подняли крепостную стену, сделали мощными и неприступными древние башни.
Эскадру из многочисленных ладей крымцы уже заметили. Но вот странность: ее возглавляли два боевых корабля с оттоманским флагом! Степной берег Крыма ожил – появились большие разъезды всадников, разглядывая флот Адашева издалека. Кто были эти пришельцы? Откуда приплыли? И что им здесь надобно? Не купцы ли это султана, что плывут торговать в чужие страны? Многие казаки нацепили турецкие чалмы и теперь тыкали друг в друга пальцами, гогоча. Но кто ходит торговать в далекие земли, думали крымцы, на таких малых лодках?..
А потом эскадра стала приближаться к берегу и вскоре, лодка за лодкой, подходила уже к западу полуострова. Крымцам все стало ясно, как только они разглядели красные кафтаны стрельцов, казачьи шапки, артиллерию и сотни лошадей, привезенных сюда явно не для торговли.
И тут же татарские разъезды как ветром сдуло. Они унеслись, оставив безлюдным крымский берег. Турецкие корабли, захваченные русскими, остались на приколе недалеко от берега. Данила Адашев с ординарцами там же пересел в лодку и теперь одним из первых спрыгнул на вражескую землю, черноморской водой заплескав сапоги с загнутыми носами.
– Время не тянуть! – крикнул он подходившим на лодках командирам. – Выводи лошадей! Стройте стрельцов, конницу, казаков. Артиллерийские наряды готовьте к бою! Всем по куску хлеба и чарке вина и через час выступаем!
Забурлила вода под конскими копытами, тащили казаки и стрельцы на берег пушки. Другие, вооружась топорами, уже шли рубить лес – возводить временный лагерь на случай внезапной атаки крымцев. Кто знает, как быстро они очухаются и соберут войско?
Но конница, дворянская и казачья, уже готовилась к скорому бою. Кашевары из стрельцов раздавали вонам пайки из вина, хлеба, сушеного мяса и вяленой рыбы, чтобы сила была держать саблю в руке.
Адашев решил не тянуть – напасть на крымские улусы тотчас по прибытии. В отличие от русских, при приближении неприятеля привыкших спешно укрываться за стенами городов и крепостей, среди татар лишь самые родовитые, а главное, богатые ханы переняли эту привычку – жить во дворцах за городскими стенами. Например, так жил в Бахчисарае крымский хан Девлет-Гирей. Избалованные цивилизацией, он и подобные ему уже не могли отказаться от журчания фонтанов, тенистых садов, портиков с колоннами, бань с благовониями, просторных спален и подобающих для сего изысканного интерьера шелковых, газовых и парчовых одежд. Да и гаремы приятнее было держать во дворцах, а не в степи! Мелкопоместные же татарские князьки жили по-дедовски, по-монгольски – в своих улусах, в тесноватых шатрах. Здесь ели, спали и любили своих многочисленных жен и наложниц. Рядом паслись кони и овцы. Домашняя обстановка! И тут же занимались грязной работой их многочисленные рабы – пленники изо всех городов земли русской.
Вот на это и рассчитывал главнокомандующий. Восьми тысяч солдат для штурма Бахчисарая ему не хватило бы – крымский хан наверняка выставил бы куда большее войско. Раз в десять, а то и в двадцать! Но пока он поймет, что к чему, время пройдет.
Закусив и разгорячившись слегка вином, конница, составлявшая половину войска (а именно – четыре тысячи рубак из дворян и казаков), уже через час двумя рукавами ушла от берега, где стрельцы и пешие казаки возводили на возвышенности нехитрую крепостишку, представлявшую собой вытянутый и крепко сбитый частокол с дозорной башенкой и бойницами для пушек и пищалей.
Частью конницы командовал Данила Адашев, второй – Дмитрий Вишневецкий. Рысью пошли они через крымские холмы и лесочки в глубь полуострова.
– На холмах! – через четверть часа крикнул Адашев, указывая вперед.
Там они увидали небольшой конный разъезд крымских татар, тоже, видно, следивший за ними. Но никто не поспорит с этими прирожденными наездниками в скорости, если нет меткого лука или пищали. Да только расстояние между разъездом и русским войском было слишком большим! Пуля не долетит, стрела тем более. Сорвался с места татарский разъезд и – ушел за холмы, только его и видели!
– Десять гривен золотом тому, кто возьмет толкового языка! – объявил Адашев своим конникам. – Да по лошадям цельтесь, по лошадям! Пеший татарин – скорая добыча!
Дорог здешних русские не знали: где засаду устроить, как обойти, окружить. Но три десятка самых отчаянных, с легкими луками, при саблях и копьях уже готовы были сорваться с места. Атаман-головорез Семен Могила вызвался первым.
– Отпускай нас, Данила Федорович! – едва сдерживая коня, решительно сказал он. – Найдем мы тебе языка!
– С Богом! – кивнул командир. И тут же остерег: – В засаду не попади, Семен, не то сам языком станешь.
– Добро, Данила Федорович! – тоже кивнул Могила, и тотчас казаки, сорвавшись с места и обгоняя поспешающее войско, полетели вперед.
Григорий Засекин, вздохнув, провожал их завистливым взглядом. Данила Адашев уловил его чувства, усмехнулся:
– Не завидуй, Григорий. У тебя еще сноровки маловато. Поверь, это тебе не на ливонцев с мечом бросаться. Тут опыт нужен. Татарин не рыцарь: за кустом спрячется, бац стрелой, и ты – с коня! А он тут каждый кусток наперечет знает. А казачки́? лиходеи да душегубы, сами такие засады привычны устраивать, им за татарами и бегать.
Отряд казаков меж тем уже пропал из виду. Данила Адашев, его сотники и ординарцы могли только догадываться, что происходило сейчас за лесистыми холмами прибрежной полосы Крыма. А там вовсю уже шла охота Семена Могилы и его сотоварищей…
На свой страх и риск, едва оторвавшись от войска, казаки разделились на две части – по пятнадцать сабель в каждой. Так и пошли по холмам двумя отрядами, рыская глазами по округе. Да не было татар нигде – куда ни кинь взгляд.
Скалы впереди, степь, полосы леса…
Вспорхнули вдалеке сразу с десяток птиц из зеленых крон. Подметил Могила это, крикнул:
– Туда, Матвей! Туда!
К счастью, не успели еще два казацких отряда далеко разъехаться, как товарищ Семена тоже увидел испуганных птиц и понял, куда надо спешить. Только вот беда: отряд казаков татары обнаружили раньше. И когда те выскочили из-за деревьев, крымцы встретили их стрелами. Половина из пятнадцати полегла тут же, но остальные не растерялись. И страха они не знали, и смерть была им подругой! Так и пролетели казаки с копьями наперевес через своих поверженных товарищей, что уже попадали с лошадей. Пролетели и насадили четвертую часть татар на копья. И тут же вытащили сабли. Одним из выживших был и Могила. Рассвирепел он, увидев, как лучше его ребята корчатся на земле, как топчут их собственные же кони, тоже раненые или погибающие. Слизнул его клинок руку первому из крымцев, что с саблей наскочил на него, смахнул голову второму, что теснил одного из его бойцов. Со свирепым рыком полетел на третьего. Страшно они дрались: одно неловкое движение – и нет тебя! Потому как лучше других умели татары драться в седлах резвых своих коней: волчком крутились вокруг врагов, в руки не давались. Трудно было найти равных им в таких битвах!
Кабы не казаки… Тут как раз и второй отряд вырвался из лесочка. Этого крымцы не ожидали. Половину оставшихся насадили на копья казаки, вторую, порубав большей частью, окружили. Метались пять уцелевших татар между ними, но в кольцо взяли их казаки атамана Могилы.
– Бросайте сабли, нехристи, а не то порешим всех! – рявкнул на татарском Степан Могила. – Четвертуем всех по очереди!
Бросили друг за другом татары сабли.
– А ну с коней, быстро! – вновь рявкнул атаман.
Татары спешились, и казаки туго связали пленным руки. Перевалили через их же коней, перебросили через них и трупы своих товарищей. Раненых посадили к себе в седла: дай Бог, кто и выживет. Забрали татарских коней. А убитых крымцев оставили хищным птицам для расправы…
Поредевший на треть казацкий отряд появился из-за холмов как раз в то время, когда навстречу приближалась конница Адашева.
– Жив наш Могила – молодец! – крикнул Данила Федорович. – И с языком едет!
Семен Могила сиял – приказ командира он выполнил, и с честью.
– Товар что надо, Данила Федорович, – отрапортовал он.
– Поглядим, – откликнулся командир.
Спрыгнули казаки с коней, стащили крымцев.
– На колени, вражье семя! – грозно приказал Адашев.
Ткнули татар взашей, поставили на колени.
– Будете говорить то, что хочу услышать, жить оставлю, – пообещал Данила Федорович. – А соврете – пеняйте на себя: всех порешу… Ну?
– Морды вверх, сукины дети! – зарычал Семен Могила. – Вверх! Да выше, выше! Русский воевода говорить с вами желает!
– Где ваши улусы? – приступил к допросу Адашев. – И как до них скорой дорогой добраться?
Крымцы молчали. Данила Адашев и Степан Могила переглянулись: похоже, вряд ли пленные своих выдадут. Ведь там были их родные, может быть, матери, жены, дети. Но когда на Москву эти же татары ходили, разве думали они о чужих матерях и отцах, которых секли кривыми своими саблями, да о женах и дочерях русских воинов, которых насиловали и вместе с детьми малыми забирали в полон?!
А потому, значит, на войне, как на войне.
Выразительно взглянув на казацкого атамана, Адашев кивнул. Семен вытащил из ножен в блеклых кровоподтеках саблю. Подошел к одному из татар, ткнул его клинком в плечо:
– Ну?!
Еще уже стали узкие глаза крымца – лютая ненависть сквозила из этих щелочек. Могила пожал плечами, схватил того за бритое темя, опустил голову вниз. Замахнулся. Страх исказил лицо крымца – все понял. Вжал голову в плечи. Но меток был глаз атамана, и рука была крепка – точен вышел удар. Покатилась бритая голова с изуродованной шеей прочь, под копыта коня Адашева. Вздрогнув, бухнулось на землю тело, ударила вперед кровь.
Забеспокоился конь под командиром, тут же потянувшим узду, ударил копытом по отсеченной голове точно с омерзением, отбросил ее дальше. Григорий Засекин переглянулся с Петром. Одно дело в бою головы резать, и другое – вот так. Страшно как-то, неправильно. Но куда деваться? Чай, не с хлебом-солью пришли они в эти земли…
– Ты – следующий, – кивнул Адашев на второго по счету крымца.
Тот неистово замотал головой, но Семен Могила прихватил и его бритое темя железными своими пальцами, пригнул вниз:
– Будешь говорить?
Затих татарин. Замахнулся еще ожесточеннее атаман. Срезала сабля голову – покатилась та под копыта коня Григория Засекина.
А Семен уже шагал к третьему. И этот не выдержал – заговорил. Сбивчиво, взахлеб. И с ненавистью смотрели на него два оставшихся в живых сородича.
– Я не из улуса хана Ибрагим-Бека, – в отчаянии тараторил сломленный татарин. – Я только служу ему! Я пришел сюда со старшим братом из Тамани! Брат мой погиб по вине ханского сына Алтыбека, другой родни здесь нет! Я не хочу отдавать жизнь за чужих людей! Я расскажу, как найти улус Ибрагим-Бека! Только пощадите! – его плечи ходили ходуном, голова тряслась, из глаз текли слезы. – Пощадите!..
– Вот это дело, – кивнул Данила Адашев. – Говори.
Уже через пять минут русские знали, куда держать путь. И сколько ехать рысью. Главное, чтобы не обманом оказалось признание крымца.
– А этих – в расход, – указал на двух последних татар Адашев. – В путь!
– А как же десять золотых гривен, батюшка наш Данила Федорович? – с хитрой улыбкой напомнил Могила. – Обещал ведь!
– Будет тебе десять гривен, коли не соврал нехристь твой, – подтвердил обещание Адашев. – И сто будет гривен, коли возьмем свое!
– Добро! – рассмеялся Семен. Прищурил глаз, взглянув на обреченных пленников. – Чего тянете? – рявкнул на своих казаков.
Двое из тех, что бились с отрядом крымцев за холмами и потеряли товарищей, выехали вперед, доставая сабли; махнули по бритым головам; захрипев, повалились татары в песок.
– А за этим приглядывайте, – кивнул Данила Адашев на языка и махнул рукой: – Вперед!
Дело было сделано, и войско двинулось к холмам по указанному пути.
3
Когда-то Крым представлял собой один большой золотоордынский улус, нынче же раскололся он на многие улусы, в каждом из которых правил свой татарский князек, не сомневавшийся, что он-то и есть пуп земли. Вершил здесь суд по своему усмотрению, угнетал пленных русичей, а то и головы их лишал. Потому как армия рабов пополнялась постоянно жителями самых разных городов и деревень русских.
К вечеру, опередив войско, выехал конный разъезд царских солдат к улусу Ибрагим-Бека. Разведчиков возглавлял Адашев – хотел самолично все разведать, разузнать, рассмотреть. К тому времени таманский татарин доложил уже, сколько в улусе противника и какого отпора ожидать можно командиру русичей. Картина представлялась ясной: нападать надо было разом, не затягивая.
Горячая степь потихоньку остывала. Солнце уходило за море. Дым поднимался над юртами. А были их тут сотни! Табуны паслись, рассыпавшись далеко по степи. Смерть ожидала нынче многих, кто готовился сейчас, испив кумысу, возлечь с очередной наложницей.
Подходило войско. Несколько отрядов сопровождали его по бокам. Крепко держали копья запорожские казаки, составлявшие костяк Адашевской армии.
Обернулся Данила Федорович на своих, задорно оглядел сотников, искавших взгляд командира. Вытащил из дорогих ножен палаш, рассек им теплый крымский воздух.
– Помашем сабельками во славу царя православного Ивана Четвертого Васильевича! – выкрикнул задорно Данила Федорович. – За Русь-матушку и за попранную веру христианскую покажем крымцам-лиходеям, где раки зимуют! И за кровь пролитую русскую, и за всех православных, кому еще жить предстоит! Да не убоимся чертова отродья! Только с пылу-жару своих не посеките! – грозно прибавил он и двинул своего вороного коня вперед. Подмигнул Григорию и Петру: – Не отставать!
И сорвалось с места, быстро набирая скорость, русское войско. Смерть несли они с собой в этот тихий южный вечер, яростно глядя вперед, держа тяжелые кривые палаши в руках и острые копья…
Заревел улус, плачем, воем оглушая небеса. Заметались лошади, давя людей копытами. А факела уже летели в юрты, паля их. И посыпали оттуда женщины и дети, полураздетые мужчины, наспех хватая серповидные сабли. Но русские палаши уже секли их, не давая даже замахнуться.
«Урус! Урус!» – вопили гибнущие татары.
«Господи, батюшки, свои! Родные наши!» – кричали русичи, полоненные извечным врагом Руси, томившиеся в рабстве. Они еще меньше верили в свое счастье, чем крымцы в беду свою.
Улус Ибрагим-Бека воины Адашева взяли за полчаса. Все вокруг было усеяно трупами крымцев. Уцелевшие, в основном женщины и дети, падали ниц, моля о пощаде. Скрутили Ибрагим-Бека, вытащили его из ханской юрты, поставили на колени перед Данилой Адашевым.
– Будете знать, как добрых христиан резать на их земле, – ткнул в него мечом Данила Федорович, но без особой злобы.
Победа была полной! С пяток человек только потеряли русские, а перебили – полтысячи! Да столько же еще пленили! Адашев раскраснелся, взопрел. Расстегнул три верхних пуговицы на кафтане, усмехнулся:
– Повезу тебя с собой – царю покажу! Да ты не щурь глаз-то свой косой, не щурь! – Рассмеялся: – Он и без того у тебя узок.
Зло смотрел Ибрагим-Бек на своего победителя, столь нежданно перевернувшего привычную жизнь. Зло и беспомощно.
Шесть недель колобродили казаки под командованием Адашева и польского князя Вишневецкого по Крыму. Уходить решили только тогда, когда Девлет-Гирей собрал наконец пятидесятитысячное войско и повел его из Бахчисарая через Перекоп на русский лагерь.
Но того уже и след простыл – разваленный частокол встретил крымцев, сотни остывающих костров да полсотни перебитых татар, которых передумали адашевцы брать с собой в полон. Отплатили русские за иго двухсотпятидесятилетнее!
Только корабли на горизонте и увидел Девлет-Гирей. Аккурат самый задок каравана. Заскрипел зубами хан и двинул свои войска по берегу вдоль моря. А русские лодки, набитые крымским добром и освобожденными из полона соотечественниками, так и шли впереди. В Очакове, у входа в Днепр, Адашев еще раз раскланялся перед турецким капитаном, вдругорядь заверив его, что не собирался досаждать султану, и высадил на пустынном берегу всех пленных турок, до смерти обрадованных, что не довелось им разделить страшную участь своих соседей и подданных – крымских татар. А пару кораблей их оставил русский командир себе, пообещав непременно вернуть, коли еще раз окажется в этих краях. А пока, дескать, нужны они ему, чтобы удрать половчее от разгневанного Девлет-Гирея.
Армия хана, срезав путь, застала флот Адашева, когда тот входил в устье Днепра. Но слишком широка была река, чтобы накрыть противника десятками тысяч татарских стрел! Да и пушек устроившие погоню крымцы второпях не захватили.
Обходил Девлет-Гирей флот Адашева несколько раз, искал самые узкие участки реки, чтобы посечь стрелами русских, но так ничего у него и не вышло. А сражаться с казаками на воде, на стругах, не решился хан: тут уж запорожским разбойникам равных не было! И оставил крымский хан лютого своего врага у Монастырского острова – начиналась там земля исконно русская.
Два корабля и лодки плыли теперь не спеша – больше можно было не торопиться. А сколько пленных вывезли, скольких от неволи поганой спасли!
Данила Адашев попивал на корме турецкого корабля крымское вино, благодушно взирал на зеленые днепровские берега.
– Вот теперь и о дочке княжеской подумать можно, – переведя взгляд на ординарца, усмехнулся он. – О ней ведь грезишь?
Григорий покраснел, кивнул:
– О ней, Данила Федорович.
– Вот что я тебе скажу, Гриша, – в очередной раз пригубив чашу, проговорил полководец, – кровь у тебя великокняжеская, храбрости и удали не занимать. На дочери Воротынского женишься, коли люб ты ей, да и мы с братом тебя не забудем – к двадцати пяти годам воеводой поставим. Все у тебя будет, воин, все, что пожелаешь! Сам еще станешь полки водить – и в Ливонию, и в Крым.
Григорий вздохнул: «Хорошо бы!» Было о чем помечтать. Но пока-то – кто он? Вот бы славу Данилы Федоровича – тогда Машу сразу за него отдали бы!
А Даниле Адашеву славы и впрямь было не занимать. И нынче не оплошал он: возвращался в Москву, пред царские очи, истинным героем. Людей потерял всего ничего, а сколько душ русских спас из плена! Да и подарков дорогих везет в казну немало.
Так думали все. Но человек предполагает, а Господь располагает…
4
Магистр Фюрстенберг понял, что стар и немощен, когда вернулся в Феллин после заключения мира с Москвой в занятом русскими Дерпте. Там, перед князем Курбским, он еще крепился, изображал гордый вид.
Но теперь же…
Гордиться было нечем. Хотелось плакать. Ливония была раздавлена – Русь оказалась слишком сильным противником. Но когда же она стала таковой? Казалось, еще вчера Москва только собирала по частям свои земли, озираясь по сторонам – не ударит ли Казань или Астрахань, Крым, Литва или шведы? Что там чужое – не отняли бы свое, кровное! И вот уже она наступает, как зверь, вырвавшийся из клетки…
Вильгельм фон Фюрстенберг сидел перед огромным камином в полтора человеческих роста. В старой, точно сухая ветвь, руке он держал кубок с вином – огонь и вино только и грели его теперь. Но лишь тело – не душу. Все отныне перевернулось. Будущее отдавало холодом, прошлое терзало сердце. Точно он, Вильгельм фон Фюрстенберг, стал свидетелем заката солнца – последнего его заката.
– К вам коадъютор ордена Готгард фон Кетлер, – доложил секретарь магистра. – Пригласить?
– Да, – откликнулся тот. – Я приму его.
Его первый заместитель по ордену, коадъютор фон Кетлер, слыл человеком деятельным. Практичный администратор, дальновидный политик. И был он вдобавок значительно моложе его, глубокого старика.
Фюрстенберг знал, что коадъютор считается главой пропольской партии в Ливонском ордене, а поляков тут числилось немало. С тех пор как Тевтонский орден, коему подчинялся Ливонский, приказал долго жить, немцев среди ливонских рыцарей становилось все меньше, а поляков прибывало. Кетлера считали рыцарем с «новыми» взглядами. Ища верные пути для выживания ордена, коадъютор мог приготовить для магистра-консерватора любое острое блюдо.
Вильгельм фон Фюрстенберг услышал бодрые шаги, приближающиеся по мраморному шахматному полу. Коадъютор обошел кресло магистра, низко поклонился.
– Что у вас? – поднимая глаза, сжимая кубок в обеих руках, спросил Фюрстенберг.
– Промедление смерти подобно, магистр, – холодно произнес коадъютор. – До нас дошли известия, что варвары-московиты совершили набег на Крым – ударили в самое сердце крымского ханства. Бахчисарай уцелел только чудом. Лишь для этой цели они и согласились на перемирие с нами – им просто понадобились новые полки. Теперь же они вернутся и, едва закончится срок перемирия, вновь нанесут удар по нашим землям. Нам срочно нужны союзники, которые не позволят разметать в прах Кавалерский Тевтонский орден в Ливонии, – Кетлер назвал полное имя ордена, лишний раз подчеркнув значимость преемственности от воинственных тевтонцев. – Нам потребны самые влиятельные друзья!
Магистр Фюрстенберг понимал, к чему клонит коадъютор. Готгард Кетлер уже заговаривал об этом, и не раз. Сделать Ливонский орден зависимым от Польши, Литвы и других государств. Но это означало одно – потерять раз и навсегда самостоятельность, может быть, исчезнуть даже как суверенное государство с политической карты вовсе! Пойти на такой шаг Вильгельм фон Фюрстенберг не решался. Не простил бы себе подобного предательства древнего ордена меченосцев!
– Я разрешаю вам, фон Кетлер, просить помощи у Польши и великого княжества Литовского, даже у шведов, но только не ценой нашего суверенитета. Заклинаю вас – только не этой ценой!
Фюрстенберг посмотрел Кетлеру в глаза, но тот молчал, точно остался глух к словам своего предводителя.
– Вы слышите меня? – спросил магистр.
– Конечно, – как ни в чем не бывало поклонился коадъютор.
– Ступайте же, не теряйте времени даром, – еще крепче сжимая кубок с остатками вина, проговорил Вильгельм фон Фюрстенберг. – Но? если вы преступите полномочия, орден проклянет вас, помните об этом! Я знаю: и Польша, и Литва только и ждут, чтобы мы признали их своими хозяевами! Ступайте же, ступайте…
Еще раз отвесив поклон, Готгард фон Кетлер повернулся на каблуках и направился к дверям залы, оставив старого магистра наедине с воспоминаниями и горькими думами о будущем.
Коадъютор Ливонского ордена и впрямь не стал терять времени. Но и всецело придерживаться приказа магистра он тоже не собирался. Заручившись поддержкой первых лиц ордена, за исключением адмирала Филиппа фон Фюрстенберга, 31 мая 1559 года Готгард Кетлер с отрядом избранных рыцарей спешно направился в Вильно, где его уже поджидали польский король и великий князь литовский Сигизмунд II Август.
В посольской зале столицы Великого княжества Литовского хозяин земель великих, пожилой Сигизмунд II в горностаевой накидке и золотой короне объявил своему гостю:
– Господин Кетлер, я буду говорить с вами только в том случае, если вы уполномочены вершить судьбу вашего ордена и его многочисленных земель.
– Вы говорите с преемником Вильгельма фон Фюрстенберга, а значит – с будущим магистром Ливонского ордена, – гордо, но с почтением ответил коадъютор. – Меня поддерживают большинство наших рыцарей. Против – лишь горстка стариков, не желающих мириться с реальностью.
– Ваш ответ меня устраивает, господин коадъютор, – кивнул польский король. – Прошу за стол переговоров.
В тот же день заранее подготовленный документ был подписан. По нему король Польши Сигизмунд II Август принимал Ливонский орден в свою, дословно, «клиентелу и протекцию» и в качестве залога прибирал к рукам всю юго-восточную часть Ливонии. А 15 сентября на протекторат польской короны согласился и независимый до того рижский архиепископ – духовный лидер Ливонского ордена.
17 августа 1559 года Готгард фон Кетлер в сопровождении первых рыцарей вернулся в Феллин и, не в пример прежним визитам, шумно вошел в залу, где по традиции сидел в своем кресле магистр Вильгельм фон Фюрстенберг. Старый бог войны, растративший силы на полях брани, знал уже обо всем – и о самоуправстве его коадъютора, и о предательстве интересов ордена, и о новом хозяине земель рыцарских короле польском…
Группа рыцарей безмолвно остановилась напротив старика-магистра. Дело оставалось за малым. Вильгельм фон Фюрстенберг вперил тяжелый взгляд в своего коадъютора, но тот, как и первые рыцари ордена, недвусмысленно молчал. Тогда магистр потянулся к тощей жилистой шее, точно хотел избавиться от сдавившей ее петли, зацепил сухими пальцами лежавшую поверх черного камзола широкую цепь с крестом. Чуть наклонив голову вперед, Фюрстенберг снял увесистый командорский крест с груди и, чуть задержав руку над столом, высыпал цепь – звено за звеном – на темную дубовую столешницу.
– Я передаю Кавалерский Тевтонский орден Ливонии в ваши руки, коадъютор Готгард фон Кетлер, – ровным голосом произнес он. – Отныне вы – магистр ордена.
– Благодарю вас, – едва заметно поклонился Кетлер. – Вы достойно исполняли обязанности командора ордена и не менее достойно покинули свое место. Мы, – он выдержал паузу, – рыцари ордена, благодарны вам за это.
На том политическая карьера Вильгельма фон Фюрстенберга закончилась, а для Готгарда фон Кетлера – началась. И первым делом новый магистр решил нарушить договор с Русью. Отныне хранителями ордена выступали: на западе – король Польши Сигизмунд II Август и самый крупный феодал Центральной Европы великий князь Литвы, а на севере – Швеция и Дания. Остров Эзель ушел под протекторат датского короля Фридриха II, и тот назначил там владыкой своего брата Магнуса. В отличие от предшественника, проповедовавшего древний принцип: «Умри, но не сдавайся!», Готгард Кетлер придерживался другого: «Поступись частью, чтобы не потерять всего».
5
Казначея Мусаила Сукина подкараулили в царских палатах, когда тот, задержавшись допоздна, намеревался покинуть Кремль и отправиться в Китай-город по делам сердечным. В доме овдовевшей купчихи Битюговой его ждали блины с икрой, медовуха и обильные ласки. Да не тут-то было! Сильные руки ухватили Сукина за грудь и прижали к стене.
– Тсс! – приблизилось к нему холеное бородатое лицо.
Пискнуть не мог казначей – так сдавило ему грудь. Но чтобы лиходей, да в самом Кремле?! Однако быстро пришел в себя Сукин: пальцы его «лиходея» так и сверкали дорогими каменьями! И у самого царя небось таких не было…
Над ним завис не кто-нибудь, а старший Захарьин-Юрьев – шурин царский.
– Вот что, Мусаил, – зловеще зашептал Данила Романович, крепко держа борта кафтана казначея, – ты это… отдышись пока малость. А то вон ведь как испужался – точно тебя тати в лесу споймали! Даже в темноте видно, сколь побледнел со страху. Аль ты деньги царские таскаешь? Проверим карманы-то, а?
– Все смеетесь, Данила Романыч, – оторопело забормотал Сукин, – а ведь и впрямь напали на меня, аки тать в ночи! Я уж с перепугу забыл даже, как вздохнуть…
Данила рассмеялся, ослабил хватку:
– А ты вспоминай, Мусаил, вспоминай. Нам, живым, воздухом дышать непременно надобно. Это мертвякам оно ни к чему. А ты дыши, дыши пока…
Из темноты вышел и второй Захарьин-Юрьев, младший из братьев, Никита Романович. Так и сверлил взглядом казначея.
– Правду говорят, что не жалуешь ты Адашева Алексея? – спросил старший.
– Отчего ж не жалую? – заторопился Сукин. – Кто напраслину на меня возвел?..
– Стало быть, жалуешь?! – грозно переспросил Данила, тряханув казначея за шиворот.
– Не больно-то жалую, Данила Романыч, да что с того? – вопросом на вопрос ответил казначей. – Мало ли кто кого жалует, а кого нет! Лишь бы государь наш Иоанн Васильевич, царь православный, жив был и здоров…
Сукин знал: эти двое просто так вопросов не задают и, коли прилипнут, легко не отвяжутся. Что-то понадобилось от него двум хитрым братьям, давно желавшим прибрать к рукам Московию через любовь Иоанна Васильевича к их кровной сестренке – царице Анастасии Романовне.
Никита Романович, стоявший тут же, усмехнулся, передразнил казначея:
– «Что с того?» А то, Сукин Мусаил, что время твое настало послужить нам и всему государству русскому.
– Как это? – осторожно полюбопытствовал Сукин.
– А вот так это, – вторил брату Данила. – Ты ведь у нас казной ведаешь? Вот и намекни государю: мол, Алексей Адашев, нестяжатель наш незабвенный, сын лукавого Федора, не просто так с ливонцами примирился. Скажи, что, мол, после того замирения денежка потекла на Русь из Ливонии, да только не в карманы царские, а к первому его министру – любимцу и другу сердечному. Змее подколодной…
– Господь с вами, Данила Романович, так ведь это ж навет будет!
– А хотя бы и навет, Сукин, что с того? Я ведь отблагодарю, – приблизившись к чиновнику, старший Захарьин-Юрьев не отпускал от себя его перепуганного взгляда, – ох, не постою за ценой!
Тут и молодой Никита прихватил казначея за другой рукав, да еще крепче брата:
– Мы за ценой не постоим, Мусаил, мы оба. Слово тебе даем!
– А ты слову нашему верь, Мусаил, верь, – продолжал старший Захарьин-Юрьев. – Мы ведь – родня государева. Царские детки – племяши наши. Им на престоле русском сидеть! Смекаешь, кого тебе слушать стоит? Адашев же – временщик из худого рода. Да нынче и не люб он уже царю, как прежде. Надоел с самоуправством своим хуже горькой редьки. Вон, Сильвестор-то, где уже? Вчера еще только за трон держался, обвивал его, аки плющ ядовитый древо вечной жизни, а нынче уже за версту сохнет. Утомил потому что царя советами да поучениями, отравил байками и страшилами своими. Все адом запугивал да чертями, да прочей нечестью! Так супротив него все страшилы опосля и обернулись. Скоро и Адашев там окажется, в той же яме, откуда назад ходу нет. А кто тогда встанет у кормила государева? Мы, Захарьины-Юрьевы, Данила да Никита, друзья царевы, любимые братья его любимой во Христе женушки.
– Мы тебя торопить не станем, – увещевал младший Романович. – Ты ж обмозговать должен каждое наше слово, верно?
По коридорам царских палат пошел мерный топот. Он приближался – дворцовая стража из стрельцов, по форме – при топорах и саблях, шла сюда. Заслышав бойкие шаги, братья переглянулись. Уже свет факелов, разрывая темноту, замаячил вдалеке. Захарьины-Юрьевы разжали цепкие пальцы – отпустили рукава казначейского кафтана, но полного продыху бедняге не дали.
– Стой смирно, Мусаил, – улыбнулся казначею Никита. – Смирнехонько!
Стража, ненадолго порезав темноту факелами, обдав легким жаром, прошла мимо знатных бояр, даже глаз на них не скосив, чтоб не прогневать случаем.
– Братец мой младший чересчур милостив, не так зорок еще, как я, – проводив взглядом стрельцов, вновь заговорил Данила. – Придется тебя поторопить, Мусаил. Потому как времени у нас мало – нужно о будущем думать. Так что ты, Сукин, не тяни с ответом. От него и судьба твоя зависит, а может, и жизнь сама. Твоя, родни всей и даже полюбовницы твоей из Китай-города, – улыбнулся старший Захарьин-Юрьев, глаза в глаза глядя на бледного как смерть даже здесь, в темноте, казначея. – Так-то вот!
Часть вторая Страсти земли русской
Глава 1 Царь всея Руси
1
Иоанну IX Васильевичу выпало несчастливое детство. Отца он не помнил – Василий III умер нелепой смертью в пятьдесят четыре года. Простая царапина загноилась, и все обернулось заражением крови. Трехлетним малышом встретил Иван это горе. Мать будущего царя, Елена Глинская, вышла из литовских княжон, род ее вел начало от самого Мамая, от его сыновей, что после смерти отца осели в Литве и разрослись семьями. Елена не пользовалась популярностью среди московитов, но это не помешало великой княжне со всей данной ей Богом волей встать у руля молодого государства. Елена Глинская оказалась уверенным политиком и администратором: она заключила выгодный для Руси мир с Польшей, обязала Швецию не помогать Ливонскому ордену и Литве против русских, позже подавила боярское сопротивление и ввела первую на его Руси единую монету – серебряную копейку.
Но те несколько лет, в кои правила она от имени малолетнего сына своего Ивана, показали жестокое сердце ее и непреклонный характер. Властная и самонадеянная Елена, заняв место на троне, не терпела прекословия и своенравия вельмож. С ее легкой руки сгинули в застенках и два родных брата покойного царя Василия III. Сперва князь Юрий Иванович Дмитровский, которого сразу после похорон мужа Глинская заточила в подземелье, а позже и князь Андрей Иванович Старицкий, осмелившийся учинить бунт против нее и ее честолюбивого фаворита Овчины-Телепнева-Оболенского.
Сгубила в тюрьме Елена и родного дядю Михаила Глинского, назначенного ей мужем Василием перед смертью в первые советники: родственник имел неосторожность выразить недовольство все тем же фаворитом великой княгини.
Многие из князей и бояр, не одобрявшие порочного союза Глинской и Оболенского, желавшего через нее править государством, выехали на тот период из Москвы в Литву – служить новому государю.
Целых пять лет – после смерти Василия III в 1533-м, – государственная лодка раскачивалась во все стороны: высокородные князья и бояре не желали мириться с властью ненавистной им Елены, она же платила им сторицей – казнями и унижениями.
Зато оба сына, Иван и младшенький – убогий Юрий, боготворили свою красавицу-мать. Она была для них и солнцем, и луной. В сущности кроме нее они никому и не были нужны. Не часто мать отвечала им долгожданной лаской, с трудом находя для сыновей время меж государственными делами и личной жизнью, но тем радостнее были для мальчиков эти редкие проявления любви. Ведь только в абсолютном мраке можно в полной мере оценить огонек свечи, пусть даже и неяркий.
Но так продолжалось недолго…
Когда Ивану исполнилось восемь лет, Елена Глинская, цветущая женщина тридцати лет, неожиданно занемогла и в течение нескольких дней угасла. Этот удар был почти смертельным для мальчиков Ивана и Юрия. От горя Иван часами сидел, уставившись в одну точку, и не откликался, когда его звали. Только машинально гладил по голове глухонемого Юрия, что, садясь рядом, укладывал светловолосую голову брату на колени.
В смерти Елены многие винили бояр Шуйских – братьев Ивана и Василия, создавших могущественную партию при великокняжеском дворе. Но винили шепотком, с оглядкой. Боялись Шуйских, ведь они отныне встали у кормила власти. Через несколько дней после смерти Елены братья Шуйские извели ее любимца Оболенского, сослали митрополита московского Даниила, благоволившего великой княгине, и казнили многих других ее приближенных.
Восьмилетний Иван и пятилетний Юрий остались круглыми сиротами и уцелели лишь потому, что казались Шуйским безобидными и жалкими щенками. Те и относились к малолеткам как к щенкам – в собственных хоромах царственные братья ходили в обносках и кормились объедками с богатого стола ничего не страшившихся бояр.
Смуглый, темноволосый и кареглазый Иван рос недоверчивым, осторожным и боязливым. Он вздрагивал от громких звуков: пушечного выстрела и даже отдаленных криков в царских палатах, потому что часто эти крики сулили беду. Но если Юрий в силу врожденного недуга был, как о нем говаривали, «умом прост» и принимал все удары судьбы безропотно, то совсем другое дело – Иван. Старший брат замечал все и все понимал. И потому в сердце Ивана с юных лет росла великая и лютая злоба ко всему окружающему его миру – несправедливому, жестокому и опасному…
Через два года после смерти Елены князья Бельские попытались вырвать власть у Шуйских, но неудачно – и сами поплатились, и других за собой потащили. Их союзника, одного из людей князя Воронцова, убили прямо на глазах Ивана. Но юный царь, глядя на все боярские изуверства, взрослел и до времени молчал, точно воды в рот набрав.
Взорвался он в тринадцать лет, набравшись смелости, решив показать себя хозяином и земли своей, и людей – слуг великокняжеских.
Более других Иван ненавидел Шуйских. Братья к тому времени совсем обнаглели и развальяжились, обросли сонной прислугой и жадными подпевалами-льстецами. Не думали и думать не хотели, что творится в душе мальчишки Ивана, которого за его темные злые глаза только и кликали что «волчонком». Себя-то медведями считали. Привыкли помыкать подростком, были уверены: все сделает, что они ему прикажут.
И вот однажды «волчонок», окруженный стрельцами, указав пальцем на Андрея Шуйского, отвесившего ему недавно подзатыльник, как льдом обжег:
– Взять его! Взять!
Стража не посмела ослушаться молодого великого князя. Тем паче что никто не любил обнаглевших Шуйских – нахлебников и воров. А сам боярин Андрей превзошел всех: будучи наместником в Новгороде, крал все, что плохо лежало, да так старался, что новгородцы едва его не порешили. Выслали обратно в Москву, а людишек его перебили. Схватила теперь стража Андрея Шуйского и поволокла по палатам, а он все визжал и брыкался, поверить не мог тому, что с ним происходит.
Иван же шел следом и твердил:
– Крепче держите! Крепче!
А когда выволокли Андрея Шуйского на великокняжеский двор да бросили на снег, а была зима и морозец крепкий стоял, тут-то тринадцатилетний Иван и решился. До сих пор стоял у него перед глазами насмерть забитый Шуйскими человек князя Воронцова, и крики его все еще резали слух так, что хотелось заткнуть уши. Вот казнь для Андрея Шуйского сама собой и придумалась. Скорая, но лютая.
– Псарей моих сюда! – истерично закричал Иван. – Да с собаками! С некормленными! Всех, кто ослушается, ждут плаха и топор! – Иван дрожал от гнева и восторга. Мечтал об этом годы, а вершилось все мгновениями. – Всех погублю, никого не пожалею…
И тут Андрей Шуйский понял, что не шутки это мальчишки-переростка, не игры его злые, когда кошек и щенят с крыш полатей своих сбрасывал да во дворе вешал, а самая что ни на есть государева воля.
– Помилуй, Ваня! – забился у красного крыльца в снегу боярин Андрей. – Прости подлеца! Я ведь шутейно, любя! Ва-аня!
А псари едва поспевали – собаки сами тащили их вперед. Псы лаяли разноголосо и жадно, предчувствуя драку и кровь. Стояли все человечки государевы, недавно еще горластые да страх забывшие, точно языки проглотили. И не знали стрельцы, челядь и дьяки, куда смотреть – на юного великого князя или на грозную собачью свору. А псы, обливаясь слюной, рвали перепуганным хозяевам руки, тянули морды и скалили пасти в сторону того, кто был жалок и до смерти напуган.
Полоснув взглядом по псарям, Иван остановил взгляд на боярине, что, разминая снег, ползал в отчаянии на одном месте, бормоча и глотая слова, и все тянул руки то к стрельцам, то к прислуге.
Вновь указал на него пальцем Иван и крикнул что есть силы:
– Чем не боров лесной?! Травить его! Травить! Травить!
И псари послушно спустили десятка два псов, и те стали рвать на лоскуты ревущего Андрея Шуйского. Кричал он недолго, но страшно. За минуту распотрошили его охотничьи псы, разорвали, а потом еще растаскивали по кускам, и никто не остановил их. Все ждали и молчали. Только кровью остался обильно полит зимний великокняжеский двор. Тупо смотрели собаки с окровавленным пастями на псарей, нюхали алый снег. И в той же тишине стрельцы и слуги смотрели на то, что осталось от царского недоброжелателя.
А Иван, пылая лицом, продолжал дрожать, но на этот раз от упоения властью, от своей силы и чужой безропотной покорности.
Так, за минуту, терпеливый и послушный чужой воле мальчишка превратился в великого князя всея Руси Иоанна Васильевича. И за ту же минуту пала власть семьи бояр Шуйских и падением своим положила начало правлению князей Глинских – родичей Иоанна по матери Елене.
Самонадеянные Шуйские возводили плотину, унижая подростка и тем копя великокняжеский гнев и злобу; наученные чужим опытом Глинские поступили иначе. Пусть этот гнев и злоба проливаются сколь угодно, решили они, лишь бы не на них. Тем более что подросток превращался в юношу, и из этого можно было извлечь выгоду. Пиры и любовные утехи с радостью примет неопытное отроческое сердце! И все это Глинские дали юноше с избытком, приучая его с молодых лет к пустому времяпрепровождению, вину и распутству. Благо послушных великокняжьей воле дев было не счесть – из любого сословия. Теперь стало можно все! И юнец в полной мере наслаждался этой вседозволенностью, с избытком восполняя былые запреты и незаслуженные ущемления его священных прав государя.
Но одна страсть Иоанна еще с малолетства была особенно сильна – страсть к книгам. Многим казалось, что появилась она точно сама собой, но на самом деле книги открывали ему врата в иной мир. Мир, которому легко и по своей воле мог отдаться забитый и забытый всеми мальчуган. И если бы не эта страсть читать и разуметь, то стал бы Иоанн пустым прожигателем жизни на троне, никчемным человеком.
Книги же учили его быть иным. Но каким?.. Не прожигателем своей, а выжигателем чужих жизней, потому что очень скоро Иоанн IV стал искать в них лишь одно.
Иоанн Васильевич, у которого едва пушок тронул щеки, и вычитывал в книгах не христианские мудрости, хотя там их было предостаточно. Призывы к добродетели и любви к ближнему мало трогали его – они просачивались через сознание, как песок сквозь пальцы. Он же с восхищением и трепетом улавливал все, что касалось власти государя. Абсолютной власти.
Да и само время тому способствовало…
Почти веком ранее, в 1453 году, под ударами турков-османов пал Константинополь. Мехмед II стер с лица земли Восточную Римскую империю – оплот православной веры. Точно в насмешку над христианским миром, он перенес на священный берег Босфора свою столицу, раздавив каменной пятой ислама даже остатки прежней культуры.
Место для нового оплота восточно-христианского вероисповедания оказалось свободным.
Ивану Васильевичу III, деду Иоанна IV, исполнилось на тот период тринадцать лет. Его отец, Василий II Темный, еще платил Большой орде – первой из наследниц Золотой Орды – дань, только во снах помышляя о свободе от ненавистного ярма. Но век пятнадцатый от Рождества Христова открывал цивилизациям новые горизонты, и время отныне работало на Русь – против ее захватчиков татар. Это время неумолимо разделило кровожадных кочевников на множество враждующих между собой и оспаривающих былую Чингизову и Батыеву славу орд, в первую очередь Большую и Астраханскую, Крымскую и Казанскую, Ногайскую и Сибирскую.
А время для Москвы было другое – собирать русские земли.
Чем и занялся Иван III, сев на отцовский престол после смерти ослепленного в междоусобицах Василия.
Иван III в разное время присоединил или сделал зависимым от Москвы княжества Ярославское и Рязанское, Ростовское и Дмитровское, Белозерское и вечно враждующее Тверское, навсегда прогнав дальнего своего родственника, тверского князя, в Литву. Наконец малой кровью присоединил до того вольную и не желавшую никому подчиняться Новгородскую республику. В Москву, в знак столь важного акта, был отправлен вечевой новгородский колокол – символ древней свободы этого северного города.
В 1472 году Иван III Рюрикович женился на племяннице последнего византийского императора Константина XII Софье Палеолог – последней представительнице своей династии. Это обстоятельство позволило Ивану, носившему пока всего лишь великокняжеской титул, задуматься о преемственности духовной и светской власти, идущей от самих византийских императоров! Ведь отныне крови его и Софьи суждено будет соединиться в их детях.
А в 1480-м на реке Угре хан Большой орды Ахмат так и не решился напасть на московитов, переставших платить татарам дань. Так и ушли кочевники несолоно хлебавши.
Ивану III вновь было чем гордиться: это он избавил русские земли от ордынского ига, длившегося два с половиной века!
До этих событий великие князья Московские называли «царями» ханов Золотой Орды, потому что так величали они себя. И до ухода от речки Угры больше-ордынской армии во всех грамотах Иван III величал хана Ахмата «царем», а себя – великим князем и слугой его верным. И монеты ходили по Руси с ханскими ликами. Но коли «царь», поджав хвост, ушел? А сам он, Иван, женат на племяннице императорской? Не патриархи византийские считались наместниками Бога на земле – они в государственном устройстве ромеев играли роль небольшую, – Божьими ставленниками перед всем миром были императоры! Короли западные – племенные вожди франков да германцев – с них пример брали, венчаясь коронами! Так как же называть себя отныне – только ли «великим князем»? И вот Иван III, пусть и с оглядкой, нет-нет, а стал подписываться в грамотах, касавшихся внутренних дел государства, помимо прочего еще и «царь», что по латыни означает «кесарь». Именно так именовали себя императоры Рима, а позже и Византии.
За свою жизнь Иван III сделал все что мог и даже сверх этого. Хвала ему вечная. Сын его и Софьи Палеолог, Василий III, смело принял у отца эстафету. Он вел себя уже смелее, ведь в нем текла кровь византийских императоров. Но даже Иосиф Волоцкий, идеями своими, а потому и именем положивший начало течению «иосифлян», дабы польстить великому князю, называл его «всей Русской земли государям государем», но никак не «царем». Тем не менее Василий III, чувствуя за собой тень византийских императоров и освобожденный от уплаты дани татарам, уже куда чаще отца подписывался в документах как «царь всея Руси». Хотя о таком звании он мог пока только мечтать…
Вот тут и появился на исторической сцене некий псковский монах Филофей. В письме он адресовал государю высокопарные слова, которые не могли не тронуть до глубины души великого князя: «Рим пал от варваров за грехи свои, второй Рим – Константинополь – пал от турок-османов из-за ересей своих, третий Рим – Москва – стоять вечно будет!» Василий III долго не мог успокоиться, впервые прочитав такое. Никому не известный псковский монах, сам того не предполагая, завязал такие три узелка на бечеве времени, которые и мечом отныне было не разрубить. Желая польстить великому князю, Филофей определил политику великого государства на века вперед.
Дело оставалось за малым: донести это до всего мира…
Но донести ее суждено было не Василию III, а его сыну – Иоанну IV, которого пленила и ослепила идея «Богом избранного царя русского».
А тут еще и позиция московского митрополита оказалась как нельзя кстати…
Макарий, митрополит Московский и всея Руси, мудрец и книгочей, был сторонником сильной самодержавной власти и воинствующей церкви, духовного меча ее. Убежденный иосифлянин, он терпеть не мог «нестяжателей» и готов был поставить их в один ряд с еретиками своего времени. Макарий давно грезил идеей увидеть во главе Московской Руси не великого князя, а царя, и раз и навсегда закрепить его полномочия «божественной природой», чтобы никакие удельные князья не могли оспорить власть московского, а значит, и всея Руси государя. Ведь и в голову никому и никогда не пришло бы оспаривать теократическую власть византийского императора, так чем хуже будет русский царь?
После одного из богослужений в Успенском соборе в Московском Кремле юный Иоанн сам подошел к митрополиту, дотронулся до руки его и отозвал Макария в сторону. Они встали под церковным окном, вечерний свет падал на них сверху, ало подпалив по-восточному темные волосы шестнадцатилетнего юноши. Иоанн волновался, и тогда Макарий взял его руку в свою:
– О чем ты хотел говорить со мной, великий князь?
– Хочу быть царем всея Руси, но не как отец мой – лишь на грамотах, а хочу воистину им быть, – глаза юноши уже загорались тем огнем, который пока был внове для многих. – И не как ханы ордынские, басурманы проклятые, силой титул бравшие. Хочу венчаться на царство перед боярами и народом моим, чтобы все видели: я – царь, и власть моя от Бога христианского! И чтобы все короли западные благоговели и завидовали, как благоговели и завидовали они императорам Византии. Так я хочу, отче.
Макарий не мог и не хотел скрывать своего удивления и восторга: до глубины души он был поражен прозорливостью худенького юноши, точно заглянувшего в сердце и ему самому – первосвященнику Московского государства.
– Ты будешь царем, великий князь, – сказал митрополит. – Сам бы не попросил – я бы тебе подсказал. Скоро будешь, верь мне!
Юношеская гордыня и прагматизм умудренного опытом священника небывалым образом сошлись воедино, точно две стрелы, пущенные в одну мишень и поразившие ее одновременно и – в одной выбранной точке!
Для кого будущее венчание стало новостью, так это для бояр московских. До того пребывавший в тени юноша Иоанн смело вышел на свет и покидать его уже не думал. Разве что Глинские не удивились, потому как сами упорно нашептывали Иоанну, что достоин он большей доли, нежели одной только великокняжеской. Подталкивая подростка венчаться на царство, укрепляя власть своего отпрыска по линии Елены, Глинские укрепляли и свои позиции при русском великокняжеском дворе, ведь их, интриганов и временщиков, заботящихся лишь о своем благе, любили не больше, чем Шуйских.
В полдень 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля, при огромном скоплении народа, под колокольный звон – а звонила в тот знаменательный день вся Москва! – Иоанн IV Васильевич был венчан как «Царь всея Руси» божественным соизволением. Митрополит Макарий лично возложил на шестнадцатилетнего юношу знаки царского достоинства – крест Животворящего Древа, бармы и шапку Мономаха, помазал его миром и благословил на царствование. Для митрополита Макария неограниченная самодержавная власть и православная вера сошлись-таки по византийскому примеру в одном человеке, который отныне должен был стать неприступной скалой в христианском мире.
Но до того, чтобы занять место византийского императора, было еще далеко! Слишком многого ожидал юный Иоанн от своего нового титула. Свои-то, московиты, с радостью встретили его «перерождение», с царем и людишки всех сословий себя смелее почувствовали, горделивее плечи расправили, ведь раньше были ханские холопы, а нынче – своего царя из славян.
Но как же другие страны-государства?
Тут Иоанна до времени ждало горькое разочарование. Оказалось, одно дело венчаться на царство в землях русских княжеств, и совсем другое – стать царем перед всем миром. А юноша Иоанн вовсе не был темным затворником, читал он много и всякого и знал, что есть другой мир – латинский. Тот мир хоть с верой христианской и подкачал, но машины разные хитрые придумывал: уже целый век как печатал книги, лил пушки всем на зависть, ковал доспехи и мечи, корабли строил и по морям-океанам смело плавал. С тем миром стоило знаться и торговать, учиться у него уму-разуму.
Кем же был для Запада Иоанн? Мальчишка. Ну, великий князь московский. Так это значило не больше, чем «великий герцог». Правит кто-то на землях бывшей Золотой Орды, на окраинах ее, прежний холоп монгольский, княжит себе среди медведей, вот и все. Одна радость – везут оттуда мед, воск да пушнину.
Но еще до венчания на царство Иоанн стал все чаще удивлять бояр своими зловредными выходками. Иные, самые проницательные, сразу подметили в нем одно качество, о котором вслух и боязно было говорить. В детстве Иоанн любил умерщвлять животных, часто изощренным способом. Юный Иоанн презирал людей и совсем не ценил уже человеческой жизни. Лет в пятнадцать, с ватагой таких же подростков, мчится, бывало, верхом по Москве, по торговым рядам, и плетью лупит столичный люд по спинам, лицам да рукам, не разбирая, зрелый то муж или девица, старик или ребенок. Любому могло достаться…
Кошками и щенками теперь не обходилось. Афанасию Бутурлину Иоанн приказал за невежливое слово язык отсечь – да на своих глазах. Новгородские стрельцы пришли с жалобами, а он приказал своим дворянам гнать жалобщиков взашей. Те друг с другом сцепились, с каждой стороны по пяток человек полегло. Иоанн приказал искать зачинщиков. Следователи быстро нашли их, правда, среди чужаков – «зачинщиками» оказались бояре Воронцовы и князь Кубенский. Все из первого ряда. Их Иоанн с детства знал и худого ничего сказать о них не мог. А тут взял и приказал Ивану Кубенскому и одному из Воронцовых головы отсечь, а двух других Воронцовых выслать из Москвы. Семьдесят почтенных и немолодых псковичей – а Псков еще помнил традиции вольного города! – приехали челом бить государю и жаловаться на угнетателя наместника князя Ивана Турунтая-Пронского, злоупотреблявшего своей властью. Иоанн же, став пунцовым от гнева, возопил: «Да как вы смеете, посадские мужики, черный люд, жаловаться на моего князя?!» И приказал старым псковичам бороды свечами палить и горячее вино на лицо лить. А сам на все это издевательство смотрел, то бледнея, то заливаясь краской от гнева и удовольствия одновременно. А затем приказал раздеть жалобщиков догола и на землю чурбаками уложить. Псковичи решили, что их смертный час настал. Плакали, стонали, умоляли – все без толку. Вооруженные до зубов холопы государевы уже приготовились свершить казнь, но тут прибыл гонец из Москвы и сообщил, что большой колокол кремлевский упал и раскололся.
Дурное известие, беду предвещавшее!
Иоанн, веривший всяким знакам, тотчас забыл о псковичах, прыгнул на коня и со своими лихими приятелями по утехам мерзким и ближней охраною поскакал в Кремль. Но прежде крикнул, решив судьбу псковских старшин:
– Пусть убираются!
Избитые, едва до смерти не замученные, почтенные псковичи убрались восвояси, не найдя правды: подальше от Москвы, этой лютой волчицы, гореть бы ей в аду!..
Но приступы гнева и садизма сменялись у царя периодами принятий решений мудрых и дальновидных. В те же шестнадцать лет Иоанн вновь изумил князей и бояр московских.
– Хочу жениться и род своей продолжить! – заявил как-то Боярской думе.
Растрогался царский двор, особенно старики. Вот он какой у них царь-то – умница! Другой бы в таком возрасте о потехах одних и думал, а этот не только плетьми по головам москвичей жарит да бороды старикам жжет, но и о наследниках печется!
А царь продолжал:
– Но не иностранку хочу взять себе в жены, а свою, русскую, из коренного боярского рода.
Поговаривали, что Глинские научили его этой премудрости. Заграничную принцессу запросто в монастырь не отправишь, а свою можно. Вдруг не слюбятся? И яду просто так не подсыплешь, коли сама ядовитой змеей окажется, – отец заграничный запросто озлобиться может, за меч возьмется. А то, что змеи из красивых-то яиц вылупляются, это Глинские знали! Насмотрелись они на свою Елену-прекрасную, на характер ее, на волю железную, – какой может оказаться супруга государева! Скольких не пожалела! Только второй такой Елены, но из чужого рода, им, Глинским, было не надобно. Что интересно, совет своих родичей по матери показался юному царю мудрым и обоснованным.
Прослышав о воле государя, засуетились все князья русские да бояре, готовя своих дочерей на показ. Полторы тысячи девок прошли пред очами юного царя.
Выбрал же он шестнадцатилетнюю Анастасию из боярского рода Захарьиных-Юрьевых. Не династическим был этот брак – сердцем сошлись они. Выбирая суженую, молодой царь сам творил свою судьбу. Увидел Настасьюшку и глаз уже не смог отвести. По любви женился, что редко бывает у государей, и Анастасию Романовну, к великому счастью ее деятельных и дальновидных братьев Данилы и Никиты, венчали как первую в истории Руси великую княгиню и царицу московскую.
Тут бы, кажется, и заживи. Да не вышло…
В том же 1547 году один пожар на Москве следовал за другим. Но тот, что грянул 21 июня, позже назовут «великим». Точно раздували его за грехи людские сами силы небесные. Никто из стариков при жизни своей такого пожара не помнил! Лето выдалось жарким и сухим. Поначалу огонь запылал где-то на Арбатской улице, а потом пошел, пошел!..
Позже летописец запишет: «Ветер был велик, и потек огонь яко молния…»
Пожар двинулся на Кремль с юга и скоро захлестнул стены. Все, что было слажено в Кремле из дерева, сгорело. Пылали Казенный и Пушечный дворы, Оружейная и Постельная палаты, потом стали взрываться пороховые склады. Сотни коней, вырвавшиеся из горящих царских конюшен, стали метаться по улицам и топтать людей, что пытались уберечь свое добро, искать в пожаре родных или просто спастись от огня. Митрополита Макария решили провести через подземелье Успенского собора, но там уже было так задымлено, что пришлось от этого пути спасения отказаться. На том участке кремлевской стены, где еще не было огня, полузадохнувшегося митрополита обвязали веревкой и стали спускать вниз, за стену, но веревка оборвалась, и митрополит Макарий, и так едва дышавший, упал на камни. А провожавшие его спасители так и сгорели заживо. Толком не зная, жив митрополит или нет, его повезли в Новинский монастырь. Люди, оставшиеся в Кремле, бежали к главному оплоту – каменным церквям, закрывались в них и молили Господа о защите, но глух был в тот день Создатель к их мольбам. Стены церквей раскалялись и трескались от жара, и церковная утварь мгновенно вспыхивала и сгорала. Так погибло большинство кремлевских фресок Андрея Рублева и Дионисия. А за стенами Кремля уже целиком выгорали Китай-город и Большой посад.
В том июньском пожаре сгорело 25 000 дворов и страшной смертью погибли почти четыре тысячи человек! И огонь не разбирал – простой ты холоп или знатный боярин.
А вот царь спасся. Взяв молодую жену, с горсткой слуг он вовремя бежал из Москвы в загородное село Воробьево, что раскинулось на горах и где у царя было поместье. И уже оттуда, с Воробьевых гор, потеряв дар речи, Иоанн смотрел вниз – на пожар, что выжигал Москву, горевшую так страшно, так погибельно, точно час столицы уже пробил. Много позже царь напишет о тех минутах: «Вошел страх в душу мою, трепет в кости мои, и смирился дух мой».
Город был завален обуглившимся трупами, и хоронить их было некому. Покалеченных и обгоревших оказалось еще больше. Все съестные припасы сгорели, жить было негде…
На пятый день в Москве начались волнения. «Было великое возмущение во всем народе», – запишет потом летописец. Народ московский не верил, что такое могло случиться просто так, и стал искать виновных. А кто может быть виновным? – самый нелюбимый! Тот, кто стоит у власти, обирает простой народ, казнит и милует по своему разумению.
Таковыми были Глинские…
Боярская дума, вернее, то, что от нее осталось, собралась в Новинском монастыре у постели чудом выжившего митрополита Макария, решая, что же делать и как быть. Прибывший сюда Иоанн тут и узнал, что народ винит его родню. Да более того: уже ходит слух по Москве, что бабка-де молодого царя, мать Елены, Анна «волховала, сердца человеческие из тел изымала, затем в воде их мочила и тою водой по ночам улицы столицы окропляла, оттого вся Москва и выгорела». И теперь все уцелевшие ищут Глинских, чтобы расправу над ними учинить!
«Всяк человек дик по-своему, а когда собирается в толпу, то и совсем дичает: точно зверь голодный становится», – писал один монах того времени о происходившем в Москве волнении сразу после пожара.
И точно, к тому времени гневная, озверевшая толпа рыскала по пепелищу в поисках Анны Глинской. Но не нашла – старуха предусмотрительно сбежала. Но сказали, что Юрий Глинский, дядя царя, где-то в Кремле. А потом узнали – в Успенском соборе прячется, у Господа защиты ищет! И тогда толпа двинулась к Успенскому собору. Глинского нашли, избили в самом соборе, затем вытащили на улицу и всем миром прикончили камнями. Труп Юрия бросили на торжище, как тело осужденного и казненного преступника, а затем пошли к его каменному дому, не тронутому огнем. Толпа ворвалась в дом Глинского, выволокла на улицу всех дальних родственников и челядь княжескую и прикончила, как и хозяина, камнями, палками и кулаками. А потом дом разграбили.
Но всего этого показало мало. И тогда черный люд, взяв себе в вожди московского палача, двинулся на Воробьевы горы – к молодому царю, дознаваться: где он прячет свою бабку-колдунью и второго дядю Михаила Васильевича, почто лиходеев укрывает?
Иоанн и его жена спали, когда дом наполнился страшным шумом и грозными голосами. Двери распахнулись, и в опочивальню ввалился палач с топором в руке, а за ним и черный люд, вооруженный чем попало. Иоанн и Анастасия были наги – они только что предавались любви. Теперь же, глядя на черные тени, юноша комкал одеяло у своего живота. Зубы его стучали, он не знал: кричать ему или плакать, звать на помощь или просить пощады.
– Отдай нам, царь-батюшка, родню свою – Глинских! – надвигаясь, рычала толпа. – Это бабка твоя, колдунья-Анна, погубила Москву! Выдай нам ее!
А ведь он уже думал, что смерть его пришла, и любимой жены его – Анастасии. Хоть Иоанн и трусоват был, но нашел в себе силы сказать:
– Нет здесь Глинских, и где они – я не знаю. – Он говорил правду: Глинских и след простыл. – Ищите их за пределами Москвы – уверен, бежали они от вашего гнева.
И толпа поверила своему царю. Но уточнила:
– А не станешь ли ты нас потом искать и обиды нам чинить, что убили мы уже твоего дядю Юрия?
– Не стану, – ответил Иоанн.
– И слово даешь царское?
– Даю слово, – едва живой, ответил юноша.
И чернь, удовлетворенная ответом, покинула опочивальню. Слова своего, понятно, Иоанн не сдержал, скоро учинил следствие и всех зачинщиков, начиная с палача, казнил публично. Но в ту ночь напугал его простой народ. Оказывается, страшен он может быть, не посмотрел даже, что ввалился к богоизбранному, как уверяла со всех престолов церковь, государю. Могли ведь на одну мозолистую ладонь положить его вместе с женой, а другой прихлопнуть! Чудом, ох чудом спаслись они с Анастасией в ту ночь.
Два дня – 27 и 28 июня 1547 года – Москва была в руках взбунтовавшегося народа, и никто, ни бояре, ни армия, не могли и помыслить справиться с ним. Бунт улегся сам собой. Надоело бунтовать, и смысла уже не было: «старухи-колдуньи» так и не нашли. Но прощать такого самоуправства своему народу Иоанн был не намерен – все будет помнить, до смерти ничего не забудет! Ни крови Глинских, ни двух дней народной власти, ни страха своего и жены своей перед чернью, что было куда важнее.
Утро, что последовало за ночью вторжения в царские покои на Воробьевых горах, было еще неожиданнее. На крыльце все того же дома появился еще один разгневанный гость – священник в черной рясе, подпоясанной бечевой. Им был протопоп Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестр. Иоанн вышел к нему в одной рубахе до пят, не выспавшийся, щурился и все прикрывал козырьком ладони глаза от солнца.
А пожилой священник указал на царя длинным сухим пальцем и грозно сказал:
– Доколе ж слепцом ты будешь, юный государь?! Неужели не видишь, что творится на твой земле и по чьей вине то происходит?! Сам Господь раздул этот пожар, жестоко предостерегая тебя, первого царя русского, что повиниться ты должен перед Ним за грехи свои и бояр своих – алчных и беспечных! Какие еще свидетельства нужны тебе – второе Батыево нашествие, коим покарал Господь русские земли за извечное братоубийство, чтобы понял ты: владыка должен судить справедливо и границы оберегать надежно, а не жизнь прожигать, слабых давя и попирая?! – Сильвестр потряс кулаками. – В аду хочешь гореть вечно?! В геенне огненной? Так будет тебе геенна, коли не переменишься! Будет!
Оторопел Иоанн. Оторопели и прислуга его, и стрельцы, и все, кто слышал протопопа Сильвестра.
Этой ночью его чуть не зарубили вместе с женой, думал Иоанн, а теперь – геенной пугают. Куда же государю от своих подданных деваться? На пятки наступают! Смел был этот Сильвестр, чересчур смел! Иоанн не раз исповедовался ему, так что знакомы они были и раньше, но такого огня в душе священника, такой грозы в его сердце юноша и не предполагал. За такую смелость и головы лишиться можно! Он мог приказать убить этого священника – за дерзость его великую, и слова роковые готовы были сорваться с уст его. Иоанн видел, что холопы уже готовы исполнить царскую волю. Так бы он и поступил до пожара – глазом бы не моргнул. Но не теперь.
Не теперь.
Вспомнил Иоанн, как стоял на горке и смотрел на пылающую Москву, откуда сейчас одни только дымы тысячами ручейков поднимались, и сердце зашлось, как и в тот день. Переменился он. Да, переменился. Вошел страх в душу его, и трепет в кости его, и смирился дух его перед Господом…
– Буду другим, отче, – опуская глаза и голову, пообещал Иоанн разгневанному священнику. – Буду другим.
Царь сошел с крыльца, на глазах у всех опустился на колени перед Сильвестром, взял его руку и жадно припал к ней сухими губами.
– Теперь все иначе будет, – сказал юноша, и горькие слезы нечаянного раскаяния неожиданно для самого Иоанна так и брызнули из его глаз.
Он хотел сказать еще что-то, но захлебнулся рыданиями.
2
Вместе с пожаром ушла и память о ненавистных Глинских, канувших в мутном потоке времени, а вместе с раскаянием молодого царя пришли в государственную власть новые люди. Словно после лавинного ливня, очистившего землю, явились Иоанну Васильевичу после всех невзгод те, кто действительно радел не о своем кармане, а о всей Руси, о ее землях и людях, эти земли населяющих.
Боярская дума осталась, но играла теперь роль незначительную, незаметную. Все решала отныне Ближняя дума, состоявшая из самых доверенных царю людей.
Первым из них был Сильвестр – именно он стал духовной опорой молодого царя, чье жестокое сердце мог усмирить только человек такой моральной силы. Вторым был Алексей Федорович Адашев, совсем молодой костромской дворянин незнатного рода, чьему государственному уму могли позавидовать тем не менее сотни умудренных стариков. Он стал Иоанну таким же близким другом, как и удалой Андрей Михайлович Курбский – еще один из основателей и китов Ближней думы и первый из полководцев Иоанна. С названными тремя государственными мужами в новую думу вошли митрополит Макарий, дьяк Иван Михайлович Висковатый, князь Михаил Иванович Воротынский, боярин Дмитрий Иванович Курлятев и другие реформаторы, радетели за родную землю.
О, Русь! Разрывая путавшие ее веками сети кровавого междоусобья и страшного монгольского ига, она искала свое место в этом мире, и потому ей повезло с этими людьми. И повезло еще с тем, что юный Иоанн попал именно под их влияние. Интуитивно юноша осознал, что нынешнее его окружение готово совершить для страны, вверенной ему Богом, чудо. Главное – не мешать им. И по своей воле Иоанн отошел в сторону, положившись на своих новых наставников и друзей. Тем более что был он молод, влюблен и потому легко нашел себе занятия по душе и помимо государственных.
За столетие, тому предшествовавшее, не было осуществлено столько реформ, сколько совершили его верные государственные мужи за первые годы существования Ближней думы!
Что же касалось стороны духовной, то тут взялись за дело протопоп Сильвестр и митрополит Макарий. Удачно подчинив в дни пожара волю Иоанна, Сильвестр и не думал более отпускать ее. Ежедневно, впрямую или косвенно, Сильвестр направлял Иоанна славной дорогой добродетели и так преуспел в этом, что современник-летописец начертал о нем впоследствии: «У государя он в великом жаловании; и в совете духовном, и в думном он всемогущ, и все-то его слушают».
В свободное от наставлений время протопоп Сильвестр вдохновенно работал над своим легендарным «Домостроем». Он сочинял книгу о том, как надобно русскому человеку строить свою жизнь. Писал бесхитростно, ясно и просто, и это обезоруживало: «Надобно каждому человеку избегать тщеславия, и похвальбы, и неправедной наживы, жить по силе своей и по достатку, и расчетливо на прибыль от законных средств. Ибо такая жизнь благоприятна и богоугодна, и похвальна от людей, и надежна и себе и детям».
Заботы митрополита Макария охватывали всю Русь, потому что именно сейчас она как никогда нуждалась в централизации и, получив своего царя, могла эту идею реализовать. Перво-наперво взялся Макарий за составление списка русских святых. Раньше в каждом княжестве, будь то Рязанское, Ярославское или Ростовское, люди молились своим местечковым святым. Макарий составил списки наиболее популярных князей и деятелей церкви былых веков – от Москвы и до самых ее границ – и создал единый пантеон святых для всей Руси.
Завершив канонизацию русских святых, митрополит Макарий взялся за составление многотомного труда под названием «Великие Минеи Четьи». То была энциклопедия, куда входила наиболее известная и читаемая по всей Руси церковная литература.
В первые годы своего существования Ближняя дума создала знаменитые «приказы», которым суждена будет долгая жизнь. Поместный ведал распределением поместий; посольский – связями с иностранными державами; разрядный – назначениями на военные должности; разбойный – борьбой с «лихими» людьми; земский – порядком во всей Москве и на ее окраинах.
Самым ответственным и самым неблагодарным оказался на Руси Челобитный приказ, ведь сколько людей – униженных и оскорбленных – хотели добиться справедливости не на том, блаженном, а еще на этом, горьком для многих свете! Челобитный приказ и взял на себя Алексей Федорович Адашев – человек прямой и неподкупный, а как муж государственный – суровый и даже беспощадный к любому преступнику. Как о нем говорили в миру, так и записал летописец: «Коли Адашев на кого разгневается, бей челом, не бей, а быть в тюрьме или сослану».
В 1550 году Ближней думой был написан, а царем утвержден новый свод законов – Судебник. Огромное внимание государственные мужи Ближней думы уделяли мздоимству, поразившему всю русскую власть – от самого верха до низа. Дьяки и подьячие были главными действующими лицами в судах молодого Московского царства, их и касались в первую очередь государевы законы: «А которой дьяк или подьячий, что запишет не по суду для посула, того казнить торговою казнью – бить кнутом да в тюрьму бросить…»
В следующем, 1551 году был созван церковный собор, который позже войдет в историю под названием Стоглавого, потому как его решения сойдутся к ста главам. Этот Собор был не реформаторским, а охранительным. Он должен был искоренить ереси и народные суеверия, укрепить благочиние, в том числе исправить погрешности и разночтения в богослужебных книгах, а также подвести людей, населяющих молодое Московское царство, к церковному образованию.
В течение пяти лет после московского пожара Ближняя дума Иоанна вовсе не меняла старый уклад русской жизни, потому что его и не было как такового. Русь Ярослава Мудрого, у которой могло быть великое будущее, канула в Лету; татарская Русь – истерзанная и униженная – тоже уходила в небытие…
Выкарабкиваясь из двухсотпятидесятилетнего ига, новая Русь только искала свой исток. Она складывалась из разрозненных княжеств, как собирается из случайно рассыпанных стекол уникальная мозаика. Ближняя дума создавала новый русский уклад жизни «на ходу», не имея точной программы. Слишком неожиданно встретились все эти люди, столь непохожие друг на друга – ни по званию, ни по возрасту. А главное, никто из них и не предполагал в юном царе Иоанне смирения, открывшего им путь для смелых и точных действий.
Когда же новый уклад был установлен, Ближняя дума обратила внимание взрослеющего Иоанна Васильевича на соседей. А в соседях тех – ни одного друга! Все, как один, лютые враги Руси, и обступили ее точно волки! На востоке – Казанское ханство, что совершало набеги на Русь и грабило ее, и уводило в плен тысячи жителей. К юго-востоку – Ногайская орда. На самом юге – орда Астраханская и Крымское ханство – самое крупное на Черном море рабовладельческое государство, живущее за счет пленных славян. Повыше, – если подковой огибать Русь, – Турецкий султанат, разлегшийся на территории бывшей Византии. На юго-западе и западе – извечные враги Польша, Литва и Ливонский орден. Только и есть для Руси один ход – на север. Но и там бороздят моря датчане и шведы; последние – самые ближние соседи – особенно злы и сильны: не пускают ни торговать, ни города на побережье строить. Приплывут, пожгут, пограбят и уйдут восвояси. Как были варягами, так и остались ими – даром что христиане…
Что-то с этой бедой надо было делать, искать выход. Если и жива была Русь, то лишь потому, что эти волки и коршуны не могли договориться между собой, как погубить ее. Выход Ближняя дума нашла – дерзкий и решительный. А царь Иоанн поддержал это решение и сам вызвался быть вождем героического предприятия.
Ущербной и слабой Русь быть устала и желала стать агрессивной, опасной, бескомпромиссной…
Военная реформа преобразила русскую армию: мобильные части составляла теперь многочисленная дворянская конница, прочную пехотную основу – стрельцы, все чаще соглашались служить царю разудалые наемники с окраин – казаки. Русская артиллерия с каждым годом увеличивала количество расчетов – без нее не обходилась отныне ни одна битва.
Ближняя дума сделала все, чтобы в первую очередь обратить внимание молодого царя на восток. Именно там Алексей Адашев и его единомышленники видели основную опасность. Первой мишенью был выбран самый ближний и дерзкий враг Москвы – Казанское ханство. Казанцы хозяйничали по всей Средней Волге, грабили земли Нижнего Новгорода и Мурома, Арзамаса и Костромы, Галича и Владимира. Десятки тысяч пленных уводились в рабство. Казанский летописец так писал об аппетитах хана: «Приводили к себе русь пленную яко скот толпами и на торгу продавали иноязычным купцам».
Москва безуспешно пыталась завоевать ненавистное ханство в течение уже семи лет. Теперь же московиты решили поступить хитрее: точно так, как поступили они на берегах Балтийского моря, поставив против Ливонской крепости Нарвы свою русскую крепость – Иван-город.
В 1551 году в устье реки Свияги, всего в двадцати верстах от Казани быстро поднялся новый город Свияжск, став русским форпостом пред самым носом ненасытного казанского хана. Гарнизон его был так силен, что взять Свияжск у татар просто не хватило бы сил. Тогда же чуваши, мари и мордва, почуяв, что запахло жареным, присягнули Москве против казанцев, прельстившись знатным посулом – долгое время не платить новым хозяевам дань. К тому же их с почетом принимал в Москве молодой царь, кормил, поил и богато одаривал золотом и оружием. Мирно влившиеся в Московское царство чуваши обязались выставить, когда придет время, многотысячный отряд против своих недавних владык – казанцев.
Время пришло в конце весны 1552 года. Все окрестности Москвы заняло огромное разноплеменное войско, готовое двинуться на Казань. Крымцы хотели было помочь казанцам, сами пошли на север да, пригласив турецких янычар в компанию, осадили Тулу, но вскоре при одном только появлении большой русской армии бежали, бросив обоз и артиллерию.
Отогнав крымцев, русская армия двинулась на Казань и 23 августа осадила ее. Это была долгая и изнурительная для обеих сторон кампания. Месяцами русская артиллерия бомбила Казань. Татары совершали дерзкие вылазки, но всякий раз их загоняли обратно. Перелом произошел после того, как взрывом был уничтожен источник питьевой воды, но даже болезни и падеж скота не вынудили казанцев открыть ворота. Боялись они расплаты! Только подрыв стен и атака русских решили судьбу столицы ханства.
1 ноября 1552 года Иоанн вернулся в Москву победителем. Впереди шли пленные: хан Едигер, за ним – самые важные сановники, и следом – тысячи захваченных ордынских солдат. Русские пленные, которых оказалось в Казанском ханстве свыше ста тысяч, в ходе войны были освобождены, а плененные татары, среди которых преобладали женщины и дети, были розданы в рабство русским дворянам за военные заслуги.
Злейший враг на востоке был повержен, Средняя Волга принадлежала отныне Руси. Саму же землю казанскую – лесную, речную и луговую – летописец так и назвал: «подрайскою землицею». И объяснил, почему: «Сие место пренарочито и красно вельми, и скотопажитно, и пчелисто, и всяцеми земными семяны родимо, и овощми преизобильно, и зверисто, и рыбно, и всякого угодья много».
Отныне казанская земля давала возможность тысячам русских дворян селиться здесь и быть природными охранителями границ молодого государства. Коли монастыри свои земли отдавать не хотели, так вот она – ничейная территория, почти без границ, до самого Урала!
Но у честолюбивого Иоанна была особая причина радоваться взятию Казани. Ее ханы, наследники золотоордынской славы Чингисхана и Батыя, в глазах Востока и Запада носили законное звание «царей». Иоанн занял Казань и теперь, по праву сильнейшего, к сомнительному для многих титулу «Царь всея Руси» взял и титул «Царя Казанского». Теперь он и впрямь был царем, и поспорить с этим никто не мог. Осталось выдворить из казанской земли большинство прежних жителей и заселить «подрайскую землицу» русскими.
О подвиге царя Иоанна заговорили в Европе и Азии. Эта победа изменила расстановку сил между враждующими христианским и мусульманским мирами. При могущественной Турции, занявшей Балканы и угрожавшей северным соседям, западный христианский мир неожиданно получил сильного союзника на востоке.
Не знали в тех странах одного: что победа эта стала возможна благодаря мудрецам из Ближней думы. Но коли царь всем голова, стало быть – его заслуга!
Между тем новые испытания ждали победителей в самом сердце Москвы – в Кремле.
1 марта 1553 года, спустя четыре месяца после возвращения из Казани, Иоанн неожиданно слег. Дадцатидвухлетний царь всея Руси, едва подняв голову перед всем миром, умирал в горячке…
Тут-то Русь и оказалась перед малой великой смутой, забурлившей в пределах кремлевских стен. Год назад Анастасия родила Иоанну сына – Дмитрия. Но если царь умрет, кто будет править? Анастасия была скромной и богобоязненной молодой женщиной, никак не влиявшей на политику государства, иначе говоря – прямая противоположность энергичной и самонадеянной Елене Глинской. Разве что нежностью и лаской Анастасия одаривала своего мужа, привнося в его сердце покой и мир.
Значит, как правительницу, царицу в придворной игре можно было не учитывать. Ни у кого и сомнений не вызывало: править Русью станут ее родные братья-интриганы – Данила и Никита Захарьины-Юрьевы. Они и так уж наушничали Анастасии: «Отчего муж твой, венценосец-то, под Сильвестром и Адашевым ходит? Пора самому за дело браться! Хватит в послушниках у Ближней-то думы жить!» Братья ненавидели Ближнюю думу, поскольку их в нее и на пушечный выстрел не подпускали. И Данила, и Никита были как две капли воды похожи на Шуйских и Глинских – рвачи и корыстолюбцы, которым на Русь плевать было с самой высокой колокольни; цель одна – есть-пить сладко да поближе к трону подобраться…
Иоанн не сомневался, что погибает. Когда жар ненадолго спадал и слабое сознание возвращалось, страшные картины близкой смерти представлялись царю. Сам он уподоблялся в них весам, на которые Господь укладывал его благие дела и дела дурные. Но сколько бы ни совершил он дерзких своеволий по юности своей, венчание на царство правителя Руси и покорение Крымского ханства во благо всех христиан умиротворяли царя. А более всего ему было жалко оставлять любимую жену, которую, стоило открыть глаза, он видел сидевшей рядом, склонившей голову ему на грудь.
– Ванечка, – шептала она, – Ванечка, милый…
На третий день, чувствуя, что язык едва слушается его, Иоанн прошептал:
– Созови князей и бояр, пусть присягают Дмитрию, как царю своему, Богом данному… – Губы Иоанна то и дело увлажняли мокрой тряпицей сиделки. – Слышишь, Настя?
– Слышу, миленький, слышу…
– И пусть Владимир Старицкий присягнет! Пусть едут к нему и в Москву зовут…
Анастасия едва находила в себе силы кивать головой. А царь, слабо вцепившись ей в руку, продолжал:
– А теперь Сильвестра пусть позовут, исповедуюсь я. Да поторопись, боюсь, не успею…
Комкая одеяло, Анастасия сдавленно зарыдала: слова мужа означали только одно – конец его, близкую смерть.
Вот тогда-то все и началось…
Десять бояр из двенадцати, входивших в правительственную Думу, ставшую при Иоанне лишь формальным органом власти, поторопились во дворец, в царскую опочивальню. Там, пред угасающими очами государя, глядя на его заплаканную жену, державшую в руках младенца, присягнули крохе-Дмитрию на верность. Первыми, кого внесли в крестоцеловальную книгу, были дядья малыша – Данила и Никита, прилежнее других проливавшие слезы у постели государя.
Михаил Иванович Воротынский тотчас поцеловал руку Иоанну и присягнул Дмитрию. Дьяк Висковатый, глава Посольского приказа, последовал его примеру. От Дмитрия Ивановича Курлятева примчался гонец с вестью, что хозяин его тоже тяжко болен и потому прибыть во дворец не может. На самом деле Курлятев выжидал: с братьями Романовичами ему было не по пути. Царский окольничий Федор Григорьевич Адашев, отец Алексея и Данилы, имея долгий разговор с сыновьями, во дворец явился, Дмитрию присягнул, но при всех заявил царю:
– Сыну твоему, великий государь, буду слугой верным, но Захарьиным служить не стану. – Он смело посмотрел в глаза страдающего Иоанна: – Когда ты еще мал был, мы от бояр-опекунов твоих много бед лютых видели!
Все это он произнес так, словно царицы Анастасии тут и не было. А ведь говорил он о ее родных братьях, которых она любила и которые охраняли ее как зеницу ока. Без сестренки и племянника и они никто! Этого государыня Федору Адашеву, даже при всей кротости своей, уже никогда бы не забыла. А братья ее – и подавно.
Приехал и Алексей Адашев. Бледный, бросился к царскому ложу, припал к безжизненной руке друга, горячо поцеловал ее. Присягнул сразу же. Затем с присягой вышел вперед и Андрей Курбский. Шуйские присягать наотрез отказались. Их примеру последовали князья и бояре первого круга: Щенятев, Пронский, Лобанов-Ростовский, Немой, Серебряный, Микулинский, братья Булгаковы.
Все ждали Владимира Андреевича Старицкого…
Ждал своего двоюродного брата и умирающий Иоанн. Он-то знал: многое будет зависеть в государстве от решения последнего удельного князя Старицкого. Захочет Владимир мира – одним словом угомонит бояр. А захочет войны – на дыбы всю Русь поставит!
Понимал это и Владимир. Ведь оба они с Иваном – внуки Ивана III. Да и было Старицкому что припомнить: его отца именно Елена Глинская в застенках сгубила, уделы отняла; только после ее смерти они с матерью Ефросинией получили все назад. Но унижений и страха грядущей казни не забудешь! И хоть привечал его после повзрослевший двоюродный брат, полки под Казанью доверил, осадок на всю жизнь остался…
С тяжелым сердцем прибыл двадцатилетний Владимир Старицкий в Москву. Схватить, как когда-то отца, его вряд ли посмели бы – не тот нынче выходил расклад. Да и знал Владимир, что много бояр и князей за него стоит, чувствовал за собой силу. Иоанн при смерти, как все говорят – долго не протянет; глухонемой Юрий, «простой умом», не в счет. Едва повзрослев, Иоанн отправил его «княжить» в Углич – от московского двора подальше, чтобы не позориться. Юрия там оженили на княжеской дочке Ульяне Дмитриевне Палецкой, и теперь всем там заправляли ее родичи, рады-радешенькие своей доле.
Так что между ним, Владимиром Старицким, и царским троном только-то и стояли, что младенец с тихой матерью да два злыдня-Романовича из боярского сословия – ему, внуку великого князя Ивана III, не чета.
Владимиру в Кремле кланялись низко и с почтением: неровен час – завтра царем станет! Оделся он просто, но с достоинством: в черный, расшитый серебром траурный кафтан из дорогой парчи, в черные сапожки из мягкой кожи с серебряными пряжками. Шагал при сабле в золоченых ножнах и кинжале у правого бедра.
Первым Старицкого встретил Сильвестр, духовник Иоанна. Караулил специально. Ждал. Поклонились они друг другу, под зоркими взглядами придворных отошли в сторону.
– Вот что, князь, – негромко начал протопоп. – Я и с братцем твоим норовистым не лукавил, и с тобой не стану. Коли знал бы, что Иоанну Васильевичу еще жить и царствовать, не говорил бы о том. Но теперь скажу. Крови ты великокняжеской, царской, и умом награжден, и отвагой, и мудростью не по годам. Да и лицом ты благороден, и душой. И делами себя дурными не запятнал. Втайне я всегда именно такого царя, как ты, желал Руси. Да вот только отец твой моложе Василия оказался – Господь так захотел. А пути Его, как все мы знаем, неисповедимы. Иоанн умирает, уже исповедовался. Сколько ему осталось – день, час? – никому не ведомо. Не стану тебя учить идти против закона – против крохи Дмитрия. Думай сам. Но если Русь на откуп Захарьиным-Юрьевым отдашь – с тебя спросят, помни об этом! Господь спросит! А теперь ступай, – он заговорил чуть громче, – тебя царь всея Руси ждет: хочет, чтобы ты крест целовал и в крестоцеловальную книгу имя свое записал. И к матери твоей уже послали. – И вновь понизил голос: – Но ты думай, Владимир, думай! Многие нынче на тебя смотреть станут. Ступай же, и да пребудет с тобой Господь!..
Напутствие Сильвестра и ободрило Владимира, и еще больше внесло в душу смуты. Как же быть? Что делать? Идти ради благого дела против закона княжеского, который дедами их, московскими князьями прописан был, или же презреть закон и пойти на поводу у сердца? Господь свидетель: никогда он не помышлял идти против Иоанна, даже грехи родительницы его, волчицы Елены Глинской, как называли ее в семье Старицких, простил. Но одно дело – служить брату Иоанну Рюриковичу, царю всея Руси, и совсем другое – через младенца его – двум выскочкам Захарьиным-Юрьевым…
Все решила короткая встреча Владимира и Данилы Романовича, проходившего в тот момент в окружении бояр через палаты царские. Зыркнул черным глазом Данила на князя Старицкого – как ножом полоснул, и короткой улыбкой следом догнал, точно на рану соли просыпал.
Едва поклонились они друг другу…
«Этому подлецу служить? – бушевало все внутри Владимира. – Я, Старицкий, и рода великого, и народом любим, а при гибнущем царе во сто крат сильнее буду! Да никогда не уступлю – умру лучше!»
Владимир вошел к Иоанну в опочивальню. Тут, в полумраке, пряно горели свечи и торопливо читали за здравие государя священники, тряся жидкими бороденками. А потом он увидел по углам всех, кого и предполагал. У смертного одра собрались самые рьяные сторонники Захарьиных-Юрьевых, и они уставились на него, пытая взглядами. Но Владимир успел рассмотреть лишь одно лицо – бледной Анастасии, смотревшей на него, как на будущего губителя своего дитяти. И еще мельком заметил он стоявшего рядом с сестрой Никиту – волком на него глядевшего. И пару теней позади Романовича – псов его. Скажи только: «Взять!» – и бросятся скопом, рвать начнут.
Владимир подошел к постели двоюродного брата, встал на колени, поцеловал руку.
– Присягай Дмитрию, – тихо сказал Иоанн.
Владимир сглотнул комок в горле. Все ждали. Даже священники, читавшие за здравие, перешли на едва слышный шепоток.
– Слышишь меня? – с угрозой спросил царь.
– Слышу, государь, – ответил Владимир. – Я тебе верен и буду верен до самого конца…
Иоанн поймал его неспокойный взгляд. Злость и великий гнев уже закипали в государе, но слабость была сильнее, и она одолела гнев.
– Смотри на меня, Владимир, – проговорил царь. – В глаза мне смотри. Дмитрий – сын мой, и ты должен целовать ему крест, иначе буду думать… – Тело царя дрогнуло точно в предсмертной судороге, черты лица исказились от боли. – Иначе буду думать, что ты… – Судорога повторилась. («Неужто кончается?! – пронеслось в голове у Владимира. – Неужто все?!.») – Что ты… изменник!..
Шея царя выгнулась, он замер. Священники перестали читать. Бояре бросились к постели. Владимир же, побледнев, напротив, отпрянул от ложа. Кто-то оповестил в тишине: «Без чувств царь наш батюшка, сил лишился, разговоры его утомили». Выходя из опочивальни, Владимир вновь столкнулся взглядом с Анастасией – теперь она смотрела на него, как на свершившегося лютого врага. Их разговор слышали, ни слова от свидетелей не утаилось!
Владимир, скинув кафтан, мерил шагами отведенные ему покои и размышлял. «Беда, беда», – повторял про себя одно слово. Он-то уж было решил, что отошел брат, отдал Господу душу. Теперь же Иоанн может распорядиться схватить его, пытать, убить. «Иначе буду думать, что ты – изменник!» – билось в голове.
А вскоре порог его хором кремлевских переступили два наставника государя из Ближней думы: князь Михаил Иванович Воротынский и дьяк Иван Михайлович Висковатый, больше на монаха похожий, чем на человека светского – даром что муж государственный.
Они поклонились ему: Воротынский лишь кивнул коротко, а Висковатый – низко, приложив правую руку к сердцу.
– Знаем уже, как обстояло у царя, – сказал дьяк Висковатый. – Недоброе дело ты затеял, князь.
– А ты не указ мне! – огрызнулся Старицкий.
– Я-то не указ – царь тебе указ, – ответил тот.
– И царь наш жив пока, – напомнил Михаил Воротынский. – Присягни Дмитрию, как он велит.
Владимир Старицкий свирепел на глазах, сжимая кулаки добела:
– Ты бы со мной не бранился, князь, не указывал мне и против меня не шел!
– Что ж ты творишь-то, Владимир? – тихо спросил Воротынский. – Ты ж несогласием своим бояр к бунту подбиваешь. Смуту сеешь!
– Да неужто ты хочешь Захарьиным кланяться? – лицо Старицкого пылало гневом. Он ткнул пальцем с дорогим перстнем в князя: – Не верю тебе!
– И правильно, что не веришь, – не хочу им кланяться, – честно признался Воротынский. – Не больше тебя люблю их, но таков закон. Сам знаешь: коли есть у царя наследник, пусть хоть год ему, месяц или день, все вельможи должны присягнуть малому. Даже такой родовитый князь, как ты, не исключение. – Он сделал паузу. – Более того, ты – в первую очередь! На тебя сейчас все смотрят. Ведь если раз плюнешь на закон, два, что потом-то от тебя ждать? Каждый младший брат в любом княжестве станет за своими племянниками охотиться да изводить их, как щенков беспородных. Нельзя того допустить, а так, чаю, будет…
Владимир схватился за голову:
– О Господи, Господи, Господи! За что мне все это?! За что?..
«Как ни поступишь – по закону ли, против ли, – думалось горько, – все равно палачом многих станешь! А может, и своим палачом также…»
– Поставь подпись свою в крестоцеловальной книге и крест поцелуй на верность Дмитрию, чтобы сам Бог стал свидетелем твоей клятвы, – не отставал Михаил Воротынский. – А Захарьиным-Юрьевым мы, князья и бояре, ни тебя, ни себя в обиду не дадим! Много нами для Руси сделано – назад ходу нет.
– Поставь, князь, – попросил тихо и дьяк Висковатый. – Не баламуть ты Русь-матушку, и без того натерпелась она. Поступи по закону, а Господь сам, глядишь, все по местам расставит.
– Расставит – жди, – тяжело поднял Старицкий взгляд. – А что Иван там – пришел в себя?
– Пришел, – ответил Воротынский.
– Что говорит?
– Сказал, – опустил глаза Висковатый, – что Владимир, мол, сам знает, что станет с его душою, коли не захочет креста целовать. Но мне, мол, нет уже дела до этого.
Старицкий горько усмехнулся:
– Ишь ты, агнец!.. Ну а что же матушка моя Ефросиния, к ней ведь тоже посылали?
– Уже в третий раз послали, – сообщил дьяк.
Молодой князь устало кивнул:
– Ступайте, господа. Меня больше не мучайте: вздохнуть я хочу, подумать.
– Запрёт тебя царь в Кремле, не отпустит! И стражу еще приставит, – уже с порога предостерег Воротынский. – Можешь в том быть уверен. Не доводи его до греха, Владимир, как довели мать его когда-то. Не повторяй судьбы отца!
– Ступайте же! – взмолился Старицкий.
На том Воротынский и Висковатый и удалились.
Княгиня Ефросиния покорилась только после третьего требования внести в крестоцеловальную книгу свое имя. Как бы ей хотелось покориться другому государю – сыну своему! Тому присягнуть, кто и впрямь заслужил трона царского, – Владимиру. Как позже записал летописец: «Согласилась княгиня, но много бранных при том речей говорила…»
К вечеру того дня, получив известие о решении матери, сдался и Владимир Старицкий. Когда давал он у постели царя клятву быть верным младенцу Дмитрию, Данила Романович шептал на ухо Никите Романовичу:
– Знай матушка государя нашего, змея стоокая Елена Глинская, что будет твориться у смертного одра сына ее старшего, наверняка тогда бы еще, пятнадцать лет назад, приказала бы удавить всех княжат удельных. И Владимира – первого!
Никита тихонько засмеялся – они выходили победителями, Захарьины-Юрьевы. Коли поцеловал крест Владимир Старицкий, значит, битва выиграна. После смерти царя они станут хозяйничать в Москве, никто им будет не указ. В бараний рог недовольных скрутят! Старший Данила, усмехаясь, глядел, как был бледен мальчишка-Владимир, когда целовал поднесенный ему самим митрополитом Макарием крест. Данила аж руки потирал от удовольствия. Перво-наперво, что он сделает – Ближнюю думу разгонит! В пух и прах разметает, и следа чтоб не осталось.
За Владимиром Старицким один за другим стали целовать крест и те, кто поначалу не желал признавать Дмитрия наследником и готов был бунтовать… Да тут еще и царю полегчало. Попросил воды. Дмитрия Ивановича Курлятева на носилках да под шубами принесли целовать крест Дмитрию – до последнего ждал вельможный боярин, но понял: как бы поздно не оказалось! Проиграли они это дело, ох, проиграли…
А спустя несколько дней о младенце Дмитрии, невольном яблоке раздора, уже и позабыли: к общему удивлению, царь стал поправляться.
И впрямь – чудо.
Уже через неделю Иоанн попросил дать ему бульону куриного, кваску, а затем и легенького винца. Анастасия плакала от счастья, братья ее недоумевали, радуясь в душе, что при «умирающем» находились бессменно. Да и как же иначе: ждали всё, когда же закроются наконец царские очи.
Макарий возносил молитвы Господу. Отлегло и у Сильвестра от сердца. Кто-то пустил слух, что молодой царь только прикинулся больным, чтобы испытать слуг своих на верность. Да не все прошли ту проверку, ой, не все!
А когда совсем получше стало Иоанну Васильевичу, Данила и Никита все ему рассказали: в самых ярких красках расписали они и упрямство Владимира Старицкого, и его матери, и прочих бояр и князей.
– Умысел был у них, злой умысел, – шептал на ухо еще бледному царю, лежавшему в подушках, Данила Захарьин-Юрьев. – Корень твой царский истребить мечтали – Дмитричку нашего извести думали, а князя Владимира Старицкого усадить на престол московский!..
Слушая его, Иоанн закрывал глаза и, сжимая под одеялом слабые еще кулаки, лишь повторял про себя: «Змеи, змеи, змеи!..»
Летописец так и напишет в Царственной книге о событиях, последовавших сразу после выздоровления Иоанна Васильевича: «И с тех пор пошла вражда великая государя с князем Владимиром Андреевичем, а в боярах смута и мятеж, а царству во всем скудость…»
Из болезни, из темных вод ее, Иоанн вышел другим человеком. И без того был он недоверчив и подозрителен, а теперь и вовсе все обострилось – да в сотни раз! В каждом отныне видел он недруга своего! Даже в том, кого милостью раньше одаривал. Да и как иначе, если сам Сильвестр, духовник его, сочувствовал изменникам?! Донесли ему, и как Дмитрий Курлятев сказался больным, чтобы не присягать (воистину потеха – на носилках в Кремль прибыл!), как Шуйские встали стеной против царевича Дмитрия, как думали все, что Владимир Старицкий мятеж поднимет… Не поднял, образумился, и то пока ладно.
Но в ком Иоанн не усомнился, так это в Алексее Адашеве, друге своем сердечном. Отец того, окольничий Федор Григорьевич, оговорки, правда, искал, артачился, а сын вот и отца не послушал! Значит, царь ему – роднее и ближе.
Встав на ноги, царь перво-наперво сделал Алексея Адашева своим окольничим, а отца его, Федора, проявив великодушие, званием боярским наградил. Такого от него никто не ожидал. И хорошо: пусть и гнев, и милость государя будут нежданны для всех и негаданны. Тем слаще станут для друзей и горше – для врагов.
А вот Сильвестра Иоанн отдалил от себя – так и не простил ему предательства своего сына. Более протопоп Благовещенского собора духовником и наставником ему не был.
Но на Владимира Старицкого Иоанн зла держать не хотел. По крайней мере вид такой напустил. К тому же в июне того же злосчастного 1553 года, во время поездки на богомолье, младенца Дмитрия, из-за которого весь переполох случился, нянька уронила в воду, и тот вскоре умер. А в апреле следующего года у Иоанна и Анастасии родился второй сын – Иван. На этот раз Владимир Старицкий первым поставил свое имя в крестоцеловальной книге новому наследнику. В благодарность за это Иоанн сделал своего двоюродного брата, в случае смерти царя, «правителем при малолетнем наследнике». К тому времени Иоанн убедился, что ждать удара в спину от князя Старицкого ему никакого резона нет. Главное, чтоб бояре-злодеи брата не баламутили, с панталыку не сбивали.
Один из них, князь Никита Семенович Лобанов-Ростовский, чей отец более других за Старицких радел, бежал в то лето в Литву, но был пойман и отправлен в ссылку – на Белоозеро.
Иоанн Васильевич понял, что лагерь боярский, войной на него идти желавший, лишь поутих, затаился на время, но, как и прежде, был жив и здравствовал. Однако решил обойтись до поры без казней: не злить врагов, чтоб не страшиться потом каждой трапезы.
Тем более что не время было колоть царство надвое (а то и на большее число частей) из-за раздираемых противоречиями сторон. Русь наводнили ереси: одни учили властям не подчиняться, утверждая, что люди все равны от природы; другие обвиняли церковь, что она, дескать, золото и алмазы все больше на земле собирает, а не на небе, как Христом заповедано; третьи церковную иерархию и вовсе отрицали напрочь; четвертые, как прежде в Византии, с иконами боролись… Мудрствованиий всяких-разных много было, словом. Проповедников тех приходилось отлавливать, наказывать и сажать по тюрьмам. А кому и пятки поджаривать.
А тут еще крымцы никак не могли простить русскому царю Казани. Да и турецкий султанат, тенью стоявший за спиной Девлет-Гирея, провозглашенного в 1551 году крымским ханом, исподволь науськивал последнего к походу на обнаглевших московитов.
Но московиты опередили и Порту, и Крым. Недаром Алексей Адашев и Андрей Курбский то и дело царю на соседей-басурман указывали. Но на этот раз уже не на восток, а на юг.
Русские и раньше туда поглядывали – на Астрахань и ногаев, а после победы над Казанью сам Бог велел, как говорится. Эти две орды, раздираемые на части враждующими группировками, были куда слабее Казанской! Да часть ногаев и сама искала дружбы с Иоанном. Что же до Астрахани, то хан Ямгурчей еще в 1551 году намеревался стать московским подданным, и только страх перед турецким султанатом помешал ему это сделать. В 1553-м Иоанн посадил на астраханский трон своего ставленника Дербыш-Али, однако и неутомимый враг Ямгурчей желал занять ханский трон. Эти распри были бы Москве на руку, окажись ханство сильным, а так брожения на Нижней Волге выводили русского царя из себя, и он лишь прикидывал, кого бы из двух нехристей ему выбрать. В 1555 году, дабы сохранить жизнь, славу и честь, Дербыш-Али сам прибыл в Москву и «государю в холопстве учинился».
Иоанн принял его благосклонно, второй титул «царя» – теперь уже Астраханского – принял как должный подарок, а Дербыша-Али сделал своим наместником. Поглядев на Казань и Астрахань, враждовавшие между собой мурзы Ногайской орды стали уже наперегонки искать дружбы русского царя, не помышляя более ни о вражде, ни о каком другом прекословии Москве.
Вся широченная Волга, великая река – от истока до устья – оказалась в одних руках, и тотчас через Каспий хлынули в Московию восточные купцы со своими товарами – золотом, каменьями дорогими и пряностями.
Теперь Иоанн Васильевич IV стал великим князем и царем всея Руси, царем Казанским и Астраханским, а также господином многих княжеств русских. Турецкий султанат и татарский Крым скрежетали зубами, но поделать ничего не могли: и Восток, и Запад уже признали его. А ведь с той поры, как на голову Иоанна шапку Мономаха возложили, бармы навесили и скипетр царский в юношескую руку вложили, и десяти лет не прошло.
Отныне все восточные и западные патриархи православной церкви душу Иоанна добрыми письмами согревали, чем гордыню его взращивали. Они видели в новом русском государе, воцарившемся в далекой Москве, истинную защиту церкви Христовой от мусульманского мира, в первую очередь от турок, уже почти век жестоко терзавших славянские Балканы. Две орды покорил царь, одну попросту замечать перестал за ее никчемностью, так, может быть, и век османов пред его оружием будет недолог? И однажды над Святой Софией вновь воссияют золотые кресты?
Константинопольский патриарх так писал Иоанну IV: «О благоверном венчании твоем на царство от св. митрополита всея Руси, брата нашего и сослужебника, принято нами во благо и достойно твоего царствия. А потому царское имя твое поминается в Церкви Соборной по всем воскресным дням, как имена прежде бывших царей византийских. Так повелено делать во всех епархиях, где только есть митрополиты и архиереи».
А еще один патриарх, Иоаким Александрийский, в то же время диктовал следующее: «Мы же просили: Яви нам в нынешние времена нового кормителя и промыслителя о нас, доброго поборника, избранного и Богом наставляемого, каков был некогда боговенчанный и равноапостольный Константин. Память твоя пребудет у нас непрестанно не только на церковном правиле, но и на трапезах с древними, бывшими прежде Царями».
Тут и смиренный возгордится, а Иоанн смиренным не был: он ждал этой славы, грезил о ней и считал себя достойным ее! И меры не видел, всякий раз желая большего, ведь сама жизнь – на примерах рухнувшего Казанского царства, а за ним и Астраханского, – предлагала Иоанну шагать широко и скоро. Величие Византии манило его. Недаром именно в нем, царе православном, все новые народы видели спасителя от грозного ислама. Так, может быть, и впрямь самой судьбой наречено ему стать новой скалой восточного христианства – единственно правильной и праведной ветви, как считал Иоанн, а значит, подобно императорам ромеев, наместником Бога на земле?
Такие вот мысли утверждались отныне в голове молодого русского царя, который мало что умел сам, все воспринимал болезненно и кругом видел предательства – малые и большие. О своих жестоких проказах он старался не вспоминать, а серьезные проступки просто взял и простил себе. Его собственное величие было куда значительнее! Все заслуги своих советников он вскоре научился видеть заслугами собственными. Они – только слуги и холопы его, и если что вершат доброе, то лишь по его милости и соизволению, а значит, он и есть всему созидатель.
В таком вот настроении в начале зимы 1558 года двадцативосьмилетний царь Иоанн Васильевич и решил начать новую войну – на этот раз с Ливонским орденом, уже полвека не платившим Руси дань и вступившим в сговор с ее заклятым врагом Швецией.
Тщетно Алексей Адашев, Андрей Курбский и Сильвестр, еще не до конца потерявший тогда свое влияние на Иоанна, советовали ему продолжать наступление на южные границы. Ливонский орден не был так силен, чтобы угрожать Руси: он мог только огрызаться, не более того. А вот новый крымский хан Девлет-Гирей, да еще при заступничестве Османской империи, представлял собою серьезную опасность. Десятками тысяч уводил он в полон русских людей с южных земель государства и строил планы похода на Москву – готовился мстить за Казань и Астрахань.
Но к этому времени чрезмерно настоятельные советы стали вызывать у Иоанна уже не просто раздражение, а приводили подчас даже в ярость, и он готов был сделать все, лишь бы – по-своему. А войну с Ливонией он считал удачным и своевременным проектом. Так бы оно и оказалось, если бы не одно случайное, но очень коварное обстоятельство.
За год внушительные территории ордена были захвачены русскими войсками, Иоанну это лишний раз позволило почувствовать свои силу и мощь, но далее Москва милостиво согласилась на перемирие. Это оказалось и тактической ошибкой Алексея Адашева, желавшего освободить армию для карательного похода на Крым, и самого Иоанна, привыкшего почивать на лаврах. Новый магистр ордена Готгард Кетлер, возглавлявший пропольскую партию, и большинство рыцарей ордена использовали перемирие с максимальной пользой для себя. Они отдали Ливонский орден в «клиентуру и протекцию» польского короля Сигизмунда II Августа, люто ненавидевшего Русь и не пожелавшего признать Иоанна царем даже после подчинения им Казани и Астрахани.
Неожиданный поворот политических и военных событий изменил судьбы многих государственных деятелей…
В сентябре Алексей Адашев диктовал для государя в своих Кремлевских апартаментах секретную грамоту – диктовал с тяжелым сердцем. Неосмотрительно, ох, неосмотрительно Ближняя дума позволила передохнуть Ливонии! Через пару дней, знал Адашев, царь, отправившийся с женой на богомолье с миром в сердце, получит недобрую весть.
Всего месяц оставался до окончания перемирия с Ливонией, когда орден возобновил военные действия. Возглавляемое новым магистром Готгардом Кетлером войско внезапно оказалось под Дерптом и нанесло поражение московитам, которыми командовал князь Плещеев. Свыше тысячи русских полегло в этой битве! Многих взяли в плен. Сразу после сражения Кетлер осадил Дерпт и попытался взять его штурмом, но, слава Богу, воевода Катырев-Ростовский оказал достойное сопротивление.
Тем не менее воинственный выпад Ливонского ордена показал, что рыцари не только не собираются считать себя побежденными, но и, напротив, готовы к новым и решительным сражениям. Тем более что за ними в лице «протектора» Сигизмунда II Августа теперь стояла и сильная Польша, и Литва.
Но это было только началом. Точно сговорившись с ливонцами, с юга на Русь – в ответ на поход Данилы Адашева – напали крымцы и разорили Каширский уезд. Возьми крымцы войск чуть поболее – за три дня до Москвы добрались бы! Среди русских военачальников началась паника: давно не получали московиты таких ударов, все больше сами привыкли бить врага. Оттого, видать, и расслабились.
Скрепляя грамоту личной печатью, Алексей Адашев уже знал, что большой немилостью грозит ему эта весть, ведь именно на него – его ум, опыт и волю – положился царь и государство свое оставил.
И сам еще не знал Алексей, насколько прав был…
Царь читал грамоту в Коломне – у постели уснувшей Анастасии. До него уже долетела весточка – чуть раньше Адашевского послания. Человек Захарьиных-Юрьевых, неотступно следовавших за государем, доставил ее. И старший Данила, крепко скрывая радость, уже успел горько посетовать:
– Доверились басурманам – вот и получили на орехи. Надо было тебе, царь-батюшка, никого не слушать, а своим умом врагов к порядку приводить. Кто ж его знает, что Алешка Адашев сотоварищи удумать замыслил? Да супротив кого? Чужая душа – потемки!
Иоанн уже готов был к гневу, но терпел. Хотел услышать от друга своего Адашева вразумительное объяснение. Взяв свиток, всех прогнав, он сорвал печать, и скоро уже злоба исказила его черты. Перечитал и стал еще темнее лицом – толкового объяснения не было.
– Знал я, знал, что с немцами мириться нельзя, – сквозь зубы цедил он. – Да послушал их, послушал! И хан время подгадал – теперь со всех сторон клевать станут!
– О чем ты, Ванечка? – открыв глаза, сонно спросила Анастасия.
– Спи, золотко, спи, ясная, – потянувшись к ней, тотчас умерил ярость Иоанн.
– Кто пишет-то тебе? – не унималась жена. – Чья печать-то?
– Алешка Адашев пишет, – сдался супруг. – Поляки с ливонцами да крымцы наступают, наших, как холопов, бьют, а он поделать сам ничего не может! – У Иоанна аж руки от гнева задрожали. Ведь Адашев, Сильвестр и Курлятев уверяли его: подождем, мол, с войной в Ливонии – крымского хана усмирять будем. Усмирили! В Ливонии время упустили – рыцари с поляками и литовцами теперь спелись! Разом, в одно мгновение, все с ног на голову перевернулось – все планы его, русского государя, повержены в прах! – Теперь просит, чтоб я в Москву ехал, – скомкал Иоанн в кулаке свиток. – Нынче же чтоб ехал.
– Он с тобой, со слугою точно, – проворковала Анастасия.
И вновь злоба резанула лицо государя – не впервой уже он слышал подобное. Усмехнулся зловеще:
– Да уж коли я приеду, то в гневе приеду. Никого не помилую!
– И то верно, – одобрила Анастасия. – Но ко всем-то ни к чему быть строгим…
– Ты оставайся, помолись за меня, голубка, – умеряя пыл и целуя жену, проговорил Иоанн, – а я после возвернусь к тебе.
– Не хочу так, – неожиданно твердо воспротивилась Анастасия. – С тобой поеду. Заговорят тебя там. Адашев твой заговорит. Он ведь у-умный! Не отдам более ему мужа своего. Прежде они с Сильвестром тебя, ясный сокол мой, точно зельем сонным опаивали, чтобы спал ты у них на руках как дитя малое, – царица слово в слово повторяла за братьями своими, особенно за старшим Данилой, зело на язык гораздым. – Только ты надумаешь вырваться, как Адашев опять за свое! Но рано или поздно придется-таки тебе проснуться и оправиться. Не права я разве?
– Права, голубка моя, права, – склонясь над женой, дабы успокоить ее, зашептал ей на ухо Иоанн. – Во всем права…
Иоанн не обманулся: Русь оказалась втянута в новую войну, грозившую стать тяжелой и долгой. Не обманулся насчет своих предположений и Алексей Адашев: немедленным ответом на известия из Ливонии и Каширской стороны стала его опала.
Поговаривали также, что царю на Адашева донес казначей Мусаил Сукин, обвинив его «в излишней самостоятельности» в переговорах с Ливонией. А уж что была то за «самостоятельность», это только сам царь и холоп его Сукин и знали. Как бы там ни было, но получил вскорости Адашев от царя приказ: лично отбыть в Ливонию, дабы «охранять завоеванные им, царем всея Руси, рубежи и ставить новые пределы». Назначение сие было в крайней степени унизительным: из фактического руководителя страной Алексей Адашев разом превратился даже не в первого полководца в Ливонии – им стал князь Мстиславский, – а всего лишь в командира артиллерии. Туда же были отправлены и Андрей Курбский, коего на первый взгляд немилость царская вроде бы стороной обошла, и младший брат Алексея Адашева – герой Крыма Данила. Обоим отведены были роли воевод второго плана. В то же самое время окончательной опале подвергся и протопоп Сильвестр: бывшего своего духовника царь сослал в Кирилло-Белозерский монастырь – «молиться за победу русского оружия в Ливонии».
Всем было ясно: Ближняя дума приказала долго жить. Ее собрания прекратились сами собой. Князь Михаил Воротынский и боярин Дмитрий Курлятев, старшие товарищи и сподвижники Алексея Адашева, превратились в обычных вельмож. Многие в те недели потирали руки, и крепче других – братья Данила и Никита Захарьины-Юрьевы. Они-то знали: свято место пусто не бывает. Какие перспективы открывались теперь перед ними!
Одного только братья не учли: не для чьего-то нового влияния на себя царь Иоанн Васильевич избавился от надоевших ему бывших советников – как праведников-старцев, так и мудрецов-ровесников. Нет. Новые приближенные, друзья-сотоварищи, нужны ему были, конечно, но – лишь как холопы верные. Потакающие любому царскому пожеланию.
Отныне Иоанн сам желал вершить судьбу своего государства. Своей волей, своими умом и сердцем.
Глава 2 Пред грозными очами
1
– Э-гэ-гэй! – заснеженное поле и холмы впереди, густо поросшие елями, так и прыгали перед глазами всадника, конь хрипел от тяжелой скачки по глубокому снегу, плюясь паром. – Ату их, ату! – Черные спины ливонцев тоже подпрыгивали впереди, расползаясь и собираясь на широком белом поле. Точно тараканье гнездо расшевелили! С пылающим лицом, держа в руке кистень, что яростно раскачивался и звенел цепью, молодой сотник зацепил взглядом товарища, летевшего рядом с ним. – Бери своих и скачи за теми, что вправо уходят! Лети к Мариенбургу, наперерез им! Слышишь?!
– Слышу, командир! – с удалью отозвался тот и тотчас стал выкрикивать команды своим новикам, после чего небольшой отряд резко взял вправо.
Там, далеко, за крепостными стенами, поднимались к небу красные башни Мариенбурга. Снег на их остроконечных крышах лежал так покойно, что казалось: нет и не может быть войны в этом мире! А если даже она и идет где-то, то разве что за тридевять земель отсюда. И поэтому каждый ливонец мечтал сейчас как можно скорее добраться до крепостных стен славного города Мариенбурга, укрыться за ними. Но русские палаши, увы, мало кому оставляли такой шанс…
Бегущих по снегу было сотни полторы, и все они страстно хотели преодолеть это поле и вскарабкаться на крутые и высокие холмы, откуда к зимнему небу уходили корабельные сосны. Многим уже повезло: утопая в снегу, они медленно ползли вверх. А еще сотни две их земляков так и остались лежать позади приближающейся под гиканье и улюлюканье дворянской конницы, состоявшей преимущественно из уже испытанных в боях новиков – отчаянных и бесстрашных бойцов, в полной мере успевших вкусить вражьей крови. Там, за спинами всадников, неподвижно лежали черными куклами жестоко перебитые во время отступления солдаты ордена, и их оружие уже тонуло в снегу, обильно забрызганном кровью посеченной ливонской пехоты.
Вот уже и первые из отставших солдат ордена, сжимаясь под налетающими всадниками, закрывали лица и головы руками. Но палаши русских дворян и сабли казаков, возбужденных скачкой, погоней и самой битвой, превратившейся в побоище, беспощадно рубили врага. Сотник еще издали заметил того сержанта, что давно уже улепетывал со всех ног, то и дело заваливался в снег, но меча не отпускал. Ливонец в кольчужном капюшоне, злой и напуганный до смерти, обернулся на хрип лошади. Вжав голову в плечи, он выставил вперед меч, желая пропороть конское брюхо, но командир дворянской сотни успел первым: размахнулся и ударил кистенем аккурат в темя сержанта. Еще одна черная кукла на фоне алой каши украсила растоптанный снег.
Самые расторопные сержанты ордена уже взбирались по пригорку к хвойному лесу, хватались за голые кусты, заиндевевшие под снегом, подтягивались на них. Ливонцы знали: сюда лошадям не подняться, а русские дворяне вряд ли станут спешиваться ради погони по снегу за и без того сокрушенным врагом. Около сотни ливонцев продолжали упорно ползти по белым холмам вверх. Некоторых разделяло с подоспевшими русскими уже не более двадцати шагов, но тем отчаяннее ливонцы карабкались к цели.
Это было даже весело! Сейчас бы сотню стрельцов – они мигом положили бы весь этот сброд на подъеме. Или лучше татар: стрела татарская бьет куда метче любой пищали!
Сотник оглянулся на смех за спиной – там, на замерших перед крутой преградой лошадях, звонко гоготали безусые русские дворяне, совсем еще юные, и матерые казаки гортанным гоготом вторили им, указывая саблями на беглецов. Улыбнулся и сотник. Такого противника и бить жалко! Гнев и жажда крови ослабевали. Азарт погони медленно угасал.
– Куда ползете? Снег сойдет, все равно достанем! – крикнул один из русских конных дворян. – Бить не будем, сползайте! А коли будем, то через одного!
Но ливонцы и не понимали его, и понимать не хотели. Русские медведи были страшны и кровожадны – они и убивали со смехом.
Заметив у седла одного из казаков аркан, сотник окликнул воина:
– Эй, малой, сможешь подловить во-он того басурманина? – он указал на ливонца, что уже второй раз едва не соскользнул вниз.
Ливонец был приметным – белая накидка с крестом и знаки отличия на плече говорили о том, что это офицер, может быть, даже рыцарь. Тем более был он молод, а значит, получил свои отличия в первую очередь за благородство крови. Шлем ливонец потерял, да и меч тоже: пустые ножны болтались у левого бедра, кинжал – у правого.
– Отчего ж не смочь? – зацепив веревку, кивнул казак. – Попробовать-то можно!
Когда рука ливонского рыцаря уже хваталась за очередную ветку, казацкая петля хлестко обвила его – и руку по самую подмышку взяла, и голову. Петля затянулась мгновенно, и ливонца тут же отбросило назад, в снег. Русские бойцы – казаки и дворяне – опять захохотали.
– Попался, голубчик! – крякнул расторопный казак.
– Тяни его, Михайло, – кричали другие. – Да смотри, чтоб не сорвался! Вон сом-то какой, все пять пудов потянет, если не больше!
Примеру Михайло последовали еще несколько его товарищей, что имели при себе аркан круглый год. Одни промахнулись, но трое уже сноровисто зацепили свою добычу и теперь тащили ее, упирающуюся, вниз. Им помогали и другие казаки, и молодые русские дворяне. Все равно что сети тянуть. Потеха! Один из казаков прицепил аркан к седлу, пока его ревущий от ужаса ливонец бился в снегу, и дал задний ход. Беглеца так и выбросило из снежной волны к самым копытам. Едва не затоптал его казацкий конь. Теперь в русские холопы идти – другой дороги нет! Но вот Михайле не повезло – он выудил лишь рассеченную петлю на конце веревки. Ливонец тотчас вынырнул из снега, огляделся, держа кинжал в руке, стремглав отправил оружие в ножны и вновь полез наверх.
Казак с досадой рыкнул и потащил из-за пояса топор.
– Приложу его! Приложу, окаянного! – повторял он. – Такой аркан испортить! Я ведь с ним от самого Днепра шел!..
Сотник с азартом следил за уползающим вверх ливонцем и разъяренным неудачей казаком. Но когда Михайло, прицелившись, уже замахнулся, ливонский офицер, точно чувствуя близкую гибель, оглянулся. Тогда-то русский сотник и поймал его взгляд – испуганный, растерянный, недоуменный. Лет девятнадцать было ливонцу, светлые волосы выбились из-под кольчужного капюшона. Погибать столь нелепо даже для простого ратника не дело, а уж для дворянина, да еще молодого, – тем более! Командир русской дворянской сотни – ровесник ливонца – знал точно: сам бы он ни за что не хотел погибнуть так глупо и… жалко.
– Не тронь! – крикнул он казаку, хватая за руку.
– Обожди, господин, – рванул тот плечом, высвобождаясь, – сказал, приложу, значит, приложу!
– Я сказал – не тронь! – рявкнул сотник. – Не заяц он! Бить – так в поле, а не в спину, слышишь? Сам упустил – никто не виноват. Мне он живым нужен да разговорчивым. Не палачи мы!
– Тоже мне, нежности, – проворчал казак, огрызаясь, но ослушаться дворянина и старшего по званию, хоть к сотне его и не принадлежал не решаясь.
– Вы дворянин? – на ломаном немецком крикнул сотник врагу.
– Да, – отряхивая снег с лица, прокричал тот в ответ, – я – Карл фон Штаден!
– Дайте мне слово, что не пойдете более против русских!
Ливонец понял: неправильный ответ – и топор казака повалит его. Не успеет он ни отпрянуть, ни скрыться.
– Даю! – выкрикнул решительно.
– Слово дворянина?
– Да!
Сотник кивнул.
– Пусть уходит, – бросил он казаку. – Не посмеет он слову своему изменить.
Михайло ослабил руку, чертыхнувшись, нехотя отправил топор обратно за пояс. Конники из дворян уже отходили, казаки волочили за собой заарканенных пленных. Молодой ливонский офицер был уже на вершине заснеженного холма, у кромки леса, когда обернулся – не смог не оглянуться.
– Кого я должен благодарить? – уже издалека крикнул он, но сотнику показалось, что крикнул с вызовом.
– Григорий Засекин, – назвал себя русский дворянин. – Князь Засекин!
– Благодарю вас, князь!
И сотнику вновь показалось, что вслед благодарности эхом полетела насмешка. Уже поворачивая коня назад, Григорий тоже не утерпел – обернулся. Молодой ливонский офицер, как и его люди, уходили в лес, рады-радехоньки, что избежали русских мечей. Здесь была их земля, тут они знали все тропинки и овраги и надеялись скрыться. Но русские, шествующие по Ливонии победоносным маршем, могли позволить себе милость отпустить их…
Григорий взглянул направо – приближался отряд русских конников. Впереди ехал Петр Бортников, его десятник, в кольчуге поверх короткого кафтана, в медвежьей шапке.
Петр улыбнулся другу:
– Часть посекли, других на холмы отпустили. Преследовать не стали – много чести! – он кивнул в сторону крепости. – Потом всех скопом возьмем.
Разговор друзей происходил 1 февраля 1560 года на подступах к ливонскому городу Мариенбургу.
В конце осени прошлого года закончилось полугодовое перемирие, нарушенное ливонской стороной. Этот короткий мир ничего не решил, за исключением того, что подарил все тактические выгоды Ливонии. Спор, рожденный давними распрями, только крепче врос в обильно политые кровью земли распадающегося ордена и в сердца враждующих государей.
Но даже под протекторатом Польши вступившие в битву с царем московским рыцари вновь сдавали позиции. Забыв о злых крымцах, Иоанн бросил на запад немалые силы – во что бы то ни стало он хотел залатать дыры, образовавшиеся после неосмотрительных действий Адашева и его политической партии, ныне оказавшейся в отставке. Зимой 1560-го сокрушительному артиллерийскому обстрелу подвергся осажденный Мариенбург, а вылазки ливонцев заканчивались преимущественно неудачами – подобными той, в которой участвовал помилованный сотником Григорием Засекиным офицер Карл фон Штаден.
9 февраля Мариенбург пал, открыв дорогу в западную и центральную Ливонию. Оставался последний орденский оплот: ливонская столица – неприступный Феллин. Весной на территории Ливонии шли редкие бои, но обе стороны знали, что рано или поздно именно там, под Феллином, произойдет решающая битва.
Тем временем на самой Руси, в царском доме, происходили события трагические. Но даже самый проницательный ум не смог бы предугадать катастрофических последствий…
В июне 1560 года царь и царица были на богомолье в Можайске, куда выезжали довольно часто. Там впервые Анастасия и почувствовала себя худо. Покачнулась в церкви во время вечерни да так и опустилась на колени. Иные подумали: сейчас осенит себя крестным знамением и поднимется, да не тут-то было. Царь первым метнулся к ней, окрикнул домашних так, что священник, читавший молитву, едва не поперхнулся. Царицу подхватили под руки и вынесли из церкви.
Иоанн долго потом смотрел на нее в опочивальне, спрашивал, не нужно ли чего, а сам думал: «Неужто кто злодейство против супруги моей венчанной сотворил? С чего бы молодой и здоровой женщине захворать ни с того ни с сего?» Не просто так роились подобные мысли в его голове: до сих пор стояло перед глазами бледное лицо матери, Елены Глинской, отравленной боярами-злодеями Шуйскими. Синие губы, запавшие глаза, черные тени под ними – в кого превратилась-то всего за несколько дней?! А ведь первой красавицей слыла царица Елена на Руси в свое время.
И вот теперь – Анастасия…
Иоанн не ел и не пил толком, каждая минута была для него пыткой. Спустя семь лет после его недуга они точно поменялись местами – теперь он трепетал у ее постели, следя за каждым движением, прислушиваясь к каждому вздоху любимой жены. Сам поправлял одеяло на ее груди, вытирал пот со лба. То прижимался к ней щекой и целовал в губы, то твердил горячечно: «Тебе отдыхать надобно, спи же, спи!» – и никого даже близко к ней не подпускал. Сиделки от страху готовы были сознания лишиться: вдруг не так чего сделают?
Все думали, что обойдется. Мало ли – кто сейчас не хворает? Да только царице все хуже и хуже становилось.
– Ну, лекарь, что скажешь про мою голубку? – спрашивал Иоанн у домашнего врача. – Отчего не летает, а в жару мечется?
– Да что ж я могу, ваше величество? – бледнее накрахмаленного полотна, бормотал доктор. – Сил мало у царицы – она и так хрупкая, как перышко, а тут еще дите за дитем. Шутка ли: рожать каждые полтора года?! Дмитрий, упокой Господь его душу, Иван и Федор. Да еще трех дочерей потерять. А ведь едва родились! Утроба женская – хитрая штука, царь-батюшка…
– Ты мне зубы не заговаривай! Говори прямо: отравили ее? Говори, яд это?!
Доктор все пятился и пятился прочь, к дверям:
– А может, и отравили…
– Пошел вон! – бледнея от гнева, прошипел царь. – Вон! Вон!
Никто не знал, что через несколько дней Иоанн, обезумевший от горя, будет метаться по спальне своей царицы, все ломая и круша, ревя, как раненый зверь. «За что, Господи, за что?!» – будут слышать самые смелые, те, что не побоятся приблизиться в эти минуты к двери. «С тобой, милая, должен был прожить свой век, с тобой и в могилу сойти! – будет кричать царь, прижимая бездыханное тело Анастасии к груди, таская его за собой, точно куклу, путаясь в покрывалах. Словно жизнью своею хотел с ней поделиться. – С тобой, Настасьюшка…»
Не вышло. Видно, другую судьбу уготовил ему Господь…
2
В начале лета того же года со стороны Москвы возобновились полномасштабные военные операции в Ливонии. Шестидесятитысячная русская армия под командованием князя Мстиславского вторглась в еще незанятые ливонские земли и теперь уверенно продвигалась к главной цитадели ордена – неприступной крепости Феллин. Несмотря на то, что московиты превосходили их числом, ливонцы с нетерпением искали решающей битвы. Они надеялись на отмщение и чудо Господне! Рыцарями командовал ландмаршал Белль, которому магистр Готгард Кетлер вверил все полномочия полководца. В то же самое время двенадцатитысячный эскадрон конных русских дворян под командованием князя Владимира Барбашина, в коем одним из сотников служил и Григорий Засекин, был выслан вперед – с заданием уничтожить главные коммуникации, связывающие Феллин и приморский город Гапсаль, откуда в столицу ордена поступали оружие и продовольствие. При выполнении этого приказа князь Барбашин и столкнулся с ливонской армией. Правда, много южнее самого Феллина…
2 августа 1560 года под городом Эрмесом дворянский эскадрон схватился с основными силами ордена и наголову разбил их. По тяжести это поражение оказалось для ливонцев куда сокрушительнее предыдущих: не считая сержантов и наемников, орден потерял убитыми около трехсот рыцарей, еще сто двадцать из них сдались в плен. Туда же угодили и одиннадцать командоров во главе с мечтавшим взять реванш ландмаршалом Беллем.
Фортуна крепко держалась на стороне Москвы. Для врага же ее это оказалось равносильно приговору – оправиться от такого удара не представлялось никакой возможности. Чудо Господне обернулось против его жаждавших, и русские войска, даже не празднуя победу, скорым маршем и беспрепятственно достигли в итоге ливонской столицы.
В первых числах августа 1560-го началась знаменитая осада Феллина. По приказу Алексея Адашева город отрезали от остального мира и окружили шанцами – небольшими земляными укреплениями. Сюда же была доставлена и вся русская артиллерия. Беспощадная бомбежка Феллина не прекращалась ни днем, ни ночью. Русские солдаты засыпали и просыпались под артиллерийский огонь, а жители Феллина – еще и под грохот рушившихся крыш своих домов, и часто этот звук был последним в их жизни.
В городе огонь уничтожал все новые и новые здания. Скрыться от него было практически негде, разве что в подвалах или в замке магистра, от сокрушительных ударов и пылающей смолы с каждым днем все более теряющем былое величие. Ливонцы понимали: московиты настроены серьезно и не уйдут, пока стены крепости не дрогнут и не рассыплются в песок, как стены Иерихона. Но Феллин продолжал держаться – со стороны казалось даже, что ежедневные бомбардировки ему нипочем. Русские не переставали удивляться: по их расчетам, от крепости давно уже не должно было остаться и кирпича! Секрет же состоял в человеке, управлявшем столицей и командовавшем ее обороной. Комендантом цитадели оказался истинный рыцарь, оставшийся непреклонным несмотря даже на то, что русские обещали ему жизнь – в обмен на его согласие открыть ворота. Этим рыцарем был экс-магистр ордена Вильгельм фон Фюрстенберг.
Старик все еще надеялся на чудо – что Готгард Кетлер соберет новые полки и придет вместе с Сигизмундом II Августом под стены Феллина. Однако после недавнего разгрома и плена ландмаршала Белля «чудо» сие стало невозможным, а поляки и литовцы с помощью отчего-то медлили.
В эти дни и дошла до русского лагеря черная весть: царица умерла. Овдовел Иоанн Васильевич.
Курбский и Адашев молча перекрестились за помин души той, что незаслуженно не жаловала их. В лагере отслужили панихиду. Бывшим царским советникам по прежней Ближней думе появилось над чем задуматься. Некому больше было усмирять сердце Иоанна: Сильвестр, гневом Господним царю грозивший, отбывал заточение в Кирилло-Белозерском монастыре; Анастасия, свой подход к мужу имевшая и по-женски усмирявшая – лаской да тихим словом, – отошла в мир иной. Обнажено оказалось теперь сердце молодого монарха. А потому – вдвойне опасно. Два ушлых братца, Данила с Никитой Захарьины-Юрьевы, найдут, какой отравой плеснуть в него.
Русским полководцам оставалось только продолжать изматывать врага да ждать очередных вестей из Москвы.
А ливонцы тем временем пытались пробиться к Феллину, и один из ночных рейдов застал русских врасплох. Конный отряд немецких наемников пришел со стороны Пернова. Он вылетел из-за леса, где на некотором расстоянии друг от друга проходили дозором две сотни русских дворян, одной из которых командовал Григорий Засекин. Держа копья наперевес, наемники врезались в два десятка русских новиков, объезжавших территорию, и почти тотчас перебили их. Бóльшая часть сотни пришла на выручку, но не сразу. Завязалась битва. Под яркой луной зловеще вспыхивали мечи и сабли, звенела сталь, оглушительно ржали кони, кричали смертельно раненные и падали под копыта вражьих и своих коней, после чего, растоптанные, замолкали навеки. Если бы не сотня Григория Засекина, подоспевшая вовремя, ливонцы одолели бы русских. Но, обойдя лес по следам противника, русская сотня молниеносно ударила ему в тыл. Половина наемников полегли на месте, еще часть спаслись бегством и рассыпались по окрестностям. Русские гнали прочь коварного противника. Кого нагоняли – добивали на месте.
Приметив конного ливонца, что опрометчиво выскочил на лунную дорожку и намеревался уйти, Григорий рванул за ним. Тот попытался скрыться в лесу, но упускать его в планы сотника не входило: уйдет сегодня – вернется завтра с другой стороны!
– Дерись, сукин сын! – преследуя ночного гостя, кричал Григорий. – Ну, дерись же со мной!
Когда стало понятно, что схватки не избежать, ливонец резко развернул коня. Всадники сшиблись на опушке приземистой дубовой рощицы. Меч неприятеля полоснул Григория по шлему, рассек кольчугу на плече. В ответ сабля русского князя ударила ворога по правой кисти, вскрыв кольчужную перчатку и отхватив два пальца. Ливонец вскрикнул, меч отлетел прочь. Второй удар Засекина пришелся по ребрам рыцаря, и тот покачнулся и повалился с седла.
Когда ливонец оказался на земле, сжимая покалеченные пальцы, Григорий тоже спрыгнул с коня. Он собрался уж было прикончить басурмана-налетчика, избавить от тяжких мучений, как вдруг рука сама собой дрогнула.
– Ты?! – занеся саблю над головой ливонца, только и смог вымолвить он.
Поверженным оказался старый знакомый – Карл фон Штаден. Засекин ногой прижал его к земле.
– Я тоже узнал тебя, князь, – с трудом дыша, прохрипел тот.
Меч его был обильно испачкан кровью. Русской – сомневаться в том не приходилось.
– Ты ведь слово дворянина давал! – еще сильнее придавив врага, рыкнул Григорий.
– Слово русскому медведю ничего не стоит! – огрызнулся светловолосый ливонец.
– Вот как?! – зло усмехнулся сотник. – Что ж, придется научить тебя и перед медведем русским ответ за слово свое держать.
– Пощады просить не буду – бей!
– Велика радость – лежачего прибить! – скривился презрительно Григорий. – Нет уж, судьба у тебя отныне другая – на поводке у меня быть! – сквозь зубы процедил он и ухватил рыцаря за кольчугу. – Вставай, басурманин! В смерти твоей мне никакого толку нет, тем паче что ваша чухонская братия опять мордой в дерьмо угодила. Считай себя отныне рабом царя русского, пёс! – Окровавленный меч и наглый тон рыцаря задели Григория за живое. Эх, приложил бы его тогда казак Михайло, глядишь, кому-то из русских жизнь бы тем самым спас. Снова недобро усмехнулся: – Так что поедешь на родину медведей, фон Штаден. А там, глядишь, конюхом служить станешь или, может, пастухом. Это уж как твой новый хозяин пожелает, – Григорий перевернул ливонца на живот и стянул ему руки, одна из которых была безвозвратно искалечена, бечевой. – А уж кому тебя отдадут в работу – это пока дело темное. Вставай!
Отплевываясь кровью, ливонец привстал на колено, а затем и в рост поднялся. Покачнулся. Зло зыркнув на Григория, отвел взгляд:
– Мне есть что сказать тебе, князь…
– Да неужто? – ухмыльнулся Григорий. – Что ж, говори, выслушаю, так и быть.
– Это важно для твоих командиров. Отведи меня к ним.
– Быть по-твоему, – равнодушно кивнул сотник. – Только имей в виду: мои командиры злы как черти и в случае чего поджарят тебя, словно утку на вертеле. Так что лгать не советую. Тем более что Феллину, – он махнул рукой в сторону крепости и доносящегося грохота канонады, – со дня на день придется-таки спустить рыцарский флаг и сдаться на милость царя нашего батюшки. А чтобы секрет твой напрасным или худым не оказался, ты мне его по дороге расскажешь. Не понравится – утоплю в первом болоте. Сам знаешь: их тут немало.
Только на рассвете, вернувшись со своей героической сотней и пленными ливонцами на родную позицию, Григорий доставил Карла фон Штадена в деревушку, где расположился штаб русской армии. Вошел через широкие ворота во двор, отряхнул кольчугу, потопал, сбивая с сапог грязь. Тысяцкого, непосредственного командира молодого князя, в лагере не оказалось, и потому Григорий решительно направился прямо к полководцам.
– Спят? – спросил он у знакомого стрелецкого сотника, чьи люди несли нынче караул.
Бородатый стрелец смачно зевнул и вместо ответа спросил:
– Потрепали, княжич?
– Есть немного, – признался Григорий. – Так спят или нет?
Тот пожал плечами:
– Кто ж их знает? Они мне не докладываются. Но вроде не спят. Всю ночь свечи жгли – знай только новые подноси!
– Совещались?
– Похоже не то. Видел: сидели пресветлый князь Курбский и Алексей Федорович, трапезничали, вино пили и разговоры вели.
– И Алексей Федорович вино пил? – удивился Григорий.
– Да нет, пил Андрей Михайлович. А Алексей Федорович все больше на траву заморскую налегал. Другие командиры тоже были. Потом все разошлись, а князь и Алексей Федорович долго еще бодрствовали. Всех ординарцев вон выставили, – с усмешкой добавил стрелец. – А недавно вот завтракать изволили. Опять вина просили. Теперь-то, может, и заснули уже. – Нахмурился: – Да коли даже и бодрствуют, все одно вряд ли до себя допустят. Сердитые они!
– А я все ж попробую, – сказал Засекин.
– Воля ваша, княжич.
Григорий прошел мимо охраны из стрельцов, махнул идущим позади себя двум новикам: мол, тащите сюда пленного. Стрелецкий сотник, окинув хмурым взглядом ливонца, открыл перед Засекиным дверь.
Григорий прошел сени, доложился сонному ординарцу. Тот, приоткрыв дверь, в свою очередь сообщил:
– К вам сотник, князь Григорий Засекин.
– Зови, – ответил после паузы знакомый голос.
Григорий узнал его – он принадлежал князю Курбскому. Молодой командир вошел и остановился на пороге.
В гостевой литовской избы, при сером утреннем свете, хмуро трапезничали два полководца – Алексей Адашев и князь Андрей Курбский.
На простом деревенском столе стояли высокие серебряные кубки и кувшин с остатками вина. На турецком чеканном серебряном блюде холмом поднимался наполовину разделанный копченый окорок; лежали наструганное ломтями заветренное мясо и хлеб. Григорий потянул носом: ах, какой аромат пряно-острый! Проголодался он за эту ночь.
– Ты прямо аки солнце светишься, Засекин, – хмуро заметил Курбский. В расстегнутой до середины груди белой рубахе, он сидел, привалившись к спинке широкой скамьи, крупный золотой крест путался в волосах. В левой руке был зажат кубок, в правой – охотничий кинжал с нанизанным на него подмороженным яблоком. – Что ливонцев отбили, знаем уже, – продолжал князь. – Или еще что нового есть?
Алексей Адашев в застегнутом на все пуговицы черном кафтане тоже уставился на сотника. Полководцы стояли сейчас перед тяжелым выбором, потому и не спали. Уже нынче собирались они отдать приказ о штурме неприступного Феллина – тянуть и далее не имело смысла, ибо овдовевший царь мог в любой момент обвинить их в «предательском» затягивании войны. Но жертвы, которые приходилось бросать в этом случае на алтарь победы, представлялись им огромными.
– Есть добрая новость, Андрей Михайлович, – оживленно откликнулся сотник. – Взял я только что у холмов офицера ливонского, так весьма интересную историю он поведал. Оказывается, ландскнехтам, что Феллин защищают, давно уже жалованья не платят. Более того, все дома в городе разбомблены и выгорели, один только детинец их басурманский и стоит пока. Наемники же мечтают сдать и город, и своего командира, после чего – положиться на нашу милость. Ландскнехтов этих сотни три, не больше, но стóят они, как я понимаю, дорогого. А самих рыцарей у магистра не более ста человек: ну, сержанты там, прислуга, все, что положено. Однако рыцари только замок магистра защищают, сам детинец, а вот ворота и стены городские – те самые ландскнехты. Последний же артиллерийский обстрел, который им Алексей Федорович учинил, – Григорий отвесил почтительный поклон в адрес второго своего благодетеля, – едва вконец не извел наемников. Совсем, словом, затужили басурмане.
Глаза Адашева заблестели:
– Неужто правда?! А то я уж начал думать, что им наши ядра – как мед с конфетами: только подавай!
– Правда, истинный крест, правда! Да я вам сейчас этого бедолагу прямо сюда доставлю, сами его исповедь послушаете. А главное, знайте: командир этим ландскнехтам, немчуре наемной, – двоюродный брат моего пленного, Адольф фон Штаден. Кузен по-ихнему. Смекаете, каков поворот? – Григорий стушевался вдруг своего чересчур вольного разговора, но старшие товарищи широко улыбнулись, как бы поощряя его пыл и жар. – Так мне привести его?
– Веди, Гриша, веди, – кивнул Адашев. – Новость-то, кажется, и впрямь хороша, а? – подмигнул он Курбскому.
Через несколько минут ливонской офицер повторил слово в слово рассказ русского княжича и добавил, что брат его поверит только одному человеку – ему, Карлу фон Штадену.
А еще через четверть часа Курбский и Адашев решили: штурм Феллина отложить. По крайней мере на сутки или двое.
– Что ж, Андрей Михайлович, – обратился, когда ливонца вывела охрана, повеселевший Адашев к своему товарищу, – рисковать, думаю, мы ничем не рискуем, зато польза, коли дело выгорит, великая будет!
…В ночь на 30 августа 1560 года русские полки – из конных дворян и стрельцов – начали стягиваться к городу. Первоочередной целью были главные ворота Феллина. С другой стороны мощной крепости Адашев усилил бомбежку стен – для создания видимости, будто русские вот-вот пойдут на штурм, потому-де и пытаются ослабить защиту стен.
Несколько сотен конных русских дворян и казаков приблизились к воротам едва не вплотную – на них была возложена особая миссия. Перед рассветом мост неожиданно опустился, и ворота города, тихонько скрипнув, начали открываться. Это и послужило сигналом – сотни русских конников ворвались в Феллин.
Победа была близка, но еще не одержана. Магистр Вильгельм фон Фюрстенберг ожидал предательства со стороны ландскнехтов, возглавляемых наемником-аристократом Адольфом фон Штаденом. Старый магистр предлагал даже расплатиться с ними золотой посудой и украшениями из собственной казны, но немецкие наемники лишь сделали вид, что согласны. Тогда магистр отдал распоряжение своим рыцарям запереть замок и ждать. Когда русские ворвались в город, оказывать им сопротивление было, по сути, некому.
Григорий Засекин, возглавлявший одну из сотен, что первой ворвалась в Феллин, был поражен увиденным – ни одного целого дома не осталось в городе! Груды камней и устрашающие пепелища предстали взору: артиллерия Алексея Адашева поработала на славу! Проезжая по разрушенным улицам города, Григорий первым натолкнулся на безоружный отряд ландскнехтов. Русские были заранее предупреждены: сечь головы в городе не стоит, ибо наемники предательством купили себе жизнь и свободу. Их по предварительной договоренности с Карлом фон Штаденом отпустили, вернув даже оружие. Уже через час, при мечах и копьях, ландскнехты покидали Феллин. Каждому за городскими стенами должны были выдать и по лошади – дабы смогли добраться, кто куда пожелает.
Присмиревшие, молча проходили они по разбитым улицам мимо русской конницы, когда Григорий Засекин вновь увидел старого знакомца Карла фон Штадена. На сей раз – с увечной рукой на перевязи. Григорий хмыкнул: недаром все-таки он пленил его – вон как оно все вышло! Фон Штаден был отпущен двумя русскими полководцами, сумел вернуться в город, где его хорошо знали, и договориться со своим кузеном и его старшинами, которые и сдали в итоге русским неприступный ливонский город.
– Я сдержал свое слово, князь! – проходя мимо сотника дворянской конницы, весело крикнул он. – Вы гордитесь мной?
– Теперь – да! – ответил насмешливо Григорий. – Но берегитесь петли – свои не простят вам предательства!
– А я не прощу вам своих пальцев! – Карл фон Штаден поднял перевязанную руку. – Мне их будет не хватать. Прощайте, князь!
– Прощайте! – небрежно бросил Григорий. – И берегите от русских медведей голову! – теперь в его словах слышалось куда больше насмешки, чем в свое время у противника.
Когда ландскнехты поравнялись с воротами, русские обнаружили, что те несут слишком много поклажи. Выяснилось, что, вспомнив о сокровищах магистра, которыми тот хотел расплатиться с ними, ландскнехты попросту обворовали его – унесли все, что смогли. Казаки обыскали воров и отняли практически всю ливонскую казну, отправив предателей-наемников прочь от Феллина с пустыми руками и проклинающими в душе всех русских.
Не знали тогда ландскнехты, что их в будущем ждет. Приехав в Ригу и проговорившись, какой ценой купили себе жизнь, почти все они, кто не успел вовремя улизнуть и покинуть город, были арестованы и повешены за крепостной стеной, и первым закачался на перекладине их командир Адольф фон Штаден. Кузен же его, сметливый и расторопный Карл, казни избежал, сумел улизнуть от возмездия.
А русских ждал впереди штурм цитадели – стоявшего в самом центре Феллина замка Вильгельма фон Фюрстенберга. Магистру было послано требование сдать замок, но он, как и предполагали Курбский и Адашев, отказался. К замку стали подкатывать бомбарды.
И опять начался ад. С методичностью часового маятника пушки разносили крепостные стены последнего оплота Феллина, его цитадели. Камни обрушивались на головы рыцарей. Но и ливонцы не отставали от своих заклятых врагов.
Рядом с Григорием пролетело ядро, выпущенное ливонской пушкой из замковой бойницы, – двух его товарищей рассекло пополам. Под ним самим убило лошадь – ее сразил залп ливонских мушкетов. Но когда бой продолжился в замке, все уже спешились. Много стрельцов полегло под огнем орденских пушек, но сила была за русскими. Ярость и сила. И когда ворота замка разлетелись, а за ними – и решетки, кинулись внутрь скопом и стрельцы, и казаки, и дворяне конных полков.
Стрелецкий отряд, ворвавшийся во двор замка, расстреливал противника из пищалей, сек бердышами защитников цитадели.
– Не пускайте русских к башне! – в стальном доспехе, управляя закованным в броню конем, кричал рыцарям бывший ландмаршал ордена Филипп Фюрстенберг.
После короткого боя дворяне, стрельцы и казаки захватили все подступы к башне, открыли и эти ворота. В замок магистра, спешившись, удало размахивая саблями, ворвались дворяне. Сотня Григория Засекина неслась впереди. Никому не обещали русские пощады и никому ее не давали. Но оставшиеся рыцари и не просили ее – умирая, забирали с собой и много противников.
Коридоры замка были завалены трупами и ранеными. Боеспособных становилось все меньше – единицы. Защитников теснили повсюду, на стенах замка, в тесных его коридорах.
Григорий был первым, кто бок о бок со стрельцами ворвался в главные покои орденского вождя. И когда несколько рыцарей, защищаясь до последнего, пали под мечами русских и дверь была выбита, сотник Григорий Засекин ввалился в залу с шахматными полами. Там, в кресле с высокой спинкой, восседал бывший магистр Вильгельм фон Фюрстенберг – сухой и седоволосый, в черном костюме и только одной выпуклой кирасе. Русские опешили, увидев его – бледного и неподвижного, точно статуя с крючковатым желтым носом.
Григорий, будучи князем и сотником, дал отмашку стрельцам, приблизился к магистру.
– Ваш меч, герр Фюрстенберг, – сказал он, протягивая руку.
Экс-магистр и комендант города, опираясь о подлокотники кресла, встал. Вытащил из ножен меч, перехватил за лезвие, отчего рука его, потерявшая уже былую силу, дрогнула, отдал молодому воину. И тут же глаза его блеснули: он узнал молодого воина! Сухо усмехнулся и кивнул. Принимая меч, поклонился и Григорий.
Дело было сделано – Ливонский орден сдал свою столицу. Еще один мощный город, откуда три столетия рыцари управляли народами Прибалтики и посягали на русские земли. Но орден проиграл последнюю свою войну, и его история подходила к концу.
В этот день Алексей Федорович Адашев, в присутствии князя Курбского, сказал своему подопечному:
– Ты взял магистра, Григорий, тебе и в Москву его везти пред царские очи! Но не сотником повезешь его – тысяцким.
Курбский, соглашаясь, кивнул:
– Это самое малое, что мы можем для тебя сделать. Будет время – сделаем больше.
– Со своей тысячей и поедешь, князь Григорий Засекин, – добавил Алексей Адашев. – Завтра же утром. – Он нахмурился, переглянулся с Курбским. – Да нет, уже сегодня получается. Тянуть не будем. – Он кивнул молодому князю: – Пару часов на сон – и в дорогу! И вот что еще, Гриша, – доверительно продолжил Адашев, – не говори ты пока никому, что это я тебя тысяцким сделал. Царь серчает на меня, значит, может и на тех осерчать, кто близок мне.
– Да как же так? – пробормотал Григорий.
– А вот так. Коли спросят, а тебя спросят, отвечай просто: Феллин помог взять и магистра пленил. Чем не заслуга? По-моему, так велика!
Засекин посмотрел на Андрея Курбского, но тот встретил его взгляд холодно. Тревога лежала на челе пресветлого князя.
– Ты слушай, слушай, – только и сказал он.
– Для пользы твоей говорю, – хлопнул Адашев новоиспеченного тысяцкого по груди. – А теперь ступай. Ступай.
Вперед тотчас были высланы гонцы, дабы известить царя о падении Феллина и захвате экс-магистра фон Фюрстенберга. Ответственность за его доставку легла на плечи князя Григория Засекина. И, покидая после недолгого сна лагерь под разрушенным Феллином, Григорий не знал, что творилось сейчас в душе Алексея Федоровича Адашева, его благодетеля и командира…
3
Путь в родные земли Григория Засекина с вверенной ему тысячей конных воинов лежал по завоеванным ливонским территориям, потом через свои города – Псков и Ям Запольский, Торопец и Волок. Все это время экс-магистр ордена ехал в просторной деревянной повозке вдвоем с сопровождавшим его секретарем. Выходил разве что к трапезе, а то и трапезничал в своей маленькой деревянной башенке на колесах. Крошечный замок с одним-единственным слугой! Ножей и вилок Вильгельму фон Фюрстенбергу не полагалось, тонких шнурков тоже, как и порошков разнообразных, дабы не учинил над собой чего-нибудь худого. Таков был приказ. Один раз в час, за исключением сна, магистра проверяли: жив и здоров ли? А секретарю его пригрозили жестокой пыткой, коли с хозяином что-нибудь приключится. Не хворым и в сознании должен был добраться пред царские очи магистр, столько хлопот доставлявший Москве долгие годы. Потому Григорий и посылал своего ординарца Пантелея, бравого юнца из костромских дворян, лично приставленного к нему Данилой Адашевым, спрашивать у магистра, не надо ли ему чего. Но тот, как правило, отмалчивался.
За чопорного немца на ломаном русском отвечал его секретарь:
– Вильгельм фон Фюрстенберг благодарит за заботу, но сейчас он желает отдыхать и просит его не беспокоить.
Пантелей пришпоривал коня и несся к командиру:
– Отдыхает он! Да говорить просто не хочет, и все тут!
– А ты видел, Пантелей, чтобы пса, которого изловили и силком волокли в клетку, с тобой дружбу водил? – усмехаясь, спрашивал его Григорий. – Вряд ли. Но мне поручили быть с ним обходительным да ласковым, как с барышней, – приходится исполнять.
Конным дворянам, и днем и ночью дежурившим по обе стороны повозки, только и видны были, что желтый ястребиный нос магистра, время от времени появляющийся в небольшом окошке, да ничего не видящие, точно ослепшие глаза надменного и гордого старика.
Нет, не таким представлял закат своей жизни Вильгельм фон Фюрстенберг! Гордые ливонские стяги еще шумели в грезах над его головой, как шелестят кроны больших деревьев в летнюю ветреную погоду. Но реальность была иной – страшной, хуже любого ночного кошмара. Слава растоптана, былые товарищи либо в землю легли, либо предали его. Чужая земля, ненавистная Русь, пожирала оставшиеся ему дни, изводила тряской на бесконечных кривых дорогах.
Чужие мили, чертовы мили.
Адашевым дан был Григорию указ: шесть часов в сутки на сон, час – на трапезы, остальное время – скорый путь. Когда же пошли земли великого княжества московского, тысяцкий вздохнул спокойнее. Выслал вперед отряд – оповестить двор о приближении ценного живого трофея.
Москва встретила Григория осенним увяданием садов, в которых тонула столица, бирюзой и золотом церковных куполов. Желтый нос Фюрстенберга все чаще появлялся в окошке ливонской повозки. Как магистр ни старался держаться отстраненно, чужой уклад все же вызывал у него интерес. Вот сверкнула Яуза, а вот и Москва-река. Дым над трубами домов. Купцы и черные люди. Расторопные мужички с пилами да топорами. Столица продолжала строиться и разрастаться: домишками и теремами, церквушками и соборами; всё новые люди стекались сюда, к окраинам, находя тут, подле царских стоп, родной дом.
Наконец въехали в саму Москву. К вечеру пришла прохлада. Угасал шум на рынках. Показался вдали Кремль. Желтый нос магистра так теперь и торчал из окошка. Барыни и барышни с прислугой прогуливались, дворяне при саблях.
Еще на последней остановке, в безымянном селе, магистр приказал нагреть для него воды в кадке, искупался и переоделся в чистое: вычищенный черный камзол и черные бархатные штаны – все расшито было серебром. Знал он, куда его везут. Не хотелось магистру предстать пред молодым русским царем уставшим стариком, измученным и жалким.
– Вы отдадите мне меч, князь? – спросил он утром, когда готов был двинуться в дорогу.
– Нет, господин магистр, не отдам, – ответил Григорий. – Вы не гость – вы пленник царя всея Руси, Иоанна Четвертого Васильевича. Меч я передам вельможам, а уж государь сам решит, как быть с первым ливонским клинком. Со вторым, – поправил себя Григорий. – Первый остался у вашего преемника, но это, полагаю, ненадолго. – Тысяцкий Засекин не сомневался: препроводив Фюрстенберга в Москву и передав его с рук на руки боярам, он вернется в Ливонию и достанет Готгарда Кетлера! Чувствуя, что отказом задел старика за живое, юноша вздохнул: – Я бы отдал вам меч, господин магистр, но не положено – не моя воля.
Магистр кивнул, что означало: «Я смиряюсь с уготованной мне судьбой».
И вот теперь, когда солнце уходило за рыжие купола столицы, они въехали в Кремль. Григорий думал, что им позволят переночевать и царь примет магистра завтра, но Иоанн распорядился иначе. Ему не терпелось увидеть магистра ордена, ведь он был уверен, что со взятием Феллина и пленением Вильгельма фон Фюрстенберга Ливонский орден пал пред русским оружием, сдался на милость Москвы окончательно. То была законная и значительная победа после Казани и Астрахани. Он, Иоанн, добьет остатки ливонцев и сам, единолично будет решать, куда направить следующий шаг: в сторону Польши, Литвы, Швеции, Крыма, Турции?..
А пока что он примет пленника и посмотрит ему в глаза: ведь это магистр Вильгельм фон Фюрстенберг и архиепископ Евстафий бросили Москве перчатку!
В Кремле охрана Засекина, из его боевой сотни, передала магистра Фюрстенберга здоровенным царевым стрельцам в ярко-красных кафтанах. К Засекину вышел в сопровождении многочисленной охраны и дьяков богато одетый статный боярин лет сорока, черноволосый и чернобородый, с ледяными глазами. Поклонился Вильгельму фон Фюрстенбергу, и тот ответил боярину поклоном.
Вперед вынырнул дьяк-переводчик, весь превратился в слух.
– Рады видеть вас в стольном городе Москве, магистр, – обратился к пленнику боярин. – Вскоре вы увидите, что не только огнем пушек умеют потчевать русские своих противников, но и добротой царской. Иоанн Васильевич ждет вас, хочет словом перемолвиться и дружбу свою предложить. Прошу вас!
Магистр поклонился еще раз. Процессия из придворных уже увлекала его и несла вверх по лестнице, когда боярин, не думавший торопиться, взглянул на Григория.
– Ты ли тот самый тысяцкий, что магистра взял? – спросил он, оглядывая с ног до головы молодого воина.
– Он самый, – ответил Григорий с должным поклоном.
– Пойдешь со мной к государю, – сказал боярин. – Сам повелел – видеть хочет героя.
Григорий оторопел. Думал, сдаст магистра с рук на руки и – свободен. Отдохнет, отоспится, а после напросится в гости к князю Воротынскому, новым назначением похвалится. И вдруг – пред царские очи…
– Я ж с дороги, – пролепетал он растерянно.
Вельможи, сопровождавшие важного боярина, снисходительно заулыбались словам молодого воина. Особенно двое, стоявшие по правую и по левую его руки: крепкий невысокий бородач с лукавым взглядом широко осклабился наивности тысяцкого, а разодетый молодой вельможа, румяный, пухлогубый и смазливый, усмехался с пренебрежением – как столичный житель над провинциалом.
– Не робей, молодец, – усмехнулся боярин. – Царь милостив: изменника накажет, а героя наградит. Идем же.
– Кто он? – шагая позади боярина, спросил Григорий у охранника.
– Алексей Басманов, один из первых вельмож при царе нашем Иоанне Васильевиче, – ответил знакомый голос. – А ты что, ослеп? Али зазнался?
Засекин, пристальней вглядевшись охраннику на лицо – рыжее-прерыжее, – так и ахнул:
– Степка! Ты?!
То и впрямь был Степан Василевский: в дорогущем кафтане, при дорогом оружии – глаза слепнут!
– Я, друг мой ситный, я самый, – ответил телохранитель. – А ты – молодчина. Подумать только, тысяцкий уже! Так и до воеводы недалеко.
– Далеко еще, – ответил Григорий. – А ты разодет-то как, точно хан крымский! И сабля с золотой рукоятью, и кафтан в золоте!
– При дворе иначе не ходят, – рассмеялся Степан. – А как Петька-то, жив?
– Да жив, слава богу! Он в ординарцах у Данилы Федоровича Адашева…
– Тсс! – Степан даже в лице изменился, понизил голос. – Тише, друг мой, тише…
– А что такое? – нахмурился Григорий.
– Эту фамилию при дворе громко лучше не называть, – почти шепотом признался Степан. – Не в милости они – ни Алексей, ни Данила. Коли назовешь их фамилию, тут же спросят: а почто вспомнил их? Ты ответишь: знаю, мол. А они снова: а с какой стороны знаешь? И вот тут думай. Ответишь – с хорошей, гляди: дегтю себе плеснешь!
– Отчего ж так? – спросил Григорий обескураженно.
Но Степан ответить не успел – процессия подошла к дверям посольской залы. Там магистра поверженного ордена поджидал царь.
Степан, как и другие телохранители, встали в две шеренги по правую и левую руку Алексея Басманова.
– Тысяцкий, ты за мной иди, – сказал боярин. – Вслед за магистром тебя представлю. Коли царь еще не забыл, – не зло усмехнулся он.
– Свидимся? – шепотом спросил Григорий Василевского.
– А то! – ответил огненно-рыжий Степан. – Сам тебя нынче найду. Иди, иди!
Двери в посольскую залу открылись, и царедворец с посохом громовым голосом объявил:
– Вильгельм фон Фюрстенберг! – бывший магистр бывшего Ливонского ордена! – с почтением к великому князю Московскому, превеличайшему царю всея Руси, царю Казанскому и Астраханскому, князю Тверскому и Новгородскому, Ярославскому и Ростовскому, Иоанну Васильевичу Четвертому, Рюриковичу!
«Цок!» – громко и звонко ударил посох, и тонкое эхо понеслось по посольской зале.
Тогда Григорий и увидел царя всея Руси…
Иоанн Васильевич сидел на возвышении, на высоком золоченом троне, в золотой одежде с багряным шитьем и царском головном уборе. В таком одеянии встречали императоры Византии послов чужих стран. Впереди процессии к трону шагал Алексей Басманов, за ним – Фюрстенберг, далее – Григорий, а по бокам – стрельцы и личная царская охрана.
А потом охрана двумя волнами разошлась в стороны, потащила за собой и Григория, и экс-магистр оказался перед пленившим его владыкой – русским царем. Сухой старик в черном камзоле, один-одинешенек, против молодого русского монарха на величественном троне, в окружении князей и бояр.
Фюрстенберг думал сейчас о том, что его государство уходило в небытие перед молодой и агрессивной державой, силу которой они недооценили, пропустили ее восход. Русский царь думал о том, что отныне его величие практически безгранично: как сухие ветви ломал он через колено орды нехристей и басурманские ордена.
Но государь приветствовал пленника добрым словом – он мог позволить себе быть милостивым и великодушным.
– Сам Господь захотел, чтобы мы одержали победу над вами, – сказал Иоанн Фюрстенбергу. – Но я хочу, чтобы все знали: русский государь милостив к побежденным. Уважая ваши сан и звание, Вильгельм фон Фюрстенберг, я дарую вам, бывшему магистру ордена, в вотчину город Любимов. Это хоть и не Феллин, но городок хороший, великокняжеский, где можно прожить долго и безбедно. Да будет так!
Что и говорить: Фюрстенберг и так знал, что не для расправы везут его в Москву, но как трофей, как диковинную птицу – дабы все увидели, узрели, каков у них ловец-то – царь московский! Но милость Иоанна к пленнику, столь рьяно ненавидевшему Русь, и впрямь оказалась велика… Да и царь достиг того, чего хотел. Теперь в Европе скажут: разве медведи так поступают? Да он истинный христианин и европеец, коли и праведный гнев смог обуздать, и милостью заклятого врага одарить…
– Мы еще не раз побеседуем с вами, магистр, о воинской славе наших государств, – добавил Иоанн. – А теперь поведайте, нет ли у вас жалоб на моих офицеров? Отныне вы – мой подданный и мой друг, а я пекусь о своих друзьях. В добром ли вас здравии доставили в Москву? Я могу быть добр к недавнему неприятелю и очень строг к своим слугам!
Григорий затрепетал – одно слово магистра могло обернуться для него бедой.
– Благодарю вас, государь, – ответил Вильгельм фон Фюрстенберг. – Обращались со мной хорошо, говорили с уважением. Разве что дорога была скорой…
– Это ничего, – улыбнулся Иоанн, и за ним заискивающе стали улыбаться придворные. – Я сам так наказал: мне хотелось как можно скорее увидеть вас в Москве. Сейчас вам покажут ваши палаты. Завтра в Кремле будет пир в вашу честь, потому надолго я не прощаюсь. Отдыхайте, благородный магистр: выспитесь хорошенько на перинах наших пуховых, медку русского отведайте – точно в раю окажетесь! И обратно в Ливонию не захочется.
Бояре посмеивались: кто погромче, кто потише. Фюрстенберг поклонился и в сопровождении охраны покинул посольскую залу.
«Пронесло! Пронесло! – твердил как молитву Григорий. – Спасибо, Господи!»
Взгляд Иоанна побежал по головам придворных, охраны, стрельцов…
– А кто же тут герой, полонивший магистра? – неожиданно спросил царь. – Слышал я, был таков?
Алексей Басманов подтолкнул вперед, к царскому трону, Засекина.
– Да вот он, ваше величество, – с доброй усмешкой проговорил вельможа, – все боялся в кафтане с дороги пред вашими очами появиться.
У Григория аж ноги стали ватными.
– Да иди ты, иди, – вновь запросто подтолкнул его Басманов. – Поклонись царю…
Григорий подошел к возвышению, на котором стоял царский трон, и опустился на одно колено.
– Ты поднимись, поднимись, – милостиво промолвил государь.
Григорий поднялся.
– Кто таков? – спросил Иоанн. – Сын боярский?
– Князь Григорий Засекин, – ответил молодой воин. – Командир тысячи… эскадрона князя Барбашина, – добавил он с запинкой.
– Славный эскадрон, – кивнул государь. – Под Эрмесом он великую баталию ливонцам учинил. Ты был там?
– Был, государь, – поклонился Григорий. – И под Мариенбургом был, и Дерпт брал два года назад, – добавил зачем-то.
Царь рассмеялся, засмеялись и вельможи.
– И то прав, не стоит свои заслуги перед царем-то скрывать. Да и мне надежнее: должен я знать, кого казнить, а кого жаловать. Так, стало быть, князь? Засекины – это из чьих?
– Из Ярославских, – признался Григорий.
– Выходит, тоже Рюрикович? – с любопытством прищурился государь.
– Именно так, ваше величество.
– Стало быть, в нас есть капля одной крови? А велик ли твой удел, князь Засекин?
Григорий смущенно улыбнулся:
– Не велик, государь. Три худых деревеньки да двадцать человек посошных, вот и весь удел, что от отца мне достался.
– Три деревни – и это князь?! – рассмеялся Иоанн. – Ну, ничего, ничего. Рюрик тоже, говорят, с малого начинал. В Ливонии свою землю получишь. Большим помещиком на новых землях станешь. Я князю Мстиславскому о тебе отпишу, пусть займется. А пока что… – не спуская с воина глаз, Иоанн прихватил один из перстней и легко снял его, – держи этот камень. Мне он велик, так может, тебе впору окажется. От Бухарского султана достался! – И он протянул перстень с изумрудом Григорию. – Только не заложи его! – оглядев придворных, тотчас весело захихикавших, царь и сам рассмеялся. – Память будет!
Григорий сжал перстень в кулаке и тотчас припал губами к протянутой ему для поцелуя руке – жесткой и холодной как лед. Он даже вздрогнул от этого холода – не ожидал такого…
Когда Григорий шагнул обратно в толпу придворных, то все еще сжимал перстень, робея одеть его на палец, решив, что сделает это, когда окажется один. Тут его и ухватили крепко за руку. Григорий обернулся – ему улыбался Михаил Иванович Воротынский, которого он раньше не приметил в толпе вельмож.
– Рад, что ты жив, Засекин, – тихонько сказал отец Марии. – Видать, ты и впрямь орешек-то крепкий! Да с золотым ядрышком, как говорил мне Данила Адашев. Завтра я буду на пиру в честь магистра твоего басурманского. А сегодня ты ко мне приходи: расскажешь, каково было на войне, как Феллин брали. А я для тебя свой пир устрою – не хуже царского! Придешь?
Сердце зашлось у Григория от его слов. И ведь думал он об их семье, и вот как встретились-то: в посольской зале, да еще царь всея Руси, назвав героем, перстнем одарил!
– Приду, Михаил Иванович, конечно же приду, – благодарно пробормотал он. – Все расскажу!
– Добро, – отозвался тот. – А перстенек-то на палец надень: не приведи Господь – потеряешь. Не простит тебе такого царь.
– Да на какой же палец?! – не смог скрыть волнения Григорий, взглянув на крепко зажатый кулак.
Но Воротынский не ответил – пресветлый князь и боярин был уже среди равных, беседовал с Курлятевым и Шереметевым.
Григорий растопырил правую пятерню и сразу решил – на безымянный. Так и врос бухарский перстень с изумрудом, словно всегда там был! И от сердца отлегло, и вздохнул он свободнее… Хорош подарок!
И вновь молодой князь посмотрел на царя, вспомнил, каким льдом обожгла его губы рука государя. И отчего так?..
Вряд ли кто из приближенных знал, что творилось на сердце вдовствующего Иоанна, – куда уж тут Григорию! Самые проницательные – и те лишь догадываться могли. Горе, черное горе…
Величественно – перед всем двором – откинувшись на спинку трона, Иоанн уже забыл и о взятом Феллине, и о магистре Фюрстенберге, в честь которого должен был вскоре поднять кубок, и молодом князе Засекине – лишь мысли об Анастасии, вновь подкатив черной колючей волной, продолжали терзать сердце, рвать душу…
4
В кабаке «Московия», что в Китай-городе, собирались молодые кутилы – дети боярские, русские служилые дворяне из самых отчаянных. Степан еще в Кремле сказал другу: «Место нынче тебе покажу – не забудешь!» Это был один из первых кабаков на московской земле – дорогой, середнячок не подступится. Торговые людишки сюда не заходили – предпочитали старые корчмы. Никто бы не поручился тут за купчишку – что в морду ему не дадут развеселые аристократы. А наливали тут хорошо: и горячее вино, особенно полюбившееся русским, сваренное по шведскому или по немецкому рецепту, и любое фряжское вино, и медовуху, и пиво. И кормили на славу: осетрина и балычок, тройная «царская» ушица…
А Григорий немало удивился, когда они перешагнули порог «Московии»: трудно было не заметить, как тут встречали огненно-рыжего Степана Василевского. Одни ему кланялись, другие отводили глаза. А Степан огляделся так, точно кабак этот ему принадлежал. Суетился вокруг гостя и бородатый кабатчик в красной рубахе, которого Степан называл просто, точно отплевывался: «Зырин!» А тот гостя величал уважительно: «Степан Захарович!» Едва они вошли, как товарищей усадили за большой стол у открытого настежь окна с видом на Москву-реку, скатерку персидскую в цветах и павлинах постелили, свечи принесли в широком бронзовом подсвечнике – все для новых гостей!
– Да тут тебя, гляжу, хорошо знают, – поделился наблюдениями Григорий, когда «для разогреву и аппетиту», как с пониманием дела сказал Степан, приступили друзья к сладкой медовухе и блинам с икрой.
– Не без того! – гордо откликнулся Василевский. И впрямь: едва он вошел, как снял ремень, усмехнулся: «Так свободнее будет, да и бояться мне некого», и положил саблю на стол.
– А блины-то – объеденье! – довольно покачал головой Григорий.
– Распробовал? – усмехнулся Степан. – То-то, это тебе не кашу новиковскую в чистом поле трескать! – Огляделся, отыскал глазами кабатчика: – Зырин, Марфунья-то сегодня где, а? – Прищелкнул языком: – Занята, что ли?
– Придет, придет скоро, – заверил тот.
– Хорош перстенек! – разглядывая руку друга, проговорил Степан. – Позавидовать можно! Мои тоже неплохи, – Василевский повертел перед своим носом рыжим кулаком, на пальцах которого посверкивали тяжелые золотые перстни, – но твоему, понятно, не чета. Сколько ж такой стоит?
– Да зачем мне его цена? – ответил Григорий. – Такие подарки не золотом меряются. Бесценны они – царские!
– И то верно: перстенек на вес самого магистра! – Степан со значением покачал головой. – Помню, как мы тогда на него бросились, всей-то сворой юнцов. Там, у Дерпта. – Рассмеялся: – Простачками горячими были. Потешниками!
– Отчего же простачками – молодцами были! – возразил Григорий.
– А что тебе князь Воротынский на приеме говорил? – переменил тему Степан.
– Да когда ж ты увидел? – отхлебывая из большой деревянной кружки пряную медовуху, удивился Григорий. – Ты ж столбом стоял рядом с боярином Басмановым.
– Это тебе так показалось, друг мой, – снисходительно заметил Степан. – Алексей Иванович учит: стой столбом, да смотри в оба!
– И зачем оно?
– Чтобы все разуметь! Ты ведь, когда на ливонца идешь, должен знать, каким числом враг и сколько у него пушек, верно?
– Так ведь то – враг, – недоуменно воззрился на товарища Григорий. – Тут-то, в Кремле, за кем следить, на кого саблю точить? Да еще тайно, исподволь?
– Следить всегда есть за кем, – заметил важно Степан. – А уж коли следить, то именно тайно, а не то недруг улыбаться лишь тебе и будет, а мысли свои истинные глубоко спрячет, не сыщешь! Эх, ты, рубака! – Он обернулся к проходившему кабатчику: – Ты, Зырин, порасторопнее давай! Стерлядку нам еще подай да окорок с овощами. И горячее винцо не забудь.
– Слушаю-с, Степан Захарович! – быстро ответил тот, и красная рубаха его потекла вдоль столов – к поварской.
– А тот молодой, что рядом с Басмановым был, – сынок его, что ли? – спросил Григорий.
– Он самый – Федька, – усмехнулся Степан. – Это его я тогда от мужичья-то спас. Баб любит – до смерти! И они его. Всех собирает, что лицом красны, и нам остается.
– Нам – это кому?
– Кто служит у них, у отца его то бишь, – Степан прищурил один глаз. – Они мне благодарны, как ты видишь. Но я нынче не просто слуга боярам Басмановым. С Федькой мы друзья. Не такие, может, как с тобой и Петром были, мы-то кровью, можно сказать, делились и грудью друг друга прикрывали. Федя – он другой. В полымя не полезет! Но с ним весело и сытно, а это тоже немало.
Принесли на серебряных подносах стерлядь и окорок.
– С рыбки начнете? – заискивающе полюбопытствовал распорядитель.
– Что скажешь, герой ливонской войны? – спросил Степан. – Со стерляди начнем?
– Давай с нее, – оживленно кивнул Григорий.
Услышав наконец-то, как отозвался о собеседнике Василевский, кабатчик и сам посмотрел на нового гостя с уважением. Порезал стерлядь, по доброму куску положил на обе тарелки.
Григорий рассказал о недавних событиях. Как пленил ливонца, а тот помог русским сдать Феллин. Как Адашев назначил его тысяцким. Василевский слушал внимательно, кивал.
– Сам-то не жалеешь о битвах? – спросил Григорий, когда закончил.
– Жалею, – честно признался Степан. – Но только о них – давно сабелькой не махал! Разве что на дворе у Басмановых да на охотах, поучая юных и неопытных делу ратному. Ты не думай, – заговорил вдруг торопливо, – я хоть и живу пока в хоромах Басмановых, но в Замоскворечье уже и свой дом достраиваю…
– Ого! – удивился Григорий. – Неужто хозяин столь щедр к тебе?
– И не ко мне одному, – улыбнулся Степан. – Басмановы – сила! Вот дом дострою – и семьей обзаведусь, и челядью с охраной, – разбирая свой кусок, сообщил мечтательно. – Недалек уж тот день!.. Слушай, Гриша, – поднял вдруг глаза на товарища, – войне ведь конец скоро, да?
– Вроде бы так, – пожал плечами Григорий, – а там кто знает? Из Москвы не видно – далеко слишком. Ну, допустим, привез я Фюрстенберга, и что? Он ведь даже не магистр уже!.. У нас там о войне разное говорят. Хорошо будет, если поляки и литовцы за орден не вступятся, да и шведы заодно с ними. А так с лыка на мочало – начинай сначала. – Он понизил голос: – Неспокойно в Ливонии! Если же вступятся – войне только начало будет!
– Тем более, – усмехнулся Степан. – Всю жизнь биться с ними – велика ли радость?
– Это уж как царь-батюшка повелит. Скажет – биться, так и станем биться!
– А ты думаешь, у царя-батюшки только и делов – что на ливонском фронте?
– Верно, крымцы еще есть, – согласился Григорий.
– Да черт бы с этими крымцами, Гриша. Царю-батюшке ведь можно и туточки, в Кремле, служить. Здесь надобным быть. И еще как быть!
– Это к чему ты?
– К тому, тысяцкий, что пока ты воеводой станешь – голову сто раз сложить успеешь! Похоронят на ливонской стороне, а через год забудут напрочь. Да и крест православный, могильный, чухонцы – коли вернут свою землю, – на дрова пустят. И ничего-то по тебе не останется, даже могилы! Как не осталось от многих, кого мы знали.
Григорий даже об угощениях забыл:
– Не понимаю я тебя, Степа…
– Да что ж тут непонятного?! – разозлился Степан, и его рыжее лицо так и вспыхнуло. – Сейчас ты не хозяин себе: служить будешь, пока тебя твои Адашев, Барбашин или другой какой командир бросать на врага будут. И так – год за годом. Точно крепостной, разве что землю не пашешь!.. Хочешь, слово за тебя замолвлю? – Он потянул товарища за рукав: – Говорю же тебе: Басманов Алексей сейчас в силе! В великой силе! Впереди него разве что Захарьины-Юрьевы, но то и понятно – шурья царевы! Ты не смотри, что первые князья и бояре, прежде гоголями ходившие, все еще у царя в милости, как твои Воротынский с Курбским. Никто из друзей Адашевых голову уже так высоко, как прежде, не поднимет! Других людей время пришло!
– Так ты меня к себе зовешь, что ли? – нахмурился Григорий. – Басмановым служить?
Он даже поежился от омерзения, когда вспомнил пухлогубого надменного молодца в дорогущем кафтане.
– К трону поближе тебя зову, – ответил Степан. – Не бойся, кровушки своей княжеской не оскорбишь и ручек не замараешь. На охоте разве что, когда за кабанчиком на лихом скакуне припустишь. Все лучше, чем с саблей наголо чухонцев по ливонским полям гонять!
– Ну, знаешь, – опустив глаза, сурово проговорил Григорий, – если ты от битв открестился, это еще не значит, что поучать меня вот так смеешь!
– Да не кипятись ты, не кипятись…
К их столу, масляно улыбаясь, кабатчик подводил нарядную молодую девицу с ярко нарумяненным лицом и завитыми вокруг головы косами.
– Марфуша! – тотчас забыв обо всем, воскликнул Степан. – Солнышко ясное!
– Заждался, Степочка? – проворковала та.
Голос у нее был сладкий, бархатный, ручки белые, пухлые, в перстеньках.
– Как не заждаться – заждался!
– Ну, так вот и я, – усаживаясь к нему на колени, объявила девица. – Стерлядочку кушаешь, Степа? А меня угостишь?
– Хвостиком, – кладя руку ей на ляжку, рассмеялся он.
– Вот еще, я спинку люблю, будто не знаешь!
– Знаю, знаю, – прихватив ее крепче, жадно проговорил Степан. – Сейчас Зырин тебе тарелку принесет. Зырин! – крикнул, не оборачиваясь.
– А я твоей пока полакомлюсь, рыженький ты мой, – запуская пухлые пальчики в кусок стерляди, засмеялась она. – Вот, гляжу, и спинки ломтик!
Григорий глаз не мог от нее оторвать: девка была гулящая, это понятно, но красивая и бойкая – засмотришься и заслушаешься!
– А кто друг-то твой, Степа? – спросила неожиданно Марфа, вскинув глаза на Григория. – Красавец, да при сабле! И смотрит как – аж огонь по телу!
– Григорием Засекиным его зовут, – представил друга Степан. – Князь он, Марфуша, чистых кровей! Сегодня сам царь-батюшка перед всеми боярами перстеньком его наградил – за подвиги воинские!
– Да неужто? – Марфуша и прежде-то с интересом на Григория поглядывала, а тут и вовсе глазами пытать его принялась. – Вот этот перстенек-то?
Григорий покраснел – слишком уж показно все выглядело.
– Он самый, – подтвердил Степан.
– Хорош! – похвалила девица.
– А это, Гриша, наша Марфуша, – представил наконец Василевский и барышню. – Красавица, верно?
– Верно, – кивнул Григорий.
Встретив ее взгляд, запунцовел еще пуще – чересчур уж откровенно она его рассматривала, прямо как товар заморский! Наглая была девица, не поспоришь, но до чего ж притягательна!..
– А у Марфуши и подруги есть, Гриша. И все, как она, красавицы!
– Как я?! – обиженно надула девица и без того пухлые губы.
– Ты – лучше всех! – успокоил ее Степан. – Князь просто у нас с дороги, аж из самой Ливонии сюда добирался, так, может, ты ему парочку подруг присмотришь?
– А коли сама захочу? – бесстыже повела бровью Марфуша.
Степан скосил глаза на Григория.
– Сама? – задумался он на минуту. – Эх, для друга чего не жалко! Отпущу! Как, Гриша, возьмешь Марфушу? Она ласковая, умелая. Все знает, все понимает…
– Я бы, Марфуша, с радостью, – потупил глаза Григорий, – да не могу нынче…
– У тебя ж побывка, – вмиг подобравшись, упрекнул друга Степан. – Так развернись, погуляй. Я плачу!
– Ждут меня, – коротко пояснил Григорий.
– Кто ждет? Где?
В иное время все эти сальности да взгляд Марфушин обещающий непременно разогрели бы аппетит юного Засекина, но теперь отчего-то напротив – отбивали. Он чувствовал, что хочет как можно скорее свернуть трапезу и оставить захмелевшего товарища и Марфушу.
– Ждут – и всё тут, – вновь коротко, но очень серьезно ответил Григорий.
Глаза огненно-рыжего Степана превратились в щелочки, на губах заиграла улыбка.
– К Воротынским, поди, собрался? Князь тебя пригласил нынче в Кремле, верно?
– А хотя бы и пригласил, – глядя ему в глаза, с ноткой вызова сказал Григорий.
– Да что ж ты у него позабыл-то, Гриша? – сменив тон с насмешливого на откровенно недовольный, спросил Степан. – Тебе там что, еще в прошлый раз медом намазали?
Марфуша хоть и расстроилась, что теряет нового да вдобавок приглянувшегося ухажера, слушала тем не менее с интересом.
– А хоть бы и медом, – односложно отвечал товарищ.
– Постой, постой… Уж не одна ли из дочерей княжеских тебе полюбилась, а? Какая из них? Софья? Мария? Катерина? Я ведь их всех знаю – не один год им кланялся.
– Средняя, – не стал таиться Григорий.
– Красавица-Мария, стало быть, – отчего-то зло просияв, откинулся на спинку стула Степан. – Неужто надеешься, что тебе позволят за ней ухаживать?
– А почему бы и нет? – слова друга, а особенно тон, задели Засекина за живое.
– Да потому, что Михаил Воротынский – один из самых богатых князей на земле Московской, а ты хоть и родовит, да беден как мышь церковная. Он-то зятька из Шереметевых али Глинских искать будет, а то и за самих Захарьиных-Юрьевых Марию свою сосватает. Так-то!
– А вот это уже не твоего ума дело! – вспылил Григорий.
– Да и не твоего тоже, – съехидничал Степан.
– Степочка, – вмешалась в разговор Марфуша, – почто ты на человека напал? Видно ведь – любит он свою Марию. А коли любит – пусть и добивается…
– Заткнись, – рявкнул на нее Степан и столкнул с колен столь резко, что Марфуша едва не оказалась на полу – вовремя подскочила.
– Степа, ты аккуратнее, не то пришибешь меня ненароком, – возмутилась она.
– Надо будет – и пришибу! – не глядя на нее, все так же грозно рявкнул он.
Марфуша отступила назад: видно, слово Василевского что-то для нее, да значило.
– Стану воеводой – отдаст за меня Машу, – не успокаивался Григорий.
– Мечтай! – огрызнулся Степан.
– А вот увидишь!
– Дур-р-рак ты! – раскатисто бросил товарищ.
Григорий вскочил:
– Сам таков!
На них уже смотрела половина кабака – дальние посетители сами гуляли шумно и мало что слышали.
– Остынь, сядь, доешь, – пошел на попятную Степан.
– Спасибо, наелся, – Григорий оправил широкий кожаный пояс и оружие на нем. – Прощай, Степа, свидимся! И вы, Марфуша, прощайте. – Он усмехнулся: – Чем биться, лучше по домам расходиться. Не для того я в Москву приехал, чтобы еще и тут глотку драть и саблей махать.
Так он и ушел, а Степан, проводив его тяжелым взглядом, плюнул на пол, обернулся и поманил пальцем Марфушу:
– Не бойся – не обижу. Пошли окорок есть да горячее вино пить – принесут сейчас. Раззадоримся вволю. А потом и в постельку!
5
В кремлевских покоях царя было темно, как в склепе. Окна боязливая прислуга наглухо занавесила. Тяжелый запах ладана пропитал резную мебель, ковры, утварь, иконы. На глазах бояр царь крепился, старался держаться молодцом, но едва переступал порог своих покоев, вмиг раскисал. И ничего не мог с собой поделать. Вот и в этот вечер, забыв о взятом Феллине и пленном магистре Фюрстенберге, царь ушел в себя. Только шурья покойной царицы и допускались сюда в такие минуты. Чем они охотно и пользовались.
Тихо было и в этот вечер – Иоанн горевал. Только едва слышно всхлипывал у царского ложа Данила Захарьин-Юрьев, да скорбно вздыхал в стороне его младший брат Никита. И свечи еще мерно потрескивали в тяжелых бронзовых канделябрах.
– Признайся себе, государь: ведь это братья Адашевы через людей своих погубили Анастасию, жену твою возлюбленную, сестренку нашу милую, светлую! – шептал со слезами на глазах старший Захарьин-Юрьев бледному и растерянному государю.
За спиной старшего согласно кивал младший:
– Они, живодеры, они!
– Почем знаешь? – не поднимая глаз, спросил Иоанн.
– А ты вспомни, царь-батюшка, когда захворал ты семь лет назад, когда вся Русь слезами обливалась, тебя хороня, – прости нас, Господи! – и уже отписал ты духовную, кого едва ли не силой заставили присягать нашему Димитрию? Отца Адашевых – Федора Григорьевича! Не хочу, говорил, пеленочнику присягать! Не стану, мол, под Захарьиными-Юрьевыми, опекунами, ходить!
– Так то отец их был – не Алешка! – гневно зыркнул на бойкого шурина Иоанн. – Алешка на коленях присягал, руки целовал…
– Правильно: целовал и присягал, да только с виду – сердцем-то не принял! Алешка похитрее отца будет. Не оттого ли в семнадцать-то лет, заговорив тебя с Сильвестром на пару, Ближнюю думу учинил? Да все поучал тебя, как жить и править. А ведь не рады они были с Сильвестром, когда ты приходил к ним совещаться. Любое занятие тебе находили, лишь бы не дознался чего. Было?
– Было, – признал Иоанн.
– Вот и я о том! Недаром давно уже все вокруг говорят, – Данила нарочито замялся, – мне и сказать-то боязно…
– А ты говори, Данила, говори, – хмуря брови, обернулся к нему царь, – не бойся…
Теперь, после смерти Анастасии, выходили на свет прежние обиды, язвами покрывали изболевшуюся душу Иоанна. Правды он хотел, любой ценой – правды! Пусть все окажется на самой черной стороне, но надоело изводить себя догадками: кто погибели желает государю своему, а кто – блага.
– Коли бы, не дай бог, оставил ты нас в те дни, а Владимир Старицкий, пресветлый князь наш, поднял мятеж, так Алешка с Сильвестром первые бы к нему подались! Говорят, что младенца твоего они в расход хотели пустить, дабы под ногами не путался. Ядом али утоплением. Да и жену царскую туда же!
– Не посмел бы он! Не посмел… – побледнел Иоанн.
– Так вот нет больше твоей царицы, возлюбленной сестренки нашей. И Димитричку, первенца твоего, та нянька утопила. Может, неспроста? Вот сам и суди теперь, кто посмел бы, а кто нет. Эх, Ваня, Ваня, да неужто веришь ты, что от частых родов угасла жена твоя? Доктора, они чего только не скажут, лишь бы правду скрыть! Анастасия-то наша сразу Алешку разгадала, ибо не умом – сердцем бабьим поняла, откуда беде быть! – горько и сокрушенно запричитал Захарьин-Юрьев. – Крест тебе Адашев целовал?! Оттого и целовал, что знал наверняка – не станет тебя скоро!
Иоанн не знал, что и думать. Правда способна запутать хуже любой лжи! Верно, невзлюбила Анастасия Сильвестра и Адашевых: и за то, что они дела государственные самолично решали, и за то, что в случае кончины ее мужа вряд ли бы в Дмитрии наследника признали. Да еще и Сильвестр, было дело, открыто хвалил Старицкого: «В великой чести он у народа русского!» Сгинь он, Иоанн, кто бы взял в расчет молодую царицу? Кому она стала бы нужна? Растоптали бы, злыдни, и ее, и сына их! Которых и без того-то уже на белом свете нет…
Иоанн заглянул в налитые кровью глаза Данилы Захарьина-Юрьева. Одно он знал точно: и Данила, и Никита многое потеряли, упустив сестру. И теперь двумя псами будут сторожить обоих царских сыновей, племянников своих – семилетнего Ивана и пятилетнего Федора. На Захарьиных, хоть и жадны они не в меру, можно все-таки положиться – любого порвут, кто к детишкам царским приблизится!
– А не они ли, Адашевы и Сильвестр, упросили тебя дать передышку ливонцам, а? – вопрошал меж тем Данила. – Задави мы ливонцев одним махом, не дай им послов разослать по врагам нашим исконным – разве точили бы сейчас на нас зубы литовец и поляк со шведом? Ну, порезал младшой Адашев крымцев, поделом им, ну так большая ли в том победа? Отец-то твой, Василий III, при Менгли-Гирее дружил, небось, с крымцами, да и горя не знал. А теперь вот жди от крымского хана очередной весточки! Каширу уже разделали, а дальше что? Встретили бы мы его во всеоружии, а теперь разве что на запад и осталось глядеть, абы новой беды не проворонить. А за крымцами султан турецкий стоит, главный враг веры Христовой! – И тут знал старший брат покойной царицы Анастасии, на какую мозоль давить царю. – А ведь мы-то упреждали: коли взялись давить ливонца, так надобно до победного конца его довести, не давая ордену передыху, – продолжал он «радеть» о государстве русском. – Проткнул змея, так подожди, когда он издохнет! А теперь вон сколько коршунов налетело: со всех сторон тянутся, точно уж и не живы мы!
– Типун тебе на язык, дурак! – рявкнул на шурина Иоанн. – Ишь, понесло тебя, окаянного!
– Прогневил, батюшка, тебя речами своими, прости покорно, – тотчас склонил голову Данила. Вздохнул тяжко: – Только, царь Иван Васильевич, надежда наша, задумайся: кому и по сей день служат Адашевы и те, что с ними? Тебе ли? Али иным каким хозяевам?..
В самое сердце попали слова шурина, больно ранив, отравив. Но царь и сам готов был отравиться. Сам хотел упасть смертельно раненным на землю, чтобы потом восстать. Но не прежним государем Иоанном Васильевичем, а новым – не знающим сомнений…
6
У Воротынских в тот день Григория приняли как родного. Пили в честь царя, Адашевых и Курбского. И в его, Григория Засекина, честь. Мария то ловила его взгляд, то, краснея, опускала глаза. Другие дочери – старшая Софья и младшая Катерина – смотрели на молодого воина с большим интересом, но уже знали верно: неспокойно сердечко их сестренки! Еще в начале вечера, едва увидев Марию, Григорий воспрянул духом, и горький осадок после встречи со Степаном Василевским сгинул, не оставив следа. Тем более что Воротынский был с ним по-отечески ласков – молодой князь ему и впрямь приглянулся! Но чем обходительнее был с ним царский вельможа, тем яснее звучали в памяти слова Степана: «Воротынский – один из самых богатых князей на земле Московской, а ты – беден… Он себе зятька из других искать будет!..»
– Надолго ли в Москву? – во время застолья, набравшись храбрости, спросила Мария.
В доме Воротынских младшим детям рта не затыкали, к тому же именно Марии, по всему было видно, отец дозволял многое.
Князь Воротынский кивком подтвердил вопрос дочери:
– Верно, Григорий, много ли тебе Алексей Федорович на отдых отпустил?
– Через три дня в Ливонию возвращаться, – ответил молодой князь. – Я ведь со своей тысячей прибыл, чтоб магистра по дороге не отбили. – Заметив, сколь поспешно опустила Мария взгляд и какими печальными стали ее глаза, вздохнул: – Тысяча моя князю Барбашину там нужнее: скоро новые баталии предстоят.
– Но ведь магистр-то в Москве уже! – требовательно воскликнула вдруг Софья, переглянувшись с юной молчуньей Катериной. – Отчего ж так несправедливо-то?
– Ишь, как ваш перстенек-то сверкает! – вторя ей, заметила жена Воротынского Елизавета. – Подарок за магистра – загляденье одно, право слово.
– Что верно, то верно – сверкает ярко, – согласился польщенный Григорий. – Да от царя-батюшки и перстенек из бересты сверкал бы. А что до магистра, – он взглянул на Софью, – так это ж я Вильгельма фон Фюрстенберга пленил, а у них нынче другой магистр. Еще один басурманин – Готгард фон Кетлер, союзник польский. С ним теперь разбираться надобно.
– Ах, Григорий Осипович, всех магистров ловить – жизни не хватит, – с грустью заметила Мария. – А всех басурман воевать – и ста жизней мало будет. Где же конец-то войне?
– На сей вопрос один только царь ответ знает, – важно ответил за молодого человека Михаил Воротынский.
– Прав ваш батюшка, Мария Михайловна, – кивнул Григорий. – Как нам скажут, там мы и должны поступать – на то мы и слуги царские.
– А вот перстень-то царский вы напрасно на правый, безымянный палец надели, – вновь вмешалась в беседу старшая Софья. – Этот палец для колечка обручального предназначен. А коли вы подарком за царскую службу его украсили – служить вам, значит, до конца дней своих!
– На все воля Божья, – сдержанно ответил Григорий.
Ужин подошел к концу – мясные и рыбные блюда сменили сладкие, но не показались они сладкими ни Григорию, ни Марии.
– Не знаю, увижу ли вас еще, Мария Михайловна, – когда после ужина выдалось им полминуты остаться наедине, сказал Григорий, – но знайте: я вас не забуду. Никогда не забуду!
– И я вас помнить буду, – ответила девушка. – Всегда… Как жалко, Григорий Осипович, что все так складывается, – торопливо проговорила она нетвердым голосом. – Ну да Господь милостив – убережет вас от врага! – В ее синих глазах уже блестели слезы. – А я молиться за вас буду. Прощайте, Григорий Осипович, и да хранит вас Бог!
Вот и все прощание. Набиваться в гости к Воротынским Засекин более не осмелился, да и со Степаном встречаться не стал. К тому же оказалось много хлопот с молодыми бойцами: тысяча новиков – уже не сотня! За всеми – глаз да глаз. Все должны были быть сыты, обуты и одеты, при оружии и тверезые, потому как тянуло зело молодых воинов на приключения. Тем более в столице – где и барышень было вдоволь, и вина горячего по корчмам да кабакам под хорошую закуску.
Ровно через три дня, строго по предписанию, вместе со своей тысячей Григорий выехал из Москвы по Можайской дороге на запад – в сторону Ливонии…
7
Спала, укрытая снегом, зимняя Москва. Не знала того, что рождается сейчас в Кремле. Какая скорлупа трескается уже тихо в натопленных хоромах царских и кто, показав хищный клюв, выглядывает из нее. Мерно трещали свечи в царской опочивальне – забыли потушить их. На столе лежали недоеденные яства, стояло много вина – горячего и фряжского, в кувшинах, бутылях и кубках. Заливал крепким зельем Иоанн свою беду – с новыми друзьями и без них – и заливал на славу! Оставив дворовую девку, с которой пытался забыть горе, в постели, нагой, царь сполз с ложа и подошел к зеркалу. Светлый худой силуэт выплывал из черноты в мутноватом стекле. Девка смотрела на государя из-за краешка одеяла – смотрела с любопытством и страхом, во все глаза, приоткрыв рот. Что-то будет, ох, будет! Поймав в зеркале взгляд дворовой, царь в гневе прищурил глаз.
– Закройся, дура! – окрикнул он ее.
Не поняв, что царь видит ее отражение, и оттого напугавшись еще больше, девка нырнула под одело.
– Тот-то, – бросил он. – И не дыши! Не дыши, удавлю…
Иоанн долго смотрелся в зеркало, разглядывая худое желтоватое лицо, по которому так и плыли золотисто-алые тени, черные глаза и брови, жидкую козлиную бороденку, худые, но сильные плечи, впалую грудь и выступающие ребра… Неожиданно взмахнул руками, заставив застыть их над головой. Теперь походил он на костистую птицу, что сделала первый взмах свой, желая взлететь. Затем стремительно опустил руки и вновь поднял их – и опять они застыли над его головой. Но руки, увы, не крылья… Так где же они, крыла его?! А ведь были, были! Чувствовал он их, когда любил и был любимым, искренне, без притворства, и когда друзьями себя окружал, в глаза их смотрел…
А теперь что?
Иоанн подошел к узкому окну, распахнул настежь. Холодный январский ветер ворвался в теплую спальню, ударил ледяным выдохом по пламени свечей, затушил половину.
– Отвращаюсь от вас, – не страшась холода, не чувствуя его, прошептал он. – Ото всех отвращаюсь! От жизни прежней, от сердца и души. Все новым станет, а потому бегите лучше, покуда живы!..
Отняли у него Анастасию – лишили одного крыла! Друзья, в верности клявшиеся, предали – еще одно крыло подбито. Ползать бы ему теперь всю оставшуюся жизнь – ан нет, не выйдет! Взрастит он новые крылья и взлетит – заново полетит! А они, эти крылья, прорастали уже за спиной его. По косточке, по перышку. Ангел, лица которого он не видел, сам ему их вручил! Первым его крылом станет гнев великий, а вторым – месть беспощадная! Так и полетит он на крылах новых! Бурю поднимет ими, ураган! И черный ветер над Москвой последует вслед за ним, царем русским, реющим над всей землей, черным шлейфом последует…
Иоанн не заметил, что неистово хлопает руками по воздуху, разгоняя подступающий холод, и хлопает все яростнее, ожесточеннее.
– Лечу! Лечу! – бешено смеясь, кричал он. – Черной птицей лечу, черной птицей! Смотри, дура, над Русью лечу, всех крылами накрою! Всех!
Он хохотал в голос, и смех его, уже вырвавшись на волю, летел над спящей, ночной, зимней Москвой. А под одеялом на царской постели тряслась и давилась слезами от страха дворовая девчонка, сбивчивым шепотом повторяя «Богородицу».
Новые приближенные царя сразу, наутро уже увидели в нем перемены: он и говорил, и смотрел теперь иначе, чем вчера.
Данила Захарьин-Юрьев хотел было чему-то поучить своего шурина, как это бывало прежде, когда царь мучился сомнениями, метался промеж чувствами недоверия и гнева, к коим волокли его свистуны и наушники, и проблесками случайной добродетели, знакомой ему по общению с Адашевем и Сильвестром. Но не тут-то было! Черная тень легла уже плотно, укрыла царя целиком, и он не нуждался более в советниках.
– Ты выйди из-за трона-то, когда с царем говоришь, – оборвал его Иоанн. – И встань передо мной, как холопу положено!
Данила вмиг сполз с древа, которое змеею уже привык обвивать, пулей вылетел пред царские очи и низко склонил голову.
– Кто я тебе, Данила? – грозно спросил Иоанн. – Кто я таков, что ты набрался наглости учить-поучать меня? Кто я таков всем вам – холопам моим?!
Умный и хитрый Захарьин-Юрьев тотчас скумекал, что к чему, поднял догадливые собачьи глаза на шурина.
– Ты – отец наш, истинный самодержец, помазанник Божий! Воистину так! И один только ты управляешь необъятной землею своею и нами, холопами твоими! Вижу я, вижу, Ванечка: открыл ты свои очи и зришь свободно на все свое царство!
– То-то же, Данила, – гнев милостиво оставил лицо Иоанна – нарочитая лесть пришлась впору. – Верно говоришь, открылись мои очи. И все свое царство вижу я отныне так, как и положено было видеть его ранее. И долго ждать себя в проявлении воли своей никого не заставлю! – Он вперился в лукавые глаза Данилы Романовича: – С тебя и начну, пожалуй… Не называй меня больше «Ванечкой», коли жить долго хочешь. А ты ведь, хитрец, сто лет прожить думаешь, верно?
Вздрогнул Захарьин-Юрьев от государева тона, каким сии слова были сказаны, и от ледяного взгляда его. Не шутил шурин. Не стращал понапрасну.
И уже вскоре Думе, а вслед за ней и Москве всей, стало ведомо: опала Адашева и Сильвестра малой мерой показалась царю, большего наказания он им желает! Весть понеслась дальше: и в Ливонию, в Дерпт, где воевода Алексей Федорович и без того лиха ожидал, и в Кирилло-Белозерский монастырь – к Сильвестру, отбывавшему царскую немилость в молитвах.
– Не хочу, точно тать, с ножом красться к тем, кто раньше служил мне, – поделился Иоанн со своими приближенными.
Как со старыми, вроде Захарьиных-Юрьевых и Алексея Басманова, так и с новоиспеченными: сыном последнего Федором, коего по просьбе отца приблизил к себе и назначил кравчим, другом Федора Василием Грязным – тоже совсем еще молодым, но удалым, что касалось кутежей и оргий, человеком, и родовитым князем Афанасием Вяземским.
Москва полнилась слухами, что близится суд над бывшими друзьями царевыми и членами Ближней думы, – о них и упоминать уже было страшно. Адашев, правда, подозревал, что его ударила только первая волна царского гнева, и теперь не без оснований ждал вторую.
«Разреши мне, великий государь, увидеться с тобой, – лично писал Иоанну Адашев. – Знаю, что винят меня в смерти царицы твоей Анастасии, но нет той вины на мне! Дозволь же явиться в Москву и самому открыться сердцем, как бывало прежде, оправдаться пред тобой, снять с себя наветы и обвинения!»
Когда писал эти строки, искренне верил, что они помогут: вызовет государь слугу своего в столицу, выслушает и – поймет, простит, накажет обвинителей.
Сильвестр же подобных надежд не лелеял. Он видел, что царь преобразился, и преображение это было страшным. Только вот о необратимости сего преображения он пока не знал. А и знал бы – не захотел бы поверить.
«Хочешь невинных во всех грехах обвинить? – с гневом диктовал он послание царю из Кирилло-Белозерского монастыря, и юный послушник, вооруженный пером, дрожал от ужаса, глядя на выводимые своей худенькой рукой строки. – Мало тебе того, что любящих тебя унизил и отверг? Добить желаешь? Так знай: приму, все приму от тебя!»
Иные впадают в безумие, а потом приходят в себя и устрашаются дел своих. Тут же все наоборот случилось. Безумным давно был государь, и «прозрение» его оказалось лишь вспышкой перед окончательным помрачением сознания. Не хотел этого понять Сильвестр, но судьба отпустила ему на то время.
Прознав, что обвиняемые просят у государя дозволения прибыть ко двору и самим замолвить за себя слово, главные судьи – Захарьины-Юрьевы, Басмановы и прочие – заговорили наперебой:
– Государь, на коленях просим тебя: не дозволяй им того! Точно ядовитые василиски оплетут они тебя, как и прежде, льстивыми речами усыпят сознание твое, сердце отравят ядом – заслушаешься ты их, окаянных! Честные обвинители – Беский и Сукин – уста сомкнут и сказать супротив не найдут уже силы! А еще и хуже того может случиться: одурманят Адашев и Сильвестр войска твои и народ твой, и мятеж поднимут! И ты знаешь, кого они приветят, кого напророчат на твое-то место! Давний умысел у них!
И оказал сей аргумент на царя решающее действие: приказал он вести суд над обвиняемыми заочно. Посему уже скоро в Думе – перед боярами, князьями и духовными иерархами – выступили с гневными речами «честные обвинители» Вассиан Беский и Мусаил Сукин. И фамилии-то были у них под стать речам их! Один обвинял Сильвестра, другой – Адашева. Достаточным оказалось для царя их обвинение, а аристократы и священники готовы были всему поверить, лишь бы государя не прогневать. А кто и не верил – все одно молчал…
«Отвращаюсь от вас, ото всех отвращаюсь! – слушая обвинителей, думал Иоанн, и глаза его горели темным жестоким огнем. – От жизни прежней, от сердца и души своей прежней отвращаюсь. Но берегитесь! Убежать не успеете ужо! В сетях вы моих!..»
А потом и царь речь свою держал. Поднялся, простер руку с перстнями над головами вельмож покорных, сжал кулак так, что косточки хрустнули и суставы побелели.
– Только ради спасения души моей приблизил я иерея Сильвестра, надеялся, что по сану своему и разуму станет сподвижником моим. Но о мирской власти мечтал он! Сдружился лицемер этот, обольстивший меня сладкоречием своим, с Адашевым – ради того лишь, чтобы управлять царством моим, меня же, как государя своего, презрев при том. Дух своевольства они вселили в бояр, города и волости раздали приспешникам своим, кого хотели, того в Думу сажали, все места заняли своими угодниками. Я же годы долгие был невольником на троне отеческом! Могу ли описать теперь пред вами стыд и унижения, кои претерпел от них? А коли я что супротив их воли делал, так Сильвестр меня, юношу, детскими страшилами пугал, вселяя в душу мою ужас. По святым местам ездить не давали, немцев карать запрещали! Но к сим беззакониям еще и измена присовокупилась: когда я страдал от тяжкой болезни, забыв верность и клятву, в упоении самовластия хотели, мимо сына моего, другого царя себе взять! Царицу мою Анастасию злословили, а князя Владимира Андреевича, напротив, нахваливали!
Никто и не вспомнил, пока царь говорил, что Алексей Адашев со слезами на глазах присягал сыну своего государя. Да и зачем, когда сам Иоанн забыл о том?! Одного остерегся царь: обвинить протопопа и окольничего в смерти царицы – не было тому достойных свидетельств, кроме наушничаний Захарьиных-Юрьевых. Однако сути это не меняло: царь принял обвинения. Дело было за приговором. И тут бояре, что ненавидели Адашева и Сильвестра, наперебой закричали: «Смерть изменникам! Опала и смерть!» А сторонники и без того уже опальных государевых слуг, опустив глаза, так и молчали, за жизни свои опасаясь.
«Смерть! Смерть! Смерть! – лаем носилось по думной зале. – Кара государева!»
Один лишь митрополит Макарий решился сказать слово в защиту ложно обвиненных мужей, с которыми он сам творил историю Руси, – высокий сан позволял.
– Государь, – промолвил первосвященник, – негоже так вот казнить людей, не по-христиански это! Надобно призвать их и выслушать – каждый имеет право на защиту! Ведь и Господь меряет души человеческие, кладя на весы все дела их – и добрые, и злые. Неужто в угоду одной чаше нам стоит забыть о другой?
Бояре, в первую очередь Воротынский, Курлятев и Шереметев, осмелев, поддержали митрополита, встали на защиту Адашева и Сильвестра. Но голосов злопыхателей и клеветников вышло не в пример больше.
«Презренные люди, осуждаемые таким великомудрым и милостивым государем, как наш Иоанн Васильевич, не смогут представить никакого законного оправдания, а токмо разве что оскорбительную ложь! – заявили они. – Их присутствие на суде опасно, а козни, на которые они способны, так и вовсе губительны! Спокойствие царя и отечества требуют немедленного приговора!»
И вердикт был вынесен: виновны!
Но царь Иоанн Васильевич еще не решался полностью расправить свои новые крылья – не пришло еще время. И потому Алексея Адашева велено было арестовать и переправить в Дерпт, где и поместить в темницу, а протопопа Сильвестра – перевести из Кирилло-Белозерского монастыря в далекий Соловецкий, мрачный и холодный.
Предупреждать о царевом решении протопопа Сильвестра смысла не имело – старик никуда бы не уехал, а вот к Адашеву в Ливонию помчались нарочные – нашлись смельчаки. На сутки они опередили государевых слуг.
– Бегите, Алексей Федорович, – уже через неделю, пролетев полторы тысячи верст, возвестил гонец. – Бегите в Ливонию или Польшу! Царь не просто гневится – гибели вашей ищет!
Но Алексей Адашев, побледнев только, поблагодарил гонца, отпустил его и стал ждать.
– Беги, Алексей, – посоветовал и Андрей Курбский. – Царь не в себе от смерти Анастасии. Ждали мы этого. Будут казни. Беги!
Но куда ему было бежать: к своим врагам-ливонцам, которых бил нещадно? Или к полякам? Ну, взяли бы они его, приняли. Может, и наградили бы. Но даже если так, не смог бы он! Не посмел бы. Это значило – перечеркнуть всю свою жизнь. Все, что он сделал ради Руси. Перечеркнуть жизнь всех потомков своих: нынешних – погубить, будущих – опозорить.
– Нет, Андрей, – сказал он Курбскому. – Честь – она дороже.
А спустя часы прибыли и гонцы государевы, передали князю Мстиславскому послание: Алексея Адашева арестовать, переправить в Дерпт и посадить под замок до следующих распоряжений из Москвы. Алексей Федорович принял своих тюремщиков смиренно. Отдал саблю, понимая: расстается с ней уже навсегда.
…Конный отряд человек в двести рысью направлялся из Эрмеса в Феллин. На полях таял снег, копыта лошадей глубоко уходили в подтаявшую землю, чавкали и хлюпали. Отряд возглавляли Данила Адашев и Григорий Засекин – это его пара сотен конных дворян сопровождали полководца. Был с ними и ординарец Данилы Петр Бортников.
– Пока снег не сошел, ливонца и дальше воевать будем, – кивнул своим офицерам Адашев. – По морозцу – они этого не любят! На Леапь пойдем, на Лоде, на Гапсаль, эти крепости стоят и нас дожидаются. Выкурим басурман! А потом и на запад – по Курляндии с саблями прогуляемся!
Григорий и Петр были веселы: мягкая зима, новые битвы, опасность, без которой и жизнь не мила, – все это будоражило молодую кровь, заставляло дышать глубоко и легко.
Из-за плотного соснового леса, мимо которого они ехали, показался небольшой конный отряд – человек в пятьдесят. Свои? Они, русские. На полминуты сбавив ход, приглядываясь, отряд поскакал к ним той же рысью.
– Из Феллина будут? – кинув взгляд на Григория, спросил Петр.
– Конные стрельцы, – откликнулся тот, – а там кто ж их знает. Все может быть.
Два отряда сблизились на опушке. Командир отряда, низкорослый и широкоплечий, похожий на медведя-маломерка, в парчовом кафтане и алой шапке, смотрел на них сурово и повелительно.
– Кто такие? – вопросил Адашев.
Тут только разглядел Григорий в одном из конников, сопровождавших командира небольшого отряда, ординарца князя Мстиславского. Глаза его бегали. А потом узнал и самогó командира – низкорослого, но глядевшего так, точно именно он и был хозяином всей Ливонии. Вспомнил Григорий, что видел этого дворянина в свите Алексея Басманова в Москве, по правую руку от боярина, в тот самый день, когда получил в награду от царя перстень.
– Данила Адашев? – спросил тот, глядя на их командира.
– Он самый, – кивнул полководец. – А вы кто?
– Скуратов-Бельский, – с усмешкой ответил медведь-маломерок. – Вот вам царская грамота, читайте! – И он протянул Даниле Федоровичу свиток.
Адашев принял грамоту. Григорий не сводил глаз и со свитка, и с лица своего командира. Он увидел, как побледнел Данила, стоило его глазам пронестись по строкам, как дрогнула вдруг рука ничего не боявшегося победителя татар и ливонцев.
– Арестовать? За что? – очень тихо проговорил он.
– Царь знает, за что, – усмехнулся Скуратов-Бельский. – Отдавай саблю, поедешь с нами!
Но Данила все еще не верил, что это и впрямь царский указ, а не дьявольская уловка. Среди конных дворян пошел шепоток. Рука Петра легла на эфес сабли. Григорий готов был сделать то же самое. Но Адашев опередил их – дал отмашку.
– Засекин, сам доведешь людей до Феллина, об обстановке на ливонской стороне доложишь князю Барбашину подробно.
– Исполню, – кивнул Григорий, хотя меньше всего ему хотелось думать сейчас о неспокойной Ливонии.
– Да неужто правда, что по цареву указу? – не выдержал Петр. – Напутали они, Данила Федорович, как есть напутали!
Адашев и его остановил движением руки:
– Не суетись, Петр! – Мысли его путались, взгляд так и тянулся в сторону, где осталась свобода.
– Данила Федорович, – не зная, что предпринять, вновь окликнул его Петр, – прочитайте ж еще раз! Может, ошибка?
– Кто таков? – окликнул Скуратов-Бельский беспокойного воина. – Отвечай!
– Ординарец, дворянин Петр Бортников.
Данила Адашев взглянул на Григория и Петра.
– Поеду с ними, – сказал он. – Так надо.
– И я с вами, Данила Федорович! – почти с вызовом заявил Петр.
– Ты останешься, – одернул его Данила. – Приказываю!
– Довольно приказывать! – разозлился государев посланец. – Ты, ординарец, как там тебя… Бортников, – обратился он к Петру, – сам напросился: с нами поедешь!
Адашев взглянул на своего тысяцкого, поймал его тревожный взгляд.
– Я уверен, Григорий: скоро все выяснится.
– Выяснится, выяснится, – ухмыльнулся Скуратов-Бельский. – А теперь – саблю! И ты… ординарец!
Данила молча вытащил боевой клинок, протянул. Тот, перехватив оружие за лезвие, передал его одному из помощников. Отдал свою саблю и Петр.
– Куда повезете? – только и спросил Данила.
– Куда надобно, туда и повезем, – ответил Скуратов-Бельский. – Кинжалы тоже – они вам больше не понадобятся. И нам спокойнее, – добавил он. – Кто знает, что у вас на уме? Дорога-то дальняя!..
Данила Адашев и его ординарец, не говоря ни слова, отдали и кинжалы.
– А теперь следуйте за нами! – бросил арестованным офицерам царский посланец. И тотчас приказал своим стрельцам: – Обступить обоих! Выйдут из строя, вас плетьми накажу! А коли вы в сторону подадитесь, – обернулся он к Адашеву и Бортникову, – самолично зарублю! Вперед! – дернул он за уздечку, ткнул шпорами высоко по лошадиным бокам – ноги-то были коротковаты. – Пошла! Пошла!
Так и остался Григорий Засекин с двумя сотнями своих бойцов на опушке весеннего леса, в таявшем снегу, провожать взглядом Данилу Адашева и Петра Бортникова. «Фамилию Адашевых при дворе громко не называй», – вспомнил он слова Степана Василевского. Напророчил точно.
– Ну и дела, – сказал кто-то за спиной Григория. – Ох, недобрые дела!..
Верно: недобрые, злые. Молчком и с тоской, больно сжимавшей сердце, провожал Засекин глазами своего командира…
…Для всей русской армии весть об аресте братьев Адашевых показалась поначалу неправдоподобной. Поверили лишь те, кто видели, как и старшего Адашева вывозили из Феллина со связанными руками. В Дерпт братьев доставили почти одновременно – в колодках, точно последних татей и душегубов. Вчерашние герои – гроза Ливонского ордена и покорители ее городов, защитники земли русской от казанцев, крымцев и турок, – в темнице ожидали итога судьбы своей.
Их злой судьбе подыграли политические события того же года, перекроившие карту Европы.
Готгард Кетлер, новый магистр ордена, понимая всю несостоятельность Ливонии в борьбе с таким мощным государством, как Московская Русь, в 1561 году официально распустил своих рыцарей. Он поступил точно так же, как поступил тридцать пять лет назад последний гроссмейстер Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн, создав с помощью папы Римского на землях своего государства герцогство Пруссию. Воинственные тевтонцы угомонились вовремя, оставив за собой огромную территорию в центральной Европе. Правда, в отличие от Альбрехта Гогенцоллерна, всему ордену помочь так и не смог – только самому себе и самому близкому своему окружению.
С соизволения фон Кетлера львиная доля земель ордена отошла четырем европейским государствам: север Ливонии – шведам и датчанам, центр – Литве, юго-восток – Польше. И все это уже не в залог и не в протекторат, а на веки вечные. За столь щедрый подарок Кетлеру удалось выхлопотать себе небольшую часть уже бывшего ордена – Курляндию, на чьей земле он и воцарился. С герцогским титулом, утвержденным папой Римским и признанным императором Священной римской империи, и всеми династическими привилегиями.
Худшей мести для Москвы и придумать было невозможно! Ослабевший рыцарский орден исчез с политической карты Европы, но взамен Русь оказалась лицом к лицу сразу с несколькими могущественными врагами, которые уже готовы были с утроенной прытью ливонцев отстаивать их цели. А они были все те же: не допустить московитов к Северному морю для широкой торговли с Англией и другими отдаленными государствами, а также вернуть завоеванные русскими ливонские города. Московскому царству пришлось срочно готовиться к новой и долгой войне, а потому нужен был кто-то, на кого можно было свалить все нынешние и грядущие беды. Этим человеком и стал Алексей Адашев – бывший руководитель бывшей Ближней царевой думы, отвечавшей за внешнюю и внутреннюю политику страны.
– Знал я: пожалею однажды, что связался с ним! – возлегая на парчовых подушках, говорил похмельный Иоанн таким же похмельным прихлебателям и наушникам, едва продравшим после затянувшегося пира глаза. – Знал, что каяться буду. Все знал, но поделать ничего не мог по юности. Теперь же – другое дело!
Говорил он это, не скрывая радости, потому как чувствовал пока еще вину перед другом своим Алексеем Адашевым, однако размывала уже вину эту волна гнева: ошибки Ближней думы на «ливонском фронте» были очевидны. И потому расплата за них казалась желанной, уже готовой вылиться в кровавую месть.
Слугами, внимавшими царю, были люди его нового круга, весьма отличного от прежнего, – братья Захарьины-Юрьевы, отец и сын Басмановы. Последние по влиянию при дворе уже вовсю соперничали с Данилой и Никитой – к великому неудовольствию самих шурьев царевых. Но куда деваться? – полюбил их Иванушка. И жестокого хитреца Алексея Басманова, и сына его разгульного Федьку, бабника-сластолюбца да кравчего в придачу, что без зазрения совести подыскивал горевавшему царю-вдовцу девок молодых и вина подливал с избытком. Даже им, Захарьиным-Юрьевым, о таком напоре на царя не мечталось. Были тут и юнец Василий Грязной, собутыльник Федьки Басманова и соратник в его распутствах, и молодой князь Афанасий Вяземский, тоже дюже охочий до всяческих земных удовольствий.
– Повелеваю, – допив горячее вино из золотого кубка, грозно проговорил царь, – привезти Алешку Адашева в Москву – пришло время ответить за свои дела! Слышь, Федька? – прищурил он глаз на Басманова-младшего. – И плесни мне еще винца огненного – али забыл, что царев кравчий? А ты, Вася, – кивнул он Грязному, – писаря кликни. – Иоанн недобро усмехнулся: – Грозную грамоту диктовать буду.
…Когда в каземат, где держали самого главного русского пленника, открыли дверь, узник даже не пошевелился – сил не было ни смотреть, ни чувствовать, ни жить.
– Куда ж его везти, коль он отходит уже? – сказал кто-то. – Мы и за ворота Юрьева живым его не вытянем, не то что до Москвы! Как быть-то?
– Да так и скажем Степану Захаровичу: преставился, мол, подлец, и все тут.
Лишь теперь до сознания пленника дошло, кто эти люди и чего им от него надобно.
– Жив я, жив, – простонал он.
– Аль шепчет чего-то? – проговорил первый тюремщик.
– Кается, – с усмешкой отозвался второй, жаром факела опалив лицо пленника. – Может, водицы ему?
– Кликни прислугу, пущай принесут!
Пленный, лежавший на деревянных досках и соломенном тюфяке в холодном подземном каземате, с трудом разомкнул веки.
– Царю скажите, верен я ему был, – прошептал он. – Ни в чем не согрешил перед ним…
Это были последние слова Алексея Федоровича Адашева. В конце января 1561 года скончался в темнице Дерпта – русского города Юрьева – бывший царский окольничий и постельничий, хранитель Иоанновой печати, выдающийся государственный муж и реформатор, которым мог гордиться его так жадно искавший нового миропорядка век.
8
– Григорий Осипович! – Засекин почувствовал, что кто-то настойчиво теребит его за плечо. – Григорий Осипович! Проснитесь же, проснитесь!
Он открыл глаза, рывком сел на постели. Все ему мерещился ливонский меч лиходея Карла фон Штадена, так и норовивший ужалить. Как в ту ночь, когда он столкнулся с засадой немецких наемников.
Перед ним стоял ординарец Пантелей.
– Чего тебе? – сонно спросил Григорий.
– К вам гонец от князя Барбашина. Предписание: вскрыть немедленно!
– Зови!
Пантелей скрылся в дверях. Григорий стал натягивать сапоги. Его тысяча была расквартирована в небольшом замке в предместьях Дерпта, взятом в прошлом году. Были тут еще и казаки, и стрельцы. Одним словом, боевой гарнизон. Все ждали нового сбора войск – предстояло идти на запад. Сам Григорий жил в каменном доме богатенького ливонского бюргера, сбежавшего аккурат перед очередным наступлением русских.
Гонца Василия Ивановича Барбашина Засекин знал хорошо – то был княжеский ординарец по особо важным поручениям. Уже одно это заставило Григория внутренне собраться: несомненно, командир дворянской конницы готовит войска для битвы. Григорий принял свиток, сорвал печать. Пантелей поднес поближе масляный светильник.
– Смотри не подпали, не то… – предостерег ординарца командир, проглядывая первые строки.
Григорий не договорил. Новой баталии не намечалось. От него требовали другого.
«Приказываю тысяцкому князю Засекину с вверенными ему людьми неотлагательно проследовать в Дерпт и поступить в распоряжение…»
Вот тут Григорий и осекся.
– Свети же, не бойся! – прикрикнул он на Пантелея.
Тот с опаской вновь приблизил светильник, пламя томительно заколебалось, бросая неровный свет на бумагу.
Григорий перечитал послание еще раз, подпись стояла верная: «Князь Василий Барбашин». Взглянул вопросительно на гонца, но тот вряд ли что мог знать о столь важном поручении.
– Собирайся, – приказал ординарцу Григорий. – И сотенных позови – из первой сотни, третьей и пятой. Через час выходим. Передай князю, – обратился он к гонцу Барбашина, – все будет исполнено.
…Ночью с тремя сотнями бойцов – из самых проверенных, уже побывавших в сражениях, – он выехал в сторону Дерпта. К рассвету увидели стены города, которые с недавнего времени были Григорию ненавистны: слава русского оружия меркла на фоне чудовищной несправедливости по отношению к братьям Адашевым. Перед всадниками опустили мост, они въехали в ворота.
Григория провели в хорошо охраняемую снаружи залу и оставили там ждать. Прошло с четверть часа, когда двери наконец открылись – Григорий обернулся на шум. Вошедший, в дорогом кроваво-алом кафтане, уже закрывал за собой высокие резные створки. Как видно, он и гость должны были остаться наедине.
– Ну здравствуй, тысяцкий, – сказал хозяин и двинулся ему навстречу.
В сером утреннем свете, проникающем в высокие арочные окна длинной залы, все яснее выплывало лицо Степана Василевского – рыжее и холодное. Наконец он остановился в двух шагах от Засекина.
– Вот и вновь свиделись, – сказал Степан.
– Стало быть, так, – ответил Григорий.
И тотчас – уже в сотый раз за эту ночь и утро – всплыли в памяти заключительные строки Барбашинского послания: «…поступить в распоряжение государеву человеку и окольничему боярина Алексея Басманова Степану Василевскому». Не мог он еще сутки назад даже предугадать такого!
– Как видишь, Гриша, и кровь необязательно иметь знатную, чтобы князьями командовать, и саблей ливонцев и татар год за годом рубить сотнями. А всего-то надо быть верным слугой царю. Говорил я тебе, а ты не верил!
– Теперь верю, – сказал Григорий. – Что же за поручение такое важное, коли ты сам из Москвы по требованию государя прибыл и меня в оборот берешь? – спросил Григорий.
– В оборот? – усмехнулся Степан. – Эка ты загнул! Когда мы кого-то в оборот берем – худо тому бывает.
– Так что за дело? – пропустив мимо ушей последние слова, повторил вопрос Григорий.
– Да не спеши ты, не спеши, – вальяжно изрек Степан. – Хотя, впрочем, почему б и не сказать сразу?.. Скажу, так и быть, чтоб не волновался лишнего. Так вот, осенью Григорий Скуратов-Бельский, мой старший товарищ, Басмановский воевода, двух известных тебе людей взял. Тех, что за царевых слуг себя выдавали. Один из них в темнице вчера помер, другой… жив еще.
– Кто умер? – шагнул вперед Григорий.
– Стой, где стоишь, – оборвал его Степан. – Алексей Федорович Адашев преставился. Какое уж там царствие ему – небесное или иное – не знаю. Зато знаю другое: велено мне Алексеем Басмановым, по приказу царя, второго Адашева с его подручными, а такие в подземелье тоже есть, в Москву доставить. Стало быть, исполнять волю государеву выпало мне. Но у меня сотня бойцов всего, а этого маловато. Потому-то я и попросил Василия Барбашина дать мне хорошего сопроводителя – тысяцкого Засекина.
– Но почему меня?! – сделал еще один шаг вперед Григорий.
– Да потому что тебе не впервой уже врагов государевых в Москву доставлять.
– Так по-твоему что, Данила Адашев – враг государев?!
– А как иначе, коли сам государь так сказал? – теперь уже Степан шагнул на друга. – А ты – холоп его, и потому слушаться должен! Клятву давал?
Григорий опустил глаза:
– Давал, Степа. Только Данила Федорович не враг государев – он герой отечества нашего! – Засекин твердо взглянул на Василевского. – И тебе это лучше многих известно.
– Мне известно только то, что царем приказано! Все остальное неважно, так что покончим на этом, – взъерошился Василевский. – Трех сотен тебе хватит, чтобы доставить Данилу и людей его в Москву?
Григорий горько усмехнулся:
– Хватит, Степан Захарович.
– Так и порешим: выезжаем нынче в полдень. Когда готов будешь, найдешь меня. Я же – так хоть сейчас готов в дорогу. Не по сердцу мне ваша Ливония, – с вызовом добавил Василевский, – Москву первопрестольную, царскую люблю!
Через несколько часов из казематов вывели Данилу Адашева, его служилую родню и ординарца Петра Бортникова. Изрядно исхудавшие, беспомощно щурились они с отвычки на холодный зимний свет. Крепостные башни Дерпта, не так давно восстановленные после бомбардировки, серыми колоннами уходили в февральское небо. Заключенные растирали затекшие руки. Кафтаны их обносились, поблекли. Колодки с Данилы и его товарищей сняли.
Григорий подъехал не сразу – сердце сжалось и слезы навернулись от обиды, когда он встретился взглядом с Адашевым.
Данила устало подмигнул тысяцкому:
– Стало быть, ты меня к государю повезешь?
– Он повезет, – кивнул Засекин на Василевского, который, сидя на холеном гнедом красавце-жеребце, бесстрастно смотрел на опального полководца. – Я только охранять буду. – И тотчас глянул на Петра: – Как ты? Отощал!..
– Были б кости, а мясо нарастет, – Петр улыбнулся другу. – Хотя, что скрывать, бывало и лучше. – И тут же, точно вспомнив о чем-то, забегал глазами по своим тюремщикам. – Доброго вам денечка, Степан Захарович! – ослабшим голосом, но постаравшись как можно громче, крикнул он бывшего соратнику и другу. – Как живете-можете?
– Милостью Божьей живу и могу! – ответит тот.
Люди Василевского неодобрительно глядели на разговорчивого преступника. Но Петр, кажется, и под саблю готов был лечь, лишь бы сцепиться со Степаном. С презрением он теперь смотрел на него: тот был для него не только палачом – предателем!
– Ну так и впредь не хворайте, Степан Захарович! Пусть до поры здоровьечко-то крепнет!
– И вам не хворать, Петр Иванович, – разом став злым, огрызнулся Василевский. – И хватит болтовни – дорога длинная, а жизнь короткая. Это всех касается. Ехать пора!
Везти заключенных, как и положено, в телеге, не стали. Дали коней – так они быстрее могли добраться до Москвы. Когда Засекин поравнялся с Адашевым, похлопавшим лошадь по крепкой шее, Данила поднял на него глаза, спросил:
– А что брат мой?
Григорий с горечью покачал головой, опустил глаза.
– Говори, что?!
– Умер пару дней назад Алексей Федорович, – негромко ответил Григорий, – говорят, от холода и голода умер. – Взглянул искоса на Данилу: – Не сдюжил заключения.
– О Господи, – прошептал младший Адашев. – Как же так? Как же так…
– Царствие ему небесное, – еще тише проговорил Григорий.
– Оно его, царствие небесное, – тихо, но твердо произнес Данила. – А вот Иоанну его не видать! Не видать…
Григорий обернулся: не слышит ли кто их разговора?
Адашев понял, кивнул:
– Прости, голубчик, прости.
Бойцы Засекина, многие из которых служили еще Даниле Адашеву и помнили боевые лета, тоже косо глядели на «государевых людей», так запросто превративших бывшего их командира, отважного героя, в преступника. Многие с гневом поглядывали и на Степана Василевского. Но к гневу примешивалась опаска – этот Басмановский выскочка, уже знали все, любого мог наказать, заслонившись именем государя. И на кого Степан пытливо поднимал взгляд, словно оценивая, чего стоит сей боец, тот молодой дворянин сразу же опускал глаза – от греха подальше.
– В оба за ними смотри, Григорий Осипович, – кивнув на Данилу и его родню, приказал Василевский. – Головой отвечаешь!
Отряд выехал из ворот Дерпта, а уже скоро Василевский позвал к себе Григория и Петра.
– Не боишься, что сбегу? – зло спросил Бортников.
– Не боюсь, – ответил Степан, даже не обернувшись. – Лошадь под тобой худая – сам выбирал. А ежели и припустишь, так тебя Засекин нагонит и зарубит. – Теперь они поравнялись, и рыжий Василевский метнул веселый и холодный взгляд на изумленного Григория. – И с Данилой-то государь велел не слишком носиться, а уж с тобой, ординарцем его, и подавно! – добавил он.
Кони шли вперед скорой рысью, заметно оторвавшись от отряда.
– А коли не зарублю? – поинтересовался Григорий.
– Его место займешь, – кивнул Василевский на Петра.
– Ну, Степа, и сука же ты! – вырвалось у Бортникова.
Василевский только расхохотался в ответ.
– Называй, как знаешь, пока мы одни. А я ведь не просто так вас позвал. Ты вот что, Петр, поостынь, коли жизнь дорога. А главное, от Данилы открестись. Его в Москву везут, чтоб под суд отдать и казнить прилюдно, как отравителя жены государя нашего. И молчи, молчи! – с яростью обернулся он к товарищу. – Я такой же холоп государя, как и вы оба! Его воля – закон для всех нас! Данила Адашев – покойник, себя спасай! При Гришке говорю – специально его в свидетели взял, – о себе думай! А теперь возвращайся к нему и помалкивай. Все тебе сказал. Отъезжай с глаз долой!
Григорий ушам своим не верил – Данилу Адашева везли на казнь!
– Неужто не соврал? – спросил он у Василевского, когда Петр, чернее тучи, уже возвратился к осужденным.
– Истинный крест, – мрачно отозвался тот.
В начале весны они прибыли в Москву. Но казни не состоялось. Данилу Адашева спасла смерть родного брата. Страсть и ярость в душе Иоанна временно улеглись. Данила избежал даже тюрьмы, однако карьера легендарного полководца окончательно оборвалась, и о нем постарались поскорее забыть. Точно и не было никогда подвигов командира русской дворянской конницы… Иная страсть беспокоила сейчас душу царя – он готовился вновь идти под венец. В жены пророчили ему Кученей, дочь кабардинского князя Темрюка. А увидев на смотринах черные восточные глаза юной принцессы-мусульманки, и сам Иоанн воспылал пламенем.
Однако хотя Данила Федорович и был помилован, другие приближенные – сподвижники Алексея Адашева и Сильвестра, бывшие члены Ближней царевой думы – оказались изгоями.
Но один из этих людей молчать не пожелал. Михаил Иванович Воротынский, узнав о подробностях смерти Алексея Адашева, как тот загублен был в ледяном подвале Дерпта, не сдержал праведного гнева. Родовитый князь всегда был искренен и благочестив в своих поступках.
– Государь, – сказал он царю, – зачем же ты друга своего погубил? Ведь никто не любил тебя так, как Алексей! Как жить после этого будешь? Как в глаза станешь смотреть родне его? Как христианином, царем православным станешь называть себя и далее? Ты ведь демонами себя окружил…
Царь долго смотрел ему в глаза.
– Помнишь, князь, – процедил он после паузы, – как, повзрослев, сказал я вам, боярам своим, на советы и понукания господина своего гораздым, что не боюсь вас более? С тех пор много воды утекло. Но теперь иначе скажу: бойтесь вы меня! Трепещите предо мной! Цепенейте! Иначе – смерть вам! Лютая смерть!.. Спасибо скажи, князь, что говорим мы наедине, что лишних ушей нет меж нами… А теперь ступай прочь – не друг ты мне более. Не друг!
Уходя, бледный Михаил Воротынский уже сожалел о своей откровенности, не подозревая, насколько его опасения оправданны…
…В санях они летели по мартовскому снегу – у Покровского собора к Москве-реке, а там уже мимо деревянных теремов и церквушек. Звенели бубенцы тройки. Григорий и Мария тесно прижимались друг к другу. Мокрый снег лепил им в лицо, они кутались в шубы, смеялись.
– Машенька, Машенька! – шептал Григорий, склонившись близко-близко к щеке девушки, губами чувствуя ее ледяную мочку. – Люблю тебя! Люблю!
Почти каждый день, пользуясь отпущенным сроком отпуска, который зависел от Степана Василевского, стелившего мягко бывшему соратнику, Григорий навещал юную княжну.
– Я упрошу отца, и нам позволят венчаться раньше, – раскрасневшаяся, говорила она ему. – Вот увидишь, увидишь!
Едва оказавшись в Москве, Григорий набрался храбрости и открылся Михаилу Ивановичу Воротынскому. Он бы решился на этот шаг даже в том случае, если бы княжеская кровь – кровь Рюриковичей – не стала бы ему порукой. Но не только родство с великими князьями Москвы и других русских уделов придало ему смелости. Было и другое. Князь Воротынский уже не был такой важной фигурой при дворе, как во времена Ближней думы, а, напротив, разом оказался в тени. И теперь у него, Григория Засекина, появился шанс получить руку Машеньки, средней дочери, тем более что она и сама призналась отцу, что любит молодого князя. «Станешь воеводой, пусть хотя бы вторым и запасного полка, а старшенькая Софья выйдет замуж за князя Одоевского, который уже сделал ей предложение, отдам за тебя Машу, – сказал Григорию Михаил Иванович. – Хотел тебе еще наказать пару подвигов совершить, да пока и тех, о которых мне ведомо, для женитьбы на моей дочери предостаточно». Был бы заносчивым и жадным князь Воротынский, не слыхать бы Григорию таких речей. А князь и для дочки рассудительное слово нашел: «Человек по сердцу – половина венца. Будешь счастлива – и я буду счастлив!»
Оставалось ждать, ждать…
Разговаривая с князем Воротынским, не признался Григорий в том, что Степан Василевский уже не в первый раз предлагал ему уйти с военной службы и перейти на службу к Алексею Басманову. «Вытащу тебя из Ливонии – только слово скажи, – говорил ему Степан. – За год таким важным станешь, что сам князь будет тебя просить затюшкой его стать. А там и я, глядишь, на младшенькой их поженюсь – на Катюше, – прибавлял он. – Вот смеху-то будет!» А к Басманову тянулись, перед ним лебезили. И устрашались враги его! Этот вельможа, уже обходя при дворе самих Захарьиных-Юрьевых, люто ненавидел всех бывших царских фаворитов, наставников юности Иоанна. Не хотел Григорий расстраивать Воротынского, напоминать ему о Степане Василевском, бывшем его служилом холопе, нынче стремительно поднявшемся, опасаясь толкнуть князя к никчемным подозрениям.
– А вдруг Софья передумает? – лепетала ему на ухо Мария, а снег все летел им в лицо, слепляя ресницы и губы. – А вдруг ты воеводой не скоро станешь? Как тогда быть? Поговорю я с отцом, поговорю! Пусть обручат и благословят нас, а там и свадьба не за горами будет.
– Не тревожь его, – возражал Григорий, – не тревожь! И так все получится, все сложится. Знаешь, как говорят? Муж – голова, а жена – душа! А ты уже – душа моя! Вот как будем жить! Надеюсь, и моя голова тебе сгодится.
– И душа сгодится, и сердце, Гришенька!
Григорий выдернул из-под голов медвежий мех, накрыл обоих с головой и стал жадно целовать Марию в холодные алые щеки и горячие губы.
Сани летели, храпели кони, возница поддавал кнутом: «Давай, залетные! Куда, леший?! – бесстрашно окрикивал он зевак, зная, какого удальца и какую барышню везет. – В сторону, в сторону, бесовы души!» И зеваки разбегались, чтобы не попасть под копыта и полозья саней.
А Григорий и Маша не видели ничего, не слышали…
Неожиданный далекий вопль, похожий на крик раненого животного, заставил Григория очнуться, откинуть шубу. Синие глаза Марии были затуманены, с пеленой нежности, рот полуоткрыт. Но второй человеческий вопль заставил и ее прийти в себя.
– Что это? – встревожилась она.
А впереди уже была видна толпа, она оживленно качалась, двигалась.
– Гони туда! – крикнул вознице Григорий.
Сани едва не влетели в толпу, остановились рядом. Кто-то, ворча, расступился. Григорий и Мария увидел нагого старика – он стоял на коленях, прямо в снегу, и плакал. Затем отнял руки от изможденного лица, оглядел всех безумными глазами и точно плюнул в толпу:
– Пожнете правду, окаянные! Скоро пожнете! Недолго уже осталось! Хватит вам в грехах этот мир топить – на исходе ваше время! – И вдруг он увидел красивую барышню в санях, в дорогой шубе, и обнимавшего ее кавалера. – И вы пожнете! В крови утонете! Не сразу помирать будете – мучиться станете!
– Господи, что же он говорит такое? – пролепетала Мария. – За что?
– Тоже мне, Василий Блаженный выискался, – тихонько обронил возница. – Ишь, как распророчился! Если хотите, Григорий Осипович, я его кнутом проучу.
А все уже смотрели на них, радуясь, что гнев юродивого направлен в иное русло.
– Не трожь старика, – проговорил молодой князь. Вытащил из кошеля у пояса серебряную монету, бросил нищему в снег: – Возьми, помолись за нас с Марьей. Выпей, если надо.
Нагой старик поднял монету, но тут же бешено расхохотался, тряся мощами, всем иссохшим и синим от холода телом.
– Откупиться хочешь? Не выйдет! – хрипло выкрикнул он. – Платить станешь, дорого платить! И вся Русь платить будет – сторицей! За кровь невинных и хулу на Бога! В Христа вы веруете? – В сатану вы веруете! Ему служите! Имени его еще не знаете земного, а уже служите! Сами позвали Антихриста – он вас живьем жрать и станет! И тебя, – он ткнул пальцем в Григория, – и тебя! – направил палец на Марию, и та, спрятав лицо в рукаве шубы Григория, сдавленно зарыдала.
– Скажи спасибо, убогий, что добрый я нынче! – на этот раз ткнул в него пальцем Григорий. – Живи покуда! Трогай! – крикнул он извозчику.
– Ад уже перед вами разверстый! – кричал им вслед и бесновался на вытоптанной снежной дороге голый человек. – Пожрет он вас – без остатка пожрет!
– Да знаю я его, – когда сани уже уносились прочь, говорил возница Григорию. – Это ж Фома Замоскворецкий, все знают: слава Василия ему покоя не дает! Только государь Василия жаловал, а этот ему и даром не сдался! Правда, этот Фома, говорят, недавно одному князю беду напророчил, так сбылась та беда. – Он осекся, поняв, что сказал лишнее. Мария Воротынская и так не могла прийти в себя от увиденного и услышанного. – Но мало ли чего брешут, да и мало ли что одно к другому за просто так приходится…
– Маша, Машенька, – подняв ее голову, Григорий заглянул в синие заплаканные глаза девушки. – Стоит ли на каждого выжившего из ума внимание-то обращать?
– К беде это, Гришенька, – пока он целовал ее в губы, все повторяла она, – к великой беде!..
9
Прошло несколько дней после той прогулки по зимней Москве, после объятий и поцелуев, и если о чем думал Григорий, так только о том, что Маша права: не стоит тянуть, стоит ускорить их помолвку. С тем он и поехал к Воротынскому, но по дороге, неподалеку от дома Воротынских, его перехватили двое вооруженных всадников – в непривычных глазу черных кафтанах и шапках, при саблях и кинжалах. Он и раньше их приметил, еще в Замоскворечье, слишком черными они были, но не мог предположить, что двое похожих на тени всадников ехали именно за ним.
– Князь Засекин? – спросил один из них, с тонким шрамом на правой скуле.
Остановив коня, Григорий положил руку на эфес сабли. Точно охотились они за ним!
– Кто вы такие? – ответил он вопросом на вопрос.
Всадники переглянулись.
– Мы – слуги боярина Алексея Басманова, посланы вашим другом Степаном Захаровичем Василевским.
– И что надобно от меня Степану? – немного успокоившись, нахмурился Григорий. – Пора назад возвращаться, в Ливонию? Так что же нарочного Василевский не прислал? Почему следите за мной?
– Так велено было, – ответил тот, что со шрамом.
– Степаном?
– Да, Степаном Захаровичем. Но не о Ливонии речь. А следили мы за вами потому, что надобно было знать, куда вы путь держите. Не в дом ли князей Воротынских…
– А вам-то какое дело?
– Ваша правда, князь, то не наше дело, – ответил всадник. – А вот Степана Захаровича и вас это касается.
– А его какое?.. – гневно начал Григорий.
– Не стоит вам к Воротынским нынче ехать, – насупился всадник со шрамом. – Всех, кто нынче будет там, повязать могут и в острог направить.
– В острог?! – сдерживая коня, переспросил Григорий, оглянулся в сторону терема, от которого его отделяло несколько улиц. – Да что же случилось?!
– Государь осерчал на князя, серчает на всех, кого Воротынский своими друзьями считал, – ответил всадник в черном кафтане. – Не езжайте туда, князь, и с вами беда будет!
Но Григорий только сверкнул глазами, повернул коня, врезал по бокам шпорами:
– Пошел! Пошел!!
Мигом одолел он нужное расстояние, остановил коня у открытых настежь ворот княжеского дома. Какие-то мужики тащили из терема Воротынских сундуки, тут же были стрельцы и другие люди – как те двое, всадники в черных кафтанах и шапках, что преследовали его. Басмановские!
Григорий оглянулся – две знакомые тени остановились прямо за ним, спешились, перебросились несколькими словами с басмановцами. Выглядело так, точно они сопровождали Григория, а в доме этом было у Засекина неотложное дело.
Григорий стремительно влетел в ворота, бросился к дому. Один из стрельцов попытался остановить его, но он так взглянул на солдата, что тот отступил. Мысли Григория путались. Не знал он главного: что в тот самый день, когда они с Машей катались по Москве, князь Воротынский, узнав правду о смерти Алексея Адашева, был у царя. Михаил Иванович высказал Иоанну все, что наболело: о насильственной смерти их общего друга и о новых приближенных государя – лукавых, алчных и жестоких, которых назвал он в открытую «демонами».
Одна из юных служанок Воротынских, горько ревевшая за крыльцом дома, знавшая Григория, бросилась к нему.
– Батюшка князь, – упала она перед ним на колени, обхватив ноги Григория, – что ж это творится?! Забрали всех наших господ и увезли – далеко увезли!
– Да куда же, куда? – Засекин, подняв, тряхнул девицу. – Говори толком!
– Не знаю, не знаю! Утром нынче увезли! Слышала – от Москвы подальше! Всех увезли: и Михаила Ивановича, светлого князя нашего, и жену его, и дочерей наших родненьких, всех, всех! Назвали их врагами государевыми! А дом, сказали, отнимут! – И, отчаянно плача, она вновь бухнулась перед Григорием на колени – в рыхлый и раскисший мартовский снег. – Помереть теперь нам только и осталось…
Оставив девушку рыдать на снегу, Григорий бросился к воротам, где его поджидали двое всадников.
– Где в Замоскворечье дом Василевского, знаете? – спросил он.
– Знаем, – ответил всадник.
Через полчаса Григорий спрыгнул с коня у ворот роскошного дома. Минуя охрану – двух молодцов в черных кафтанах, при саблях, – вошел в двери. Двое, что показывали ему путь, вошли следом.
– Где хозяин? – спросил Григорий у дюжего бородатого мужика в белой косоворотке, подпоясанной широким красным поясом.
– Шубу снять желаете? – в свою очередь спросил тот.
– Степан дома? – переспросил Засекин.
Мужик взглянул вначале на саблю незваного гостя, затем посмотрел на тех, кто стоял за его плечом. Как видно, те положительно кивнули ему.
– Степан Захарович трапезничает, – ответил мужик. – Но шубу вы, господин, снимите и сабельку отдайте, тогда уж я вас и провожу.
– Оставь ты ему саблю! – услышал Григорий знакомый голос. – А коли князь в шубе желает по дому ходить, так пусть потеет!
– Прошу, – указал на двери дюжий мужик. – А сапожки-то бы сняли, пол замараете!
– Пошел вон, – рыкнул на него Григорий и направился внутрь покоев.
Степан Василевский трапезничал в светлой и просторной зале за длинным дубовым столом, покрытым расписной скатертью. От казана поднимался пар, остро пахло ухой. Стояли кувшин с вином и две чарки. Белый хлеб был нарезан широкими ломтями. Икорка была, блины, огурчики соленые, грибки.
– Знал, тысяцкий, что придешь, – сказал огненно-рыжий хозяин, откладывая деревянную ложку и утирая полотенцем губы, – даже чарку для тебя поставил. – Усмехнулся, оглядев гостя: – За стол тоже в шубе сядешь? И пить со мной в шубе будешь?
– Я за стол не сяду, – отрезал Григорий. – И пить с тобой не буду.
– Тогда обидишь, – прищурился Степан. – Зело обидишь, князь!
– Пусть!
За спиной Григория выросли охранники в черных кафтанах, но Василевский махнул им рукой: подите прочь, мол. Те ушли.
– Двери закрой, – приказал Степан заглянувшему мужику в белой косоворотке.
Тот послушно закрыл двери.
– А теперь, тысяцкий, скинь шубу и сядь, – повелительно проговорил Василевский. – Ты ведь поговорить пришел, не так ли?
Григорий расстегнул ремень, снял саблю, скинул полушубок, сел за стол. Степан сам налил ему вина в чарку, подал, Григорий осушил ее до дна.
– Доволен?
– Так-то лучше, – кивнул Степан.
– Куда повезли их?
Степан отломил кусочек белого хлеба, положил в рот.
– А зачем тебе – догнать хочешь? – прожевывая, спросил он.
– Так знаешь, куда Воротынских повезли, или я напрасно время теряю?
– Знаю. Куда всех опальных свозят.
– Так куда? – вперил в него тяжелый взгляд Григорий.
Было видно, что мысли его отчаянно путались, и он готов был совершить любую глупость.
– Далеко, Гриша, на Белоозеро.
– Но за что, за что?! – подался вперед князь.
Степан, отхлебнув квасу, пожал плечами:
– Говорят, дерзил твой Воротынский царю, за смерть Адашева корил. Да друзей царских, моих покровителей, дурными словами поносил. Вот за это. Так что сам виноват!
Григорий хотел было сказать: «Но так ведь это правда – и про Адашева, и про вельмож новых, этих наушников и лжецов!» Сдержался. Но о другом, даже головой закрутив, спросил:
– Но дочерей-то его за что взяли?! Они при чем?..
– Они – дочери его, родная кровь, стало быть, – как ни в чем не бывало, ответил Степан. – Надо было думать, что царю говорить, что вся его «правда» ближним отрыгнется! Теперь другим словоохотливым князьям и боярам уроком сия ссылка станет. – Он посмотрел в глаза Григорию: – Если живыми до Белоозера доберутся…
– Как так? – даже привстал Григорий.
– Да сядь ты, сядь, – приказал ему Василевский. Налил вина обоим. – Выпей, успокойся. Царь милостив, глядишь, и помилует. – Усмехнулся: – Когда-нибудь.
– Но как же помилует, а дом их? Черные люди оттуда уже и сундуки выносят!
– А дом царь у Воротынских отнял, – так же просто сказал Степан, отпивая вино из чарки. – Подчистую.
– Отнял?!
– Истинный крест, – кивнул Степан. – И не только дом. Терем княжеский государь, может случиться, Федьке Басманову пожалует. Ежели, конечно, Васька Грязной раньше туда не переедет. Дом-то у Воротынских хорош! Верно? Ты выпей еще вина-то, выпей – запей все то, что услышал.
Григорий взял чарку со стола, осушил залпом.
– Если дом отняли, стало быть, навсегда увозят, – глухо сказал он.
– Навсегда, не навсегда, а ты не вздумай ехать за ними. Разом могилу себе выкопаешь. Их с полсотни стрельцов везут – тебя и близко не пустят! Зарубят. Я тебя сегодня уберег: кабы не мои люди, тебя в доме Воротынских повязали бы – и в острог. А там – допрос: кто таков и что тебе надобно? Ох, труднее было бы назад тащить! Так что спасибо скажи Василевскому Степану, другу своему.
– Спасибо тебе, Степа, – поставив чарку, с усмешкой проговорил Григорий.
– А ты не скалься и не злобись: делаю, что могу. А про Марию забудь, забудь. Не вспоминай даже. Так вот оно бывает: вчера боялся, что не пара ей, а нынче бежать от нее надобно, как от огня! Сейчас всех, кто у Воротынских в чести был, трясти станут. Как грушевое дерево трясти! А тебя Михал Иваныч и впрямь жаловал. Стал бы зятем его, сейчас бы с ним, светлым князем, и дочками его на Белоозеро ехал. То ли в каменный мешок, за решетку, как Алексей Адашев, а то ли в монастырь, как Сильвестр, на хлеб, воду и молитву!
– Как в монастырь? – хмурясь, даже не понимая, что он только что услышал, спросил Григорий.
– А куда ж их девать? – усмехнулся Степан. – И князя, и женку, и дочек его? На постриг – и по кельям: молиться за царя и Русь святую! И за души свои грешные, княжеские, цареборческие, – добавил грозно и весело, точно давно ждал такого суда.
Григорий встал из-за стола, надел полушубок, сцепил на поясе широкий кожаный ремень.
– Да ты пыл-то уйми, – прикрикнул на него Степан. – Тебе завтра в Ливонию ехать. (Григорий разом обернулся.) И не смотри на меня так! Мое терпение тоже не безгранично. И власть пока не так велика. Остынь, пресветлый князь, коли здоровым в свой полк вернуться хочешь: как и прежде – тысяцким, а не калечным с дыбы – простым ратником! – Степан Василевский тоже поднялся, ткнул в уходящего пальцем с перстнем. – Завтра в полдень, князь, со своими людьми ты из Московских ворот на Можайскую дорогу выйдешь, а иначе будет – пеняй на себя!
Засекин вышел из дома Степана Василевского как раз в ту минуту, когда колокола московских церквей начали звонить к вечерне. Он полной грудью вдохнул холодный мартовский воздух, закрыв глаза, выдохнул. А серебряный перезвон уже шел над Москвой-рекой, рассыпался надо всей столицей, уходил дальше – за границы ее земли…
Времени у него оставалось немного – каждая минута была дорога. Но только на что могло хватить этого времени, этих бесценных минут? Обратиться бы в сокола, тогда бы еще они поглядели! А так…
Уже скоро, в казармах новиков, Григорий давал наставления своему ординарцу Пантелею:
– Найди моих сотников, всех трех, хоть из-под земли достань, и скажи, чтобы завтра к полудню людей своих из Москвы на Можайскую дорогу выводили, это приказ. Скажи, иначе Василевский их разжалует. Чтоб кровь из носу! Сегодня же меня не ищи – в Москве не буду. А станут искать, скажи, к полюбовнице завалился, а где и какая она – никто не знает. В секрете хозяин держит. А на Можайской дороге я завтра к полудню буду. Смотри, не подведи!
– Все исполню. Только куда же вы, Григорий Осипович? Вижу ведь, что не на потеху собрались…
– Дело у меня есть, – ответил он. – Важное дело. Нужное.
Он мчался по снежной дороге на север от Москвы. Леса и леса шли по обе стороны, санные следы так и секлись перед глазами. Потом стемнело. Ехали путники на санях и конные в обе стороны – из столицы и в нее. Торопились. Поглядывали на летевшего по Новгородской дороге воина, ничего не замечавшего, точно здесь он был один на весь целый свет! Только стремительным перебоем чавкали копыта его сильного коня в раскисшем снегу…
А конь его был накормлен, потому и силен. Сабля, кинжал и кистень – все в дороге сгодится! Не могли они далеко уйти! Князя охраняли стрельцы, а эти медлительны в седлах, самих же Воротынских по саням рассадили, потому волочился их поезд едва-едва, да и торопиться им нужды не было – навсегда увозили княжескую семью из Москвы! Только ночью не повезут их стрельцы по дорогам, по раскисшему снегу, по ямам и колдобинам: кто знает, куда можно въехать, где застрять! Остановятся на ночлег, непременно остановятся! Выехали ведь еще днем! Надо и лошадей накормить, и поесть, и передохнуть. Найдут деревеньку и заночуют там – с рассветом только тронутся!..
Уже было совсем темно, когда с факелами показались сани – они ехали навстречу Григорию.
– Эй! – грозно окрикнул он возницу, когда уже готов был поравняться с санями. – Стой! Стой!..
Те, проскочив вперед, остановились. Всадник подлетел к ним, врос в заснеженную дорогу.
– Мне нужно знать, не проезжали ли тут отряд стрельцов человек в пятьдесят и пара саней с ними? Говорите, видали?!
Возница и два седока из торговых людей вначале с опаской смотрели на встречного, но вскоре, в пламени факела, разглядели в молодом человеке военного, наверняка дворянина, что торопился по делам, может, государственным, а потому важным, и, значит, перечить ему не стоило.
– Как не проезжать, проезжал, – закивал возница в широкой расползающейся шапке. – Часа два назад их и видели. И сани были с ними, только не двое саней, а все пять, кажись. Верно? – обернулся он к седокам.
– Были сани, были, – кутаясь в шубы, торопливо закивали те.
– А барышни были с ними? – спросил дворянин.
– И барышни были. Плакали только, как разглядел я, – ответил острый на глаз возница. – Точно в полон их увозили.
Встречный кивнул ему:
– Бог в помощь! – и резанул шпорами коня по бокам: – Пошел! Пошел!
– И вам Бог в помощь, господин хороший! – крикнул ему вслед возница. – Стрельцы-то ваши к деревеньке ближайшей повернули, – и возница широко махнул рукой, показывая, куда повернул отряд. – Видать, на ночлег!
Вскоре Григорий уже знал, в каком селении остановились на ночлег отряд стрельцов и сани с пассажирами. Все ушли с дороги к селению Златоустье. Григорий сбавил ход, пошел рысью – теперь следовало быть осторожным, а не торопливым. Рассудительным, а не горячим, если он хочет, чтобы все у него вышло.
Григорий сразу понял, в каком доме расположили Воротынских, – его караулили стрельцы. Двое рубак с топорами мялись у красного крыльца. Много раз ходившему в разведку, умевшему подкрадываться к неприятелю близко и бесшумно, Григорию не составило труда как можно ближе подобраться к дому с пленниками. В окошках горел свет лампадок – там не спали. Говорили, верно. Или ждали кого-то? Коня он оставил неподалеку, но к дереву привязывать побоялся: если тут есть волки, то ненароком подкрадутся, зарежут его боевого друга! А так – убежит, скроется, ржанием позовет на помощь…
Он подошел к избе с тыльной стороны и едва не наткнулся на здоровенного третьего стрельца – тот справлял нужду в темноте. Когда стрелец обернулся на шаги, Григорий молниеносно вытащил кинжал из ножен и приставил его к горлу изумленного гиганта.
– Тсс! – прошипел Григорий. – Жить хочешь?
– Хочу, – ухнув, точно филин, пробормотал стрелец.
Что-то знакомое в его голосе почудилось Григорию.
– А ну, еще раз скажи, – потребовал он.
– Хочу, – повторил тот.
– Да не ты ли это? – спросил князь. – Савелий Крутобоков?
– А я тоже признал вас, господин, – сказал гигант. – За вами должок, так что не убивайте.
– Не буду, – пообещал Григорий, но кинжал не убрал. – Но и ты дай мне слово, что станешь держать язык за зубами. Иначе погубишь меня, а душа твоя будет гореть в аду. Так даешь слово?
– Даю, – быстро ответил стрелец. – Дорога душа-то!
– Скажи мне, в какой комнате дочери князя Воротынского почивают? – спросил Григорий. – Надо мне знать, очень надо!
– Недоброе дело вы затеяли, господин, – покачал головой стрелец. – Ох, недоброе!
– Я-то доброе дело затеял, только опасное, – заверил его Григорий. – Так скажи мне, Савелий, в какой. Ведь я мог бы и не спрашивать, но тогда бы мне пришлось убить тебя. Поэтому всё в твоей власти.
– Понимаю, – кивнул стрелец. Он объяснил, что дочерей князя Воротынского уложили здесь, на этой стороне, а князя с женой и двумя слугами – в других комнатах. Но, кажется, младшая дочь перешла к отцу с матерью, а старшая и средняя остались в двух крохотных комнатушках. И то оконце, что светилось сейчас едва-едва, как раз и принадлежит одной из сестер. Кажется, средней.
– Вон то?! – переспросил Григорий.
– Ага, – кивнул стрелец. – Зазноба, что ли?
– Зазноба, – опустил глаза молодой князь.
– Ну и угораздило вас.
– Не твоего ума дело, – оборвал его Григорий.
– А коли так, тогда вам на все про все, господин, часок, не более. Не хочу я за вас на дыбу лезть.
– Управлюсь, – успокоил Савелия Григорий.
– Ступайте, – кивнул на оконце стрелец. – Я вас покараулю, а потом к своим пойду. С Богом!
Он вышел из-за угла дома, оправляя кафтан, окрикнул своих: «Хоть в пень стрелять – лишь бы день прошел!» А Григорий подкрался к окошку и заглянул внутрь, но оконце закрывала занавеска. Тогда он легонько постучал. Еще раз и еще. И лишь когда он потерял было надежду, край занавески потянулся в сторону…
Князь узнал Марию в отсветах пламени свечи, которую она держала в руке. Девушка приблизила испуганное лицо к мутному стеклу, пытаясь разглядеть ночного гостя. Тогда Григорий и сам прижался к окну, расплющив нос. Мария резко отпрянула, точно увидела призрака, но тотчас снова приникла к стеклу. Григорий увидел, как быстро зашевелились губы девушки, произнося его имя. Мария долго возилась с щеколдой: видно, руки не слушались ее. Затем распахнула оконце, и Григорий, оглядевшись по сторонам, подтянулся на руках и лег животом на подоконник… Он ввалился – вслед за шапкой – в крохотную натопленную комнатку, на дощатый пол. Только и услышал, как захлопнулось окошко, и еще слова Марии: «Господи, милый мой, Господи…» А потом ее горячие руки и губы уже не отпускали его, она лишь шептала: «Тише, тише!» Ее лицо стало влажным от слез, он и сам плакал – от обиды, горечи и внезапного счастья, которому срок не мог быть долог. «Откуда же ты, откуда?» – все спрашивала Мария, а он отвечал: «Я должен был увидеть тебя, должен! Машенька, жить без тебя не могу!..»
– Нас на Белоозеро везут, – сказала она, когда первые минуты встречи миновали. – Нас постричь хотят – и меня, и Софью, и Катюшу. Всех, Господи, всех!
– Знаю, – ответил он, – потому и здесь. Времени у нас мало, очень мало…
Поднявшись, он расстегнул пояс, сбросил кафтан. Маша стояла перед ним в наброшенной поверх ночной рубашке шубе, с распущенными ко сну волосами, вся теплая и отчего-то сейчас, зимой, пахнущая каким-то полевым цветком, которого и не было в этой комнатке вовсе…
– Не обручились мы в Москве – не успели, – сказал он. – Так теперь успеем, – Григорий полез за пазуху, достал золотое колечко. – Это все, что мне от матери досталось, я его с собой по всем войнам вожу, у сердца, теперь оно твое! – И взяв ее правую руку, он надел кольцо на безымянный палец Марии. – Смотри, впору, как тут и было…
Девушка плакала, плечи ее вздрагивали, она прижалась к Григорию так плотно, что ему показалось, будто уже неразделимы они – и никто на всем белом свете не сможет разлучить их. А когда она отстранилась и он заглянул в ее глаза, то все понял сразу. Зацепил руками ее шубу и отвел назад – мех упал к ногам девушки. Затем положил еще холодные руки на ее плечи, она вздрогнула – он хотел было отнять их, но услышал:
– Не надо, не отпускай – они горячее любого пламени…
Потянул с белых плеч рубашку, Мария сама расстегнула одну пуговицу за другой. Рубашка вслед за шубой упала к ее ногам. Григорий легко поднял девушку на руки и понес на крестьянскую лавку с тюфяком, укрытую стегаными одеялами…
– Не обвенчали нас – не успели, – не расцепив объятий, повторила она его слова, – так будем любовью повенчаны…
– Бежим, Машенька, – прошептал он. – Бежим! У меня здесь конь – ветер! Обоих унесет! Не могу отпустить я тебя после всего, что было. Теперь – жена ты мне! Бежим!..
– Не могу я, Гриша, – рассыпав темные волосы по его груди, ответила она. – Не могу. Куда нам от царского гнева бежать? Обоих поймают, отца еще лютее накажут. Тебя беда ждет. А теперь уходи. Господь милостив – даст еще нам свидеться!..
– Да как же так, как же так? – прижимая ее к себе, твердил он. – Неправильно это!
– Уходи, Гриша, уходи, не кличь еще одну беду понапрасну, – повторяла она, но и сама боялась расцепить руки. – Время наше вышло, ступай же…
Когда он надевал ремень с саблей, то все твердил: «Приеду на Белоозеро – увезу тебя! Увезу…» Но верил ли он сам в то, что говорил? А когда Мария, глядя в темноту окна, услышала, как тает вдалеке перестук конских копыт, как рассыпались последние звуки, и только ночная птица где-то ухнула вдалеке, опустилась она на колени у окна и завыла, сжимая зубами платок, чтобы никто не услышал…
10
30 ноября 1563 года огромное русское воинство вышло из Москвы по все по той же Можайской дороге, ведущей на запад. Шестидесятитысячное войско, разделенное на семь полков, плюс пятьдесят тысяч посошных людей – тягловой силы, – артиллерия и обоз готовы были растянуться на многие версты. По величине и мощи армии, по ее воодушевлению этот поход мог сравниться разве что с Казанским.
Западу оставалось только одно – трепетать.
До 1563 года вся пограничная полоса русского царства и Великого княжества Литовского представляла собой одну боевую полосу с непрекращающимися фронтовыми стычками, но перевеса сил ни одна сторона не имела. За победы московитов под Перновом и Тарвастом Литва отплатила им с лихвой своей победой у Невеля, где войска Андрея Курбского, превосходившие противника числом в три раза, были наголову разбиты. Этого поражения Иоанн так и не смог простить своему бывшему любимцу.
Кто-то из противников должен был сделать решающий шаг – им оказалась Москва. Великое княжество Литовское в эти годы было как никогда слабым из-за межконфессиональных споров. Все население огромной территории разделилось на католиков, протестантов и православных. А нет единства – нет и сильной армии. К тому же еще до брака с кабардинской принцессой Кученей Темрюковной Иоанн сватался к сестре польского короля Сигизмунда Августа – Екатерине Ягеллонке. Московский царь очень хотел попасть в Европу миром, ведь за спиной днем и ночью стояла тень воинственного Крыма. А коли дело решать миром, так лучше через династический брак. И впрямь: зачем воевать друг с другом христианам, пусть и разного толка? Тем более что через жену можно со временем овладеть огромными территориями, тем самым расширив свое государство. И польский король Сигизмунд склонялся к этому браку: уж больно сильной стала Москва! Но Екатерина Ягеллонка забилась в истерике и сказала, что пусть ее лучше сразу утопят в Висле, чем она пойдет за русского медведя. В конце концов она все-таки вышла замуж за Иоанна, но не за Рюриковича, а за герцога Финляндского, брата шведского короля Эрика XIV. (Брак оказался выгодным: этому самому Иоанну в будущем суждено было стать королем Швеции.) Поражение под Невелем показалось комариным укусом в сравнении со звонкой пощечиной, полученной Иоанном Васильевичем от польской короны. Эхо ее долго еще носилось по всей Европе! При дворе об этом конфузе помалкивали, словно и не было вовсе «европейского» сватовства царя. Тогда и обратил Иоанн внимание на восток, который всегда заискивал перед Москвой, но черной обиды не простил. Своего бы князя – да будь их сотня! – отправил бы на плаху, но месть польскому королю и одновременно великому князю Литвы Сигизмунду Августу представлялась куда сложнее.
А тут и повод нашелся: тревожило православного государя распространение европейских ересей, каковыми он считал католичество и тем более протестантство. И вот уже царские гонцы провозглашали слово государево, почему Москва на Литву войной идет: «За многие неправды и нежелание исправиться, горюя сердцем о святых иконах и о святых храмах священных, иже безбожная Литва поклонение святых икон отвергла, святые иконы пощепали и многие поругания святым иконам учинили, и церкви разорили и пожгли, и христианскую веру и закон оставили и попрали, и Люторство восприяли!»
Но этого было мало: душевному порыву необходима духовная поддержка. И она нашлась! В это же самое время всему народу русскому объявили, что брату царя Юрию (несчастному глухонемому князю, живущему в Угличе) явилось чудесное видение, будто бы ангелы спустились и сообщили о падении Полоцка. Митрополиту Макарию, как оказалось, было точно такое же видение.
Одним словом, приговор вынесли, и священную войну против врагов православной веры развязали.
В день выхода царского полка из Москвы – тридцатого ноября – Иоанн совершил торжественный молебен. По его требованию митрополит Макарий и архиепископ Никандр провели крестный ход. Для этого дела привезли из Углича и Юрия Васильевича, которому, увы, жить оставалось всего один год. И сказать он ничего не мог, и показать. Молчал, бедняга. Мычал только. За него, новоиспеченного «провидца», царь – старший брат – грозно вещал.
– Покорим отступников христианской веры! – перед многотысячной армией повторяли глашатаи царскую речь. – Накажем их за грехи и ереси, за притеснения, чинимые нам! За Русью, мой народ православный, Господь стоит!
Для крестного хода доставили чудотворную икону Донской Богородицы, Крылатской Богородицы, а главное, первую из святынь Западной Руси – крест Ефросинии Полоцкой.
Сам Полоцк представлялся лакомым куском московскому царю: уже четверть века он жил мирной жизнью и богател, а главное – был форпостом перед столицей Великого княжества Польского. Займешь Полоцк, считай, нанес удар в спину и самому Вильно! К тому же Полоцк с его огромными землями не был чисто западноевропейским городом. Изначально он принадлежал Киевской Руси и только после татаро-монгольского нашествия, когда Русь была растерзана и раздавлена, отпал к Литве. На севере Полоцкая земля граничила с Новгородской, на востоке – со Смоленщиной, на юге – с Черниговской и Киевской. Коренные земли Литвы оставались только на западе, так что идеологически русичи имели обоснованные виды на старинный и богатейший город Восточной Европы. А в силу того, что славян и православных церквей насчитывалось там много, существовала и оппозиция католикам и протестантам Польши и Литвы. Иначе говоря, союзников царя Иоанна в Полоцке имелось предостаточно.
Русское войско собиралось в восемнадцати городах, включая Москву, и к концу ноября стало подтягиваться к столице. Литовского посла, до последнего хлопотавшего о мире, удерживали вначале в Москве, а потом отправили на родину, но окольным путем – через Тверь, Псков и Дерпт, то есть значительно севернее того маршрута, который был выбран для русской армии. Иоанн боялся, что весть о походе раньше времени станет известна в Литве и в Польше.
4 декабря царь прибыл в Можайск, а 5 января уже в Великих Луках государь и его полководцы должны были начать смотр русской армии.
Так быстро, как умели собираться на войну русские дворяне, мало кто был способен в Европе. Во-первых, попробуй царя-самодержца ослушайся! Перед ним всякий – холоп: и смерд, и боярин. Государь всем и суд, и надежда. А коли решит наказать, то мало не покажется! За неявку и поместья можно лишиться. А во-вторых, столетиями беспощадные татары молниеносными набегами учили русских так же скоро браться за меч и выходить сплоченным войском в чисто поле. И этого умения у русского человека было уже не отнять.
В Великих Луках армия была поделена по образцу военной стратегии своего времени, принятой Московским царством, на семь полков: Государев полк, куда входили отборные части, самые верные и преданные; Большой полк, предназначенный для самых крупных и кровавых сражений, в нем состояли и артиллерийские наряды; вспомогательные Большому – полки правой и левой руки; Передовой – авангардный, готовый принять первым удар врага; Сторожевой – арьергардный, охранявший обоз, без которого любая армия могла оказаться голодной и раздетой; и ертоул – самый малый и мобильный из полков, исключительно конный, которому предписывалась разведка и, если придется, стычки с передовыми отрядами противника.
К 9 января предполагалось закончить смотр войск. Эти дни выдались морозными, неприветливо серыми. Европейские армии в такое время года, как правило, сидели на зимних квартирах, обрастали жирком в ожидании весны и особо грозного лета, когда кровь лилась на полях сражений особенно обильно. Но русским зима была не страшна, и еще пришлось бы дождаться такого мороза, который смог бы остановить для московита войну!
Тысячи вооруженных людей, позвякивая оружием, переговариваясь и шутя, топтались на скрипучем январском снегу, многоголосым ржанием перекликались лошади. Чуть поодаль, за спиной, жгли костры и готовили пищу – варили кашу, приправленную свининой. А за спиной звонили колокола всех церквей Великих Лук – к обедне. Иоанн, в долгополой собольей шубе, в окружении приближенных, на белом коне с расшитой золотом попоной, объезжал войска. По правую руку от него ехал Владимир Андреевич Старицкий, вновь обласканный милостью, назначенный первым воеводой государева полка. Были тут и Алексей Басманов, и Афанасий Вяземский. Не пропускавший ни одну службу, царь уже готов был на пару часов покинуть свою армию, когда, проезжая мимо построенных частей – пеших и всадников, – приостановил коня. Вместе с ним остановилась и процессия из вельмож и полководцев.
– А я тебя помню, тысяцкий, – проговорил царь одному из молодых командиров многочисленного государева полка. – Ты тот самый княжич, что магистра ливонского мне привез. Сам пленил и сам доставил. Верно?
– Верно, государь, – сидя на коне, как и положено было всем конным дворянам во время смотра, низко поклонился воин. – Князь Григорий Засекин.
– Княжич без княжества, – провел рукой с перстнями по козлиной бороде государь. – Перстень мой бережешь? – он скосил глаза на руку молодого князя в перчатке. – Или потерял?
Тысяцкий покраснел:
– Как можно такой подарок потерять? – Он уже снимал кожаную со стальными бляхами перчатку: – Вот он, государь…
Многие уставились на золотой красавец-перстень с изумрудом. Да не в изумруде была краса – государь подарил, вот главное!
– Даже в битвах не снимаешь? – удивился царь.
– Он мне на удачу, – ответил князь. – С ним рука в два раза быстрее и сильнее рубит, и отвага всегда в сердце!
– Знаешь, как отвечать царю, – усмехнулся Иоанн, – что похвально. Ну, так пусть и под Полоцком тебе мой подарок послужит. Коли отличишься, не худо тебя и воеводой будет сделать. И кровью знатной ты вышел, и ратным трудом. Слышишь, Барбашин? – обернулся Иоанн к своему воеводе – командиру дворянской конницы. – Не забудь!
Князь Василий Иванович Барбашин оживленно закивал:
– Засекин – моя надежда, да вот сорвиголова только. Сам в любую схватку так и лезет. Коли жив останется – все сделаю, государь!
Кивнул и царь молодому князю – и двинул коня впередка, за ним потянулись и вельможи. Григорий, все еще переполненный гордостью, провожал благодарным взглядом царя. «Выживу, попрошу государя о милости! – думал он. – Наберусь храбрости и попрошу, а там – будь что будет!» Но совсем иначе – без надежды – смотрел на государя Петр Бортников, сидевший в седле позади ординарца Пантелея. На свой страх и риск Григорий взял Петра в свою тысячу простым бойцом – бывший ординарец Адашева должен был находиться в тени. Бортников смотрел на царя настороженно, точно ожидая от него любого – и самого жестокого – поступка. Два месяца, проведенные с Данилой Адашевым в тюрьме Дерпта, когда они, готовясь к смерти, могли говорить откровенно, не прошли для него даром.
А колокола церквей Великих Лук все звали и звали к обедне, ожидая государя на молитву. И скоро уже царский кортеж повернул от рядов построенного войска и направился к воротам города – смотр на сегодня был окончен.
Десятки тысяч посошных людей, на долю которых выпала черная работа тащить пушки и припасы и заниматься инженерными работами, как то: пилить бревна для мостов и переправ, рубить и ставить туры – деревянные башни – супротив крепостных стен, делать вязанки для заполнения крепостных рвов, – осматривали уже без участия царя. Посошан объединили в «коши» – по кошу на каждый полк. Любому ратному соединению нужна была подсобная сила. Тем паче что одной только артиллерии разного калибра в войске было более двухсот орудий, да еще катапульты в придачу. Было под чем горбатиться мобилизованным землепашцам!
10 января начался выход русских войск из Великих Лук – каждые три дня покидали город по полку с кошем, тысячи конных и пеших, отягощенных артиллерией и обозом, тянулись друг за другом. Зрелище это было торжественное и тяжелое одновременно. 14 января ушел и государев полк. Две недели великая армия, насчитывавшая с обозом более ста тысяч человек, вытекала из Великих Лук. И все же накладок избежать не удалось. Как начертал летописец, свидетель похода: «Заторы были великие!» Но, даже несмотря на это, армия продвигалась на запад быстро, без значительных задержек. Важно было с наибольшей внезапностью напасть на противника: о том, что целью похода является именно Полоцк, знали только высшие и средние армейские чины; для прочих это был просто поход в Литву. Но, во избежание распространения слухов, солдатам запретили покидать ряды своих полков, а фуражом занимались только самые доверенные части.
И все же сохранить тайну не удалось. Под Невелем случилась неприятная история. Тысяцкий государева полка Григорий Засекин, уже под вечер, увидел отряд всадников – он в спешке уходил от царского лагеря, обгоняя других русских, в сторону Литвы, но не по главной дороге, а много южнее – точно бы на Велиж.
Уже на следующий день стало известно, что из лагеря сбежал царский окольничий Богдан Микитич Хлызнев-Колычев, а чуть позже заговорили, что после его побега царь приказал убить в своей палатке князя Ивана Шаховского – друга беглеца. Что же там вышло на самом деле, толком никто и не знал. Пущенные вдогонку окольничему государевы люди перехватить того не смогли – он уже перешел границу. Теперь было ясно, что очень скоро в Литве узнают все подробности похода на Полоцк.
На тот период в польско-литовском государстве были три человека, способных что-либо предпринять против русских. Первый – король Сигизмунд II Август; но он находился далеко от Литвы – занятый дрязгами внутри своего столь разношерстного государства, король заседал на сейме в Польше. Второй человек, гетман литовский Николай Радзивилл, вовремя узнал о приближении врага-московита, но даже в спешке собранное войско – несколько тысяч наемников – никак не могло тягаться с армией русских, взявшихся за дело с «умением превеликим». Оставался городской воевода Станислав Довойна, но этот мог лишь, запершись на все засовы, уповать на милость Божью и ждать хоть какой-то подмоги. И впрямь царь московский и его полководцы нашли удачное время для нападения на Литву.
Русские полки уже шли прямым маршем на Полоцк, и ни для кого не оставалась секретом цель этого похода, когда Иоанн послал Довойне гонца из литовцев с предложением сдаться, но воевода гонца приказал казнить. Было и второе письмо, переданное православному епископу Арсению Шисце. Оно было адресовано православной шляхте Полоцка, которая сочувствовала Москве. Царь обещал дворянам полякам и литовцам «пожаловать по их воле, и жалованием, каковым они захотят». Лишь бы ворота оказались открыты…
Но католиков, ненавидевших Москву, находилось в городе куда более, и потому прихожанам Арсения Шисцы пришлось попросту затаиться.
31 января московские полки стали подходить к Полоцку и занимать стратегические позиции вокруг обширнейшего города, стоявшего на слиянии реки Западной Двины и ее притока Полоты, еще в незапамятные времена давшего имя первому поселению на этих берегах.
В течение первых трех дней город был взят русскими полками в плотное кольцо так, что уже никто не мог ни выйти из Полоцка, ни войти в него. С северо-запада, за рекой Полотой – от Спасского монастыря до Двины – встали три полка: Большой, Сторожевой и ертоул; на юге – вдоль течения Двины и вокруг Ивановского острова – обошли Полоцк еще три полка: Передовой, Левой и Правой руки; Государев же полк, самый многочисленный, встал на северо-восточной стороне Полоцка – напротив стен Великого посада. Тут была и конница под командованием князя Василия Барбашина. В случае неудачных переговоров именно по Великому посаду московиты решили нанести главный удар – и артиллерийский, и живой силой. Оставалось только дождаться прихода всей артиллерии и грамотно окружить город пушками и катапультами, чтобы ни одного ядра не ушло впустую, ни одного горшка с огнем.
В эти же три дня по всей округе Полоцка застучали топоры – тысячи деревьев повалились на землю. Это посошный люд под предводительством царских инженеров стал рубить туры – высокие бревенчатые башни, с которых можно было бы прицельно расстреливать город из среднекалиберных орудий.
Только один раз Григорий встретился лицом к лицу со Степаном Василевским – тот проезжал в свите боярина Алексея Басманова, ставшего первым приближенным царя Иоанна. После женитьбы на Кученей Темрюковне, в крещении взявшей имя Мария, братья Захарьины-Юрьевы отошли на второй план, чтобы больше никогда не играть существенной роли при государе. Огненно-рыжий Степан, товарищ былых его дней, сдержанно кивнул Григорию. Пути-дорожки их разошлись. Нынче Степан состоял в личной охране царя, которая и не думала вступать в бой, проливать кровь под пушками неприятеля. Но не об этом думал Григорий – у каждого, наконец, своя судьба! Увидев Василевского, он сразу вспомнил другой день – двухлетней давности, весенний, мартовский, когда, едва не загнав коня, он появился на Можайской дороге, где уже строились его три сотни. Сколько горечи и бессильной ярости кипело в его сердце! Жить не хотелось! И совсем немного надежды было там, едва только тлевшей. Он вспомнил, как из Москвы в сопровождении своих людей в черных кафтанах приехал Степан – посмотреть, исполнил ли он, Григорий Засекин, его приказ и свое обещание – быть в срок. Их взгляды тогда пересеклись, но Степан только и сказал: «С Богом и за государя!» – на том встреча и закончилась. Но Василевский понял, где он, Григорий, был, откуда только что вернулся…
И вот теперь – новая встреча, на этот раз под осажденным Полоцком. Алексей Басманов, окруженный стаей верных ему телохранителей, проследовал мимо – к царскому шатру. Но как они, его охранники, были похожи на свору псов! И едва Григорий подумал об этом, как оглянулся на него Степан – уколол ледяным взглядом, точно говорил: «Помню, все помню!»
Кольцо русских войск уже вряд ли бы кто смог разорвать. Потому с ужасом и обреченностью наблюдали половчане за приготовлениями неприятельской армии. Литовцы знали, с какой жестокостью московиты умеют проходить по землям своих врагов – предыдущие пять лет войны показали это. И могли лишь предполагать, что их ждет, если польский король не придет на помощь. Ведь после штурма – а Полоцк был городом сильным, – тут поляжет немало русских, и жителям придется платить за жизни ратников сторицей.
Пока русские пушки бомбили город, летучие отряды литовских воевод Радзивилла и Ходкевича жалили армию осаждавших, но это были незначительные и слабые укусы. Конные отряды передового полка и ертоула, хоть и теряя своих воинов, с успехом отбивали эти наскоки. А польский король Сигизмунд молчал, и с каждым днем становилось яснее, что он не сможет помочь Полоцку. Сами же горожане, несмотря на сильный гарнизон литовцев, поляков и наемников-немцев, всеми силами хотели мирного исхода: за двадцать пять лет без войны Полоцк стал крупным торговым центром, привыкшим решать все вопросы звонкой монетой, а не звоном мечей. Но теперь он стал заложником амбиций двух враждующих государей – Иоанна Васильевича и Сигизмунда Августа, и мирного выхода из создавшегося положения никто не видел. Воевода же Полоцка, непримиримый Станислав Довойна готов был сражаться до конца, но не сдать город московитам.
О перемирии не могло быть и речи!
7 февраля литовские пушки обстреляли русские лодки, переплывавшие Двину. На одной из них переправлялся сам Иоанн. Вражеские ядра едва не потопили государеву лодку. В ответ с Ивановского острова стали бить русские пушки – да с такой яростью, что разгромили весь литовский артиллерийский наряд, и, как записал летописец: «Стрельцы из наряду пушкарей сбили и многих литовцев побили в остроге…»
Ко дню переговоров – 8 февраля – туры уже стояли напротив всех городских башен. В городе началась смута: многие православные хотели сдать Полоцк русскому царю во избежание большой крови, но упрямый Довойна так и не решился на этот шаг.
9 февраля русской артиллерией с деревянных тур была разрушена крепостная стена Большого посада, и конные отряды из дворян и детей боярских один за другим ворвались в город. Одной из первых была и тысяча Григория Засекина. Проломы оказались так велики, что русские всадники легко преодолели преграду.
Григорий и Петр с копьями наперевес неслись к полякам – их отряд охранял тот участок крепости, где стены обрушились и похоронили под собой многих литовцев-пехотинцев. Поляками командовали ротмистр Голубицкий и Верхлинский – оба были известными командирами в своих войсках. Первых русских дворян и стрельцов, что ворвались через пролом, положили на месте литовские и немецкие мушкетеры. Но уже вторая волна, частично поредев, ударила по защитникам крепости. Копье Григория прошило насквозь немецкого мушкетера в кирасе и плоском бацинете, который судорожно зажигал фитиль своего тяжелого ружья, да так и осталось в нем, корчившемся на руинах посада. Рядом уже бился Петр с налетевшим на него поляком в алой шапке с черным хвостом. Второй отряд, влетевший в крепость, возглавил сам Владимир Старицкий, который не желал сидеть на месте и только отдавать приказы. Этот любил битвы, никого не страшился! Но Григорий уже приметил одного польского командира – к нему и решил пробиться.
– Пантелей! – крикнул он своему ординарцу. – Со спины прикрой! Продырявят меня – я тебе на том свете житья не дам, так и знай!
Ротмистр Голубицкий в черном кафтане и черной шапке с серебристым хвостом видел, как наседают русские, что не кончаются они числом, но сражался на совесть, как и заповедал ему воевода Довойна. И поляков, и русских полегло уже довольно. Кони яростно топтали и своих раненых, и чужих, и не было иного исхода тем, кто упал на камни разрушенной стены Великого посада. С располосованным плечом тысяцкий наконец-таки пробился к польскому ротмистру. Поляк яростно крутился на своем черном жеребце, ругаясь, отбивал удары русского дворянина, нападал сам. Но защитников крепости и полуразрушенного посада все теснили и теснили дальше, к другой крепостной стене. Плечо Григория жгло, рука чуть ослабла, но он старался не думать об этом, отдавая все силы схватке. И тогда ротмистр Голубицкий, заметив, что его противник слабеет, решил сокрушить его, для чего сделал большой замах. Но Григорий внезапно сам ударил его клинком в грудь – удар был колющий, не смертельный, но он заставил ротмистра забыть о нападении. И тотчас тысяцкий нанес сокрушительный удар: его тяжелая сабля резанула поляка по шапке, прочно войдя в кость. Григорий только и увидел, что выпученные глаза ротмистра и густую струю крови, выползавшую из-под черной шапки. Он с трудом вырвал саблю, и ротмистр Голубицкий, выпустив узду, повалился назад. Поляки, потерявшие одного из своих командиров, спешно отступали. Пятились и поредевшие немецкие мушкетеры, литовские копейщики. Но это был и последний удар Григория в этой битве – правая рука его онемела. Тут подоспел и Пантелей:
– Я того поляка, что вас полоснул, зарубил, начисто зарубил! Да вы ж совсем бледный, Григорий Осипович! Ну, точно смерть! – всполошился ординарец.
– Покаркай мне, дурень! – пробормотал тысяцкий, чувствуя, как темнеет в глазах, как уже серыми великанами давят башни Полоцка сверху и неумолимая сила тянет его самого вон из седла. И что руки Пантелея – вся его опора…
Бой за Великий посад Полоцка был выигран русскими начисто – поляки, немцы и литовцы были отброшены в крепость на горе, именовавшуюся Верхним замком. Но сам Великий посад со всем его богатством не достался никому. Станислав Довойна приказал уничтожить его – и в тот же день занятую русскими территорию забросали из крепости горшками с огнем. Великий посад был сожжен целиком – сгорело более трех тысяч дворов. На милость русского царя сдались двадцать тысяч посадских людей, попытавшихся купить свободу тем, что указали на склады продовольствия в «лесных ямах».
Следующие дни русская артиллерия разбивала стены Верхнего замка, не давая обороняющимся передыху. Туры приблизили к стенам – сутки напролет крепость поливалась огнем, свинцом и камнями.
К 15 февраля исход осады стал ясен всем – и русским, и полякам. Далее разрушать город и позволять убивать его жителей было бессмысленно. Главный штурм, к которому готовилась русская армия, так и не начался. Убитых русских под Полоцком не набралось и сотни.
В тот же день к царю явился польский православный епископ Арсений Шисца со своими священниками – они несли поднятыми кресты, встречая таким образом царя, и поверженное знамя города Полоцка, отданное старейшинами и воеводой Довойной победителю.
Царь встретил епископа в своем шатре милостиво, но сказал:
– Не ты мне нужен, святой отец, а воевода ваш – Довойна! Я за ним от самой Москвы шел, так пусть и он пошевелится! – Иоанн не шутил: и впрямь дорога выпала дальняя. – Пусть воевода прибудет ко мне и сам поклонится своему новому господину. Коли сегодня пред очи мои не явится, завтра хуже и ему, и городу будет! Слышишь, епископ, я ведь мало кого пожалею!..
Уже немолодой воевода до конца надеялся, что подобное унижение минет его, но перед лицом сокрушительных обстоятельств пришлось сдаться. Он ехал с небольшой свитой из поляков и немцев побитым, точно старый пес, таким и прибыл в стан победителя.
Григорию, потрепанному в схватке, потерявшему немало крови, на месте все же не сиделось. Хотелось поглядеть на униженного Довойну! С рукой на перевязи, у шатра государя, он глазам не поверил, когда увидел среди сопровождавших вражьего воеводу молодого немца – в пластинчатом доспехе, без шлема. Все они, безоружные, спешились неподалеку от шатра, но к царю, окруженный стрельцами, направился лишь один воевода Довойна.
Григорий не мог удержаться и подошел к нему, сдавшемуся на милость победителя.
– Да вы ли это? – изумленно спросил тысяцкий.
Молодой немец обернулся, нахмурился.
– Дева Мария! – удивленный не менее, воскликнул он. – Вот это встреча!..
– Именно так, – кивнул Григорий. – Карл фон Штаден, я помню…
– Князь… забыл ваше имя?
– Григорий Засекин, – проговорил тысяцкий. – Ничто вас не берет – ни меч, ни пушки, ни своя петля. Слышал я, как в Риге расправились с гарнизоном, сдавшим Феллин!
– Да что теперь вспоминать, – натянуто улыбнулся Штаден и тотчас повернулся к своим боевым товарищам. – Я вам рассказывал, господа, о русском князе, что в честной битве отсек мне два пальца, помните? – Он растопырил изуродованную правую пятерню. – Так это он самый, судьба не разлучает нас, – Штаден уважительно – того требовал случай – поклонился Григорию. – Мы дрались не на жизнь, а насмерть! – Он поймал взгляд Григория: – Но пальцев я вам все же не прощу, князь!
Его слушали не только свои. Навострили слух и русские дворяне из караула, державшиеся за сабли, и стрельцы со своими страшными секирами: многие знали словечки и польские, и немецкие – не первый год топтали русские кони басурманские земли.
– Так что же Полоцк? – спросил Григорий. – Будете сдавать город или заставите нас сравнять его с землей? Мне кажется, ваше упорство и новые смерти теперь пустое!
– Мне тоже так кажется, но все решает пан Довойна, – резонно ответил Штаден. – А вы, князь, по-прежнему все такой же напористый бородач! Отчего так много волос у вас на лицах? – Он весело огляделся: их уже слушали все, кто был неподалеку, – задиристый тон парламентера привлекал внимание. – Вы тут все – бородачи: и мужики, и аристократы! – Спутники фон Штадена посмеивались. – Как вас только ваши женщины терпят – так их и до смерти исколоть можно!
– Что до женщин, то они у нас привычные – мы их бородами щекочем, – подмигнул своим Григорий. – Да и не пристало славянам с босыми лицами ходить! Мы – мужи славные, а не бабы робкие! То-то промеж вас, европейцев, что скоблят себе скулы и подбородки, столько мужеложеской заразы бродит! – Он решил в полной мере ответить, пусть и словесно, влепить затрещину зазнайке-немцу.
Русские – дворяне и стрельцы – уже смеялись в голос. Штаден лишь натянуто улыбнулся, его спутники стали серы лицом, но куда деваться: не время и не место было дерзить куда более сильному противнику!
А в царском шатре, в ста шагах от спорщиков, разгорались страсти.
– Где ключи от города? – окруженный князьями и боярами, спрашивал у Довойны царь.
– Вначале мы хотим знать, что ты, великий государь, милостив будешь к нам. – Воевода понимал, что играет с огнем, но риск стоил того – ему нужны были гарантии. – Я всего лишь поставлен защищать этот город: за мной городской совет стоит и все жители Полоцка. Но они хоть и трепещут пред тобой, но открывать ворота страшатся еще более. Если ты им не скажешь доброе слово, не успокоишь их, они готовы умереть за своими стенами.
Полного разрушения Полоцка не надо было никому – ни самим половчанам, ни царю, надеявшемуся создать из города на Двине мощную цитадель московского царства на западных границах. Ведь именно отсюда он уже намечал идти на Вильно – столицу Великого княжества Литовского, столь ослабленного в эту пору. А там, если дело пойдет так же хорошо, как и здесь, то и на сам Краков – Польша тоже не в великой силе была ныне.
До вечера проговорили царь Иоанн Васильевич и воевода Станислав Довойна. Уже затемно договор о сдаче города был подписан, а летописец в своих свитках начертал, что царь обещал «показать милость и казней в Полоцке не учинять».
Но на деле государь Московии не сдержал слова…
Полоцк представлял богатую добычу, поэтому удержать от грабежа ворвавшиеся в город войска оказалось сложно. Все золото и серебро у горожан было отобрано, а кто не хотел отдать его добром, тот был убит или покалечен. Понятно, что православные храмы русские не тронули, но католические были разграблены, к тому же казаки и татары перебили и монахов-бернардинцев, защищавших свои алтари. Все «черное» литовское католическо-протестантское население Полоцка – мужчин, женщин и детей – увели на положении рабов в Москву, где раскидали по боярским вотчинам и дворянским усадьбам. Хуже других пришлось иудеям. Если католиков и протестантов Иоанн еще терпел (как-никак, они верили в Христа), мог он смириться и с мусульманами (они признавали Спасителя христиан одним из пророков, правда, уступающим Магомету), то иудеям смерти Божьего сына московский царь простить никак не мог! Всех иудеев Полоцка, а их тут было немало – именно они во многом помогли стать городу процветающим торговым центром Восточной Европы, – царь велел вывести к Двине. Несколько тысяч иудеев, окруженные стрельцами, казаками и татарами, жались друг к другу, пока русский царь в сопровождении конной свиты приближался к ним.
– Ваши предки моего Господа распяли, а вы, знаю, распяли бы Его еще раз, явись Он сейчас на землю! – сказал грозный царь иудеям. – Так вот, я милостив и милосерден, а потому даю вам право искупления великого греха: откажитесь от вашей бесовской веры, креститесь немедленно, сейчас же, на глазах моих, в этой реке, которая станет вам Иорданом! В ледяной Двине крещеными станете: Господь милостив – не захвораете! – В свите посмеивались. – А кто откажется, на голову того кару великую обрушу! Решайте, кто вам нужен, священник православный или казак с пикой!
Царь подал знак, и вперед вышли священники, готовые выполнить ритуал крещения. Но следом шагнули и стрельцы с казаками, вооруженные копьями. Иудеи зароптали, в страхе стали перешептываться между собой, кто-то уже рыдал, иные завыли в голос.
– Не гневите меня – решайте сейчас! – потребовал царь. – Креститесь или умрите!
И большинство иудеев, плача, поплелись в ледяную Двину, где черные люди заботливо разгоняли тонкий лед. Под рев и плач священники крестили половчан-иудеев, и новопосвященные, ежась от холода и все так же рыдая, засеменили обратно. Но несколько сотен так и остались на берегу. С ужасом взирали они на царя, но страх перед своим Богом оказался куда сильнее! И тогда царь махнул рукой, и казаки со стрельцами, выставив копья вперед, вдоль всего берега стали надвигаться на иудеев. Те попятились к воде. Но ряды московитов были плотны и непреодолимы, а копья остры и страшны. Иудеи, вопя и причитая, вошли в воду, а острые копья все толкали их вперед, в глубину. Иные пытались плыть, но, коченея от холода, тонули, другие рвались назад, но копья победителей отправляли их обратно, в Двину. Так они там и остались – и скоро уже несколько сотен трупов плавало среди льдин, а их родичи, силком принявшие крещение и метавшиеся по берегу, ждали, когда можно будет вытащить своих близких и похоронить.
Повезло только военному сословию поляков и наемников-немцев – тем, кто защищал Полоцк. Ротмистрам царь приказал пожаловать по дорогой шубе, артиллеристам предложил идти к нему на службу. Да и прочие польские и немецкие дворяне были поставлены перед выбором: служить победителю или ждать иной судьбы. Но какой?..
Многие попросились к царю, ибо знали, что мигом могут стать военнопленными, отправленными в далекие края, где никто из родных никогда не отыщет тебя и не выкупит. А то возьмут и здесь же, ночью, в Полоцке, утопят в Двине, как евреев. Кому враг на воле нужен? Тем более что русский государь покладистых иностранцев, что с поклоном к нему и уважением, жаловал и платил им хорошо: умел ценить европейский опыт! С деда брал пример: сколько иностранцев и прежде, еще со времен Ивана III, находило приют на Руси! Вот только Станислава Довойну вместе с женой и самыми приближенными людьми за сопротивление и отказ подчиниться до штурма Иоанн отправил в Москву на правах пленников.
Ратный почин был совершен, и мысли царя, возвращавшегося в Москву с новым титулом «Великий князь Полоцкий», отныне занимала столица Литвы – Вильно.
Григорий ехал в Москву с основным войском – подлечиться. Он лежал под шубами в подрагивающей телеге и смотрел на чужое весеннее небо. Армия возвращалась на Русь медленно. Московиты оставили в Полоцке немало орудий, но везли с собой в десятки раз их превосходивший по тяжести обоз из трофеев – награбленного польско-литовского добра. Григорий же думал только об одном: как поправит здоровье – сразу попросится к царю, бросится в ноги, на свой страх и риск станет умолять разрешить ему венчаться с Марией Воротынской. Царь и сам любил и страдал, значит, должен был понять его – и сердцем, и душою!..
А мимо текли и текли конные люди – обгоняли тысяцкого; ржали лошади, гоготали стрельцы и казаки, охал посошный люд. Еще до границы с Русью с телегой Засекина поравнялся всадник, который дремавшему Григорию показался знакомым – тот вырос на фоне яркого солнца и, кажется, так и тянулся к раненому русскому князю.
– Чего тебе, басурманин? – услышал Григорий суровый голос Пантелея. – Слышишь, чего надобно? Князь почивать изволит!
Григорий, его дела шли на поправку, встряхнулся, взглянул и глазам своим не поверил:
– Штаден?!
Рядом ехал немецкий ландскнехт Карл фон Штаден в своем пластинчатом доспехе.
– В полон везут, в Московию? – сочувственно спросил Григорий. Сейчас ему не хотелось лишних бравад. – А вы, я погляжу, веселы. Что ж, это правильно – проигрывать надо с достоинством.
– Отчего же в полон, князь? – спросил Штаден. – Вовсе не так. А то, что проиграл король Сигизмунд, еще не значит, что проиграл я. Могу представиться: я – новый солдат русского царя Иоанна Васильевича!
– Что?! – изумился Григорий, только тут рассмотрев, что молодой наемник при мече и кинжале.
– То, что слышали, князь: отныне мы служим вместе с вами одному государю.
– А как же честь, Штаден?!
Ландскнехт слегка склонился над телегой:
– Честь нужна всякому, согласен, но когда у тебя ее слишком много, слишком мало остается жизни! И ты голоден и сир. А я люблю жить – и жить хорошо! К тому же ваш… наш государь, – поправился он, – обещал немцам и полякам хорошее жалованье. Я – последний сын в семье своего отца, мне дали рыцарское военное образование, но – ни серебряной марки в наследство! Едва мне исполнилось пятнадцать, как меня выставили из дома служить и самому себе зарабатывать на жизнь – зарабатывать мечом! – Он опять выпрямился в седле. – Только это я и умею!
– Была бы моя воля – прогнал бы я вас, Карл фон такой-то, в три шеи! – метнул на него грозный взгляд Григорий. – Ей-богу!
– Верю, князь, верю! Но судьба распорядилась иначе. Так что не прощаюсь надолго, моя новая часть уходит вперед, свидимся в Москве! – И, пришпорив коня, Штаден поскакал вперед, но крикнул вслед, и слова его насмешкой резанули слух раненого тысяцкого: – Отныне рядом будем биться во славу земли русской – вашей великой земли!
Но и Григорий успел ему ответить – все силы вложил:
– Бороду отращивай, Штаден! А не то на Руси тебя за бабу примут, попользуют еще, не приведи Господи!.. Ушам не верю, – укладываясь обратно под шубы, пробормотал все еще изумленный Григорий. – Что скажешь, Пантелей?
– Вот леший! – сплюнул ординарец, очень точно выразив их общее мнение.
Но вскоре внезапное появление Штадена стало стираться из памяти. Вновь всплывало перед глазами одно-единственное милое лицо, которое он не видел уже два года. Но таким ясным оно было! Мария улыбалась, глаза ее сияли… Только бы до Москвы добраться, поскорее окрепнуть!
Армия шла и шла на восток, с великой добычей, растянувшись на долгие версты. Новые горизонты виделись царю, новые победы грезились русским дворянами и бесконечные походные тяготы – посошным людям. Но еще никто из русских не знал, что победа под Полоцком окажется последней значимой победой русского оружия в затянувшейся Ливонской баталии, что отныне эта война станет вязким и смертоносным болотом, все глубже затягивающим в себя Москву. А поражения, которые были уже не за горами, повлекут за собой великие беды для всей русской земли.
11
События следующих месяцев показали, насколько зыбкими и недолговечными оказались недавние успехи Руси как во внешней политике, так и во внутреннем укладе всего русского государства. Дорога из Полоцка шла через Старицу – вотчину Владимира Андреевича. Иоанн был поражен, с каким восторгом встречали его двоюродного брата, героя Полоцка. Ревность и злоба душили Иоанна, когда он смотрел на Владимира, и сам понимал, почему. Уж больно его брат был похож на того самого царя, о котором из века в век мечтает народ: благородного, великодушного, отважного! Кто же станет грезить о государе злом, подозрительном, вероломном? И при этом Владимир был с той же кровью в жилах – кровью высшей пробы! – что и он сам, Иоанн!..
А вернувшись в Москву, царь узнал, что в Полоцке – точно сам Господь обрушил кару за его жестокость, – начался повальный сыпной тиф. Слишком много трупов осталось на выжженной полоцкой земле! Тиф – не сабля, он бил без разбору: и литовца с поляком, и крещенного насильно иудея, и русского стрельца, и наместника-боярина в соболях и золоте.
Царь ясно увидел, как зыбко все, что окружало его. И его собственное величие перед искренней любовью подданных к Владимиру Старицкому, и военные победы, готовые обратиться в прах пред волей Господа, и благополучие всей русской земли, нищавшей от войн.
Великий гнев рождался в сердце Иоанна, и как эхо его – злой и холодный ветер подул по всей земле, которую он считал безраздельно своей.
Но иные, едва почуяв этот ветер, решились на рискованные шаги. Вслед за окольничим Хлызневым-Колычевым, улизнувшим из-под самого носа царя под Невелем, в Литву бежали еще двое царских вельмож – Тетерин и Сарыхозин.
Из Стародуба пришли в Кремль недобрые вести.
– Царь-батюшка, – с низким поклоном молвил Василий Грязной государю, – все только и твердят, что наместник Стародубского князь Василий Фуников и свойственник Адашевых воевода Иван Шишкин-Ольгин хотят город сдать и к литовцам уйти!
А ведь не так давно царь запретил русским дворянам в Литву уходить, как это веками прежде водилось: хочешь, тому служи государю, хочешь – этому. Фуникова и Шишкина-Ольгина тотчас приказали в Москву доставить и допытаться, откуда такие слухи; а коли правда – почему изменой они решили отплатить государю за доброту его?
И началась охота на ведьм – ох, любил ее царь-батюшка! Тем паче что не так давно, наглядевшись на честь и славу, которой одаривали Владимира Старицкого, устрашить своего двоюродного брата стремился он, и устрашить сильно.
Потому с превеликим вниманием слушал Иоанн своего злого гения Алексея Басманова, вновь заговорившего о недовершенном когда-то деле – о братьях Адашевых.
– Хоть Данила и много воевал за Русь, но коли развернется вспять, как тот же Колычев, то худого сделает во сто крат больше, – вкрадчиво говорил царю Басманов-старший. – Слышал я, король польский Сигизмунд готов любого твоего полководца принять, лишь бы тебе насолить, государь. Коли сбежит Данила, саблю свою супротив нас обернет, беда будет! Остра она у него была, остра! И удача Данилу любила! Если что удумал, удача мимо него никак пройти не могла – всегда с ним заодно! А ведь младшой Адашев как никто другой всё о русских полках знает, хоть и не при деле нынче, о пушках ее, о крепостях на ливонской границе. Такого союзника королю польскому еще поискать!
– Верно говоришь, – мрачно кивал Иоанн, – такого союзника Сигизмунду днем с огнем самому не сыскать. Но мы ведь не отдадим ему Данилы, нет? – он взглянул на Басманова.
Тот затряс головой:
– Да ни за что, государь!
– Не отдадим. Обманем Сигизмунда. И Даниле не позволим имя свое предательством замарать, ежели что недоброе и удумал. А потому сложить младшому Адашеву голову на плахе… У него сын, кажется, есть, верно?
– Есть, государь, Тархом зовут, – торопливо подсказал Алексей Басманов.
– Сколько ж годков ему?
– Тринадцать, поди, уж есть, государь.
– Маловат для смертушки, но для обиды кровной уже взрослехонек: вырастит, все помнить будет. Так вот, Алексей: и Тарха туда же, на плаху, и самых ближних Данилы. Пущай славный мой воевода в последний раз послужит государю своему – по-доброму послужит. А глядя на смерть Данилы иные лиходеи, кто мне перечил если не на словах, так в сердце, остерегутся уходить за границу и бунтовать. И Володенька остережется на трон царский поглядывать! Решено: пусть послужит мне еще разок Адашев-младший. Да не мучить его больно, того не заслужил… Сам я смотреть на его кончину не стану, – Иоанн отрицательно покачал головой, – жалости своей боюсь. Я ведь не изверг: все, что делаю, так токмо ради государства моего, ради спокойствия и благоденствия земли русской. Пиши указ, Алеша, пиши…
Весенним днем Григорий Засекин и Петр Бортников стояли у Кремля на площади, что именовалась Полым местом. Тысячи людей собрались здесь в этот час, и как же иначе: на помосте, у двух плах, ожидали внезапной расправы Данила Адашев и его сын Тарх.
– Что ж это делается, Гриша?! – шептал Петр, сжимая от гнева кулаки. – Данилу казнить! Господи, куда ж Ты смотришь, куда?! Господи…
– Молчи, – отвечал ему Григорий. – Смотри и молчи. Не знаешь ведь, кто за твоей спиной тебя слушает. Даниле Федоровичу уже не помочь. Молчи потому…
Лишь издалека они видели двух человек – взрослого мужчину и подростка – в белых рубахах, расстегнутых на груди. И двух палачей в длинных кафтанах с топорами в руках. Но не могли они слышать, о чем говорили отец и сын, встречая смертный час.
– Тятя, страшно мне… – признавался сын.
– Не бойся, ничего не бойся, – отвечал ему отец. – Такова воля Господа – примет Он нас с тобой, скоро примет. И не плачь, не плачь!..
– Все равно страшно, тятя, – дрожащим голосом лепетал мальчишка, не зная, куда ему смотреть – на толпу внизу, на отточенный топор, воткнутый в плаху, или на лица палачей.
– У кого из вас рука крепче? – неожиданно спросил Данила у палача постарше. – У тебя – прав я?
Второй был совсем молодым человеком и, кажется, сам страшился того, что должен был вот-вот исполнить.
– Прав, – ответил старший их палачей.
– Ты ему и руби, – кивнул он на сына. – А мне пусть этот рубит!
– У тебя вон шея – как у быка, – заметил палач. – Как раз под мой топор. А у сына твоего, как у гусенка, как раз под топор моего Никитки…
– Все равно, ты ему руби, я стерплю, если что!
За спиной приговоренных, на помосте, окруженный своими людьми, Алексей Басманов махнул рукой:
– Пора дело делать!
– Прошу тебя! – умоляюще взглянул на старшего палача Данила Адашев.
– Бог с тобой, – сказал тот. Бросил своему сыну: – Меняемся!
Никитка обошел плаху, шагнул к Даниле. Отец занял его место.
– Вставай на колени, паренек, и голову клади сюда, – сказал старший палач Тарху. – Да не бойся ты, все сделаю умеючи. За отца лучше помолись, чтобы отошел сразу.
– Тятя, – заволновался Тарх, – тятенька!..
– Вставай на колени и клади голову, как тебе сказали, – проговорил Данила. – Ничего не бойся, я с тобой, с тобой…
Ноги у Тарха подкосились сами собой, вслед за ним встал на колени и Данила, уложив голову на деревяшку.
– Прости меня, Господи, – прошептал он. – Прошу тебя, Никитка, бей точнее…
Всего этого Григорий и Петр не слышали. Они увидели только, как по сигналу Басманова взметнулись два топора, но когда опустились – и сухой удар прокатился по всей площади, – голова покатилась вниз только одна – юноши.
– Господи, Господи, – зашептал Петр, отвернулся. – Да за что же такие муки? За что?!
Еще один сухой удар.
– Все, кончено, – глухо сказал Григорий. – Царствие небесное Даниле Федоровичу и его сыну.
Петр поднял на товарища глаза:
– В аду гореть его душе.
– Чьей? – нахмурился Григорий.
– Ты знаешь – чьей, – мрачно усмехнулся тот.
Они не заметили, как рядом с ними оказался свидетель их разговора.
– Ты, Петр, своей смертью не умрешь, – сказал огненно-рыжий Степан. – Идемте в кабак, выпьем за помин души двух убиенных. Я плачу?.
– Да нет, благодарствую, – ответил Петр. – Ты лучше вон того палача пригласи, – он кивнул в сторону помостов. – Да не того, что с топориком, – это собака цепная. А того, что приказ отдавал. Его пригласи! Не меня.
– А ты, Григорий?
– Нет, Степан, ни есть, ни пить не хочу, тем паче на Басмановские деньги.
– Вино не разбирает, на чьи деньги куплено, – обронил Василевский.
– Ты знаешь, я любил и уважал Данилу Федоровича, и не верю, что он – предатель, – твердо сказал Григорий.
– А коли царь верит?
– А коли царя за нос водят? – спросил Петр. – Тогда как?
– Царь велик и мудр, – важно изрек Степан. – Впрочем, от вас я другого ответа и не ожидал. А коли так, то прощайте, друзья-товарищи. Только помните: может быть, однажды я стану для вас последней надеждой, единственной!
Петр проводил его презрительным взглядом, Григорий иначе – с неожиданно промелькнувшей надеждой…
– Пойдем в кабак, – предложил Григорий, когда присмиревшая толпа, насмотревшись крови, стала покидать место казни. – Только не туда, куда наш Степан ходит, – ноги моей там больше не будет!
– Идем, Гриша, – согласился Петр. – Напьемся…
Многие люди разных сословий, что расходились с площади, тайком плакали: Данилу Адашева знали тысячи москвичей, и ничем не оправданная расправа над ним, как и над малолетним сыном его, потрясла до глубины души. Не все были такими подозрительными, как царь Иоанн Васильевич, и мало кто верил в предательство Данилы; и не все были такими вероломными и жестокими, как боярин Алексей Басманов и вся его волчья стая, чтобы получить удовольствие от убийства этого достойного человека и его невинного сына.
Хорошо одетая девушка, что плакала в платок, показалась Григорию знакомой. Он обошел ее, заглянул в глаза, нахмурился, отвел ее руку от лица.
– Марфуша?! – вырвалось у него.
Девушка захлопала заплаканными глазам, словно что-то вспоминая, затем просветлела:
– Ох, забыла, как вас зовут, барин!
– Григорий Засекин, князь, – напомнил он.
– Верно, князь, – пробормотала она, пальчиками утирая слезы. – Григорий, верно…
– Что же ты плачешь? – спросил он. – Была знакома с Данилой Адашевым?
– Просто плачу, – ответила девушка. – Не люблю, когда людей убивают. Да еще и детей в придачу. Пусть даже отец виноват, но за что же ребеночку-то голову рубить?! Страшно это, неправильно!..
Григория тронули ее слова – тронули больше всех слез, которые он видел сегодня.
– А это мой друг Петр, – представил Григорий товарища, с интересом разглядывающего вызывающе красивую барышню с чересчур нарумяненными щеками.
– Не выпьешь ли с нами вина, Марфуша? – предложил он.
– Угостите – выпью, – слабо улыбнулась она. – Только я не пойду туда, где вы со Степаном сидели, – избил он меня в ту ночь, пьяный был, злой, я больше с ним и не виделась. Даже переехала в другое место, подальше от Китай-города.
– Степан? – переспросил Петр. – Наш Степан?!
Марфуша тоже посмотрела на него, но с тревогой.
– Наш Степан, – утвердительно кивнул Григорий. – Ты не бойся, Марфуша, Петр и слышать о нем не хочет! Хотя только что его видели…
– О Господи! – воскликнула она, озираясь по сторонам.
– Да ушел он, скрылся тенью, – успокоил Григорий.
Они зашли в простенькую замоскворецкую корчму. Глядя, какие господа при саблях решили отужинать, их провели за самый хороший стол; служка, хлопнув свежей скатертью так, точно пушка громыхнула рядом, постелил ее на дубовую столешницу, и понесли угощенья – мясо и рыбу, пироги и вино. Скоро они выпили за помин души Данилы Адашева и сына его Тарха. Марфуша, как и Петр, сразу опьянела – то ли усталость сказалась, то ли сил не было больше держаться. Марфуша вновь заплакала, Петр стал молчаливым, смурым.
– А если этого Басманова подкараулить где, а потом саблей – напополам? – выдал вдруг он. – Что скажешь, тысяцкий?
– Скажу, что спятил ты, Петр. А коли вино из тебя такого храбреца делает, то бросай нынче пить и отправляйся спать!
– А вы, голубчики, можете ко мне поехать, – предложила Марфуша, лицо которой уже пылало огнем – и от обильно наложенных румян, и от горячего вина, которому она отдавала предпочтение. И, может быть, от присутствия двух молодых мужчин, которым она несомненно нравилась: красивая, чувственная, пухлые губы, глаза с поволокой…
– А ты чья? – неожиданно спросил Петр.
– Своя, – ответила Марфуша. – Была когда-то Федьки Басманова, затем вашего Степана Василевского, а нынче – своя.
– Басманова?! – точно протрезвел Петр. – Так ты – курва?
– Охолони, Петр! – оборвал его Григорий. – Всяк – хозяин себе! Она – женщина, ей надобно покровителя искать. Что ж поделаешь, коли такие только и встречаются?
– Да после Басмановых и Степки я к ней и не притронусь! – почти прорычал Бортников.
– А тебе пока еще никто и не предложил трогать ее, – сурово произнес Григорий. – Ты вот что, воин, командира своего слушай: хватит пить и бузить. Остынь!
Петр опустил глаза:
– Ладно. Нам еще не достает из-за какой-то бляди друг на друга броситься!
– Хватит, я сказал! – на этот раз куда строже оборвал его Григорий. – Хватит.
Марфуша неожиданно взяла руку Григория с царским перстнем и благодарно и очень крепко поцеловала.
– Спасибо тебе, князь. За меня никто раньше не заступался… Но я не обижаюсь – привыкла. Да и правда это – гулящая я. Кто курвой назовет, как твой приятель, а кто и по лицу ударит, как ваш Степан Василевский.
За окном стемнело, а в замоскворецкой корчме шло гулянье, разворачивалось, набирало силу. Марфуша то плакала, жалуясь на свою жизнь, то пыталась веселиться: смеялась, но чаще сквозь слезы. Григорий уже не слушал ее. Вспомнил, как около полугода назад поехал на Белоозеро, хотел добиться свидания с Машей. Вспомнил, как вышла к нему старая монахиня с выцветшим лицом. «А кто ты ей?» – спросила. «Я?.. – замешкался молодой князь. – Я…» «Умерла сестрица Мария», – строго глядя в глаза Григорию, сказала монахиня. «Как это умерла? – переспросил он, и губы его задрожали. – Как же так?..» «А вот так – умерла и всё. Представилась твоя голубка. Представилась, сердечная. А ты уезжай, уезжай, распутник! – вдруг став злой, прикрикнула она. – И сабли твоей не боюсь!» «Отчего же распутник-то?» – с горечью возмутился он. «Сам знаешь! – вскипела та. – Уезжай!» Старуха в черной рясе развернулась и пошла к монастырским воротам. А он еще долго стоял вот так, ничего не понимая, не слыша и не видя перед собой. А потом сорвал царское кольцо и бросил его в снег, развернулся и пошел прочь. Но, не сделав и десяти шагов, вернулся, отыскал перстень, сжал в кулаке так, что изумруд впился ему в кожу. И только тогда, решив, что жизни ему нет более, побрел к коню…
Корчма шумела вовсю. Петр совсем замолчал, казался мрачнее тучи, только пил. А пьяная и красивая Марфуша все говорила и говорила, плакала и смеялась невпопад…
За соседним столом говорили двое торговых людей – негромко, точно таились, и Григорий, самый трезвый из сотрапезников, едва прислушавшись, прихватил Марфушу за руку, приложив палец к губам. Петр, хмурясь, не понимая, чего от него хотят, тоже навострил слух.
– Да неужто так? – спрашивал первый купец, тяжело хлебая вино из глиняной кружки. – Самого Дмитрия Курлятева?!
– Я тебе говорю! – отвечал второй. – Весь дом окружили басмановские, с факелами, при оружии, в ворота стучат, дом грозят поджечь! Выходите, мол, по царскому указу! Время выйдет – палить будем! – Он пил вино и кивал. – Истинный крест!
Глаза Петра вспыхнули, кулаки непроизвольно сжались.
– Басмановские дом Дмитрия Ивановича Курлятева берут? – обернулся он к торговым людям. – Так?!
– Да вроде так, – поставив кружку, пробормотал свидетель. Скосив глаза на увесистую саблю дворянина, на его ратную экипировку, разволновался: – А я что? Я ничего. Если сболтнул лишнего, так вы, барин, не серчайте, я ведь что увидел, то и говорю. Ну так и впрямь было: окружили, с факелами, князя Дмитрия Ивановича именем государя требуют. Вот оно и все!
– Вот оно и все! – обернувшись к сотрапезникам, выкрикнул Петр. – Слышали: вот оно и все! Едем к Курлятевым, Гриша…
– Зачем? – помрачнел Засекин.
– Узнаем, что и как.
Марфуша слушала их, плохо понимая, о чем идет речь, но догадывалась, что происходит нечто плохое, точно продолжение сегодняшних казней.
– А что ты узнать хочешь? – спросил Засекин. – Просто так к Курлятевым они вламываться не станут – побоятся. А коли именем государя, так сиди лучше и пей свое горячее вино. Раздавят тебя, Петя, как муху раздавят.
– За чин свой тысяцкий опасаешься? – зло усмехнулся Бортников. – Боишься, воеводой уже не станешь?
– Дурак ты, – ответил Григорий. – За жизни – твою и мою – опасаюсь. Что ты сделаешь один против всех государевых слуг? Тогда уж лучше вытащи саблю и в Кремль иди – прямо к Алексею Басманову или к самому царю!
– А это добрая мысль! – ударил кулаком по столешнице Петр.
Двое торговых людей, услыхав эту перебранку, прихватив кружки, рванули на другую сторону корчмы – от греха подальше.
– Ты завтра у Степана Василевского обо всем узнаешь, – сказал Григорий, но Петр уже схватил шапку. – Я – царев слуга, присягу давал, и против воли государя не пойду.
– Я пойду!..
– А я приказываю – сиди!
– Кто ты таков, чтоб мне приказывать?
– Я – командир твой!
– Пьяный ты, Петя, – не выдержала Марфуша. – Чего натворишь-то сейчас, в сердцах?
– Ухожу я из армии, бросаю царскую службу!
– Но пока ты на царской службе, – схватив его за руку, рявкнул Григорий, – я под арест тебя беру! Ни шагу от меня!
Петр отбросил руку, усмехнулся, глянув, как сверкнул изумруд тысяцкого:
– Перстенек-то царский побереги! – Встал со скамьи, поправил саблю.
– Дай мне слово, что поглядишь только, не станешь лезть! – потребовал Григорий.
– Даю слово, что по сердцу поступлю, – ответил Петр и быстрыми шагами направился к дверям.
Встал за ним и Григорий.
– Постой, Гриша, постой, – ухватила его за руку Марфуша. – Неужто не понимаешь: пьяные вы оба, чего сейчас натворите? Это ведь не драка за кабаком. Царева воля, да хоть и прихоть его! Убьют они вас – обоих убьют, разве ж не ясно? – Она требовательно потянула его за рукав: – Сядь же, сядь. – Усадила. Положила его голову на высокую и пышную грудь: – Успокойся, Гриша. – Поцеловала в лоб, затем и в губы: – Поедем ко мне, поедем сейчас…
– Я Машеньку люблю, – уже со слезами на глазах проговорил Засекин. – Очень люблю… – Не сказал он ей, что нет больше Машеньки на белом свете. Не сказал…
– И люби ее, правильно, люби. А я тебе покой обещаю и ласку, только покой и ласку… Поедем. Заплати за обед и поедем.
– А Петр? Как же Петр?
– Умен будет – в стороне постоит. Береженого Господь бережет. А нет – судьба, видать, такая. Не стоит тебе делить с ним его судьбу, на поводу у нее идти. Глупо это. У тебя своя жизнь. Расплатись и поедем. Вставай, Гриша, вставай…
…Петр остановил извозчика, ветром донесшего его на ту сторону Москвы-реки, неподалеку от Курлятевского дома. Тут и впрямь мелькали факела, бегали люди, кто-то плакал в голос, но штурм уже состоялся. Ворота были выбиты, государевы люди в черных кафтанах тащили из Курлятевского терема добро, грузили на телеги; другие, с пиками и саблями, сторожили поклажу, чтоб чего не пропало.
А вокруг, встав неровным кольцом, испуганно толпился народ, глядя во все глаза на мародерство.
– Поэтому и не подожгли дом, что добро-то хотели взять, – заметил какой-то мужичок стоявшей рядом с ним бабенке. – Умные, черти! Умеют басмановские копеечку-то считать. Да и дом-то жалко, можно кого из своих поселить. – Но, взглянув на перекошенное от злобы лицо молодого дворянина при сабле, испуганно закрыл рот: – Молчу, барин, молчу!
– А что сам Дмитрий Иванович? – спросил дворянин.
– Увели, только что увели, – закивал мужичок. – Охрану приставили, в телегу посадили и повезли.
– А дочь его?!
– Вона, гляди, – бабенка указала пальцем на распахнутые ворота. – Сынок его, кажись.
Петр разом обернулся. Из дома выволокли сына Дмитрия Ивановича Курлятева – Ивана, уже избитого, в одной рубахе. Даже в темноте, при факелах, было ясно, что она заляпана кровью. Как видно, боярский сын сопротивлялся. А за ним, прямо за волосы, выволокли и Людмилу – в одной длинной рубахе, порванной на плече, босую. У нее уже не было сил противиться, она шла, точно теленок, которого ведут на бойню.
– Снасильничали девку, что ли? – предположил мужичок и опасливо взглянул на превратившегося в огонь дворянина. – Из постели будто выволокли…
– Да кто ж его знает, – ответила бабенка. – Хотя басмановские могут – что с них взять, государевы люди!
Петр смахнул мокрую светлую прядь волос с лица. Вытащил из ножен саблю, из других потянул длинный боевой кинжал. Мужичок, плохо понимая, что делает молодой дворянин, несколько секунд размышлял, а затем заговорил скороговоркой:
– Барин, барин, да к чему это?! К чему? Вернись, барин, вернись! Убьют ведь! Убьют!..
Но Петр уже шагал к первому из басмановских – в черном кафтане, с пикой, глядевшему в сторону своих товарищей, волочивших к телегам брата с сестрой.
– Значит, государевы люди, – твердил Петр, уже отводя для удара саблю. – Государевы люди, стало быть…
– Ты куда, ты куда?! – заревел один из басмановских, заметив Петра, но поздно: сабля Петра тяжело ударила по лицу, разрубив его глубоко, убив сразу. Толпа за спиной Петра выдохнула – такого она еще не видывала! Второй басмановец, вытащив саблю, бросился на разъяренного дворянина, но Петр ловко отбил удар, отвел саблю и воткнул кинжалом в грудь по самую рукоять. И когда еще один, с копьем, метнулся к нему, Петр встретил его уже обмякшим телом врага – сам толкнул того на острие копья, обошел разом и с маху снес саблей третьему пол-лица. Только тут остальные государевы слуги опомнились, побросали Курлятевское добро и схватились за оружие. Но Петр раньше оказался рядом с тем, кто тащил за волосы Людмилу. Тот, разом отпустив ее, отступил и схватился было за рукоять сабли, но Петр его опередил.
– Не надо, Петруша, – встав на колени, зарыдала девушка. – Не надо, хуже только будет…
Куда уж хуже! – поздно было отступать. Басмановский не успел даже закрыть лицо руками, ибо их-то Петр и отсек одним ударом, и государев человек упал, забился с окровавленными культями перед Людмилой, севшей на землю, глядевшей на своего палача с ужасом. А в следующее мгновение и сам Петр получил удар по голове. Падая, он увидел, как приближаются к нему тени – государевы люди, как обступают его, бьют…
Толпа народа, язык проглотившая, наблюдала, как черенками копий избивали защитника дома Курлятевых. Его не зарубили сразу – его били так, как бьют животное: долго и упрямо, чтобы насладиться расправой. Людмила лишь один раз попыталась на коленях подползти к нему, но ее ударом ноги отбросили назад.
Так продолжалось с четверть часа…
– Сдох, кажись? – когда первая ярость прошла, предположил один из басмановских, а перед ними был уже не человек, а кусок раздавленного мяса.
– Давно уж сдох, – откликнулся второй. – Вот черт, все сапоги в крови…
Когда из темноты вышел еще один человек, все басмановцы, держа факела, подровнялись. Степан Василевский подошел к раздавленному человеку, зацепил носком сафьянового сапога за плечо, перевернул на спину. Сейчас, от огня, волосы его казались особенно огненно-рыжими, прямо-таки пылали.
Лицо человека распухло, точно было обварено, левый глаз вытек, от зубов и губ ничего не осталось. Поломанные кисти рук с раздутыми бесформенными пальцами напоминали культи. Весь кафтан пропитался кровью.
– Собирай наших, – бросил Василевский одному из государевых людей. – Девчонку не забудь и добро. – Он с презрением оглядел своих подручных. – Это какими же надо быть остолопами, чтобы позволить четырех своих зарубить? Сразу видно, не воевали вы, против татар не ходили и ливонцев не били, саблями обвешались и уже господами себя возомнили! – Он отвернулся, но не выдержал и – с развороту ударил одного из них, сбил-таки с ног. – Сволочи! Сволочи…
Уже сделав два шага от раздавленного человека, присмотрелся. Заметил, как два раздутых пальца того внезапно дрогнули. Или только показалось? Один из басмановских подошел к раздавленному, занес копье, но Василевский мгновенно среагировал:
– Да оставь ты его, мертв он! Охрану выставь лучше, чтоб другим неповадно было бросаться на государевых людей! А то подумают, что все – такие, как вы! Что уставились?! – заревел он на подручных. – Добро Курлятевское выносите! А этого, – кивнул он на того, кто был когда-то его боевым товарищем, – собаки по кускам разнесут.
Григорий проснулся и тотчас увидел женскую руку, обвившую его шею. Перстеньки на пальцах, розовые ноготки… Он пошевелился и услышал сонное, ласковое:
– М-м… Что такое?
Он вспомнил все разом: казнь Адашевых, корчма, весть о Курлятевых, Петр, уходивший прочь, Марфуша – ее объятия, ласки…
– Марфуша, – пробормотал он. – Марфуша, Петр не возвращался?
– Куда ж он вернется? Мы с тобой уехали, а он и дома моего не знает…
Григорий сел на постели. Марфуша сонно открыла глаза:
– Ну куда тебя несет-то? Полежим еще, Гришенька, зачем торопиться?
– Я Петра должен найти, – проговорил он. – Непременно должен.
Скоро Григорий подъехал к дому Курлятевых. Вороты были выбиты, дом – видно было невооруженным глазом – опустошен. Он уже видел такое два года назад у Воротынских. Григорий присмотрелся. Повсюду на молодой траве, пробивавшейся сквозь влажную землю, была кровь. Разоренный дом охраняли двое басмановцев в черных кафтанах, при саблях и секирах.
– Что тут было? – грозно спросил Григорий.
– А вам зачем? – оглядев его, спросил один из них. – И кто вы, барин?
– Товарищ Степана Василевского, – смело ответил Григорий: сейчас уже было все равно, что говорить, лишь бы узнать правду. – Этого достаточно?
– Да, барин, – поклонился государев человек. – По царскому указу тут вчера боярина Курлятева брали со всеми его домочадцами, так один шальной из толпы бросился с саблей наголо. Бешеный! Четырех зарубил! Ну а потом его наши и прикончили – долго били, как собаку. Оттого и кровушка кругом – и его, полоумного, гори он в аду, и наших друзей, светлая им память…
– А где же тело шального? – спросил Григорий.
– Да, говорят, собаки ночью тут пировали, по кускам, видать, и растащили.
Ничего больше не сказав, Григорий повернул коня и поехал прочь от скорбного места. «Петр, Петр, – с болью и отчаянием твердил он про себя. – Что ж ты наделал?! И я ничем не смог помочь тебе! Не удержал. И с тобой не поехал. Ничем, ничем не помог…»
Теперь как можно скорее стоило вернуться в Ливонию. А о судьбе рядового конного бойца Петра Бортникова следовало отписать наверх: убит, мол, в пьяной драке неизвестными. Была жизнь – и нету…
Так прочь из Москвы!
Через два дня, уезжая в свою часть, Григорий оставлял столицу неспокойной. По Москве брали всех, кто когда-то служил Адашевым, числился в их друзьях. Засекин еще не знал, что вскоре на том же Полом месте перед Кремлем вслед за Данилой будут казнены его близкие: тесть – костромской дворянин Петр Туров, затем все многочисленные родственники Адашевых и ближайшие их друзья, в том числе Федор, Алексей и Андрей Сатины. Дмитрия Курлятева и его семью до срока помилуют, но всех отправят на Белоозеро и уже там постригут в монахи. Так легче имения отбирать – монаху всего-то и нужно: келья, хлеб, водица да молитва.
А в Кремле и Александровской слободе шли пиры за пирами. Мария Темрюковна – полная противоположность Анастасии – оказалась настоящей звездой бесконечных царских пиршеств. Одевалась она по-восточному, в яркие шелка и бархат, и казалась прекрасным и смертельно ядовитым цветком. Все позволяла своему мужу, и сама многого не чуралась! А многочисленные друзья с замиранием сердца следили за каждым вздохом ударившегося в разгул государя, лихорадочно пытались угодить владыке и его царственной черноокой жене, предупредить все их желания. И особенно те из них, что разогревали опаленную страстями душу Иоанна низостью своей, подлостью и вероломством и готовы были распалить и душу его молодой жены, жаждавшей и власти, и любви, и крови христианской. В эти месяцы первых больших казней Иоанн приблизил к себе еще одного человека из свиты Алексея Басманова – Григория Скуратова-Бельского, из-за небольшого роста прозванного Малютой. Этот малышок-крепышок рожден был палачом. Во время пиров он ложился у ног государя и, целуя его сапоги, униженно и сладострастно говорил: «Батюшка ты наш, только скажи: любого для тебя зарежу! Всех врагов твоих сам пересчитаю! Как кабанчиков разделаю, коли захочешь! Отдельно окорока и голову, и ребрышки, и потроха отдельно! Пытать и мучить буду днями напролет, без устали, в поту трудовом, только бы ты, надежда наша и сердцу радость, доволен и счастлив был!» И сам раболепно укладывал царские сапоги на плечи свои, поскуливая, точно шалая собачонка, чем вызывал всеобщий смех. И впрямь: Малюта работал без устали и с превеликим удовольствием – сам ехал по любому царскому указу и, никому не доверяя работы, ходил по темницам, где ждали своей смерти обреченные.
Так, в один из теплых летних дней 1563 года, к вечеру, Малюта Скуратов в окружении самых доверенных лиц прибыл в Белоозеро. Он направился в царский острог, где в заточении ждал своей судьбы и судьбы своих близких еще недавно один из самых доверенных Иоанну вельмож. Царь сказал своему палачу в дорогу: «Думал, прощу ему, что Владимиру Андреевичу присягать хотел, а не сыночку моему. Не смог. Ты самого не мучь – стерпит. Что плоть?! Душу его пытай, сердце! Чтобы умирать страшно было…» «Все исполню, батюшка!» – кивнул Скуратов.
Малюта сотоварищи закусили с дороги, заправились горячим вином. Государев палач стряхнул с густой рыжеватой бороды крошки, капли вина, хлопнул себя по ляжкам:
– Работа черна, да денежка бела, говорят. А у нас так работа почище любого солнышка светится, верно? Пора, добрые мои! Государь приказал не медлить, вот и послушаемся его. – Скуратов взглянул на тюремщика: – Веди к узнику, поглядим, как он там живет-может!
Прервав ужин, всей толпой они направились в подземелье. Скрипнули засовы, отворилась дверь, и Малюта вошел первым. Держа в руках чадящий факел, он шагнул к заключенным, цепью прикованным к стене, в потемках ища отца семейства. Их держали на полу – на соломенных тюфяках, закованными в колодки: отца и мать, сына и дочь.
– Где ты, Дмитрий Иванович? – выставляя вперед факел, заботливо спросил Малюта.
– Именем Господа, – проговорил боярин Курлятев. – Кто бы вы ни были, позвольте написать государю!..
Чуть согнувшись, Малюта не спеша проносил факел мимо лиц заключенных. Вот Иван Курлятев, у которого уже не было сил ненавидеть. Жена Дмитрия Ивановича – потерявшая волю, готовая к худшему. Скуратов остановил факел у лица Людмилы Курлятевой, бледной, испуганной, сжавшейся на тюфяке. И доченька тут, красавица!
– Кто ты?! – спросил из темноты Дмитрий Иванович.
Но Малюта только усмехнулся:
– Все еще живы покуда, не берет вас ни холод камерный, ни трапеза скудная. Жить небось хотите? А вот и ты, боярин, – подходя наконец к отцу семейства, тихонько рассмеялся Малюта. – Признал, что ли?
– Боже праведный, – тихо проговорил Дмитрий Иванович, отшатнувшись.
Визит этого человека означал только одно – мученическую смерть.
– Узнал, родимец, узнал, – поднеся факел близко к лицу Курлятева, едва не обжигая его, улыбнулся в широкую медно-рыжую бороду государев палач.
– Что делать пришел? – дрогнувшим голосом спросил Дмитрий Иванович.
– Указ царев исполнять, – просто ответил Малюта. – Что ж еще? Не по своей же воле я из Москвы-то сюда прилетел, как мыслишь? Не думай, времечко тянуть не будем – дорого оно. Делов-то у меня – море-океян! – Он точно вспомнил о чем-то: – Только прежде я дочурку твою получше разглядеть хочу. – Оглянулся на стоявших позади подручных: – Освободите девку!
– Оставь дочь, Григорий Лукьянович! – умоляя, попросил Курлятев. – Оставь ее!..
– Да что ж добру зазря пропадать, Дмитрий Иванович? – вновь рассмеялся тот. – Эй, тюрьма, – окликнул Малюта сопровождавшего их тюремщика, – прикажи, чтобы там из баньки, что для нас растопили, кадушку теплой воды принесли. Да на мыло чтоб не поскупились! Исполняй!
Рядом тихонько завыла жена Курлятева – и все громче и громче, точно помешалась. А может, и впрямь рассудок уже оставил ее? Захрипел и сын их, Иван, зазвенел цепью, когда подручные Малюты стали освобождать его сестру. А Дмитрий Иванович все повторял: «Дочку оставь! Богом христианским прошу, оставь дочь мою!..»
Малюта сам прихватил Людмилу, мало что сейчас понимавшую, за локоть, потащил вон из темницы. Его подручные, едва вернувшись, наливали хмельное, продолжали трапезу. Людмилу тоже усадили за стол. По лицу девушки текли слезы, губы были искусаны в кровь, но боли она не чувствовала. Скоро в натопленную сторожевую внесли кадушку, от горячей воды поднимался пар.
Скуратов откусил кровяной колбасы, не глядя на девушку, сказал:
– Вставай, дитятко, вставай, солнышко, раздевайся, никого не стыдись – незачем уже!
Но Людмила не решалась – и не верилось ей, что с ней это происходит.
– Раздевайся, сказал! – грозно обернулся он к девушке. – Не серди меня.
Она поднялась, сбросила робу, за ней рубашку. Оставшись нагой, закрылась руками. Малюта не выдержал, насильно оторвал руки от тела. Свора палачей с любопытством оглядывала ее.
– Вина налейте! – бросил он своим людям. – Да полнее кубок, до краев!
Налили.
– Пей, – приказал Людмиле Скуратов. – До дна пей!
Она взяла кубок и стала пить, но рука дрожала, вино текло по ее груди, зарывалось в клубке светлых волос в низу живота. Кто-то не выдержал, шлепнул ее по ягодице. Малюта зыркнул на подельников глазом, и те стушевались. Отнял у нее кубок, шагнул к кадушке.
– Сюда ступай, – приказал он.
Все еще закрываясь, Людмила подошла.
– Лезь в воду, – кивнул он на кадушку. – Вот тебе мыло, мочало, хорошо мойся, а то в темнице-то замарашкой стала. Дотронуться страшно! Как перед брачной ночью мойся!..
Девушка забралась в кадушку, беззвучно плача, окунулась, стала мылиться. Ее трясло.
– Да живее же ты, живее! – приговаривал Скуратов, вернувшись к столу, опрокинув полный кубок.
Людмила Курлятева быстро опьянела – на пустой-то желудок! Ее стало покачивать. Подельники переглядывались, посмеивались, отпускали сальные шутки.
– Да не три ты на одном месте! – выходя из себя, рявкнул на нее Малюта. – Вот чумовая! Ты что же, тюрьма, огненного винца ей налил, что ли? Не фряжского?
Тюремщик пожал плечами:
– Да какое увидел, такое и налил.
– Тьфу! – сплюнул Скуратов. Строго взглянул на своих: – Без меня ни-ни, вернусь скоро!
Он зашел с двумя подручными, державшими факела, в темницу к Курлятеву.
– С Людмилой что?! – вскинулся боярин.
– А что с ней станется, с Людмилой твоей? – подходя, ответил вопросом на вопрос Скуратов. – Плещется она, как русалочка плещется, долго только сержусь вот я на нее…
– Оставь девку, оставь!..
– Так всему свое время, Дмитрий Иванович. А вот у тебя времечка нет уже…
– Губить будешь?
– Буду, – закивал радостно Малюта. – Ой, буду!
Рядом с Курлятевым тихо выла его жена, а сын Иван надрывным шепотом все повторял: «Прокляты будьте! Прокляты!»
– Что живо, то и хитро, Дмитрий Иванович, – рассмеялся Малюта. – Потому-то я простоту и люблю! С кого ж начать-то? – вытягивая из кармана прочный шелковый шнурок, рассуждал вслух. – С тебя, али с сыночка? Или с женушки? Ишь как воет, аки волчица! Но мне так даже лучше, радостнее на душе. Так с кого бы?..
– С меня, с меня! – хрипло прорычал Курлятев.
– Ну, будь по-твоему, уважу. Быстро все сделаю – мучить не стану. Царь не велел, он у нас милосердный. – Подступив к боярину сзади, Малюта щелкнул тугим шнурком. – А вот что жену и сыночка твоего ждет, сам догадайся. – Он склонился над ухом Курлятева: – Только им, родненьким, даже Людмила твоя скоро завидовать станет!
– Иван, моли Господа простить нас, моли! – закричал Курлятев. – И ты, душенька моя! Молитесь! Молитесь!.. Людмила!! – это был его последний крик, тотчас сорвавшийся на хрип.
Малюта вернулся в сторожевую. Вцепившись в мочалку, прижав ее к груди, Людмила взглянула на него.
– Как там тятенька? – спросила тихо.
Зубы ее стучали, язык повиновался плохо.
– Спит тятенька, спит, – ответил, хищно разглядывая ее, Малюта. – Дай-ка мочало, спинку тебе потру, не дотянешься ведь!
– А матушка?
– И матушка спит. И братец Иванушка. Все спят. Крепко спят! – намыливая ей спину, жадно лапая за бедра и грудь, отвечал Скуратов. Потом, отшвырнув мочалку, и сам стал быстро раздеваться – сбросил кафтан и сапоги, торопливо стянул рубаху, портки. – Ну, кажись, вот и все. – Сам вытянул девушку из кадушки, через плечо перекинул, потащил на топчан тюремщика, легко бросил на него.
Давясь рыданиями, она потянулась набок, закрыла лицо руками.
– Куда ты?! – окрикнул он ее, рывком потянул к себе за лодыжку, рванул в сторону колено. – Раздвигай белы ноженьки, сладенькая моя, – приговаривал Скуратов, укладываясь на Людмилу, тиская ее. – Я твой хозяин нынче, я! – Он уже сладострастно хрипел, дышал ей в лицо вином, ловил ее губы, кусал плечи и шею. – Ах, ласковая моя, барыня-сударыня! Я ведь сейчас не тебя одну имею – всю Русь вольнодумную под собой имею! Мужиков сам драть не стану – их на кол сажать буду! Их пусть деревца надвое рвут! А вот вас-то, родимые, вас!..
Когда он поднялся, то бросил своим:
– Ночка-то впереди длинная! Государь, храни его Господь, часы считать не станет. Простит нам малое увеселение. Так и вы уважьте уж Людмилу Дмитриевну Курлятеву…
А те уже ждали, тоже поспешно снимали кафтаны, сбрасывали портки…
– Убейте меня, прошу вас, убейте, – шептала она много часов спустя, измученная, в синяках и кровоподтеках.
– Так кто ж тебя оставит-то, сладенькая ты наша? – давно уже разомлевший, попивая за столом горячее вино, осклабился Малюта. – И не просила бы, все одно – кончаться. – Допив, в одних портках, поднялся, стал рыскать глазами в поисках брошенного кафтана. Наконец отыскал его, порылся в карманах, вытащил удавку; подходя к топчану, щелкнул ею. – Волю государеву исполняем, деточка наша сладкая! Всю вашу семью государь приказал извести. Но ты не думай, тебя мучить не стану, как братца твоего, воле государевой удумавшего противиться. Мне ты понравилась, быстро все сделаю, с любовью! Как доченьку свою уважу!..
День казни Дмитрия Ивановича Курлятева со всей семьей и многих других вельмож и дворян, несогласных с самовластной политикой государя, был лишь предвестием грядущей бури. По дороге от Белоозера Малюта Скуратов заезжал и в другие места, где требовалась его рука. Нужны были палачи царю Московскому – профессия эта подобна профессии духовника на Руси становилась.
Расправил-таки Иоанн крылья, что подарил ему ангел, за спиной говоривший, очаровавший его, лица и глаз которого он так и не увидел!
Точно страшное затмение укрывало русскую землю, и укрывало столь беспощадно, что не сбежать уже было от этой тени…
12
Андрей Курбский, родовитый князь и талантливый полководец, весной 1564 года ехал в Юрьев – ливонский Дерпт. Его потряхивало в повозке, изнутри обложенной медвежьими шубами. И сам он, кутаясь в соболью шубу, смотрел в окошко с крестовиной, похожей на тюремную решетку. А там, за окном, в оврагах лежал снег, стояли голые неприветливые леса…
Тому предшествовали события, коих пресветлый князь ждал и опасался. Знал, что его черед близится, но все тешил себя мыслью: а вдруг минет чаша сия? Оставят его в покое – жить вольной птицей в своих имениях, любить жену да растить сына.
Ан не тут-то было. Всполошились царевы прихвостни, новые соратники по куражу и пьяным оргиям.
– А что же князь Андрей Курбский? – вопрошали новоиспеченные окольничие, кравчие и постельничие царя, спутники каждой минуты его жизни. – Неужто минет царский гнев великородного друга Адашевых и Сильвестра? Усидит, не повалится окаянный? Неужто оставит при себе справедливый государь самую лукавую и хитроумную гадину Ближней думы, этого «клубка змей»? – так называли они бывший царский совет, вспоминая, как без жалости и со страстью давили каблуками старых друзей Иоанна и за три года перетоптали почти всех.
Один только Андрей Курбский и остался – самый живучий, дальновидный и осторожный.
– Да погляди ты в глаза его: нет в них любви к тебе, а есть токмо злоба лютая и жажда мести! – нашептывал Алексей Басманов государю и другу своему разлюбезному Иоанну. – Погляди, царь мой батюшка, повнимательнее: все в них увидишь, как в зерцале. Он без подельников своих – Адашева и Сильвестра, Воротынского и Курлятева – точно волк подстреленный, которого охотники окружили, биться насмерть будет!
Давно Алексей Басманов стал частью души государевой – новой, окаянной, черной. Ничего не боялся думный боярин, и потому больше других плескал масла в огонь. Вот и теперь все ниже склонялся над ухом царя и шептал скоро:
– Захочет кто из твоей родни, да хоть Владимир Андреевич Старицкий, подняться супротив тебя, взбунтовать народ, так Андрейка Курбский тут как тут встанет!
И однажды эти разговоры переполнили чашу, и пошло отравленное вино верхом, потекло, все заливая.
– Верно ты говоришь, Лексей, верно. Адашев в Юрьеве кончился – туда, в Дерпт, и Андрею Курбскому, другу закадычному былых лет моих, дорога, – заключил Иоанн. – Пусть едет, послужит воеводой, а позже поглядим: как сердце мое подскажет, так и будет!
Вздохнули облегченно царские наушники. Понимали они: из Дерпта, из Ливонии, обратно в сторону Москвы и к престолу государеву исхода Курбскому уже не будет.
Знал это и князь Андрей Михайлович, кутаясь в медвежью шубу и глядя на серый снег за решеткой своей повозки.
Почти все его соратники были истреблены или преданы опале. Уморен голодом и холодом Алексей Адашев, казнен боевой товарищ Данила, изгнан Сильвестр, преданы жестокой опале братья Воротынские – Михаил и Александр; Дмитрий Курлятев, как судачили языки, удавлен вместе со всей семьей в Белоозере. Зарезан князь Федор Репнин, герой Полоцка, отказавшийся на пиру, во время пляски, надеть бесовскую маску, предложенную ему царем. Казнены князь Василий Серебряный и Никита Шереметев. Задушен князь Дмитрий Оболенский-Овчинин за то, что сказал на пиру юному Федору Басманову: «Мы служим царю трудами добрыми, а ты – гнусными и развратными!» По ложному навету – будто бы государю хотела беду учинить – взята мать Владимира Старицкого Ефросинья: насильно пострижена в монахини и сослана в Горицкий монастырь. А у самого Владимира Андреевича отняты его уделы вместе с преданными ему людьми, взамен же даны другие земли – царевы, с людьми государевыми, с которыми он, князь Старицкий, точно пленник. А уж сколько людей, что поменьше чином вышли и званием, просто перебиты – публично, в своих домах или тюремных подвалах – не счесть! А о многочисленных их семьях никто уж и не говорит. У царя, думал Курбский, у их былого товарища, фантазия оказалась под стать самому дьяволу! И вот теперь он, Андрей Курбский, едет в Дерпт, который брал шесть лет назад боем, едет и не знает, кто он: наместник или изгнанник? Воевода или обреченный на смерть пленник? Потому что ехал он в Дерпт в окружении басмановской своры – жестоких и алчных его палачей. Одна радость – не было среди них Малюты: этот и в Москве был царю надобен, да еще как надобен!
Но не только о тех, кто уже сложил голову по воле Иоанновой, думал Андрей Курбский. Продолжали тайно уходить из Москвы на Литву князья и бояре, страшась неоправданного царского гнева. Так ушел в Литву герой Крыма князь Дмитрий Вишневецкий, казачий атаман и лютый враг Порты, а за ним и недавние вельможи царские – братья Алексей и Гаврило Черкасские.
Многое поменялось на земле отеческой…
Дерпт уже был виден, когда на дороге показался конный отряд. Андрей Курбский не ждал ничего доброго ни от тех, кто сопровождал его, ни от других, кто должен был его встретить. И все же он удивился молодому командиру отряда с широкой темной бородой, что выехал навстречу своему новому воеводе. Курбский даже постучал рукоятью кинжала по окну, чтобы возница остановился. И сам вышел к всаднику, осадившему коня напротив его повозки.
– Засекин, ты ли?
– Я, Андрей Михайлович, – ответил молодой князь. – Мы уже заждались вас, о таком коменданте крепости можно только мечтать!
– Коня мне! – приказал Курбский.
Один из ординарцев его спешился, подал хозяину узду. Тот легко вскочил на боевого коня, бросил сопровождавшим:
– За мной не гонитесь – я с князем по полям пролететь хочу. Давно не был в этих местах – соскучился! Понятно?
И оба, точно сговорившись, пришпорив своих коней, сорвались с дороги в поле, где рыхлая земля после сошедшего снега так и разлеталась из-под кованых копыт боевых лошадей.
– Жив – уже хорошо, – кивнул спутнику на скаку Курбский. – Не сгинул, не пропал! Хотя, чин твой воинский невелик – тысяцкий, а вотчина и того меньше, так что с тебя взять? – Он обернулся к Засекину: – Знаю, был ты близок к Воротынским! Так вот, оказался бы при дворе с таким знакомством, уже гнил бы на Белоозере! Счастье твое, что воюешь по окраинам Руси!
Белоозеро! – выстрел точно в сердце!..
– Верно, Андрей Михайлович, по окраинам воюю, только уже не тысяцким, а воеводой! Сразу после Полоцка и повысили. Нынче в комендантской службе Дерпта. Так что, если армию собирать вновь станут, вторым воеводой передового полка буду!
– Поздравляю, – усмехнулся Курбский. – Только выше не поднимайся – не советую. Заметным станешь! А нынче кто заметен, в того стрела и бьет.
– Как в вас? – спросил Григорий.
– Как в меня, – кивнул Курбский. – До сих пор диву даюсь, что жив! Да, видать, недолго осталось. Со мной псы басмановские приехали – стерегут! – Он увидел, как побледнел молодой воевода при упоминании фамилии царского фаворита. – Вижу, не жалуешь ты его – Алешку-то и его свору?
Григорий еще поддал жару коню.
– Не жалую, Андрей Михайлович, совсем не жалую! Его люди друга моего, Петьку Бортникова, убили. А еще одного таким же, как и они сами, сделали. Да много чего натворили они в моей жизни! Об одном хочу спросить вас: куда же государь смотрит, таких змей привечая?
– Государь наш – загадка великая! – только и ответил ему Курбский.
– Но как же так? – не отставал Григорий, ибо жаждал получить ясный ответ на свой вопрос. – Вы же с юности знали его! Росли с ним вместе, играми забавлялись, как же так?!
– Едем к замку! – неожиданно повернув коня к Дерпту, разом решил завершить прогулку Курбский. – И вот что, Григорий: ты вежлив со мной будь, но дружбы нашей не показывай – худо тебе от такой дружбы может стать. Хоть и рад я видеть подле себя такого человека, как ты, но будет баталия – от себя удалю. И подальше! – Он уже вырывался вперед, оставляя воеводу позади себя. – Коли суждено погибнуть, так лучше уж от меча неприятельского, чем от топора палача!
13
Прошел тягостный для Андрея Курбского месяц. Часть басмановцев, числившихся в его свите, вернулись в Москву. Но каждый шаг его здесь, в Дерпте, был на виду – за ним следили, ходили, подслушивали. Все это было пыткой и ничем хорошим закончиться не могло. А в Москве сердце уже подсказывало царю, как дальше быть с «закадычным другом былых лет».
Да и Алексей Басманов осторожно подсказывал:
– Ах, государь, зря мы Курбского в Ливонию отправили, зря!
– Отчего же зря? Неужто думаешь… сбежит?
Но Басманов открыто не отвечал, только недвусмысленно поводил плечами.
– Нам бы стоило его воеводой в Казань, – подсказывал он, – там бы князь Андрей не разгулялся. Бежать-то некуда – разве что в Крым. – Басманов усмехался. – Так в Крыму его имя хорошо знакомо, там бы с него за ту же Казань быстро шкуру-то живьем содрали. А европейцы не так ему опасны – примут, да в объятия еще заключат.
Именно Алексей Басманов и другие выскочки, составлявшие новый ближний круг Иоанна, знали, сколь был мил Курбский прежде государю. Мил и люб…
Черный монах Сильвестр стыдил царя и понукал им. Придворный аскет Адашев, не желавший замечать перемен в царе, хотел быть Иоанну – своему сверстнику! – едва ли не отцом. Курбский же, корень Рюриков, был ему и наставником, и веселым сотрапезником, и примером в бою. Сам Иоанн ратного дела страшился, но наблюдать за сечей любил. А бесстрашный Курбский был в бою первым, чем втайне вызывал восхищение младшего друга. Но главное, был князь Андрей душевным собеседником в любой день и час жизни Иоанновой. Оба тяготели к словесной премудрости, к наукам книжников. Если в ком и видел царь идеал образованного мужа и храброго воина, так это в Андрее Курбском, своем искреннем друге. Подсечь Курбского – значило расправиться с последним из тех, кто управлял вместе с Иоанном всей Русью, ставил ее на ноги, венчал на царство первого из великих князей Московских.
– Не посмеет он бежать, – вяло сопротивлялся Иоанн. – Я жизни его не лишил, на Белоозеро не сослал и не постриг в монахи, как друзей его, вотчины не лишил. Благодарен должен быть, молиться за царя должен.
Но была ахиллесова пята и у Курбского: знал он все страхи Иоанновы, вероломство и коварство его натуры, видел его жалким и ничтожным в иное время, хотя сам жалким и ничтожным никогда не был! Так неужто царь хуже и слабее кого-то?! Может, стоило и ему, Андрею Михайловичу, побывать в той же шкуре, в коей часто оказывался его трусоватый, завистливый и злопамятный друг?..
– А коли и впрямь ослушается, обманет меня князь Андрей? – спросил-таки царь у своего поверенного.
– Рвать плоды с дерева, так все, государь, – со всей серьезностью тотчас подсуетился Басманов. – Полнее корзина – слаще трапеза!
Ушел в землю снег и вскоре обернулся первой травой и ранними цветами. Весна все ярче окружала город Дерпт с его мрачными башнями и крепостными стенами – в том числе двумя главными дорогами, одна из которых вела на восток, в Москву, где над всяким, кто не хотел быть рабом, сгущались черные тучи, грозя смертью, а другая – на запад… Объезжая окрестности города со своим ординарцем или в одиночестве, князь Андрей Курбский все чаще поглядывал в сторону Вильно. Сердцем чувствовал, что последние дни отпущены ему на то, чтобы решиться на самый важный и самый тяжелый поступок в своей жизни…
В один из вечеров, когда он писал письмо своей жене, его ординарец Василий Шибанов засуетился у высокого и узкого окна с раскрытыми настежь створками.
– Что там? – спросил князь.
– Войско русское, – отозвался ординарец.
Василий Шибанов был одним из самых доверенных Курбскому людей, которые еще остались при нем и которого он любил по-отечески.
– Да откуда ж оно взялось-то, войско это, коли и весточки не было о том? – отрываясь от письма, вновь спросил Курбский.
– О Господи, – прошептал неожиданно ординарец. – Боже праведный!..
– Да кто же там? – окликнул князь нетерпеливо.
– Первый палач государев со своими прикормышами пожаловал – с целой ратью!
– Малюта?! – Курбский даже привстал с кресла. – Скуратов? Он?!
– Он, – кивнул ординарец. – Он, душегубец и злодей…
В три шага князь Андрей, опрокинув кресло, оказался у окна: в замковый двор въезжала конница, предводителем которой и впрямь был Малюта Скуратов. Хоть и находился тот далеко, трудно было не узнать его – низкорослый, широкоплечий, квадратный. Рыжий. Первый палач государев, едва въехав, сразу высоко задрал голову. По-хозяйски оглядывал Малюта окна Дерптского замка, словно в одном из окон непременно хотел увидеть лицо того человека, по душу которого он сюда явился.
Андрей Курбский отступил от окна – он все понял сразу. Весть оказалась внезапной и страшной, как удар наемного убийцы, вынырнувшего из-за угла дома.
– Что же, ваша светлость, теперь будет? – осторожно спросил ординарец. – Не к добру такой гость, ясно ведь…
– За мной он приехал, будь уверен, – поник князь Андрей. – Не знаю, успею ли дописать письмо, додумать все, что хотел супруге сказать… Ты вот что, Василий, если они сейчас заявятся, найди способ письмо-то мое отправить, обязательно найди…
У ординарца были несчастные глаза, он обреченно усмехнулся:
– Неужто думаете, что ежели они вас во враги запишут, то меня свободным оставят? Нет, ваша светлость, если уж по вашу душу Скуратов пожаловал, так погибать нам вместе…
Бледный, Андрей Курбский кивнул:
– Ладно, ступай тогда, найди Григория Засекина, если он в крепости, и позови его. Скажи, нужен он мне…
Андрей Курбский, стоило ординарцу выйти, закрыл лицо руками.
– О Господи, – прошептал он, – опоздал, опоздал!
«И жену с сыном из своих поместий не вызволил, думал, там им спокойнее будет, – шагая по кабинету, терзался он, – и сам лисой в норе оказался, вокруг которой уже псы охотничьи так и рыщут!»
Курбский подошел к другому окну, выходившему на юго-западную сторону обширного города Дерпта, как раз на Вильно. А ведь сколько раз на тех или иных переговорах, зная, что творится в Москве, как льется там кровь избранных и невинных, намекали ему послы Сигизмунда, что примет его король – как родного примет! Да все мимо ушей пропускал он эти слова, и думать не хотел о побеге. А теперь вот жизнь сама заставила…
Прошел час, но к нему никто не приходил. Дописывать письмо у него не было сил – да кому в руки, еще неизвестно, оно могло попасть! Князь сжег его в камине. За окном стало смеркаться. Андрей Курбский опасался выходить из своих апартаментов. Он то садился в высокое кресло, то вставал и шагал по кабинету. Затем бросился в покои, вытащил из-под кровати сундучок, сорвал с шеи ключ и открыл его. Золото, серебро, каменья. Нашел прочную кожаную суму. Из монет выбрал только золотые, переложил их туда, следом отправил и драгоценные камни. Покачал суму на руке – тяжелой та оказалась. Трофеи ливонские да казанские… Поклажа беглеца.
Шагнул затем к одному из больших сундуков, откинул крышку, принялся рыться в нем. На самом дне отыскал то, что ему было нужно: чем обзавелся в Дерпте, едва прибыл сюда.
С тяжелой ношей в руке и плотным кольцом веревочной лестницы в другой его и обнаружили воевода Григорий Засекин и ординарец Василий. Григорий лишь мельком взглянул на суму, которую держал пресветлый князь, а на веревку и внимания не обратил.
– Скуратов-Бельский в Дерпт пожаловал, чтобы завтра город осмотреть, – быстро сказал молодой воевода. – Все по царскому указу. Сегодня пировать будет со своими, им свинью зарезали, вино и хлеб несут, а вот завтра…
– Что завтра? – перебил Курбский. – В оборот меня возьмет? Найдет оплошность малую и врагом царя объявит?
Только тут Григорий обратил внимание на веревочную лестницу. Нахмурился, затем глаза его широко распахнулись:
– Да неужто решились?!
– Именно так, Григорий, именно так. От тебя одно требуется. Сегодня ведь твои в карауле со стрельцами на пару, верно?
– Мои, – кивнул тот.
– Тогда слушай внимательно…
Недаром, приехавши служить в Дерпт, князь Андрей выбрал для своих апартаментов не самую обжитую часть замка, где сейчас пировал Малюта, а главную крепостную башню, частью окон выходившую на запад. Тогда его еще спросили, почему, мол, не хочет взять более удобные комнаты, ранее принадлежавшие магистру, а он дальновидно ответил: «Потому не хочу, что басурманский дух слишком силен. Вот выветрится, тогда и перееду». Новая свита рассмеялась – ему поверили. И вот теперь, распахнув створки высокого и узкого оконца, он смотрел на ночную ливонскую землю – весеннюю землю, и задыхался от пронзительной свежести! Это окно было угловым – сторожевым, самым крайним. Курбский знал, что там, внизу, вьется дорога, идущая от западных ворот замка и уводящая прямиком к лесам.
– Василий, крепи лестницу! – обернувшись, негромко проговорил он в черную пустоту холодной комнаты.
Свет они разжигать боялись, даже свечу не запалили, и камин потушили в придачу. Ординарец закрепил лестницу в двух местах – там, где из стены торчали железные крючья с гнездами для факелов. Андрей Курбский проверил крепеж, бросил: «Сам! Сам!», взял лестницу из рук ординарца и, перегнувшись через камень, стал медленно опускать ее вниз. Та потекла бесшумно, отрываясь и вновь прилипая к стене.
– А короткой не будет, пресветлый князь? – спросил Василий.
– Не должна, – мрачно буркнул он.
Расчет оказался правильным: конец лестницы лег прямо к подножью замка, хотя они и с трудом видели это.
– Лезь, – пропустил ординарца вперед Курбский.
Василий, при мече и кинжале, быстро оказался в проеме окна и начал спускаться вниз. Минут через пять князь Андрей услышал негромкий хлопок в ладоши. «Господи, – думал он, – жену и ребенка кровожадному змею оставляю, ибо с собою взять не могу! Погубит ведь их, погубит!»
Мог он еще остаться, пока был здесь. Мог дождаться утра и ареста, скорой расправы тут, в Дерпте, или плахи в Москве. Но жизни бы он им не спас: Иоанн всех губил семьями, чтобы уделы и поместья полностью присвоить. Или так он утешал себя и судьбу заговаривал?
Внизу еще раз хлопнули в ладоши.
– Прости меня, Господи, прости! – шепотом проговорил Андрей Курбский и трижды поспешно перекрестился.
Перекинув тяжелую кожаную суму через плечо, князь забрался в проем окна и тоже стал осторожно спускаться вниз…
…Они бежали к опушке соснового леса у западной дороги. В темноте, уже совсем близко, тихонько заржала лошадь. Вытащив мечи, теперь они крались, всматриваясь в тяжелый сумрак.
– Уж не зарезать ли меня хотите? – спросили у них из темноты.
– Григорий, ты?
– Я, пресветлый князь!
Заправив мечи в ножны, они зашагали скорее и тотчас наткнулись на двух всадников – Григория Засекина и его ординарца Пантелея. Рядом стояли еще четыре оседланных лошади.
– Где достал их? – спросил Курбский.
– За ваше золото купил, – ответил Григорий. – Тут цыгане неподалеку – что хочешь, можно у них взять за звонкую монету, хоть невесту из табора, а уж лошадей-то – и подавно! К одной из них и провизию вам привязали – пригодится. – Он оглянулся на дорогу: – Как поедете?
Оба – Андрей Курбский и его ординарец – вскарабкались на лошадей.
– В сторону Вильно поедем, на Литву, – прямо ответил Курбский. – Есть у меня по дороге знакомцы из литовцев, только бы до Вольмара добраться, а там как по маслу пойдет, еще и охрану получу.
– Тогда не теряйте времени, уходите, – посоветовал Григорий. – До утра можете ехать безопасно, а там вас Малюта хватится как пить дать.
Василий хлопнул своего жеребца по шее:
– Добрый конь – знают цыгане толк в лошадях! Так что, пресветлый князь, едем?
Курбский взглянул на Григория:
– У тебя родни на Руси много?
– Отец умер, брат есть, а что?
– Бежим со мной. Господь милостив – нас простит, а родню нашу убережет. Малюта и за тебя взяться может, сейчас у каждого над головой топор завис. Бежим?!
Пантелей вытаращился на хозяина: и его судьба сейчас решалась.
– Нет, – покачал головой Григорий, – я останусь, пресветлый князь. Малюта за вами пришел – не за мной. А Господь и впрямь милостив: коли заслужил я – поможет. Вы же уходите, не тяните долее.
Андрей Курбский понимающе кивнул:
– Тогда еще раз скажу: просись служить на окраины – подальше от Москвы. В дни, когда правят тираны, лучше быть подальше от столицы! А на границах всегда нужны воины, и головы им понапрасну не секут. – Усмехнулся: – По крайней мере, не так часто. Так лучше уж от басурманского меча во славу земли родной погибнуть, чем абы так, на потеху черни, раздавленным быть. И еще: я твоей услуги никогда не забуду! Ты помни об этом и я помнить буду. А теперь – прощай. Прощай, князь!
И вместе со своим ординарцем и сменными конями Курбский стал уходить в темноту. Ночная дорога и черный лес стремительно укрывали их. Провождая взглядом Андрея Курбского, своего прежнего полководца и наставника, а ныне – преследуемого беглеца, Григорий не сомневался, что видит пресветлого князя последний раз в жизни.
Но он ошибался – еще одна встреча была у них впереди…
14
Добравшись до Вольмара, Курбский был встречен литовцами с почестями. Жаловал король Сигизмунд II Август всех дворян, кто бежал из Москвы под его крыло! Велел обращаться с ними милостиво, по-дружески, с точностью до наоборот, как с ними обходились на Руси. А тут прибыл видный аристократ – полководец из великокняжеского рода. Пусть даже и Литве нанесший немалый урон. Вражда была тотчас забыта – к чему теперь она? Старый король Сигизмунд надеялся, что возобновится старое правило – переходить от одного государя к другому. А тут на престоле московском – чистый дракон, так как от него не сбежать?!
Но великая тяжесть была на сердце у Андрея Курбского, и, едва прибыв в Вольмар, он сел писать бывшему своему государю письмо. Всё кипело в нем – он знал, что перечеркнул свою жизнь: как русского дворянина, так и отца семейства, ведь оставил жену и девятилетнего сына этому самому дракону. Все было перечеркнуто, и потому письмо его превращалось в крик – обжигающий крик!
«Царю, некогда светлому, от Бога прославленному, – писал Курбский, торопливо скрипя гусиным пером, – ныне же по грехам нашим омраченному адскою злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному меж самыми страшными владыками земли! – Глаголом он жалить его собрался, бывшего государя своего, и жалил, жалил! – Внимай! В смятении горести сердечной скажу мало, но истину! Почто замучил ты вождей знаменитых и сильных, данных тебе Вседержителем, и святую, победоносную кровь их пролил во храмах Божьих? Разве они не пылали усердием к царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками, христиан – чародеями, свет – тьмою и сладкое – горьким! Чем прогневали тебя сии сыны отечества? Не ими ли разорены Батыевы царства, где предки наши томились в тяжкой неволе? Не ими ли взяты твердыни германские в честь твоего имени? И что же воздаешь нам, бедным? Гибель! Гибель!..»
Он писал и писал. Послание вышло длинным. Но Андрею Курбскому хотелось, чтобы оно немедленно дошло до адресата. Это грозило стать для него навязчивой идеей, и тогда он спросил у ординарца Василия Шибанова:
– Вернешься в Москву, передашь царю послание? Откажешься – не обижусь, не прогоню. Грамоту посольскую от литовцев тебе сделаю. Ну же, говори…
– Поеду, пресветлый князь, – ответил тот.
Василий Шибанов в сопровождении отряда литовцев двинулся на Русь, на границе они его покинули, боясь за себя, и вскоре он оказался в Мариенбурге. В Дерпт, из которого вместе с князем они сбежали неделю назад, Шибанов ехать не рискнул: если Малюта был все еще там, ему могла грозить немедленная смерть.
Еще через две недели Василий прибыл в Москву и сразу поехал в Кремль. Его сопровождал отряд русских стрельцов. Когда царю доложили, кто таков посланец и какой гостинец привез с собой, Иоанн едва не задохнулся – и от гнева, и от желания скорее прочесть письмо. Он не стал приглашать посланца изменника Курбского в свои палаты – сам решил выйти к нему на красное крыльцо, и не один, а в окружении свиты. Грозно смотрел Иоанн на воина, которого уже не числил в живых. И смело смотрел ему в глаза Василий Шибанов.
– Кто таков? – спросил Иоанн.
– Василий Шибанов, посол его величества короля Сигизмунда Августа, – встав на одно колено и поклонившись, ответил тот. – Привез тебе послание от господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Курбского.
– От господина твоего?! – в гневе воскликнул царь, хотя дал себе слово вести себя величаво и невозмутимо, но тотчас собрался. – Где же послание оного беглеца?
Шибанов достал из-за пазухи свиток.
– Встань и подойди ко мне, ординарец, изменник отечества своего, – проговорил царь грозно.
Побледнев, Василий встал с колена и на виду у затаившего дыхание царева двора поднялся по ступеням.
– Разверни и читай, – приказал Иоанн.
Он заранее решил, что не станет сам читать письмо и не даст его читать никому из бояр. Но поручит читать его трепещущему посланцу Курбского, и потому строки будут плыть у того перед глазами и голос дрожать в страхе.
Шибанов подчинился: развернул свиток, но – вздрогнул от первых же строк, похолодел…
– Читай же! – взревел царь и, подняв стальной, в каменьях посох, заостренный на конце, вонзил его в ногу Шибанова – пробив сапог, плоть, сломав кости.
Ординарец пошатнулся, от боли в лице его не осталось ни кровинки, но удержался и не упал. Да и острый посох пригвоздил его к деревянному крыльцу.
– Читай же, – повторил Иоанн.
И ординарец стал читать, стараясь говорить внятно и громко. И уже с первых строк – «Царю, некогда светлому, от Бога прославленному, ныне же по грехам нашим омраченному адскою злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному меж самыми страшными владыками земли!..» – Иоанн понял, что совершил великую глупость, разрешив дать огласку посланию Андрея Курбского.
А потом прозвучали слова: «И что же воздаешь нам, бедным, за все? Гибель! Гибель!..»
Ординарец князя говорил, и теперь бледнел царь. Проглотили язык бояре и князья, стрельцы и дети боярские. Каждое слово жгло слух Иоанна, как и надеялся сам Курбский. А Василий Шибанов продолжал: «Разве ты сам бессмертен? Разве нет Бога и правосудия Вышнего для царя? Не описываю всего, что претерпел я от твоей жестокости, – еще душа моя в смятении. Но скажу одно: ты лишил меня святой Руси! Кровь моя, за тебя пролитая, вопиет к Богу. Он видит сердца. Я искал вины своей и в делах и тайных помышлениях; вопрошал совесть свою, внимал ответам ее и не ведаю греха моего пред тобою. Я водил полки твои и никогда не обращал их спиною в врагу: слава моя была твоею славой. Исчисли же битвы и раны мои! Не хвалюсь: Богу всё ведомо! Ему поручаю себя, в надежде на заступничество святых и прадеда моего – Феодора Ярославского. Мы расстались с тобою навеки: не увидишь лица моего до дня Страшного суда. Но слезы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся мертвых: убитые тобою живы для Всевышнего: они у престола Его требуют мести! Не спасут тебя воинства, не сделают бессмертным ласкатели, бояре недостойные, товарищи пиров и разврата, губители души твоей, которые приносят тебе детей своих в жертву! Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и явлюсь с нею на суд Божий!»
И когда Василий Шибанов, под сапогом которого растекалась кровь, закончил читать, Иоанн не сразу опомнился, ожил. А потом, взглянув в бледное лицо посланца, на его дрожащие от боли губы и пот, катящийся по лбу, только и сказал:
– В пыточную камеру его! Хочу знать, как бежал велеречивый изменник Андрей Курбский и кто помогал ему в том.
Тяжело вытащил из сапога Василия острый посох, повернулся и вошел в красное крыльцо, и только тогда, пошатнувшись, Шибанов повалился на руки карателям-стрельцам…
Он не сказал ничего: умер под пытками, хваля своего господина и уповая на милость Божью. А царю теперь предстояло оправдываться перед всем миром. Ему ли было не знать, что письмо Курбского станет известно всей Европе, так или иначе вовлеченной в политику Москвы, Польши и Литвы?! Да и он позволил своим московитам услышать его – наглотались теперь яду! Ответ должен был стать не просто достойным – превосходным!
Иоанн диктовал послание еще до того, как Василий Шибанов испустил в пыточной камере свой последний вздох. Сердцем диктовал, всей горячечной душой своей. Над каждым произнесенным словом, которое записывал за ним трясшийся от страха дьяк, царь трепетал яростно, с величайшей страстью: «Во имя Бога всемогущего, Того, кем живем и движемся, кем цари царствуют и сильные глаголят, смиренный христианский ответ мой бывшему русскому боярину, нашему советнику и воеводе, князю Андрею Михайловичу Курбскому, восхотевшему быть Ярославским владыкою…»
Идея обвинить Курбского в том, что тот якобы захотел встать на престол великих князей Ярославских и тем самым отделиться от Московского царства пришла Иоанну по ходу письма – должен он был найти повод обвинить своего бывшего друга в явном и страшном предательстве перед всем миром. Иоанн знал: ближние не поверят, зато народ поверит!
«Почто, несчастный, губишь свою душу изменою, спасая бренное тело бегством? Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не захотел умереть от меня, строптивого владыки, и наследовать венец мученика? Что жизнь, что богатство и слава мира сего? Суета и тень. Блажен, кто смертью приобретает душевное спасение! Устыдися раба своего Шибанова, ибо он-то сохранил благочестие перед царем и народом: дав господину обет верности, не изменил ему и у врат смерти!»
Не только изменником и трусом назвал царь своего бывшего товарища. Курбский заварил кашу, так есть ее им обоим, и вдоволь, – решил Иоанн. Многое что он припомнил ему: и позорное поражение под Невелем, и проявленное, по его мнению, малодушие под Казанью, и грабеж городов, отданных Курбскому в удел, и смерть жены своей Анастасии, да много чего! И лгал он хорошо, пиша так: «Хвала Всевышнему: Русь благоденствует, бояре мои живут в любви и согласии, одни только друзья ваши и советники еще во тьме коварствуют!» Но главным было не это! Призванный стать наместником Бога на земле, церковью на то венчанный, царь Иоанн Васильевич в праведном гневе сообщал беглецу: «Доселе Руси владетели были вольны и независимы: жаловали и казнили своих подданных без отчета!»
Вот оно, самое главное! Он, Иоанн, – царь, и нет для него закона на земле, кроме закона собственной воли! И все перед ним – смерды, рабы трепещущие, с радостью обязанные получать от государя и похвалу, и смерть!
Их переписке и впрямь предстояло стать известной всей Европе, во многом еще они успели обвинить друг друга. Но переписке суждено было оборваться так же стремительно, как она и началась…
Осенью все того же 1564 года Польша, Литва и Ливония, уже почти ставшие единым государством, перешли в контрнаступление…
Решающее сражение состоялось у пограничной русской крепости Озерище. Вторым воеводой полка левой руки был Григорий Засекин. В памяти русских все еще держались недавние победы – и в первую очередь победа под Полоцком, – но история не желала более помогать царю Иоанну. Фортуна в Ливонской войне изменила ему раз и навсегда, и Озерище стало первым поражением в непрекращающейся уже череде роковых неудач.
Русские войска были разбиты и отступали. Воевода Григорий Засекин потерял больше половины своих людей – конных дворян и стрельцов. Тогда-то с холмов, которые он оборонял, Григорий и увидел литовского полководца: в сверкающем доспехе и шлеме с плюмажем, с двуручным мечом в руке, плечом к плечу с другими рыцарями тот пробивался через русские ряды. Рядом с ним был знаменосец – польский стяг, забрызганный кровью, бился на осеннем ветру. Московиты отступали все поспешнее и в любую минуту готовы были сорваться на бег. Тогда литовский полководец сорвал с головы шлем и передал его оруженосцу, тряхнул головой – по лицу его так и катил градом пот. И Григорий узнал его – слухи не врали! Это был князь Андрей Михайлович Курбский, и сейчас его меч обрушивался на головы новых врагов – его соплеменников, недавних соратников, может быть, друзей…
Литовский полководец влетел с отрядом на холмы, где держал уже обреченную быть сломанной оборону князь Засекин, и они оказались почти лицом к лицу. Невеликое расстояние теперь разделяло их. Но Андрей Курбский был победителем, окруженным надежными рыцарями, уже вволю вкусившими русской крови, готовыми к новым подвигам, а вокруг Григория царили сумятица, паника, общая и неизбывная гибель.
Их взгляды пересеклись – Курбский узнал его! И тогда – воевода Засекин мог в том поклясться! – они одновременно вспомнили одну и ту же фразу, оброненную русским беглецом рядом с Дерптом: «Я твоей услуги никогда не забуду: ты помни об этом, и я помнить буду!»
– Уходи, Засекин! – яростно прокричал Курбский, махнув сверкающим мечом. – К озерам уходи! Я мимо пройду! Уходи!
И тогда Григорию стало ясно: битва проиграна окончательно, сам он на пороге смерти, так что выбрать? Но в такие минуты, знал он так же хорошо, каждый – за себя. А Курбский слово сдержит – отпустит его. Все решили мгновения. Кивнув литовскому полководцу, он повернул коня и рванул за отступающими стрельцами, которых сейчас по обоим флангам давили польско-литовские рыцари. И еще Григорий сердцем знал, перелетая на коне через трупы своих и молясь, чтоб не зацепила его ненароком вражья стрела, что теперь уже точно никогда не увидит князя Андрея – их дороги стремительно разбегались в разные стороны…
Победа польско-литовских рыцарей под пограничным городом Озерище стала не единственным поражением русских войск. Вся евроазиатская политика Москвы трещала по швам. До решающего наступления Сигизмунд II Август вошел в союз с Девлет-Гиреем, тот выдвинул свою армию из Крыма на север и скоро был под Рязанью. Алексей Басманов, погубивший большинство полководцев Иоанна, должен был доказать, что и он способный воевода. К счастью, в Рязани оказалось много его имений, и служилые дворяне, ему подчинявшиеся, сплотившись по первому требованию, смогли отстоять город. Любое уклонение впоследствии могло грозить им самим и их семьям жестокой смертью. Но стремительный набег крымцев оказался опустошительным и кровавым. Царь запаниковал: еще недавно он смело шагал по Литве, а теперь его теснят со всех сторон! Поражения, нанесенные крымцами и Литвой, заставили его отступить и на северной Балтике – осенью все того же 1564 года Иоанну пришлось отдать шведам, казалось, завоеванные на веки вечные крупнейшие прибалтийские города-крепости Ревель и Пернов. Хорошо еще, шведы не пошли дальше: благодаря дипломатическим способностям дьяка Висковатого, возглавлявшего посольский приказ, Русь заключила с королем Швеции семилетний мир.
Царь стремительно терял былые завоевания почти на всех направлениях. А русская земля, обложенная военными податями, скудела и хирела. В упадок приходили целые уезды. Злой и холодный ветер понес по русской земле семя общего недовольства, страха и непонимания, обещая коснуться каждого. Мужики уходили на окраины, бояре роптали, дворяне, уставшие от войны, жаждали передышки. Неограниченная власть Иоанна Васильевича не выдерживала испытания временем, а значит, становилась под угрозу. Сам же государь не желал этого признавать, ибо однажды свято и на всю жизнь уверовал, что власть ему дарована небом, а значит, он волен, как писал еще недавно в Литву, казнить и миловать по единому порыву души своей.
15
Поздней осенью на берегу Оки стоял худой человек и смотрел на север, в сторону Москвы. Длинные седые волосы его трепал ветер. Был он в черной монашеской рясе, подпоясанной бечевой, в лаптях, с узловатым посохом и сумой через плечо. Сразу видно – святой странник. Много таких на Руси! Две девушки, возвращавшиеся с лукошками в деревню, еще издали приметили путника, а когда поравнялись с монахом – пожалели: одна из них окликнула его:
– Странничек, корочкой хлеба не угостить? А то осталось у нас! Во имя Господа, отведай!
– Благодарствую! – ответил тот, обернулся, и страшным оказалось его изуродованное лицо – точно когда-то с него живьем содрали кожу. Раздавленное, поломанное. Человек смотрел на девушек одним только глазом – правым. А на левую половину лица его они и глядеть не отважились. Улыбался он криво, ну точно леший! Не злой, правда, и совсем еще молодой…
Та из девушек, которая предложила хлеб, вытащила его в тряпице, положила рядом с дорогой, на пожухлую траву, и обе, тотчас прибавив шаг, без оглядки заторопились в деревню.
Ковыляя, человек подошел к подарку, взял его изувеченной рукой, положил в суму и вновь, неловко шагая, вернулся на крутой берег. И вновь принялся смотреть на север, в сторону Москвы. А еще – вспоминать…
Вот, оторвав голову от соломенного тюфяка, чувствуя, как боль пронзает все тело, в полной темноте он спросил: «Где я? Что со мной?!» «Взяли мы вас к себе, барин, – услышал в ответ. – Видели мы, как вы барышню нашу защищали, не смогли вас на дороге оставить, выходили, иначе бы Господь не простил нам такого греха, и сами бы мы себе не простили. Так-то вот. Так-то…» А потом прошло еще время, и он стал кое-что различать одним глазом. Но боль оставалась и жгла его – и днем, и ночью, и наяву, и во сне. Он стал ковылять и все порывался найти медное блюдце или водицу в горшке, чтобы посмотреть на себя, но эти нехитрые зеркальца от него прятали. А далее пришло время поблагодарить хозяев и идти своей дорогой. «Мне ведь теперь в Москве быть нельзя, узнают – пытать будут и убьют», – сказал он. Сердобольные хозяева с горечью ответили: «Кто ж тебя таким узнает-то, барин? Смело шагай в новую жизнь – без оглядки. Теперь ты – другой человек. И лицом другой, и силушкой. Вместо меча теперь – посох тебе порукой. Главное, душу сохранил, а кому она принадлежит, главное, Богу ведомо, а другим знать и ненадобно».
Так он и шагнул в другую жизнь: поначалу боязливо, а затем, заглянув в свое сердце, пошел все увереннее, смелее…
И теперь с берега Оки, под свинцовыми облаками, он смотрел на холодную осеннюю воду и леса на том берегу, что тянулись и тянулись на север – в сторону Москвы. Никто и нигде не ждал его. Для царя он оказался изменником и врагом, для друзей и родных – умер. Да и не хотел грозу навести на них.
Но для мира и Бога он был жив. А это уже немало…
Он стоял в середине той земли, что уже жила в преддверии великой бедой. Держась за посох изломанной рукой, обнаженным сердцем своим он чувствовал ее приближение. Она звучала во всем – в грозном пасмурном небе и холодном ветре, в ранящих слух тревожных криках птиц.
Петр Бортников не ошибался: великую землю плотно заволакивал морок. И ни единого солнечного луча уже не смогло бы пробиться через эту тьму – не нашлось бы такого солнца.
Русь стояла пред грозными очами государя своего и не знала, как ей быть дальше.
Молчаливо она ждала своей участи…
Глава 3 Круги ада
1
Зимний ветер задувал с Москвы-реки, молочное небо сплошь крыло поземкой. Вьюжило, вьюжило. У Кремля, стоявшего твердыней над замерзшей рекой, у Покровского собора заворачивались снежные вихри. Колкий ветер лез в рукава и за воротник теплого кафтана воеводы, решившего поглубже натянуть на уши остроконечную шапку.
– Ну, здравствуй, князь! – его обняли сзади, да так неожиданно, что Григорий автоматически схватился за саблю.
Но голосок-то был ласковый, нежный! Развернули к себе…
– Марфуша! – не сдержавшись, воскликнул он. – Марфушенька…
– Она самая, князюшка, – ответила девица.
В длиннополой шубе и теплом расписном платке, раскрасневшаяся Марфуша тотчас спрятала руки в муфту. Она была все такая же красивая, яркая, веселая. Улыбка так и гуляла от нежданно-негаданной встречи по ее пухлым алым губам, и карие глаза блестели задорно, маняще. От нее легонько тянуло сладким вином, медом и маком – не иначе, угощалась только что в ближайшей корчме крендельками, да запивала их на славу.
– Давно не виделись, князь, – рассмеялась она. – А ведь я по тебе скучала! – Грея руки в муфте, она потянулась к нему, приникла к груди. – По ласкам твоим скучала, – подняла на него глаза, – ты уж прости, что откровенна – пьяна я нынче немного. Но по рукам твоим вправду скучала, по всему тебе, князюшка милый…
От слов Марфуши и его обожгло, все в нем вспыхнуло, вспомнил он ее ласки, какая она нежная и умелая, сладкая – как то вино, что пила нынче.
– Дай, поцелую, – попросил он.
– Целуй, – улыбаясь, ответила она, – только крепче, князь, растаять в руках твоих хочу! Твоей быть…
Эти слова совсем закружили его, едва не оступился – в голове помутилось, во всем теле. Но поцеловать успел…
– Погляди, князь, сани едут – и много саней! – когда оба перевели дух после первого поцелуя, весело кивнула ему за спину Марфуша. – Царь на богомолье, видать, собрался. Да отчего ж воинство такое вокруг него? Погляди же!..
Григорий обернулся: великий санный караван полз от Кремля. Все ближе, ближе. Вот и вельможи царские в санях, оглядывают москвичей. Тут тебе и Алексей с Федором Басмановы, и князь Афанасий Вяземский, и кравчий Василий Грязной… Царский палач Малюта Скуратов на вороном коне, а с ним рядом…
Князь быстро повернул Марфушу к себе, прижал лицом к запорошенному снегом кафтану, чтобы и не трепыхнулась! Но Степан Василевский, лишь уколов его взглядом – узнав! – и бровью не повел. Немы были слуги государевы! Все лица бесстрастны и холодны – изо льда словно.
А вот и царские сани – горбоносый профиль и остроконечная борода государя проплыли совсем рядом с Григорием. Царь неожиданно обернулся, полоснул взглядом по воину, но взглядом невидящим, будто слепым…
…Это воскресенье 3 декабря 1564 года показалось москвичам, что находились поблизости от Кремля, необычным и настораживающим. Свидетели всех сословий молчаливо наблюдали, как из кремлевских ворот одни за другими выезжали запряженные тройками сани – десятками! Сани шли в сопровождении вооруженной до зубов дворянской конницы и стрельцов. Государь со всей семьей и двором, окруженный небольшой армией, покидал вековой оплот великих князей Московских.
Точно в поход собрался! В молчании уезжал…
«Это что ж такое?» – спрашивали одни, притаптывая на холоде, стуча сапогами о сапоги. «Государь на богомолье едет!» – поеживаясь, отвечали другие. «Отчего ж стрельцов так много?» – спрашивали третьи. «А кто ж его знает!» – отвечали четвертые. А сани всё выезжали и выезжали из Кремля, и было заметно, что поклажи на них – не счесть. Армейский обоз, да и только! И тогда самые неспокойные и прозорливые заметили: «Да никак государь навсегда из Москвы уезжает. Бросает нас!» И вот тут уже заволновались многие, стали громче перешептываться, и вскоре загудели москвичи: бросает их царь, бросает!
На самом же деле было вот что: взяв семью – жену Марию Темрюковну и детей, – Иоанн и впрямь отправился на богомолье в подмосковное село Коломенское, заодно решив там отпраздновать Николин день, выпадавший на 6 декабря. Но правы оказались те, что насторожились при виде и непривычно большого царского обоза, и маленькой армии, сопровождавшей государя. На санях, укрытых шубами, царь вывозил всю государственную казну, все золотую посуду из своих палат и все церковные святыни: иконы, кресты и прочую церковную утварь. Вывозил так, точно обратно возвращаться и не собирался. И сопровождал его на этот раз не обычный отряд из дворян и детей боярских, но целое войско тех, кто был предан ему беззаветно и мать с отцом не пожалел бы, прикажи царь убить их.
– Да что с тобой? – отстранившись, спросила Марфуша. – Все румяна на твоем кафтане остались!
– Не хотел, чтобы тебя один наш общий знакомец приметил, – ответил Григорий. – Догадываешься, какой?
Подведенные брови Марфуши нахмурились, складочка появилась в уголках губ.
– Степан? – спросил она.
– Он самый, – кивнул Григорий. – Так зыркнул, точно проглотить надумал! Высоко поднялся – царя самого на богомолье сопровождает. Рука об руку с первым палачом Руси едет – велика же честь! – Он посмотрел в глаза милой ему гулящей женщины. – Поедем ко мне, Марфуша? Или к тебе. Купим вина и снеди – устроим пир! Я ведь за новым назначением приехал. Завтра в разрядном приказе узнаю – то ли мне в Ливонию возвращаться, а то ли на юг идти, супротив крымцев. Все на нас наступают – крови нашей хотят. – Он прижал ее, загрустившую, к себе: – Мало у меня времени, голубушка, почти что и нет вовсе…
2
Из-за неожиданной оттепели и распутья царь пробыл две недели в селе Коломенском. 17 декабря был в селе Тайнинском, оттуда переехал в Троицкий монастырь. К Рождеству царский караван подошел к Александровской слободе, уже готовой принять государя, стать его новой столицей. Правда, эта столица была, скорее, похожа на военный лагерь, ожидающий осады.
– Вот он, мой новый Кремль, – давно пересев из саней на коня, мрачно улыбнулся Иоанн. – И рвы есть, и стены есть, и бойницы!
– А за стенами и бойницами – пушки да пищали, – усмехнулся Алексей Басманов. – И гарнизон надежный: крепость, да и только!
– И речка есть тоже, – продолжал Иоанн, поглаживая длинную остроконечную бороду. – Хоть и не Москва-река, но тоже хороша. Новой родиной станет мне эта крепостица. Домом отчим! Тут, в Александровской слободке, попробуй только какой удельный князь или церковник скажи мне слово поперек, усомнись в моем праве вершить суд – лютой смертью умирать будет. Богом клянусь!
Приближенные из царского кортежа посмеивались, нравился им огонь, который разгорался в сердце их владыки, знали они, что им разрешено будет многое благодаря этому огню: жечь вволю, присваивать и насиловать, лить кровь и жизни губить без разбора.
И вот уже забыв о Москве, бросив управление страной, точно и в помине не было на Руси царя или великого князя, спрятались они в Александровской слободе, за частоколом – крепостной стеной, и грядой из пушек. Со стороны глянешь – лагерь военный, изнутри, лишь распахнешь двери в палаты срубовые, – восточный дворец! Ковры, золотая посуда, девки-прислужницы, на все готовые, вино рекой.
На пиру, что не кончался в слободке, говорил царю Алексей Басманов:
– Ты и сам знаешь, государь, пора охранить себя надежным ближним кругом – от супостатов и врагов! Ведь супротив ливонцев или крымцев ты армию снаряжаешь, иначе погибель будет, а тут свое вражье племя на земле московской – только и ждет, когда ты забудешь о них, отвернешься, спину подставишь! Пора, государь, пора свою армию собирать, отличную от другой, из самых верных и сильных, да просто псов злых, что жизни ради тебя не пожалеют!
– Верно твой Алешка говорит, – поддержала царского фаворита темноокая Мария Темрюковна, одетая в пестрые шелка, возлежа рядом с мужем на подушках. – Армию из верных псов! Сильных и злых!
Поглаживая жену по смуглой руке, всю в браслетах и кольцах, царь слушал внимательно обоих, кивал.
– Бояре и дворяне любят в яркое наряжаться, так мы в черное нарядимся, как твои прикормыши, – заметил он Басманову. – Точно монахи будем – праведные, но беспощадные. А что? – ближний, неразрывный круг. Братство. – Внезапно лицо его точно пламенем осветилось: – Святое братство!..
– Муж мой, – прищурила Мария Темрюковна черные глаза, – а скажи мне, ведь много псов на Руси?
– Двуногих али как? – тоже прищурился Иоанн.
Пирующие засмеялись.
– Нет, четвероногих, – вкрадчиво уточнила Мария. – Тех, что с хвостами и клыками, скулят да воют!
Еще пуще засмеялись царевы товарищи.
– Ой, много! – качая головой, ответил государь. – Кости человечьи ведь надо кому-то собирать? Да к чему же ты про псов вспомнила, милая моя?
Алексей Басманов и прочие теперь уже прислушивались к каждому слову царицы – этой красивой и пугающей змеи. Неспроста завела она речь, неспроста!
– А к тому, что у каждого твоего ратника должна быть на конской шее отрезанная песья голова! – Мария Темрюковна метнула острый взгляд на мужа, и все примолкли; хоть и были хмельны, но слушали внимательно только царицу. – То означать будет, что люди твои беспощадно кусать врагов царевых станут! Наших врагов!
– И чтоб на гнедых конях! Чернее ночи! – подскочил с чаркой в руке Василий Грязной. – Верно, царь наш заступник?!
Царь не ответил – бесовская пляска страстей, как в зеркале, отражалась в его глазах. Вот она – новая «Ближняя дума»! Эти-то в глаза глядят, не отводят их, с полуслова понимают! Родимцы! Рабы ему милые…
– И метлы нужны – метлы! – выкрикнула Мария Темрюковна. Она обвела пальцем с огромным перстнем всех гулявших. – А это значить будет, что метлами своими они станут измену из твоей страны выметать! Великую и малую измену!
– Верно говоришь, – продолжал завороженно кивать Иоанн. – Верно! Святое братство в черных кафтанах, на гнедых конях, с песьими головами и метлами!
– Только сабельки-то одной мало будет, – скромно заметил Алексей Басманов. – Надобно такое оружие, чтобы его не просто боялись – трепетали перед ним! Священное оружие!
– Твоя правда, Алешка! – похвалил царь. – Посох монашеский будет – тяжелый с одной стороны и острый с другой! И длинный кинжал под черным кафтаном! – Иоанн был доволен: вот и дал он ход любимому оружию своему! – Дабы посохами прилюдно бить негодных по головам, а кинжалами пронзать их, когда они того не ждут! Попробуй тут, глаза только подними: око – вон, а за ним и голова с плеч! Любой содрогнется! Я игуменом вашим стану, ты, Алексей, помощником моим, Вяземский, – ткнул он пальцем в князя Афанасия, – келарем. А Малюта, малютка наш… – царь даже головой замотал от умиления, глядя на хмельного, развалившегося в его ногах на подушках Скуратова, – пономарем моим станет! – Иоанн ледяно рассмеялся, и смех его отозвался в каждом – колким морозом пробежал по спинам всех собравшихся на пиру, даже самых бывалых. Только один Малюта и улыбался, совсем по-детски, ничего не страшась. Иоанн погладил пяткой сапога широченное плечо хмельного палача. – Громкоголосым пономарем моим станет Малюта!
Все понимали – и душегубы, и простые подпевалы, и храбрецы, и трусы, – что сейчас здесь, в Александровской слободе, новый закон рождается, новый уклад Руси! Душегуб Малюта – и пономарь?! Все перевернуто отныне: черное белым станет, белое – черным. Все будет дозволено, все разрешено! Добрые и великодушные злыми и страшными названы будут, а злые и страшные – пророками и мессиями! Кровь невинных священным вином прольется, и станут они жадно пить из этой чаши – причащаться воле государевой!
А жажда придет, придет!..
– И пусть звонит Малюта, пономарь мой, во все колокола звонит, о гневе моем извещая! – Лицо говорившего Иоанна неожиданно стало темным, он так сжал руку жены, что та побледнела от боли, но даже при своем характере отдернуть ее не посмела. – О великом гневе русского государя!..
В Москве бояре и священники места себе не находили: царь, Богом данный, и впрямь бросил их, оставил, и на кого же? На самих себя?!
Такого еще никогда не бывало…
Новый митрополит всея Руси Иоанн, что занял место покойного Макария, послал от всего духовенства в Александровскую слободу за ответом: «Где ты, царь?» Толкового ответа не получили, сказали только: царь осерчал, потому-де и удалился.
Спустя месяц после выезда из Москвы царский гонец сам прибыл в столицу и привез две грамоты. Одну передали митрополиту Иоанну, другую – земству: купцам и мещанам. В первой грамоте царь негодовал, и как иначе – накипело же! Он подробно перечислял все коварства боярские, преследовавшие его с малолетства, измены и предательства, злодейства и ненависть к отечеству окаянных, и осуждал митрополита за то, что тот прощает все эти грехи боярам. Во второй же грамоте царь говорил, что к простому народу у него нареканий нет. Но в обеих грамотах сообщал, что «не хочет более терпеть измен и от великой печали оставил государство и поехал, куда Бог укажет ему путь».
Это было уже слишком!
Худшие предположения сбывались: царь и впрямь оставил свой народ, бросил его, осерчал и удалился простым иноком. «Некому править – пропала Русь!» – звенела Москва. И вот уже отправилось в Александровскую слободу посольство от народа русского с грамотой, в которой говорилось: «Казни, царь, своих лиходеев! И в жизни нашей и в смерти – воля твоя! Ты наш владыка, Богом данный! Да не останется царство без главы, как овцы без пастыря своего! Укажи на твоих изменников: сами истребим их!»
Народ, включая все сословия, собственноручно пригласил назад своего ангела смерти. Еще «слезная грамота» не дошла до царя, а по Александровской слободе уже ловили собак и секли им головы, сгонялись все гнедые лошади и шились на скорую руку кафтаны из грубой черной ткани, под которыми новые царские воины обязаны были носить расшитые золотом шелковые рубахи. Для вас, холопы, мы чернее ночи, а для себя, когда дело сделано и можем сесть за стол, – ярче любого солнца! И отныне все поделено будет – вся Русь! Как яблоко, ножом рассечем ее! Берегитесь, кто на другой стороне окажется!
Москвичи получили то, чего так хотели. Точно из преисподней в конце января, когда грянули морозы, въехало в столицу невиданное до того войско – черные ангелы смерти во главе со своим богоданным игуменом – царем Иоанном Васильевичем. В оцепенении смотрели москвичи на возвращение своего государя – такое же молчаливое и бесстрастное, как и отъезд. Но теперь все куда страшнее оказалось! Болтались на лошадиных шеях отрезанные собачьи головы с оскаленными пастями и высунутыми в последней агонии языками, похлестывали по сапогам метлы, а в руках черные воины держали посохи с тяжелыми набалдашниками и отточенными концами, пока еще нацеленными в землю.
Царский караван въехал в Кремль, и Москва вновь замерла в ожидании…
3
Он и впрямь поделил Русь надвое. И с треском разошлось, как отрез плотной ткани, государство на земли царские и земские. Уже скоро первые стали называться землями «опричными», что означало «опричь всех остальных» – стало быть, земских: помещичьих или монастырских. По всей Руси отбирались отцовские вотчины у влиятельных князей и бояр, хоть на толику заподозренных в недовольстве правлением Иоанна и в симпатиях к Владимиру Старицкому. А то и просто потому, что понравились они, эти города и поместья, царю и его приспешникам. На отнятые земли сажались свои, новые, опричные владетели, а старых хозяев бросали на места запустелые, где не разгуляешься. Многих снимали со своих уделов зимой, не давая ни подвод, ни лошадей: на том основании, что отныне здесь все царское, до последней деревянной ложки. И родовитым помещикам с женами и детьми – малыми, а то и грудными, без прислуги, которую отбирали тоже, – приходилось идти пешком; а если кто давал им приют, то неизменно наказывался смертью, стоило только донести на проявившего милосердие. Сводимых со своих земель так и называли – «сведенцами». Бросали их далеко, где они, напуганные казнями своих родственников и друзей, должны были и за страх, и за совесть служить своему грозному государю.
В государеву вотчину вошло более половины русских земель. Все торговые пути, ведущие из Москвы во все стороны света, оставались под зорким взглядом царских опричников. Да и земли Старицкого князя оказались в плотном кольце государевых людей.
Москву, которую Иоанн всегда втайне ненавидел, он тоже поделил надвое: одни улицы ушли в опричнину, другие – в земство. Друзья и соседи, чьи предки веками дружили, теперь ненавидеть друг друга обязаны были, доносить и бояться.
Поделились и люди. Одним нравились государев кураж, вседозволенность и безнаказанность, другие же просто устрашились не попасть в одну с государем упряжку. Что будет стоить тогда твоя жизнь? Жизнь твоих родных? Тьфу, да и только! Сплюнул и растоптал!.. И вот уже в опричных заходили родовитые князья Барятинские, Одоевские и Пронские, Трубецкие и Щербатовы, бояре Бутурлины и Воронцовы, Колычевы и Плещеевы, Салтыковы и Годуновы.
С волками жить – по-волчьи выть.
Поделилась надвое и армия – опять же на земскую и опричную. И за создание опричного корпуса, и за расходы царя, «сбегавшего» от боярских своеволий в Александровскую слободу «на хлеб и воду», земство должно было еще и заплатить – аж сто тысяч рублей!
Отныне и Дума поделилась, две их стало на Руси: опричная, все решавшая, и земская, трепетавшая перед ней.
Иоанн поделил и церковь – уж слишком вольно жилось ей на русской земле! В течение нескольких лет после введения опричнины сменились несколько митрополитов, не желавших мириться с новыми бесчеловечными порядками. Одни сами ушли, другие были низложены. По указу царя-богоизбранника отныне монастыри должны были подчиняться не митрополиту всея Руси, а государю Московскому! Так что и церковь раскололась надвое – и она, как кусок ткани, разошлась с треском…
Собор 1566 года государству примирения не принес. Требовалось продолжение войны с Польшей и Литвой, и дворяне земского города Костромы пришли к царю с челобитной – отважились! – в которой, выражая желание большинства русских дворян, просили государя отменить опричнину. Челобитчиков во главе с князем Рыбиным-Пронским обезглавили, других казнили торговой казнью – публично и до полусмерти иссекли хлыстом.
Кострому же царь присоединил к опричнине.
Собор выразил единое мнение: «За государя животы и головы положим» и «Желаем, чтобы государева рука везде была высока». А куда тут денешься – за костромичами никто идти не хотел! И все же злопамятный царь, в котором бурлили уже воистину демонические страсти, не простит в будущем своевольства иных: в течение нескольких лет половина светских и духовных лиц, присутствовавших на этом соборе, будет казнено.
В Ливонии и Литве в том же 1566-м бушевала эпидемия сыпного тифа – «огневой болезни», как ее называли в народе. Враг Москвы оказался ослаблен, и гетман Ходкевич приехал мириться с царем Иоанном: предложил ему, чтобы каждый остался при своем.
Год для царя выдался «урожайным»! Противников опричнины он скрутил на соборе в бараний рог, явных врагов истребил беспощадно, Владимира Старицкого вновь заставил переселиться с одних земель на другие и поменять окружение, отчего тот остался один на один с враждебным ему людом. Через Нарву Русь торговала с Англией и другими европейскими странами. Сигизмунд II Август – через самого папу римского! – требовал прекратить торговые отношения Прибалтики со схизматиками, но у него ничего не вышло. Выгода и тугой кошелек прежде всего! Все шло столь хорошо, что Иоанн Васильевич выпустил на волю Михаила Ивановича Воротынского и вернул ему имения – хорошие полководцы царю были надобны! И «огневая болезнь» в Ливонии оказалась весьма кстати. Правда, трепала она всех – и чухонцев, и немцев, и завоевателей-русских. В Дерпте же среди многих лежал в горячке и русский князь, молодой воевода Григорий Засекин.
На том же соборе Дума по указу царя вынесла свой вердикт: «За городы ливонские стояти!» Это значило, что война продолжалась…
Только вот с новым митрополитом царь просчитался. На том же соборе 1566 года первосвященником всея Руси был выбран Филипп Колычев. Бывший настоятель Соловецкого монастыря, он пользовался большим уважением среди церковников и мирян. И царь Иоанн возлагал на Филиппа особые надежды – вся боярская родня митрополита ходила в опричниках. Но сам Колычев вступать в опричнину наотрез отказался и, более того, поговаривали, сказал царю: «Возьму духовное управление страной только в том случае, если ты откажешься от опричнины». И будто бы царь пообещал выполнить его условие. Опричнину Иоанн, ясное дело, не отменил, а злодействовать стал еще больше.
Вскоре всю Москву потряс случай с Иваном Петровичем Федоровым, главой боярской думы, хозяином огромных вотчин в Белозерском уезде, человеком беспримерного уважения со стороны всех жителей столицы. Федоров славился своей добродетельностью, это и сгубило его. Иоанн вызвал боярина к себе. Окруженный опричниками, снял с себя царское облачение, отдал его Федорову, приказал одеться, взять скипетр и сесть на трон. Тот не осмелился ослушаться Иоанна, хотя от страшного предчувствия сердце его сжалось. И только Федоров сел на трон, как Иоанн возопил: «Вот чего ты возжелал – власти царской?! Моей власти?!», после чего выхватил длинный кинжал опричника, в два прыжка оказался у трона и пырнул Федорова, а потом приказал своим слугам: «Бейте его! Каждый пусть ударит! Каждый!» И все, кто стоял рядом, стали наносить удары смертельно раненному боярину. Весть о расправе, облетев Москву, достигла ушей митрополита Филиппа. Слухам стоило верить, поскольку все земли бездетного Федорова царь тотчас присвоил – перевел их в опричнину. После злодейского убийства боярина Федорова во время проповедей Филипп все чаще обличал государя в том, что тот рассек страну по живому и казнит направо и налево невинных. Однажды, во время такой проповеди, в Успенский собор вошли трое: царь Иоанн, по правую руку от него Малюта Скуратов, по левую – Василий Грязной. Все были в черном, при оружии, точно приговор пришли исполнять.
Увидев государя, Филипп вышел вперед и с амвона сказал:
– До каких же пор ты будешь проливать кровь христианскую? Сколько еще должна земля наша испытать горя, прежде чем ты остановишься?
– А какое тебе, чернецу, дело до наших государевых дел? – ответил вопросом на вопрос Иоанн. – Не за тем я пришел, чтобы слушать поучения твои – за благословением я пришел!
– Отказываю тебе в нем! – отчеканил Филипп. – Кара тебя ждет небесная за грехи твои!
– Да как ты смеешь? – побледнев, прошептал Иоанн.
Малюта и Грязной вытащили из ножен сабли – храм был им не помехой. Столько уже было совершено убийств по русской земле, и без разбору: палаты то царские, чисто поле или церковь.
– И ты, Филипп, как и прочие, беды мне желаешь, – тихо произнес Иоанн, повернулся и пошел к выходу.
Вложив сабли в ножны, последовали за ним и два верных пса-товарища.
Уже вскоре послушные Иоанну священники во главе с новгородским архиепископом Пименом, царским ставленником, на тайном соборе лишили митрополита Филиппа его сана за выдуманное ими (по ходу дела) «порочное поведение». На следующий день в Успенский собор во время службы ворвались опричники во главе с Басмановым и Грязным, и Алексей сам сорвал с головы Филиппа его митру, а затем и золотую одежду. Прямо из собора Филиппа отправили в заточение; дворян, ему сочувствующих, выслеживали и резали опричники.
«Нет в моем государстве покоя и мира! – жаловался Иоанн своим приближенным. – Измена и предательство всюду!»
Дела военные в затянувшейся Ливонской баталии тоже оставляли желать лучшего. Русские потеряли крепость Уллу, страх перед опричниками заставил сдать Изборск: литовцы переоделись в черные кафтаны, сели на черных лошадей и привязали к их шеям песьи головы – так и въехали в город. Но худшее оказалось впереди: враг неожиданно стал сильнее, собраннее, увереннее. По Люблинской унии 1 июля 1569 года Польша и Литва объединились в государство под единой короной – в Речь Посполитую. А тут вспыхнула новая эпидемия сыпного тифа – докатилась из ливонских пределов, точно кара за бессмысленную войну, кровь и безмерную жестокость русского государя. Сотни людей умирали каждый день только в одной Москве. Хлеб стал дорог, простые люди повсюду голодали, опустошенные поборами земли так и оставались заброшенными. И вдобавок ко всему османы решили захватить Астрахань. С войском на Волгу был отправлен Владимир Андреевич Старицкий, последний удельный князь земли русской…
Поход турок не удался. Вначале не смогли перетащить струги с Дона на Волгу. Под стенами Астрахани не хватило артиллерии, подкопы не помогли. В конце концов поход безнадежно затянулся, а турки отказались зимовать в заснеженных поволжских степях. Армия, оставляя обоз и оружие по дороге, направилась к Босфору, но болезни и голод нанесли сокрушительный удар, ополовинив армию, а на Дону казаки перебили оставшуюся, растянувшуюся по степям. В Стамбул вернулась лишь жалкая часть изможденных вояк.
Владимир, как ни хотелось ему остаться на Волге и более никогда не возвращаться в Москву, пред грозные очи двоюродного брата, был вызван в столицу.
– Что думаешь, Алеша, – спрашивал в те дни Иоанн у Басманова, – хочет Старицкий заместо меня царем быть али нет?
Все больше времени Иоанн проводил в Александровской слободе, среди своей черной ватаги. Только тут он чувствовал себя в безопасности. Алексей Басманов посмеивался: теперь уже всякий на Руси Господу про себя молился, чтобы поменялись ветви Ивана III. Их царь все более походил на волка, рвавшего всех подряд. Оттого в городах, через которые в окружении семьи проезжал Владимир, его встречали как спасителя, как возможного избавителя от первого опричника всей земли русской.
Но не радовал такой прием князя Старицкого: знал он – доложат о том царю. Потому с тяжелым сердцем Владимир подъезжал к Москве: если б хоть в Кремль его вызвали, а то ведь предстояло въехать в самое логово зверя – в Александровскую слободу! Не всякий выбирался оттуда живым, иные и вовсе бесследно исчезали.
На последней ямской станции перед черной слободой Владимира Старицкого встретили несколько сотен опричников. Малюта Скуратов и Василий Грязной возглавляли войско.
– Царь велел встретить тебя и проследить, дабы чего не случилось, – сказал Малюта полководцу. – А теперь, я думаю, и отобедаем вместе. Что скажешь, пресветлый князь?
– Коли царь велел, так можно и отобедать, – взглянув на жену и двух дочерей, настороженно смотревших на опричников, проговорил Старицкий.
– Вот и хорошо, – усмехнулся Малюта.
За трапезным столом главный палач, сидевший рядом с князем, склонился к уху Владимира и спросил:
– Кого тебе более из детей жалко – старшенькую или младшенькую?
У Владимира в глазах потемнело.
– Пожалей дочек, душегубец, – дрожащим голосом взмолился он.
– Я бы пожалел, да царь велел, чтобы только одну оставили. И не балуй, князь, чтобы самому лютой смертью не умирать, – предупредил он Владимира, – и хотя бы одну из дочерей спасти. Все тихо будет. А ведь ты меня знаешь: я могу и подолгу развлекаться. Но царь милостив: сказал, чтобы все было скромно. Любит он тебя, уважает! Так что есть у тебя последнее желание – выбирай. Но времени у нас мало – мне еще в слободу возвращаться, перед царем доклад держать.
Князь посмотрел на жену, и она все поняла: побледнела, закрыла руками рот, чтобы не закричать.
– Старшую оставь, – глухо произнес Владимир.
Младшую, совсем девчонку, раздавят, не выживет она, в эти страшные мгновения подумал он, а у старшей еще есть крохотная надежда.
– Эй, Василевский, – поманил пальцем Малюта огненно-рыжего опричника.
Тот склонился к своему главарю. Скуратов зашевелил губами, опричник кивнул и отошел в сторону. Пригладив широкую бороду, Малюта прищурил один глаз:
– Пей разом, когда предложу, и жене скажи, чтобы не тянула. Мне еще твою старшенькую к царю везти. А потом на Шексну ехать – к матери твоей, святой монахине Ефросинии.
– Господи, – закрыв глаза, прошептал Владимир. – Господи…
– Это верно ты догадался, – тоже шепотком подтвердил Малюта. – Надо было ей безропотно присягать царскому сыночку-то, тогда еще, давненько, не артачиться! Поклонись жене-то, князь, а впрочем, расстаетесь-то ненадолго. Вы скоро у престола Господа нашего вместе стоять будете, так что ж печалиться?
Им поднесли чаши. Младшая дочь, в лазоревом сарафанчике и больших янтарных бусах, только хлопала глазами, ничего не понимая. А вот старшая догадалась – сидела молчком, прямая как струна, и слезы, как и у матери, текли по щекам и губам.
– Ну так что, пресветлый князь, за царя-батюшку выпьем? – поднял свою чашу Малюта. – Дай-то Бог ему здоровьечка, кормильцу нашему и благодетелю! Пей вино, князь, и вы, чада его, пейте…
Через две недели, ранним утром, Малюта Скуратов с опричниками прибыл в отдаленный Горецкий монастырь на Шексне, вошел к матери-настоятельнице, творившей молитву, спросил:
– Знаешь, кто я?
– Знаю, – кивнула та.
– Вот и хорошо. А теперь скажи мне, кто из сестер ближе других к сестре Ефросинии, до пострига княгине Старицкой. Есть такие сестрички?
– Есть, – быстро ответила настоятельница.
Еще через полчаса опричники тащили за руки к спящей реке двенадцать монахинь – те, ничего не понимая, даже не сопротивлялись.
– Куда тащишь нас? – спросила пожилая монахиня, бывшая княгиня, у Малюты, крепко державшего ее за локоть. – Куда, тать?!
– К речке, купаться, – хмыкнул тот. – Лето вон, видишь, какое теплое! Река точно зерцало, красота!
– Неужто погубить удумал?! – попыталась вырваться женщина. – Ванька, злодей, приказал?!
А река была все ближе, ближе…
– Сестры, топить нас ведут! – закричала одна из молодых монахинь. – Топить, сестры!
У берега поднялся крик. Монахини стали отчаянно вырываться, но опричники, крепыши под стать Малюте, тотчас перехватили их за волосы и уже волоком потащили к берегу, по прибрежным кустам, по мокрому песку…
– Будь он проклят, проклят! – кричала, пытаясь расцарапать лицо Малюте, княгиня Ефросиния. – Проклят!..
– Ты это брось, княгиня, брось! – ревел Малюта, затаскивая Ефросинию в воду по пояс. – Погибай как сын твой, как невестка и внучка – молчком! Молчком!..
Когда смысл его слов дошел до княгини, она разом ослабла, ноги ее подкосились, перед глазами все поплыло. Тревожа реку, ворвались опричники табуном в нее – прохладную с утречка Шексну, тягая за собой вопивших, бившихся в их руках сестер. Крепко прихватив княгиню за волосы, Малюта погрузил ее голову в воду, но она и без того была еле жива. А вот другие все еще сопротивлялись, захлебывались, вырывались, но руки государевых людей толкали и толкали их головы под воду и держали, держали там… Закончилось все быстро: уже минут через пять палачи выходили на мокрый песок, отряхиваясь, сбивая воду с черных кафтанов, притоптывая.
– Теперь хлюпай из-за них! – возмутился Малюта, зло оглянулся на воду. У берега плавали трупы монахинь, почти все вниз лицом. – Не могли тихонько потопнуть сестрички-то, – с укоризной добавил он. – Все равно ж помирать-то было!
Огляделся по сторонам. За спиной – монастырь, на той стороне реки – темные леса еще в предрассветной дымке. Утренняя свежесть так и стелилась по земле. Еще часок, и выглянет солнце, побежит по реке. Малюта вдохнул поглубже, а выдохнул хрипло:
– А тишина-то какая, братцы! Царская тишина-то! Святая!
Вскоре по Москве пополз слух, что Владимир Старицкий царя хотел отравить. Повар даже нашелся, которого, якобы, к злодейству князь подговаривал, но тот не посмел смертный грех содеять – все государю рассказал. Повара того казнили сразу, едва он заговорил. Казнили главного сторонника князей Старицких боярина Турунтая-Пронского и других его бывших товарищей. А удел Старицкого Иоанн себе в опричнину определил. Но дочка старшая князя Владимира и впрямь выжила – уже очень скоро он отдал ее в жены принцу Магнусу. Другая бы не подошла – а тут кровь-то знатная! Но весть о злодействе быстро побежала по Руси и так же скоро вырвалась и за ее пределы. На родине все были возмущены, но молчали. За границей только и говорили об этом, пугая друг друга рассказами о русском государе, драконе окаянном, но что и те, и другие могли поделать?
В том же году, когда закончил свою жизнь Владимир Старицкий, умерла и Кученей Темрюковна – в крещении царица Мария. Умерла внезапно, как и прежде Анастасия.
– За что, за что?! – сжимая твердые кулаки, вопрошал Иоанн. Он то носился по своим покоям, то падал и катался по полу, по расшитым золотом персидским коврам. – За что мне эта мука?! Режет меня изнутри! Все грехи мира принимаю на себя, и сердце мое рвется от тяжкой боли! От нестерпимой боли…
Правда, поговаривали, что Иоанн сам подсыпал любимой жене яд, потому что боялся ее власти над собой – восточных глаз Кученей, ее ласк, повадок змеи. Боялся, что ужалит, когда совсем ослабеет он в ее объятиях. А вслед за Марией Темрюковной умер и ее двухмесячный ребенок – сын Василий. Однако каким прекрасным поводом стала эта смерть для новых истязаний «государевых людишек» всех сословий!
А более других должны были трепетать бояре.
– Лишь я усну, вы яко аспиды ползете к ложу моему со всех сторон, чтобы жалить меня! – неожиданно, прервав дела, заявил Иоанн в Думе. Но не пламень бушевал в его черных глазах – обжигающий лед был там. – Терзать меня без жалости решили, отнимая близких мне?! Вы, бояре, корень зла земли русской, веками побуждающие ее к разладу! Вы – змеи алчущие! Лишь один народ простой московский и любит меня, царя своего! А вы так запомните, – он тянул к ним руку с перстом, и бородачи в высоких шапках и соболиных шубах уже готовы были друг за другом пасть пред государем ниц, – отныне не буду я спать вовсе! Бодрствовать буду – днем и ночью! Назло вам и на спасение Руси-матушки!
Прячась от мира в Александровской слободе, Иоанн горестно охватывал думами всю свою великую страну. Оглядывал ее и понимал: кругом недоброжелатели и враги, не хотят они мириться с тем, что наделен он божественной властью на земле и что каждое его желание свято, что жизнь и смерть все подданные должны принимать от него с величайшей благодарностью! Никак не желали все быть его бессловесными рабами…
И все чаще взор Иоанна обращался на север – на тот самый город, что веками бахвалился своими вольностями. Где не нужен был ни «богоданный» государь, ни его «ангельское» воинство на черных лошадях с песьими головами и метлами. Вывез дед его, Иван III, вечевой колокол из этого города, вырвал ему язык, так все равно не желал он забывать своих привилегий. Этот город жил по-своему, торговал и процветал – и вольной жизнью своей вносил великую смуту в умы других русских людей. Там, за крепкими стенами Великого Новгорода, таились вольнодумцы и царененавистники.
Язвой был этот город – первой язвой на Руси!
4
В конце ноября все того же 1569-го отборное опричное войско в пятнадцать тысяч бойцов вышло из пределов Москвы и двинулось по дороге на север.
Обвинения против новгородцев царь выдвинул такое: «Они злым умыслом хотели меня извести, на трон Владимира Андреевича посадить, а сами Великий Новгород и Псков литовскому королю отдать!»
Цель похода до срока не должна была стать известной никому, кроме самих опричников. Но легко оказалось запутать всех, даже самых проницательных. Все города, что встречались на пути у опричного войска и открывали перед царем ворота как перед отцом и защитником, беспощадно грабились, а жители предавались по любой причине смерти. Убивали всех подряд, кого сабелька увидит: мужчин и женщин, детей и стариков. Но перед тем как в город смерчем влететь, его окружали – везде постовых ставили. Никто не должен был уйти, сбежать, рассказать о набеге! Первым был город Клин: опричники жгли дома и уничтожали жителей, в том числе убили и около пятисот торговых людей, которые прибыли по приказу царя из Переславля. Устроили бойню в Торжке и Вышнем Волочке. Люди не понимали, за что умирают. А умирали они страшно – подобно первым христианам, которых скармливали львам языческие императоры, но им до этого владыки, христианином назвавшегося, далеко было! Все самые демонические страсти царь позволял выпускать своим приспешникам.
– Я перед Богом в ответе – не вы! – сидя на вороном коне и глядя на пожарища, говорил облаченный в длинный черный кафтан, в черной высокой шапке государь. – Я ваш игумен, так служите мне и Господу на совесть!
И братия служила. Царя в походе сопровождал молодой царевич Иван. Наследник престола, он должен был видеть своими глазами, что позволяет неограниченная власть государя, какие жертвы на алтарь собственных желаний и выгод он может принести, не страшась никого, даже Бога, ведь и он однажды станет Его наместником на земле! Всего-то и нужно: трон во дворце и венчальную корону в храме…
А выгоды были, и не только в утешении самых черных страстей. Города грабились подчистую, включая церкви и монастыри. Но самую главную расправу по дороге к Новгороду Иоанн уготовил Твери. Только прежде, еще не доехав до города, он вызвал к себе в шатер любимого из палачей.
– Знаешь, Малюта, где мы проезжаем?
– По тверским землям, государь.
– Верно. А кто у нас здесь прячется и грехи свои отмаливает, помнишь?
Малюта долго хмурился, затем расплылся в улыбке:
– Понял, батюшка! Филипп-вольнодумец!..
– Верно. Так вот, пока мы вперед идем, ты возьми отряд и поезжай к нему. Приедешь, скажешь: привет, мол, тебе от царя. Но это не все. Не злодей я, чтобы вот так запросто чернеца Колычева губить. Ты ему предложение сделаешь…
– И какое же, государь?
Иоанн запустил длинные сухие пальцы с перстнями в козлиную бороду, неожиданно рассмеялся:
– Какое-какое, глупый, – царское! Потому слушай и внимай, пономарь мой…
Когда Малюта вышел, Иоанн пуще затеребил бороду: Филиппа новгородский архиепископ Пимен обвинял, так неужто Колычев простит ему ложь, все клятвопреступления продажного священника – и перед Богом, и перед царем, и перед людьми? Пусть же воле государя своего подчинится – долг свой исполнит.
– Василевский! – выйдя из государева шатра, окликнул Скуратов младшего товарища. – Степка!
Тот, придерживая саблю, быстро приблизился:
– Да, Григорий Лукьянович?
– Слушай сюда, рыжий черт: возьмешь сотню самых лучших своих людей и сопровождать будешь меня!
– И куда же мы едем? – поинтересовался опричник.
– На кудыкину гору! Да скоренько все делай, ежели голова дорога.
Ветром пронеслись они десять верст, Малюта сам забарабанил в ворота отходящего ко сну монастыря рукоятью сабли.
– Открывайте, сони!
Монахи поспешно открыли. Всадники въехали на территорию монастыря, и Малюту, Степана Василевского и еще двух дюжих опричников из сотни последнего немедленно проводили в келью Филиппа. Был вечер, но даже при свете лампадки бывший митрополит тотчас узнал коренастую и невысокую фигуру царского палача.
– Здравствуй, чернец, от царя-батюшки я к тебе пожаловал, – вкрадчиво проговорил Малюта.
– Не сомневаюсь, – вставая в полный рост, ответил Колычев. – За жизнью моей явился?
– Вот и не угадал, – осклабился Скуратов. – Хотя, это как дело пойдет. А дело вот какое. Царь велел сказать тебе: благослови, Филипп, опричное воинство на погром Великого Новгорода, вольнодумного и преступного, пожелавшего под поляков и Литву вместе со Псковом лечь. Благослови на кровь, которую лить будем. Благослови на все, что государю вольно делать будет с новгородцами – мужами, женами и детьми малыми. С посошным людом и священниками, что тебя презрели, продали. Со всеми, кто встретится на пути и не понравится глазу его. Все я сказал: такова воля царская!
Но Филипп смотрел в горящие и точно пьяные глаза Малюты и молчал.
– Ну, митрополит, решайся! – шагнул к нему палач государев.
– Анафеме я предаю и твоего царя, и вас всех вместе с ним! – проговорил Филипп Колычев. – Будьте вы прокляты, и гореть вам в аду веки вечные!
– Так я и думал, – кивнул Малюта, – и не ожидал от тебя другого. Да и переспрашивать не стану. Потому и сказал государю: быстро управлюсь! Эй! – крикнул он двум опричникам. – Взять его!
Те подскочили к Филиппу, заломили старому монаху руки, подвели к низкорослому палачу. Малюта погладил его по седой голове, затем, прихватив подбородок, заглянул в глаза Филиппу:
– Готов, чернец?
– Проклинаю! – прохрипел Филипп. – Проклинаю вас, злодеи!
Понимающе кивнув, Малюта одну широченную пятерню свою закинул старику за затылок, а другою зажал рот и нос. Филипп забился, но руки опричников крепко держали его. Василевский поймал взгляд задыхающегося митрополита – «Гореть тебе в аду!» – и содрогнулся, отступил в темноту: бывший митрополит не был простым священником. Сейчас свершалось и впрямь великое злодейство! Взгляд старика затуманился, стал угасать, а его все не отпускали. Убедившись, что Филипп мертв, Малюта оттолкнул от себя труп, живо перекрестился.
– Дело сделано, – хрипло каркнул он. – И во славу государя! – Он неожиданно обернулся на Василевского: – Верно, Степан?
Взгляды их встретились.
– Верно, Григорий Лукьянович, – внезапно дрогнувшим голосом ответил Василевский.
– Вот и ладненько. А теперь поди к отцу настоятелю, скажи, что чернец Филипп задохнулся от духоты в келье. Скажи, что эдак полмонастыря перемрет: мол, оконца открывать надобно почаще, чтобы ветер погуливал, грудь обдувал, горло прочищал… Иди же, Степа, иди…
Оставив труп Филиппа на полу кельи, четыре опричника покинули затихший монастырь и скоро уже были на пути в царский лагерь.
И вот черное войско стояло перед Тверью.
– Почти два века не давала она жить москвичам, – сказал своим слугам государь. – Так накажем ее в последний раз, чтобы всякий, кто жив останется, навеки помнил и детям своим передал: раб он Москвы, холоп ее и смерд!
Пять дней опричники жгли дома, резали жителей, а потом начались и публичные казни. Застучали плотницкие топоры! Одних велено было казнить милосердно, на плахе, через отсечение головы. А тех, кто не давал свои богатые дома грабить, – иной смертью карать. Вдоль улиц меж бревен вбили заостренные колья. Палачи натирали их свиным салом, обливали маслом. После ночного разгула Малюта в сопровождении отца и сына Басмановых сам проверял, поглаживал колышки:
– Ох ты какие! – гладенькие! – говорил он. – На таких одно удовольствие посидеть-то, а? Ну так поглядим сейчас, каково оно – царю-то перечить!
А потом притащили сюда сотни богатых мужчин-тверичан – в одном исподнем. Бояре и князьки, купцы, просто посадские люди. А кого и случайно прихватили: окружили на конях, содрали кафтаны и – сюда, к деревянным пикам, вбитым меж бревен. За мужами, которых волочили на площадь, бежали жены. Их отгоняли плетьми.
– Мяса, побольше живого мяса! – еще пьяный после ночной попойки, наигравшись с отловленными молодыми тверичанками, кричал Василий Грязной. Он гарцевал на красавце-коне, щелкал плетью. – Тверского мяса подавай! Степка, мало мяса! Еще давай, еще!
Степан Василевский, поставленный начальником охраны, бешено орал на стрельцов:
– Следите, мать вашу! Мимо кого баба пробежит, того я сам на кол посажу! Цепью стойте, цепью!
Опричники крутили мужикам руки за спиной, чтобы не мешали, когда казнь начнется. Многие валились на землю, прося пощады, их поднимали за волосы. Сам Малюта помогал своим – таскал мужиков за бороды, смеялся, приговаривал:
– За дедов пострадайте уж, паскудники! Москвичи зады им и прежде деревцами рвали, а вы чем хуже?! Лесов-то у вас много! На всякую тверскую жопу колышек-то найдется!
Немного остыв, Степан проезжал мимо приговоренных – стояли они неровным строем, держали их, связанных, за руки и за волосы. Одни обливались слезами, другие молились. А со всех сторон кричали бабы – жены, сестры, дочери. Василевский смотрел на их лица и понимал: он уже в аду. Но и сам он был частью этого ада.
А потом началась казнь – с орущего от страха человека срывали рубаху, двое дюжих опричников поднимали его, насильно широко раздвигали ноги, а третий направлял несчастного прямехонько на густо засаленный кол и продавливали его вниз. И человек, с животным воплем, превращался в балаганную куклу. Это было пострашнее костра: там в страдании погибали за пять минут, тут же часами предстояло мучиться.
А ведь должны корчиться, должны, царь приказал! И потому, разглядев тех казненных, чья голова повисла разом, Малюта засуетился, занервничал.
– Глубоко не насаживай! – бегая вдоль окровавленных кольев с дергавшимися на них людьми, ревел он. – Чтоб кишки только проняло, чтоб почуял, каково оно! А до печенок – ни-ни!
Уже несколько сот тверских мужиков угрями извивались на колах.
– Погляди, Степка, как выплясывают! – приговаривал Малюта. – Точно взлететь хотят!
И тут одна женщина в богатом сарафане, без платка, простоволосая, все же прорвалась сквозь ряд опричников. Она метнулась к одному из колов, на котором корчился ее муж.
– Федор! Феденька! Душа моя, господин мой! – кричала она, обхватив ноги несчастного. – Что ж они делают, изверги?! Феденька!..
Ее стали оттаскивать, бить, но она царапалась и кусалась и всё ползла назад к умиравшему в мучениях, страшно стонавшему мужу. Но сейчас вся площадь Твери стонала и заливалась слезами.
– К нему хочешь?! – заревел Малюта. – К Федьке своему?!
– Да, изверг, к нему хочу! – закричала женщина. – К нему, родимому!
Малюта обернулся и увидел в стороне царя, сидевшего на черном коне, ледяными глазами наблюдавшего казнь. Рядом с государем на кровавую баню смотрел и его пятнадцатилетний сын. Только у того глаза горели – и еще каким огнем! Царь кивнул, Малюта ткнул пальцем в женщину, распорядился:
– На кол ее – царь приказал!
С женщины, едва стоявшей на ногах, палачи сорвали сарафан – он разошелся с треском, затем – шелковый шнурок с талии, за ним – поневу. Она осталась в рубахе. А рядом меж двух бревен уже вбивали новый кол; кто-то позаботился, прихватил кусок свиного сала и натер острие. Женщине тоже скрутили руки, но она и не сопротивлялась. Затем задрали рубаху, обнажив белые бедра, легко подняли вверх.
– Куда ее, Григорий Лукьянович? – крикнул один из опричников. – На передок али на задок, как и всех?
– На срамное место нельзя – грех это, – строго кивнул Малюта. – На задок – таков закон!
Она и кричать от страха не смела, только шептала что-то. И ясно было – молитву. Ее подняли еще выше, палач, усмехаясь, покрикивал: «Левее, изверги, левее!» Запустил пальцы между ягодиц, все прощупал, чтобы не промахнуться, сам подтянул ее к засаленному острию.
– Это тебе не мужнин хрен – этот зверь повесельче будет! – громко выкрикнул он, и опричная охрана, пьяная от бешенства и крови, загоготала. – А теперь – дави! – приказал он тем, кто держал женщину за ноги, и они потянули ее вниз.
Трещала она как репа надсеченная, которую ломают широкие и сильные пятерни, и ревела, ревела, а по колу уже ручейками текла кровь, и все обильнее.
Степан Василевский, сидевший на черном коне, тупо смотрел на эту смерть, чувствуя, как крики тверичан уходят от его слуха, пропадают…
Из Твери царь шел уже осторожнее. Чтобы слухи раньше времени не дошли до Новгорода, он пустил вперед несколько тысяч своих опричников, которые с удвоенным усердием вырезали всех на своем пути – никто не должен был видеть огромного московского войска, одурманенного кровью и вседозволенностью. Опричники убивали всех, маленькие деревеньки превращали в пепелища. Широкий черный след, окровавленный и дымный, изрытый копытами коней и усеянный трупами, тянулся за опричным войском.
Степан Василевский проезжал мимо отряда немецких наемников, когда услышал:
– Никогда столько русских не резал! За всю жизнь свою, а повоевать я успел по всей Ливонии! И тут куда прибыльнее! Был у меня один знакомец, князь Засекин, я до сих пор у него в долгу: вот бы удивился, какую работу я себе подыскал!
Степан приостановил коня, разглядел говорившего. Это был белолицый и светловолосый немец, но в черном опричном одеянии, с короткой русой бородкой.
– Да не просто бы удивился мой князь, – рассмеялся говорливый немец. – Пожалел бы, верно, что не прикончил меня в том лесу под Феллином!
– Как вас зовут, сударь? – спросил Степан.
Немец обернулся, тоже оглядел огненно-рыжего московита; разом понял, что не простой перед ним воин, да и видел он его не раз в свите царя.
– Карл фон Штаден – представился говорун, – сотник немецких ландскнехтов. А вы, простите?..
– Окольничий боярина Алексея Басманова, а нынче – тысяцкий царевой охраны. Вы назвали имя князя Засекина, верно?
– Так оно и есть, – кивнул немец.
– Вы знакомы с ним?
– Немного, – ответил тот. – Не знаю только, жив ли он нынче. Я слышал от кого-то, что князь подхватил «огневую лихорадку». – Карл фон Штаден сокрушенно покачал головой: – Жаль, когда такие воины, как ваш Засекин, умирают в бреду на грязной походной лежанке…
– Он жив, – перебил Василевский. – И всё там же, в ливонских полках. А что за должок у вас перед ним?
Немец рассмеялся, сдернул с правой руки замшевую перчатку, растопырил изуродованную пятерню:
– Его сабля! Хотелось бы поквитаться, ох, хотелось бы! В прежние времена я не мог бы на это и рассчитывать, теперь же – совсем другое дело! Подожду его здесь, на русской сторонке: может, и свидимся.
– На все воля Божья, – ответил Степан и пустил коня вперед, оставив немца в недоумении резко прерванным разговором. Но Карл фон Штаден вскоре уже забыл о нем, присоединившись к своим наемникам и ожидая новых грабежей и расправ.
Обоз оказался так велик – царские прихвостни грабили города подчистую, – что войско стало растягиваться длинной гусеницей. Все больше росла опасность, что новгородцы прознают о московском походе, осмелятся бунтовать: вооружатся и закроют ворота. Великий Новгород был и впрямь велик – и народонаселением, и богатством. И хотя всего год назад по приказу Иоанна из Новгорода вывезли сто пятьдесят самых богатых и влиятельных семейств, враждебных политике Москвы, а из Пскова – пятьсот семейств, города оставались могущественными. И перед смертельной опасностью новгородцы и впрямь могли обратиться к Литве. Так думал Иоанн. Поэтому еще ожесточеннее вырезалось все население уже новгородских пятин, куда вступило опричное войско.
2 января 1570 года первые полки опричников подошли к Великому Новгороду, окружили его, начали жечь посады и монастыри. К появлению царя новгородцы должны были стать кроткими, как ягнята, и боязливыми, как мыши.
6 января, возглавляя основное войско, царь Иоанн Васильевич и сам приблизился к Великому Новгороду – вершителем его судьбы, палачом.
Москва так долго примеряла колючую азиатскую шкуру, что наконец-то срослась с ней. И уже не мыслила иной судьбы, как давить и подчинять, не забывать обид, жестоко мстить и наказывать великой кровью за самое малое инакомыслие. Отказавшись от опыта Европы, где в силу входили города, развивавшие новую культуру в молодом европейском мире, создавая новый его уклад, Москва, за века напитавшись азиатским ядом, сама стала Азией – лицом, нравами, сердцем. Не нужен был царь новгородцам и псковичам, еще помнившим свободное вече, не нужен он был балтийским городам и бывшим городам Киевской Руси, а нынче – Великого княжества Литовского, и Твери был не нужен! Никто не хотел становиться холопом, но азиатская Москва всех холопами сделать хотела. Да и опричная церковь, полностью подчиненная государю, выступала в том лучшим помощником. Сказали Пимену: «Оболги Филиппа!», и он оболгал. И не он один – много пастырей набралось. Но Пимену еще предстояло ответить за сговор с тем, чьи черные крыла уже вовсю простерлись над Русью.
И вот теперь деспот и кровопийца смотрел с новгородских холмов у Волхова на город, который ненавидел всем сердцем. Противоречил он своим существованием его – Иоанна IV – пониманию мира…
Его жестокий трюк с запугиванием удался. В те часы, когда основное опричное войско плотной черной тучей обступило Новгород, горожане уже трепетали и готовы были выполнить любую его волю.
К царю на берег Волхова вышел архиепископ Пимен, обличитель Филиппов, с духовенством и крестами, что означало: «Милости просим твоей, государь!» Но царь животворящий крест Господень в руках архиерея целовать отказался, даже с коня не слез.
А только грозно, ткнув в Пимена пальцем, молвил:
– Ты не пастырь и не учитель людей православных, а хищный волк и губитель душ их! И не крест животворящий в руках твоих, а клинок, которым ты, злыдень, и единомышленники твои хотели мое сердце – царя вашего, Богом данного! – пронзить! А еще отвергнуть удумали и предать Великий Новгород королю иноплеменному – Сигизмунду!
Страшно было перечить государю! А противостоять неправде было еще страшнее – неминуемое наказание последовало бы за любым словом, сказанным наперекор. Потому архиепископ Пимен и все духовенство новгородское только опустили глаза, покорно ожидая воли государевой.
Но тот, неожиданно смилостивившись, сказал:
– Буду службу стоять в Софийском соборе, а потом обед для меня готовьте – я и мои братья с дороги проголодались. Исполняйте!
Велика была радость архиепископа Пимена и его духовенства: неужто помиловал их царь?! И не зря, выходит, они молились, пока разорялись окраины Великого Новгорода?! Неужто волк утолил жажду сердца своего, насытился и теперь отдыхать думает? Неужто?!
Царь и первые его опричники отстояли обедню, после чего в гробовом молчании проследовали в трапезную залу боярских палат. За длинными столами тут в золотой посуде ждали их лучшие яства, которые только могла родить земля под небом. В том же гробовом молчании опричники трапезничали, и когда бояре и князья новгородские произносили речи за государево здравие и здравие его братии, Иоанн лишь поднимал глаза, точно хотел запомнить лицо. А когда все опричники насытились и опьянели в меру, царь переглянулся с Алексеем Басмановым и Малютой, сидевшими по обе его руки. Встав, он оглядел притихших новгородцев, а следом громко выкрикнул заранее приготовленное для господина Великого Новгорода заветное опричное слово:
– Гойда! Гойда!
И вот тогда перед онемевшими новгородцами вскочили опричники, вырвали из ножен сабли и стали резать князей и бояр бывшего вольного города, как бычков и кабанчиков на скотобойне!
Шесть недель убивали и грабили новгородцев царские опричники. Снег стал кровавым от смертоубийств, и улицы полнились замерзшими трупами.
Тысячи были расстреляны из пищалей; Малюта лично отдавал приказ: «Пали!», а потом записывал, сколько полегло новгородцев. Скуратов даже придумал для расправы новое словцо: «отделано». Сегодня «отделано» из пищалей тысяча, завтра – полторы. И еще тысячи и тысячи (а включая женщин и детей – десятки и десятки, потому как их никто и не учитывал) были утоплены в Волхове. Специально для этого вдоль берега выбивали широкие лунки как для крещенских купаний, туда копьями загоняли всех, как скот, и топили, пыряли и топили, тыча сталью в лица и плечи желавших спастись. А иных обливали горючей смесью, и те, пылавшие, сами бежали к ледяной воде.
Позже летописец запишет: «Благодарны тому дню, в который только до шестисот человек потоплено было».
«Отделывали» новгородцев, «отделывали» вольнодумцев, «отделывали» так, чтобы раз и навсегда!
А царь, сидя в седле вороного коня на берегу Волхова, глядя на воистину библейское избиение людей, говорил:
– Я – государь, Богом данный, царь православный, и волен казнить и миловать! До Страшного суда далеко, а пока что я – Страшный суд, и я, держа чашу весов в руках своих, казню вас по грехам вашим!
А за ним сидели на своих лошадях Алексей Басманов и Афанасий Вяземский, другие первые из опричников – «архангелы» и «ангелы» его, царя «богоданного». И только Малюта да молодые Федор Басманов с Василием Грязны́м не могли усидеть на месте. Но особенно – Скуратов! Свирепствовал он на берегу Волхова, во время массового утопления, когда выла и гудела заснеженная река, сам работал копьем и саблей, покрикивал на своих подельников, царевых любимцев: «Федька, в прорубь не упади! Постыдился бы, отец же на тебя смотрит! Васька, метче бей, метче! Да ты ж пьяный совсем?! Царь-то, он все видит, кто как старается!»
Степан Василевский вздрогнул, когда его со всей силой рванули за плечо.
– А ты, рыжий черт, чего встал? – у самого его лица захрипел Малюта с окровавленной рожей. – Не видишь разве – та девка наружу лезет?! Так поддай ее копьем – у меня на всех рук не хватит! Или замараться, Василевский, боишься?!
И Степан, очнувшись, ударил молодую барышню, цеплявшуюся за изрытый и кровавый край льда, копьем прямо в лицо – и она, схватившись за рану, откинулась назад и так и ушла под ледяную крошку…
– Смотри, я тебя! – рыкнул за его спиной Малюта. – Ты бы вина хлебнул перед весельем, как Васька Грязной: глядишь, и работа в охотку пошла бы!
За эти недели опричники обобрали город до нитки. Было бы лето, пришлось бы торопиться: трупы-то убирать насильники и убийцы и не думали, а оставшимся в живых новгородцам приходилось думать только о своих жизнях. А так – пусть замерзают! Коли родные выживут – отыщут, похоронят. Но царь своей волей, которой никто перечить и не помышлял, решил присвоить все награбленное себе: для солдат жалованье имеется. Но иные, тем недовольные, пустились по окрестностям Новгорода, по его пятинам – грабить и жечь маленькие городишки и боярские усадьбы.
Карл фон Штаден был одним из таких охотников. Он и сослуживцы его выпросили у царя соизволение пополнить свою казну и – ватагами обрушились на окрестные земли. По дорогам ловили людей и выспрашивали, кто и где живет побогаче: и не важно – господа-помещики или целые монастыри. Кто отвечать не хотел, тут же и пытали на скорую руку.
Немец давно понял: такой охоты, как на Руси, в Европе не устроишь. Там каждый барон за стенами своего замка спрячется – не подступишься. А на осаду время нужно. На Руси же, князь ты или нет, а ставить высокие стены не смей. Прошли удельные времена! Царю в любой дом открывать дверь пинком сподручнее. И псам его верным тоже.
Накуролесив по Новгородским пятинам, делились за хмельной чаркой его псы содеянным. Весело делились, с огоньком. После налета на княжескую усадьбу в отдаленных предместьях Новгорода словоохотливый Штаден рассказывал сотрапезникам:
– Ворвались мы в дом, а наверху – княгиня. Хозяйка! Хотела броситься мне в ноги, пощады просить, а у меня уж и топор в руках! Увидела, как грозен и страшен я, до смерти испугалась, побежала назад, в палаты свои. А я за ней – зверем рычу! Догнал ее в дверях, да так и всадил топор в спину. Упала на пороге комнат – разом кончилась. Я же чую: богатая усадебка! И девок здесь, молодняка, много попряталось. Ждут женихов-то! Перешагнул я через княгиню, а тут уж и мои храбрецы подоспели. Пустились мы по дому, дверь за дверью открываем. Быстро девичью княжескую отыскали! Дочки да девы-прислужницы как завизжат – оглохнуть можно! Тут и стали мы знакомиться с ними! Моих-то с полсотни набралось – все в девичьей побывали, всех белокожих княжонок и холопиц перепробовали! А добро собрав, и усадебку запалили!..
И так было по всей округе древнего и великого города…
Новгородский погром шел с 6 января по 13 февраля. Так долго и монголы не свирепствовали! А потом все устали: одни – убивать, насиловать и грабить, другие – бояться и умирать.
И вот уже потянулись тысячи обозов из Великого Новгорода, опустошенного, частью сгоревшего. Было бы лето – одни только стены крепостные и остались! Зима не дала исчезнуть ему с лица земли.
Карл фон Штаден в этом походе своего не упустил. Хвалился на обратном пути: «Выезжал с государем из Москвы, так у меня была одна только лошадь! А возвращаюсь в столицу с сорока девятью лошадями, каково? И двадцать две из них запряжены в сани, полные добра разного. Доверху полные! И государь отметил: отныне по имени-отчеству буду называться, точно русский князь. Карлом Генриховичем зовите, не иначе!»
А еще из новгородских пятин выводили крестьян. Многие были свободными пахарями северных земель, но теперь их сделали рабами и распределили по опричной земле государя Московского. Архиепископа Пимена царь Иоанн велел нарядить шутом, дать в руки гусли и отправить на кобыле в Москву, пригрозив смертью, если тот не будет всю дорогу петь скоморошные песни.
После нашествия, с которым и Батыево на русские города не могло сравниться, господин Великий Новгород, переведенный в опричнину, навсегда обречен был стать лишь задворками Москвы, безропотным средним русским городком. А среди новгородцев, родившихся после этих страшных событий, через века пойдет поговорка: «По какой улице царь Иоанн проехал, там кура не поет».
Но это был не конец похода – еще стоял близкий к западным границам свободолюбивый город Псков! Он, прослышав о великом новгородском погроме, встретил царя распластавшись по полу, не поднимая головы и глаз, как представали пред очами золотоордынских ханов князьки иных земель. Въехав в открытые перед ним ворота, Иоанн увидел ломившиеся от яств трапезные столы, расставленные по всем улицам Пскова, и жителей, стоявших на коленях.
Прием так прием!
Старинный город Псков ограбили, но погрома, равного новгородскому, не учинили. Казнили на удивление немногих. Не было царю уже смысла ничего доказывать – он все доказал на берегу Волхова. Хотя, может быть, помог своему городу и юродивый Никола. Говорили, что, оставшись с царем наедине, Никола предложил Иоанну кусочек сырого мяса, а тот ответил: «Я – христианин, Божий человек, и в пост мяса не ем». А Никола ему в ответ: «Ты хуже делаешь! Ты, государь, человеческой плотью и кровью питаешься, забыв не только о посте, но и о Боге! Уходи из Пскова, иначе беда с тобой будет!» А тут еще и конь любимый царский возьми и сдохни. Юродивого Иоанн не тронул, из Пскова ушел.
Все, что хотел сказать миру Иоанн IV Васильевич, он сказал: он – царь и наместник Бога на земле, все остальные – рабы его бессловесные.
Но пока Иоанн разорял Псков, его воеводы отправились ставить на колени и грабить еще две крепости – Иван-город и Нарву. Чтобы не повадно им было на запад поглядывать, на вольности его!
После этого похода все северные русские земли были опустошены на годы вперед, они обезлюдели, а тем, кто остался жить на этих землях, уже в скором времени грозил голодомор.
Но царь еще не знал, какова будет кара Господня его азиатской Москве за эти побоища! И потому творил свое опричное дело дальше…
Если он насытился кровью там, в Новгороде, то возвращался уже голодным. И никак не хотел вспоминать напутственные слова духовника своего Сильвестра, сосланного в далекий Соловецкий монастырь. «Помни, государь мой, – говорил ему учитель, оскорбленный и отвергнутый, – кровопийство не утоляет жажды крови, но делает ее еще сильнее. Лютой страстью становится та жажда!»
А потому летом того же года, мучимый этой жаждой, решил он и москвичей еще разок на колени поставить. И предлог нашел – происки против государя и царства его надумал искоренить. Из теремов и домов посадских потащили опричники по доносам бояр и князей, дворян и купцов. Всех, окаянных, на пытки!
Но и самим опричникам пришло время трепетать!
Иоанн заподозрил в измене бывшего своего шурина – князя Михаила Темрюковича Черкасского, ходившего с царем во все карательные походы. Что мог сделать ему брат покойной Кученей, неизвестно, но для острастки кабардинского князя Иоанн приказал зарезать его шестнадцатилетнюю жену и полугодовалого ребенка и положить их трупы у красного крыльца княжеского терема. Но и этого ему показалось мало: вскоре он отослал Михаила Темрюковича охранять от крымцев южные границы, и уже там зарезали и самого Михаила, а воеводы отписали в Москву так: «Михайло Темрюкович, князь Черкасский, ехал из полку в полк и изгиб безвестно. И ныне ведома про него нет, где изгиб».
Это нелепое объяснение предоставили и кабардинскому князю Темрюку, самому влиятельному кавказскому вождю, потерявшему на Руси в течение двух лет дочь, сына и двух внуков. Смерть князя Черкасского полностью перечеркнула дружественные отношения между Кавказом и Русью, сделав их заклятыми врагами, а князь Темрюк без промедления вступил в военный союз с крымским ханом Девлет-Гиреем.
В те самые дни, когда из домов тащили для расправы знатных москвичей, столица узнала о том, что арестованы и первые из царских опричников – его сердечные исповедники, сотрапезники и верные спутники по куражам и оргиям. Да и вся опричная стая съежилась от одного только известия, что в темницу брошены Алексей и Федор Басмановы и Афанасий Вяземский, а ведь только ему, Афоне, царь позволял лекарствами себя поить! Огласили и обвинение: некий боярский сын Федор Ловчиков из свиты Вяземского донес, что хозяин его, а также отец и сын Басмановы новгородцев предупредили о царском походе. Смешно это прозвучало, но никто и не пикнул, никто из общих товарищей не заступился: все, точно горох, на пол оброненный, раскатились кто куда. И только один Малюта, Басмановский выдвиженец, смело царю в глаза смотрел.
– А ты веришь мне? – спросил у него Иоанн.
– Верю, государь! – ответил тот.
– А почему веришь?
– Потому что царь ты, и воля твоя – святая! – ответил Малюта. – Ты у меня да Господь! Вот и вся родня!
– И пытать их будешь – отца и сына, и Афоньку с ними? – глядя в глаза палачу, довольный, спросил Иоанн.
– Буду! – кивнул Малюта. – Жестоко буду пытать, коли попросишь! Жестоко и долго!
И сдержал слово – пытал. Но что могли сказать в свое оправдание три опричника? Разве что оболгать себя, когда под раскаленной решеткой, на которую их положили, палач в мясницком фартуке по приказу Малюты угли подгребал.
Но никто не знал, что было на самом деле. Трудная эта задача – в черное сердце государя заглянуть! Наблюдая, как распоясались в побиваемом Новгороде его друзья-товарищи, какими великанами себя увидели, Иоанн задумался. Так себя вели, точно и нет рядом с ними царя, точно простой сотрапезник он им. Вся страна его великая боялась, а вот они совсем страх потеряли! А ведь за ними и другие опричники могли на царя, как на равного, поглядеть, разве нет? Только позволь одному! Но его должны были все бояться: и враги, и друзья! Не мог он позволить хоть одному человеку в пределах своего царства быть сердцем свободным от страха и трепета перед государем, Богом ему посланным! И потому корчились на решетках трое опричников, двух из которых – отца и сына Басмановых – позже в своих сочинениях Андрей Курбский назовет так: «Федор – маньяк и губитель всей святорусской земли, Алексей – всех демонов воевода».
Они признались, во всем признались. И что новгородцев предупредить хотели, и псковичей, и в Литву податься, и с покойным Владимиром Старицким в соглашение супротив царя войти.
Всё подписали. Афанасий Вяземский к тому времени уже умер: его забили палками до смерти. Но окровавленным Алексею и Федору Басмановым, ползавшим, целовавшим царские сапоги, исступленно рыдавшим, в пыточной Иоанн сказал:
– Вдвоем я вас оставляю на эту ночь в каменной вашей темнице. Кого увижу завтра утром в живых, тот и дальше жить станет. А коли оба живы останетесь, то оба и умрете. Такое мое царское слово!
– Не заставляй губить друг друга! – ухватил его за сапог Алексей. – Батюшка! Батюшка! Не вводи в грех смертный!
Но Иоанн грубо пнул его.
– Боишься, Лешка, что сын поздоровее тебя окажется? – Усмехнулся: – И то верно: силы и гнева в нем уже поболе будет. – Взглянул на онемевшего Федора Басманова: – Не спать вам нынче, я так думаю. Бодрствовать! Только не тяните больно – я ведь слово свое сдержу: коли утром обоих живыми увижу – обоих и «отделаю»!
И он ушел. Среди ночи охранники услышали страшные крики и возню, а потом все смолкло. Утром, в окружении верных ему опричников, державших факела, освещавших дорогу в каменном тоннеле, в темницу возвращался царь. Открыли дверь, вошли Иоанн, за ним Малюта и несколько первых из его опричников. Осветили огнем каменный пятачок. В середине, в луже крови, лежал мертвый Алексей Басманов. Ожив в дальнем углу, встрепенулся Федор, подполз к царю, прижался губами к его сапогу.
– Все сделал, как ты сказал, царь мой батюшка! Все сделал! Отца родного за тебя не пожалел! Все сделал! Отпусти, отпусти…
– Неужто ты думаешь, Федька, – посмотрел на него сверху вниз Иоанн, – что доверюсь я человеку, загубившему отца родного? Неужто поверил? Малюта, кто твой лучший работник? – обернулся он к палачу-любимцу. – Кто лучше других головы сечет?
Малюта зыркнул на трех опричных, и взгляд сразу на одном остановился.
– А как же слово, как же царево слово?! – закричал, хватаясь за государевы сапоги, Федор. – Батюшка, не губи! Все ведь исполнил! Отца забил до смерти! Как свинью забил! Головой об пол бил! Бил и бил, пока не помер тятенька! В крови его по самые локти! В крови, родимого…
– Вот и я о том же, – кивнул Иоанн. – Вставай на колени!.. Малюта!
– Степка! – оглянулся Скуратов на рыжего опричника. – Исполняй, Василевский, дело государево!
– Степан, Степан, – зарыдал, подползая уже к нему, Федор Басманов. – Ведь это мы с отцом тебя приветили, мы! Кем бы ты был, кем?! Неужто мне, другу своему, голову срежешь?! Степка…
Но Степан Василевский уже вытащил с сухим щелчком саблю из ножен.
– Острая? – спросил Малюта.
– Она у меня завсегда острая, – ответил Степан.
– Вставай на колени! – крикнул Иоанн. – Вставай, коли не хочешь мучительно помирать…
Федор, дрожа всем телом, встал на колени, съежился, ткнув голову в каменный пол, закрыв лицо руками.
– Батюшка-государь, – шептал он дрожащим голосом, – помилуй, батюшка, помилуй, не хочу умирать, не хочу!..
– Голову подыми, – проговорил Иоанн.
И Федор стал медленно поднимать голову, да так тяжело, точно его кто-то тянул и тянул к земле.
– Руби, – выдохнул царь.
Василевский резко замахнулся, из груди Федора вырвался шипящий звук – вопль отчаяния! – и сабля, сверкнув в пламени факелов, ударила по его шее – хрусть! Голова покатилась в сторону, в самый темный угол, кровь хлынула, тело упало и задергалось в горячей и темной луже.
– Помер Феденька, – выдохнул Малюта. – Отгулял свое! Ну так что, пожил-то весело!
И тут царь заглянул в лицо палача Басманова.
– Стало быть, это Басмановы тебя пригрели?
– Да, – настороженно ответил Степан.
– А не жалко было рубить-то?
– Так воля государева – закон.
– А может, ты за нос водишь меня, а? А сам заодно с ними – врагами моими? В доме их кормился, дружбу с Федькой водил? Что, коли мстить начнешь? А ну, Василевский, дай-ка Малюте саблю…
– Почто, государь?
– Да как ты смеешь самому царю допрос чинить?! – тон государя становился все более ледяным. – Отдай саблю немедленно!
Малюта сам шагнул к Степану, вырвал из его вмиг ослабшей руки окровавленный клинок.
– А теперь вставай на колени, – приказал Иоанн опричнику. – Вставай же!..
Двое других опричников с факелами отступили, замерли позади.
– Как же так, государь? – опускаясь на колени, бормотал Степан. – Как же так, за что?!
– А мне так спокойнее будет, – пригладил бороду Иоанн. – Что, Малюта, отделаешь паренька-то своего?
– Отделаю, царь-батюшка, еще как отделаю, – усмехнулся тот. – Да, Степка, не думал, не гадал я, что мне и твою башку сшибить придется, ну так воля государя такова. А коли враг ты государю, то и мне враг.
Факела горели, потрескивали.
– Да как же, как же… – бормотал, как заведенный, Степан.
– Страшно умирать? – спросил Иоанн.
– Страшно, царь-батюшка, очень страшно, – затараторил, признаваясь, Василевский. – Скажи, что пошутил, скажи! – Он поднял голову: – Скажи, государь!
– Опусти голову, – только и ответил тот. – Такова моя воля!
Но не только страх за жизнь ударил Степана точно в сердце. Вспомнил он все, разом вспомнил: казни и насилия, глаза гибнущих под его саблей людей…
– Господи Боже, – в ужасе прошептал он. – Господи!..
Темный угол темницы, откуда незряче уставилась на него отсеченная им голова Федора Басманова, был последним его земным видением. Яркая вспышка и – темнота…
Малюта еще раз резанул, уже по воздуху, чужой саблей – смахнул кровь, нагнулся, вытер остатки ее о кафтан обезглавленного Василевского, чьи пятки еще бились друг о друга, поцокал языком:
– И впрямь хороша! До звона отточена сабелька! Себе оставлю – память будет.
– Идем, – сказал ему Иоанн. – Работы у нас сегодня много. Москвичи, поди, уже заждались!
В этот же день, к полудню, на Полое место, что у Кремля, согнали опричники около полутысячи москвичей из разных сословий и началась одна большая казнь. Длилась она всего один день, но сколь кровавым он стал! Опричники с утроенной прытью вязали раздетых людей к столбам и брались за оружие. Тут уже не только Малюта и его свора бесились, но и сам Иоанн вместе с шестнадцатилетним сыном Иваном не побрезговали поработать палачами: вооружившись копьями, забивали они людей наравне с другими опричными. И счастливы были те, что умирали сразу. У иных из кожи, срезанной с тела, ремни делали, с других всю кожу живьем сдирали, третьих просто на куски кромсали. В один разделочный стол превратилось Полое место. В тот день мученической смертью умер дьяк Висковатый, глава посольского приказа. То ли донос был на него, то ли просто припомнилось государю, что Иван Михайлович еще в Ближней думе состоял и когда-то жизни его учить осмеливался. Дьяка привязали к столбу, и царь приказал срезать с него плоть кусками. И многие опричники приложились к тому делу, а Иван Реутов едва и сам не поплатился жизнью: за то, будто сжалился над пожилым человеком и специально прикончил его – отрезал слишком большой ломоть. Отнекивался опричник Реутов, на коленях перед царем ползал! А может, и не жалел никого Реутов, а просто дьяк Висковатый кровью к тому времени истек да сил боль такую терпеть не осталось? Старенький он уже был, Иван Михайлович…
К концу дня земля на Полом месте перед Кремлем так пропиталась кровью, что стала бурой, затвердела и на жаре на следующий день потрескалась. Позже место так и назвали – Кровавой площадью.
А еще чуть позже эта площадь «Красной» в народе стала…
5
Но месть Господня за поруганный Великий Новгород и другие северные города Руси уже близилась, огненным мечом нависала над кровожадной царской Москвой…
Менее чем через год после массовых казней в столице, в апреле 1571 года, крымский хан Девлет-Гирей пришел на Русь с большим войском. Сто пятьдесят тысяч бойцов, среди которых были и ногайцы, и турки-османы, шли прямо на Москву, не отвлекаясь сильно на штурмы и грабежи других городов. Внезапностью взять хотели – и взяли! Русь была расколота и ослаблена, разоренные Иоанном северные города не могли оказать толковой военной помощи. К тому же во многих районах свирепствовала моровая язва, тут уж не до оружия. Опричная армия под командованием князя Волынского, наскоро собранная, была буквально сметена крымцами под Серпуховом. Да и малочисленна она оказалась: опричники привыкли грабить и убивать своих же, русичей, приучились к легкой добыче, и многие из них, развращенные этой легкостью, испугались и попросту не явились на сборы. Иоанн Васильевич бежал из Москвы в Александровскую слободу; просидев там пару дней, бросился в Ярославль, а оттуда – в Белозерский монастырь, где заперся и стал рьяно молиться.
Но молитвы ему не помогли.
23 мая Девлет-Гирей подошел к столице русского царства и поджег ее посады за Неглинной. Дни стояли жаркие, и пламя помогло татарам. А весенняя буря помогла пламени. Огонь с посадов перекинулся на Арбат, оттуда пошел на Кремль и далее. Москва запылала со всех сторон, а после взрыва Пушечной избы загорелся и Китай-город. Пожар оказался под стать тому, что выжег столицу двадцать четыре года назад – в год венчания Иоанна на царство. Огня испугались даже крымцы: захватив пленных, они поспешили уйти из Москвы, даже не пытаясь идти дальше и искать ненавистного им царя, разорителя Казани и Астрахани. Девлет-Гирей решил просто, что Москве и государю ее и без того конец. В том пожаре погибли более ста пятидесяти тысяч человек, ибо Москва была переполнена беженцами, и еще триста тысяч крымцы увели в рабство. Давно мечтал о такой мести Бахчисарай! В Москве же такого удара не ожидал никто. А едва крымский хан вернулся домой, то послал русскому царю в ларце хитрый подарок. Неверными руками в Александровской слободе Иоанн открывал ларец. А откинув крышку, похолодел. Перед ним лежал кинжал! На восточном языке хан предлагал опозоренному русскому царю свести счеты с жизнью.
Иоанн Васильевич захворал – от переживаний он покрылся зудящей коростой и все озлобленнее и затравленнее смотрел на мир. Первым, что он сделал, это казнил всю опричную верхушку, первых князей и детей боярских своего обособленного от земщины войска. Говорили, что лишь Василия Грязного отпустил, так и сказал своему бывшему любимцу: «На край света беги, Васька, иначе пожалеешь!» И больше о том никто не слыхал. Царь оставил при себе одного лишь Малюту Скуратова – единственного человека, которому доверял. Более того, сделал даже первого мясника Руси думным боярином.
А еще Иоанн женился – уже в третий раз, теперь на боярской дочери Марфе Васильевне Собакиной. Из двух тысяч девиц выбрал! Хотел, как в первый раз. Как с Анастасией было! По любви чтоб.
На свадьбе, состоявшейся 28 октября 1571 года, присутствовал зять Малюты – мало кому известный молодой опричник Борис Годунов.
Только вот не семнадцать лет было Иоанну, страшен он казался от нервной болезни, да и по горло в крови невинных стоял, как царь Ирод. На пиру все заметили, что невеста бледна и вздрагивает, когда ее касается царская рука, – вздрагивает так, точно к ее белой ручке огонь подносят. «Переживает счастливица!» – вслух говорили гости, а про себя-то знали: «Боится! Смертным страхом боится молодая девка муженька своего, царя-душегуба!»
– Что, моя хорошая, цветочек мой аленький? – к полуночи, отгуляв на пиру, в спальне царских палат спросил ее Иоанн. – Готова ли ты принять мужа своего венчанного на супружеском ложе? Готова ли, говори?!
Юная царица, в белой рубахе, поджав ноги на уголке царской кровати, молчала. Трещали лампады, курились благовония. Она подняла несчастные глаза – по щекам ее текли слезы – и тотчас опустила их.
– А что же ты плачешь? – изумился Иоанн. – Неужто не счастлива? Неужто боишься меня? Ну-ка, снимай рубаху, хочу посмотреть на тебя, какая ты. Не обманулся ли. Снимай-снимай…
Юная царица зацепила рубаху, потащила ее вверх через голову. Оставшись нагой, сжалась еще больше. А он уже жадно искал все тайное в ней острым и сладострастным взглядом, и улыбка вожделения расплывалась на его губах…
– Так, так, – плотоядно повторял он, – беленькая, отсюда видно – теплая… А вот и я, душенька, судьба твоя! – И он сбросил с себя парчовый восточный халат и тоже остался наг. – Смотри на меня, смотри!!
Тут она и увидела его всего – нагого, хищно подступающего к ней. Тощего и жилистого, с проступающими ключицами и ребрами, с отдутым от обжорства и пьянства животом. И страшно ей было смотреть на него, очень страшно! Струпья по телу, вздувшаяся кожа, расчесанные язвы. Козлиная борода, черные скрученные на голове волосы, точно в рога вырастающие; горбоносое желтое лицо, брови, как ножи, глаза – обжигающие угли. Точно из ада он вышел, почудилось – аж серой пахнуло!..
– Ложись, царица, ложись! Любить тебя буду!
Но она, стиснув колени, не могла пошевелиться. Так и вросла в край брачного ложа…
– Неужто противен я тебе? – спросил он. – А ведь ты меня любить и почитать должна – любого! Ведь я муж твой, пред Богом и людьми! И царь твой, а потому в руке моей, – он сжал в кулак пятерню, – жизнь и смерть твоя! Смирись! Ложись, рабыня…
Но юная царица никак не могла перебороть брезгливости. Тогда он шагнул к ней, ударил по лицу, схватил, тотчас зарыдавшую, за волосы и поволок на середину кровати; забрался сам, оторвал друг от друга ее колени, придавил обезображенным язвами телом…
– Кричи! Кричи! – овладевая ею, все пытаясь поймать сухими губами ее рот, приговаривал он. – Кого позовешь на помощь? Царь я твой, царь! Царь…
Когда он сполз с нее, зареванной, дрожавшей от боли и отвращения, гнев и ярость новой волной подступили к нему.
– Неужто и теперь не люб?! Так я тебе книжку почитаю, есть у меня мудрая книжка, – он уже рыскал глазами по столам и буфетам, – вот она, вот! Один старый человек ее сочинил, а плохого он не писал!
Иоанн, стоя нагим перед кроватью, уже лихорадочно зло листал отпечатанный «Домострой» бывшего своего исповедника и наставника Сильвестра:
– Это о тех женах, которые, невзирая на венец, сторонятся мужей своих, – отрываясь от страниц и обращаясь к жене, говорил он. – О том, что с ними делать надобно! Поучительно тут все, мудро! – Остановился, зацепил взглядом строки: – Слушай, негодная, слушай! – Государь выставил длинный палец с перстнем вверх: – «Нельзя бить жену ни палкой, ни кулаком, ни по уху, ни по виденью, чтобы она не оглохла и не ослепла; а только за великое и за страшное ослушание…» Вот! Вот! «…сойми с нее рубашку…» – Иоанн мельком глянул на жену. – А ты и без рубашки уже – работы меньше! «…и плеткою да вежливенько отходи ее, а, поучив, примолви: о тебе, родная, ратую и пекусь, о благоразумии твоем и о чести твоей!»
Иоанн отбросил книгу в сторону, сдернул со стены конскую плеть и подступил к сжавшейся царице:
– Готова ты учиться? Готова, чтобы я о твоем благоразумии и чести твоей позаботился? А коли так, то прикрывай зрение свое и ушки. Хочу я, чтобы ты видеть и слышать могла, когда я закончу и вновь говорить с тобой стану!
Царица едва успела прикрыть лицо – как он с силой, через все тело, полоснул ее плетью…
Русь вскоре горестно вздохнула. Москва ожидала новых казней. И как иначе, если через пятнадцать дней после венчания, уже 13 ноября, царь Иоанн овдовел: его царица Марфа, в девичестве Собакина, умерла в расцвете своих юных лет по неизвестной причине. Правда, поговаривали: то ли отравил ее государь, то ли забил до смерти, а может, и от горя умерла бедняжка. По любви, как прежде, не вышло.
А еще все ждали нового нашествия Девлет-Гирея. Никто в Москве не сомневался, что весной-летом 1572-го крымский хан вернется на разоренную и ослабленную Русь, и этот приход будет равен для нее концу света.
Неожиданно для всех царь назначил главным полководцем русской армии своего бывшего опального боярина – князя Михаила Ивановича Воротынского.
6
Уже около года вызволенный из заточения князь Михаил Воротынский строил широкую засечную черту на южных границах Московского царства – систему деревянных крепостиц и оборонительных пунктов, способных временно задержать нашествие крымской орды или Турецкого султаната. А еще, путем связи – дымных костров и гонцов на свежих лошадях, готовых пронестись ветром десятки верст, – предупредить столицу и позволить царю быстро собрать хорошо вооруженное войско. Катастрофа прошлого года не должна повториться. Под началом Михаила Воротынского уже было двадцатитысячное войско, передвигавшееся по засечной черте и состоявшее исключительно из земских воевод и бойцов.
Худшие ожидания оправдались: летом 1572 года на Крымском полуострове произошло большое движение враждебных военных сил, и вскоре стодвадцатитысячная армия татар и турок, выйдя к Днепру, двинулась вдоль его устья к Северному Донцу, перешла его и оказалась в Диком поле, и уже оттуда, вдоль Дона, взяла курс на Москву. Это был уже четвертый поход удачливого полководца, крымского хана Девлет-Гирея, на Русь…
Узнав о новом нашествии, Иоанн, пребывавший в Александровской слободе, оцепенел. В первые часы после этого известия, всех прогнав, он сидел, вцепившись в подлокотники своего трона и смотрел в одну точку. Только дрожали губы и подрагивал кончик длинной козлиной бороды. До последнего русский царь надеялся, что в этом году пронесет, и татары оставят его в покое.
Никогда еще не было ему так страшно! Нашествие прошлого года стало тяжелейшим ударом по его государству, это же грозило стать смертельной раной. Но страшнее всего было грядущее унижение! Мысль о кинжале, посланном ему ханом для самоубийства, против воли врывалась в мозг и терзала Иоанна.
Придя в себя, он велел собираться в дорогу. На этот раз Иоанн даже не стал прятаться по ближайшим монастырям: он был так напуган, что сразу устремился в Новгород. Даже Батый не дошел до него сто верст, знал Иоанн, значит, и Девлет-Гирей не пойдет так далеко! Уже через неделю царь въезжал с небольшим опричным войском в город, который два года назад истребил на треть. Истребил зверски! И теперь, униженный, он приехал скрываться именно здесь. Но сейчас было не до казней: не до жиру – быть бы живу! Он въехал, глядя поверх голов притихших новгородцев, и тотчас заперся в княжеских палатах, всех прогнав, удалив от себя.
Ему оставалось только одно – ждать.
Девлет-Гирей рассчитывал не просто разграбить ненавистную землю и увести в полон еще десятки, а то и сотни тысяч людей. Прицел у нового похода был дальний! Крымский хан и турецкие полководцы надеялись как можно сильнее ослабить врага для будущих свершений: покорив Москву, они решили в том же году взять Астрахань, а на следующий год вернуть и Казань. А далее все ясно: поставят-таки они русских на колени, как это было при Батые! Лучшие времена Золотой Орды грезились им.
Перейдя Дикое поле, крымцы и турки вышли к Оке, чьи берега являлись одной из главных разделительных черт между степняками и древними землями русских княжеств. Беспрепятственно пройдя между Доном и Окой по той территории, что была разорена крымцами год назад и так и не успела подняться для сопротивления, уже немолодой и опытный Девлет-Гирей, как и год назад, переправился через Оку под Серпуховом и остановился на реке Лопасне недалеко от села Молоди.
Вскоре ему сообщили, что русские полки стоят рядом и готовы вступить в бой. Это известие неприятно удивило крымского хана.
Воротынский обо всем узнал вовремя: его полки и впрямь стояли чуть выше по Оке, в пределах южной засечной черты русского царства. К его двадцати тысячами отборных бойцов-пограничников подошли еще сорок тысяч земского и опричного войска. Но отныне развращенные убийствами единоверцев опричники могли только дополнять своими силами основную армию и надеяться отличиться в бою. Русское войско уступало по численности крымцам и туркам вдвое – разница немалая, но ведь и такую армию собрали с трудом: тяжелые времена переживала Русь! Но был перевес и у московитов – в артиллерии. Крымцы шли быстрым маршем, лишь меняя под собой коней, надеясь, как и в прошлом году, воспользоваться жарой и сжечь едва начавшую отстраиваться Москву. Воротынский же собрал с засечных крепостиц почти все пушки, из ближайших городов тоже подкатили орудия.
Рать поделили на пять полков: Большим командовал сам Михаил Иванович Воротынский, вторыми воеводами оказались братья Шереметевы; Передовым полком командовал князь Хворостинин, Полком правой руки – князь Одоевский, Левой руки – князь Репнин, Сторожевым – князь Шуйский.
Оба войска, вставших в лесостепи и пока еще не видевших друг друга, разделяло село Молоди и его окрестности, рядом секли территорию речка Лопасня – приток Оки, и другие мелкие речушки.
До Москвы было всего сорок пять верст.
В кольчуге, при оружии, хоть сейчас готовый принять бой, князь Воротынский со свитой проезжал мимо тысяч русских бойцов. Осмотр войска он проводил скоро, не мешкая: татары могли ударить в любой день и час.
Вот и Передовой полк – он должен был принять первый удар.
Когда князь Хворостинин называл Воротынскому своих воевод, старших и младших, полководец попридержал коня. Воротынский увидел, как вспыхнуло лицо младшего воеводы, командира трех тысяч молодых конных дворян с пиками и саблями, кивнул Хворостинину:
– Поговорить я хочу с твоим молодцом, Алексей Петрович, во-он с тем, не против?
– Как же я могу быть против, пресветлый князь? – отозвался Хворостинин. – Прошу вас…
Молодой воевода с зардевшимся лицом выехал из строя, поклонился полководцу:
– Здравствуйте, Михаил Иванович, – проговорил он негромко, но было видно, что чувства рвут его сердце.
Воротынский кивнул своим первым помощникам Шереметевым:
– Продолжать осмотр без меня – я скоро! – И тотчас, пустив коня в сторону, бросил молодому воеводе: – За мной! – И уже чуть поодаль добавил: – Ну здравствуй, Григорий! Вон как судьба нас с тобой сводит. – Они отъехали еще дальше. – Все эти годы в Ливонии воевал?
– Там, Михаил Иванович, чуть от «огневой лихорадки» Богу душу не отдал, когда мор был, – вытянули добрые люди!
– Опричником-то не был? – точно разговор шел о чем незначительном, спросил полководец, попридержав коня. – Говори честно, ругать не стану…
– Бог миловал, – ответил Засекин. – А вот двух друзей моих опричнина сгубила – и каждого по-своему.
Князь Воротынский заглянул ему в глаза:
– Сеча будет страшная, мало кто из нас вернется домой. Может быть, все ляжем тут, у Молодей… Скажи мне главное: горюешь ли по Марии?
Засекин с печалью опустил глаза:
– Горюю, Михаил Иванович.
– Знаю, искал ты ее потом на Белоозере…
– Верно, искал, – кивнул тот.
– Что тебе сказали?
– Умерла, сказали.
– Так и было… От родов она умерла, Гриша.
Молодой воевода, натянув удила, стремительно вскинул глаза на полководца:
– От родов?! Да как же так?..
– Не знаю, Григорий. Может, снасильничал кто из охраны. А может, еще что… – Князь зацепил всполошенный взгляд Засекина. – Она не сказала: молчала, точно воды в рот набрала. Жалели ее монахини…
– Милостивый Боже, – вырвалось у молодого князя, – стало быть, от родов…
И тут Григорий вспомнил разгневанную старую монахиню с выцветшим лицом: «Преставилась твоя голубка. Представилась, сердечная. А ты уезжай, уезжай, распутник! И сабли твоей не боюсь!» «Отчего же распутник-то?» – возмутился он тогда. «Сам знаешь! – вскипела та. – Уезжай!» Выходит, все поняла старуха…
Они вновь встретились взглядами.
– А что же ребеночек? Жив остался?..
– Нет, вместе с матерью Богу душу отдал. Со слов знаю, я ведь с Машенькой редко виделся. Разделили нас – удерживали друг от друга…
– Любил я ее, Михаил Иванович, сильно любил, больше жизни, – произнес Григорий. – Мужем ее хотел стать…
– И стал бы, да, видать, все мы Бога сильно прогневили, что Он с нами так вот крут… Ладно, – Воротынский хлопнул Засекина по плечу рукой в кожаной перчатке со стальными пластинами, – поедем назад, последнюю службу отстоим и покоримся судьбе. А вон она – недалеко, – кивнул он на лес, – ждет нас с кривыми мечами и острыми стрелами. Едем же, едем! – и, повернув коня и ударив шпорами по конским бокам, полководец быстро вылетел вперед, оставив растерявшегося молодого князя позади…
26 июля 1572 года Воротынский получил то, чего ждал как манны небесной, о чем молил Господа все эти дни у села Молоди.
Первые схватки по фронту уже происходили, но ничего не решали, а час большой битвы никак не наступал. И вот крымцы и турки решились напасть первыми: кто знает, а вдруг армия противника увеличится, решили они. Вдруг из Москвы сюда движутся новые полки?
Чувствуя себя хозяевами положения, в тот день они первыми подошли к русским и вступили в бой. Посеча много стрельцов на флангах, главной силой они ударили по центру войска: пробьют его, и вот она – победа! Но когда дворянская конница разлетелась в стороны, за ней оказалась артиллерия. И вот пушки-то и разметали основные силы крымцев, уже грезивших о скором триумфе. Сколько раз на подобную удочку попадали те, что уже примеряли на свою голову лавровый венец! Лучшие силы конных татар были сметены огнем, остановлены, принуждены повернуть вспять. Но Передовым полком князя Хворостинина полководец Михаил Воротынский решил распорядиться особо – оставил его для главного задания. Передовой полк обошел басурман с фланга и ударил им с спину. Татары бились, как бьются алчные грабители: отчаянно и жестоко, но без той ненависти, от которой наливаются кровью глаза и болит от ярости сердце. Они пришли победителями – жечь и грабить, как и в прошлом году. Но русские бились иначе. Князь Григорий Засекин, как и все бойцы, знал: судьба всего государства зависит от этой битвы! Будет она проиграна – станет этот день концом Руси. И потому, налетев на крымцев сзади, горя великой ненавистью, русские секли врага страшно. А когда тот дрогнул, не ожидая такого маневра, то и другие русские полки, уже изрядно поредевшие, воспряли духом, и скоро уже вся армия Девлет-Гирея оказалась в тисках. Крымский хан знал, когда грядёт великая победа, а когда – сокрушительное поражение. Инстинкт не подвел его: с несколькими тысячами лучших своих людей он вырвался из мертвой хватки противника и бросился назад. Уже через полчаса, пролетев через холмы мимо Молодей и речки Лопасня, даже не оглянувшись на свой обоз и шатры, Девлет-Гирей взял курс на юг. А увидев, что полководца нет, дрогнули и бросились врассыпную и остатки его армии. В те дни русские преследовали крымцев до начала северных границ Дикого поля, уничтожая, никого не жалея, не беря в плен, разве что самых знатных.
Только на южных окраинах Дикого поля, у Северного Донца, крымский хан перевел дух и осмотрелся. Татар и турок вернулось сюда не более двадцати тысяч – из ста двадцати! Остальные костьми легли, чтобы из крови басурманской на необъятных просторах как русской, так и ничейной пока земли проросли дикие полевые цветы…
Велика оказалась эта победа! Мужскому населению крымского ханства был нанесен сокрушительный удар – точно руку правую с кривым мечом отсекли! На ближайшие десять лет, пока не подрастет боевой молодняк воинственных татар, Крым мог забыть о новых набегах. Москва же получала столь необходимую ей фору, чтобы подняться! Отныне границы московского царства расширятся на юг аж на триста верст, и скоро там будут спешно ставиться новые крепости – дабы закрепиться, врасти в землю. Но была и вторая победа, тенью стоявшая за разгромом крымцев: царь отменил опричнину. Само это слово отныне было запрещено на Руси, а кто произнесет его – наказывался торговой казнью. Боярин то или князь, его привязывали к столбу и прилюдно били плетью. Недавние головорезы и насильники, спрятав голову в плечи, и сами постарались забыть, как ездили на черных лошадях с песьими головам и метлами и тысячами губили невинных. Сами убедили себя, что это было лишь сном, злым кошмаром, приснившимся Руси.
Молодинская битва сыграла роль не меньшую, нежели битва Куликовская, произошедшая двумястами годами прежде. Такой бы она и осталась в народе, если бы Михаил Воротынский еще и великим князем был, подобно Дмитрию Донскому, хозяином надо всеми, а не простым полководцем. Ведь спасителем земли русской, едва вернулся он в Москву, окрестили его. Этого триумфа и любви народа Иоанн, прятавшийся в злой час за стенами Новгорода, не смог простить князю. Уже через год, черный от зависти и ненависти, Иоанн с радостью принял беглого слугу Воротынского, который рассказал, что князь, хозяин его, хотел-де «государя чародейством извести». И государь тотчас тому поверил! За великую любовь народа к Воротынскому он придумал ему страшную месть. О «чародействе» раззвонили по всей Москве, князя взяли и долго пытали, но он не признал за собой вины. Тогда царь приказал раздеть Воротынского догола, связать по рукам и ногам и бросить меж двух костров.
Глядя на несчастного полководца, Иоанн требовал:
– Сознайся, Михайло Иванович, что извести меня хотел, тогда помилую, слово царское даю! И сообщников назови! Лиходеев своих!
Но не хотел сознаваться в бесовском навете князь Воротынский, и государь злился, негодовал. Не по его выходило! Сам ближе и ближе подгребал он широкой рогатиной угли к телу корчившегося перед ним князя, ждал покаяния.
– Почто мучаешь меня?! – хрипел тот. – За что адову муку мне придумал?!
– А потому и мучаю, что дознаться правды хочу! – отвечал Иоанн. – Сознайся же! Сознайся, Михайло Иванович, родименький! Смирись с судьбою!
Но так и не сознался Воротынский. Избитого, обожженного князя отправили обратно в Белоозеро в заточение, но дорогой Михаил Иванович Воротынский умер. Всю же его семью государь приказал истребить, а возвращенные было имения обратно себе взял. И вот уже дьяки-переписчики во всех документах вымарывали само имя князя Воротынского, победителя крымских татар, а битву при Молодях решено было записать в обычную схватку на границах Москвы. По делу «чародея князя Воротынского» стали искать приближенных к нему людей, казнили видных полководцев Никиту Одоевского, еще одного героя Молодинской битвы, и Михаила Морозова. Пострадали и другие воеводы, и многие простые дворяне.
Когда «дело князя Воротынского» только раскручивалось, набирало обороты, другой князь, куда менее заметный, а именно – Григорий Осипович Засекин, принимал дела в далекой пограничной крепости Карела. Сюда он был назначен воеводой: сам напросился – и не прогадал. Жег царский перстень палец – ничего не давал забыть! И слова Андрея Михайловича Курбского: «Когда тиран на троне – будь подальше от столицы!» – тоже не забывал князь.
Неспроста он был послан в Карелу. Только что закончилось перемирие со шведами, и на границах русского государства вновь нужны были хорошие и надежные полководцы. Шведы полезли на Русь, а значит, тут ему, Григорию Засекину, и самое место.
7
Старел царь всея Руси Иоанн, давно прозванный в народе Грозным. Менял жен – одни умирали, другие отправлялись по монастырям. Растерял он и всех бывших друзей: и чистых сердцем, убиенных им в молодые годы, и черных душой – опричников, тоже им казненных. Потерял он и своего любимца Малюту Скуратова, погибшего в Ливонии во время осады крепости Вайсенштейн. Эта смерть особо приблизила к престолу и сделала новым фаворитом царя бывшего опричника Бориса Годунова, зятя Малюты Скуратова. Годунов стал так близок царю, что тот отдал замуж за его сестру Ирину своего второго сына Федора. В Ливонии временно вновь дела пошли хорошо, сверкнула надежда, что многого добьется московский царь на западных границах. Во времена польско-литовского бескоролевья, когда Генрих Анжуйский, французский принц, едва прибыв в Краков, чтобы одеть корону, узнал о смерти брата и бросился назад – занимать престол Франции, Иоанн стал было претендовать и сам на корону Речи Посполитой. Но побоялись на западе русского царя-душегуба. Кому такого захочется? Да и запросил он многовато: навечно захотел стать владыкой Польши, Литвы и Ливонии, а вот с Турецким султанатом вместе с европейскими рыцарями воевать не пожелал. Да и папа был против царя-схизматика.
Кто же станет правителем огромных земель Восточной Европы? – думали все.
И тут вышел на европейскую политическую сцену легендарный Стефан Баторий, виднейший полководец своего времени, и все русские победы в Ливонии стали сходить на нет. Город за городом занимал новый польский король, возвратил Полоцк, вторгся на территорию Руси и даже долго штурмовал Псков, но ушел из-под его стен, отметив, что то была самая великая оборона города, какую он только видел.
Старел царь и стал чудить. Неожиданно для всех отдал царскую корону казанскому царевичу Симеону Бекбулатовичу, за собой оставил лишь великокняжескую и в челобитных грамотах на имя нового государя униженно подписывался: «Иванец Московский». Сидел рядом с боярами, как равный среди равных, разве что эти «равные» были белыми от страха и пошевелиться боялись, не зная, что еще придет в голову их государю. Казни-то продолжались, может быть, не с той прытью, что во времена опричнины, но врагов и крамолу надо было искать – и их искали. Новгородского архиепископа Леонида не пожалели: обвинив в «колдовстве», зашили в медвежью шкуру и отдали на растерзание охотничьим псам. Через год царскую корону Иоанн себе вернул. Правда, говорили, что неспроста он чудит. Мол, нагадали ему, что в 1575 году «помереть царю русскому». Вот он и передал другому свою корону, а год закончился – взял обратно. Пронесло, стало быть!
И все же старел он и боялся главного – умереть! В припадке гнева ударил наследника престола, такого же умного и жестокого, как и он сам, Ивана, посохом по голове. Тот вскоре умер. Царь-сыноубийца хотел отречься от престола и заставил писать синодики по всем убиенным им людям во время его царствования, но дьяки едва рассудка не лишились: список был длиной в самую долгую дорогу, где и горизонта не видно! Так и не дописали его…
И царь от престола не отрекся, еще сильнее вцепившись костистыми руками в подлокотники золоченого трона.
5 января 1582 года в Яме-Запольском завершилась подписанием мирного соглашения Ливонская война. Она длилась долгие двадцать пять лет и унесла сотни тысяч жизней только одних вояк с обеих сторон. А сколько погибло мирных жителей, то неведомо. Москва проиграла эту войну – отдала все завоеванные ранее территории. С чего начала, тем и закончила. Но война разорила саму Русь – поборами, налогами…
Царь боялся и страдал, писал английской королеве Елизавете, что думает бежать с родины, где все его ненавидят, та обещала дать царю приют. Иоанну того оказалось мало. Будучи женатым в шестой раз на Марии Нагой, просил Елизавету выйти за него. Но королева-девственница, понятно, отказалась. Тогда царь решил осчастливить предложением руки и сердца родственницу королевы Марию Гастингс, но и тут согласия не получил.
К концу жизни он добился того, чего желал с такой страстью: его боялись все без исключения! И можно было бы поправить политику государства, и было кому – башковитый боярин Борис Годунов имел свое на то разумение, но даже советы царю приближенные давать опасались. Никто не хотел головой поплатиться! И потому кивали и соглашались с любым его самодурством. Стало быть, в чем-то, но добился он совершенства.
18 марта 1584 года, во время игры в шахматы с боярином Богданом Бельским Иоанн Грозный вдруг покачнулся, захрипел и, точно в порыве отчаяния, ударил ладонью по шахматной доске. Но прежде чем он повалился с кресла, к удивлению всех случилось необъяснимое: все фигуры удержались, одна только легко вспорхнула вверх и, упав на пол, покатилась прочь… Этой фигурой был черный король, к которому несколько секунд назад тянулась рука государя.
Царя подхватили и понесли в покои, а он все хрипел и хрипел, да слабо тряс пальцем, точно хотел сказать: «Вот я вас! Погодите же у меня! Прокашляюсь только!»
Сердце черного короля прихватило – сжалось и решило было разорваться, но страх перед смертью у Иоанна оказался куда сильнее. Заставил смириться сердце, подождать еще немного…
Именно это и поняли двое бояр, стоявших у его ложа, – Борис Годунов и Богдан Бельский. Двери были заперты: после ухода врача, от страха перед царем едва не упавшего в обморок, они сказали придворным, что государю нужен покой. И теперь склонились над ложем и смотрели на его подрагивающие веки, точно говорившие: «Жив я! Жив еще! Жив на беду вашу!»
Неожиданно глаза царя открылись, и он тихо спросил:
– Что глядите? Решили, сдох я, верно? – Иоанн попытался улыбнуться. – А ну, говорите, чего мне подсыпали в вино?! Ты, Бориска, и ты, Богдашка, сознавайтесь лучше! – Говорил он с придыхом, тяжело. – По-хорошему сознавайтесь…
Им стало так страшно, что они даже распрямились не сразу – так и застыли в низком поклоне.
– О чем ты, государь? – побледнев, спросил Бельский. – Да не бредишь ли?
– Не брежу, Богдашка, – ответил тот. – Знал я, что ненавидите вы меня, знал…
Годунов первым пришел в себя и сделал шаг в сторону. Но Иоанн того не заметил – так и смотрел в глаза выцветшего лицом от страха Богдана Бельского.
– Я шкурки-то с вас сниму да на солнце высушу, – продолжал говорить Иоанн. – Слышишь, Богдашка? Малюты на вас нет, он бы своего зятька-то с особым усердием распотрошил!..
Борис Годунов стоял уже за головой неподвижно лежавшего царя. Последний год он особенно боялся за себя и своих близких. Его сестра Ирина никак не рожала от Федора, и кто тому был виной – один только Господь и знал. Но ходили слухи, что Иоанн развести их хочет. Тогда всем Годуновым конец: отторжение от власти, опала…
А теперь еще обвинение в отравлении!..
Тут наконец-то распрямился и Бельский. Взглянул на Бориса и оторопел. Тот держал в руках небольшую подушку, которую заставлял подкладывать себе под спину болевший позвоночником государь, когда опускался в кресло.
– Чего молчишь, Богдашка? – спросил Иоанн.
Царь пошевелился, кажется, пытаясь встать. Двое бояр еще раз встретились взглядами. И тогда Богдан Бельский едва заметно кивнул своему товарищу по Думе. С заискивающей улыбкой он приблизился к царю, тот уже хотел было плюнуть ему в лицо, но в этот момент на желтое остроносое лицо опустилась подушка. И в ту же секунду Богдан Бельский схватил ослабшего царя за руки и со всей силой прижал его к кровати. Куда Иоанну было тягаться с двумя еще моложавыми бугаями! Ноги государя забились, руки еще пытались вырваться, но через минуту эта пляска стала затихать – государь сдался…
Борис Годунов отнял подушку от его лица, Богдан Бельский медленно отпустил руки государя. Лицо Иоанна оказалось вздернуто вверх, борода торчала мятым клином, рот оскален, еще страшнее смотрели точно ослепшие глаза…
Оба боярина сделали по шагу назад, не сводя взгляда с Иоанна.
– Что скажем-то? – тихонько спросил Бельский.
– А то и скажем: помер, и все тут. На глазах наших помер.
– А коли врач разведает?
– Пусть только разведает! – зло усмехнулся Борис, обходя с подушкой в руках кровать. – Головы-то нам теперь рубить некому. Федор-то, сын его, мой деверь. Был бы Ванька жив, наследник, тот бы не спустил, на кол бы усадил! Отцу-душегубу под стать был. А Федька даже и не поймет, что случилось.
Их поразил страшный хрип за спиной, и они разом обернулись. Царь сидел на постели и смотрел на них так, что у Бельского ноги подогнулись.
– Я вас на кол посажу! Я! Убивцы, лиходеи, тати! Я вас терзать буду!..
С быстротой и ловкостью, какая и кошке не снилась, Годунов метнулся к царю. Вскочив на него верхом, укрыв, как саваном, парчовым кафтаном, ткнул той же подушкой в желтое лицо государя.
– Богдан! Богдан! – заревел он. – Ноги держи, ноги!
Тут и Бельский опомнился: подскочил, перехватил ноги Иоанна. Руки государя, которых держать сейчас было некому, хватали всё подряд: то ляжки сидевшего сверху Годунова, то нос и губы Бельского, который все отворачивался, прятал лицо…
С четверть часа они сидели вот так – в обнимку с государем, пока их руки и ноги не затекли от напряжения, пока не стало ясно, что пора сползать с покойного. И когда они все-таки оставили Иоанна и вновь, по-прежнему боязливо, уставились на его лицо, великое облегчение стало разливаться по жилам обоих бояр. Камнем замер тот, кто безраздельно царствовал тридцать пять лет на Руси! Злорадно улыбнувшись, Бельский наклонился и плюнул в пустую воронку открытого рта. Не страшны больше были ощерившиеся желтые зубы, пустые глаза Иоанна! Жалки, ничтожны!..
Перед ними был труп. Прах.
– Нет больше зверя, – тихо проговорил Борис Годунов. – Сейчас его Господь на небесах встретит. Долгим суд будет, ой, долгим! Мы сами состариться успеем!..
8
…Царь-азиат, на словах – поборник христианства, на деле – строгий последователь политики золотоордынских ханов, их духовный наследник, наконец-то умер. Но в народе не поверили сразу избавлению: а вдруг это новая дьявольская шутка душегуба, и не умер он вовсе? Что тогда?! Вот заговорят сейчас те, кто радовался его смерти, а он вырвется на черном коне из Кремля и скажет: «А вот он я! Не ждали?! Вечен я, вечен!» И вновь потащит всех недовольных, слово единое обронивших супротив него, на Красную площадь, и вновь начнется кровавая расправа!
И потому молчал народ – выжидал в смятении…
Но в Кремле, скоро после похорон Иоанна, новый царь всея Руси Федор Иоаннович, человек кроткий и незлобивый, а потому всеми признанный блаженным, в присутствии шурина закрывал лицо руками и причитал:
– Не хочу править страной, не стану управлять Русью! – Мотал с отчаянием головой: – Не хочу источить свое сердце властью, руки обагрить кровью своих поданных! Не хочу в зверя превратиться, как батюшка мой, да простит Господь его душу и сохранит для жизни вечной, коли суждено будет. – Федор отнимал руки в крупных перстнях от бледного лица, умоляюще смотрел в глаза Бориса Годунова: – Бери власть в свои руки, дорогой мой шурин, ты годен для того! Собери под собой мудрых советников, управляй Русью-матушкой, но, умоляю тебя, – из глаз его уже текли слезы, – будь милосерден к людям, будь к ним милостив! Слышишь меня, Борис?!
Тридцатичетырехлетний боярин, брат царицы Ирины, фаворит судьбы, кивнул:
– Все выполню, царь мой батюшка, – он медленно встал перед венценосным родственником на колени, взял его холодную тонкую руку, припал горячими сухими губами к ней. – Все исполню! – Поднял глаза на бледного и слабого Федора: – Клянусь!
Часть третья Волжский путь
Глава 1 По указу царя-батюшки
1
Колокола Успенского собора монотонно звонили, приглашая хозяев Кремля к обедне. Но не торопился Борис Годунов, в пурпурном кафтане, расшитом золотом, на службу – он ждал нужного ему человека. Годунов лишь осенил себя крестом в красном углу царских покоев перед иконой, наскоро прошептав молитву, и вышел в посольскую залу. Тут он занял свое место – царский трон на высокой ступени. Но перед тем как сесть, оглядел его, любовно похлопал по спинке. Прирастал он к нему с каждым днем все сильнее. С первых дней почувствовал Борис это место своим – родным, законным. В регентский совет входили еще четверо знатных бояр: бывший опричник Бельский, дядя царя Федора Иоанновича со стороны матери Юрьев, Шуйский и Мстиславский, но все дальше отодвигал их от трона расчетливый и мудрый Борис Годунов. Ближе других был он по сердцу деверю своему – доверчивому царю Федору.
Открылись двери, и тот, кого ждал Борис, был объявлен сотником царской стражи:
– Воевода Алатырский и Санчурский, князь Григорий Засекин!
– Проси, – с царского трона, из глубины приемной залы отозвался Годунов.
Гость вошел – в изумрудном кафтане, при сабле и кинжале, в шапке с атласным отворотом. Был он крепким и высоким, широкоплечим, с окладистой бородой, зрелых лет. По лицу и выправке видно – воин. Чистой воды!
– Здравствуй, князь, – сказал Годунов. – Подойди.
Засекин приблизился, поклонился:
– Доброго здравия, пресветлый боярин Годунов.
Пять дней в сопровождении близких воинов, оставив городок Санчурск, скакал он в Москву по вызову самого царя – с бумагой за подписью самодержца, – а на троне увидел вовсе не кроткого Федора Иоанновича, а его властного шурина Бориса Годунова. Подтвердились слухи, что самовольно удалился от дел молодой царь, оставив трон Годунову, бывшему опричнику Грозного.
– Неужто не рад ты, князь, увидеть меня на этом почетном месте? – усмехнулся в тяжелую рыжеватую бороду Годунов. – На священном месте… А?
– Что ты, пресветлый боярин, очень рад. Разве что не ожидал этого…
Годунов кивнул снисходительно:
– Редко бываешь в Москве, князь.
– Так редко бываю, потому что делами государевыми занят, – ответил Засекин.
– За дела твои спасибо, справляешь ты их на славу. Но причина, думаю, иная, – рассмеялся Годунов. – Не любишь ты Москвы, вот в чем дело! Не любишь двора царского…
Много ходило слухов про Годунова. Будто это он руками своими крепкими душил царя Иоанна, пока Бельский за ноги держал беспомощного самодержца. И все потому, что желал царь развести сына с бесплодной Ириной, сестрой Годунова, и дать Федору в жены принцессу иноземную, чтобы род Рюриков продолжил. Да теперь об этом на Судном дне только и узнаешь!
– Как же мне ее не любить?! – попытался возразить Засекин. – Москва – всем городам мать.
– Кому мать, а кому и мачеха. Ты с ливонцами бился, пока мы на Новгород ходили, верно?
– Верно, – сухо согласился Засекин.
– То-то и оно. Я тебя давно знаю, Григорий Осипович. А вот Степку Василевского, друга твоего бывшего, опричника царского, знал куда лучше. Он-то в Новгороде побывал. Так лютовал по царскому указу – тебе и не снилось!
– Верю, – сдержанно ответил князь.
– Крут был, да голову сложил в кремлевских подвалах. Малюта Скуратов, тестюшка мой покойный, гореть ему в аду синим пламенем, саблей голову Степки положил на камень тюремный. Но не вопил он, как Басмановы, не плакал перед смертью. Злым был, но крепким. Да и время такое было. – Годунов потрепал густую бороду рукой; дорогие перстни так и переливались на пальцах в мутном дневном свете, падавшем в окна Кремля. – Все были злыми, и я был злым, – с горечью добавил он. – Каюсь. Еще слышал я от Степки, дружок у вас был, горячий молодец, что супротив царя и его друзей закадычных пошел, в кусок мяса его превратили да в канаву собакам на потеху бросили. Верно?
– И такое могло быть, – нахмурился Григорий.
– Да и с бабами вашими тоже худое вышло. Одна сама померла, другую удавили. А ты вот жив и здоров на радость всем нам. Потому что знал: лучше с ливонцами али с крымцами биться на окраинах, чем пред взором царя-мучителя ходить. Просился в самую даль, только бы подальше от престола. Угадал? Только, думаю, молод ты был, чтобы понять это самому. Явился ведь советник, а? Да кто? – пытливо взглянул на князя Годунов. – Ох, сдается мне, был то родич твой по князьям Ярославским – Андрей Курбский, предатель земли русской. Говорят, умен был и хитер! Или благодетели твои Адашевы – перед тем как на плахе голову сложить? Откроешь мне тайну сию, князь?
По лицу Засекина прошла холодная тень.
– Я к ратному делу привык, пресветлый боярин, а не о полы царского кафтана тереться. Такой уж я человек и другим не буду. И быть не хочу.
– Верно – будь таким, каков есть. Таким ты нам и нужен, князь Засекин. И роду ты знатного, и отвагой наделен, и люди за тобой идут. Так вот, Алатырь и Санчурск – только начало. Воевода Злобин, которого ты знаешь, на юго-запад отбыл: ближе к Дону, крепости ставить – Курск, Ливны, Воронеж. А ты на юго-восток пойдешь – на Волгу. Грамота уже мною составлена от Разрядного приказа и государем нашим пресветлым Федором Иоанновичем подписана. В заволжское Дикое поле поедешь. Там сейчас две ногайских орды правят – Адыгея и Уруса: все землю делят да поделить не могут. Мы за это и возьмемся – царство Московское милостью Божьей. Время наше пришло. Тем более что еще отец мурзы Адыгея звал нас на Волгу – теснили его свои же единоплеменники. Да и сам Адыгей с Москвой дружить не против. А вот Урус люто нас ненавидит! На этой их «любви» ты и сыграешь. Начнешь с крепости Самары: мне донесли, что место это так для оплота московского и просится. Был там когда-то, в давние времена, то ли булгарский, то ли русский городок, да сгинул. Потом к Сары-Тау пойдешь, коли басурманы пустят, а чуть позже – и к Сары-Тину, что еще сложнее. Дай Бог, эти псы будут еще пуще прежнего грызться и жечь улусы друг друга… Сколько тебе сейчас лет, князь?
– Сорок пять будет, пресветлый боярин.
Годунов, довольный, кивнул:
– Тебе еще строить и строить крепости во благо земли русской. Ты еще и на Кавказ успеешь, у нас и там дела будут. А пока возьми у московского воеводы Бельского сто конных стрельцов и поезжай с ними в Нижний Новгород. А оттуда плыви в Казань. Там сейчас большой гарнизон стоит – после волнений-то. Татар прижали наши московиты, теперь бездельничают. Будет им. Наберешь еще триста, а то и пятьсот стрельцов, казаков подтянешь, ты ладишь с ними, знаю это, и по Волге – вниз. – Борис Годунов вытащил колокольчик из складок кафтана, коротко, но яростно позвонил. – Алексей!!
Двери в темном углу приоткрылись, и в залу торопливо вошел молодой подьячий в богато расшитой рубахе и сафьяновых сапогах. Вырос перед регентом, низко поклонился. Юный секретарь бережно держал в руках свитки с яркими лентами и сургучными печатями.
– Отдай князю грамоты, – приказал Годунов.
Темноволосый подьячий с поклоном протянул свитки Засекину.
– Тут необходимые документы, Григорий Осипович. Государева печать многого стоит! Полномочия твои велики, а к ним и помощь понадобится немалая. К воеводе Нижнего Новгорода, чтобы суда тебе дал самые надежные, а главное – к воеводе казанскому, чтобы окружил отеческой заботой. И главная грамота, что будешь по велению царя Москвы ставить новые города на Волге. И никто тебе не указ, кроме самого батюшки нашего да Господа Бога. И меня конечно же, – улыбнулся Борис Годунов. – Слышишь, князь? Эта грамота для тебя отныне почище твоего титула должна быть! На работный люд не скупись – собирай по всей казанской округе. Я за тобой лучших строителей пошлю. Пока на Волге осмотришься, и они подтянутся. Буду следить за делами твоими, князь, так, как раньше ни за кем не следил. Ступай с Богом.
– Прощай, пресветлый боярин, – поклонился Засекин. – Рад послужить царю нашему Федору Иоанновичу.
Он повернулся и хотел было уже идти, как Борис окликнул его:
– Засекин!.. А вон тот перстенек с изумрудом, говорят, Грозный тебе подарил?
– Так, боярин, – подтвердил князь.
– Дорог подарок! И захочешь позабыть – не забудешь, – усмехнулся Годунов. – На всю жизнь метина! Верно?
Князь промолчал.
– Ладно, ступай, – махнул рукой Годунов. – Служи государю своему.
И под испытующим взглядом Бориса Годунова, запустившего руку в рыжеватую бороду, Засекин направился к выходу из посольской залы.
2
Долго тянуть со сборами Григорий Осипович не стал. И хотел бы пожить в златоглавой, да только без опричника Годунова! И без тех его приближенных, что еще лет пятнадцать назад резали его друзей, вешали и на кол сажали. Но ведь родину не выбирают – и потому будет он служить ей там, где нужен и где не придется кланяться супостатам. Тем паче таким, как боярин Годунов, кто родовым корнем своим не вышел.
Увидев назначенного ему сотенного в Разрядном приказе, Григорий даже дара речи лишился, только смотрел на того во все глаза.
– Да, княжич, вот так встреча! – ухающим голосом проговорил дюжий стрелец с лопатообразной бородой. – Вот как оно бывает-то! Да-а…
– Ну, здравствуй, Савелий Крутобоков, здравствуй!..
– И не думал в живых вас встретить – столько всего было! Страх Божий…
Они зашли в корчму на Неглинной, выпили на радостях горячего вина. Разговорились.
– Скажи мне честно, Савелий, все помнишь, что было?
– Все помню, князь, – понимающе кивнул тот.
Многое пронеслось перед глазами Григория: и битва под Дерптом, где Крутобоков срезал чухонца, едва не заколовшего его, совсем еще мальчишку, и дорогу на Белоозеро, и дом, где остановились на ночлег ссыльные Воротынские…
– Вот и я тоже помню, – вздохнул Засекин. – И захочешь позабыть такое – не забудешь, – непроизвольно повторил он слова Годунова. – Как по отчеству-то тебя?
– Данилович, – отозвался сотник.
– Ну так показывай мне своих людей, Савелий Данилович, – сказал князь. – Каждого хочу рассмотреть! Работа у нас серьезная впереди – тут один за десятерых должен быть!
После смотра, пока выделенная князю сотня собиралась в дорогу, прощалась с родными, проливавшими слезы, попил он крепкого медку с теми, кого знал и с кем в походы ходил прежде.
В начале октября 1585 года Засекин отбыл с конной стрелецкой сотней, экипированной под завязку, из Москвы в поход.
Через неделю они были в Нижнем. Тамошний воевода выехал к ним навстречу и принял со всеми почестями. Оттуда князь Засекин послал отряд в десяток стрельцов на другой берег – в Санчурск.
Он бывал в Нижнем, и не раз. Любил этот город. Но сюда его никто бы не послал – место тихое, уютное, для тех воевод, кто ленив, безропотен, да кланяться в Москве привык до земли. Кто не сдюжил бы под стрелами вражескими стены новых крепостей ставить.
Одним словом – не его место.
В палатах, выделенных ему воеводой, уперев широкие ладони в каменный подоконник, в один из вечеров Засекин смотрел на Волгу. Широка она была тут, под древним каменным кремлем. По-осеннему серая, разве что закатное солнце холодно опалило ее. Нынче спокойная. И такой прохладой веяло от реки по всей округе! Волей веяло, широтой. Рыбаки на длинных лодках шли вперед ставить сети. Перекликались.
Во дворе, под окном, два стрельца из его сотни тихонько переговаривались друг с другом:
– С ногаями, значит, воевать будем? А, Прохор?
– С ними, чертями.
– Хоть бы по весне – дух бодрее вышел бы. А сейчас бы на печку, да с бабой. Весной и помирать не страшно. Хоть и жальче.
– Дурень ты, Аким, раньше весны до них и не доберешься, – говорил второй. – Зиму-то в Казани проведем. Там и бабенку раскосую найдешь себе. А вот по весне – и в Дикое поле. Под стрелы ногайские.
«Верно, – думал князь, поглядывая на красные стрелецкие шапки. – Раньше весны на Волжском диком поле нам не быть».
Еще через три дня, в полдень, отряд, посланный в Санчурск, привез к Засекину двух строителей крепостей – его давних знакомцев братьев Буровых: размеренного Трофима Ивановича и балагура Тимофея Ивановича – Тимохи, как его звали все. Умельцы, золотые руки. Фортификаторы. Строители от Бога. Русский корень. Такими, как они, строилась эта земля. Буровы помогали ему в прошлом году возводить крепость Санчурск, ставший форпостом на границе с воинственными, но уже терявшими свои позиции черемисами. Знали, как поставить, как бревно к бревнышку положить, чтобы крепким оказался городок. Вскоре попытались черемисы ударить по едва родившемуся Санчурску, смести его с лица земли, но не смогли. Отстояли стрельцы крепость, помогли им казаки яицкие и волжские, вовремя призванные воеводой Засекиным на помощь.
– Рад послужить тебе, светлый князь, – в пояс поклонился ему старший, в зипуне и рубахе. – Знал наверняка: коли что будет серьезное, непременно пошлешь за нами.
Весело сорвал шапку с русой головы и младший:
– Даст Господь Бог вам удачи, Григорий Осипович! – Так и светилось его золотисто-конопатое лицо.
– Теперь уже нам, – улыбнулся князь. – Потому как дело у нас вновь общее. Санчурск и без вас теперь выстоит – вы для другого дела надобны. А пока выпейте со мной вина, потрапезничайте на совесть, дорога была долгой, отдохните, да после спать отправляйтесь вниз. А ну, Прошка, налей гостям вина. – Он взглянул на братьев, чинно усевшихся за княжеским столом. И когда вино было налито и они сделали по глотку, добавил: – Завтра в Казань поплывем, на заре, струги уже готовы. Воевода свои отдал, недаром грамоту царскую получил. Хлопот впереди много – это я вам обещаю, – уверенно кивнул князь.
3
Утро вышло зябким. Густой туман стелился по середине Волги, размывая и топя в себе противоположный берег. А здесь, под городом, набегая на песок, тихонько переговаривались волны, шелестели напевно, будто говорили: «Слушай нас, не думай ни о чем, отдыхай душой…»
Мишка, совсем молодой ординарец, придерживая саблю, гордо шел за князем. Рядом вышагивал стрелецкий сотник Савелий Крутобоков в красном кафтане, настоящая скала, давя каблуками песок. Поодаль – отец и сын Буровы. А за ними, за прислугой княжеской, топала стрелецкая сотня, вооруженная пищалями, саблями и бердышами.
Тимоха, с котомкой за спиной, тихонько затянул знакомую Засекину еще по Алатырю печальную песню: «Я была б с тобою, милый, коль нашла бы в сердце силы да ослушалась отца. Ах, на горе полюбила, я на горе полюбила удалого молодца!..»
– Что воешь? Что воешь? – осадил его старший брат. – Так бы и дал, заразе, подзатыльник! Ты бы лучше что веселенькое нам спел!
– К примеру?
– Да хоть это: «Как боярыней была бы, мне б завидовали бабы!»
Тимоха расхохотался:
– Коль у тебя желания такие, братец, ты б для начала хоть бороду сбрил!
Тут прыснул и ординарец Мишка, за ним заухал филином и сотник Крутобоков.
– Вот я тебе! – замахнулся старший брат, но младший ловко увернулся из-под его тяжелой руки.
Григорий Осипович улыбался в бороду. Всегда они были такими, эти братья: один – потешный, другой – серьезный. Как две стороны одной монеты, но доброй, полновесной, дорогой.
Таяла Волга в утреннем тумане. То и дело подкатывали волны, добирались до чьих-то сапог, и тогда слышалось сухое чавканье под коваными подошвами. Кланялись низко князю и его свите, шагавшей вдоль берега, бородатые рыбаки, разгружавшие свои лодки. В них холмами шевелились и вздрагивали сети, полные осетром и стерлядью, судаком и щукой. Через пару часов ляжет эта рыба на прилавки всех рынков Нижнего Новгорода.
Семь стругов, подготовленных новгородским воеводой, ожидали отряд князя Засекина. Лошадей решили оставить в Нижнем: со своими плыть в Казань то же, что ехать на Волгу со своей рыбой. В бывшей столице некогда Казанского ханства они к весне наберут лучших рысаков, готовых десятки верст лететь без устали через весенние волжские степи.
Князь остановился, взглянул на Крутобокова.
– Командуй, Савелий Данилыч.
– Сотня-я-я, стой! – лопатообразной бородой черкнув в сторону воинов, заревел громовым голосом командир. – По пятнадцать человек на струг, да поживее!
Споро взялись новгородские гребцы, дюжие мужики, за весла. И солнце еще не успело встать за лесами на том берегу, как отряд вышел на семи кораблях к середине Волги и, поймав течение и разрывая зыбкий туман, легко пошел вниз.
По пути Засекину и его людям попадались и купеческие ладьи, и казацкие струги. Но стяг царский заставлял и мирных путешественников, и ночных разбойников, именовавших себя казаками ли, ушкуйниками ли, кланяться в свою сторону.
Казанский кремль они увидели через три дня. То была земля древних булгар. Еще в те времена, когда только становилась Русь, когда первые князья, Святослав и Владимир, только мечтали о создании великого государства славян, на этом берегу уже правили могущественные булгарские ханы и подчинялись они лишь одним правителям – каганам Великой Хазарии. А хазары не любили славян, жгли их земли. Но в 965 году князь Святослав Рюрикович, сын Игоря и Ольги, прошелся огнем и мечом по Волжской Хазарии, а заодно и по булгарскому левому берегу Волги – от столицы булгар до Великой Луки, где река точно очерчивала остров-подкову. Не было у басурман вождя, способного противостоять грозному славянину. С тех пор Хазария стала хиреть. Но не булгары. Скоро они подняли голову и, как и прежде хазары, стали ходить на русскую землю. Занимали Муром, Суздаль, Устюг. Десятки тысяч полоненных славян на булгарских кораблях плыли к Каспию – на невольничьи рынки Хорезмского царства. Но спор между славянами и булгарами решили монголы. Батый разрушил столицу булгар и, зная о воинственном нраве этого племени, приказал перебить всех мужчин и юношей. А вот мальчишек он ставил у колеса арбы. Чья голова поднималась над колесом, тут же, на глазах у матерей, катилась срубленной по земле. А кто был ниже, из тех выращивали если не лицом, то свирепостью истинных монголов! Всех булгар, кто сдался на милость завоевателя в других городах, потащил за собой воевать Русь. Кончилось на том Булгарское ханство. А за ним шел черед и русской земли. Оставшиеся булгары смешались с монголами. Окрестили их завоеватели «татарами», что в переводе с языка монголов означало «чужие люди». В руинах осталась лежать столица булгар. Первым городом нового ханства, поднявшегося на развалинах прежнего, стал городок Казань. Начиналась история Казанского ханства, которому суждено было пасть под ударами русских полков в 1552 году, в царствование предпоследнего Рюриковича – Иоанна Грозного.
На этом берегу и вырос новый кремль – оплот земли русской на восточных ее границах.
Едва струги Засекина направились к берегу, как у пристани тотчас собралась толпа зевак. Каждому было ясно – из Москвы пожаловали гости. Ох, немилостив к ним, казанцам, Аллах, коль несет и несет сюда красные кафтаны! Головорезов-то. Бердыши, пищали. Зачем? На чью голову? А струги уже всей тяжестью врезались в прибрежный песок скошенными носами. Казаки, которых становилось в этих местах все больше, трепали усы, щурились: к чему столько слуг государевых? Не по их ли лихую душу пожаловали царские солдаты? Не им ли крутить руки приехали незваные? А то ведь они, дети Поволжья, не разбирают, какие ногайцы дружат с Москвой, а какие нет: всех режут, когда улусы-то грабят. Крепко держа бердыши, посмеивались в бороды здешние стрельцы московские, недавно усмирявшие казанский бунт против столицы православной. Мало их, что ли? Ох, будет что-то! Или воеводу снимут, или прикажут ногайцев бить.
С головного корабля, где был царский стяг, не дожидаясь слуг, спрыгнул в легкую прибрежную волну тот, кто несомненно был капитаном флотилии.
Подоспел казанский стрелецкий сотник, коему вверен был покой в казанском порту. Увидев важного человека в медвежьей шубе, в шапке, с дорогой саблей, с лицом хмурым и волевым, сообразил: низко поклонился.
– Как прикажете доложить? – придерживая саблю, запыхавшись, осторожно спросил он.
– Князь Засекин по государеву указу, – откликнулся важный гость. – Где воевода?
– Тотчас доложу, – побледнев, откликнулся сотник.
Воевода Туров опередил гостей – сам тотчас выехал из кремля. Богато одетый, в парче, в сапогах с загнутыми месяцем носами, в собольей шубе, выглядел он маленьким царьком. Спрыгнул с коня. Хмурился Туров: вроде бы жаловаться царю на него не пристало. Все, что должно было сделать, он сделал: непокорных приструнил, особо лютых повесил, оплошавших простил.
Но Засекин, улыбнувшись, приветливо представился и первым протянул воеводе руку. Пожал ее Туров. Такое начало сулило добрый разговор.
Царскую бумагу воевода принял с почтением. А когда сорвал печать и прочел написанное, лицо его обмякло.
– Фу-у, – тихонько выдохнул он. – Слышал я о задумке царя нашего батюшки строить крепости и дальше по Волге, да что-то позабыл сразу. – Он оглянулся на сотника, погрозил кулаком. Встретился взглядом с Засекиным: – Огорошил он меня, окаянный!
– Понимаю, воевода, – кивнул Засекин. – Времена-то недавно только изменились.
– Верно, – кивнул тот.
Князь оглядел берега – красиво было тут. Да где на Волге-то не красиво?! Большая вода, девственная земля, принявшая осень…
– Знаю, двор доволен вами, – успокоил его князь.
Два военачальника двинулись вперед. Ординарцы, командиры, слуги – все намеренно поотстали: там был свой разговор.
– Для спокойствия в Казани вы сделали многое, и слава Богу, – продолжал гость. – Теперь порадеть придется во благо других крепостей и городов русских, Иван Афанасьевич.
– С превеликой радостью, Григорий Осипович, – живо откликнулся тот. – О вас доходили до меня слухи. Герой Ливонский войны, так ведь?
– Ну уж, так уж и герой! – усмехнулся Засекин.
– Как крепость Карела стояла супротив шведов – всем известно! И это не лесть вам, – честно признался воевода Туров. – Санчурск поставили, охранили Русь от черемисов, тоже слава и почет!
– Коли так, спасибо на добром слове.
Говорили они размеренно, неторопливо, всё дальше отходя от своих. Ветер надувал с заволжских степей, легонько разносил полы тяжелых шуб. Шумели желтеющие леса, обступившие город.
– А как давно в Казани, Иван Афанасьевич?
– Давно, – усмехнулся Туров. – И все-то милостью Божьей. Знаю тут каждый уголок, каждую физиономию, будь она белолица и ясноглаза али темна и раскоса.
Воевода рассмеялся.
– Что ж, лучшего советчика мне в деле царевом, нашем деле, – князь сделал ударение на последних словах, – и не найти.
– А тогда пожалуем ко мне, – радушно предложил Туров и обернулся на кремль. – Я вас кабанчиком попотчую, медвежатинкой, перепелами, осетринкой. Короче, чем Бог послал. Медовухой, винами и кумысом.
– Будет кстати, – улыбнулся Засекин. – Я проголодался. Да и мои молодцы тоже. Торопились, а потому все больше рыбкой копченой закусывали да сухарями новгородскими. А чтоб голова ясная была, простой водицей те яства и запивали.
Они повернули назад. Там, на фоне хмурого леса, сгрудились стрельцы; высматривали зорким глазом двух воевод казаки, толпились местные, прислуга княжеская. Все ждали.
Князь запахнул шубу.
– Заодно сравню черемисовский кумыс с казанским, – кивнул Засекин. – А я, Иван Афанасьевич, знаток и большой любитель этого напитка!
К ночи в трапезной воеводы Турова при свечах и масляных лампадах беседовали два повидавших вида солдата с глазу на глаз. Они быстро сошлись, эти служилые люди. Прислуживали господам их ординарцы, молодые дворяне: Захар, человек казанского воеводы, и Мишка, оруженосец Засекина. Сами перехватывали блюда, что поспешно несли из кухни повара, и ставили на длинный стол, укрытый расшитой восточной скатертью, осетрину на длинном серебряном блюде, дичь, икру в вазах, нарезанного ломтями, но сохранившего форму зарумяненного поросенка; наливали хозяевам вина или меду и тут же удалялись.
– Вы давеча спросили меня, Григорий Осипович, давно ли я в Казани…
– Точно так, Иван Афанасьевич.
Усмехнулся Туров, утирая полотенцем жирный после поросенка рот, бороду и усы.
– Я ведь Казань брал еще новиком, семнадцати лет отроду, с пресветлым князем Андреем Михайловичем Курбским! Так и остался тут. Сотник, капитан дворянской конницы. А прежний воевода, уже старик, меня добрым словом помянул еще при Иоанне Васильевиче, вот и назначен был на должность. Все тут мое родное. – Воевода Туров поднял кубок: – Выпьем за царя-батюшку Федора Иоанновича, дай-то Бог ему здравствовать и царствовать долго и счастливо!
– Дай Бог ему здоровья! – поддержал тост Засекин. – За царя-батюшку Федора Иоанновича!
Они выпили до дна.
– А коли все тут вам знакомо, – поставив кубок, проговорил Засекин, – так скажите мне, любезный хозяин, кто среди ваших людей Волгу знает лучше других и то Самарское урочище, о котором я в Кремле слышал. Там, где река Самара с Волгой пересекаются. Сыщется такой человек?
Туров улыбнулся в бороду, утвердительно кивнул:
– Есть у меня казачий атаман, Богдан Барбоша. Ох, матерая зверюга! – воевода, разомлевший от ужина и доброго вина, откинулся на резную спинку кресла. – Всю Волгу обкатал от верховьев, от Ярославля, до самого Каспия. Мимо ногайцев, ордынцев. Никого не боялся и не боится. И ниже ходил: в самом Каспии хивинцев грабил и топил. У него своя ватага – любым ушкуйникам нос утрут. Сотни три бойцов за день собрать сумеет!
– Ого! Да это серьезный военный отряд!
– Еще бы! И откуда зовет их – одному Богу известно. Каждый – добрый стрелок. Хочешь из лука, хочешь – из пищали. Саблями владеют не хуже ногайцев. Пушки даже имеют. А что вы хотите, светлый князь, все они – казачий корень.
– Я с казаками еще против ливонцев и крымцев воевал, – сказал Засекин. – И позже сводила жизнь. Знаю это племя. Договоримся.
– Те казаки – государевы уже казаки. Прирученные. Эти – другие. С Волжского дикого поля. А потому и сами таковы. Выросли кто тут, на Волге – от нашей Казанки до Самары и ниже, кто на Яике, а кто и на Дону. Многие ни отцов, ни матерей не знают. Бежит ведь сюда сброд со всей Руси. Да и плодятся точно звери. Ногайцы в полях хозяева, эти – на реке. Так и живут в своих стругах. А потом налетят на какой улус – всех вырежут, кроме баб. Девок косоглазых они для утех берегут. Видел я однажды улус после их налета: труп на трупе, только детишки одни зареванные и бегают. А когда и детишек в плен берут – потом продают. – Воевода налил вина себе и князю, залпом осушил свой кубок. – Волчатами росли – волками выросли. Страшное племя. У Богдана Барбоши в этом урочище, что на Самаре, лежбище есть. Я-то знаю – по чину положено. Так что завтра я вас с ним и сведу. Он сейчас здесь, в Казани, обретается. Тут у него любовь – девка синеглазая. Он ей парчу и шелк с Каспия везет, золотишко. Расплачиваются за его страсть персидские купцы – головой и кошельком. Барбоша еще с Ермаком в Сибирь ходил, с друзьями его – Матвеем Бортником и Матюшей Мещеряком. Только не понравился ему тот край.
– Отчего же?
– Волга, говорит, родная сторона – ни на что не поменяю. А каких ханов бить – сибирских ли али мурз ногайских, всё одно. Так и говорит.
– Выходит, он чистый воды висельник?
– Верно, Григорий Осипович, чистый воды. Да только когда татары год назад бунтовать стали и на кремль пошли, он вместе с моими стрельцами плечом к плечу встал и бился, пока московские стрельцы не подоспели. Мне бы без него не удержаться. А ведь мог бы бабу свою взять, развернуться да в Дикое поле уйти.
Допил свой кубок и гость.
– Да-а, – протянул он. – Вот и пойми такого – что ему Господь Бог в сердце вложил? – Вздохнул устало: – Не пора ли почивать нам, Иван Афанасьевич? Разобрал меня твой ужин, вино потешило. Благодарствую. А теперь спать буду, не обидишься?
Туров рассмеялся:
– Удивляюсь сижу, как ты раньше не свалился, светлый князь. Ничего, перины для тебя уже уложены, одеяла постелены, подушки взбиты. Печь натоплена. Сейчас мой Захарушка доставит тебя ровнехонько до постели. Так будешь почивать в Казани у воеводы Турова, как нигде не почивал! По кубку последнему выпьем и – с Богом!..
4
Утром, напившись кумысу, до которого вечером рука так и не дотянулась и который теперь пришелся кстати, Засекин объявил военный совет. Собрались в военных палатах воеводы Турова, где годом раньше решали, как отбиваться от взбунтовавшихся татар казанских. Пищали, бердыши да сабли украшали тут каменные стены. А полы были плотно устланы персидскими коврами на восточный манер.
Народу созвали немного: были тут сам князь, воевода казанский Туров, доверенный сотник Засекина Савелий Крутобоков, фортификаторы братья Буровы. Немного скованно чувствовали себя последние за воеводским столом: кабы не светлый князь, кто бы пригласил их сюда? Да только не обойтись без строителей такому собранию! Но Иван Афанасьевич Туров не слыл гордецом, потому и жаловали его все чины в казанском гарнизоне. А гарнизон был велик: Казань – первый оплот Московского царства на востоке Руси!
Ждали еще одного человека.
– Крепость будем ставить на гарнизон в пятьсот сабель, – сказал князь. – А это значит, что будет сотня избенок; церковь; детинец, да надежный; особняк для воеводы; судейская и приказные избы, острог. Рынок, потому как не пройдет и года, как потянутся к нам степняки. Ладить нам придется, коли живы останемся. Бани, опять же. Ежели верстой в длину обойдемся, хорошо. И саженей триста в ширину, если не поболее.
– Нам бы стены и башни поставить до того, как на нас ногайцы мурзы Уруса кинутся, – хмуро изрек Савелий Крутобоков.
– Верно, – согласился князь. – А потому рубить будем крепость тут, у Казани: и стены, и башни. И детинец. А коли время будет, то и приказные избы.
– В самую точку, светлый князь! – горячо воскликнул Тимоха. – Твоя правда!
Старший сунул ему локтем в бок, младший стушевался, затих.
Но Засекин укоризненно взглянул на Бурова-старшего:
– Зря ты брата так. Его сердце не соврет! Сам-то что думаешь?
Насупился, тяжело вздохнул Трофим:
– Да что тут думать? Надо крепость рубить, в плоты вязать и, по течению, вниз…
– Работного люда много понадобится, – покачал головой воевода Туров.
– Да что там много – тьма! – вновь воскликнул Тимоха. И вновь получил тычок.
– Найдем, Иван Афанасьевич?
– По указу государеву обязаны отыскать, – откликнулся воевода.
Засекин пробежал сильными пальцами по расшитой скатерти стола:
– Боярин Годунов обещал строителей из Москвы прислать. Из Нижнего еще будут. Остается на леса ваши, Иван Афанасьевич, поглядеть. На крепкие сосновые леса. Есть такие? В достатке ли?
– Сколь вашей душе угодно, светлый князь, – заверил тот.
– Только чтоб строить, надобно вначале всю местность осмотреть хорошенько, – осторожно, косясь на степенного брата, заметил Тимоха. – Вниз спуститься, к тому самому урочищу, оглядеть каждый холмик, облюбовать земельку для будущего городка. Да с охраной, чтоб ногайцы не побили. Кто повезет нас туда? Есть такой человек?
Дверь в залу собрания приоткрылась, заглянул ординарец воеводы Турова.
– Иван Афанасьевич, – негромко позвал он, – к вам, как и было приказано, прибыл Барбоша. Пригласить?
– Приглашай, – кивнул Туров.
Захар широко распахнул дверь и на этот раз громко объявил:
– Казачий атаман Богдан Барбоша!
В палаты вошел казак – смуглый, черноглазый, с короткой шапочкой жгуче-черных вьющихся волос, с аккуратной смоляной бородой и усами, с золотой серьгой в ухе. Одет он был как наследник шаха персидского: алый парчовый кафтан, подпоясанный широченным поясом, кривая сабля в золоченых ножнах и кинжал у правого бедра, персидские шальвары, сапоги из тонкой кордовской кожи, расстегнутая соболья шуба.
– Доброго всем здравия, – с достоинством поклонился он и сразу отыскал глазами одного-единственного человека, ради которого вызвали его к воеводе. Сразу определил посла государева. Да и трудно было не заметить московского гостя.
– Это и есть наш казачий атаман Богдан Барбоша, – представил его гостям воевода. – Прошу любить и жаловать. А это, Богдан, – с почтением повел он рукой на московита, – светлый князь Григорий Осипович Засекин, воевода Санчурска. – Туров указал на пустой стул: – Садись, тебя только и дожидаемся.
– Благодарствую, – откликнулся Барбоша, скинул шубу, легко, пушинкой, бросил ее на один из воеводских сундуков и сел, куда было указано – прямо напротив Засекина.
– Пригласили мы тебя по важному делу, Богдан. По государеву делу. Даешь ли ты нам слово, что все, услышанное тобой здесь, не уйдет дальше этих палат?
– Неужто еще не понял, Иван Афанасьевич, на кого можно положиться, а на кого нет? – усмехнулся казак.
– Понял, Богдан, но таков порядок.
Атаман успел оглядеться: странная компания окружала его. Московский князь, воевода Казани, стрелецкий сотник и два босяка, которых он только «мужичьем» и называл; и презирал, конечно.
– Я сам объясню казачьему атаману, что мне от него нужно, – сказал Засекин.
– Как вам будет угодно, светлый князь, – резонно согласился воевода.
– Тянуть не буду, атаман, – проговорил князь. – Государь всея Руси Федор Иоаннович дал мне указ ставить крепости по Волге. И первой из них будет крепость Самара – там, где река того же имени впадает в Волгу, на месте древнего булгарского городка. Мне известно, что место это вы знаете лучше других. А потому я прошу вас, атаман, взять моих фортификаторов и посетить означенное место, а после вернуться. Могу ли я на вас рассчитывать?
Лукавый промельк уловил Засекин в глазах казачьего атамана. И может быть, будь он чином пониже и дело происходило не в Казани, а ближе к Дикому полю, ответил бы ему атаман, что он – человек вольный и государю служить клятвы не давал. Но… не здесь и не сейчас.
Наступало всем вольным землям Московское царство на пятки, но и в этом движении можно было разглядеть положительные стороны. Стены казанского кремля надежно прикрывали казачий тыл. Так неужто другие крепости не станут таким же оплотом вольному казачеству волжскому?
– Я готов послужить государю нашему, – коротко ответил атаман.
– Иван Афанасьевич много лестного говорил о вас, и потому другого ответа я и не ожидал, – сказал Засекин. – Но дело должно решиться скоро.
– И как скоро, светлый князь?
– А сколько верст до реки Самары?
Черные брови на смуглом лице атамана чуть двинулись к переносице:
– Верст пятьсот будет.
– И сколько туда пути на ваших стругах, атаман?
– Коли попутный ветер будет – три дня.
– Неделю на месте и дней десять обратно?
– А то и пару недель: на веслах идти придется, против течения.
– Итого, на все про все месяц?
– Так, светлый князь.
Засекин переглянулся с воеводой Туровым:
– Тогда идти в ближайшие пару дней надо будет.
Атаман улыбнулся, обнажив ровные белые зубы:
– Один вопрос, светлый князь. Я, конечно, могу и так послужить государю, коли ему моя помощь понадобилась, а вот за казачков своих не скажу – они службу звонкой монетой ценят.
– Будет им звонкая монета, – улыбнулся в ответ Засекин. Он ждал этого вопроса. – На то государева казна деньги выделила. Но об этом мы позже потолкуем. Мне теперь важно день и час знать, когда вы в путь отправитесь.
– Когда прикажете, светлый князь. Сами срок называйте.
– Хорошо говоришь, атаман, – кивнул Засекин. – А сколько казаков возьмешь с собой?
– Ровно столько, – усмехнулся Богдан, – чтобы и от ногайцев отбиться, если что, и в срок успеть. Добро?
Оба воеводы переглянулись. Туров, довольный, засопел.
– Добро, – кивнул князь. – Принимаю вас, атаман, на цареву службу. Хотя бы на время.
5
– Вот он, этот лес, – зачарованно проговорил Тимоха. – Волшебный лес! Подарок божественный!
– Золотой лес, – обхватив себя руками, в широком зипуне, кивал его брат Трофим.
Князь Засекин, его свита и братья Буровы стояли в двух верстах от казанского кремля, на берегу речки Казанки. Позади них топтались десятка два стрельцов. Порывами бросался на воду осенний ветер, гнал рябь по свинцовой глади. Ровнехонько напротив, через реку, поднимался сосновый бор – корабельные сосны. И так красив он был, так величав!..
– А и впрямь хорош, – проговорил Засекин. – А, Крутобоков? – оглянулся он на сотника. – Что скажешь, Савелий Данилович?
– Хорош! – крякнул могучий стрелец. – Такой и рубить жалко!
– Для нашего дела не жалко, – весело поправил его князь. – Для нашего дела он и впрямь золотой. Так что, фортификаторы, подойдет? Ему конца и края, кажись, нету…
– Пойдет, Григорий Осипович. Добрый лес, – солидно заверил его Трофим Буров.
– И река рядом! – восторженно вздохнул Тимоха. – Сам Господь нам этот лес посылает. Верьте, ваша светлость, – обернулся он к Засекину, – сам Господь!
– Да будет так, – хлопнул в ладоши Засекин. – Лес для стен новой крепости найден. Теперь, Буровы, смело плывите с атаманом Барбошей к Самаре. Изучайте берег. А казанские лесорубы аккурат к вашему возвращению этот лес по берегу Казанки и положат. Днем и ночью работать будут. Сегодня же и плывите. С Богом, братцы, с Богом!
6
Ветер все чаще бросался с заволжских степей сюда, к Казанскому кремлю. Осень день за днем отнимала тепло у мира. Стучали сотни топоров у речки Казанки, а ветер добросовестно доносил сюда отголоски ударов и хруст валящихся деревьев. Погибал сосновый бор, чтобы лечь у берега ровными обтесанными стволами, ожидая своего часа.
Дубовый лист опустился на широкий каменный подоконник воеводских палат. Охристый, с коричневыми подпалинами, сухой лист. Взял тот лист Григорий за твердый корешок, провернул в загрубевших пальцах, печально улыбнулся.
Вспомнил многое… Давнее время, канувшее в Лету. Чаще прочего вспоминались синие глаза Маши – счастливые и полные горя одновременно – в той избенке, у дороги, на пути к Белоозеру, откуда его милой уже не было исхода. «Время наше вышло, ступай же…» – сказала она ему тогда. А он все твердил: «Приеду на Белоозеро – увезу тебя!» Господи, а ведь ждала, наверняка до последнего дня ждала! Пока не истекла кровью, рожая его ребенка, на руках у повитух. И Петьку Бортникова вспомнил, что на сабли опричные полез, заранее зная, что убьют. Не отступился ведь! Вспомнил Григорий Осипович и Марфушу. Искал он ее в Москве, чтобы с ней печали и тревоги из сердца вытравить, да сгинула Марфуша в том пожаре во время великого и страшного нашествия Девлет-Гирея. А может, уведена была крымцами в полон. И след простыл! Как и сотен тысяч других русских людей… Пантелея, ординарца его бывшего, в Ливонии «огневая болезнь» не пощадила – забрала. Вспомнил, как слетели головы Данилы Адашева и его сына. Как Андрей Курбский у стен спящего Дерпта с собой звал. Многих еще вспомнил: и любимых, и товарищей, и врагов. Которых уже не было рядом и никогда не будет. Всё больше теней сопровождало его на этой земле. Но солнца пока было много, хоть светило оно теперь иначе…
Новые дороги открывались ему. По воле царя-батюшки, бывшего опричника Годунова и его, Григория Засекина, собственной судьбы. Найдет ли он где покой, или это движение вперед будет сроком во всю его жизнь?..
И в этот же час, уже верст за двести на юг от Казани, врезáлись весла пяти стругов в плотную осеннюю воду, помогая парусам и быстрому течению. На головном струге, на носу, крепко держась за борт, зорко оглядывал берега казачий атаман Барбоша. Исчезли яркие краски из его наряда – все теперь было суровым, под стать осени и случаю. Соболью шубу поменял он на бобровую, и шапку такую же теперь на затылок задвинул. Плотный серый кафтан был на нем. На широком кожаном поясе держались тяжелая сабля в серебряных ножнах да длинный кривой татарский кинжал.
– Какие берега! – вздыхал за его спиной Тимоха. – Много рек повидал, но такую – впервые!
– Ты не на берега смотри, строитель, – усмехнулся Богдан Барбоша, – а на тех, кто вдоль этих берегов рыщет.
– А кто-то рыщет?
Барбоша снисходительно покачал головой. Еще вчера он видел, как меж дальними лесочками шли по левому берегу всадники. Тенью двигались за ними. Отряд небольшой, человек двадцать, но преследовал их неотступно.
– Эх, ты, лапотник, – презрительно процедил атаман. – Только и видишь, что бугорок, куда тебе колышек вбить! А я – тех, кто кожу с тебя заживо содрать может. То ногайский разъезд, Урусовы люди.
Тимоха испуганно умолк.
Богдан Барбоша переглянулся со своим рябым помощником по кличке Белуга – матерым казаком исполинского роста, который то и дело громко подгонял гребцов: «А ну, братцы, покажем атаману, что мы ветра покрепче будем!» Казак тоже во все глаза смотрел на берега. Поймав взгляд атамана, рябой исполин кивнул:
– Чертом лысым клянусь: они!
– Люди Уруса – враги мои кровные, – пояснил атаман братьям Буровым. – Знают они мои струги, хорошо знают. – Барбоша оскалился, показав крепкие зубы. – По пятам идет собачье отродье! – Подмигнул Тимохе: – Отомстить мне хотят, строитель. Давно хотят!..
– А за что же?
Рябой казак-исполин осклабился. Волна ударила в борт струга, за ней другая, судно резко качнуло. Каждый ухватился, кто за что успел.
– Скажи ему, Белуга, – разрешил Барбоша.
– За девок своих косоглазых и крепкотелых, – зычно рассмеялся тот. – Мы их того… на стельки, а потом – на рынок, к Каспию ближе. И детишек их туда же. А мужичков их косых – в расход. Вот за это!
Богдан Барбоша, острых глаз не сводя с любопытного фортификатора, посмеивался. Тимоха замялся: в такой компании любой язык проглотит.
– Так ведь князь Засекин свои струги предлагал, новгородские? – все же выдавил он из себя. – Не узнали бы ногайцы, а?
Улыбка сошла с тонких губ Барбоши:
– На чужом корабле, даже самом славном, идти нельзя: то же, что на чужом коне в битву. Кто знает, когда он тебя понесет? Да и будет ли покладист? Свой – надежнее! – довольно похлопал он сильной рукой по борту.
– А много их за нами идет?
– Они, брат, почище нас хитрецы будут. Разъедутся отрядами, а потом, оглянуться не успеешь, раз – и перед тобой целое войско! Дикое поле хоть и ничейное, – кивнул атаман на левый берег, – но и тут у каждого мурзы свои места есть. Здесь их кони пасутся. Ничего, степи Урусовой орды скоро закончатся. Мурзы Адыгея начнутся. Этот хоть тоже мне не друг, но ловить, думаю, меня не станет.
Резали струги свинцовые волны. Хлопали изредка, точно пушечными выстрелами, паруса. Остро пахло рекой. Старший Буров, закутавшись в шубу, подаренную ему Засекиным, дремал. Сопел в воротник. Пока дело не пришло, подремать он был завсегда горазд! Но спал чутко: нынешняя компания не меньше брата стесняла его – не каждый день болтаешься на корабле с разбойниками да душегубами! И потому, то и дело поднимая голову, оглядывался по сторонам. Не подбираются ли к нему с кривым ножом. Косил глаз на брата: вот говорун! Всё-то ему, Тимошке, интересно! Подрежут нос-то когда-нибудь!..
Казаки, те, что не управляли стругом и не спали, тоже смотрели на далекие берега. Шли они по середке Волги – тут разбойники были в безопасности, царями самим себе. На каждом струге имелось по пушке и по бочонку с порохом. Пищалей хранилось по две на казака, ибо ногайцы малым числом никогда не нападали. Сабли, пики и бердыши – всего было на дне каждого струга в достатке. Тугие степные луки здесь же – казаки и с ними управлялись, дай Бог каждому!
– Скоро мимо Черемшана проходить будем, речки нашей славной, смекаешь? – на второй день спросил атаман у Белуги.
– Смекаю, – ответил тот.
Оба имели вид заговорщиков.
– Навестим левый бережок, зайдем подальше?
– А почему не зайти – зайдем, – усмехнулся исполин.
Хоть и говорили казаки негромко, между собой, Тимоха, все подмечавший, забеспокоился.
– Так ногайцы ж охотятся за вами, Богдан Петрович? – осторожно встрял он. – Сами говорили. Отчего ж не к правому бережку-то? Во-о-он, степь-то: на сто верст видать!
– Гляжу, зрение у тебя хорошее, – покачал головой Белуга. – Поделись одним глазком-то, строитель!
Тимоха поспешно отступил. Барбоша хитро прищурился:
– Всё знать хочешь, строитель, да? Кто, куда, зачем? Заначка у нас в том урочище есть. С год назад ногайцев Уруса, караван их купеческий, покрошили, а забрать всё не успели. Подмога басурманская подошла – ноги пришлось уносить. Половину добра в оврагах схоронили. Когда еще выберемся?
– Всё одно, князь бы не одобрил, – робко возразил Тимоха. – У нас задание от царя самого!..
– Цыц! – рявкнул на него Белуга. – Сынков своих учить будешь. – Он приблизил свое страшное лицо к лицу строителя: – Доживешь если…
Больше половины пути было пройдено. До этого времени казаки менялись: пока одни гребли, другие, кутаясь в шубы и тулупы, отсыпались на носу и корме. В конце второго дня открылась река Черемшан по левому берегу Волги. Всем давно хотелось согреться: поесть по-доброму горячего – каши да похлебки, – набраться сил. А если берег окажется безопасным, то и заночевать здесь же. Пока корабли приближались к береговой полосе, половина казаков высматривали неприятеля, но того нигде не было видно.
– Отстали, черти, – кивнул Белуга. – Идем к берегу!
Скоро струги вошли в русло Черемшана, невеликой речушки, и стали чалить один за другим. Река подходила к полосе песка, шагах в десяти от воды начинался низкий обрыв. По правому берегу Черемшана шел густой полосой хвойный лес. Слева, куда пристали казацкие струги, за желтой степью начинались перелески. Далеко видать!
– Две пушки на берег, – первым спрыгнув на песок, приказал атаман. – На обрыв. Белуга, проследи!
– Будет сделано, атаман! – весело бросил могучий помощник Барбоши.
– А почему его Белугой зовут? – поинтересовался неугомонный Тимоха.
– Ревет как белуга, когда людей режет, – рассмеялся Богдан.
Те из казаков, что слышали их разговор, заржали. В том числе и сам Белуга. Но атаман уже забыл о любопытном строителе – он отдавал команды.
– Оружие тащите на берег, в самое сухое место. И чтобы все пищали были заряжены! Сам проверю! Федька, Кожин, – окликнул он одного из казаков, – на тебе наш обед и ужин! Иван, поросят сюда! Сам разделаешь! И чтоб каши на всех хватило! – Молодой бородатый казак кивнул. – Обед готовьте скоро, костры будем жечь засветло! Степка Барин и Громовой, вы – часовые до полуночи, – подвел итог распоряжениям Богдан Барбоша.
Оставив на Белугу ужин и охрану, атаман с частью отряда ушел вдоль реки. Иван Хромой, казак, припадавший на левую ногу, тащил двух крупных, истошно визжавших поросят. Один вырвался, взорвал воду у берега, тычась в обрывчатый склон. Казаки устроили за ним погоню. Ржали, улюлюкали. Носился поросенок долго, оказался увертливым, но в конце концов его поймали, и скоро оба животных, друг за другом, горестно взвизгнули и смолкли.
Тимоха, поглядев на брата, покачал головой:
– А я и не знал, что атаман такой запасливый! Думал, рыбки наловим…
– Молчи! – одернул его Трофим. – Рыбки… Смотри, язык он тебе подсечет наполовину-то! А то и поболее! Ты поменьше с ним балабонь.
– Этот может, – вздохнул Тимоха. – Точно может!
А казак Иван, пока другие выносили оружие, уже ловко работал ножом.
– Уж поверь, им разницы нет – порося вот так ломтями накромсать али тебя, дурака алатырского, – добавил Буров-старший.
Через час в казанках закипела вода. В одни бросили куски поросятины, в другие – пшено. А еще через час, выставив посты, казаки принялись за трапезу. После двух дней, когда вяленая рыба и хлеб были единственной пищей казаков, каша, горячий бульон и нежное разваренное мясо поросят оказались весьма кстати. А казаки атамана Барбоши, как видно, трапезничать привыкли хорошо. Хлебали деревянными ложками из глубоких и широких плошек. По тарелке и ложке нашлось и для братьев-строителей. Огромные медные казаны пустели быстро. Два из них оставили для атамана и его спутников. Еще в одном котелке заварили травяной чай.
– Эх, сейчас бы медовухи! – утирая губы, сказал Степка Барин. – Во здравие-то!
– Будет тебе медовуха, – ложкой выгребая остатки мяса из плошки, пообещал Белуга. – В Казани будем – упьешься.
Степка Барин тихонько вздохнул и промолчал. Братья Буровы ели молча, тихо, не привлекая к себе внимания, то и дело косясь на разбойников. Особенно – младший. Белуга подмигнул Тимохе и вдруг, подняв голову к небу, страшно и раскатисто завыл. Тимоха закашлялся, старшему брату пришлось стучать его по спине под общий казачий гогот.
Все чаще казак-исполин смотрел в ту сторону, куда ушел атаман. Когда стемнело, в отдалении раздался свист.
– Слава Господу! – облегченно вздохнул он.
Это возвращался Богдан Барбоша с товарищами. В руках они несли кожаные мешки и кованый сундук.
– Не всё отыскали, – сказал атаман. – Утром еще разок попытаем удачу.
Ему и другим уже подавали кашу со свининой. Ни одного огонька не было на берегу. Костры затоптали. Часть казаков улеглись на дне стругов, часть остались под обрывом. Можно было наконец-то вытянуть ноги и отоспаться по-человечески. Когда над Волгой поднялась луна и рассыпала зыбкое серебро по реке, лагерь уже мирно похрапывал. И только сторожевые Степка Барин и Громовой, кутаясь в шубы, зорко вглядывались в степь.
А Тимохе не спалось. Правда, заснул он на полчаса, но в его коротком сне неожиданно выплыло страшное рябое лицо казака Белуги, приблизилось к нему и, открыв рот, издало чудовищный вопль. В одно мгновение, вскрикнув, Тимоха сел, уставившись на спящую реку.
– Спи, строитель, – сонно окрикнул его Белуга. – Даже во сне трещишь! Смотри, рот-то зашью тебе, – уже вновь засыпая, бормотал он, – помычишь тогда у меня…
Тимоха отдышался не сразу. И больше уже глаз не сомкнул. Но что-то еще не давало ему покоя. Не сразу, но сообразил наконец – что. Он лег и приложил ухо к голой холодной земле. Далекий и едва ясный перестук коснулся его слуха. Тимоха хмурился и слушал, и вновь хмурился. А затем залез на обрыв, где зевали дозорные.
Тимоха присмотрелся к голой степи: только черная пустыня да ночное серое небо.
– Чего не спится? – спросил Степка Барин. – Дрых бы.
Тимоха поежился.
– Да не спится вот… – Он решился и подошел ближе: – Я топот слышу.
– Какой еще топот?
– Конский. Слух у меня шибко хороший…
– Да ну? – насторожился второй казак по кличке Громовой.
– А вы, казачки, приложите ухо к земле-то, – посоветовал Тимофей.
Степка Барин недовольно покачал головой, но все же не поленился: опустился на колени, приложил ухо к степной траве.
– Ничего не слышу – иди спи!
Тимоха вновь приник ухом к земле:
– Слышу, ей-богу, слышу! Теперь ближе!
Оба казака встали, зло уставились в ночную степь. Они стояли и смотрели в темноту, а Тимоха слышал теперь, как часто билось его сердце… И тогда все трое увидели там, в глубине степи, легкое движение. Черная туча двигалась к ним.
– Святые угодники! – только и прошептал Степка Барин. – Матерь-заступница! Громовой, фитиль! Фитиль!!
Сухо щелкнуло огниво, еще раз. У первой пушки запылал фитиль, затем и у второй.
– Мама, мамочка, – бормотал, отступая, Тимоха. – Господи Иисусе! Прав я оказался!..
Только тут Степка Барин догадался: поднял с земли тяжелую пищаль и, вскинув ее, выстрелил вверх.
– Ногайцы! – взревел он. – Ногайцы, братцы! Сюда!!
Тимоха даже присел от грома. А впереди, все четче разделяясь на отдельные тени, колыхалась приближающаяся туча. Уже был слышен топот копыт сотни лошадей, а то и поболее, сдержанное улюлюканье. Но другой гром, настоящий, буквально оглушил Тимоху. Пальнула одна пушка, за ней – вторая. В самую гущу надвигающейся тучи. С берега было видно, как рвется на части она, бледнеет. Смяла картечь вражеский центр – раздробила, порвала. На фоне ночного неба уже видно было, как одни лошади с седоками перелетают через других, как их топчут третьи и четвертые, и падают сами в эту гущу. Половина оставшихся в живых ногайцев, не ожидая подобного отпора, уже разворачивала коней и неслась назад. Только самые храбрые, с луками наперевес, решились-таки атаковать лютого врага – волжских разбойников. А казаки, продрав глаза, очумевшие от скорого подъема, уже лезли на обрывистый берег, укладывали на него пищали, взбирались сами.
И когда с полсотни ногайцев молнией долетели до берега, три десятка стволов, на фоне серебристой от луны Волги, уже глядело в их сторону. И даже ветер, задувая с правого берега, готов был помочь свинцу.
Казаки стреляли с колена, для верности. Залп, полыхнув огнем, свалил половину отчаянных, но с десяток стрел дошел-таки до цели. Тимоха, так и сидевший на краю обрыва, увидел, как попятился на него дозорный казак Степка Барин, а потом повалился навзничь – две стрелы торчали из его груди. Он пытался ухватить их, сломать, но скрюченные пальцы не слушались, а каблуки сапог то и дело упирались в траву. Еще двое казаков, сраженные стрелами, спиной полетели с обрыва. Кто-то выл, хватаясь за простреленное плечо.
Но недаром казаки взяли с собой по две пищали на брата. И не зря атаман Богдан Барбоша приказал держать их заряженными и проверил каждого из бойцов. Громыхнул второй залп, попятились ногайские кони, теряя своих хозяев. А казаки уже брались за копья и сабли.
Лишь несколько ногайцев успели прорваться к берегу; первый полоснул саблей одного из казаков по лицу, но копье другого казака прошило его насквозь, вытолкнуло из седла. Еще одни ногаец оказался над Тимохой, тихо сидевшим у края низкого обрыва.
Ногаец склонился над ним, отчаянно замахнулся.
– Мамочки! Богородица, пресвятая заступница! За что ж это?! – завопил фортификатор, оттолкнулся ногами, как лягушонок, пытающийся улизнуть из-под клюва хищной птицы, и полетел вниз – на прибрежный песок. Сабля успела только воздух рассечь перед самым его носом. Все, что он увидел, так это лишь черную морду лошади, похожую на морду самого дьявола, да лицо ногайца, уже пустое – потому как обрушился казацкий топор ровнехонько на его бритое темя. Ногаец вывалился из седла и угодил с того же обрыва прямо на Тимоху. И когда кровь из рассеченной головы ударила строителю в нос, тот, горько охнув, потерял сознание.
Тимоха очнулся, когда его тащили из-под ногайца. На фоне ночного неба выплыла грозная фигура в высокой шапке.
– Живой? – услышал он знакомый голос.
– Кажись, живой, – произнес над головой Тимохи тот, кто только что освободил его.
– А кровь чья? – спросил грозный человек.
– Да нехристя кровь-то, – усмехнулся казак.
Вопрошавшим был атаман Богдан Барбоша, второго Тимоха тоже узнал по голосу – дозорный Громовой.
– Спасибо тебе, строитель, – усмехнулся атаман. Он протянул Тимохе руку, помог ему, едва живому, подняться. – Отныне все мы – твои должники.
– Жить долго будешь, – рассмеялся Громовой, хлопнув Тимоху по плечу.
А Барбоша уже поторапливал казаков:
– Поживее, други! Кто знает, сколько этой сволочи тут еще бродит?! Поживее! В стругах, калачиком отоспитесь!
Тимоха огляделся. Казаки грузили поклажу в струги. Старшие раздавали команды.
– Лошадок жаль бросать, ах, как жаль! – горевал, едва не плача, Белуга. – Целый табун освободился! А ведь каждая – ветер!
Атман задумался.
– Вот что, Белуга, подбитых лошадей распотрошить и взять с собой. Сколько сможешь. Табун не возьмем, так хоть конины свежей в Урочище самарском наедимся до отвала! Да не медли. Отплывать надо. А за добром потом вернемся…
– Есть, атаман, – грустно кивнул Белуга и, прихватив топор, тут же окрикнул старших по продовольствию:
– Федька, Иван! А ну, за мной!
Через четверть часа, когда пушки и пищали были погружены, а конина грубо разрублена на части и рассована по мешкам, струги отчалили от злополучного берега. Черной полосой он все дальше уходил назад. Люди атамана Барбоши оставляли тут смерть. Полсотни ногайцев положили казаки – не меньше. Своих потеряли только четырех. Да трое оказались ранены – один, с рассеченным лицом, отдавал сейчас Богу душу.
Но если бы не Тимоха, вышло бы все иначе. Казаки поглядывали на него с благодарностью.
– Ох, вырезали бы нас эти черти, – когда головной струг раскачивался на волнах, идя по течению под яркой луной, сказал младшему Бурову казак Белуга. – Сейчас бы не ногайские, а наши кишки по тому бережку разбросаны были бы. Как этих лошадок, нас на кусочки разделали бы. – Он покачал головой: – Ты смотри, строитель, береги уши-то, они у тебя золотые! – Сам же над шуткой своей раскатисто расхохотался, и его страшный голос эхом прокатился по Волге – спящей, покойной, сверкающей.
7
На рассвете третьего дня пути Тимоха проснулся от подступившего холода. Шуба сползла. Осенний ветер остудил кафтан, цеплялся к телу. Рядом похрапывал брат Трофим, один только нос и выставив наружу.
– Зябко, – сказал самому себе Тимоха и подтянул шубу.
Но сон оставил его сразу, как только он поднял голову. Что-то изменилось. Ушли куда-то дикие желтые поля и луга, редкие перелески. Все выше на руках поднимался Тимоха: глазам своим не веря, тянул голову. По обе стороны реки начинались горы, укрытые густыми бурыми лесами. Тишина стояла вокруг. Только мерный и четкий всплеск вёсел и ранил ее. Изменилась и земля, и сама Волга, точно попав в тиски. По всему было видно, что делает в этих местах река большой изгиб, подчиняясь вздыбленному камню, голой желтой костью бледневшему там, где не было леса.
– Девьи горы, – сказал сидевший рядом с ним атаман Барбоша. – Красота, верно?
– Ага, – кивнул Тимоха.
Строитель нахмурился: и когда же он спал, этот лихой рубака, враг всем ногайцам? Подтянув на плечи шубу, Тимоха все смотрел и смотрел вперед. А там, впереди, из тумана, плывущего по реке, ему открывались две скалы. Они вырастали из воды, встав друг против друга, через реку, как великаны. Два могучих утеса нависали над еще спящей Волгой, два ее сторожа у этой дикой ничейной земли.
– Хороши ворота? – спросил Богдан.
– Ой, хороши, – отозвался Тимоха. – И величавы-то как!..
Скоро струги проходили под воротами, и Тимоха едва голову не свернул, наблюдая за их вершинами, укрытыми багряно-янтарно-желтым лесом. Лишь зеленые сосны тут и там оставляли редкие летние заплатки на цветущем осеннем ковре.
– А кто тут хозяин? – спросил строитель.
– Так мы теперь и будем тут хозяевами, – усмехнулся Богдан Барбоша. – Ты, да я, да русский царь. Сдюжишь?
– Коли с тобой, атаман, то можно судьбу и попытать, – смело откликнулся Тимоха.
– Придет время – попытаешь, – рассмеялся Богдан Барбоша. – Скоро землю свою увидишь, строитель. Долгожданную. Обетованную. Вот и будем пытать – всеми своими силами!
8
Яркое осеннее солнце начинало клониться к западу, розоветь, когда Тимоха увидел, что струги, до того шедшие по середине реки, потянулись к левому берегу. И тотчас впереди, на той же левой стороне, увидел обрывистый холмистый берег – за ним и начиналась река, впадавшая в Волгу.
– Это Самара? – спросил он у атамана Барбоши.
– Она, родимая, – ответил тот. – Дом наш гостеприимный. Логово наше…
Тимоха еще издали в деталях разглядел все – и лесистый берег, и лысые холмы, и дельту речки, широкой синей полосой входившей в свинцовую, чуть розовеющую на закате Волгу.
– Самара! – уже катилось по стругам. – Доплыли-таки! Дал Господь!
– Добрые холмы, а? – спросил Трофим у младшего брата. – Погляди, а?
– Да-а, – протянул тот. – Крепость-то так и просится на этот бережок, так и просится!
Холмы отделяла от Волги широкая береговая полоса – длиной в полверсты. Серый песок, поросший кустарником, ровным ковром полз к тем самым холмам; кое-где подальше начинался ивняк.
– Неужто тут пристанем? – деловито осведомился Тимоха у атамана.
– Чтобы как на ладони у всех окрестных басурман быть? – хмыкнул Барбоша. – Нет, строитель, хватит нам перед ними хвостом вертеть. У нас есть где схорониться. Увидишь хоромы наши лесные, сам все поймешь.
Паруса сняли. Казаки налегли на весла, и струги гуськом вошли в Самару. Ее берега, не в пример волжским, были обрывисты, то и дело открывались затоны, густо заросшие ивами. Лесочки подходили к самой воде – с обеих сторон. Куда ни глянь – дом для беглецов. И лодки есть куда загнать. Правда, облетали уже листья, потихоньку оголяя берега.
– А летом тут завсегда есть куда спрятаться – да так, что и носа твоего никто не разглядит, – подмигнул Тимохе рябой казак Белуга. – Бывало, затаимся мы тут, в заводях, дождемся купеческого каравана, а потом на вёселках – и вперед! Из Самары да в Волгу. Бабац из пищалей, бабац! Перебьем торговцев ордынских, соболя и шелка возьмем, серебро, золотишко; корабли их потопим – и назад, сюда. Ищи свищи! Не было каравана, и всё тут. И нас нету. Так-то, строитель!..
И впрямь шапкой-невидимкой служили здешние леса и затоны всем лихим людям! И не одну сотню лет.
Плоскодонные струги атамана Барбоши глубоко зашли на берег, приминая кусты. Казаки попрыгали в воду, втащили их еще глубже. Атаман дал приказ разгружаться. Пока Тимоха смотрел наверх, на холмы, куда ему так хотелось поскорее забраться, Белуга расхаживал среди казаков, расправив богатырские плечи.
– Вот построим крепостицу, так я тебя у князя твоего выкуплю, – зевая, продолжал он. – Золота не пожалею! Будем тебя с собой возить, на дело брать, души басурманские губить! Ты бы нам сгодился, уж так сгодился!
Разгружавшие струги казаки весело загоготали.
– А я тебя сабелькой научу владеть, хочешь, а? – не умолкал Белуга. – Так разохотишься – не оторвешь! Кровушка-то чужая, она манит, да еще как манит!
– Не крепостной я, чтоб выкупать меня, – все больше бледнея, откликнулся Тимоха. – И потом, русскому царю много крепостей понадобится ставить, не отдаст меня князь!
– А жаль! – рассмеялся добродушно Белуга. – Я б тебя взял! Уж больно у тебя уши дорогого стоят!
И вновь загоготали казаки, тащившие на берег пушки и пищали, поклажу и провиант. Ивану Хромому и Федору Кожину, талантливым кашеварам, наказали готовить ужин – варить в котлах крупу с кониной. Оставшееся мясо атаман приказал нарезать тонкими ломтями и прокоптить. Будет еда про запас.
– Ты не торопись лезть наверх, – видя, как рвется Тимоха на холмы, предостерег его атаман. – Сам же видел, какие они шустрые, ногайцы-то. Зацепят стрелой, что я потом скажу твоему князю? Не простит он мне твой головы.
– Поглядеть хотелось бы, Богдан Петрович! – взмолился строитель. – Оглядеться! Сверху-то!
Богдан Барбоша покачал головой:
– Подождем казачков моих. Сам с тобой поднимусь. Всем нам хочется поскорее дела справить да обратно податься. Белуга!
– Ого! – откликнулся рябой великан.
– За старшего останешься, я на холмы пойду со строителями. Громового ко мне, Пашку Белобрысого и трех его молодцов! Да пусть вооружатся как следует.
Трофим Буров стоял уже рядом с братом. Подошли казаки, вооруженные топорами, луками и саблями. Тащить тяжелые пищали по холмам делом было невыгодным.
Всемером они взбирались по холму. Тут рос смешанный лес – он начинался от самого берега Самары. Краткая тропа, известная атаману и его казакам, вилась невидимой лентой под желтыми кронами дубов и осин. Казак Громовой первым пробирался вперед, иногда пуская в ход топор. То и дело приходилось раздвигать ветви руками, уворачиваться от хлещущих по лицу веток.
Вскоре они вышли на широкий и длинный холм, почти ровное плато, частично укрытое лесом. За ним открывался еще один холм и – чуть дальше – третий, отчего вся местность походила на застывшие твердью волны. Точно холмистые острова вырастали у Волги с одной стороны, и над тихой, но опасной для всех мирных купцов рекой Самарой – с другой…
Для атамана и его казаков пейзаж был привычен – много раз с этой возвышенности оглядывали они округу: нет ли ногайцев, не торопятся ли степняки по их души. Но иначе смотрели окрест строители – и особенно младший из братьев, Тимоха.
– Вижу ее, – зачарованно шептал Тимоха. – Ей-богу, вижу…
– Кого ты видишь? – придерживая рукоять сабли, нахмурился Барбоша.
Трофим Буров улыбался непонятливости казачьего атамана. Тот сдвинул бобровую шапку за затылок, легкий пар шел изо рта.
– А чего ты скалишься? – сделав ударение на «ты», спросил Богдан у старшего из братьев.
Рослый бородатый Трофим опустил глаза, но с таинственной улыбкой так и не смог ничего поделать. А младший все оглядывался по сторонам и продолжал шептать что-то. Все больше хмурился атаман Барбоша, нетерпение его нарастало.
– Всю, родимую, вижу, – едва слышно вновь произнес младший Буров. – Как тут и стояла…
– Ты, Тимоха, не дразни меня! – повысил голос, не выдержав, атаман.
– Да крепость я вижу, крепость, Богдан Петрович! Ее, родимую. Башни все вижу, стены. Так она и пойдет – отсюда, через весь этот холм. Восемь башен. Так полторы версты и так верста. На той возвышенности, – ткнул он пальцем вперед, – детинец встанет. Двое ворот – там и там. Всю вижу, – обернулся он к Барбоше. – Мы не за неделю – за три дня управимся. Сам Господь наказал тут крепостицу ставить. Теперь только бумагу взять – и за работу! – Глаза Тимохи горели. – Сам Господь велел…
Атаман недоверчиво пожал плечами: чтобы вот так, сразу, увидеть крепость? Бывает ли? Он это дело представлял иначе: измерить территорию, всё обойти, просчитать…
А вот казак Громовой, свидетель ночного Тимохинского прозрения, вдумчиво кивнул:
– Знаешь, атаман, а вот я верю ему. Этот зря не скажет. Еще бы три дня назад не поверил, но сейчас…
Старший брат Трофим поглядывал то на казаков, то на брата, которому сейчас дела не было ни до кого, и улыбался в широкую бороду. Он-то знал братца своего младшего! Знал, как загораются у того глаза. Точно невидимая птица касалась его в полете своим крылом. Буров-старший потянул воздух носом. Продувались холмы над Самарой осенними ветрами, порывами бросавшимися из-за Волги, с ее бескрайних степей, продувалась незримая крепость, которой суждено было встать оплотом на этом диком и чужом пока берегу.
9
В начале ноября к Казани подошел флот на стругах и больших кораблях. Разношерстного народу тут было сотни три. Это прибыли строители – из Москвы, Алатыря, Нижнего Новгорода. В зипунах, с топориками за поясами, в диковатых шапках. Охраняли их десятка два стрельцов.
Засекин сам вышел встречать строителей – теперь им вместе предстояло осваивать волжские берега Дикого поля. Пусть видят, что не чурается он простого люда, что открыт, как всегда было, сердцем.
Молодой дворянин в синем кафтане, в сапогах с загнутыми носами, как видно – командир флотилии, снял перед воеводой красную с зелеными отворотами шапку.
– Фома Вареников, – представился он князю. – Дворянин. По воле боярского совета прибыл к вам с армией строителей, как и обещано было пресветлым боярином Годуновым.
Он обернулся на своего стрелецкого десятника, а тот уже зыркнул на строителей. Все, кто ближе стоял, кто дальше, потянули с голов шапки, в пояс кланяясь князю.
– И какого ты приказа? – спросил Засекин.
– Пушкарского, – ответил тот.
– И хорошо бьешь, бомбардир? – продолжал допытываться Засекин. – Не мажешь?
– Не мажет тот, кто не стреляет, светлый князь, – нашелся Фома. – Но дело свое знаю.
– И то ладно, – улыбнулся Засекин. – Да только палить пока не из чего. – Он оглянулся на сотника Крутобокова: – Разве что у воеводы Турова позаимствовать парочку стволов?
Стрелец понимающе усмехнулся.
– Зачем же сразу в долги влезать, стены его оголять? – пожал плечами дворянин. – Мы по приказу князя Милославского и мортиры с собой привезли, и бомбарды. Для новой-то крепости вещь необходимая!
– А вот за это спасибо князю, – кивнул Григорий Осипович. – Послушай-ка, а что это за слуга Божий с тобой? Скромный такой…
– Ты бы, батюшка, вышел вперед, – вполоборота бросил пушкарь. – Чего прячешься за спиной-то, а?
Вперед шагнул совсем молодой священник – худой, в черной рясе и черном полушубке, отороченном мехом, в черной, ведерком, шапке.
– И не прячусь я вовсе, – глядя на князя, кротко ответил тот. – Вы – люди военные, вам о деле ратном потолковать надобно. А когда словом Господним придет время умирить души язычников, вот тогда и я покажусь и не отступлю. – Он улыбнулся, и жидкая его бороденка затрепетала. – Да хранит тебя Господь, светлый князь, – поклонился Засекину священник. – Отцом Феофаном меня зовут. Я прислан московской епархией помогать делу нашему общему христианскому. Ты будешь крепости ставить, ногайцев воевать непокорных, а я тех из них, чье сердце не ожесточит вконец враг рода человеческого, в церковь нашу благодатную приведу.
Засекин прищурился:
– Думаешь, найдутся такие? В Диком поле-то?
– Дикое оно или не дикое, куда ему с силой Господа мериться? Неужто, князь, думаешь иначе?
Фома Вареников усмехнулся, сотник Савелий Крутобоков метнул в отца Феофана негодующий взгляд: что, мол, еще за богослов такой выискался? Но князь только примирительно улыбнулся:
– Прав ты, батюшка, прав. Силы у Господа побольше будет. Только гневить нам Его надобно пореже. Глядишь, и света над головой больше станет.
А еще через несколько дней ординарец Мишка, терзая шпорами конские бока, ветром принес князю новость. В то утро, в компании сотника Крутобокова и его стрельцов, в седле, Засекин наблюдал, как укладывают лесорубы корабельные сосны у речки Казанки. Вот уже три недели ложился тут лес – бревнышко к бревнышку. Ходили вдоль охристо-багряных стволов лесорубы, секли острыми топорами ветки. На версту, а то и больше, рядами вверх поднимался отесанный лес.
– Тут не одну, а цельных две крепости построить можно, – довольно заметил сотник.
– Много – не мало, Савелий Данилович, – отвечал ему князь. – Этот лес – и впрямь подарок нам, а вот Дикому полю – кол в самое сердце. Хорош лес, только бы все у строителей наших сладилось. Казаки бы не подвели!
Тут и подлетел к ним княжеский ординарец Мишка.
– Князь! – еще издали выпалил он. – Струги атамана Барбоши возвращаются! Целы-целехоньки!
– Добрая новость! – кивнул князь. – Воистину так!
Уже через час в посольской палате казанского воеводы Ивана Афанасьевича Турова военачальники разглядывали изрисованные Тимохой и Трофимом желтые листы бумаги.
Помимо воевод, были тут и атаман Богдан Барбоша, и сотник Крутобоков, и служилый дворянин пушкарского приказа Фома Вареников. Все разглядывали наброски, дивились искусно прорисованным стенам и башням.
– А какое место, светлый князь Григорий Осипович! – восхищался Трофим Буров. – Недаром царь-батюшка велел на том холме над Самарой крепость-то ставить, недаром!
А Тимоху так и распирало от желания выговориться. Засекин, зная молодого строителя, разрешил:
– Ну, говори.
– Григорий Осипович, верстах в десяти от Казани, ровнехонько на самом берегу, точно такие же холмы, как возле Самары. Я даже упросил атамана нашего пристать к берегу.
Засекин вопросительно взглянул на Барбошу:
– Верно, хороши холмы?
– Хороши, светлый князь, – кивнул атаман. – Вместе осматривали.
– На то, чтобы поставить крепость у Самары, месяца два уйдет, – горячо убеждал Тимоха. – А коли здесь срубим, под Казанью, на этих холмах, то там за месяц поставим! Уже готовой эту крепостицу к Самаре привезем!
Воевода Туров засомневался:
– И где ты такого бойкого откопал, князь?
– Алатырские мы, – улыбнулся Тимоха и тут же смутился своей дерзости – спрашивали-то у князя Григория Осиповича.
– Коли хороши холмы, тогда и разговора нету, – согласился Засекин. – Сегодня же, Тимоха, поезжайте с Трофимом на лесоповал, подсчитайте бревнышки, все прикиньте. Я уверен, там уже сосенок с излишком. А завтра прикажи строителям, лесорубам и прочему работному люду эти бревна вязать в плоты и гнать из Казанки в Волгу. Поплывем на твои холмы – через два дня крепость будем ставить, пока земля не заиндевела. К первому снегу крепость должна стоять.
Глава 2 Вольный ветер России
1
Крепость росла на глазах – поднималась на самом берегу Волги, под Казанью, всем окрестным жителям на удивленье. Собирались татары из местных кочевий, потомки монгол и булгар, кутались в меховые фуфайки, растирали подмерзающие руки, щурили и без того узкий глаз на грозную деревянную крепостицу. Что еще задумали эти русские? Чего еще надобно от их правоверной земли ненасытному московскому царю?
За пару недель до того, связанные в плоты сосны спустили московские, новгородские и казанские строители вниз – на десять верст. За работой приглядывали не только стрельцы: неожиданно казаки взялись помогать московскому князю. Не даром, конечно, но все же не разлетелись – пошли рядом, рука об руку.
Что-то важное произошло между двумя ратными людьми: князем Григорием Осиповичем Засекиным из рода Рюриковичей и вольным казаком Богданом Барбошей, разбойником и душегубом. Хоть и разными они были – и поступками, и сердцем, – а схлестнулись крепко. И случилось это сразу после военного совета, когда прибыли казаки Барбоши со строителями Буровыми в Казань.
– Пойдешь со мной дальше? – когда они остались вдвоем, уже выпив вина и меду, спросил у казака князь.
– Пойду, – неожиданно согласился Богдан Барбоша и сам удивился своей решимости. – Пойду, князь.
– И слово даешь?
– Даю, – кивнул атаман.
– Тогда руку давай, казак, – сказал Засекин и протянул тому пятерню.
– Добрый перстенек у тебя, – прищурил глаз атаман, пожимая руку. – Откуда, не скажешь, светлый князь?
– Скажу, – ответил Засекин, расцепив рукопожатие. – Подарок это царский, сам Грозный вручил мне его. Я ему тогда магистра Ливонского ордена привез, которого полонил в Феллине… Давно это было! Как я на палец перстень этот надел, так до сих пор снять и не могу. Не отпускает!
Усмехнулся атаман, показал ровные зубы под черными жесткими усами:
– Я такие перстеньки, было время, вместе с пальцами отнимал. Дело-то плевое.
– Вот и я хотел однажды: раз – и нету!.. Однако ведь печатью он моею стал, всей моей жизни печатью. И горя, которого было много, и счастья, что слишком мало выпало на мою долю…
– Отчего ж не отсек? – язвительно усмехнулся Барбоша.
– Палец жалко, – рассмеялся, признаваясь, князь. – А как далеко со мной пойдешь, атаман?
Богдан Барбоша положил руку на кулак князя, сжал его:
– С таким, как ты, хоть на край света. Не службой московской прельстился я, князь. А норов твой приглянулся мне, сила твоя. Похожи мы. А потому выпьем еще вина и закусим.
– Дело говоришь, – согласился Григорий Осипович. – Будем пить во здравие наше. Может, и обойдут нас грядущие бури. А коли не обойдут, то, даст Господь, вытерпим, осилим их вместе.
И вот стучали топоры – добрых полтысячи! – вгрызался рабочий люд в остывающую землю, вбивал столбы. Не спал Тимоха – носился по всей округе. Прикорнет в теплушке, и вновь за работу. Как ни гонял его Трофим, все младшему нипочем. Ночью горели костры. Казаки и стрельцы стояли в дозоре. Следили, не придет ли нежданно-негаданно враг. Да не улизнет ли какой строитель, дабы пуститься во все тяжкие.
Росла крепость, поднималась, и к началу декабря, когда холодные ветры уже продували степи под Казанью, с севера на юг и с востока на запад, встала она восемью башнями и крепкими стенами в десять саженей высотой.
Григорий Засекин почти все время проводил тут – спал в маленькой крепкой избенке, срубленной специально для него в центре строящейся крепости. Пара комнат, сенцы. Слава Богу, строителей было в избытке, хватало рук и древесины. И для других сколотили избы попроще, да бараки для простого народа. Не пропадать же этим домам на казанском берегу – жить в них предстояло стрельцам, что будут охранять крепость зимой; а весной, вместе с городком, должны были отправиться они вниз по Волге, чтобы стать уже родным домом первым военным поселенцам крепости Самары.
В завершение стройки ставили детинец – центральную башню в крепости, выше и надежнее других. Он – последний оплот для тех, кто, обороняясь от недругов, не в силах помешать вражьему племени войти в пределы крепости. Но сколько раз бывало, когда стены и башни взяты, а вот детинец стоит и бьется на смерть. А то и победителем выйдет – коли придут свои на помощь или отступит враг…
К вечеру в первых днях декабря Тимоха, взмокший, растрепанный, вошел в избу к князю и сказал:
– Григорий Осипович, кажись, все сделали. Есть теперь наша крепостица. И хороша, хороша!
– Утром с соседних холмов и поглядим на нее, – ответил князь. – А теперь поди, умойся, мне Мишка баньку топил, так еще успеешь. Иди же, иди. Завтра вместе любоваться будем!
Какого же было удивление князя, когда на рассвете вышел он из свой избы: повсюду лежал первый снег! Тонким белым покровом. Чистым, ясным, на сухой желтой траве, на избах, на косых крышах крепостных башен.
Сама природа подгадала так, чтобы положить этот снег, когда встанет грозным оплотом новая русская крепость…
2
Зима прошла тоже в трудах немалых: подгоняли бревна новой крепости, пилили сосны для жилых срубов, поставили добрую церковь, палаты для воеводы, бани. Все сделали так, чтобы осталось лишь одно: сплавить этот лес вниз по Волге, выволочь бревна на берег и, на диво всем, за месяц поставить красавицу-крепость.
Но было одно важное событие, о котором мало кто знал. Уже на излете зимы, когда потеплело, Григорий Осипович, взяв сотню стрельцов и наказав еще сотне следовать за ними на расстоянии, отправился вниз по Волге. Через двое суток он увидел перед собой на берегу великой реки руины древней булгарской столицы – города Булгара, веками, до Батыева нашествия хозяином стоявшего на этих землях, а потом захиревшего и обезлюдевшего. Полуразрушенные каменные башни и храмы поднимались тут – мертвый город, забытый город. Ничейный.
Засекина уже поджидали: на другой стороне был разбит лагерь, стояли шатры, дым поднимался от костров. Они встретились в самом центре мертвого города: с одной стороны – Засекин и его спутники Савелий Крутобоков и дворянин Пушкарского приказа Фома Вареников, а с другой – три важных ногайца. Сидевший на коне по центру был в хвостатой куньей шубе и шапке с такими же хвостами, с кривым мечом у пояса. Смуглое узкоглазое лицо, тонкий рот, тонкие усы и бородка, точно кистью обведенные. У двух других, помоложе, при таких же мечах, в руках копья, за спинами луки. Настороженно смотрел предводитель на московита…
Они съехались.
– Здравствуй, мурза Адыгей, – сказал Григорий Осипович. – Дай Бог тебе здоровья! Удивлен, что знаю твой язык?
– Удивлен, – признался мурза. – И тебя да хранит Всевышний, князь!
Условие Засекина было такое: встречаются на нейтральной территории, но чтобы мурза Адыгей, заклятый враг Уруса, пожаловал лично и взял с собой двух самых надежных и преданных людей – таковыми оказались родные сыновья мурзы.
– Привет тебе от царя Московского, – продолжал Засекин. – А вот и подарок от него. Фома! – он протянул руку к Вареникову, и тот полез в дорожную сумку.
Пристально следили за московитами сыновья Адыгея – каждое движение улавливали. За отца – убьют на месте, только повод дай!
Фома осторожно вытащил из сумки кинжал в дорогих ножнах – так и переливались брильянты по металлу с гравировкой!
– Этот нож Иоанн Грозный много лет у пояса носил, – сказал Засекин. – Велика память, да теперь он твой!
Адыгей кивнул, и один из сыновей принял подарок.
– Спасибо царю Московскому, – ответил мурза. – А теперь говори, зачем вызвал меня? О чем в письме написать не смог? Верю, что причина важная была у тебя, князь, не стал бы ты попусту имя царя своего упоминать! И меня оскорбил бы пустым вызовом.
– Все так, мурза Адыгей, – кивнул Засекин. – Разговор наш будет коротким, но, прежде чем станем с тобой кумыс пить в твоем али моем шатре, хочу сказать главное. Ты – недруг Урусу, то всем ведомо, но ты можешь стать другом царю Московскому и укрепиться на волжской земле так, как не был крепок до тебя ни один мурза! Будешь торговать с Москвой, ходить с русичами в походы, получать дорогие подарки и называться младшим братом царя. А ежели Урус надумает против тебя дурное и одолевать станет, то государь Московский поможет, как должно помогать младшему брату, когда тот в беду попадает. Хочешь так жить?
Адыгей не любил русских, но к мурзе Урусу вообще питал лютую ненависть!
– Хочу, – ответил он. – Так о чем меня-то просишь?
– Мы будем крепость ставить на Волге – новую крепость, где ты станешь первым и самым желанным гостем. Хочу, чтобы, приняв соглашение о вечном мире, ты не мешал нам. За это и получишь дружбу и помощь царя Москвы.
Еще одна крепость на Волге?! На их, ногайской, Волге?! Царь сменяет царя, и каждый новый с той же прытью шагает и шагает вперед, никак не желая остановиться!
– Но для мурзы Уруса эта крепость станет вражьим оплотом, – продолжал меж тем Григорий Осипович. – Против него и ставим ее. И для твоей, и для нашей защиты. Согласен ты?
Мурза Адыгей размышлял.
– А казаки? – спросил после паузы. – Царь Московский жалует их, на службу берет, а ведь они – наши злейшие враги после Уруса! – Мурза нахмурился: – Как быть с ними?
– Я отвечу тебе, – степенно кивнул князь. – Лично всем казакам накажу, кого знаю: Уруса грабьте, бейте сколько хотите, но тронете людей Адыгея – головы вам не сносить! Вешать буду без жалости, слово тебе даю княжеское! Думай, мурза Адыгей, решай…
На прокопченном лице степняка появилось подобие улыбки, щелочки глаз стали еще уже:
– А что тут думать, князь? Едем в мой шатер, где и отпразднуем наш союз. Я принимаю твое предложение и готов стать младшим братом царю Московскому!
Конца весны все дожидались с великим нетерпением, Иван Афанасьевич Туров в том числе. Подчистую объели его строители будущей самарской крепости, обитатели ее и сторожа. Князя потчевал он окороками, осетриной да икоркою, стрельцов – конской колбасой да стерлядкою, строителей – копченым лещиком. Всех кормил! Вот хлебные амбары его и оскудели. Пора было отправлять воинство прочь из Казани, пора!
Едва начался ледоход, принялись строители вязать у берега в плоты стены и башни будущей крепости, другие постройки, и в конце апреля спустили уже плоты и струги на воду. Можно было трогаться в путь.
– Прощай, Иван Афанасьевич, – поклонился казанскому воеводе Засекин. – За обеды благодарствую, но, уверен, мне и другая еще помощь от тебя понадобится. Рано или поздно ногайцы выйдут на нас: не смирится мурза Урус – землю будет есть, а стрелу в нашу сторону пустит! Так ты уж помоги по мере сил!..
– Все сделаю, – заверил его Туров. – С Богом, князь, с Богом!
Полреки перегородили плоты и струги, двинувшиеся из Казани вниз по студеной еще Волге. И вот уже на середине пути заметили московиты: сопровождают их вдоль берега ногайцы! То пропадают за лесочками и холмами, то вновь вылетают ближе к берегу… И в их непрерывной скачке читал князь Засекин бешенство мурзы Уруса, люто Москву ненавидевшего, но мало что противопоставить ее неутомимой настырности способного.
Через полторы недели проплывали струги под древними волжскими воротами – двумя утесами, грозно нависшими над рекой.
– Чует сердце мое, к непростому месту мы с вами приближаемся, братья мои, – вещал на головном струге, под скорые удары весел, отец Феофан. – Было это давно, за четверть века до Мамаева побоища, когда Дмитрию, будущему великому князю Московскому, всего-то лет семь исполнилось. В том самом тысяча триста пятьдесят седьмом году от Рождества Христова занедужила в Золотой Орде царица Тайдула – жена хана Чанибека. Ослепла она внезапно. А во сне было ей видение, что поможет ей человек с русской стороны: увидела она его в золотом облачении, с высоким головным убором и большим крестом на груди. Рассказала наутро своим прорицателям, а те ей так ответили: это, мол, первый русский шаман – священник, стало быть, – к нему посылать за помощью и надобно. Хитрые они были, эти прорицатели-басурмане: приедет пастырь с русской стороны – он и в ответе за все будет! Поможет – хорошо, а не сможет – головы вместо них лишится. А митрополитом Московским и Киевским был тогда святой Алексий. За ним из Орды и послали. А у Алексия была чудесная свеча – как-то раз вспыхнула она во время пасхальной службы в кремлевском Успенском соборе. Эту свечу митрополит размял, с воском намешал, слепил с нее еще с десяток свечей. Плыли долго, с самих верховьев. В Орде Алексий подступил к ложу Тайдулы с горячей молитвой: коли не поможет – всей Руси беда! Зажег потом одну из свечей и воском ее окропил веки ханши…
Феофан оглядел слушателей: князя, с доверительный улыбкой ему внимавшего, стрелецкого сотника Савелия Крутобокова, братьев-фортификаторов Тимоху с Трофимом, княжеского ординарца Мишку…
– И что же? – первым не выдержал Крутобоков. – Не тяни ты, батюшка!..
– Прозрела ханша, – улыбнулся молодой священник. – В одночасье прозрела. Выдали тогда ярлык Алексию на свободный проезд по всем золотоордынским землям, дарами наградили и с почестями отправили домой. А не успел он приехать, как узнал, что царевич Бердибек, сын Чанибека, убил отца своего и братьев своих и занял трон. Но если Чанибек не жаждал русской крови, то от Бердибека можно было ждать худшего! И вновь митрополит Алексий поплыл в Золотую Орду, тем же путем: от верховьев Волги до Каспия. Встретился он с Бердибеком и долго говорил с ним. О чем, никому не ведомо, однако после разговора того молодой хан пообещал не лютовать над Русью. Четырежды проплывал Алексий одним и тем же путем – тем самым, которым и мы сейчас следуем… Так вот, отведя беду от Руси, митрополит вышел на здешних берегах, но чуть подалее – там, где малая река впадает в Волгу и где мы вскоре будем, – и встретил однажды пустынника. И, потрясенный красотой берегов, спросил того Алексий: «Как сие место называется?» А пустынник ответил: «Самара». И тогда Алексий сказал: «Говорю тебе, отшельник: стоять на этом бреге городу! Стать ему процветающим и не быть разрушенным врагом во веки веков!»…
– Да неужто правда это, батюшка? – нахмурился Засекин.
– Так гласит легенда, и так передают ее из уст в уста уже два столетия священники Успенского собора, – кивнул Феофан. – И сдается мне, что плывем мы аккурат в то самое место, где выходил на берег святой митрополит Алексий…
А еще сутки спустя, миновав Девьи горы и спустившись чуть ниже, путешественники увидели с первых стругов и плотов устье другой реки, впадавшей в Волгу.
Фортификатор Тимоха немедля закричал:
– Вот она – Самара! Веселая речка, казачий притон! Чаль, братцы, чаль!..
Дали сигнал и с казацкого струга, и флот потянулся к левому берегу, судно за судном и плот за плотом останавливаясь против Волжской луки. Но прежде ткнулся носом в прибрежный песок головной корабль. Оглядев высокую лесистую кручу над слиянием Волги и Самары, уже спрыгнувший на берег князь Григорий Осипович Засекин сказал: «Добрая земля!» Это означало, что уже нынче стучать тут топорам и поднимать срубленную загодя крепость – новый оплот Москвы на диких, никому не принадлежавших землях…
3
Далеко от Волги, в дикой степи, из молодой высокой травы вырастал исполинский каменный идол. У горизонта, на юге, темными изумрудными лоскутами тянулись леса. А над ними, куда ни глянь, распростерлось бескрайнее синее майское небо.
Каменный идол с лицом первобытной женщины охранял степь уже тысячу лет. Его называли Хазарской бабой. Одни племена, собираясь на битву, объезжали «бабу» стороной, опасаясь проклятия, другие же приносили сюда жертвы: сжигали у подножия идола коз и овец или убивали плененных врагов. Даже воинственные булгары, не любившие своих повелителей-хазар, не осмеливались трогать каменную бабу.
Ногайцы же, ставшие хозяевами Волжского дикого поля, но так и не приобретшие собственной религии, относились к идолу с почтением. Именно тут мурзы многочисленных ногайских улусов назначали друг другу встречи – словно брали каменного истукана в свидетели, когда принимали судьбоносные для себя и своих соседей решения.
С севера и юга бескрайней дикой степи двигались сейчас сюда по зеленой весенней траве два конных отряда – не спеша, легкой рысью. Всадники были похожи и внешностью, и одеянием, и злым выражением глаз, устремленных навстречу друг другу. Вскоре оба отряда, человек по пятьдесят в каждом, остановились у каменной бабы.
– Приветствую тебя, Байарслан, – сказал богато одетый ногаец в высокой шапке, подбитой черным лисьим мехом, с хвостами, пышными косами свисавшими сзади и по бокам.
– И тебе здравствовать, Шахмат, – выехал вперед командир второго отряда, худощавый, в кольчуге и куньей шапке, с прокопченным лицом и тонким узловатым белым шрамом, пересекавшим левую скулу.
– Зачем звал нас? – задал вопрос Шахмат. – Зачем торопил?
– Знает ли мурза Адыгей, твой дядя, что надумали московиты? – последовал ответный вопрос.
– А что они надумали, Байарслан? – Шахмат неожиданно усмехнулся: – Московиты – те еще хитрецы! Всегда только и жди от них подарка!
– Неужто не знаешь? – озлился худой ногаец со шрамом, с трудом сдерживая коня, которому передавалось настроение седока. – Неужто мурзе Адыгею до сих пор не донесли, что ставят московиты новую крепость на землях Дикого поля – наших исконных землях? Где похоронены наши деды, славой покрывшие себя в битвах!
Степной ветер подхватывал куньи и лисьи хвосты на шапках обоих командиров, затрепал их.
– Мурза Адыгей ничего не знает о том, – пожал плечами Шахмат. – И где ж эта крепость?
– У древней реки Самары, – холодно ответил Байарслан. – Там, где она впадает в Волгу. – Было видно, что он не верит ни единому слову командира враждебного ногайского отряда. – И хуже того: с ними – казаки! Эти исчадия ада, шайтаны! И не просто казаки, а во главе с самим атаманом Барбошей, верно прозванным Кровавым. Наши люди с Казани уже донесли, что встал он на сторону царя Московского.
– Неужто спелись стрельцы и казаки? – нарочито недоверчиво спросил Шахмат. – Странно мне это слышать, Байарслан, ох, странно!..
– Я звал тебя, чтоб поехал ты к своему дяде мурзе Адыгею и узнал, будет ли он воевать с русскими?
– Воевать с царем Московским? – удивился Шахмат. – Неужто мурзе Урусу пришла в голову столь опасная мысль?!
– Да! – натянув узду, выкрикнул Байарслан. – Именно так, Шахмат! – Воины с обеих сторон заволновались, цепко приглядываясь друг к другу. – Пока не поздно, надо дать отпор московитам! Сжечь их крепость, пока они ее не достроили! Пока не возвели стены и башни, за которыми так любо прятаться царским слугам! Потом будет сложнее! А если мы ударим сейчас, да сообща, все у нас получится! Перебьем стрельцов и казаков, а там когда еще царь Московский пришлет другие войска?! За нами – Дикое поле, великая степь и леса. Ударим и уйдем. Пепел оставим, уголь!..
– А не лучше ли жить в мире с московитами? – осторожно предложил Шахмат. – Торговать с ними, к примеру?..
– Так думаешь ты или твой хозяин, мурза Адыгей? – огнем ненависти все сильнее наливались глаза Байарслана. – Отвечай, Шахмат!..
– Я передам дяде просьбу твоего хозяина, мурзы Уруса, – ушел от ответа Шахмат. – Он известит вас.
– Так я и знал! – сорвался наконец Байарслан. – Вы уже всё решили! Вы знали, что московиты ставят крепость на Самаре!
– Не смей говорить за моего хозяина! – начал злиться и Шахмат.
– Ну конечно! – издевательски рассмеялся Байарслан. – Отец твоего дяди Адыгея, твой дед, еще у царя Грозного искал защиты, хотел погубить Дикое поле! Теперь сын продолжает дело своего отца, верно?!
– Нам не о чем больше говорить! – огрызнулся Шахмат.
Воины с обеих сторон готовы были в любую секунду сорвать с плеч луки, вытащить из ножен кривые сабли, но битва у каменного идола не входила в планы ни одной из сторон.
Байарслан остыл так же быстро, как и взорвался:
– Прощай, Шахмат, время рассудит нас. Когда московиты погонят вас дальше, вы вспомните нас! Но мы не будем смотреть, точно жалкие трусы, на то, как отбирают наши земли, а нас хотят сделать рабами! Прощай, Шахмат!
– Прощай, Байарслан! – кивнул ему в ответ второй ногаец.
И уже через несколько минут два отряда уходили по зеленой траве в противоположные стороны, оставив каменную бабу одну-одинешеньку – сторожить, по традиции, весеннюю дикую степь.
4
Пока возводили крепость, днем и ночью стуча топорами, расставив на всех направлениях стражу и пушки, Григорий Осипович с отрядом объезжал окрестности и все больше удивлялся красоте этих мест. Не рыскали бы тут ногайцы – раем земным можно было бы назвать этот волжский край!.. Но больше всего притягивали его Девьи горы на той стороне, весенние зеленые ковры, укрывшие их. Что за ними? Кто там живет? Эти горы, вставшие волнистой грядой, точно отгораживали иной мир.
В первые дни июня Засекин приказал снарядить два струга и отправился со стрельцами Крутобокова и казаками, лучше других знавшими ту сторону Волги, на ее правый берег. Они высадились у скалистого подножия Девьих гор, оставили треть бойцов сторожить лодки, а сами пошли вдоль берега по мокрому песку и камням.
– Перемахнем? – кивнул на горы Савелий.
– Можно и перемахнуть, – согласился Григорий Осипович. – Надеюсь, здесь ногайцев нет. Они степь любят, простор, а на этом берегу – сплошь стены из леса. А что за ногаец без коня? Получеловек. Не их земля! Только вот чья же?..
– Зверей неведомых, – ответил ординарец Мишка, высоко задрав голову и оглядывая скалы. – Да людишек о двух головах, – кивнул уверенно. – Я слышал, есть такие на севере, за Каменным поясом. Вот и тут могут быть!
– О двух головах или нет, не знаю, – придерживая саблю, заметил Савелий Крутобоков, – но тут зато ото всех спрятаться можно – никто не сыщет! Я не удивлюсь, если в этих горах беглые обретаются, свое государство уже завели, а, Григорий Осипович?
– Все может быть, – задумчиво ответил князь.
Они проходили мимо одной из круч, когда Засекин увидел вдруг легкий дымок, поднимавшийся над лесистой скалой.
– А ну-ка, поглядите-ка на ту вершину! Вон там, – ткнул он пальцем, – видите?
– Неужто костер? – изумился Крутобоков.
– Точно, костер, – кивнул Мишка. – Вот бы добраться туда!
– А стоит ли? – засомневался Савелий, внимательно посмотрев на князя.
– Кто ж знает, – пожал тот плечами. – Митрополит Алексий узнал, как это место называется, и то хорошо. Так может, теперь и мы что-нибудь разузнаем. Тропку бы вот только отыскать…
Тропку они нашли и гуськом, озираясь по сторонам, двинулись в гору. Густой весенний лес тотчас поглотил их, вобрал в себя, окутал пряным запахом хвои.
Через полчаса, дав веткам изрядно исхлестать себя, они выбрались на поляну перед пещерой. Крутобоков тихонько потащил из ножен саблю, но Засекин остановил его.
На бревне, перед костерком, спиной к ним сидел человек в рубище. Длинные седые волосы лежали на плечах.
– Голова вроде одна, – пробормотал Мишка. – Да не тот ли это пустынник, о котором нам Феофан говаривал?! – тихонько спросил он. – Сколько ж лет ему?!
– Глупый ты! – раздвигая ветви, ухнул на него Крутобоков. – Не живут столько! Другой это. Не одному митрополиту Алексию на пустынников везет – и нам кое-что перепало!
– Тише вы, – раздраженно одернул его Засекин. – Ухаешь ночной птицей: напугаешь человека! Вон, – кивнул он на зеленые кроны деревьев. – Птаха даже примолкла!
И впрямь: пернатая певунья только что затихла, затаилась.
Один за другим вышли они на зеленую поляну перед скалой.
– Кто вы, добрые люди? – не оборачиваясь, спросил незнакомец.
Стрельцы и казаки переглянулись.
– Царевы слуги, – ответил Засекин.
Незваные гости обошли костер и тотчас неприятно поежились: перед ними сидел высохший, страшный человек – изломанные руки, изуродованное лицо.
– Ты кто? – спросил князь.
Седой человек поднял на него единственный зрячий глаз.
– Пустынник я, – произнес тот глухо. – Живу себе здесь в мире и покое, как у Господа на ладони. Разве плохо?
– А чем питаешься? – спросил Крутобоков, всматриваясь в его лицо.
– Кореньями, – ответил тот. – Человеку немного надо.
– Голос у тебя странный, – заметил князь.
– Обычный…
– Да нет – точно слышал я его раньше…
– Мало ли голосов на свете, – усмехнулся пустынник. – Не счесть!
– Это верно, – согласился Засекин.
– А кто поработал так над тобой? – не унимался стрелецкий сотник. – Кто изуродовал тебя? Медведь, что ли? – допытывался он.
– Волки, – отозвался пустынник.
– А как в миру-то звали тебя? – не отставал Крутобоков.
– Не помню, – просто ответил тот. – Как волки порвали меня, так и позабыл всё…
Савелий Крутобоков покачал головой:
– Да-а, говорить с тобой – одно удовольствие: много чего узнаешь. Рыба, и та разговорчивее!
– А я у гор учусь, – промолвил пустынник. – У лесов да у Волги. Спроси у них, послушай, что ответят…
Сотник погрозил ему пальцем:
– Ты бы язык не распускал шибко! Сказано тебе: мы – царевы слуги. Князь перед тобой, – указал он широкой пятерней на предводителя отряда. – А потому говорить с уважением должен, понял? Даже если блаженный. Кто в этих горах живет?
– Звери, птицы, ветер, да я, – ответил пустынник. – Никого боле.
– Издеваешься, – покачал головой сотник. – Зря!
– Оставь его, – оборвал гиганта Григорий Засекин. – Живет человек в своей пещере и пусть живет. Что он может знать о мире, коротая дни в этих диких горах?
– А еще эхо тут живет, – проговорил пустынник. – Как я сразу-то позабыл?
– Идем назад, – приказал князь, – хочу вон с той горы на Волгу поглядеть: когда еще на такой вершине окажемся?! Вперед идите…
Княжеская свита послушно двинулась туда, куда указал перстом их предводитель, но сам князь точно ждал чего-то. И когда он остался на тропе один, вглядываясь в изуродованное лицо собеседника, спросил:
– Так как же все-таки звали тебя в миру?
– Камень – имя мое, – не отпуская его взглядом, ответил пустынник.
– Камень, говоришь? Да ты и впрямь остер на язык…
– А тебя как зовут, служилый человек?
Григорий назвал свои имя и воинский чин.
– И зачем ты здесь, князь? – вопросил пустынник.
Засекин усмехнулся:
– Крепость тут ставим – Москва вширь идет. Так что гостей у тебя скоро прибудет! А впрочем, прощай!..
– Уже и сюда царь кровавый добрался, – неожиданно услышал он за своей спиной. – Мало ему своих земель! Всё ему мало!
Засекин обернулся:
– Что ты сказал?
– А ты, Гришка, все у него на побегушках? – продолжал пустынник. – Все мечом машешь во славу дракона?!
– Кто ты? – воскликнул Засекин. – Кто?!
Правый глаз искалеченного человека так и сверлил его:
– Что, не узнал?
– Не верю, – подступая, Засекин вглядывался в изрезанное шрамами лицо, в спекшиеся веки пустой левой глазницы. – Ведьмак ты, и мысли мои просто читаешь. Не верю…
– Твое дело, – ровно промолвил тот.
– Господи, – пробормотал Григорий. – Камень – Симон – Петр…
– Видишь, как все просто…
Князь опустился на колени, взял в руки лицо пустынника, приблизил к себе. А тот уже плакал: слезы так и катились по его иссеченному лицу из единственного целого глаза. Засекин перехватил его руки: те были изломанные, страшные, точно сухие ветки. Григорий поднял пустынника за локти, обнял его:
– Петька, Петруха…
– Тише, медведь, задавишь, – бормотал, плача, тот. – Задавишь… У меня былой силы-то нет теперь, вся вышла…
Засекин отстранился, вновь поглядел в лицо друга, сам заплакал. Вновь прижал к себе, но уже легче:
– Жив, жив!..
– Как видишь, Гриша. Верно в Писании сказано: дороги Господа нашего неисповедимы…
Григорий оглянулся на шум веток, быстро встал с колен, крикнул ординарцу:
– Оставь нас! Ждите меня! Ждите! Сам подойду!
Понимающе кивнув, придерживая саблю, Мишка быстро ретировался.
– А ведь я был потом там, у дома Курлятевых, – зачастил Засекин. – Утром приехал, мне очевидцы всё рассказали, заверили: убили тебя. Собаки, мол, по кускам разнесли. Не хотел верить, да пришлось. Так я твоим и отписал! Чарку горькую выпил за помин души твоей и – на войну!
Он присел рядом с Петром Бортниковым, долго смотрел в его неузнаваемое лицо, пытаясь разглядеть в нем того отчаянного молодого воина, который был когда-то самым близким его другом.
– А что Степка Василевский? – спросил Петр. – Опричный наш…
– Степка… – с горькой усмешкой повторил князь. – Знатная выпала ему жизнь!..
И он наскоро рассказал пустыннику о Степане Василевском, о Маше Воротынской, о кровавом царе, которого не было более. Только о том, как приняла смерть Людмила Курлятева, говорить не стал. Хотя и слышал о том, довелось…
– А теперь собирай пожитки, – договорив, скомандовал Григорий, – со мной поедешь! О скольком еще надо поговорить! Расскажу, как был воеводой Алатырским, как ставил Санчурск и Уфу. О стольком поведаю – едем же!
– Куда? – вздохнул друг. – Куда ж ты приглашаешь меня?
– В крепость Самару – она скоро новой русской твердыней на волжском берегу встанет!
– Не хочу за стены крепостные прятаться, – заупрямился неожиданно Петр. – Бежал я на край света от радости эдакой…
Князь нахмурился:
– Что ты такое говоришь?! Зато будем опять вместе!..
– Князь с царевым перстеньком на пальце и калека, от которого люди шарахаются? Хороша парочка…
– Перестань! Ты для меня прежним остался. Откормлю тебя, вином отпою…
– Не обессудь, пресветлый князь, – отрицательно покачал головой Бортников. – Кажется, так Степка Василевский тебя называл? Так вот, скажу тебе: не прежний я. Перешагнул я предел этого мира и живу теперь в мире ином. Есть привык мало – чтобы только для жизни хватало. А хватает и впрямь малого, верь мне! Что же до вина, так не пью я его теперь вовсе: слишком уж на кровь похоже. А крови я и без того напился вдосталь. Своей крови, Гриша, в ту самую ночь…
– Стало быть, не пойдешь?
– Не пойду, – решительно ответил Бортников, кольнул товарища взглядом единственного глаза. – Что меня трижды спрашивать? И дважды – много. Ведь я – Камень теперь…
Засекин поднялся:
– Это твое последнее слово?
– Хотелось бы, чтоб последнее, да…
– Сказывай, не тяни, – перебил князь. – От тебя, Петр, любое готов услышать…
– И то хорошо. Последнее мое слово, Григорий Осипович, таким будет: твоя Русь, что под пятой московской, – зло великое! Помни всегда, кому служишь! Не Господу, пресветлый князь, не Господу! На адову муку твои государи – и всея Руси – людям даны, за грехи наши смертные!
– Их церковь на престол венчала, – возразил Засекин.
– А церковь твоя, что положено Богу отдавать, кесарю отдает! Дракона венцом Божьим венчала – и гореть ей за это в аду! Лучших пастырей удавили, других запугали пытками – псы цепные остались! А последние и знать не знают слов святого Василия: «Любящий ближнего своего имеет не больше, чем ближний». Кумиру своему с тяжелой мошной да сабелькой, с топором для всякого, кто не хочет рабом его быть, служит церковь твоя и ты вместе с ней! – с нарастающим гневом прошептал он. – Вот об этом помни, когда и новые земли идолу своему завоевывать начнешь!..
– Стало быть, так вот и расстанемся? – нахмурился князь Засекин.
– Стало быть, так, – глухо заключил пустынник.
Григорий Засекин молча повернулся, и скоро зеленые кусты захлестнулись за ним, а в наступившей тишине, над поляной, вновь зазвенел голосок одинокой птицы.
5
В конце июня крепость Самара встала на слиянии двух рек долгожданной твердыней супротив всех ненавидевших Русь степняков. Поставили и первый в крепости храм, освятили его. А в святые деревянному городку выбрали митрополита Алексия, что предрек Самаре процветание и военную удачу.
Грозно выглядела крепость, но ворота ее были открыты ногайцам мурзы Адыгея, хлынувшим сюда по торговым делам. Добрые кони и овечье мясо ой как нужны были гарнизону молодой крепости! Да и от кумыса, привозимого в кожаных бурдюках, никто не мог отказаться. Взамен ногайцы получали соль, меха из северных волостей, мед и вино; много вина – и горячего, и фряжского!
А еще прошел слух, что в Астрахани собирается русское войско идти на Крым. Пора было отвечать за давние погромы, сожженные города, за сотни тысяч как убитых русских людей, так и уведенных, точно скот, в рабство.
Летом того же 1586 года к воротам крепости Самара подошла пестро разодетая казачья ватага: на волжские берега вернулся Матюша Мещеряк, сподвижник Ермака Тимофеевича, возглавивший после смерти вождя-завоевателя его небольшое, но столь громовое войско. С собой Матюша привел около сотни отчаянных рубак – ничего не страшившихся, всего навидавшихся.
Когда ватага только еще подтягивалась к крепости, стрелецкий сотник Савелий Крутобоков не на шутку обеспокоился.
– А стоит ли впускать его? – спросил он у воеводы Засекина. – Ведь бандит бандитом! Да и все они, как один, разбойники да душегубы!
– Не посмеет он мне слова поперек молвить, – успокоил сотника Григорий Осипович.
– Смотрите, пресветлый князь, – предупредил стрелец, – они ведь с Богданом нашим – друзья не разлей вода! Один за другого как зацепится, и вот оно – лихо!
– Богдану я верю, – ответил Засекин. – Не обманет он меня. Уверен: если что, и дружка своего образумит. А мне сейчас лишние казаки не помешают: сам знаешь, мурза Урус уже точит по головам нашим саблю.
Ворота Матюше Мещеряку открыли. Казаки въехали в крепость так, как въезжают победители в захваченный город: разудало, по-хозяйски, нагло оглядывая всех вокруг, неодобрительно косясь на ногайцев, которых не жалели в чистом поле; разве что девок их привечали, да и то силком.
Григорий Осипович сам вышел к Матюше Мещеряку из своих наскоро срубленных палат. Скрестив руки на груди, открыто встретил взгляд степного разбойника, лютого врага сибирских татар и ногайцев. Атаман, в коротком парчовом кафтане, с серьгой в ухе, в сапогах с загнутыми носами, при сабле и кинжале, легко спрыгнул с коня и столь же легко поклонился воеводе.
– Рад вас приветствовать на волжской земле, князь! – весело пророкотал он. – Хороша речка, верно?
– Хороша, спору нет! – поддержал заданный тон Засекин. – И я рад приветствовать тебя на земле царя Московского! Милости просим!
Добродушная пикировка двух предводителей заставила казаков Матюши улыбаться, а стрельцов Савелия Крутобокова – насторожиться. Вот ведь оно как: каждый хотел показать себя хозяином на Волге!
Богдан Барбоша обнял старого друга, облобызал троекратно.
– Каким ветром занесло тебя сюда, брат-казак? – обнимая товарища, спросил он.
– Вольным ветром Руси-матушки! – заулыбался легендарный атаман. – Пировать нынче будем!
Вечером, на пиру, Матюша пил и говорил много, хвастал своими налетами на караваны ногайцев у Яика.
– А помнишь, Богдан, как мы в Сибири, в трех верстах от Кашлыка, весь отряд Карачи вырезали? – Он говорил громко, забористо. Вытащил саблю, звонко шлепнул ее на стол: – Вот этим самым клинком в шатре посла обоих его сыновей порешил! Только сам Карача и ушел! До сих пор жалею, что не бросился за ним. Да, было времечко, ох, было! – Матюша то и дело с вызовом посматривал на воеводу. – А я гляжу, светлый князь, ты тут ногайцев привечаешь? – неожиданно спросил он. – Куда ни глянь – морды их узкоглазые! Так ли?
– Завтра об этом потолкуем, – уклонился Засекин от ответа, поднимаясь из-за стола. (За ним тотчас поднялись и стрельцы.) – На трезвую голову.
– Давай сейчас! – задиристо воскликнул казачий атаман. – Чего тянуть?!
– Потерпи, потерпи, утро вечера мудренее, – спокойно осадил его воевода.
Утром, когда Матюша мучился похмельем, Григорий Осипович сам зашел к нему.
– Слушай меня внимательно и мотай на ус, атаман, – строго сказал он. – Я в этой крепости хозяин, ты – гость. Да, я привечаю ногайцев мурзы Адыгея и тебе советую. Он младшим братом царю Московскому быть пожелал, торговлю с нами ведет. Против одного мурзы Уруса мы выстоим, а против Уруса и Адыгея – навряд ли. Казань далеко – разве что к пеплу, который от крепости останется, да к костям нашим подоспеть сможет. Вы, казаки, – птицы вольные: сегодня здесь, завтра – там, так что на вас надежды мало. На стрельцов только одних и надежда. Поэтому добром прошу: не ссорь нас с ногайцами!
– Дак как же я отличу, князь, ногайцев Уруса от ногайцев Адыгея? – усмехнулся атаман. – Они ж для меня все на одно лицо!
– Твоя забота, – отрезал Засекин, – мне до того дела нет. Я различаю, значит, и ты сумеешь. И не дури мне! – Он дошел до дверей избы, предоставленной Матюше, обернулся: – Поперек воли царевой пойдешь – пожалеешь.
– А ты не пугай меня, князь, не пугай! – огрызнулся ему вслед атаман. – Пуганый уже! И сибирским ханом, и всеми мурзами, какие только вдоль Волги есть!
– Да я и не пугаю, – спокойно ответил от порога Григорий Осипович. – Предупреждаю просто. Я – царев слуга, и любую волю его исполню. Не спущу, коли натравишь на нас мирную орду! Мне Волгу доверили, и я ее как дом родной охранять стану. Прощай!
6
Матюша оказался своеобразной «наживкой» для крупной рыбы. Прознали в орде Уруса о появлении известного атамана разбойников или нет, истории не известно, но уже через день влетел в Самару ногайский гонец от мурзы Адыгея. С известием, что враждебные конные полки идут в сторону новой московской крепости.
– В Казань к воеводе Турову послали гонца? – с тревогой спросил Засекин у ногайца.
– Послали, пресветлый князь, – ответил тот. – Но до Казани путь долог, а Урус уже скоро здесь будет!
Так оно и вышло: через пару дней из лесостепи вылетела конная армия неприятеля, и вскоре весь левый берег буквально почернел от ордынцев – к Самаре приближались ногайцы Уруса во главе с самим мурзой. Богдан Барбоша со своими казаками заранее уйти не успел, и теперь ему не на жизнь, а на смерть предстояло драться. А уж Матюше Мещеряку и подавно: ногайцы лютой смерти предали бы обоих атаманов, попадись те им в руки живыми!
Урус, рожденный русской пленницей от мурзы, ненавистника Москвы, оглядывал крепость на холмах и дивился ее собранности, силе и твердости, с коими вросла та в землю степняков. Да как быстро – точно шатер за ночь разбили! И впрямь царь Московский широко шагает: сугубо из бревен, да с башнями! Неужто так и будут идти эти русские, наступая на Волжское дикое поле, отнимая степи и леса, пока не отбросят их, ногайцев, здешних хозяев, к степям и пескам Азии?! Не бывать тому! Не позволит он! Пусть даже половину своих ордынцев погубит, но сожжет эту крепость! А когда московиты станут выбегать из горящих домов, перебьет их всех до единого! Никого не возьмет в полон, ни одного в живых не оставит! Только холодные угли под осенними ветром и дождем станут свидетелями его, мурзы Уруса, силы и правды!
Григорий Засекин знал: ногайцы тянуть не станут. Всю вечернюю службу, которую вел Феофан, отстоял князь накануне в деревянном храме.
– Помните слова святителя, – сказал в конце проповеди молодой священник, и голос его дрогнул, – «Стоять на этом берегу городу, и не быть ему разрушенным врагом во веки веков!». От вас, защитники, зависит теперь исполнение воли Господа нашего!
Ночью стоило выспаться: день обещал быть страшным. Но Засекин то и дело просыпался: чудилось, будто ордынцы уже подступают к крепости, что уже рядом совсем…
Однако те дожидались утра.
Разбив за ночь шатры, на рассвете ногайцы получили команду наступать. Сотни их поскакали к крепости с зажженными на концах стрелами: такая стрела, пронзив воздух, взметнется вверх и потом тяжело полетит вниз – вопьется, разбрызгивая горящую смолу, в крышу избы, в купол церкви, в крепостную башню. Но прежде, чем ордынцы успели подлететь к стенам на должное для выстрелов расстояние, ударила в них свинцом изо всех бойниц пара сотен стрелецких и казацких пищалей. Стрелками же те и другие были отменными! Лучших из лучших привез с собой из Москвы князь Засекин, а о казаках и говорить не приходилось – любого могли в стрельбе обойти!
Потому только четверть ордынцев и смогли подлететь к крепости на холмах, пальнуть горящими стрелами. Но у каждого стрельца и казака для такого случая по две, а то и по три пищали было на брата. Так что лишь нескольким счастливчикам довелось добраться до ханского стана.
Пока русский работный люд сбивал горящие стрелы, готовые подпалить крепостицу, в своем стане мурза Урус рвал и метал: не ожидал он подобного отпора! Но раз привел много людей, значит, исполнят они его волю во что бы то ни стало! Стояло бы жаркое лето – давно бы запылала крепость! Ему же слишком долго пришлось собирать людей по улусам, убеждать их, принуждать, наконец!
Вторую волну конников с горящими стрелами постигла та же участь – буквально смелó их пищальным огнем. Ружья-то, небось, подальше били, чем татарские луки! Тогда мурза Урус отдал приказ идти на штурм Самары с лестницами, но и тут из бойниц ударили пушки, перемалывая наступающих. Метко били конные ногайцы по бойницам из луков, высекая оборону, однако огонь осажденных был не в пример сильнее, и потому ответ выходил куда крепче ногайского удара. А когда ордынцы увязли в штурме, подошли к берегу струги с казанскими стрельцами – успели-таки! А с другой стороны, от реки Самары, вышли к крепости отряды мурзы Адыгея. Байарслан, правая рука Уруса, вступил с ними в бой, но был убит стрелками Шахмата – племянника Адыгея.
Ненавистник Руси мурза Урус, потерявший половину своих людей, отступил ни с чем. Убираясь восвояси, он вдруг понял, что с Москвой ему больше не тягаться, что слаб он перед царем, что пора ему снимать расшитые золотом шатры и уходить в Азию. Самые худшие предположения мурзы сбывались…
7
В конце осени Матюша Мещеряк, долго пропадавший где-то со своей ватагой, вернулся, причем с большим добром, но не в Самару, а в свой лагерь в Урочище. Теперь, после разгрома Уруса, казаки могли не бояться внезапных налетов степняков: они разом почувствовали себя истинными хозяевами положения. О том, что Мещеряк внезапно разбогател, Засекину донес один из разговорчивых казаков Богдана Барбоши. А вслед за этой новостью пришла другая, печальная. В палаты самарского воеводы пожаловали ногайские послы Адыгея во главе с племянником мурзы Шахматом.
– Князь, взываем к твоему правосудию! – без обиняков перешел к делу ногаец. – Казак Матвей Мещеряк напал на наш караван, перебил охрану и взял то, что по праву принадлежало мурзе Адыгею – младшему брату царя Московского. Ты же обещал нам, что любой, кто нанесет обиду мурзе Адыгею, будет наказан.
Засекин тотчас послал за Матюшей, и вскоре атаман предстал перед ним во всей своей красе – по обыкновению, богато одетый, самоуверенный, веселый. Явился не один – со свитою из десятка казаков. По-хозяйски прошел в палаты воеводские, небрежно сбросил шубу на руки прислуге, вальяжно осведомился:
– Звал, пресветлый князь?
– Звал, атаман, – согласно кивнул Засекин.
– Чего хотел от меня? – вопрос прозвучал едва ли не с вызовом.
– Я предупреждал тебя, Матвей, чтоб ты не трогал ногайские караваны?
– А-а, вон ты о чем, – протянул тот, несколько насторожившись. – Слыхал и я, что караван ногайский пограбили, что людишек их побили… Так что ж с меня-то взять?
– Сознавайся, ты это сделал?! – грозно воззрился на него Засекин.
– Да с чего ж ты так решил, князь? Причем здесь я?! – делано возмутился Матюша.
По всему было видно, что уверен атаман Мещеряк в полной своей безнаказанности, ведь во время ногайского штурма его сотня казаков сыграла далеко не последнюю роль, обеспечивая победу крепости.
– Свидетели есть! – крикнул гневно Засекин. – Те, кому живыми посчастливилось уйти от твоих разбойников!
– Эх, стоило мне все-таки догнать их и перебить тогда! Ох, стоило! – глаза Матюши злобно сузились.
– Молчи! Знай, Матвей: ногайцы, которых ты вырезал, нашими союзниками были. И теперь мурза Адыгей не успокоится, пока расплаты не получит. И в Москву он уже жалобщиков послал – причем на тебя, героя Сибири Матвея Мещеряка. Так что не смогу я тебя отсюда выпустить: в острог пойдешь, пока царь участь твою не решит.
Матюша попытался было рвануть из ножен легендарную саблю, однако Савелий Крутобоков упредил его: мощным толчком отправил оружие обратно. А с таким исполином-силачом не поспоришь! Да и стрельцы окружили уже Матюшу, держа топоры наизготовку.
– Да как ты смеешь, князь?! – взревел атаман. – Я – вольный казак! Я волен делать все, что пожелаю!..
– Кончилась отныне воля твоя, – вздохнул князь. – А ведь я предупреждал тебя… Что ж, Богу теперь молись, Матвей, проси заступничества…
Матюша Мещеряк неожиданно разразился хохотом:
– Так ведь и я, князь, предупреждал тебя, что все ногайцы для меня на одно лицо! Откуда ж мне было знать, чьи они – Уруса, Адыгея, али еще кого? А уж когда ружья палят да сабли звенят, так и вовсе не разобрать, сам, поди, знаешь!
– Тогда и я повторюсь, – устало сказал Григорий Осипович. – Предупреждал ведь тебя: поперек воли царевой пойдешь – пожалеешь! Так что посидишь теперь в остроге со своими героями, подумаешь… А там, глядишь, вскоре и грамота из Москвы подоспеет.
Матвея Мещеряка и самых близких его сподвижников отправили в острог. В Урочище нагрянули стрельцы и люди мурзы Адыгея – награбленное добро назад отобрали. Простым казакам посоветовали царева решения не дожидаться, а отправляться поскорее в Астрахань – готовиться к походу на Крым. Уж там-то их никто искать не станет! Казаки, пораскинув мозгами, с участью своей смирились. Мещеряк же, пребывая в остроге, не единожды пытался подбить охрану, дабы выпустили его, – обещал и к себе взять, и одарить богато, – однако все потуги его оказались тщетны.
А через месяц из Москвы пришел указ: «Государь всея Руси Федор Иоаннович Матюшу Мещеряка, да Тимошу Болтуна, да иных их товарищей пущих велел казнить перед ногайскими послами смертною казнию».
Морозным декабрьским днем атамана Мещеряка и его товарищей по разбою, связанных по рукам, вывели из самарского острога за ворота крепостицы, что выросла рядом с Урочищем – его, Матюши, вольницей. Осужденных завели на эшафот, прочитали над ними молитву. Но не была она услышана знаменитым разбойником, потому как не мог он смириться с происходящим.
– Братцы, да что ж это творится?! – в широко распахнутой на груди рубахе, рвано дыша паром, закричал он с деревянной площадки, когда на его голову набросили петлю, подтянули ее сзади. – Свои же мы, русские! – С отчаянием оглядывал он хмурых стрельцов и затаивших дыхание казаков, многие из которых опускали глаза. – За кого нас казнят?! – за нехристей казнят! Так справедливо ли это?! – Он жадно, но тщетно искал глазами своего друга атамана Барбошу: – Богдан, где ты?! Будь мне судьею! – Связанный, Матюша рванулся вперед, однако крепкие руки стрельцов удержали его. – Богдан, слышишь меня?! Выручай!
Атаман, помогавший ставить Самару, задолго до получения царской грамоты – пока еще лед не стал на Волге – уплыл по студеной воде в Казань. Соскучился он по ясноглазой полюбовнице – обещал вернуться весной. Да и словно предчувствовал Барбоша плохой исход; не хотел быть там, где пришлось бы решать: то ли против всего государства русского и слова своего, заступаясь за товарища-головореза, идти, то ли молчком смотреть на его публичное истязание.
Матюша поглядел с эшафота вниз: на него смотрел ненавистный ему князь Засекин, окруженный свитой, – московский палач, царский пес… Смотрел цепко, ледяно, не отрываясь. Как сказал, так и сделал. Не соврал.
До последнего не верил герой Сибирского завоевания, первый из друзей Ермака, что вышибут из-под его ног скамью и задергается он, бычась шеей, что не переломится, пунцовея, медленно и страшно задыхаясь на глазах своих карателей.
Но так все и случилось.
В тот день десять его друзей-разбойников закачались вместе со своим атаманом на перекладине. А князь Григорий Осипович Засекин наблюдал за этой казнью, глазом не моргнув. Потому как был он человеком государевым, и оттого иначе поступить не мог.
Ногайские послы были вполне удовлетворены публичной казнью своих обидчиков, союзу Адыгея и Москвы ничто более не угрожало. Эта казнь – первая публичная казнь в Самаре – означала беспрекословную власть русского царя в средневолжских пределах. Отныне воля Москвы и здесь становилась незыблемым законом.
– Беру свое слово назад, – вернувшись весной и узнав обо всем, сказал самарскому воеводе Богдан Барбоша. – Ты – царев слуга, себе не хозяин. Оступлюсь – и меня на плаху потащишь. Про дружбу забудешь! Не пойду с тобой дальше – своей жизнью стану жить, как раньше жил.
– Как знаешь, атаман, – сухо ответил князь. – Вольному воля!
Расстались они холодно, почти враждебно. Богдан Барбоша навсегда покинул Волгу, которую считал второй матерью, и ушел разбойничать со своей ватагой на другую реку – на Яик, поближе к Уралу, поближе к свободной жизни. Волга уже становилась государевым рубежом – сильно не забалуешь…
А вскоре пришло время и князя Григория Осиповича Засекина покинуть возведенную им Самару. Внизу, по той же Волге, ждало его татарское поселение Сары-Тин, на месте которого поднимет он по государеву указу в 1589 году крепость Царицын. А еще через год, на месте другого татарского улуса – Сары-Тау, что между Самарой и Царицыным, – поставит еще одну крепость – Саратов.
Волжская засечная черта будет создана, цепью крепостей встав по руслу великой реки. Но каково было смириться с этим кочевым племенам?! Еще не раз атакуют они ее! Но митрополит Московский и всея Руси Алексий, осененный прозрением, окажется прав: все крепости в разное время будут сожжены ногайцами и другими степняками, и только Самара устоит против всех чужаков – никого не пустит в свои пределы.
Что же касается князя Засекина, то, поставив Саратов, получит он из Москвы новое и крайне опасное задание…
Эпилог
Каким мерилом ты меряешь мир, таким и Господь будет мерить тебя. Но ты должен помнить о том – и это самое страшное! – что и потомков твоих ждет за грехи твои расплата. И если не хочешь сделать детей и внуков заложниками вечного отчаяния, подумай, прежде чем вытащить саблю из ножен и пролить кровь невинных…
Царский корень Иоанна Васильевича Рюриковича пресекся: в 1591 году в Угличе при невыясненных обстоятельствах погиб малолетний царевич Дмитрий. Следствие показало, что он напоролся на нож, но злые языки обвиняли в его смерти Бориса Годунова. В 1598 году умер бездетный Федор Иоаннович, признанный в народе блаженным.
Царем стал Борис Годунов. Его регентство, а затем и правление пошли на пользу Руси: бывший опричник оказался талантливым государственником, но никогда не забывал, что он – всего лишь выскочка на русском престоле. Не забывали об этом и куда более родовитые князья и бояре, составлявшие его правительство. После смерти Бориса в 1605 году царем стал его сын Федор, умный и образованный юноша, воспитанный отцом так, как и положено было быть воспитанным благонравному царевичу. И Федор воистину смог бы украсить русский престол, но начинавшееся Смутное время и пришествие Лжедмитрия не оставили ему шансов на жизнь. Его мать, вдову Бориса, и самого Федора убили, объявив народу, что они сами наложили на себя руки. И народ безмолвствовал. А дочь Ксению, кроткую девушку, дочь Бориса, взял себе в наложницы Лжедмитрий. После того как самозванец вдоволь натешился царевной и с товарищами ею поделился, он постриг ее в монахини. Такая вот горькая судьба уготована была дочери и внукам Малюты Скуратова, главного палача Руси, которая неумолимо погружалась теперь в волны Великой смуты…
Иоанн Васильевич Грозный и Андрей Михайлович Курбский, бывшие друзья, а позже – лютые враги, прославились еще и как виднейшие писатели своего века. Умерли они с разницей в несколько месяцев. Городок Ковель, полученный Курбским от польского короля Сигизмунда, после смерти перебежчика уже другой король – Стефан Баторий – присоединил к короне, оставив сыну Курбского Дмитрию лишь небольшое поместье. Род их принял католичество и растворился в польско-литовском мире.
Карл фон Штаден, с концом опричнины ушедший в Германию – подальше от гнева безумного Иоанна, еще раз вернулся на Русь в 1610 году, уже стариком, когда Москва присягнула на верность польскому королевичу Владиславу. Смутное время полоскало Русь как хотело! Возглавив отряд наемников, Штаден еще не раз устраивал резню в русской столице; а когда поляков стали теснить, когда они заперлись в Кремле и от голода ели собак, кошек и мышей, продажное сердце наемника не сдюжило – так и умер он на улице, не дождавшись сдачи Кремля.
Из Смутного времени Россия выйдет в 1613 году усеченной, как государство, со всех сторон. Смоленск отойдет к Речи Посполитой, Финский залив – к шведам. Но страшнее всего покажутся русским – и знати, и черному люду, – не поляки и не шведы, не голодомор, широко шагавший по запустевшим русским землям, а порочный закон, давший с соизволения церкви право одному человеку заключать всю власть в одних руках. Единой своей воле предоставить судьбы миллионов! Тень Иоанна Грозного, низвергнутого в самые глубины ада, не отпускала людей, страшила их.
И потому когда бояре и князья посадят на трон юного Михаила Романова, условием его воцарения станет новый ограничительный закон верховной власти, гласящий: «Предоставить полный ход правосудию по старым законам страны; никого не судить и не осуждать высочайшей властью; без собора не вводить никаких новых законов, не отягчать подданных новыми налогами и не принимать самомалейших решений в ратных и земских делах».
Но пройдут еще десятилетия, и все станет возвращаться на круги своя. Азиатский дух победит на этой земле, вытравив из людей все то свободное, чтобы было в их сердцах до пришествия монголов и до московских царей, ставших удачливыми проводниками золотоордынской политики: единовластия для себя и рабства для всех остальных.
…Весной 1592 года от Рождества Христова на просторы перед Северным Кавказом вышло конное русское войско: стрельцы, казаки с окраины – волжские, донские, терские. Были с ними ногайцы и казанские татары, поступившие на царскую службу. Русь подчинила себе Средний Дон и Волгу, укрепилась в Каспии и теперь раздвигала границы на юг. Это и было последним назначением князя Григория Осиповича Засекина – нанести удар по врагу, готовому напасть всякий раз, как северный сосед давал противнику спуска.
И вот теперь они пришли в Дагестан – страну гор, населенную десятками воинственных племен. Московское войско стояло напротив сборного полчища, куда входили под предводительством местных князьков кабардинцы, аварцы и даргинцы, кумыки и лезгины, авахи и лакцы, а также пришедшие к ним на помощь крымские татары и ногайцы мурзы Уруса.
За врагом, выползшим из ущелий, поднимались прекрасные, укрытые снегом горные вершины Северного Кавказа. За царским войском открывались прикаспийские степи. Числом басурман было куда больше, и они готовились к этой битве – готовились защищать свои исконные земли от жадного и ненасытного Московского государя, который шагал и шагал по миру, становясь с каждым шагом все сильнее и могущественнее.
Князь, окруженный самыми близкими своими бойцами, с которыми сражался все эти годы плечом к плечу на окраинах государства, расширяя его, всматривался в тесные ряды врагов, коих была сущая тьма.
Но разве впервой ему было встречать превосходящего числом противника? Разве не бил он шведов и чухонцев, крымских татар, черемисов и ногайцев, которых было не меньше?..
Но однажды заканчивается жизнь любого полководца, и счастлив тот из воителей, кто умирает не бессильным стариком в постели, а с мечом в руке, как предпочитали умирать древние викинги, в том числе и те, что однажды пришли на Русь и дали корень Рюрикам, кровь которых текла и в жилах князя Григория Осиповича Засекина.
Ни он, ни его товарищи не вернутся из битвы, произошедшей на подступах к Северному Кавказу, пред ликом вечных гор, заснеженных вершин, обращенных к солнцу. Никто не вернется из этой битвы, не останется их могил, некому будет сложить песню о погибших витязях во славу молодого, воинственного и жестокого, как и время, когда ему выпало раздвигать свои границы, Московского царства…

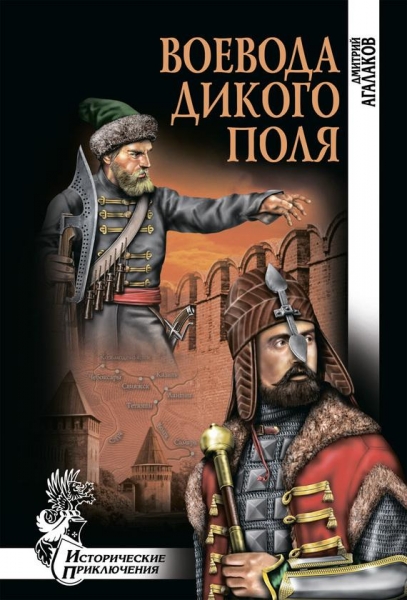

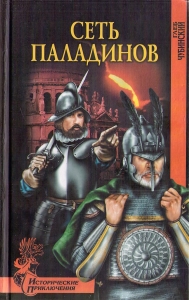

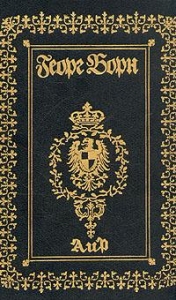

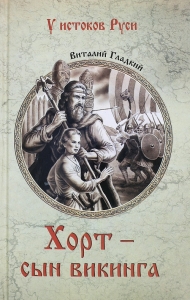
Комментарии к книге «Воевода Дикого поля», Дмитрий Валентинович Агалаков
Всего 0 комментариев