Юрий Валерьевич Рябинин Твердь небесная
Памяти моей бабушки Марии Филипповны – непревзойденного мастера слова
Первая часть Дочь за отца
Глава 1
Старший советник московского губернского правления Александр Иосифович Казаринов перепугался. Совсем это даже неприличествующее особе Александра Иосифовича выражение перепугался.Александр Иосифович был человеком видным, чиновным. И немалого чину. А тут – перепугался! Но, узнав, что его дочь Татьяна Александровна, первая в классе ученица, оказывается причастна к какому-то социалистическому кружку, он именно перепугался. Много больше даже, чем в январе, после высочайшего Манифеста, извещающего всех верных подданныхо начале войны с Японией. И хотя война, естественным образом, сулила всем и ему лично всякого рода неудобства, неприятности, к тому же у него, как у одного из самых верных подданных, прискорбное известие вызвало натуральную душевную боль за выпавшее на долю любезного отечества бедственное испытание, но и тогда смятение Александра Иосифовича было все-таки меньшим. В этот же раз он оказался пораженным прямо-таки в самое сердце. Впрочем, растерянность его была недолгой. Так это, промелькнула, как тень, по лицу, почти не выдав чувств старшего советника. Его давнишний и добрый знакомый пристав одной из московских частей, который и объявил Александру Иосифовичу эту новость, сию же минуту его успокоил, сказав, что, по сведениям от их агента, Татьяна Александровна с двумя своими подругами всего только присутствовала однажды на подпольном собрании социалистов и, кажется, безнадежно скучала там.
У Александра Иосифовича сразу отлегло. Социализм опять в моде. И девочка не отстает от жизни. Известно ведь: молодые люди из семей с порядочным достатком увлекаются революционными идеями даже более неимущих. Но увлечение их, как правило, мимолетное. Часто для них это всего лишь развлечение. Забавное, да и не очень рискованное, по правде сказать, времяпрепровождение.
Было время и сам Александр Иосифович интересовался социализмом. И однажды, еще студентом, ему довелось на одной даче под Москвой слушать выступление Перовской. Но это увлечение у него закончилось быстро. И прошло оно не без помощи некоего жандармского чина, к которому Александру Иосифовичу, вскоре после сходки на подгородной даче, совершенно официальным уведомлением было предложено прибыть незамедлительно. Не сказав никому об этом ни слова, Александр Иосифович поспешил явиться по вызову. Беседа с полковником была недолгая, но очень для Александра Иосифовича полезная. Полковник для начала объяснил молодому человеку, что в революционеры идут обыкновенно либо те, у кого за душой пусто, и они надеются таким образом поправить свое положение или на худой случай уехать за границу и жить там на счет казны своей организации, либо те, кому в жизни не посчастливилось, и они пытаются удовлетворить свои амбиции на таковом скользком пути. Для вас же, господин Казаринов, сказал полковник, как нам известно, вовсе не существует первой проблемы, и, надеюсь, не грозит вторая. Впрочем, если вы предпочитаете грядущей своей блестящей карьере незавидную каторжную перспективу – в таком случае, конечно, не оставляйте вашего увлечения. А уже тогда мы о вас позаботимся.
Относительно первой его проблемы полковник был не совсем прав. Конечно, по средним студенческим меркам Александр Иосифович считался человеком отнюдь не малоимущим и совсем не бедствовал, как иные его сокурсники. Но все же он был до известной степени стеснен в средствах и не мог позволить себе, например, некоторых развлечений белоподкладочников, как то: игр, посещений клубов, ресторанов или ухаживаний за дорогими красавицами. А рассказывая о неудовлетворенных амбициях иных ступивших на революционный путь, жандарм, сам того не подозревая, очень задел честолюбие своего собеседника, причем подтолкнул его ко многим дальнейшим поступкам.
Уходил из жандармского управления Александр Иосифович с умиротворенными чувствами, словно ему теперь была открыта сокровенная истина. Он и в мыслях не смел признаться, что насмерть перепугался обещанной полковником перспективы. Поэтому с некоторой даже радостью прозревшего заблудшего Александр Иосифович отнес на свой счет давешнее полное политическое невежество, из мрака которого этот благородный и симпатичный военный так счастливо его вывел. Умный полковник ни о чем больше не говорил с Александром Иосифовичем, но если бы он попросил его присматриваться к товарищам и время от времени докладывать ему о чем-либо подозрительном, то, может быть, Александр Иосифович и не стал бы отказываться.
Покончив решительно с глупою юношескою забавой, Александр Иосифович все свое усердие оборотил на образование. Прежде далеко не самый радивый студент, он теперь с головой погрузился в университетские занятия и скоро стал успевать в науках довольно. Почему и диплом первой степени, полученный Александром Иосифовичем по окончании курса, ни для кого уже не стал неожиданностью.
В студенческие годы свои Александр Иосифович открыл одну немаловажную жизненную истину, очень ему впоследствии пригодившуюся. Александр Иосифович, как уже говорилось, был человеком честолюбия непомерного. Он мечтал дослужиться, ни много ни мало, как до тайного, а лучше, если и выше. А вожделейные повышения в чинах, в должностях, самые ордена, наконец, рассуждал он, в общем, все то, что называется карьерой, ростом и ради чего мы, собственно, живем, это не только пожалование за беспорочную и ревностную службу, но, в значительной степени, это еще и признание твоих особенных внеслужебных доблестей, способности выделяться из конкретной среды, быть непохожим на прочих. Одним словом, это еще и награда за человеческую индивидуальность.
Александр Иосифович окончил курс университета по юридическому факультету. И, разумеется, все его товарищи по курсу были людьми с подходящими избранному сугубо статскому занятию интересами. Все они очень интересовались политикой, преимущественно внешнею, беспрестанно обсуждали, чаще всего порицая, деятельность Горчакова, в меру бывали в театрах и в меру читали, но очень увлекались риторикой и наперед наслаждались своими будущими блестящими речами. А Александр Иосифович, кроме того, что и ему не чуждо было все перечисленное, стал еще посещать манеж и даже ходил иногда в стрельбище, для чего купил дорогой, с длинным дулом кольт. Об этом скоро стало известно всему курсу. Но на первых порах Александр Иосифович добился результата, едва ли не обратного желаемому. Все подумали, что этот Казаринов большой оригинал. И Александру Иосифовичу пришлось еще поусердствовать, чтобы переменить кривое мнение о себе окружающих. И как-то зимой, будучи на четвертом курсе, он заставил-таки всех, включая профессоров, признать, что у него действительно незаурядные способности. Накануне святого Крещенья одна из крупнейших московских газет на первой странице, в «подвале», напечатала святочный рассказ, под которым стояла подпись «А. Казаринов». Это произвело фурор. То и дело в коридорах факультета он встречал устремленные на него любопытные взгляды, в которых читалось: пожалуй, он и впрямь с Божьею отметиной или: подумаешь, какое великое достижение! Но нелестных взглядов было совсем мало. Профессор криминалистики, у которого Александр Иосифович в последнее время был в фаворе, перед лекцией публично поздравил его с литературным успехом. А рассказ только что ко времени был написан, а так не представлял собою ничего особенного. Сюжет Александр Иосифович позаимствовал из какого-то древнего жития и только перенес действие в современную эпоху. Речь в рассказе шла о крестьянском мальчике Феофиле, заплутавшемся однажды в Крещенье в лесу. Он продрог, устал и, когда стемнело, совсем было отчаялся. Тогда он вознес горячие мольбы свои к Богородице. И едва Феофил помолился, ему вдруг повстречался схимонах-отшельник. Он взял мальчика за руку, причем Феофилу стало тепло и радостно, и вывел его из лесу. Но когда мальчик пришел в село и рассказал людям о своем приключении, ему отвечали, что на много верст кругом никаких отшельников по лесам здесь не спасается. Не иначе как это был святой, посланный отроку Богородицей. С тех пор мальчик Феофил решил посвятить свою жизнь Богу и, когда подошел срок, постригся в монахи.
Некоторое дарование к сочинительству обнаружилось у Александра Иосифовича еще в гимназии. Но лишь здесь, в университете, он понял, что дар этот может и теперь, и в будущем сослужить ему добрую службу. Он поспособствует ему среди коллег речистых юристов, которые, может быть, и научились цветисто риторствовать, но не знают, как сочинить нехитрого письма к родителям.
После первого успешного опыта и до выхода из университета Александр Иосифович напечатал еще несколько рассказов и однажды остроумную едкую сатиру на их профессора римского права, сильно досадившего Александру Иосифовичу в свое время. Но студенческие годы промелькнули незаметно, и настал срок определяться ему в должность. Совсем ненужный больше Александру Иосифовичу покровитель – профессор криминалистики – в последнее их свидание долго не выпускал его руку из своей пышной влажной руки и говорил все какие-то добрые напутственные слова. А Александр Иосифович натужно улыбался, мечтая, как бы ему поскорее высвободить ладонь и протереть ее платочком. Он вышел из курса десятым классом и мог рассчитывать на приличное место в Москве или в Петербурге. И старый профессор вполне бы этому поспособствовал, оказал бы протекцию. Но Александр Иосифович поступил иначе и для многих совсем неожиданно. Он уехал в провинцию. Его тетушка генеральша Дурдуфи, женщина со многими связями, доставила ему место советника канцелярии губернатора где-то в Польше. Для молодого человека, вчерашнего студента, это была очень значительная должность, какую ни в Москве, ни тем более в Петербурге, при всех его способностях и при всех способностях его тетушки, Александру Иосифовичу не знать бы еще долго. Но захудалая польская провинция, куда теперь отправлялся Александр Иосифович, отнюдь не могла быть предметом зависти его товарищей, устроившихся пусть и на незначительных местах, но в столицах. Ну вот, не без злорадства думали они, не зная долгих видов Александра Иосифовича, вот и минули счастливые дни этого баловня, увязнет навеки в провинции – и что пользы в его давешних успехах? Но Александр Иосифович избрал такое место неслучайно. Изощренная его интуиция подсказывала, что грядут новые времена, когда очень возрастет значение русских национальных идеалов, и призрак православного царства для народа в который раз уже начинает овладевать самыми высокими умами. Вера стоит выше разума – неспроста так говорит новый обер-прокурор Святейшего Синода. Народ чует душой, что абсолютная истина доступна только вере. Александр Иосифович, признаться, смутно знал о народных чувствах, но вот сам-то он всею душой чуял, что ему срочно надлежит становиться русским патриотом. А где легче проявиться этому патриотизму? где он будет заметнее? – разумеется, в инородческой среде. И в губернию приехал богобоязненный, благовоспитанный молодой человек с бородкой, в суждениях которого, между прочим, нет-нет да и встречались не по возрасту консервативные, с легкими националистическими признаками, отголоски.
За исправление своей первой должности Александр Иосифович принялся с достойным всяческих похвал усердием. Вскоре многие обратили внимание на то, что новый чиновник строг и требователен с польским и особенно с еврейским населением, но очень лоялен к православным людям. Но поскольку и строг и лоялен он был в пределах дозволенного, то порицать его за это не было оснований. Александр Иосифович совсем не считался с личным временем и часто брал бумаги для работы на дом. Кроме того, что в его обязанности вменялось инспектировать губернскую тюрьму, он по доброй воле, объясняя это своею искони принятою семейною христианскою филантропией, испросил еще особое поручение наблюдать дом умалишенных женщин, что считалось среди тамошних чиновников заботой самою черною. Наконец, верный своему правилу, своему испытанному способу завоевания симпатий, Александр Иосифович стал сотрудничать с губернскими газетами. И, конечно, добился к себе внимания.
Спустя короткое время губернаторша попросила мужа непременно пригласить на ее именины этого интеллигентного московского юношу, что сочиняет такие забавные рассказики. Мы не должны отказывать в нашем обществе молодым талантливым русским людям, сказала она, это не патриотично. Губернатор и сам держал нос по ветру и уже заложил в городе новый православный храм в древнерусском вкусе. Он сразу приметил, что этот новичок молодец расторопный, каких поискать. Но главное, направленность его мышления очень даже отвечает новым веяниям. Такого вполне можно и повысить, подумал губернатор, а попозже и к награде представить. Если только он не пройдоха изрядный. Хотя в этаком случае его еще скорее придется и повышать, и награждать.
В доме губернатора в день именин его супруги гостей собралось порядочно – человек до ста. Но, если не считать их дочерей, народ был все больше пожилой. И Александр Иосифович, хотя и скрывал это, чувствовал себя не очень-то уютно. Он подготовил для высокого губернского общества, и в первую очередь для губернаторши, сюрприз, но время для него еще не подошло. И пока он не спеша прогуливался по огромной зале в новеньком, второй раз всего надетом, фраке среди других фраков и мундиров, делая вид, что его очень занимают картины и скульптуры, и изредка раскланиваясь с знакомыми. Возле гипсовой Флоры стояла группа человек пять – семь, среди которых высилась нескладная фигура губернатора в парадном с золотом мундире и с аннинскою лентой. Увидев проходящего мимо Александра Иосифовича, губернатор едва-едва кивнул ему и чуть заметно улыбнулся. Александр Иосифович отвечал ему поклоном более церемонным, но исполненным достоинства. Он собрался уже красиво продефилировать мимо, но тут из группки раздался раздосадованный и оттого повышенный голос полицмейстера: «Ну, нет, господа, Михаил Тариелович еще покажет себя!» Александр Иосифович вздрогнул и вновь оглянулся на группу собеседников, и первое, что встретилось его взгляду, это устремленный на него ответный взгляд губернатора. И они моментально поняли друг друга. На лице губернатора было написано: не судите строго, наш полицмейстер законченный дуралей, что уж тут поделаешь. А Александр Иосифович очень артистично изобразил удивление, даже с долей легкого испуга, оттого, что он оказался в собрании конституционалистов, чуть ли ни революционеров. В следующее мгновение губернатор уже как близкому другу улыбнулся Александру Иосифовичу. Так в одну минуту им открылось, что они родственные души. Александр Иосифович никак не стал злоупотреблять своим чудесным случайным успехом и скромно удалился рассматривать Амура и Психею. Он ликовал в душе. К тому же он подумал: а это ведь прекрасно, что в губернии столько бездарных стариков-чиновников; скоро они один за другим начнут выходить в отставку и тогда откроются многие вакации. И он окинул надменным взором всех этих копошащихся в зале людишек.
Но тут растворились широкие с вензелями двери в соседнее помещение, на пороге торжественно появился дворецкий, выряженный как Мальволио, за которым, как войско, стояли шеренги лакеев, и предложил всем проследовать к столу.
Лишь только гости расселись по чину, с места своего поднялся предводитель губернского дворянства, с картинными седыми усами пожилой шляхтич, и затянул витиеватую, как обычно у поляков, речь. Говорил он по-русски, но иногда, в задушевном порыве, переходил на польский. Гости стали уже скучать и переглядываться, а предводитель все говорил и говорил. Он делал порою совсем неуместные отступления, и речь его продолжалась так долго, что наипекнейша пани уже из последних сил удерживала вымученную улыбку на лице. Но оратор не останавливался. Он рассказывал что-то о себе, о своем родителе, державшем самый богатый выезд во всей Великой Польше, и еще о многом другом. Наконец предводитель умолк, так почти ничего и не сказав по делу, стоя осушил бокал, победно всех оглядел и сел разглаживать усы. Вслед за ним, к удовлетворению собравшихся, поднялся с места полковник Нюренберг. Ну, немец-то будет краток, решили все. Начальник гарнизона города полковник Нюренберг недавно подал рапорт об отставке и всякий день ожидал увольнения от должности. И, возможно, это было его последнее появление перед губернским высоким обществом. Многие знали об этом. Полковника в городе уважали. Он не посрамил ожиданий гостей и был действительно очень краток. Но в конце своего выступления полковник сказал: «Господа, а теперь позвольте предоставить возможность нашей славной молодежи поздравить дорогую Анну Константиновну». Все вытянули шеи. У губернатора приподнялась правая бровь.
Это и был сюрприз, приготовленный Александром Иосифовичем. Получив приглашение от губернатора, он решил использовать такой случай с наибольшею для себя выгодой. И не просто появиться в обществе, а попытаться заставить это общество приметить его, а еще лучше – полюбить. Александр Иосифович перебирал варианты, как можно будет там отличиться. Сочинить ли в честь губернаторши стихотворение? или оду? Но нет. С таковыми сочинениями на подобные торжества обыкновенно является едва ли ни половина гостей. И тут он подумал о новой своей знакомице Катарине Нюренберг, дочери здешнего гарнизонного начальника. Познакомились они на недавно устроенной губернаторшею же благотворительной распродаже в пользу инвалидов турецкой войны. Катарина оказалась девушкой нрава доброго и веселого, и Александр Иосифович, впервые за время службы в этом городе, захотел вдруг сбросить с себя эту, уже основательно прилипшую к нему личину этакого усердного служаки-патриота и побыть таким же неискусственным человеком, как она. Хотя бы с ней только побыть таким. Но, к счастью, удержался от соблазна. И теперь, ломая голову над проблемой жанра, он вспомнил, что его новая знакомая недурно, по ее словам, музицирует на фортепианах. Что там какая-то приевшаяся тривиальная ода, думал Александр Иосифович, я напишу кантату и сам же исполню ее, а Катарина Францевна, надеюсь, не откажет мне аккомпанировать. Два дня Александр Иосифович сочинял свою кантату. А потом еще с неделю они с Катариной подбирали музыку и репетировали. Полковнику эта затея очень понравилась, и он даже вызвался объявить их выход.
И вот их час наступил. Они вышли к роялю. Александр Иосифович взял паузу. Оглядел всех, посожалев в душе, что приходится ему стелиться перед этим жалким народцем – столетья прошлого обломками, – расточать усилия на безделицу, в сущности. Да делать нечего. Другого, лучшего пути ему никто не приготовил. Откинув назад голову, он громко произнес: «Она – не смертный человек! Кантата!» Затем он подал знак Катарине. Зазвучала музыка. И Александр Иосифович запел приличным тенором. В кантате своей он сравнивал Анну Константиновну с самою Россией. Как Россия сделалась любящею матерью для иных малосильных народов, так же и болярыня Анна стала радетельницей для сирых и обиженных, светочем для страждущих. Заканчивалась кантата апофеозом. Вся природа, до пташечки малой до самой травиночки тонкой, славит болярыню Анну. Многая лета ей прочит. Прочит ей также здоровья. Побед ее мужу желает. Великих свершений их детям. Для пущего блага России. Etc.
Как назавтра написала одна городская газета, зал вздрогнул от рукоплесканий. Господин Казаринов подошел к восторженной виновнице торжества и, преклонив колена, припал к ее руке. Она выразила ему свое безмерное восхищение от сочинения и исполнения и еще с минуту беседовала с совершенно счастливым молодым человеком.
Казалось бы, теперь Александру Иосифовичу можно было и успокоиться, исправлять себе потихоньку должность и ждать чинов и орденов. Он открыл для себя путь к наградам, полюбился губернатору, стал фаворитом губернаторши, приобрел известность в городе. Чего еще желать? Но не таков был человек Александр Иосифович, чтобы останавливаться на чем-либо. Он приобрел славу исполнительного, благонамеренного чиновника, человека умного, талантливого и, кроме того, филантропа. Но все эти прекрасные свойства не избавляли его от козней завистников и недоброжелателей, число которых, как справедливо полагал он, по мере роста его благополучия будет только увеличиваться. Чтобы предотвратить возможные коварные выпады злопыхателей против него, нужен был какой-то экстраординарный поступок. Некое грозное предостережение для всех, что чинить ему неприятности небезопасно. И этот замысел Александру Иосифовичу вскоре удалось осуществить с блеском. К прежним своим подвигам он прибавил еще один – он прославился в городе как отчаянный дуэлист, бесстрашный рубака.
Несколько дней кряду лучшие дома города, как ульи, гудели пересудами о дуэли коллежского секретаря Казаринова с каким-то офицером. Событие это и впрямь было и неожиданным, и необычным. Среди военных-то дуэли сделались явлением довольно-таки нечастым. Но дуэль статского с военным, по мнению городских пересудчиков, была уже совершенно исключительным случаем, какого не происходило в их городе, кажется, со времен императора Александра Павловича. Трудно в это поверить, но и для самого Александра Иосифовича дуэль с поручиком Куфтой оказалась, в общем-то, случайностью. Нет, в самом деле, когда ему пришло в голову как-то утвердиться еще и в образе человека отважного, не дающего обидчикам спуску, он, между прочим, подумал и о возможной дуэли. Но он решительно не предполагал, что зверь выбежит на ловца чуть ли не в тот же день. И уже тем более он не думал, что его противником может оказаться человек военный. Воображение Александра Иосифовича рисовало по ту сторону далекого барьера такого же, как и он сам, чиновника, с которым они, может быть, выстрелят по разу в воздух и разойдутся. Он ни в коем случае не желал ни малейшего кровопролития. Да и сам же, по правде сказать, страшился своих глупых фантазий.
После памятных именин губернаторши Александр Иосифович стал иногда бывать в дворянском собрании. Раньше он туда не ходил, потому что его мало кто знал, и сам он знал не многих. Теперь же лучшие люди города, особенно те, у которых были взрослые дочери, стали наперебой его приглашать бывать у них запросто. А уж в дворянском собрании ему просто-таки велели появляться почаще: потому как не хватает нам вас очень, Александр Иосифович, никак без вас не можем-с.
В дворянском собрании Александр Иосифович либо беседовал со словоохотливыми стариками, либо наблюдал за игрой. Сам он обыкновенно не играл, ссылаясь на неумение. А старики вели с ним разговоры весьма с удовольствием, потому что он всегда внимательно и терпеливо выслушивал их длинные доверительные рассказы. Однажды он дольше обычного засиделся в собрании. Какой-то докучливый помещик развернул перед ним бескрайнее полотно своего насыщенного событиями жития. Чего же только он не рассказывал! И о детстве своем, и о первой любви, и о былых забавах, и о шестьдесят третьем годе, принесшим им столько бед, и о детях, об их успехах, и еще бог знает о чем, чего Александр Иосифович уже не в силах был запомнить. Так долго его еще никто не мучил, и Александр Иосифович на исходе второго часа повествования уже едва подавлял в себе раздражение. У противоположной стены играли и негромко переговаривались между собою несколько человек. И одна из их реплик донеслась до слуха Александра Иосифовича. Средних лет офицер в пехотном мундире по какому-то случаю, по какому именно Александр Иосифович не разобрал, упомянул губернаторшу Анну Константиновну. При других обстоятельствах Александр Иосифович пропустил бы эту реплику мимо ушей. Во-первых, его это не касалось. А во-вторых, разве может позволить себе офицер отозваться дурно о женщине, к тому же супруге губернатора. Но Александр Иосифович, вконец замученный неугомонным собеседником, находился в таком раздраженном душевном состоянии, что вдруг вскочил и почти бессознательно потребовал от офицера прекратить досужие рассуждения об этой замечательной женщине. Поручик Куфта, произнесший эти слова, вначале даже смутился. Он подумал, а не промелькнуло ли и впрямь в его речи чего-то такого недостойного. Несколько мгновений поручик вспоминал, что же он там говорил, и нашел все им сказанное, напротив, весьма для губернаторши лестным. Поэтому он осторожно заметил господину Казаринову, что для его претензий не имеется ни малейшего основания. Александр Иосифович за те же мгновения и сам успел понять, как дал маху. Но не смел признаться теперь в своей оплошности. И он решился не идти на попятную. Взяв, по возможности, себя в руки, он сказал поручику, что тому, наверное, просто недостает мужества сознаться в своей низости. Лицо поручика выражало самое неподдельное сожаление, оттого что учинился этакий прискорбный случай. Но и ему не годилось отступать перед зарвавшимся мальчишкой-чиновником. Не поднимаясь со стула, он тихо произнес: «После будем с вами разговаривать, сударь». Старики-дворяне засуетились было с примирением, зашептали: «Полноте вам, господа, полноте». И если бы они этого добивались настойчивее, то примирение могло бы состояться сию минуту, потому что одна сторона уже вполне раскаивалась в содеянном, а противная, по безмерной своей скромности, просто не хотела скандалом привлекать к себе внимания. Но усилия их были не столь дружными и настойчивыми. А поведение Александра Иосифовича, как бы ожидающего, когда их с поручиком примирят, могло показаться довольно-таки неприличным. Поэтому, избегая быть заподозренным в трусости, он поспешил удалиться.
По дороге домой и дома до самой ночи он лихорадочно обдумывал, каким образом ему теперь следует поступать. Кровавую драму он отвергал решительно. Что-нибудь да помешает состояться этой злосчастной дуэли, надеялся Александр Иосифович. К тому же военному за дуэль взыскание полагается куда как более суровое, нежели чем статскому. Поручик не может об этом не знать. Он должен быть еще более заинтересован в счастливой развязке. Кроме того, можно, например, заранее довести до сведения начальства о предстоящем происшествии, и тогда, надо полагать, дуэль как-нибудь да будет предупреждена. Но если, паче всякого чаяния, события будут развиваться по худшему варианту, то и в этом случае необходимо предусмотреть какие-то возможности, дабы избежать трагических последствий.
Наутро к Александру Иосифовичу явился секундант поручика и передал его вызов. Александр Иосифович легко заметил, что секундант очень ждет от него каких-то подвижек к полюбовному разрешению конфликта. И если бы Александр Иосифович только намекнул ему о своей готовности объясниться с поручиком, он наверно с радостью объявил бы ему, что и поручик желает того же самого. Поняв настроение противной стороны, Александр Иосифович тотчас вообразил весь свой дальнейший план действий. И, вопреки ожиданиям секунданта, он принял вызов поручика.
Как сторона вызываемая, Александр Иосифович имел право на выбор оружия. Секундант поручика не стал даже поначалу и оговаривать этого вопроса. Какой тут может быть выбор? Ясно – стреляться. Но Александр Иосифович, к удивлению секунданта и к совершенному удивлению всех, кому позже это стало известно, изволил драться с поручиком Куфтой на саблях.
В тот же день Александр Иосифович разыскал охотника быть его секундантом. Это был один польский мелкопоместный дворянин, с которым Александр Иосифович как-то познакомился сразу по приезде в этот город. Поляк в свое время служил в уланах и имел целую коллекцию сабель. Он, натурально, обрадовался, что его позвали в секунданты, и за дело принялся рьяно. Вначале он выговорил Александру Иосифовичу за то, что тот избрал такое оружие. «Вам следовало бы, – говорил он, – выбирать пистолеты. Военные, обыкновенно, лучше статских владеют саблей». Александр Иосифович нашел это замечание благоразумным. Именно такой секундант ему и был нужен. Поляк предложил ему взять урок фехтования. «Хорошо бы еще иметь двух коней под седлами, – сказал он, – я бы обучил вас конной атаке». Александр Иосифович обратил его внимание на то, что дуэль, вероятнее всего, будет пешая.
«Тогда, пан Казаринов, – учил поляк, – вам кони не понадобятся». В общем, секундантом своим Александр Иосифович остался весьма доволен. Они выбрали из коллекции бывшего улана саблю, которая, по авторитетному мнению ее владельца, более других подходила к Александру Иосифовичу. «Эта сабля, – объяснил он, – прорубает кирасу». – «Вот и славно, – отвечал ему Александр Иосифович с улыбкой, – поручику выходит несдобровать, если даже он заявится на дуэль в кирасе». – «Нет! нет! пан Казаринов, – поспешил успокоить его секундант, – он не имеет права надевать кирасу!»
Под водительством своего многоопытного и рассудительного наставника Александр Иосифович действительно целый вечер упражнялся в фехтовании. Поляк его хвалил, но для лучшего овладения этим благородным искусством советовал после дуэли продолжить занятия. Александр Иосифович поблагодарил секунданта за предложение и попросил разрешения сегодня взять саблю с собою домой, чтобы самый вид грозного оружия вдохновлял его на славные подвиги. Поляку очень понравились такие речи, и он в душевном порыве подарил Александру Иосифовичу саблю.
От секунданта Александр Иосифович поехал за город в местечко к знакомому еврею – кузнецу, у которого он подковывался заодно, бывая в тех краях по служебным надобностям. Он показал кузнецу саблю и научил исполнить над ней некоторую работу. Если бы у кузнеца кто-нибудь потом стал узнавать, зачем к нему так поздно вечером накануне дуэли приезжал господин Казаринов, он бы отвечал, что тому нужда была побыстрее наточить саблю. Так ему велел отвечать Александр Иосифович. И неплохо заплатил за труды.
Дуэль состоялась в установленный час. Секунданты осмотрели оружие, причем бывший улан нашел какой-то изъян на сабле поручика, мешающий, по его мнению, делу. Но Александр Иосифович, третьего дня еще готовый ухватиться за любую соломинку, лишь бы предотвратить или отсрочить дуэль, решительно заявил, что он не в претензиях. И схватка началась. Перед этим поляк еще успел шепнуть Александру Иосифовичу: «Ваша сабля лучше!»
При описании такого рода турниров обычно употребляются выражения вроде: они сошлись, осыпая друг друга ударами; или: клинки их сверкали, как молнии. Ничего подобного не имело быть в данном случае. Лишь только Александр Иосифович приблизился к поручику на досягаемое саблей расстояние, он, что было мочи, размахнулся и нанес удар. Разумеется, поручик легко парировал этот дилетантский удар. Но при этом сабля Александра Иосифовича обломилась у самой рукоятки и отлетела далеко в сторону. Александр Иосифович отступил на шаг и, озадаченный такою нечаянностью, стал с удивлением рассматривать оставшуюся у него совсем теперь бесполезную рукоятку с болтающимся на ней темляком. Поручик опустил саблю. Его противник был обезоружен и, по сути, уже не являлся противником. Из замешательства вывел всех принципиальный секундант Александра Иосифовича. Поляк подбежал к поединщикам, встал между ними и громко и категорически заявил, что по правилам сторона, потерявшая в дуэли оружие, должна быть признана побежденною. «Вы, сударь, – обратился он уже к Александру Иосифовичу с новою для их отношений холодностью, – побеждены вчистую. Очень сожалею, – продолжить наши занятия мы не сможем. Честь имею!» Он был явно уязвлен конфузней своего подопечного, даже оскорбился, поэтому не желал больше его признавать, зато с неожиданною почтительностью он откланялся поручику Куфте. И с напускною гордостью удалился. Если бы он знал, каким триумфатором ощущал себя Александр Иосифович, он бы решил, что тот сошел с ума от своего горького поражения. Александр Иосифович так же чинно распрощался с поручиком и его секундантом, вполне признав свое поражение, и покинул поле боя, ставшее для него, как он теперь уже знал наверно, полем славы.
Известие о дуэли мигом облетело весь город. Начальник Александра Иосифовича – правитель канцелярии – не рискнул теперь даже сделать ему реприманды, потому что знал причину дуэли и ждал заключений по этому случаю губернатора. А губернатор отнесся к случившемуся так, как и предполагал Александр Иосифович, то есть со снисходительною строгостью. Да и как иначе, если Александр Иосифович дрался насмерть за честь его семьи. Ни малейшего наказания для него не допустила бы Анна Константиновна. Узнав о случившемся, она совсем потеряла голову. Она вообразила, что стала дамою сердца этого молодого рыцаря, ни в грош не поставившего самое жизнь свою только оттого, что кто-то всуе упомянул ее имя. Когда Александр Иосифович явился по вызову губернатора к нему на дом, то первою его принимала Анна Константиновна. Она увела его в свой будуар, куда допускались лишь самые избранные, усадила в кресла и засыпала вопросами. Ее интересовало решительно все: как он на такое отважился? отчего избрал сабли, а не пистолеты? волновался ли перед дуэлью? – «хотя, что я, глупая, спрашиваю – еще бы не волноваться!», – долго ли они рубились сэтим монстром? не ранен ли он, не приведи Господь? Александр Иосифович отвечал скромно, никаких таких своих доблестей не выпячивая, чем привел Анну Константиновну в совершенное умиление. Она сказала, что отныне ни на минуту не оставит его своим вниманием: «Потому что вы человек молодой, горячий, вам необходим материнский присмотр, иначе вы наделаете разных глупостей вроде давешней». Святая простота, думал Александр Иосифович. А губернаторша продолжала: «Разве можно так рисковать, вы должны поберечь себя, свой талант, эти офицеры такие грубые, нам с вами все равно их никогда не удастся перевоспитать. Мужу я велела вас хорошенько поругать». Она велела! – едва не улыбнулся Александр Иосифович. Губернаторша просила его бывать у них как можно чаще. «Наш дом открыт для вас всегда» – с этими словами она его отпустила.
Затем его проводили в кабинет к губернатору. Тот встречал его с подобающею важному сановнику торжественностью. Он только встал из кресел, но не вышел из-за стола и, конечно, не подал руки провинившемуся подчиненному. Губернатор изъявил свое крайнее неудовольствие по сему, из ряду вон выходящему, событию. Но на первый раз решил ограничиться лишь строгим внушением. «Были бы вы человеком военным, – продолжал губернатор, – то последствия вас ожидали бы куда более неприятные». Александр Иосифович хотел спросить, что же, в таком случае, станется с его противником. Но одумался спрашивать. Потому что, участвуя в судьбе поручика, хотя бы и неявно, он мог быть заподозренным в сговоре с ним, что поколебало бы отменно хороший результат от его рисковых усилий. Не казнят же поручика, в самом деле, за какую-то дуэль! И верно, поручик Куфта отделался легко. Полковник Нюренберг приказал взять его под арест на сколько-то суток. А потом поручику было предложено уйти в отставку, но, ввиду особой к нему милости, с сохранением чина. Если Александр Иосифович благодаря дуэли окончательно утвердил за собою славу личности, выдающейся во всех отношениях, то поручик остался в памяти городских обывателей всего только каким-то офицером,дравшимся с господином Казариновым на дуэли. Никто не помнил, а скорее всего, и не знал, что поручик Куфта участвовал в турецкой кампании, имел ранение и получил там два креста.
Некоторое время после всех этих событий Александр Иосифович ничем таким особенным не удивлял города, хотя и продолжал, верный принятому однажды правилу, напоминать всем о своей необыкновенной человеческой индивидуальности публикациями в газетах, участием в скачках наравне с военными, ревностью в благотворительных мероприятиях и прочим. Он служил в этом городе уже больше года и по достоинствам своим вправе был ожидать повышений. И ожидания Александра Иосифовича, при ближайшем споспешествовании покровительствующей ему губернаторской четы, стали исполняться. Вначале за усердную и похвальную службу он был пожалован девятым классом, а затем и назначен в новую, соответствующую более высокому классу должность старшего делопроизводителя. Тогда же в жизни Александра Иосифовича произошло еще одно замечательное событие – он женился на Катарине Нюренберг. Все от души восторгались, как это у господина Казаринова так ловко и скоро делается карьера и устраивается личная жизнь. Его без устали поздравляли и льстиво намекали о грядущем теперь крестике и о всегда радостном прибавлении в семействе. Между собою все, памятуя о крутом нраве Александра Иосифовича, также говорили о нем с глубочайшим почтением и предрекали ему блестящую карьеру. Этот далеко пойдет, говорили одни. Да, его теперь рукой не достанешь, вторили им другие. Но последний уже совершенно необъяснимый поступок Александра Иосифовича, воспринятый многими как результат некоего загадочного умопомешательства у него, поверг в изумление его друзей и очень обрадовал недоброжелателей.
Как гром среди ясного неба стало для всех решение Александра Иосифовича вдруг оставить недавно принятую новую должность и уехать куда-то далеко на восток, в какую-то дичайшую глушь, а куда именно – никто толком не знал. Не то в Амурскую область, не то еще дальше. Как рассказывал любопытным сам Александр Иосифович, ему было предложено там весьма выгодное место, с содержанием значительно большим против нынешнего, и он дал согласие. А что до дикости края, так не век же он собирается вековать в Тмутаракани. Но в городе такими объяснениями не удовлетворились. Какая роковая ошибка! Это так на него не похоже, размышляли друзья Александра Иосифовича, подразумевая, как бы унаследовать теперь его должность. Вот уж, поистине, горе от ума, радовались всегдашние его завистники, предвкушая возможное продвижение по службе в связи с неожиданно освободившимся высоким местом. Только безумный может уехать из Европы в дыру, говорили поляки безо всякой надежды выгадать что-то от этой вакации. Злые языки сеяли даже такую шутку, что-де у этого Казаринова произошло помутнение рассудка, оттого что он повадился бывать со своими филантропическими инспекциями в доме умалишенных женщин. Никогда не узнали эти губернские остряки, что на этот раз они сочинили почти правду. Только самые умные из городских обывателей догадывались, что в отставке Александра Иосифовича есть некая большая, для них непостижимая, но им самим тщательно взвешенная причина.
Александр Иосифович покинул город своих первых серьезных успехов. Вместе со своею, во всем ему покорною женой, он уехал вначале в Москву, а потом действительно куда-то очень далеко к Великому океану. Довольно на долгий срок он попросту исчез, и никаких известий о нем не было.
Перед отъездом он хотел попрощаться с губернатором и со своею благодетельницей Анной Константиновной. Губернатор, будучи первым из умнейших городских обывателей, вполне понимал, что Александр Иосифович не посчитал нужным быть с ним откровенным. А легким отказом от доставленной ему только что должности еще и продемонстрировал свою независимость от него – первого лица губернии. Поэтому губернатор не пожелал его принять. А губернаторша, обиженная на неблагодарного паршивца, предпочитающего жалкие меркантильные интересы ее почти родственному к нему благорасположению, сказалася больною и также отказала во встрече.
За несколько недель до загадочной отставки Александра Иосифовича с ним приключился презабавнейший, как он сам его называл, эпизод, о котором, конечно, стало быстро известно. Все знали о его особенных интересах к дому умалишенных женщин. Он уже состоял в попечительском совете этого лечебного заведения, постоянно интересовался его нуждами и, по мере своих возможностей, старался быть полезным. Любимою его заботой стало привозить и раздавать больным какие-нибудь подарки. Например, белье, чулки, платки, чашки и миски с эмалевыми рисунками, яблоки и другую мелочь. Все это приобреталось на пожертвования, собранные людьми из попечительского совета или Катариной, которую он тоже приобщил к этому благородному занятию.
Посещал больницу Александр Иосифович раз или два в месяц. Первое время он бывал в палатах в сопровождении санитара. Но потом и он привык к больным, и больные привыкли к нему, и Александр Иосифович стал ходить по палатам без провожатого. Одаривая несчастных какими-то безделицами, он с ними шутил, насколько это было доступно для душевнобольных, говорил всякие бодрые слова, традиционные пожелания скорейшего выздоровления и т. д. Больные в большинстве своем полюбили Александра Иосифовича и очень радовались его посещениям. В одной из палат он стал задерживаться дольше, чем в других. Бывало, санитары, обеспокоенные, что он так долго не выходит, заглядывали в эту палату и всегда находили Александра Иосифовича мирно беседовавшим с довольно красивою еще полькой лет тридцати. И не было случая, чтобы он не навестил этой палаты.
Зашел он туда, разумеется, и в последний свой визит в больницу. Но на этот раз он недолго там задержался. Через несколько минут, после того, как за ним закрылась дверь, из палаты раздался страшный грохот и крики о помощи. Вбежавшие тотчас в палату врач и два дюжих санитара увидели Александра Иосифовича сидящим на полу с разбитым в кровь лицом. Рядом с ним валялся стул. Одною рукой он зажимал рану на лице, а другою показывал на польку, которая между тем спокойно сидела на кровати и с величайшею ненавистью и презрением смотрела на Александра Иосифовича, распластавшегося у ее ног. Санитары бросились было к ней, чтобы прикрутить ее к койке, но Александр Иосифович, овладевший уже собою, стал решительно апеллировать к доктору против таких жестоких мер по отношению к несчастной, все преступление которой состояло в том, что она была нездорова умом. Александру Иосифовичу сразу подали медицинскую помощь. И хотя он был очень бледен и говорил, что у него просто-таки подкашиваются ноги от пережитого, он, тем не менее, просил главного врача быть с этою больной заботливее, мягче и вообще уделить ей особенное внимание. Врач обещал взять ее под самое пристальное наблюдение.
Если бы Александр Иосифович захотел обратить этот случай себе на пользу, ему, безусловно, не составило бы труда это сделать. Он получил увечье, ранение, можно сказать, при исправлении важной государственной службы. Да, по совести, за такое ему орден полагается. Но, как уже известно, он вскоре оставил и должность, и самый этот город.
Глава 2
В этот день Александр Иосифович возвратился из должности с решительным намерением основательно поговорить с дочерью. Этак и до беды недалеко. Конечно, пристав был с ним по-дружески откровенен и любезен, но только оттого, по всей видимости, что знал его как человека характера твердого, способного вполне разобраться во внутрисемейных заботах. Разобраться, пока еще вовремя.
Но поднять эту проблему было не так-то просто. Откуда у него такое известие? Кто об этом может знать? Пристав его предостерег, что ссылка на сотрудникаявляется преступлением. Он и сам нарушил все возможные артикулы, рассказав так много Александру Иосифовичу. Только полное к нему доверие и самые искренние дружеские чувства к их дому побудили его сделать это. Иногда полезнее бывает разобраться с подобною незадачей внутри семьи, нежели решать ее в предусмотренным законом порядке. Александр Иосифович и сам, безусловно, понимал, что упоминать агента и противно закону, и, что для него гораздо важнее, чисто по-человечески глупо. Ему ли не выпутаться из затруднительного положения. Александр Иосифович даже не стал прикладывать особенных умственных усилий – он просто еще раз припомнил все детали их давешнего разговора с приставом, и выход, простой, как обычно, до смешного, тотчас ему весь и представился.
Семья Александра Иосифовича занимала половину этажа в роскошном доме в Староконюшенном переулке. Всех обитателей этой обширной квартиры было три человека господ, прислужница – девушка, немногим старше Тани, и английский бульдог.
С первых же дней совместной с Екатериной Францевной жизни Александр Иосифович предоставил супруге единолично править их домашним обиходом, полагая, что в этом занятии ей не будет равных. И не ошибся. Екатерина Францевна устроила их дом с редкостным умением и вкусом.
Женился Александр Иосифович на бесприданнице, как ни удивительно, не без расчета. Вообще, говорить о том, что Александр Иосифович делал что-либо не без расчета, уже, наверное, нет необходимости. Но обыкновенно под словами «жениться по расчету» подразумевается, что брак принесет жениху какие-то материальные ценности, взятые за невестой. Александр же Иосифович знал наверно, что, кроме щедрых наставлений и готической Библии, его невеста ничего больше от родителя своего не получит. Полковник скорее предпочтет, чтобы его дочь навеки осталась с ним в девицах, нежели выделит что-то за ней. Расчет Александра Иосифовича был совсем иного рода.
Конечно, отсутствие приданого является существенным недостатком, часто делающим брак невозможным. Но у Екатерины Францевны имелись преимущества, которые в те поры были для Александра Иосифовича важнее всего прочего. Он сразу разглядел, что у этой девушки очень развита способность во многом, почти во всем, отказывать себе в пользу ближних. Вероятно, это было следствием особенного ее воспитания. Как потом узнал Александр Иосифович, полковник Нюренберг никогда не держал прислуги. И не только потому, что денщики его годились выполнять любые труды, вплоть до починки белья. Но суровый военный рассуждал еще и так: к чему женатому офицеру прислуга? – это есть расточительство! И все, что по каким-то причинам не могли сделать денщики Нюренберга, ложилось на плечи его жены. А происхождение свое, между прочим, эта женщина вела от знатного бранденбургского рода, вконец, правда, разорившегося и теперь угасшего. Прожила она недолго и умерла, как говорят, во цвете лет, оставив полковнику четверых детей, из которых Катарина была самою младшею и единственною девочкой.
Естественно, что после смерти матери многие ее заботы сделались заботами Катарины. Помыкаемая не только отцом, но и братьями, она скоро превратилась в совершенную служанку в доме. Полковник навсегда, как думалось, определил такое ее положение в семье словами: а зачем еще нужна дочь? И Катарина была вполне согласною с батюшкой. А как иначе? Это ее женская, Господом данная, доля. И нести ее она обязана со смирением и покорностью, как несла свой долг матушка.
Мать успела обучить Катарину музыке и определить в гимназию. Умирая, она очень просила мужа доучить девочку. Полковник пообещал и слово сдержал. Но весь оставшийся срок учебы Катарины в гимназии он неизменно укорял ее тем, что-де впустую приходится терпеть столь изрядные издержки.
Полною для полковника неожиданностью стало желание этого статского взять его дочь замуж Вначале он подумал, что Александр Иосифович не знает всего положения вещей. Но когда убедился, что тот знает, какая богачка его невеста, полковник основательно усомнился в раздутых до небес городскою молвой умственных способностях Александра Иосифовича. А впрочем, будь он хоть и полоумным, лишь бы, как они, русские, говорят, бабу с возу, решил полковник. Не желая прослыть совсем уж безнадежным скаредом, он подарил молодым к свадьбе, кроме неизменной Библии, еще две-три дюжины разных полезных книг, пролетку на высоком ходу, но без лошадей, и крашеную горностаевую шубу, которая и без того по праву считалась собственностью Катарины, потому что принадлежала ее покойной матушке и передавалась в их роду по женской линии, согласно семейной легенде, с эпохи Гогенштауфенов.
Сбыв дочку с рук, полковник вышел в отставку и прежде Александра Иосифовича уехал из этого города. За сорок с лишком лет беспорочной службы он скопил приличное состояние, позволившее ему купить расстроенное имение в Малороссии для старшего сына и маленький шлосс в Курляндии для сына среднего, где и сам он рассчитывал поселиться и закончить дни свои. Младший же сын, как определил полковник, будет всю жизнь в войсках, и ему наследственное ни к чему. Если он окажется столь же трудолюбивым и рачительным, как его отец, то сможет и сам когда-нибудь купить и шлосс, и имение. Прежде чем окончательно перебраться в Курляндию, полковник еще два года провел в купленном им имении для старшего сына и из расстроенного, не зная ни отдыху, ни сроку, самоотверженными трудами своими, превратил его в одно из самых благополучных в губернии.
Еще в годы учебы на факультете, размышляя о своей возможной женитьбе, Александр Иосифович пришел к выводу, что, может быть, ему даже и не следует искать богатой невесты. Отцы-толстосумы таких невест, прежде всего, интересуются состоянием жениха, а уже после другими его способностями. Хотя он будь и семи пядей во лбу. А состояние Александра Иосифовича было более чем скромным. Почему он так и уповал на служебный рост, сулящий ему постоянное увеличение жалованья. Кроме того, женитьба на богатой невесте влекла бы за собою еще одно деликатное обстоятельство. Жена, привнесшая в семью сколько-нибудь существенное приданое, как бы обеспечивала по своим заслугам себе положение, если не над мужем, то, по крайней мере, вровень с ним. А это для Александра Иосифовича было категорически неприемлемо. Уже не говоря о том, что такие женщины бывают, как правило, чрезмерно расточительны.
Расчет Александра Иосифовича в отношении Екатерины Францевны оказался безошибочным. Екатерина Францевна была женой невзыскательною, скромною, хотя и с наследственным, вероятно, чувством собственного достоинства, многотрудчивою, бережливою. Она хорошо усвоила матушкины наставления о месте женщины в доме. И помнила всегда, что жена обязана повиноваться мужу, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос – глава Церкви. Екатерина Францевна, при полном сочувствии Александра Иосифовича, завела во всем очень строгий распорядок. Их обеды и ужины проходили всегда по самому торжественному чину даже если они не принимали гостей. Она не позволяла себе запросто зайти в святая святых дома – в кабинет мужа, – разве только по просьбе Александра Иосифовича или испросив прежде его позволения, чтобы прибраться там, например. Семейный гардероб, и в особенности костюмы Александра Иосифовича, она содержала в исключительной исправности. На его сюртуках не было ни малейшей потертости, ни складочки, ни пылинки. В должности он всякий раз появлялся, словно на приеме у генерал-губернатора.
От единственной дочки Екатерина Францевна требовала той же аккуратности и неукоснительного бонтона. Но особенно ярко проявилось ее уникальное сочетание художественной натуры и аскетического характера в убранстве квартиры. Кто-то из гостей сказал однажды, что их квартира наполнена роскошью пустоты. И это было верно подмечено. Екатерина Францевна очень тонко уловила главное жизненное правило Александра Иосифовича – быть не как все. Если бы она стала женой другого человека, то и ценности исповедовала бы другие. Но теперь правила Александра Иосифовича, естественным образом, стали и ее правилами. Он отличествовал в общественной жизни, а Екатерина Францевна преуспела в этом отношении в обустройстве дома. И настолько преуспела, что позже у нее появились апологеты. Их знакомые того же положения и достатка устраивали свои жилища по принципу как у других, не хуже прочих. А это подразумевало наполнение комнат до тесноты всякими вещами: «Беккером» в зале, «Беклином» в гостиной, «Буре» в столовой, гобеленами, пышными драпри, настенными блюдами, китайскими вазами и бронзами, где только возможно, мебелью, желательно ампиром и желательно заграничным, – в общем, всем тем, что придавало интерьеру тот стиль commeilfaut, в погоне за которым все сбились с ног. Но Екатерина Францевна не стала уподобляться другим. Конечно, некоторых предметов, таких как рояль, например, она не могла не завести. Но это были только необходимые вещи, особенной выделки и дорогие. Ни в коем случае не quasi. Каждую комнату Екатерина Францевна организовала таким образом, что, при видимой ее пустынности, отнюдь не казалось, будто там чего-то недостает. Вроде бы всего было в достатке. В других домах стены, как в галерее, завешивались беспросветно картинами, тарелками и прочими замечательными предметами, заставлялись статуэтками. А Екатерина Францевна приобрела для гостиной, например, подлинного Репина. Но уже, кроме chef-d'oeuvre'a, там не было ничего такого, что могло бы, в ущерб Репину, привлечь внимание. Даже мебель для этой комнаты она заказала с однотонным штофом, но зато у лучшего мастера.
Александр Иосифович настолько доверял умению жены распорядиться домашним порядком, ее вкусу, настолько полагался на ее способность безукоризненно, как он сам, выполнять любые заботы, что даже особенно не интересовался ее домоустроительною деятельностью. Это была единственная сторона жизни, где знала покой болезненная щепетильность Александра Иосифовича.
Где-то только лет через пятнадцать их супружества, по настоянию Александра Иосифовича, они взяли служанку. И не потому, что Екатерине Францевне стало теперь невмочь справляться со своими заботами. Александр Иосифович дослужился к этому времени до значительных чинов, и не держать прислуги им было уже просто неприлично. Вначале у них служила одна пожилая женщина, а потом им порекомендовали молодую совсем девушку Полю.
Кабинет Александра Иосифовича был самым мрачным в доме помещением и вторым, после зала, по величине. Александр Иосифович любил полумрак. Он с удовольствием сидел вечерами в кабинете и при свете одной только настольной лампы занимался бумагами или читал чего-нибудь. Его вдохновляли темные, бесконечно далекие углы, и в такие часы его посещали наиболее интересные мысли, которые он иногда записывал. Но, к слову сказать, писать какие-нибудь рассказики, как это он делал когда-то, Александр Иосифович давно перестал. При его положении, при его чинах, появляться в газетах в качестве сочинителя было уже несолидно.
Александр Иосифович, как обычно, сидел за своим грандиозным столом и просматривал вечерние газеты. Он самым внимательным образом следил за военными действиями на Дальнем Востоке. И не пропускал ни одного сообщения об этом. У него в кабинете давно, еще задолго до начала войны, висела большая карта Маньчжурии. И, прочитав какую-нибудь публикацию, Александр Иосифович обычно подходил к карте и долго и внимательно рассматривал ее.
За дверью раздался частый стук каблучков по паркету, едва проникающий, впрочем, в кабинет из-за толстых и тяжелых, как театральный занавес, портьер. Александр Иосифович отложил газету и откинулся назад в кресле. Как от дыхания ветерка портьеры качнулись, и из-за них выглянула очаровательная темненькая головка дочери.
– Поля сказала, ты звал меня, папа.
– A-а, иди-ка сюда, голубушка. – Он обнял дочку за талию, почувствовав, при этом, под платьицем недетское уже тело, и подставил, как было у них заведено, для поцелуя щеку. Таня с обычною нежностью поцеловала отца. А вот поцелуй ее был совсем детским. Так она его целовала и в десять лет, и в пять. – Далёко ли была, расскажи?
– У подруги сидели. У Нади. Ты же ее знаешь. Это совсем рядом.
– У подруги? Как интересно! – Александр Иосифович оживился, как от счастливой новости. – Ну расскажи, расскажи. Давно ничего не слышал о твоих подругах. Разве о Епанечниковой, что на пару с вашим гением Мещериным, кажется, собирается выжить нас из дому.
Таня тихонько рассмеялась. Правда, ее одноклассница и лучшая подруга Лена Епанечникова бывала у них нередко. Но Александр Иосифович не только не возражал никогда против этих посещений, напротив, приветствовал. Был у них этою зимой несколько раз и новый Танин знакомый студент-историк Владимир Мещерин. Александру Иосифовичу он показался симпатичным молодым человеком по целому ряду причин. Будучи дворянином и студентом Императорского университета, Мещерин производил на Александра Иосифовича впечатление весьма благоприятное и к тому же, очень забавлял его своим максимализмом и юношескою горячностью.
Александр Иосифович, может быть, и не вполне знал круг знакомств дочери. Но особенного беспокойства по этому поводу не проявлял. Потому что, по его мнению, ученицы гимназии, в которой училась Таня, в силу известной привилегированности этой гимназии, а также и их знакомые не могли оказать на нее какого-то дурного влияния. А интересоваться ими из одного только любопытства ему было недосуг. Но что касается упомянутой Нади, то Александр Иосифович в свое время знавал ее отца – покойного генерала Лекомцева. Не близко, правда, а так, что называется, на поклонах. Так же шапочно ему были знакомы и родители Лены Епанечниковой.
– Ну так расскажи, чем занимались? Не бесполезно ли ты потратила уйму времени со своими подругами? – продолжал Александр Иосифович. – Ступай сядь.
– Мы были у нее с Леной и Лизой Тужилкиной, – начала Таня, поудобнее устроившись на диван. – Посидели так… поговорили, почитали. У них замечательная коллекция эстампов и большой попугай. Он кричит: «Vivelarepublique!» [1].
– Да он настоящий якобинец! За такое могут и крылья подрезать. А Елизавета Андреевна что же?
– Ничего. Она относится к этому с юмором. Это она и надоумила Надю обучить его так кричать.
– Узнаю генеральшу. И что же, вы полдня слушали его вольнодумные речи?
– Нет, конечно, папа. Я же говорю: читали, разговаривали.
– О чем еще молодые девушки могут говорить друг с другом так подолгу, как не о женихах. Так ведь?
– А вот и нет. Об этом-то как раз мы говорим меньше всего.
– Будто бы?
– Верно, верно.
– В таком случае, я догадался – вы строите планы преобразования России. Это сейчас у молодых самый излюбленный вопрос.
Таня посмотрела на отца с удивлением, но без испуга. Да он и сам знал, что она не испугается ни его теперешнего шуточного намека, ни последующего прямого вопроса об ее недавнем участии в нелегальном кружке. Она вообще не умела смотреть испуганно, потому что за свои семнадцать лет жизни у нее не было причины еще чего-то всерьез бояться.
– Да, Таня, я знаю о твоем новом увлечении, – приступил к делу Александр Иосифович. – И если бы только один я знал. Но это уже и полиции известно. Мне об этом нынче рассказал Антон Николаевич. Я не спрашиваю о причинах. Догадываюсь, это что-нибудь радищевское: душа страданиями человечества уязвлена стала. Но, видишь ли, отчего же они думают, что бомбами можно помочь человечеству? Хлебопашец, простой наш русский мужик, темный, безответный, который нас с тобою кормит, который, кстати, и революционеров этих кормит, делает несоизмеримо больше их для облегчения человеческих страданий. Я не знаю, кто там у вас верховодит в этом кружке, но убежден, и ты, наверно, подтвердишь, что это какие-нибудь профессиональные бездельники, недоучки и крайне амбициозные личности, что часто является признаком неталантливости…
– У тебя есть какие-то обязательства перед этими людьми? – спросил Александр Иосифович, выдержав паузу, чтобы дочка лучше прониклась сказанным.
– Никаких. Если не считать, что некоторых из них я теперь знаю. А это уже кое к чему обязывает.
– Совершенно верно. Об этом я подумал. Твой революционный долг требует теперь поставить товарищей в известность о том, что о них знает полиция. И я по-человечески очень тебя понимаю. Но только для них, для ваших тертых кружковцев, это не будет новостью. Да-да, не удивляйся. Это вы, молодые карбонарии, думаете, что посещаете тайные собрания. На самом же деле большинство таких кружков существует вполне легально. Полиции не выгодно их арестовывать. Потому что, наблюдая за своими старыми знакомыми, им легче обнаруживать новых. Вот так, как обнаружили тебя. У них же все давно отлажено.
– А теперь, будь добра, расскажи мне об этой Тужилкиной, – продолжал Александр Иосифович, опять немного помедлив и снова позволяя дочке подумать над его словами. – Тужилкина, ты говоришь, ее фамилия, четвертой вашей подружки? Я знаю, она тоже была там с вами.
– Лиза учится в нашем классе…
– Она, кажется, не с начала у вас?
– Да, другой год только.
– И хорошо учится?
– Очень хорошо. Одна из лучших в классе.
– А кто ее родители? что за семья? ты бывала у них?
– Да, бывала несколько раз. У нее очень большая семья. Много сестер и братьев. Восемь человек всех. Лиза самая старшая из них.
– Хорошо. А кто родители? чем занимаются?
– Мама ее прежде была портнихою. А теперь преподает рукоделие в какой-то гимназии. Уже несколько лет. Потому Лиза и учится. А папа… он, кажется, был офицером. Но чем теперь занимается, право же, не знаю.
– Семейка!.. Послушай, Таня, а тебе не интересно знать, почему мне стало известно обо всем? Ну да, мне рассказал Антон Николаевич. А вот как в полицию попали сведения о вас, тебе не любопытно?
– И как же? – Таню бросило в краску в предчувствии какой-то жуткой неприятной новости.
– Детали мне не известны, но полиция узнала о вашем с Епанечниковой участии в кружке от этой самой Тужилкиной. Ты вот сказала, что не знаешь, чем занимается ее отец. А может быть, он тайный полицейский агент. И использует дочку в своих целях. У нее могли выведать это, наконец, и обманом. Каким-то образом заставить проговориться. Они хитры на выдумку. Те, кому это нужно. Имей и ты в виду. У них есть такие приемы, о которых мы даже не догадываемся. Нет, я ничего такого конкретного не утверждаю. Ибо я не располагаю никакими фактическими сведениями. Да и вообще меня мало интересует самый механизм ее гадкого доноса. Не все ли равно?
– Но верно ли ты знаешь, что полицию известила Лиза? – Таня была совершенно потрясена новостью.
– Тебе нужны доказательства?! Ну, прежде всего, самый факт моей осведомленности на сей счет многое доказывает. Согласись, кто-то, значит, да известил полицию. Не так ли? Ну зачем мне, скажи, наговаривать на несчастную Тужилкину, если бы это сделала Лена Епанечникова или тот же Мещерин, который, как ты знаешь, тоже там был и даже говорил свои умные речи? Не логично ли разве мое умозаключение?
Таня ничего больше не спрашивала у отца и не возражала ему. Слишком велико было ее потрясение от открывшегося коварства подруги, которую она искренне любила и очень доверяла ей. Тане даже не показалось странным, настолько она была обескуражена, отчего это логические умозаключения отца ограничиваются тремя только участниками той злосчастной сходки – Лизой, Леной и Мещериным. Ведь там присутствовало с дюжину человек.
– Ступай теперь, Таня. Ступай и хорошенько обо всем подумай, – сказал Александр Иосифович в заключение. – Я мог бы просто тебе запретить настрого впредь иметь с ними сношения. Но хотелось бы, чтобы ты еще и сама разобралась во всем. И, пожалуйста, имей в виду: я дал слово Антону Николаевичу, что больше никогда наша фамилия не будет упомянута в связи с какой бы то ни было незаконною деятельностью. Если же этому все-таки суждено будет случиться, то отец твой сделается человеком бесчестным. Не удивляйся тогда и не гневайся на того, кто обо мне так отзовется. Он будет прав. Мы сами попустили это. И нам по заслугам. Так ты подумаешь над тем, о чем я тебе рассказал?
– Я постараюсь, папа, – опустив глаза, отвечала Таня. Ее расстройству не было предела.
– Да уж постарайся, пожалуйста.
Таня вышла из кабинета отца с достоинством непокоренного узника. За ужином она вела себя тоже невозмутимо. Но уже в своей комнате дала волю чувствам – она, в отчаянии от коварного предательства подруги, заметалась из угла в угол, ломая руки, а упав затем в бессилии на кровать, до самого рассвета не сомкнула глаз, не в силах унять потрясения и волнения.
Глава 3
В четверг Светлой седмицы в доме купца и почетного гражданина Василия Никифоровича Дрягалова в Малой Никитской улице собрались гости – люди все больше молодые, по годам совсем не под стать хозяину. Сами себя эти люди называли социалистическим кружкоми собирались у Дрягалова уже не в первый раз. Для чего весьма состоятельный и немолодой уже человек, державший собственную колониальную торговлю на Тверской и еще с полдюжины разных магазинчиков по всей Москве, привечал социалистов, или, как он говорил, господ нигилистов,для чего давал деньги и укрывал их иногда, толком никто не знал. Иные из кружковцев объясняли это себе обычными причудами разбогатевшего до излишества человека из народа. Ему неинтересно уже швырять деньгами по ресторанам и на Трубной, скучно играть, путешествовать, он пресытился требующими многих расходов амурными приключениями или содержанием артисток. Так чем же ему еще развлечься? А вот, например, социализмом. Почему нет? Сейчас и почище Дрягалова толстосумы увлекаются социализмом. Разумеется, они понимают учение по-своему, по-мужицки, ненаучно, потому что думают, это они, как люди платящие, будут, в итоге, заказывать музыку. И пускай до поры пребывают в этом иллюзорном заблуждении. Пока они нужны, пускай себе думают что угодно. Сам же Дрягалов о своем участии говорил очень туманно, с присущими людям такого сорта экивоками. Говорил, что он за народ, за справедливость, чтоб все было по совести, по-божескии т. п.
Кружковцы в свою очередь вполне осознавали, что Дрягалов останется для них человеком инородным, поэтому посвящали его далеко не во все области своей деятельности. Если им необходимо было обсудить что-то особенное, выходящее за пределы дозволенного легальным социализмомначальника Московского охранного отделения, они встречались в других местах, менее удобных, но более потайных. И то не все встречались, а только самая кружковская верхушка. А у Дрягалова они собирались разве за тем, чтобы рассказать новичкам, из которых потом некоторые, далеко не все, разумеется, сделаются их верными последователями, рассказать им об общих социалистических принципах, о самой идее, без оглашения конкретных намерений, то есть исполнить то, что даже попускалось революцией на коротком поводке,как называл свой метод работы с социалистами начальник московского охранного отделения. Ну, может, с некоторыми незначительными вольностями. Поэтому, когда Александр Иосифович говорил Тане о легальной, по сути, сходке, на которой они с Леной, Лизой и Мещериным присутствовали, он не так уж и обманывал ее. В данном случае этого даже и не требовалось.
Дрягалов оказался в социалистическом движенииблагодаря последней своей любовной истории, произошедшей в позапрошлом году. Конечно, это был не самый праведный путь в революцию. А праведным, в понимании господ нигилистов, должен быть непременно путь peraspera [2]. И старые кружковцы, хорошо знавшие о романе Старикаи их бывшей сподвижницы, где-то даже смущались таким обстоятельством. Но, с другой стороны, это служило Дрягалову оправданием его участия в кружке, некоторой защитой от всех возможных подозрений. Хотя, как уже говорилось, в полной мере ему все равно не доверяли. А опасаться подозрений Дрягалов имел все основания, потому что с некоторых пор сделался сотрудником охранки. Но, так же как и для кружка, он и для охранного отделения особенной ценности не представлял, поскольку знал немного, да к тому же, на всякий случай, не все рассказывал, что и знал. То, о чем он доносил, являлось для охранного отделения сведениями малозначительными. По его словам, заседания кружка ничем не отличались от чтений для рабочих в Историческом музее, проводимых под патронатом самого охранного отделения. И так оно почти и обстояло. Единственная сколько-нибудь ценная информация от Дрягалова касалась новых членов кружка.
Два года тому назад Дрягалов нанял для младшего сына – воспитанника реального училища – учительницу французского языка, двадцатидвухлетнюю mademoiselle, исключенную когда-то из курсов за причастность к социалистической организации. Красавица-эманципанка Мария Носенкова последнее время перебивалась на кондициях по всей Среднерусской возвышенности. Ни в одном доме ее подолгу не держали, потому что стоило хозяевам заподозрить в ней социалистку, а она этого особенно и не скрывала, от места ей тотчас отказывали. Отвыкнув от домашнего уюта и встречая повсюду только бессердечие, цинизм, разврат, презрительное или, в лучшем случае, боязливое к себе отношение, Машенька, воспитанная в провинции бабушкой совершенною барышней, сильно ожесточилась. Она, прежде безответная, кроткая скромница, держала теперь себя вызывающе фривольно и изо всех сил старалась выглядеть независимою. В первый же день она заявила Дрягалову, что курит табак и впредь не намерена оставлять этого занятия. Дрягалов, а он, кстати, был старой веры человеком, от души забавляясь и не пряча улыбки, отвечал ей на это только изящным полупоклоном. В другой раз она едва не оскорбилась, когда Дрягалов вручил ей сумму большую, нежели должно быть по уговору. Она немедленно возвратила ему разницу, со всею строгостью заявив, что в милости она не нуждается. Однако, месяца три спустя, Дрягалов добился ее согласия принимать удвоенное жалование, мотивируя это феноменальными успехами сына во французском. А на Пасху под тем же предлогом, он подарил ей браслет с дорогим камнем. Первым порывом Машеньки было манкировать щедротами bourgeois. Но после минутного колебания здоровый социалистический рационализм взял верх над революционною щепетильностью. Машенька сказала, что возьмет браслет в том только случае, если Василий Никифорович не будет возражать против дальнейшего использования этого богатства на нужды организации, борющейся за права рабочих, которые, между прочим, уже стонут от непосильных трудов и нещадной эксплуатации всякими паразитирующими элементами. Дрягалов, изображая полное непонимание, о каких таких элементах идет речь, – где уж нам, деревенщине, понять изощренные интеллигентские намеки! – заверил ее, что она вольна распоряжаться игрушкой, как ей заблагорассудится. Заодно Дрягалов поинтересовался, а не может ли он быть еще чем-то полезен для умерения рабочего стона. Он вполне искренне сочувствовал нуждающемуся мастеровому сословию, но занимался этим, как сказали бы социалисты, ненаучно. Например, делал пожертвования в возглавляемое отцом Ананией Симоновским попечительство о недостаточных условиях фабричных и заводских рабочих Рогожской части. Неоднократно оплачивал, устроенные церковью же, обеды для рабочих. На свой счет обеспечивал одну церковно-приходскую школу, в которой учились преимущественно дети фабричных, книгами и тетрадями. Позже, когда Дрягалов стал уже членом кружка, товарищи ему указали, что такого рода благотворительность не только не решает рабочих проблем, но еще и мешает им – социалистам – в их деятельности. Своими пожертвованиями Дрягалов и ему подобные убаюкивают рабочий люд и отвлекают его от настоящей, научно-обоснованной, под руководством социалистов, борьбы за свои интересы. По науке Дрягалов должен был не напрямую, а тем более не с помощью церкви, помогать нуждающимся пролетариям, а делать это через посредничество социалистической организации, которая лучше знает, что нужно рабочему человеку. Все это и многое другое Дрягалов узнал потом. А пока он предложил строгой mademoiselle свое посильное участие в благородном деле помощи страждущим. Помимо филантропии, Дрягаловым двигало еще и обыкновенное любопытство. Ему как человеку алчущему и жаждущему правды, очень уж занятно было узнать, что это за нигилисты-социалисты такие, о которых так много опять заговорили, совсем как в восемьдесят первом году: что, если и верно – они владеют истиной, а мы пребываем во мраке невежества? Дрягалов человеком был во всех отношениях ловким и оборотистым, и не годилось ему отставать от жизни. А что, как это направление общественной мысли окажется перспективным? Он все обязан предусмотреть.
Такое предложение Дрягалова Машеньку не могло не насторожить. А что, если это провокатор? Сейчас он прельстит организацию своею казной, а после выдаст всех с головою полиции. Но и отказывать она не стала спешить, потому что хорошо знала, как нуждаются многие ее соратники-социалисты. Она ответила Дрягалову, что должна прежде посоветоваться с товарищами. Товарищи отнеслись к предложению Дрягалова более чем благосклонно, но решили вперед проверить его. Они сразу, через Машеньку, попросили у него семьсот пятьдесят рублей и велели объяснить ему, что сумма эта необходима на нужды типографии, и, как бы невзначай, упомянуть о местонахождении типографии. Разумеется, никакой типографии там не было и в помине. Там жила одна надежная старушка, у которой кружковцы иногда, очень редко, собирались. Если вблизи этого дома, рассуждали они, теперь будут замечены какие-то темные личности, а тем более если туда нагрянет полиция, то дело ясное – Дрягалов провокатор. Если же нет, то и в этом случае в полной мере доверять ему не следует. С такими людьми всегда надо быть настороже. Прошло месяца два, старушку никто не потревожил, при этом настоящая типография работала на полную мощность, и полиция вовсю охотилась за ней, и доверие к Дрягалову несколько упрочилось. И однажды Машенька спросила его, а нельзя ли им в ближайшее время провести здесь заседание. Дрягалов с охотою позволил. И с тех пор господа нигилисты собирались в его доме довольно-таки часто. Им было очень удобно и выгодно устраивать у него свои собрания. Прежде всего, это почти не представляло для них опасности, потому что роскошный особняк Дрягалова как бы одним видом своим уже исключал возможность присутствия здесь социалистов. Кроме того, к Дрягалову по делам торговым без конца приходили владельцы или управляющие заведений, с которыми он был в деловых сношениях, а также разные маклеры, оптовики и прочие коммерческие люди. Иногда целыми группами. И несколько новых людей в этом всегда многолюдном доме ни у кого не могли вызвать подозрений. Наконец, всякое их собрание у Дрягалова проходило под приличный ужин. Для некоторых это была чуть ли не единственная возможность хорошенько поесть. Они так и жили от собрания до собрания у Старика.
Но была у Дрягалова, кроме любопытства и филантропии, и еще одна причина, приведшая его в кружок социалистов. И появилась эта причина одновременно с приходом в дом учительницы для сына. Дрягалов не на шутку увлекся Машенькой. А вернее сказать: полюбил ее крепко. Влюбляться в красавиц, бывших моложе его на четверть века, ему случалось и раньше. Речь, разумеется, не идет о любви, приобретаемой в местах вроде Трубной площади. Он вообще избегал такого рода Любовей. Но этот случай был совсем не похож на все прочие. Потому что сама Машенька ни на кого не была похожа. Дрягалов впервые повстречал женщину, равную ему по силе духа. Женщину, которую он не смог бы подчинить себе одною только волей своею, разве умом или хитростью. Вообще, нужно сказать, Дрягалов по натуре был страшным деспотом. Он не заводил специально в доме каких-то особенных патриархальных порядков, но сложилось как-то само собою, что вокруг Дрягалова все по струнке ходили. Он никогда не бранился, не кричал, но стоило ему грозно остановить взгляд своих черных, как у колдуна, глаз на провинившемся работнике, у того тотчас ноги подкашивались от ужаса, и он бы принял как награду хорошую зуботычину вместо такого леденящего душу магнетизма. Новые люди, появлявшиеся у него в доме, всегда поначалу принимали Дрягалова за вдовца. И очень удивлялись, когда узнавали, что он женат. Ведь всегда же, в любом доме, среди домочадцев можно распознать хозяйку, даже если муж не представляет ее гостям. Должна же она как-то выделяться, статью какой-то особенною, что ли, положением. Наверное, так и должно быть. Но только не у Дрягалова. Его жена, темная совсем и безропотная женщина, практически неразличимая среди домочадцев, женой приходилась Дрягалову, в сущности, лишь по факту венчания. Многие уже годы она вела настоящий монашеский образ жизни. Незнакомые принимали ее обычно за приживалку-черницу, какие испокон водились в купеческих домах. Она жила исключительно замкнуто в отдельной мрачной комнате, в которой сутками горели лампады, потому что боголюбивая обитательница и по ночам вставала на молебен. Давно поняв, что является обузой жизнеобильному мужу, она попросила отпустить ее в монастырь. Дрягалов подал владыке разводную. Но такие дела тянутся долго, – в консистории отвечали, что без разрешения Синода вопроса не решить. А в Петербурге, видно, и без московского купца хватало забот. Одним словом, развод затянулся. Так они и жили. В общем-то, не мешая друг другу. С Дрягаловым жена практически не разговаривала. За исключением редких случаев, когда он сам у нее о чем-то спрашивал. Тогда она отвечала очень коротко и торопливо. Прочие домашние держали себя еще более кротко, подчас до подобострастия. Для большинства домочадцев даже не взгляда Дрягалова было достаточно, чтобы понять его настроение или желание, а единственно выражения затылка или спины хозяина. Стоило им заметить, что спина Василия Никифоровича как будто недовольна чем-то, люди со всех ног бросались чего-нибудь делать. Все равно чего. Лишь бы не оставаться праздными в эту страшную минуту. Дрягалов на собраниях своих нигилистов узнал как-то, что существующий в России в некоторых случаях тринадцатичасовой рабочий день считается бесчеловечною эксплуатацией личности. Он только усмехнулся тогда незаметно, потому что его рабочий день редко когда не доставал до шестнадцати часов. И, конечно, все в доме трудились не меньше. В устройстве их дома не могло быть таких явлений и понятий, как женская половина, покои жены или даже детская. Здесь всё, решительно всё, до самого колокольчика на двери, принадлежало одному только человеку – хозяину.
В свое время родителю Василия Никифоровича понадобилась в хозяйстве еще одна работница – и лучше, если даровая, – и он женил сына. Ни о каких Любовях не было и речи. Жениху тогда шел девятнадцатый год, а невесте – пятнадцатый. С тех пор прошло уже без малого тридцать лет. Из двенадцати их детей в живых осталось двое. Старший из них, Мартимьян Васильевич, человек тяжелобольной, жил отдельно во флигеле. Говорили, что дни его сочтены, и не сегодня завтра он прикажет долго жить. Но шли дни, годы, а Мартимьян Васильевич все сидел у себя во флигеле. Несколько лет тому назад Дрягалов, отчаявшись помочь сыну обычным врачеванием, пригласил к нему знахаря. Как уж там пользовал этот знахарь своего болящего, не известно, но факт, что Мартимьян Васильевич, вопреки всем предсказаниям, оставался по сию пору в живых. А младший сын Дрягалова, Дмитрий Васильевич, не в пример своему несчастному братцу, был малым очень крепким, живым и к тому же со способностями к наукам. И, кстати, очень похожим на батюшку. Похоронив стольких детей, Дрягалову впору бы отчаяться. Но, вспоминая всякий раз, что у него есть Димитрий, он только еще более укреплялся духом.
С появлением Машеньки Дрягалов почувствовал еще больший душевный подъем. Ему открылось вскоре самое существо этой девушки. Он понял, что Машенька в душе не ровня всем этим революционерам-социалистам. Но она целенаправленно, идейно, приносит себя в жертву. Это так по-русски. И социализм стал для нее средством. Так же как она верна сейчас этому гнусному кружку, думал Дрягалов, она может быть верна и другим ценностям, стоит только помочь ей опознаться.
После того как Дрягалов вошел в организацию, их отношения с Машенькой сделались куда как доверительнее. Более того, он заметил, что она стала как будто добрее к нему, будто у нее появились к нему какие-то симпатии. Но только симпатии эти, увы, не могли быть для Дрягалова лестными. Это напоминало жалость к недалекому человеку, который всем хорош: и добрый, и сильный, и даже не по происхождению благородный, но на беду свою все так же недалек умом. Уж, во всяком случае, его интеллектуальные способности не шли ни в какое сравнение со способностями некоторых их кружковцев. Такое несправедливое о себе мнение Дрягалов переменил быстро и, надо сказать, эффектно. Он поразил всех, и в первую очередь Машеньку, на очередном их заседании.
Тогда в Москву приехал один известный киевский социалист, чтобы выступить перед московскими товарищами с программным докладом по земельному вопросу. Он был известен в партии как крупнейший теоретик и непревзойденный полемист. И кружковцы приготовились его смиренно выслушать, абсолютно не имея в виду противопоставить какие-то свои идеи по данному вопросу. И не потому, что идей не было. Но все знали, как не в их пользу будет любая дискуссия с этим мастером полемики. А рисковать своим авторитетом никто не хотел. Народу собралось послушать киевлянина необыкновенно много. Присутствовали и члены из других кружков. Прежде всего докладчик плотно закусил, причем выпил и рюмочку, затем галантно поблагодарил хозяйку и приступил. Хозяйкой на собраниях у Дрягалова, разумеется, считалась Машенька, поскольку она жила в этом доме. Такой постановке Дрягалов только обрадовался. Она годится в хозяйки, решил он, пускай так и будет, коли уже повелось. Сам он сидел обычно в сторонке от общего стола и никогда не высказывался. К тому же никто здесь и не нуждался в его высказываниях. Дрягалов был нужен кружку, как известно, совсем для другого.
Киевский гость говорил с час. Закончив, он небрежно, только потому, что так было заведено, поинтересовался, нет ли у товарищей каких-либо возражений, вопросов. И тогда Дрягалов вдруг заявил, что у него имеются возражения. Все с удивлением на него оглянулись. Не оглянулась одна только Машенька. Она опустила голову, чтобы спрятать глаза, потому что предчувствовала совершенный конфуз Дрягалова. Кто же тянул вас за язык, Василий Никифорович? Но Дрягалов, к еще большему удивлению присутствующих, выдвинул несколько очень существенных возражений. Земельный вопрос вообще не был ему таким уж чуждым. Дрягалов сам был крестьянского роду. Первые свои четверть века жил на земле. Да и сейчас по делам торговым часто выезжал на сельские ярмарки, бывал в деревнях, то есть знал положение в современном российском земледелии не понаслышке. Киевский полемист, учуяв легкую добычу, бросился в бой. Он засыпал Дрягалова новыми громоздкими теориями. Но все его цветистые теоретические построения, авторитетные ссылки на швейцарский и голландский опыт тотчас опровергались приведенными Дрягаловым фактами из жизни русской деревни. Причем Дрягалов обнаружил редкостную память, разбирая доклад по косточкам, не имея под рукой тезисов, а также подкрепляя свои многочисленные факты названиями десятков волостей, деревень, именами конкретных людей. И примеры его были столь убедительны, что киевлянин вынужден был прекратить полемику. Репутация его сильно пошатнулась. Он занервничал. И срывающимся голосом оскорбленного заявил, что теория идет всегда впереди фактов: мы живем будущим, а не настоящим! его идеи лучше всего поймут потомки! Дрягалов только улыбнулся, но ничего больше не отвечал. Ему наскучило с ним разговаривать, и он опять затих в своем кресле у стены. Он умышленно не глядел теперь на Машеньку, чтобы не дать ей повода подумать, будто он красуется перед ней. Вот, дескать, какой я есть, посмотри. И он не видел, но знал наверно, что Машенька уже давно не спускает с него огромных удивленных и восхищенных глаз: вот так лавочникее недалекий! Кстати, собрание не поддержало позиции докладчика, сформулированной в его выступлении. Слишком уж убедительными были возражения оппонента.
С тех пор мнением Дрягалова, особенно по земельному вопросу, кружковцы стали интересоваться и сами просили его высказываться в некоторый случаях. Но Дрягалов и раньше уже начал разочаровываться в своих нигилистах, а после случая с киевлянином окончательно определился. Многое ему стало ясно: просто приспосабливаются молодцы, лучшей себе доли ищут. Это их право, конечно. Только путь-то они избрали праведный ли? Да и можно ли ожидать праведности от черты оседлости? Из кружковцев русскими людьми были только Машенька да еще три-четыре человека. Поэтому Дрягалов их так и прозвал – черта оседлости.
После памятного выступления Дрягалова Машеньке сделалось у него как будто немного неловко. До такой степени Дрягалов оказался не тем, кем она его себе представляла. И в определенном смысле его успех в кружке обернулся откатом в улучшающихся отношениях с Машенькой. К тому же она стала догадываться о чувствах Дрягалова. С ней и самой уже происходили некоторые удивительные превращения. Если бы ей сделались ясными чувства Дрягалова месяца три назад, нет, она бы все равно не оставила этого дома, но только потому, что так было нужно организации. Теперь же она не могла его оставить еще и потому, а вернее в первую очередь потому, что это причинило бы боль конкретному человеку. Это была уже не давешняя жалость к Дрягалову – доброму, но недалекому. Это была, по крайней мере, симпатия к умному и надежному мужчине. Кроме того, она, видя, насколько не чает в ней души ее ученик Дима, сама очень к нему привязалась. Одним словом, ее ожесточившееся было сердечко начало понемногу оттаивать, согретое сугубо чистою любовью ребенка и нежным отеческим отношением к ней его необыкновенного родителя.
В июле, на Марию Магдалину, Дрягалов подарил Машеньке корзинку цветов и тонюсенькое золотое колечко с бриллиантовою капелькой. И попросил ее не поступать с колечком так же, как с тем браслетом. Если необходимо, он готов взамен передать организации существенно большую сумму. Машенька тут же надела колечко на пальчик и больше не снимала его никогда. Она сама себе удивлялась. Что это с ней происходит? Ведь у него семья. Да и она как будто невеста.
Машенька в самом деле не знала, считать ли кружковца Якова Руткина настоящим своим женихом. Она его любила не более, чем весь остальной кружок. То есть беззаветно. Этак она и самую жизнь свою не пожалела, если бы это потребовалось товарищам. Такова была ее любовь к кружку и к отдельным его членам.
Как-то само собою и незаметно в кружке стали считать Якова Руткина и Машеньку женихом и невестою. Так было нужно для общего дела. Их брак мог принести какую-то пользу потому что это давало Руткину, а значит, и всем какие-то преимущества в чем-то. Машенька совсем даже не думала, будет ли она счастлива с этим Руткиным. При чем здесь ее счастье, когда все они служат высшим целям, и все они, каждый по-своему, приносит себя в жертву. И она спокойно ждала, когда кружок ее выдаст замуж. И это непременно произошло бы. Но Дрягалов вовремя распорядился. Узнав, какую именно роль в жизни Машеньки уготовано сыграть этому пучеглазому, с грязными ногтями, нигилисту, Дрягалов стал повнимательнее к нему присматриваться. Нетрудно было заметить, что случись Руткину более выгодная партия, он, конечно, предпочел бы ее Машеньке. Ему бы жену с порядочною годовою рентой, а то и имением. Он бы тогда уехал в Женеву или в Париж и основательно, наконец, занялся русскою революцией. Но выбирать особенно не приходилось. Да и Машенька была не таким уж плохим вариантом. Со своими-то способностями она вполне могла избавить его, Руткина, от невыносимых забот по добыванию насущного хлеба и предоставить ему заниматься проблемами социализма. А там видно будет. До появления в кружке Дрягалова с его тысячами, а это произошло опять же благодаря Машеньке, Руткин, не имея больше никаких способностей, подметал по утрам в парикмахерской и страшно тяготился этим занятием.
Когда Дрягалову открылась натура этого типа, он решился поговорить с ним без околичностей. Чтобы об этом не проведали кружковцы или, того хуже, не узнала Машенька, Дрягалов, улучив момент, пригласил его якобы по важному делу в свой магазин. В установленный срок Руткин явился, и Дрягалов ему безо всяких намеков и без лишних слов объявил, что любит Машеньку. Руткин вначале испугался даже. В замигавших его глазах угадывался крик отчаяния: а как же я?! Но тотчас он сообразил, что у него-то прав на Мариюпобольше. Она его общепризнанная невеста. Да она и сама не посмеет теперь подло отказать ему и переметнуться к другому. И к кому? – к денежному мешку! Какая же ты после этого революционерка! Нет, нет, все еще не так худо: мы, господин Дрягалов, люди, конечно, небогатые, магазинов, как некоторые, не держим, но цену себе знаем и достоинства собственного не теряем ни при каких обстоятельствах! В общем, Руткин овладел собой и напустил на себя насколько возможно брезгливый вид, свидетельствующий о его безмерном презрении к человеку, покусившемуся на самое его дорогое и сокровенное. Но Дрягалов приблизительно такой его реакции и ожидал. Этот народец завсегда вначале ломается, потом торгуется, а потом и покупается, подумал он. «Ты, сударь, – сказал он Руткину, – сетовал давеча, что не в состоянии выехать за границу для ближайшего знакомства с новыми методами европейских социалистов. А что бы ты сказал, если бы я выдал тебе теперь безвозмездно необходимую для этого сумму?» Руткин деловито помолчал. Дешево ты от меня не откупишься! – подумал он с удовольствием и состроил вид, будто прикидывает, сколько и на что ему потребуется денег. Это были самые упоительные мгновения в его жизни. Он впервые назначает цену. И продает то, что, по сути, ему не принадлежит. Вот так удача тебе вышла, Яша! Ежели Старик и в самом деле влюбился в нее до беспамятства, а в их возрасте это, говорят, случается, то, надо думать, он не поскупится. Руткин назначил ошеломительную, по его мнению, сумму и приготовился уже сделать скидку, в случае, если Дрягалов найдет ее непомерно завышенною. Но торговаться ему не пришлось. Дрягалов сразу же выдвинул ящик стола, достал оттуда две красные пачки, положил их перед опешившим Руткиным и сказал: «Поторопись с отъездом». Руткин почувствовал себя на пороге новой светлой жизни и задрожал. Он забрал деньги и, не проронив больше ни слова, поплелся к двери. И когда, одного шага не доходя до двери, он услышал позади себя голос Дрягалова, Руткин присел даже от испуга, решив, что тот передумал. «А не кажется тебе, что нашу сделку надо бы скрепить распискою?» – сказал Дрягалов. Взяв в толк, что от него требуется, Руткин с лихорадочною поспешностью принялся засовывать непослушными пальцами деньги в карман, причем уронил одну пачку на пол, но все-таки управился не без труда и опять сел за стол. Дрягалов положил перед ним лист бумаги и пододвинул чернильницу с пером. «Пиши: Начальнику Московского охранного отделения донесение…» Руткин вскочил так резво, что с пера на чистый лист слетела сочная капля чернил. «Да вы смеетесь, наверное, надо мной? – зашипел побелевший как полотно Руткин. – Что все это означает? Я не позволю над собой…» – «Это означает, – оборвал его Дрягалов, – что у меня нет ни малейшего основания тебе доверять. Сейчас ты напишешь в охранку донос на всех своих товарищей по кружку, в том числе и на меня, если угодно. Это будет лучшею гарантией, что ты не вернешься больше по своему усмотрению ни в Россию, ни тем более в Москву. Натурально, бумага эта никогда не попадет в охранку, потому что, согласись, мне она нужнее, чем им». Руткин колебался, глаза его растерянно бегали, руки дрожали. Тогда Дрягалов в бешенстве рванул ящик, доверху набитый тесно прижавшимися друг к дружке пачками. Схватил еще одну и швырнул ее Руткину. «Пиши! – рявкнул он и положил перед полуобморочным революционером чистый лист. – Начальнику Московского охранного отделения… Да не тряси ты руками, как впервые употребивший гимназист. Почерк должен быть похожим на все твои предыдущие записки. Старательнее выводи закорючки. Вот так-то». Руткин закончил, вынул грязный платок и принялся растирать грязный же пот по лицу и шее. Революционером он больше не был. «А ты не находишь, – спросил Дрягалов, убирая бумагу в сейф, – что кое-кому может показаться странным, откуда у меня-то этот донос взялся? Если, конечно, мне когда-то им придется воспользоваться, чего, надеюсь, не понадобится». Руткин плохо уже соображал, о чем идет речь. Но все-таки утвердительно кивнул головой. «Сделаем так, – продолжал Дрягалов приказным тоном, – будто ты забыл его у меня дома на последнем вашем заседании вместе с какою-нибудь книгой. В книге он у тебя лежал: и ты оставил, по беспамятству, и то, и другое. По-моему, все очень складно выходит. Какие у тебя там есть книги – Тора? Талмуд?..» – «Капитал!» – взвизгнул Руткин. «Вот и славно. Забудешь, стало быть, Маркса. Это будто и кстати выходит. Книгу передашь с моим приказчиком. Я пошлю приказчика сейчас с тобой».
Руткин покрутился в Москве еще с полмесяца и пропал. Один из кружковцев рассказывал потом, что незадолго до его исчезновения он видел, как Руткин выходил из Лубянского пассажа с большим новым чемоданом. Но, помня о конспирации, он к Руткину не подошел и вообще сделал вид, что ничего не заметил. Бегство Руткина заставило кружковцев принять дополнительные меры предосторожности. Они перестали до поры собираться в полном составе и сносились между собою по цепочке. Но время шло, ничего такого экстраординарного, вроде арестов, засад, облав и подобного, не происходило, они немного успокоились, осмелели и снова стали, вначале по трое – по пятеро, а потом числом все больше и больше, собираться в уютном доме Дрягалова.
Особенное значение этот случай имел для Машеньки. Оставшись вдруг без жениха, она, не без некоторого удивления для себя, почувствовала радость вновь обретшего волю. Она раньше и не думала, что это может иметь для нее какое-то значение. Она заставляла себя всегда руководствоваться единственно интересами организации и старалась не обращать внимания на то, что сердце противится будто бы некоторым ее поступкам или намерениям. Теперь же она была от души счастлива от несостоявшейся женитьбы, но вместе с тем не понимала до конца, что такое у нее творится на сердце, отчего в нем такая необычная новая тревога.
Чем бы ни увлекался Дрягалов, любовью ли, социализмом ли, как теперь, или чем еще, он никогда не забывал о главном – о своей торговле. Чтобы оплачивать всякие увлечения и развлечения, он должен был вперед всего позаботиться о прибытке. И он трудился ради этого, не зная устали. Дрягалов давно уже замыслил открыть такой же магазин, как в Москве, а может, даже и побольше, еще и в Петербурге. Для этого он отправил в свое время в Петербург доверенного, чтобы тот нашел там подходящее помещение и устроил его соответствующим образом. Вскоре после случая с Руткиным доверенный телеграфировал ему, что магазин он подыскал и уже вполне устроил его.
Открывать новый магазин в столице Дрягалов вознамерился лично и начал собираться в дорогу. Он решил взять в Петербург Дмитрия, чтобы тот начинал ближе узнавать дело, которое ему предстояло наследовать, и попросил поехать с ними Машеньку. На открытии магазина, сказал Дрягалов, будут присутствовать заморские негоцианты, с которыми он намерен впредь завести сношения, и Машенька могла бы очень ему услужить в беседах с ними. Сам-то Дрягалов по-иностранному не умел. Машенька только обрадовалась такой поездке. Она и так больше года никуда из Москвы не выезжала. А кроме того, Петербург, как город ее курсистской юности, был ей по-особенному дорог. В общем, все обрадовались этой поездке. Но более всех счастлив был Дрягалов. И на радостях он подарил Машеньке очень занятную вещицу. Он знал, что его юная воительница, грезившая, как все социалистки, славою Брешковской и Фигнер, от этой вещицы придет в восторг и, наверное, спать с нею будет, как ребенок с новою куколкой. Дрягалов подарил ей маленький браунинг. Подарок для Машеньки был настолько неожиданным, что она вначале немного растерялась, не понимая как бы толком, что это такое у нее в руках. Но когда ей открылось значение этого предмета, она действительно пришла в неописуемый восторг и в порыве поцеловала Дрягалова.
Через несколько дней они выехали в Петербург. Дрягалов всю дорогу был весел и остроумен. Он шутил с Димой, называл его петербуржцем и предводителем депутации. И со старосветскою учтивостью ухаживал за мадмуазель Марьей Лексевной, постоянно при этом порываясь налить ей шустовского. Машенька вместе с Димой весело смеялась над разгулявшимся Василием Никифоровичем и от коньяка всякий раз отказывалась.
В Петербурге прямо с вокзала Дрягалов с Димой поехали взглянуть на новый магазин. Машенька же с ними не поехала. Дрягалов попросил ее пойти в «Балабинскую» и нанять два номера – для себя и для них с Димой.
Роскошь, с которой был отделан магазин, превзошла все ожидания Дрягалова. Московский его магазин, считавшийся одним из лучших в городе, теперь казался ему захолустною лавочкой. Выбритый с тщательностью германца, тонкий, как жердь, с походкой аиста, управляющий в белом фраке и перчатках водил Дрягалова вдоль прилавков и витрин, с выставленными на них в бесчисленном множестве диковинными заморскими и русскими товарами, и рассказывал, как он намерен повести дело, чтобы приносить хозяину наибольшую пользу. Все было устроено так основательно, по-хозяйски, так разумно, что Дрягалову, ехавшему дать последние указания к завтрашним торжествам, решительно нечего было дополнить. Он только сказал управляющему, чтобы утром в зале стояла большая икона Богородицы с зажженною лампадой. Такого восторга Дрягалов давно не испытывал. С тех самых пор, пожалуй, когда он приобрел скромный прилавок в Охотном ряду – это стало его первым собственным делом.
По дороге в гостиницу он велел извозчику остановиться у Казанского собора и раздал всем нищим, сколько их там было, по целковому. В гостиницу Дрягалов приехал в великолепном настроении духа. Он размышлял, какой ужин даст сегодня для Машеньки и Димы, и заранее улыбался, предвкушая их потрясение.
Дрягалов прошел к стойке портье и, почти не глядя на него, спросил, в котором номере остановилась госпожа Носенкова, прибывшая нынче утром. Портье ответил не сразу, а лишь после непродолжительной паузы. Почему-то очень тихо, едва ли не шепотом, он справился, а по какой господа надобности к ней. Это заставило Дрягалова, наконец, выйти из экзальтированного состояния и сосредоточиться на собеседнике. И лишь только он внимательнее рассмотрел портье, лишь заглянул ему в глаза, земля под ним зашаталась. Ему не нужно было слов. Он понял, что с Машенькой произошло что-то страшное. И, натурально, этот полицейский агент все знает. Усилием воли Дрягалов овладел собой. Он представился портье по полному чину и показал свои документы. Взгляд портье стал чуточку участливее. Дрягалов вынул из кармана красную бумажку и положил ее на стойку. Портье нежно слизнул ее ладошкой и сказал, что особу, о которой идет речь, арестовали утром на этом вот самом месте. Никакие подробности ему не известны. Когда портье заикнулся о подробностях, Дрягалов, наверное, мертвенно побелел, потому что собеседник вдруг испуганно умолк. А Дрягалову было отчего побелеть. Он в эту секунду вспомнил о браунинге. Как же он давеча не подумал предупредить ее не брать с собою пистолета ни в коем случае?! Что, если она его взяла? Это конец тогда! Это же крепость Шлиссельбургская! Дрягалову требовалось хоть сколько-нибудь времени, чтобы обдумать, как ему действовать дальше. Прежде всего, необходимо было избавиться от портье. Что ему красненькая! Он и красненькую возьмет, и в полицию доложит. И тогда Машеньку будет выручить куда как сложнее. Дрягалов громко, так, чтобы все слышали, спросил, где у них в городе охранное отделение. Теперь уже побледнел портье. Он нагнулся через стойку к Дрягалову и зашептал, что никогда этого не знал, и посоветовал зайти в полицейский участок, который находится здесь рядом.
В Петербурге Дрягалову решительно не к кому было обратиться за помощью. И он подумал, что больше пользы Машеньке он сможет принести из Москвы. К тому же ему там было необходимо проверить одно весьма важное обстоятельство. Выйдя из гостиницы, Дрягалов прямиком пошел на Московский вокзал. И вскоре они с Димой уже мерно покачивались в первом классе. Дрягалов заказал опять шустовского, но на этот раз даже не притронулся к коньяку.
Прежде всего, ему необходимо было выяснить, взяла ли Машенька с собою пистолет. От этого зависели все его дальнейшие поступки. Он примчался домой, с досадой отметив, что петербургские лихачи и опрятнее московских, и быстрее возят, и бросился в комнату Машеньки. При других обстоятельствах Дрягалов посчитал бы последним грехопадением одно его намерение порыться в ее вещах. И только великая нужда заставляла его теперь делать это. Он осмотрел ее сундучок, шкатулку с фальшивыми украшениями и письмами, ящики комода, ощупал ее шубку, пальто, сапожки. Пистолета не было. Дрягалов опустился на стул. Он подумал, куда бы сам спрятал его, окажись на месте Машеньки. Он вскочил и с еще большим усердием возобновил поиски. Заглянул на гардероб, за трюмо, за икону, вновь осмотрел сундучок – не с двойным ли он дном у нее? Окончательно отбросив всякую щепетильность, он перевернул и всю Машенькину постель. Пистолета решительно нигде не было. События, кажется, развивались хуже некуда! Дуреха взяла браунинг с собой. В чем ее теперь могут обвинить? Уж не с целью ли покушения на высокопоставленное лицо какое или на самого государя она приехала в столицу? Больше медлить было невозможно. И Дрягалов решился на отчаянный поступок. Он пошел в Гнездниковский переулок. Начальник Московского охранного отделения, даже по мнению самих кружковцев, не раз ими высказанному на собраниях, был большим либералом. Это все-таки давало Дрягалову хоть какую-то, пускай самую призрачную, надежду. Ничего другого ему больше не оставалось.
Дрягалов подъехал к охранному отделению в лучшем своем экипаже, заложенном парою тонконогих с отливом вороных. Егорке, своему кучеру, он велел надеть плюшевый жупан, расшитый шнуром, и новый картуз и вообще показать сегодня всю свою удаль. Егорка не посрамил ожиданий хозяина. Промчал его Москвою с ветерком и у охранки осадил так лихо, что Дрягалов услыхал, как во втором этаже сразу же с любопытством скрипнуло оконце.
Он вошел в плохо освещенное, крайне неуютное помещение, выкрашенное в грязно-желтый цвет. Перед ним тотчас вырос непредставительного вида статский, ширококостный, рябой, с недобритыми возле ушей кустиками волос, человек лет пятидесяти. Глядя на него, Дрягалов невольно вспомнил своего блестящего петербургского управляющего. Он подал статскому свои документы и сказал, что ему срочно по очень важному делу необходимо видеть господина начальника. Статский просил подождать, пока он доложит, и удалился. Через несколько минут он вышел и пригласил Дрягалова следовать за ним. Он привел его в просторный кабинет во втором этаже, в котором, под портретом государя, сидел тоже статский, но очень симпатичный, моложавый и благородный лицом и осанкой человек. Перед ним на столе лежали бумаги Дрягалова. Он жестом показал вытянувшемуся рябому, что тот может быть свободен, и предложил Дрягалову садиться.
Чиновник представился Викентием Викентиевичем – и ничего более сообщить о себе визитеру не посчитал нужным. Они беседовали довольно долго. Острый ум и не подводившая никогда интуиция сразу же подсказали Дрягалову, что этот чиновник о нем знает больше, чем должно быть известно человеку, ознакомившемуся только с его документами. Логики Дрягалов не изучал, но сообразил, что собеседнику, вернее всего, в какой-то степени известно о его участии в кружке. Собственно, какую там еще логику надобно знать, чтобы догадаться, что за сведения о нем могут быть известны чиновнику этого учреждения. И Дрягалову теперь ничего не оставалось, как только опередить его и самому объявить о своем преступлении. Он так и сказал чиновнику, что он уже около года является членом социалистического кружка, который, впрочем, кроме переливания из пустого в порожнее, насколько он сумел понять, ничем больше не занимается. Но речь в данном случае не о нем. После этого признания и до конца их разговора глаза чиновника уже не переставали поблескивать улыбкой. И Дрягалов не без удивления почувствовал его к себе благорасположение. «Но, полагаю, господин Дрягалов, – сказал Викентий Викентиевич, – вас привела сюда не острая потребность выдать кружок, а, по всей видимости, какие-то совсем иные обстоятельства. А что касается вашего членства и вашей роли, то нам это давно и хорошо известно. И смею утверждать, как это ни странно вам покажется, ваша роль в чем-то даже небесполезна для нас. Но сделайте милость, изложите, с чем вы пожаловали». Дрягалов рассказал о Машеньке все как есть, разве не упомянул на всякий случай о пистолете. Чиновник выслушал его с огромным интересом и заключил, что все это очень похоже на недоразумение. Скорее всего, ее арестовали по ошибке, может быть, приняли за другую, во всяком случае, это какая-то роковая случайность. Если и арестовывать ее, то для этого больше оснований было у московского отделения, наблюдавшего за Носенковой в последнее время, а не у петербургского, из поля деятельности которого она давно вышла. И конечно же он вернет ее в Москву – это сделать не сложно. И если у петербургских коллег не будет против нее новых своих обвинений, говорил чиновник, то мы не станем ее задерживать. С нашей стороны нет теперь причины содержать ее под арестом. Половина тяжкого груза свалилась с плеч Дрягалова, и он про себя возблагодарил Господа. «Мы отпустим ее почти наверно, – продолжал Викентий Викентиевич, – но, видите ли, господин Дрягалов… вы сами-то как находите ваш социалистический кружок?» Дрягалов честно ответил, что находит кружок явлением столь же интересным, сколько и бесполезным. Слушать смелые и восторженные прожекты о лучшей доле человечества весьма интересно и, в общем, где-то поучительно. Но поскольку эти прожекты, как правило, совершенно оторваны от реальности, то практическое их значение вызывает крайнее сомнение. Чиновник согласно кивал головой. «Да, действительно, – сказал он, – люди они молодые, горячие, легко увлекающиеся. Далеко ли им до неверного шага, до ошибки? Вы сейчас с таким участием, так красноречиво рассказывали о Носенковой, что я, кажется, начинаю ей симпатизировать. Но скажите, разве справедливо было бы, чтобы эта образованная, добрая, красивая девушка окончила жизнь свою в сыром каземате или в таежных крепях? И ради чего? – по прихоти какого-то теоретика-авантюриста, ненавидящего Россию и все русское более всего на свете. А ведь большинство кружковцев – это такие же заблудшие, как Носенкова. Так неужели нам, старшему поколению, недостанет мудрости, чтобы отделить зерна от плевел, чтобы уберечь от ошибок заблудших и избавить их и все общество от непримиримых, закоренелых недоброжелателей России?»
Дрягалов и сам уже пришел к таким мыслям и только сидел и удивлялся теперь, что встретил так неожиданно единомышленника. И встретил его там, где никак не ожидал встретить. Чиновник спросил его, согласен ли он, что всякий честный человек, патриот, должен способствовать избавлению своей родины от таких закоренелых недоброжелателей. Дрягалов прекрасно понял, какой намек содержит этот вопрос. И хотя он и был согласен с выводами чиновника, его утвердительный ответ выглядел бы скорее как благодарность за Машеньку, а не как поступок по велению совести. И все-таки его секундное сомнение разрешилось в пользу Машеньки. Он согласился. Чиновник встал из-за стола, протянул Дрягалову руку и сказал, что рад был найти сочувствие. «Будем, если не возражаете, иногда с вами видеться, господин Дрягалов, – сказал он, – как только Мария Носенкова будет у нас, вам тотчас дадут знать».
Из Гнездниковского переулка возвращался домой новообращенный сотрудник охранного отделения.
Два дня спустя к Дрягалову послали опять явиться в Гнездниковский. Чиновник встречал его уже совсем дружески. Он сказал, что Машеньку только сегодня утром доставили из Петербурга, вины за ней нет, как он и предполагал, и господин Дрягалов может сейчас же пойти обрадовать ее известием об освобождении.
Машенька сидела в пустой совершенно комнате в первом этаже. Она вполне готова была и пострадать,раз так вышло, и не подозревала даже, что через полчаса будет вольна пойти, куда ей заблагорассудится. Но, при всем своем хладнокровии, она все же чуточку смутилась, когда увидела в дверях Дрягалова. Но самым странным ей показалось не само его здесь появление, а совершенно несвойственный Дрягалову дотоле вид попавшего в зависимость, в кабалу человека. Кто-нибудь посторонний решил бы, что из двух присутствующих в этой комнате людей свободы лишен мужчина, но отнюдь не девушка. Каково было Дрягалову объясняться теперь! Он откашлялся. И не медля больше, потому что держать это в себе было совершенно невыносимо, объявил, что стал сотрудничать с организацией, в стенах которой они сейчас находятся. «В общем, променял я душу, Марья Лексевна, на вашу свободу, – сказал Дрягалов. – Знаю, такая свобода вам горше неволи будет, от клятвопреступника-то полученная. Но не мог я ничего с собою поделать. Потому как люблю я вас, Марья Лексевна. И не жаль мне, выходит, самой души своей. Вот вам мое слово. Что хотите, теперь делайте. Я не боюсь держать ответа перед товарищами вашими. Расскажите им, что Дрягалов провокатор. Только я не назвал никого. Истинный крест. Да здесь и сами про кружок знают не хуже нас с вами. Прощайте же, Марья Лексевна. Если господа нигилисты побоятся у меня засады, пусть пришлют мне прийти, куда укажут – приду!» И Дрягалов вышел вон. Его поступь вновь обрела былую уверенность. Машенька, недвижимая, еще долго сидела и смотрела в пол. Наконец вошел человек и предложил ей уходить.
Вечером того же дня Машенька пришла в ставший ей таким близким дом в Малой Никитской улице. Она нашла Дрягалова в комнате, где обычно у них проходили заседания кружка. Он сидел за огромным круглым столом посреди комнаты, куда на собраниях он никогда не садился. Перед ним лежал большой, писанный вязью с киноварью Апостол. На Машеньку он только что взглянул и снова будто бы углубился в чтение. Она подошла к Дрягалову сзади и опустила руки ему на плечи. «Простите меня, Василий Никифорович», – сказала она тихо. Дрягалов бережно, как бесценное сокровище, взял своею сильною рукой нежную Машенькину ладошку и поцеловал восхитительный указательный пальчик. Эти маленькие ладошки одним только своим прикосновением красноречивее уст сообщили, что Машенька за какие-то часы, после их трудного объяснения, сильно переменилась. «За что же мне вам прощать, Марья Лексевна? – отвечал Дрягалов, уже предчувствуя необыкновенную развязку. – Не по моим ли грехам все беды?» – «Если вы, Василий Никифорович, считаете давешнее грехом, то и я тогда тоже небезгрешна». У Дрягалова перехватило дыхание, будто от удара электричеством. В нем взыграло ретивое! – как говорится. Он даже не сразу сообразил: что это – неожиданное счастье или новое недоразумение? И, пользуясь двусмысленностью ее последней реплики – хотя истинный-то смысл этих слов был ему ясен вполне, – он в шутку спросил: «Вы тоже у них на службе?» – «Я тоже вас люблю», – ответила она. Дрягалов поднялся и настойчиво потянул ее за руку к себе. Он стиснул Машеньку в объятиях с такою силой, что глаза ее запросили пощады, и поцеловал в самые губы. Дрягалов хотел было подхватить Машеньку на руки, чтобы куда-то нести, но тут же оставил свое намерение, с такою укоризненною мольбой она прошептала: «Василий Никифорович…» Тогда он поспешно вышел из комнаты, и сейчас из глубин дома раздался его голос: «Егорка! Живо запрягай вороных! В Кунцево теперь еду!»
Уже за Дорогомиловскою заставой, устав и одурев от долгих поцелуев, Дрягалов спросил: «А что, пистолет остался у питерских сыщиков или они его в Москву привезли?» – «Какой пистолет?» – не сразу поняла Машенька. «Да браунинг же». – «Ах, пистолет! К счастью, у меня его с собою не было. А то, думаю, Василий Никифорович, меня не спасло бы даже ваше отчаянное самопожертвование». Машенька ласково ему улыбнулась. А Дрягалов остолбенел от неожиданности. «Не было?.. – проговорил он растерянно. – Но где же он?!» Теперь уже растерялась Машенька: «А что такое случилось? Был обыск?» – «Да… можно и так сказать… Да где ж он?» – «Понимаете, Василий Никифорович… я не утерпела… показала его Диме. И он попросил меня дать пистолет ему поиграться. Мальчишка же…» – «И он все это время был у него?!» – вскрикнул Дрягалов. Откинувшись на просторном диване английской коляски, он захохотал так раскатисто, что в улице за заборами залаяли собаки, а кони понесли еще шибче.
Машенька перестала участвовать в кружке. И даже с кружковцами предпочла больше не встречаться. Она попросилась у Дрягалова остаться жить на его кунцевской даче. Дрягалов с радостью исполнил ее просьбу. Он взял для нее горничную и сам наезжал туда чуть ли не всякий день. Господа нигилисты отнесли Машенькино ренегатство исключительно на счет ее романа. Но особенно они не могли ее осуждать, потому что Дрягалов по-прежнему кормил их и выдавал карманные. К чести своей, они старались не замечать случившегося. К тому же вскоре Дрягалов решил, не без причины, разумеется, отправить Машеньку за границу. И сама Машенька, и вся эта история ушли в прошлое и перестали почти кружковцев интересовать. А незадолго до появления в кружке Мещерина с тремя подружками Дрягалов получил желанную весть из Парижа: родилась девочка.
* * *
Таня и Лиза сидели рядом с Дрягаловым. Когда гости рассаживались, он сам определил, где им быть. Он взял двух подружек под ручки и со словами: «Идите-ка сюда, голубушки» – увел их к своему месту. Таню Дрягалов еще спросил: «А вы что же, барышня, тоже революционерка?» Она смутилась и ответила что-то невразумительное и детское, вроде как не знает… Лена и Мещерин сели за общий стол. Все девочки, и особенно Лена, страшились пошевелиться даже. Они очень опасались, что им здесь предложат высказываться. Но что же они могли сказать? Лена от волнения и к чаю не притронулась. Ей казалось, что она расплещет чай, лишь только возьмет в руки стакан, и конфуз тогда выйдет вселенский.
Привел их сюда приятель Мещерина и его сокурсник Алексей Самородов. Мещерин был здесь уже не впервые, успел пообвыкнуть и чувствовал теперь себя вполне уверенно и на равных с другими. Он по-свойски тянул руку за сахаром или за кренделями и чай прихлебывал шумно и с отдувом.
На собраниях кружка обычно распоряжался довольно симпатичный, с нежными спокойными руками, человек лет около тридцати. Его звали Сергей Саломеев. Этот Саломеев учился некогда в Московском университете, но по известным причинам был исключен. Затем последовал период в его жизни, которым он особенно гордился. Нет, не тюрьма и не ссылка. Саломеев полгода был рабочим. И теперь не упускал случая сказать, что он на собственной шкуре отведал, почем фунт рабочего лиха. Попав после исключения из университета какими-то судьбами на Волгу, Саломеев поступил половым в ресторан на пароход и полгода бегал с подносом между столиками. Скоро он пристрастился к чаевым, завел себе сапоги гармошкою и превратился в совершенного разудалого волжского парня, и по нем уже тосковала одна пышная зазнобушка в Самаре. И сделаться бы ему со временем навеки самарским мещанином, если бы не один досадный казус, приключившийся с ним. По какому-то случаю подгулявший хорошенько посетитель ресторана побил Саломеева прямо в зале, при всем народе. Когда владельцу парохода доложили об обстоятельствах происшествия, а выяснилось, что Саломеев, пользуясь мнимою невменяемостью посетителя, сильно завысил его счет, имея в виду подзаработать, владелец парохода распорядился его немедленно уволить. И Саломеев, жестоко обозлившись на царящие в отечестве человеконенавистнические порядки, решил вернуться в революцию и посвятить себя, теперь уже до конца, борьбе за права и достоинство рабочего человека. Он пробрался в Москву, разыскал знакомых и вошел в кружок, где вскоре стал играть заметную роль. А когда кружок взял на содержание Дрягалов, для Саломеева наступили просто-таки золотые дни. Потому что большая часть дрягаловских денег, отпущенных на кружок, проходили через него, и, разумеется, при их распределении себя он не обижал.
Саломеев откушал ветчины с ситным, попил чайку, поговорил о том о сем с соседями по столу. Вообще, у них было заведено вначале просто посидеть, покушать, выпить чаю, а уже затем приступать к работе.Саломеев откашлялся, как бы приглашая всех сосредоточиться на нем, промокнул губы платочком и начал:
– Итак, товарищи, прошу внимания. Сегодня среди нас много новых наших друзей. – Саломеев, с улыбкой, вначале посмотрел направо – на Таню и Лизу, потом налево от себя, где между Мещериным и Самородовым сидела Лена. – Меня, как, надеюсь, и всех остальных, очень радует, что за нами идет новое поколение и что идея свободы овладевает столь юными и хрупкими созданиями с благородными и чистыми сердцами. Это не может не укреплять наш дух, не может не вдохновлять нас на дальнейшую борьбу. Я больше скажу: даже если нам ничего не суждено совершить и мы, прошептав в последний раз «да здравствует революция», ляжем завтра костьми за наше великое дело, то погибнем мы как победители, ибо уже совершили подвиг выдающегося значения – оставили после себя новых верных бойцов. – Саломеев умолк так неожиданно резко, будто ему горло перехватило спазмой рыдания за свою грядущую горькую участь. Он взял стакан и сделал большой глоток. – Но вместе с тем, должен признаться, есть в этом неизбежном явлении и весьма огорчительная сторона. Ну скажите, какое сердце надо иметь, из какого сорта стали, чтобы вот так хладнокровно взирать, как молодые люди – девушки! – да что девушки! – давайте говорить правду, – дети! – ступают на этот, не скрою, опасный, рискованный путь освобождения человечества от пут многовекового рабства. Но у нынешней российской власти именно такое сердце. Ей все нипочем. Даже если весь народ, до младенцев грудных, принесет себя в жертву, то и тогда их сердца не дрогнут, то и тогда они не проникнутся состраданием и жалостью. Я сказал: они из стали. Но нет. Из другого вещества их сердца. Пусть каждый догадается из какого. – Он ухмыльнулся. – Сталь – это для них слишком благородный материал. Поэтому мы не должны и не будем ждать от них милости и жалости. Мы обречены сами добывать себе свободу и завоевывать свои права. Себе и другим. Все голодные, обездоленные, униженные зажравшейся дворянско-клерикальною верхушкой, замученные, задавленные ненасытным спрутом капитала – это все наши друзья и союзники. Это наша опора. А ведь это вся Россия. И сегодня, как никогда, очевидно, что старая, до основания прогнившая система будет скоро сметена могучею волной народного гнева. – Саломеев снова сделал большой глоток чаю.
– Позвольте, Саломеев, не согласиться с вашим последним тезисом, – заговорила с поставленной хрипотцой в голосе единственная из старых кружковцев женщина.
Хая Гиндина, красивая и молодая, с густыми, черными как вороново крыло волосами, социалистка, была в свое время подругой Машеньки. Хая любила Машеньку, но слегка завидовала: ей казалось, что та красивее, удачливее, счастливее ее, притом что не умнее нисколько. Но при всем этом девушкой она была отзывчивою и, как Машенька, готовою вполне на самопожертвование ради общего дела.
– Ну да, конечно, наше сегодняшнее собрание – это чисто просветительское мероприятие для новичков. – Она небрежно указала рукой в сторону Тани и Лизы. – Но тем более нельзя сеять этот ваш вечный опасный убаюкивающий оптимизм: скоро-де поднимется волна народного гнева и смоет царизм, как засохший куст. Не поднимется никакая волна сама по себе, если мы ее не поднимем, если мы сейчас же не удесятерим своих усилий. Поэтому начать просвещение молодежи надо бы с предупреждения, что вступающий на путь борьбы с ненавистным русским царизмом одновременно доложен готовить шею к веревке!
– Ты права по-своему, Хая, – отвечал Саломеев, – но только упорно не желаешь принимать в расчет особенности русской души с ее вечным стремлением к бунту. Я же вчерашний рабочий, – он посмотрел на Таню с Лизой, взглядом приглашая их удивляться, – и, поверь, мне очень хорошо известны теперешние настроения трудовых масс.
– Согласна. Для меня не существует ни русской, ни турецкой души. Есть только объективные факторы готовности или неготовности народа к революции. И вообще, странно слышать от революционера ссылки на такие категории, как душа. Может быть, вы заодно еще и прочтете проповедь о ее спасении?
– А после собрания мы дружно пойдем ко всенощной, – тихо, но отчетливо проговорил Мещерин.
Все рассмеялись. Хая, довольная, что нашла поддержку, с благодарностью во взгляде оглянулась на Мещерина. Он уже не впервые принимал на собраниях ее сторону. И Хая в последние недели вдруг почувствовала, как ее безмерная злоба на весь белый свет оттесняется другим болезненно-приятным ощущением. Давеча она случайно встретила Мещерина на улице и страшно растерялась, чего раньше с ней не происходило. Только что в детстве. А ведь Мещерин был младше ее на целых три года.
– Я всегда говорю: шутка – незаменимая помощница в решении важных и трудных вопросов, – посмеявшись со всеми, продолжал Саломеев. – И все-таки нельзя не признавать, что стихийная склонность русского человека к бунту является одной из важнейших предпосылок к революции.
– Но в таком случае скажите, – спросил его кружковец в мундире инженера. Этот социалист по фамилии Попонов был единственным из членов кружка, кто служил. – Как вы намерены поступать в случае, если мы окажемся у власти, а народ, верный своей склонности к бунтам, опять взбунтуется? Вот как вы намерены в этом случае поступать, хотелось бы знать?
– Во-первых, о власти, – отвечал Саломеев. – Ни в коем случае мы не должны мечтать о какой-то там своей власти. Наша задача избавить Россию от существующего режима и передать власть трудовому народу. Другими словами, мы выполняем роль тарана. Мы пробиваем стену, но не более того. Дальше мы не идем. Дальше уже вступают в дело массы. И если нам скажут «спасибо» – хорошо. Не скажут – тоже не беда. Мы знаем свое место и свою историческую роль и на большее не претендуем. Теперь о бунтах. Не будет тогда бунтов! И знаете почему? Потому что не будет запретов на бунты. Если народу объявить, что у него отныне есть право на бунт, тотчас же не останется ни одного бунтовщика. Наш народ не любит пользоваться тем, что разрешено, зато до запретного большой охотник.
– Правильно! – воскликнул инженер. – Как верно!
– А вам не кажется ли, – опять негромко произнес Мещерин, – что это будет все равно как птицу не держать в клетке, в надежде на то, что она, имея свободу выпорхнуть в окошко, предпочтет оставаться в вашей комнате?
– Да! – вырвалось у инженера. – А верно ведь!
– Я не думаю, что это может произойти по такой упрощенной схеме. Вы же историк, Мещерин, и, вероятно, знаете, что накануне манифеста об освобождении крестьян его противники вопили, что в деревнях теперь не останется ни одного человека. Но разве после этого уехало в города мужиков больше, чем раньше их уезжало на оброк? Да вот спросим хотя бы у нашего эксперта по крестьянскому вопросу. – Саломеев с самою чарующею улыбкой посмотрел на Дрягалова. – Василий Никифорович, вы помните шестьдесят первый год?
– Смутно, признаться сказать, – ответил Дрягалов. – Мал был еще.
– Во всяком случае, вы, наверное, знаете, был ли массовый отток крестьян из деревни после манифеста?
– Не было, конечно. Все это знают. Ну уезжали, да, не без того. Но мало кто.
– Вот вам и ответ, Мещерин. Надеюсь, вы удовлетворены?
Мещерин хотел было что-то еще сказать, возразить, может быть, но Саломеев сделал ладонью жест, означающий, что этот вопрос дальнейшему дискутированью не подлежит, и, повысив слегка голос, сказал:
– Товарищи. А теперь мы переходим к главной теме нашего сегодняшнего заседания, ради которой мы, собственно, и собрались. Лев Гецевич подготовил доклад по материалам последних заграничных социалистических изданий. Должен сразу заметить, что доклад этот, а я его уже читал, очень неоднозначный, я бы сказал, чреватый большою полемикой, но именно этим он и интересен. Пожалуйста, Лев, слушаем тебя.
Лев Гецевич, щуплый, в круглых очках, с короткою, но невероятно густою бородой человек, был теоретиком кружка, наряду с Саломеевым, Хаей Гиндиной и претендующим с недавних пор на эту роль Мещериным. Он вел настолько уединенный и замкнутый образ жизни, что даже товарищи по кружку мало что о нем знали. Самым выдающимся фактом его биографии являлась трехлетняя сибирская ссылка, после которой он не имел права жить в губернских городах всей европейской России, а также и в уездных городах вне черты оседлости. Жестокое предписание загоняло его в Ошмяны или Бердичев под надзор полиции. Но Гецевич пренебрег предписанием и теперь нелегально жил в Москве. Он родился в захолустном местечке Гродненской губернии в семье шорника и был у родителей ребенком по счету где-то во втором десятке. В детстве отец выучил его пиликать на скрипке, и уже годам к десяти Лева прилично играл в трактире вечерами. Увлечение революцией, социализмом пришло к нему без какой-то видимой конкретной причины. Большинство революционеров вступало на этот путь после некоего удара судьбы, неправого поступка власти, например, по отношению к нему или к его ближним и т. п. Их участие в деле революционных преобразований в значительной степени являлось актом отмщения за что-нибудь. Совсем не так произошло с Гецевичем. Его путь был долгим, эволюционным и, если так можно сказать, мягким. Он стал читать, вначале нехотя, потом все с большим увлечением, всякие запрещенные, распаляющие благородным гневом на царящие порядки его сердце брошюры и разные книжечки, которые ему давали старшие товарищи, потом пришел раз, другой и зачастил на их собрания, где с удовольствием слушал, отчего так несправедливо устроен мир, позже и сам стал выступать, причем обнаружил недюжинные ораторские способности и полемический задор. А потом, как и полагается революционеру, был арестован. Но, полагая, что этого будет достаточно для острастки, его быстро выпустили. Гецевич же отнюдь не острастился, и тогда его уже арестовали безо всякой надежды на ближайшее освобождение. Три последующие года он провел в живописных таежных местах на реке Оби. Аресты и в особенности ссылка очень сильно изменили Гецевича. Но изменили не в сторону отказа от революции. Напротив, он стал совсем уж непримиримым борцом, способным на любые, даже самые радикальные методы борьбы, вплоть до террора. Это был теперь для режима и его слуг настоящий опасный враг. Испытания сильно переменили его характер, натуру. Открытый раньше для всех, он совершенно замкнулся, ушел в себя и отчаянно избегал посвящать кого бы то ни было в личную жизнь. Из новых его товарищей по московскому кружку, в котором он появился немного раньше Дрягалова, один только Саломеев был о его жизни более или менее осведомлен. И то только потому, что они квартировали в одном доме. Под видом студентов они снимали каждый по комнате во флигеле у одной вдовой купчихи в Замоскворечье. И, что удивительно, жили они там, почти не общаясь друг с другом. Саломеев вовремя сообразил, что его товарищ и сосед человек весьма своеобразный, и в частную жизнь его не вторгался. Если они встречались где-то на нейтральной территории, как то: в кухне, в сенях, на дворе, то лишь коротко переговаривались. Причем Гецевич никогда не начинал разговора первым, но только отвечал на слова или вопросы Саломеева. Но бывали редкие случаи, как, например, накануне этого собрания, когда Гецевич сам стучался к Саломееву по делам кружка. В комнате Саломеева он никогда не садился, оставался на протяжении всего разговора стоять в дверях и вообще долго не задерживался. Более чем за два года их жизни под одною крышей Гецевич не спросил у Саломеева решительно ничего, что не относилось бы к кружковой деятельности, хотя бы о погоде. Вначале словоохотливый Саломеев, по незнанию, сам заводил с ним беседы на отвлеченные темы, но после нескольких, едва ли не конфузных случаев, ему пришлось в общении со своим соседом оставить всякую излишнюю любезность и подчиниться его правилам этики. И при всем этом Саломеев был о Гецевиче очень высокого мнения. Он не только ни разу не отозвался о нем дурно или иронически, но напротив – подчеркивал при случае, как им всем повезло иметь товарища с таким умом, с такою решимостью презреть опасности и трудности, так тонко владеющего тайнами и хитростями конспирации, который может им всем служить примером настоящего революционера.
Гецевич достал из кармана несколько исписанных бисерным почерком листков и безо всяких вступительных слов начал свой доклад. Преимущественно он читал по написанному, но иногда отрывался от бумаги и высказывал мысли, не вошедшие в заготовленную редакцию, но пришедшие ему только что.
– Вот уже триста лет, как государство московских завоевателей почти беспрерывно разрастается по всем направлениям, – так начал Гецевич. – Исходная точка, я бы сказал, порочно зачатое эмбриональное образование будущего чудовища-хищника лежит на обширной, открытой, ниоткуда не защищенной плоскости, в самом центре континентальной части Европы. На этой равнине, с ее снежными зимами, только ненадолго переходящими в жаркое, знойное лето, с унылою природой и безрадостными пейзажами, с беспрепятственно носившимися по ней бурями и завоевателями, история и среда обитания создали народ, который научился спокойно переносить и морозы, и солнечный зной и молча покоряться завоевателям как с севера, так и с юга. Здесь сложились терпеливые люди, считавшие высшею добродетелью покорность. Даже голод они побеждали, лежа месяцами на печке без слов и движения, чтобы сберечь до новой скудной, как правило, жатвы остаток своих жизненных сил. И как спелая нива ждет жнецов, так же были готовы эти кроткие люди для подчинения завоевателям. Кто же были первыми жнецами? Мы еще не знаем: это скрыто в тумане веков. Раньше других вырисовываются из него хазары – черноглазые, жестковолосые всадники-богатыри из юго-восточных степей. После этих, похожих на тюрков, всадников с библейскими именами явились с северо-запада язычники – мореплаватели-варяги из шведской области Рось. От Ильменя и Чудского озера они двинулись затем на юг и погнали своими обоюдоострыми мечами хазар. Отныне платите дань мне, а не хазарам – приказал варяг Рюрик испуганным крестьянам равнин. Так продолжалось до тех пор, пока не налетела с юго-востока новая всеразрушающая гроза – монгольское нашествие. И территория, заселенная причудливым славяно-финско-тюркским гибридом, погрузилась окончательно в полнейший мрак безо всякой надежды когда-либо выбраться из него. Всякая культура, кроме чисто внешних, называющихся христианскими, мелочных догм, безжалостно здесь попиралась. Всякое просвещение объявлялось «латинством» и запрещалось. А ослушники сурово наказывались. Если что-нибудь и оставалось в границах культуры, как, например, многолюдный ганзейский город Новгород, то это уничтожали в слепой злобе сами христианские московские князья, которых можно считать равными по происхождению соперниками татарских ханов в том смысле, что они сделали образ правления в своем государстве совершенно татарским и старались превзойти в жестокости и варварстве своих учителей. Таким образом, тогда уже была готова гибельная сила, старающаяся с тех пор и до сего времени подавить грубым кулаком всякое движение вперед к Европе. Создалась размахивающая кнутом, по примеру татар, деспотия, поддерживаемая и поощряемая к безграничному произволу обученным византийским хитростям духовенством и сидящая на шее у миллионной массы трудящихся – кротких, невежественных крестьян, высшая мудрость которых и теперь лишь в том, чтобы склониться, как перед Божьей волей, передо всяким насилием и превосходством силы. Влияние этой массы было достаточно широко и сильно для того, чтобы Россия не разрушилась, распавшись на меньшие, быть может, более культурные государства. Вместе с тем это влияние только усилило тупое русское богословие вместо самостоятельного духовного развития народа. Однако довольно исторических воспоминаний!..
– Но позвольте! – не выдержал Мещерин. – Это почти все неверно! То есть исторические факты неверно преподносятся!
– Не сейчас, товарищи, не сейчас, – тотчас вмешался Саломеев. – Все реплики и вопросы после доклада.
– Довольно истории, – невозмутимо, не поведя даже бровью на Мещерина, продолжал Гецевич. – Лучше спросим: откуда является это неслыханное, неудержимое стремление к расширению, приведшее русское оружие к пяти морям и уничтожившее культурную работу стольких веков? Какая сила заставила Россию вытеснить из стольких обширных областей западный календарь, заменив его ущербным, отстающим на тринадцать дней восточным, уничтожить латинский шрифт ради причудливых греко-русских значков? Откуда берется это влечение к завоеваниям, постоянно отодвигающее магометанский полумесяц к югу, а католический и евангельский крест все дальше на запад ради пользы уродливого русского креста с косо поставленной третьей перекладиной на нем? Ответ будет таков: рост вширь был так велик потому, что должен был заменить и восполнить почти отсутствующий рост вглубь. Последняя, если не единственная за всю историю России, попытка повлиять на рост вглубь, – сказал Гецевич не глядя в бумаги, потому что эта мысль пришла ему в голову вдруг, – была крестьянская реформа шестьдесят первого года, о которой здесь уже говорили сегодня. Вынужденный силой обстоятельств идти навстречу требованиям экономического развития страны, царизм актом освобождения крестьян в последний раз сыграл прогрессивную роль. Но, как известно, реформа эта принесла немного пользы. Во всяком случае, жизнь российского крестьянина не стала ни богаче духовно, ни сытнее. – Гецевич снова стал читать. – Страна, жители которой из поколения в поколение становятся более цивилизованными, более искусными в хозяйстве и образованности, может значительно увеличиться как в силе, так и по числу жителей, не расширяя границ, но государство, хищнически обращающееся со своею землей и людьми, должно иметь новую добычу, иначе оно разрушится. Да, Россия хищнически хозяйничает и с землей, и с народом. Неумение вести хозяйство искусственно обесценило плодороднейшую почву Европы – чернозем. Ежегодно умирает от голода множество работоспособных людей. Да, если бы у крестьянина и были средства к существованию, то еще вопрос, что предпринял бы он по своему скудоумию, как бы распорядился ими, ведь школы, сколько их есть, умышленно отданы в руки невежественному и пьяному духовенству для того, чтобы при светском образовании народ не сделался бы мятежным. Можно считать правилом, что страна, прожившая пятьдесят лет под русским владычеством, становится нищей. Порабощенная, придушенная, ограбленная, бессильно лежит она. Ее прежнее богатство перешло в карманы царских бюрократов-грабителей. А источники новых внутренних богатств засорены. Следовательно, Россия должна опять и опять побуждать свои огромные, пассивные, тупые, готовые на все массы к расползанию вширь. Завоевательная политика России походит на разъедающий нарыв, который стремится к периферии, вызывая новые очаги воспаления, в то время как в центре все ткани уже убиты. В последние годы наметилась тенденция к прекращению безудержного роста ненасытной империи. Повсюду она вышла к границам государств, могущих дать русскому царизму достойный отпор, а то и свернуть ему голову. В последние годы империя пыталась делать новые приобретения на Дальнем Востоке. Лишь там можно было еще продвигаться, почти не встречая сопротивления. Но вот и на Дальнем Востоке нашелся достойный соперник, который, будем надеяться, покажет всему миру безнадежную дряхлость царизма, а может быть, и сокрушит его…
Кружковцы неодобрительно загудели.
– Ну это уже совсем неубедительно, Лев! – воскликнул Самородов. – Как можно всерьез рассуждать о поражении от японцев?!
– Тихо, тихо, товарищи, – опять призвал всех к спокойствию Саломеев. – Я и сам высказал вчера Льву свои сомнения относительно этого тезиса. Но давайте выслушаем докладчика. Пожалуйста, Лев, продолжай.
– Остановившись в своем привычном росте вширь, побежденная в войне, – спокойно продолжал читать Гецевич, – империя должна будет распасться, и распадется наверно на конституционное национальное русское государство и свободные государства доныне угнетаемых Россией наций. И только таким способом и там и здесь будет проложен путь для нормального развития социализма. Ненасытная русская завоевательная политика уже лежит смертельно раненная, при последнем издыхании, вместе с нею должен будет умереть и ее сиамский близнец – русский абсолютизм. Это будет стоить нескольких кровавых боев, но конечный результат уже виден. Стены великой тюрьмы народов шатаются, и скоро они рассыплются в прах. И мы должны способствовать этому. Любое поражение царизма, любая его неудача во всякой возможной области жизни может стать нашим шансом. Если теперь прожорливая, но безмозглая русская гидра развязала войну, мы обязаны сделать все, чтобы она, гидра эта, потеряла как можно больше голов, а лучше все головы. Настоящие условия России во многом приводят на память рубеж пятидесятых – шестидесятых годов. Тогда передовая общественная мысль вырвала у позорно проигравшего Крымскую войну царизма согласие ликвидировать гнусный пережиток, настоящее античное рабство – крепостное право. Теперь наступила эпоха расчета со строем, основанном на рабстве политическом. И это большая удача для нас, что слабоумное самодержавие развязало на свою голову войну. Всякий внешний противник России является нашим естественным союзником, и наш долг помочь ему победить одряхлевшую деспотию. В нынешних условиях мы, социалисты, должны быть решительными союзниками японцев! А уже затем мы предъявим поверженному царизму свой счет. Мы устроим небольшое, включающее, предположительно, лишь великорусские губернии европейской части России, государство на лучших демократических принципах. Во главе всего будет стоять не возглавляемый самодуром-царем Государственный совет, состоящий из помещиков и капиталистов, которых же царь и назначает, а парламент, избранный народом и ответственный перед народом. На место тиранического полицейского государства должно стать свободное народное демократическое государство. На место тайных интриг, при которых интересы народа продаются за наличные деньги и почести, должна стать открытая, законная политическая борьба в парламенте между партиями, защищающими интересы различных классов. Само собою разумеется, что парламент тогда только будет действительно представителем народной воли, если его члены будут выбираться всем народом. Я это рассказываю преимущественно для новых наших товарищей, – уточнил Гецевич. – Необходимо, чтобы каждый взрослый человек, неопороченный по суду, без различия происхождения, состояния, национальности, веры и пола, имел право голоса при выборах представителей, иначе депутатов, в парламент. Это называется всеобщим избирательным правом. Поэтому для права выбора не должно существовать никаких ограничений, как это, например, бывает ныне при выборах в городские думы, где право голоса дается лишь лицам, владеющим известным имуществом, так называемым цензом. Это всеобщее избирательное право должно быть равным для всех, то есть каждый гражданин должен иметь один голос, причем голос рабочего или крестьянина должен иметь равную силу с голосом фабриканта или крупного землевладельца. Выборы должны быть прямыми, то есть граждане должны подавать голоса прямо за того или другого кандидата в парламент, а не за промежуточных выборщиков. Но это, как вы понимаете, ближайшие наши задачи, осуществить которые мы сможем после вооруженного поражения России, о чем тоже говорилось выше. Но конечные наши цели гораздо более радикальные. Это полное политическое и экономическое освобождение рабочих классов: переход политической власти к народу, обобществление средств производства, распределения и всей общественной жизни на социалистических началах. Для достижения этих великих целей мы должны привести в движение все данные нам историей общественные силы, заинтересованные в полном или частичном осуществлении наших задач, развить самосознание народных масс и организовать их согласно задачам партии. Мы не обольщаем себя надеждой, что выставленные нами требования могут быть осуществимы в более или менее близком будущем, но мы будем пропагандировать свою программу и при современном полицейско-бюрократическом режиме, и при свободном правительстве будущего, под ее знамена мы будем призывать народные массы и во имя ее вести неустанную борьбу.
Гецевич закончил, снял очки и стал протирать их синею суконкой. Он ни на кого не смотрел. Казалось, его совершенно не заботит произведенное речью впечатление на окружающих.
– Спасибо, Лев, – деловитым тоном Саломеев напомнил всем, что распоряжается здесь он. – Кто желает высказаться по мотивам доклада? У вас, Мещерин, кажется, был вопрос?
– Не то что бы вопрос, – не совсем уверенно начал Мещерин, но в дальнейшем его голос окреп, – а некоторые возражения. Нет, даже не возражения, а решительное неприятие почти всего сказанного сейчас. Вы, Гецевич, почему-то убеждены, что, разрушая Россию, вы наносите удар по самодержавию. По моему мнению, это ваша коренная ошибка. Нет, конечно, верно… Но ведь это удар не только по самодержавию, но и по самому русскому народу, интересы которого вы якобы взялись защищать. Удар по русской государственности. Вы верно заметили, что Россия сейчас окружена сильными соседями. А что, если в государствах, образовавшихся на обломках Российской империи, у власти окажутся не национальные демократические правительства, а прокураторы соседних государств? Вы что, думаете, кайзер, император, султан, шах, микадо упустят случай поживиться на счет России, если события будут развиваться, как это изложено в докладе? Огромная Россия, которую мы сегодня имеем на карте мира, не является только плодом вечной агрессивной политики самодержавия, как вы трактуете. Своей колоссальной территорией Россия в первую очередь обязана редкостному стремлению русского народа к движению. Зачем, скажите, нужно было нашим далеким предкам уходить с благодатных днепровских берегов к холодному побережью Белого моря? А затем, через несколько веков, русские снялись и без того с малолюдных, хотя и относительно уже обустроенных московских земель и пошли далеко на восток, добрались до Великого океана, переправились через него и сомкнулись в Калифорнии с испанцами? Те, кто не хочет придавать значения русскому характеру, а не учитывать этого фактора крайне неблагоразумно, и здесь я согласен с Саломеевым, обычно объясняют движение русского народа на север и восток, а в последние десятилетия и на юго-восток – в сторону Индии, кроме захватнических стремлений царизма, еще и присущей диким или полудиким народам склонностью к кочеванию. Эдакое роковое для других народов сочетание экспансивности русской власти и влечения к разгульному перемещению с места на место ее подданных. Но по следам, которые оставляли русские, проходя по новым землям, нетрудно убедиться, что они были вполне цивилизованными людьми. Там, где проходила татарская орда, с которой вы, Гецевич, постоянно сравниваете наш народ, оставались лишь кровь и пепел. Русские же оставляли за собой красивейшие города. Так можно ли называть русских дикою ордой, поработившею, по воле жестоких царей-деспотов, многие народы на востоке и юге? Скорее напротив – русские помогли этим народам начать приобщаться к европейской цивилизации. И сейчас, вы сами прекрасно знаете, русские в новых землях живут в добром соседстве с тунгусами, киргизцами и прочими туземцами. А, например, просвещенные англичане, которые, вместе с другими европейцами, являются, по-вашему, первейшими носителями цивилизации, вырезывали безжалостно североамериканских индейцев целыми племенами, чумные одеяла к ним в стойбища забрасывали. Так кто же гуманнее – дикая русская орда или просвещенная Европа? И знаете, стремление государства к росту, как вы говорите, вширь сохраняется до тех пор, пока государство это не выйдет к пределам равных по силе государств. Вы сами это отметили в докладе. Но необязательно, прекратив рост вширь, такое государство должно разрушиться. Все минувшее столетие разрастались Северо-Американские Соединенные Штаты. Теперь их рост вширь прекратился. Некуда больше расти. Зажаты они со всех сторон двумя соседями и двумя океанами. Так что же, они обречены теперь разрушиться? Нет, наверное. Точно так же и Россия, достигнув пределов, за которые ей больше не переступить, начнет, надо полагать, столь вам любезный рост вглубь. Кстати, похоже, что этот процесс уже начался. Если угодно, я могу привести примеры. И, как мне думается, нашей задачей теперь является переориентировать вечное стремление русского народа к походу в неизвестные дали на создание могучего демократического единого государства для всех народов теперешней империи. А ведь это, может быть, и является походом в неизведанную даль. Нам повезло, что русский народ одержим таким стремлением. Надо только уметь им распорядиться. Чтобы это его свойство ему же – народу – и служило. Но разрушать Россию для достижения своих целей – это совершенно немыслимо. В этом случае мы и целей не достигнем, и государство потеряем. Не просто государство в научном его понимании, а самую территорию его потеряем. Впрочем, об этом я уже говорил, – так закончил Мещерин.
Гецевич ничего ему не ответил. Он вообще его не слушал. Едва Мещерин начал говорить, Гецевич весь ушел в себя, предался высоким, по всей видимости, ни для кого не доступным размышлениям. Это было заметно по его лицу, сосредоточенному на чем-то своем, внутреннем. И речь Мещерина мешала ему не более, чем комариный писк. Так, во всяком случае, это должно было выглядеть. Возникла пауза. Саломееву ничего такого оригинального для продолжения дискуссии не приходило в голову, а просто напоминать присутствующим, чтобы они высказывались, он не хотел, потому что это выглядело бы несолидно. Что его роль в заседаниях исчерпывается одними только понуканиями? Он сам мыслитель. Хая Гиндина попала и вовсе в затруднительное положение. По сути, она была вполне согласною с Гецевичем. Но открыто заявить теперь об этом не могла. Этому мешала не только ее уже сложившаяся кружковская солидарность с Мещериным, но еще и некое ею самой едва осознанное чувство к нему. Дрягалов, как известно, высказывал свое мнение лишь тогда, когда его спрашивали. Инженер и несколько человек ему подобных вразумительно не высказывались никогда. Да их никогда и не спрашивали. Ну а новички молчали по известным причинам. И тут общее молчание, впрочем, совсем короткое, нарушил сокурсник и товарищ Мещерина Алексей Самородов. Он среди кружковцев пользовался значительным авторитетом. Но своею манерой участвовать в заседаниях напоминал скорее Дрягалова, нежели четверку главных полемистов. Как и Дрягалов, он почти не высказывался, если его не спрашивали. Зато если уж говорил, то непременно по делу и веско.
Для Дрягалова Самородов вообще сделался близким человеком. Едва ли не родственником. Дело в том, что Самородов был Машенькиным кузеном. В детстве они воспитывались вместе в маленьком харьковском имении у бабушки. Старосветская барыня приучила внуков говорить дома по-французски и всякое Рождество вывозила их на детские балы к такому же старосветскому предводителю, жившему в имении неподалеку. Когда подошел срок определять Машеньку в гимназию, а она была немногим старше Алексея, родители увезли ее в Харьков. Но года через два пришел и Алексею срок учиться, и его старшие перевезли в Харьков. И кузены опять оказались вместе. Окончив гимназию, Машенька уехала в Петербург на курсы. И с этих пор начался самый длительный период их раздельного проживания. В Петербурге Машенька и познакомилась с Хаей Гиндиной, тоже в то время курсисткою, потому что она была из семьи выкреста-аптекаря. Хая ее и ввела в социалистический кружок. Машенька сразу включилась в его деятельность весьма активно. И вскоре поплатилась за это исключением из курсов. Петербургская полиция не преминула, на всякие будущие случаи, составить по приметам портрет Машеньки, что впоследствии и позволило филерам ее опознать.
В тот же самый год, когда Машеньку исключили из курсов, Самородов приехал в Москву. Он успешно сдал экзамены в университет и был зачислен на исторический факультет. Самородов перешел уже на третий курс, когда в его семье разразилась страшная драма. Запутавшись совершенно в каких-то там денежных проблемах, в Харькове покончил с собою его отец. Но еще раньше он пустил по миру свою семью, в том числе и Алексея. Все имущество, до последней тарелки, было описано. Заложенное в Крестьянском банке бабушкино имение полетело с молотка. И Самородова, за невзнос платы, на следующий курс не перевели. Он вынужден был искать хоть какого-то заработка и для начала поехал в Харьков. Там он совершенно случайно застал Машеньку, потому что та разъезжала все эти три года по многим городам, в основном на юге, и частным манером служила учительницей по разным более или менее состоятельным домам. Машенька посоветовала и Алексею заняться тем же. И они стали учительствовать вместе. Особенно выгодно было наняться в купеческую семью. С некоторых пор это сословие стало очень печься об образованности своих чад и учителей одаривало, как правило, щедро. За год Самородов собрал необходимую сумму для того, чтобы оплатить следующий курс, и они с Машенькой поехали в Москву, где Машеньку взял на службу Дрягалов, о чем уже известно, а Алексей восстановился на факультете. И странствуя в поисках заработка по городам, и осевши уже в Москве, Машенька всегда заботилась о кузене, как обычно заботится любящая сестра о младшем брате. Уезжая в Париж, она очень просила Дрягалова призреть Алешу, не оставить его вниманием по возможности. Дрягалов пообещал и от обещания не отступился. Он, например, сразу же предложил Самородову оплачивать его университетский курс. Алексей еще не тотчас согласился. Он несколько дней обдумывал неожиданное предложение – не будет ли это выглядеть обидною подачкой или, того хуже, подкупом? – но в конце концов принял его. Машенька ему не сказала, что поручила перед отъездом его Дрягалову, но Самородов, как человек сообразительный, и сам понимал, что благорасположение к нему Старика не могло обойтись без участия кузины. Какой уж там подкуп! А для любопытных, если кто-то об этом проведает, что, впрочем, очень маловероятно, вполне можно объяснить такой поступок Дрягалова его ставшим уже для всех привычным попечением о товарищах по кружку. И все-таки Самородов совестился этого своего нового родства и предпочитал, чтобы Машенькино заступничество за него и в особенности опека Старика над ним оставались в секрете ото всех.
– Товарищи, – прервал общее молчание Самородов. – Мы сейчас стали с вами свидетелями столкновения двух мнений по переустройству России. Путь, предложенный Гецевичем, – это свержение существующей власти посредством разрушения государства, как национального образования, до самых его основ. И путь Мещерина – это только смена власти, с непременным сохранением многовековых территориальных приобретений. Надеюсь, я все правильно понял. Я бы назвал путь Мещерина патриотическим или национальным, а путь Гецевича, напротив, вненациональным или наднациональным. Вам, Саломеев, должно быть известно, что такая тенденция наблюдается в последнее время во многих социалистических организациях. Я недавно разговаривал со знакомым из Харькова, он говорит, у них то же самое приблизительно. Так вот, эти два взгляда, боюсь, чреваты большим расколом в социалистическом движении. Если мы не выработаем единого подхода к проблеме, то рано или поздно нас погубит внутренний разлад. Вместо того чтобы бороться с нашим общим врагом – самодержавием, мы растратим силы во внутрипартийных схватках. А выиграет кто? – разумеется, самодержавие. Должен сознаться, что самому мне ближе точка зрения Мещерина. Но мне не хотелось бы замыкаться на своем, не принимая во внимание иного мнения. Если бы вообще этот доклад и выступление оппонента имели какое-то практическое значение, были бы нашим планом на самое ближайшее будущее, то я предложил бы, ради сохранения единства, поискать приемлемый для всех компромисс. Но поскольку доклад представляет собою чисто теоретическую популярную работу с видами на весьма отдаленную перспективу, то в данном случае можно, наверное, просто ограничиться констатацией вот той угрожающей нашему делу тенденции, о которой я сказал, и впредь стараться избегать разногласий.
– Не совсем так, Алексей. – Саломеев собрался снова с мыслями и опять взял бразды в свои руки. – Не совсем так. Да, мне, конечно, известно все, что происходит в других кружках, равно как мне очень хорошо известно положение дел в самой гуще рабочей среды. Но вот что касается Льва, то есть его доклада, то здесь дело обстоит несколько иначе, нежели ты думаешь. Мы собираемся нынче же этот доклад отпечатать, насколько возможно, большим тиражом. И тогда уже он сделается совершенно конкретным планом действий, а не теорией на отдаленную перспективу, как ты говоришь.
– Я решительно против этого протестую, – воскликнул Мещерин. – Это очень опасный или, лучше сказать, ошибочный взгляд. Особенно его срединная часть. Там же проповедуется полнейшее пренебрежение российскими национальными интересами. Я с этим никак не могу согласиться. А поскольку этот доклад как бы является плодом деятельности всего нашего кружка, то, стало быть, я тоже являюсь, некоторым образом, соавтором ошибочного, сулящего России многие беды направления социальных преобразований.
– А вам не кажется, что ошибка в другом – в самом вашем членстве в кружке? – процедил Гецевич ядовитым тоном, как всегда не глядя на собеседника.
– Нет, не кажется! Должен же кто-то указать безумцам на их безумие! – Голос Мещерина непроизвольно повысился. Он этого не хотел и даже лицом порозовел, стыдясь своего неумения держать себя в руках, но справиться с волнением не мог.
– Спокойно, спокойно, товарищи, – засуетился Саломеев. – Мы что, впервые собрались и не знаем, как быть при возникновении спорных коллизий?
– Вотировать! – воскликнул инженер Попонов в восторге и с гордостью оттого, что ему первому посчастливилось произнести заветное слово.
– Вот и решение всех проблем, – с медом в голосе и с улыбкой подытожил Саломеев.
– Позвольте, позвольте, – Самородов даже поднялся со стула, – я ничего не понимаю. Что происходит? Что мы собираемся вотировать? Самый доклад Гецевича или его скоропалительную публикацию? Но ведь в кружке существует противное мнение, которое вы, кажется, не хотите вовсе принимать к сведению. Конечно, вы можете подавить это мнение вотированием. Это будет очень демократично. Но к чему такая поспешность? Вы что же всерьез полагаете, если вы вотируете доклад Гецевича, размножите его и разошлете во все концы, то завтра или послезавтра Россия так и рассыплется по кусочкам, согласно вашему вотированию? Да этого, скорее всего, никогда не случится, ни при каких обстоятельствах. И доклад останется еще одним утопическим прожектом, за который вам самим же будет совестно. А готовы ли вы сейчас гарантировать, что ваша позиция в будущем не переменится? Так не лучше ли не спешить и отложить этот вопрос на будущее?
Самородов еще не закончил, а отовсюду уже послышались неодобрительные голоса. Хаю Гиндину удерживала от участия в полемике одна только симпатия к Мещерину. Но теперь, когда апологетом и главным проповедником точки зрения, противной докладу, сделался другой человек, у нее не оставалось препятствий изложить наконец свое мнение по проблеме. Ей только неприятно было как бы принимать сторону Саломеева, с которым пикироваться на каждом почти заседании для нее стало правилом. Хая сказала:
– Наши товарищи заняли внешне очень благородную позицию. Ну да, я понимаю – чувство родины, патриотизм, все это достойно уважения. Но давайте вспомним о конечных целях социализма. Разве это укрепление отдельных национальных государств? Нет. Это освобождение мира от уз капитала. Если социалист начинает думать о какой-то там своей родине, о том, как бы ее укрепить перед угрозой внешних врагов, он уже не социалист. Социалист должен мыслить не узко национально, а в мировом масштабе, планетарно. Да, если хотите, мне не жаль России, потому что я думаю не об интересах какого-то одного государства, хотя бы своей родины, а обо всех людях труда, без различия национальностей. И если нам, для того чтобы разбудить пролетариат всех стран, подвигнуть его на всемирное восстание против капитала, потребуется взорвать Россию – взорвем ее! Принесем ее в жертву!
Кто-то захлопал. Инженер хотел было поддержать рукоплескания и уже развел ладонями, но хлопки резко оборвались, и он смущенно спрятал руки под стол.
– Все, товарищи. – Саломеев встал, показывая тем самым, что разговор окончен. – Довольно полемики. Позиция сторон предельно ясна. Приступаем к вотированию. Кто за то, чтобы доклад Льва был немедленно и без изменений опубликован, прошу поднять руки. Вы, девушки, – обратился он с улыбкой к Тане, Лизе и Лене, – пока в этом участвовать не можете. Но вам недолго быть сторонними наблюдателями. Надеюсь.
Руки подняли все, кроме Самородова, Мещерина и Дрягалова. Инженер Попонов вначале не знал, как ему быть, но, увидев, что большинство поддерживает Саломеева с Гецевичем, тоже поднял руку.
– Спасибо, – сказал Саломеев. – Кто против?
Противниками были Мещерин и Дрягалов.
– Ты воздерживаешься, как я понимаю, Алексей?
– Да. Я не хочу категорически, безапелляционно придерживаться своего только мнения. Я уважаю чужую позицию, даже если нахожу ее неверной, – ответил Самородов.
– Ну понятно. Это должно служить нам всем примером, как надо относиться к чужой позиции, – без малейшего ехидства, а скорее примирительным тоном заметил Саломеев.
– Это уж как вам будет угодно, – плохо изображая безразличие, проговорил Самородов.
Глава 4
Никогда прежде перед Таней не вставала такая тягостная проблема. Никогда она не испытывала таких душевных тревог и волнений. Не была столь удручена. Случившееся стало для нее настолько неожиданным, настолько непостижимым, что она, сама, может быть, того не понимая, страшно растерялась. Она, едва разбирая дорогу, словно в забытьи, брела в гимназию, совершенно не находясь, как ей теперь вести себя с Лизой. Не разговаривать ли с ней вовсе или, напротив, объясниться начистоту? Рассказать ли обо всем сначала Лене или же вообще ни о чем ей не говорить? Очевидным для нее было лишь одно – прежних их с Лизой отношений больше быть не может. Делать вид, будто ничего не произошло, невозможно, даже если она этого и захотела бы. Но раз так, значит, объясняться, как бы чудовищно неприятно это ни было, придется. А значит, и Лену обо всем придется поставить в известность. Во-первых, она непосредственная участница событий, и скрывать новость, которая ее касается в равной с другими участниками степени, было бы по крайней мере не по-товарищески, если не сказать, что это выглядело бы не меньшим, чем Лизин поступок, предательством. А кроме того, таить такой секрет, тем более от лучшей подруги, было свыше ее сил. И Таня твердо решилась сейчас же поговорить с Леной, лишь только они встретятся.
Среди воспитанниц класса, в котором она училась, Таня была не только по успеваемости первою ученицей, но и – что неудивительно – самою прилежной. Она приходила в гимназию так заблаговременно – где-то за четверть часа до молитвы, – что не будь у нее годами накопленного непререкаемого авторитета, подруги над ней, пожалуй, и посмеялись бы даже. Потому что в их возрасте приходить на уроки пораньше, как какой-нибудь неопытной, пугливой первокласснице, было уже почти неприлично. Для девицы, оканчивающей курс, считалось особенным шиком войти в класс одновременно с учителем или, в крайнем случае, перед самым его появлением. Но Таня к этому относилась в высшей степени безразлично. И приходила пораньше. А вот Лена, та, напротив, появлялась в классе, как правило, в числе последних. Но не потому, что она, подобно некоторым, хотела таким манером покрасоваться. Просто у Леночки все ее действия были выверены с такой точностью, она все исполняла так разумно и взвешенно, что вовсе не нуждалась иметь какие-то минуты в запасе.
В этот раз Таня сразу в класс не пошла. Ей нужно было не только перехватить Лену раньше, чем та встретится с Лизой, но и самой избежать преждевременной встречи с этой изменщицей. Поэтому она решила дожидаться Лену на улице и все с ней подробно обсудить, не считаясь со временем и даже в ущерб урокам, если потребуется. Таня выбрала место неподалеку от ближайшей к гимназии станции конножелезной дороги и, по возможности не привлекая к себе внимания и делая вид, что ее интересуют какие-то там рекламные надписи на стенах, стала наблюдать за прохожими. Караулить подругу в этом месте было удобнее всего, потому что ей не грозило тут повстречать Лизу, обычно подходившую к гимназии с другого конца улицы. А Лена здесь появится непременно, все равно как она сегодня будет добираться до гимназии из своего Мерзляковского – на конке ли или пешком. К слову сказать, старшеклассницы чаще даже предпочитали ходить в гимназию именно пешком. Это была еще одна их возрастная привилегия, сродни появлению в классе на грани опоздания.
Долго ждать ей не пришлось. Таня заметила подругу еще издали. И даже издали было заметно, как взволнована Лена. Не говоря уже о том, что она шла в гимназию подозрительно раньше обычного.
Лена едва не бежала. И прохожие, которых она, казалось, не видит вовсе, спешили посторониться, чтобы не помешать пройти молодой, раскрасневшейся от быстрой ходьбы красавице.
Таня выросла на ее пути так неожиданно, что Лена чуть не налетела на нее с ходу.
– Таня?.. – произнесла она, изумленная и с вопросительной интонацией.
Таня успела уже понять, что у Лены имеется какая-то важная новость. Поэтому, наверное, она так рано и так поспешно и идет в гимназию, чтобы рассказать ей эту новость.
– Что ты здесь делаешь? – спросила Лена, преодолев секундную растерянность от неожиданной встречи.
– Тебя жду Мне кое о чем нужно тебе срочно рассказать. Но у тебя, кажется, тоже есть новости.
– Ах, Таня, милая, еще какие! Но ты, может быть, все уже знаешь? Ты о Володе с Алешей хотела рассказать?
– Нет. Совсем другое. А с ними что?
– Они арестованы. Вчера их забрали в полицию. Обыск был и у того и у другого.
Умению Тани владеть собою и держаться с достоинством при любых обстоятельствах подруги всегда очень завидовали. Редко кто из них на экзаменах, скажем, или в нелицеприятных нравоучительных беседах с начальницей был столь же хладнокровен и бесстрастен, как она, но теперь, услыхав об аресте своих друзей и зная, в отличие от Леночки, еще и причину, по которой это произошло, Таня вдруг почувствовала, как у нее от ног и выше, к плечам, к голове, подкатывается непонятная такая слабость, делающая все конечности и самое тело непослушными и чужими, как это иногда бывает при виде крови. Лена, увидев, какое впечатление произвели на подругу ее слова, подхватила Таню под руку и потащила в противоположную от гимназии сторону. Но Таня быстро овладела собою.
– Куда мы идем, Лена? – спросила она.
– Ну не в гимназию же! Нам надо поговорить.
Они перешли площадь и направились к Пресненскому пруду, полюбившемуся им с некоторых пор за его провинциальность. Они вначале ни о чем даже не могли говорить. Так велико было их расстройство чувств. Встречные реалисты из соседнего с их гимназией училища, многих из которых они знали по именам, улыбались им, здоровались, спрашивали что-то на ходу, но Таня с Леной, всегда такие приветливые с ними, теперь пропускали их реплики мимо ушей. До того ли им было! До любезностей ли!
На пруду, как всегда по утрам, стояла совсем деревенская тишина. Купаться в этот час было еще холодно, и босоногие мальчишки – дети фабричных – сидели пока на берегу, закинув в воду кривые удочки, и, как завороженные, глядели на неподвижную гладь.
Девочки сели на скамейку под роскошною липой, недавно только развернувшей во всей красе и силе молодые, сочные, не потемневшие еще листики.
– А теперь, Лена, я тебе тоже что-то расскажу, – начала Таня свой рассказ. – Знаешь ли ты, отчего их арестовали? Ну, то есть кто донес в полицию?
– Кто же? – Лена так же почувствовала, что сейчас последует какое-то сокрушительное сообщение, и так же переменилась в лице, как Таня в их давешнем с отцом разговоре.
– Наша Лиза.
– Лиза?! – вскрикнула Леночка. – Да что ты говоришь такое, Таня! Мыслимое ли дело!..
– Увы, это так. Мне все известно наверно. Это по секрету вчера рассказал папе один его знакомый полицейский начальник. А он уже мне. И, кроме того, папа дал ему слово, что больше я никогда не приму участия в кружке. Но мы и без того решили туда больше не ходить…
– Подожди, подожди, Таня, я совсем запуталась. Тебе рассказал папа, ты говоришь? А он откуда узнал?
– Я же говорю: ему сказал по секрету знакомый полицейский начальник. Антон Николаевич. Он бывал у нас дома. К папе приходил несколько раз.
– И он знает Лизу?
– Вовсе не обязательно. Она могла донести кому-нибудь, а Антону Николаевичу уже потом передали. Я не знаю, как это там у них делается. Папа вообще говорит, что те, кому это нужно, могли и обманом вынудить Лизу признаться. Может быть, ее отец – полицейский агент. Я, разумеется, не могу этого знать наверно, я просто так говорю, предположительно, – оправдательным тоном сказала Таня в ответ на укоризненный взгляд подруги. – Но обманом ли у нее это выведали или она рассказала кому-то по доброй воле, в любом случае она достойна презрения, если не умеет строго сохранять важную тайну. Два человека по ее милости уже вот пострадали, и неизвестно еще, что будет с остальными.
– Немыслимо! – выдохнула Лена. – Я не могу в это поверить. И это сделала Лиза, лучшая наша подруга. Ну конечно, она так поступила не по злому умыслу. Ты верно говоришь – ее саму обманули каким-то образом. Но нам надо что-то делать, Таня. Не сидеть же так вот…
– Это-то и надо обдумать. Прежде всего, мне кажется, мы должны всех известить о случившемся, если только не поздно уже. А послушай, как тебе стало известно, что они арестованы?
– Вечером ко мне приходила Володина сестренка. Они же рядом живут. Плачет, бедняжка, сильно.
– А почему она узнала, что и Самородов арестован?
– А она прежде всего побежала к Самородову. Хозяйка квартиры все ей и рассказала.
Они помолчали. По лицам их, сделавшимся по-детски растерянными, было заметно, что в эту секунду они еще не совладали со множеством самых невероятных новостей, путаницу своих мыслей не упорядочили, и картина происходящего пока не предстала перед ними со сколько-нибудь достаточною ясностью.
– Ты говоришь, всех надо известить, – первою заговорила Лена, – но ведь, кроме этого Дрягалова, мы не знаем, где искать остальных. Они же почти все нелегальщики. И как им можно сказать о Лизе? Да они убьют ее, чего доброго! Дрягалов такой страшный. Вылитый Пугачев. Он тогда весь вечер с меня глаз не спускал. Я же сидела как раз напротив него. И не знала, куда деваться, – до чего жуткий взгляд! Мы ни в коем случае не будем рассказывать им о Лизе.
– Послушай, Лена. Я вот о чем сейчас подумала. Действительно, арестовать могут в первую очередь тех, кого легко арестовать. То есть тех, кто живет вполне легально. Это Мещерин, Самородов, Дрягалов, ну, может быть, еще один-два человека… – Таня вдруг запнулась и изумленно, как от внезапно обнаруженного нового тяжелого обстоятельства, посмотрела на Лену.
– И меня тоже. Ты это подумала, так ведь? – сказала Лена. – Конечно, я понимаю, твой папа знаком с большим полицейским начальником, и тебе, думаю, ничего не грозит, во всяком случае…
– Ах, Леночка! – Таня от волнения даже взяла ее ладонь в свои руки. – Мне только теперь пришло в голову! Какая же я недогадливая! Я так уверена в своей безопасности, что совсем не подумала о тебе. А ведь тебя могут тоже… И ты, бедненькая, сидишь, переживаешь, а я болтаю без умолку. Ну, нет, этого не будет ни в коем случае. Я сейчас же пойду к папе и скажу ему, чтобы он немедленно поговорил о тебе с Антоном Николаевичем. Прости меня, пожалуйста, легкомысленную свою подругу. Но я обещаю, что с тобой ничего подобного не случится. Можешь мне верить.
– Ну конечно, я верю тебе, Таня, – улыбнулась Леночка, очень приободренная Таниными добрыми словами. – Значит, сейчас в наибольшей опасности этот Дрягалов, если он уже не арестован. Пойдем же скорее к нему.
– Да, пойдем.
До дома Дрягалова им пройти было совсем недалеко. Рукой, можно сказать, подать. Они запомнили с прошлого раза, что особняк его – третий дом по счету после церкви на Малой Никитской, и теперь нашли его без труда. Главным фасадом дом смотрел на улицу, чуть наискосок от Скарятинского переулка, а задворками выходил в Гранатный переулок. Из Гранатного же был и вход во флигель, где жил старший сын Дрягалова, немощный Мартимьян Васильевич. Мещерин привел их тогда на заседание кружка через калитку в Гранатном. А выходили они из усадьбы уже по-другому: Мещерин пошел провожать Лизу, и они вышли тем же путем в Гранатный, а Самородов вызвался проводить Таню с Леной, и Дрягалов выпустил их через главные двери в Малую Никитскую. Самородов потом сказал, что все это необходимо для конспирации.
Девочки сразу пошли к главному входу дрягаловского особняка. Но двери его оказались наглухо запертыми. И сколько Таня ни дергала за колечко, никто им не отворил, хотя колокольчик звенел вполне голосисто. Даже им через дверь было хорошо слышно его заливистую трель. И вообще, казалось, что в доме пусто. Потому что все окна и форточки, во многих соседних домах настежь распахнутые, здесь были в обоих этажах плотно закрыты и не менее плотно зашторены, хотя время подходило к полудню. Позвонив еще раз-другой, Таня оставила надежду добиться чего-либо от этих дверей. И они с Леной пошли в Гранатный. Там звонка не было. Зато там можно было вволю стучать тяжелою кольцеобразною ручкой. Они несколько раз культурно по очереди постучали, но никакого проявления признаков присутствия людей из-за калитки не последовало. Тогда Таня схватила кольцо покрепче и начала бить в калитку с такою силой, что из соседних усадеб послышалось растревоженное движение обывателей. Продолжать стучать подобным образом было уже небезопасно, потому что на шум мог явиться городовой. И они хотели уже было уходить ни с чем, но тут до их слуха донесся слабый скрип двери, по всей видимости, флигеля, а затем и приближающееся шарканье ног по дорожке. Кто-то долго возился с той стороны с засовами, с крючками, кряхтел, стонал, и наконец калитка отворилась. В проеме перед ними стоял старец с длинными белыми волосами и белою же по пояс бородой, похожий на былинного кудесника, очень чистенький и опрятный, в войлочных туфлях, в полотняных портах и такой же рубахе, подпоясанный плетеным пояском. Его с присвистом одышка свидетельствовала, как утомился старичок в борьбе с калиткой.
– Нам необходимо видеть господина Дрягалова, – сказала Таня.
– К Василь Никифоровичу?! – обрадовался дедушка и заулыбался.
– Да, к Василию Никифоровичу, – в один голос и тоже радостно подхватили подруги, припомнив тотчас, что именно так называл Дрягалова на собрании тот председательствующий, из рабочих который.
– А уехал Василь Никифорович, – ответил старик, еще более радуясь. – Третьего дня и уехал. Вместе с сынком. С младшеньким со своим.
– Куда же он уехал? – спросила Таня, не зная, радоваться им надо или огорчаться такому обстоятельству.
– А далёко.
– А все-таки куда именно?
– Как ты говоришь, милая?..
– Где он?! Где он теперь?! – чуть ли не крикнула Таня.
– А за границею он. В городе Париже. С Димитрием, сынком младшеньким, уехал Василь Никифорович.
Больше ни с кем из кружковцев они поговорить не могли при всем желании. Они просто не знали никого больше. Разве в лицо. Не знали, где их искать, куда идти.
– Что же теперь нам делать? – спросила Лена, когда они отошли от дрягаловского дома подальше.
– А ничего. Дрягалов, как видишь, в безопасности. Остальные, надо полагать, тоже. Полиции их не найти, – рассуждала Таня. – Вот только Мещерин с Самородовым…
– Таня, а нельзя ли за них попросить этого Антона Николаевича? Может быть, их отпустят. Подумаешь, великие революционеры какие! Пришли два-три раза в кружок послушать доморощенных витий и самим поупражняться в ораторском искусстве.
– А верно ведь! Папе очень понравился Володя. Ты же знаешь, как они увлеченно беседовали несколько раз друг с другом. И вчера папа говорил о нем какие-то добрые слова. Я сейчас же пойду поговорю с ним. В три часа он возвращается из должности, и я поговорю с ним непременно.
– Ты знаешь, Таня, мне еще на пруду пришла в голову одна интересная идея. Если бы, скажем, меня арестовали, Александр Иосифович смог бы мне помочь?
– Что ты говоришь, Лена! Я все сделаю, чтобы не допустить этого.
– И тем не менее, если случится, он помог бы мне оттуда выбраться?
– Ну разумеется. Какой разговор! Это все равно как если бы я там оказалась.
– Тогда слушай. Вот какая идея. Предположим, Лиза ни в чем не виновата. Если это сделала не она, а кто-то другой, то нам абсолютно ничего не грозит, потому что нас никто не знает даже по именам. А Мещерин с Самородовым, разумеется, о нас ничего там не расскажут.
– И что из этого следует?
– А то, что, если меня никак не потревожит полиция – о тебе я вообще не говорю, тут все ясно, – то, может быть, это еще и не Лиза, а кто-то еще.
– Ну не знаю… – усомнилась Таня. – Во-первых, о нас она могла и не говорить вовсе. Какие мы с тобой революционерки?! А потом, вчера у Нади мы же все вместе решили больше к ним не ходить и вообще не иметь с ними никаких дел. Мы тогда не знали ничего про Лизу и говорили все честно. Она должна это понимать. Какая польза ей нас выдавать? И им, полицейским, какая польза от нас, если мы были в этом несчастном кружке единственный и последний раз?
– И все-таки ей нужно оставить хоть какой-то шанс. Ты к ней так строга, Таня. Давай договоримся: если со мной ничего не случится, будем считать, что мы не знаем, кто выдал кружок. Может быть, и Лиза, как говорит ваш Антон Николаевич. Но, может, и еще кто-то. А если уж меня тоже… Тогда ты попросишь папу выручить меня.
– Хорошо, Лена. Я и сама больше всего желаю, чтобы Лиза оказалась нашей дорогой, доброй подругой, какой была всегда. Но только пока все против нее. Я не знаю даже, как мы завтра встретимся с ней в гимназии. Как вести себя.
– Там видно будет.
Они дошли до Мерзляковского переулка. И здесь распрощались до завтра. Лена хотела проводить подругу хотя бы до половины пути до Староконюшенного, но Таня попросила ее не делать этого, не расходовать попусту дорогого времени, а идти домой отдыхать от утренних похождений и переживаний или готовиться к экзаменам.
Леночкин отец, Сергей Константинович Епанечников, был довольно преуспевающим врачом-гинекологом. До того как открыть собственную практику, он несколько лет служил в снегиревской клинике и считался там одним из лучших специалистов. Кроме того, он еще был и приват-доцентом в снегиревском же гинекологическом институте. Но затем он отказался и от того и от другого в пользу частной практики. Несмотря на относительную молодость, а ему было всего тридцать семь, практику он имел весьма приличную, для чего и нанял большую квартиру в первом этаже. Эта квартира была для него очень удобна тем, что, кроме входа через парадный подъезд, в ней имелась еще одна боковая дверь на улицу. Это не считая выхода на общую для всех жильцов черную лестницу с дверью во двор. И через боковую дверь, с медной табличкой «Доктор С. К. Епанечников», Сергей Константинович принимал своих посетителей. Его супруга Наталья Кирилловна, к слову сказать, бывшая старше своей дочери всего на шестнадцать лет, освоила в свое время под руководством мужа азы непростого его занятия и вполне могла при необходимости ему ассистировать. Но с тех пор, как Сергей Константинович взял себе весьма опытную в этом деле помощницу, жену он не беспокоил.
Мало сказать, что семья их ни в чем не нуждалась, мало сказать, что их теперешнее состояние позволяло им жить одною только рентой, но они еще и могли позволить себе приобрести, кроме дачи в Кунцеве, зачем-то еще одну в Финляндии, завести несколько разнотипных экипажей на всякие случаи жизни, нанять кучера, горничную и кухарку, брать на год ложу второго яруса в Большом театре. Сергей Константинович говорил в шутку, что у него большое преимущество перед другими врачами. Иной человек за всю жизнь не попользуется ни у терапевта, ни у хирурга, ни, может быть, даже у дантиста. Но всем женщинам, до единой, необходим он, доктор Епанечников. К нему придет со своими нуждами и самая здоровая. И он был прав. От посетительниц у него не было отбоя.
Вообще порядки в их семье были своеобразными. И корень этого своеобразия заключался в исключительности характера Натальи Кирилловны. Добрая, умная, благовоспитанная Леночка, любимица гимназического законоучителя, даже ценой самого нечеловеческого напряжения воли не могла заставить себя исполнять важнейшую заповедь и в полной мере почитать свою родительницу. Нет, боже упаси, она ни разу в жизни не ослушалась ее ни в чем, не поступила наперекор, не сказала ей грубого слова. Но при всем этом почитать ее, как почитали своих матерей подруги, она не могла. Это было выше ее сил. Она этим очень тяготилась, она стеснялась этого, скрывала ото всех такое положение вещей, но ничего не могла с собою поделать.
Наталья Кирилловна родилась в семье состоятельного коннозаводчика, вознамерившегося сделать свою младшую дочь настоящею барышней.Для него это был такой же престиж, каким впоследствии стала для Натальи Кирилловны своя ложа в Большом театре. Он не поскупился и определил дочку в Екатерининский институт, в мещанское отделение, куда принимали девиц «прочих сословий». Ни успехами в науках, ни прилежанием Наталья Кирилловна в институте не блистала, но с горем пополам переходила из класса в класс. А в пятом классе, к негодованию воспитателей и к зависти многих воспитанниц, Наталья Кирилловна вышла замуж за бедного студента-медика и самовольно оставила институт. Отец ей тогда сказал, что пусть этот прощелыга не думает, будто сделал удачную партию: мы не таких повидали на своем веку! пусть погорбатится с наше! Суровый коннозаводчик не оплатил молодым даже венчания. Да он и не был на их венчании.
А Сергею Константиновичу стала выходить удача за удачей. Он прекрасно учился. Он уверенно практиковал в клинике. И скоро попечительский совет, принимая во внимание непростое его положение, нашел возможным освободить Сергея Константиновича от платы за посещение лекций. А по окончании курса его сразу и с удовольствием взяли в клинику в должность. И он там отлично себя зарекомендовал. Тогда же он стал подрабатывать частным манером. И у него образовалась своя практика еще до ухода из службы. Когда же Леночке подошел срок определяться в гимназию, семья жила уже более чем достаточно. А тут еще умер отец Натальи Кирилловны и отказал ей, как выяснилось из его завещания, приличное состояние. Перед смертью он очень раскаялся в несправедливо жестоком своем отношении к дочери и к толковомузятю. И Наталья Кирилловна стала владельщицей впечатляющего счета в банке и завода в Козлове.
Но порядочный достаток семьи никак не способствовал избавлению Натальи Кирилловны от ее врожденных коннозаводских повадок. Напротив, скорее усугубил их. Она желала во всем роскоши и блеска. Ежедневного фурора. Балов. Раутов. Ей очень хотелось, чтобы о ней написали в газете. И чтобы известный художник нарисовал ее портрет. Художника вскоре знакомые ей порекомендовали. Не очень, правда, известного. Но настоящего. Он вошел весь в грезах. Задумавшись о своих мирах. С длинными волосами. В красных гетрах. И закутанный в плед. Моментально составив себе представление о вкусах заказчицы, он объявил, что будет ее рисовать на коне в амазонке и с барсом на поводке. А можно на фоне Везувия? – прошептала задохнувшаяся от грандиозности фантазии творца Наталья Кирилловна. Извергающегося! – отвечал живописец. Сергей Константинович уговорил жену повесить картину в их спальне, потому что художник-то оказался совсем неплохим мастером и нарисовал молодую всадницу с профилем точь-в-точь как у Натальи Кирилловны. А поскольку к Сергею Константиновичу приходили весьма неглупые гости, знающие толк в искусстве, то, выставляя на обозрение этот портрет, он рисковал прослыть пошляком в кругу людей, мнением которых он очень дорожил.
Но если живопись, или музыка, или какое-либо другое искусство оставались для Натальи Кирилловны почти непостижимою заоблачною далью, и она сама этого не оспаривала, то в таком важнейшем достижении цивилизации, как мода, с нею мало кто мог посоперничать. Количество модных журналов в их доме полностью подавило медицинские журналы Сергея Константиновича. Их соотношение было приблизительно такое: один медицинский на полуаршинную кипу модных. В гардеробной Натальи Кирилловны появился манекен. И портниха или модистка стали приходить к ней на дом. В иной день часами из гардеробной доносился такой вот диалог: «Лучше всего его шить из бенгалина цвета гортензии. Это ваш цвет». – «Правда? А юбку, а юбку можно собрать будет у талии такими, знаете ли, группами кулиссе. А корсаж, а корсаж хорошо бы заложить очень мелкими складочками, а спереди открыть побольше, побольше так открыть его спереди». – «На пластроне белого плиссированного муслина». – «Да! И вставить в него в три ряда гипюровые прошивки!» – «А пояс хочу вам предложить сделать из шелка либерти того же цвета и со стальною пряжкой». – «Это восхитительно! А шляпку, а шляпку к этому хорошо бы из светло-серого такого панн и обшить ее по краю узким биэ из черного бархата и еще гарнировать легкою драпировкой из серого сюра».
Наталья Кирилловна была очень хороша собою и в сочетании с роскошными туалетами, выделанными по самой последней моде, в которой она в самом деле стала довольно разбираться, она выглядела всегда весьма импозантно. Когда она проезжала в шикарном кабриолете, городовые отдавали ей честь. Может быть, от восхищения, а может, оттого, что принимали ее за жену или дочку какого-нибудь важного сановника.
Уже где-то к пятому классу Леночка стала понимать, что матушкина мания к внешней пышности, к чисто наружной значительности является не чем иным, как моветоном. Она просто заметила, что в семьях ее подруг, не менее состоятельных семьях, все по-другому. У Тани, например. У Нади. Танина мама Екатерина Францевна не имеет своей ложи в Большом театре, но ходят они туда с Александром Иосифовичем довольно часто, а не только в те дни, когда там появляется генерал-губернатор с супругой и со свитой, как это делает ее мама. Надина мама коллекционирует западноевропейские гравюры, но хранит их в особых папках и лишь иногда показывает знакомым, причем очень интересно рассказывает и об этом изобразительном жанре, и об авторах, и прочее. А ее мама завесила стены сплошь огромными копиями и решительно никогда больше о них не вспоминает. Повесила – и забыла. Все! Опять-таки класса с пятого Леночка вдруг хватилась, что она единственная ученица, которую привозят и увозят в экипаже, заложенном парою. В силу своих юных лет прежде ей это было безразлично. Ну возят и возят. Родители сами знают, как и на чем ей добираться в гимназию и возвращаться из нее. Но потом, когда она получила достаточное представление об общественном расслоении и о том, какие внешние признаки приличествует иметь тому или иному слою, а соблазн присвоить себе привилегии более высокого сословия лишь свидетельствует о непреодоленном еще симптоме неблагородства, Лена страшно усовестилась и за себя, как за бездумную исполнительницу журденовских манер маменьки, и, в еще большей мере, за саму маменьку, не понимающую даже всей неприглядности этих своих манер. Лена пыталась как-то поговорить обо всем этом с Натальей Кирилловной, но та ничего не поняла и решила, что дочке чего-то недостает и она каким-то непостижимым окольным путем старается этого добиться. И чем настойчивее Лена пыталась объяснить свои воззрения, тем менее Наталья Кирилловна понимала ее. «Да объясни же ты толком, что тебе нужно?!» – с патетикой в голосе вопросила она, после чего Лена сразу прекратила этот разговор и сильно опечалилась. К счастью, Леночкин кризис не ускользнул от внимания Сергея Константиновича. Он увел ее к себе на женскую половину, как он называл свои приемные апартаменты, и основательно с ней побеседовал. Он объяснил дочке, что у мамы было очень нелегкое детство. Что она выросла в крестьянской, по сути, семье, в которой царили крайние по суровости патриархальные порядки. И ее чрезвычайно ранний брак был в известной степени протестом против прежней жизни. Но протест этот, рассказывал Сергей Константинович, обошелся ей очень дорого. Она навлекла на себя неистовый гнев отца, совершенно после этого оставившего ее в каком бы то ни было попечении. «И заметь, – говорил Сергей Константинович, – разгневался он не на то, что дочка так рано выходит замуж – на ее матушке он женился, когда та была еще моложе, – а потому, что она манкировала его абсолютным правом устраивать судьбу детей по своему усмотрению. Несколько лет кряду, до тех пор, пока я не вступил в должность, мы нуждались так, что жили едва ли не впроголодь. А ведь нас было уже, как ты понимаешь, трое. И вот теперь, когда положение дел переменилось, когда наше благосостояние даже превышает необходимое, мама стала – постарайся это понять – как бы наверстывать то, чего в первые лет двадцать своей жизни была полностью лишена. Да, она многое делает, как говорится, не по правилам эстетики, не руководствуясь учением об изящном, которого она, в силу самых объективных причин, никогда не знала. И я вижу, ты стала это замечать и переживать. Но разве здесь ее вина? Ты вспомни-ка: кто согрешил, что человек родился слепым? – не он и не родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Я верно цитирую? Ты же теперь у нас лучше всех знаешь Божий Закон. А вот исполнять этот Закон тяготишься. Признайся сама себе, что сейчас ты судишь ее. А сказано: не суди! Пойми же ты, Лена, другой наша мама не будет. Ты люби ее такой, какая она есть. Это еще у родителей есть выбор – одни дети могут быть любимыми, другие, как у сатирика, постылыми. А у детей по отношению к родителям такого выбора нет. Знаешь ли ты, что мама любила своего отца даже в самые, казалось бы, отчаянные минуты? По-настоящему любила. Молилась за него. Считала себя перед ним виноватою». – «Я тоже ее люблю», – сказала Леночка, опустив влажные глаза. «Я знаю, – улыбнулся Сергей Константинович, – я все хорошо знаю».
После этого разговора с отцом Леночка оставила всякие намерения повлиять на маму и относиться стала к ней с состраданием. Если Наталья Кирилловна выказывала в какой-либо форме свое благоприобретенное барство, Лена только безнадежно вздыхала, совершенно больше не имея в виду что-то переменить. Но если Наталью Кирилловну нельзя было заставить понять некоторые очевидные истины, то ее несложно было уговорить не делать того или другого. Она имела, в общем-то, очень мягкий, уступчивый характер. И если только понимала, чего от нее хотят, то никогда не упрямилась и просьбу выполняла.
Так, например, несколько лет тому назад она загорелась желанием, чтобы их сыновья Сережа и Костя были определены в частный пансион в Австрии. Почему именно в Австрии, а не, скажем, во Франции или в Германии, она сама толком не знала. Наверное, ей кто-нибудь из ее окружения, таких же мало осведомленных, но с сильно развитым чувством престижного особ, посоветовал отдать сыновей в пансион именно в Австрии. И Сергею Константиновичу не составило большого труда убедить ее отказаться от этой затеи. Он объяснил ей, что русские учебные заведения ничем не хуже австрийских. А давать сыновьям образование вблизи с домом для них же полезнее – было бы большой ошибкой сказать, что еще и выгоднее! – потому что в этом случае дети получают сугубую опеку – и со стороны учебного заведения, и со стороны семьи, что весьма положительно влияет на их общее развитие. Наталья Кирилловна, в результате, согласилась с доводами мужа, и мальчики были избавлены от преждевременного отрыва от дома. Но пришлось и Сергею Константиновичу, в свою очередь, сделать жене уступку – Сережа и Костя пошли в лучшую в Москве первую гимназию.
Но если Лена нашла в себе силы покориться судьбе и смириться с маминою самобытностью, то посвятить подруг в свои внутрисемейные проблемы для нее совершенно не представлялось возможным. Она, так часто и подолгу у них гостившая, не могла совсем не приглашать подруг к себе. Но при этом ей всегда приходилось решать непростую задачу по предотвращению их общения с Натальей Кирилловной или хотя бы к сведению его до минимума. И Таня, и Лиза, и Надя – все, разумеется, вскоре поняли ее драму, но, дружно и не сговариваясь, делали вид, будто ничего такого не замечают. Чтобы не подвергать Лену лишний раз душевным переживаниям, они под тем или иным предлогом избегали бывать у нее. В свою очередь, Лена также поняла, что за всем этим скрывается, и благодарна была своим дорогим подругам за такую их деликатность безмерно.
Новость о Лизе не потрясла Лену до такой степени, как потрясла Таню. В отличие от Тани, она отнеслась к этому известию весьма скептически. Она была убеждена, что произошло недоразумение. Что скоро все выяснится, и Тане же будет совестно за свои нападки на подругу. Да что ждать, пока это выяснится само собою? – она завтра же при Тане и при Наде поговорит с Лизой напрямки. Лиза ни в коем случае не будет обманывать. Никогда еще, сколько дружат, они друг друга не обманывали, разве в шутку. Но здесь какие шутки! Она все расскажет как есть. А вернее, ничего не расскажет. Потому что ей и нечего рассказывать. Это мы еще должны подумать, как нам преподнести ей наши оскорбительные подозрения. А, может быть, и не следует тогда ни о чем с ней говорить? Завтра я приду со всеми вместе в гимназию, и это уже будет большим доказательством в пользу Лизы. И послезавтра. И через неделю. И Таня поймет, как она несправедлива к Лизе. Как же это можно доверять едва знакомому полицейскому, которому, может быть, ради достижения каких-то там своих служебных целей, даже полагается иногда обманывать, и не верить ближайшей подруге, с которой так долго уже знакома и которая за все это время не подала ни малейшего повода заподозрить себя в чем-то низменном, подлом, не совершившей ни одного необдуманного, способного причинить другим страдание поступка. Но завтра уже, ко всеобщей нашей радости, все будет выяснено! А Александр Иосифович непременно вызволит и Мещерина с Самородовым. Так рассуждала Лена.
Ее настроение от таких рассуждений улучшилось настолько, что ей захотелось немедленно кому-то принести пользу. Она пошла к братьям и долго и с удовольствием занималась с ними их нехитрыми уроками. За ужином шутила с отцом. У них была такая манера общения, когда они говорили друг другу какие-то многозначительные, с подтекстом, вещи, истинный смысл которых понятен был только им двоим. А после ужина она беседовала о том о сем с Натальей Кирилловной в ее комнате, что вообще случалось крайне редко. К вечеру Лена почти и думать забыла об утренних напастях. Она ушла к себе, взяла томик модного писателя Горького, устроилась поудобнее на диване и углубилась в чтение. И так зачиталась, что не обратила внимания на странные для этого позднего часа звуки шагов и голоса из передней, будто к ним на ночь глядя заявилось гостей со всех волостей. Оторваться от книги ее заставил лишь робкий стук в дверь, вслед за которым на пороге появилась горничная. Девушка была сильно чем-то испугана и поэтому только и сумела вымолвить: «Барышня, там вас спрашивают…» Уже чувствуя недоброе, но стараясь не думать о плохом, Лена не спеша встала с дивана, аккуратно зашнуровала туфельки и вышла в переднюю. Кроме взволнованного Сергея Константиновича и онемевшей от ужаса Натальи Кирилловны, там было еще трое полицейских и господин в статском. Но Лена как будто бы пока не осознавала: верно ли она понимает, зачем здесь эти люди, или неверно? Может быть, это совсем другое что-то? Когда она к ним вышла, господин в статском внимательно ее оглядел и спросил: «Вы Епанечникова Елена Сергеевна?» – «Да, я», – ответила Леночка. «Госпожа Епанечникова, – заговорил статский голосом с нотками торжественности, – я имею предписание задержать вас по подозрению в участии в антиправительственной организации. Если у вас на дому есть социалистическая, анархистская, а равно другая запрещенная литература, прошу предъявить ее добровольно». Только после этих слов Лена все поняла окончательно. И к собственному своему удивлению, ничуть не испугалась. У нее было такое чувство, будто самое страшное уже позади.
Обыск в огромной квартире длился часа три. И закончился где-то около полуночи. Наталья Кирилловна два раза впадала в истерику, пока наконец Сергей Константинович решительно не велел ей уйти к себе. Когда Лену уводили, статский сказал Сергею Константиновичу, что поскольку ничего такого недозволенного при обыске не найдено, то его несовершенных лет дочь, после допроса в управлении, скорее всего, завтра же, в крайнем случае через два дня, отпустят.
Глава 5
Таня пришла домой где-то после полудня. До возвращения Александра Иосифовича со службы времени было еще достаточно. Побеседовав недолго о каких-то пустяках с Екатериной Францевной – Тане, впрочем, сейчас все казалось пустяками, по сравнению с последними новостями и событиями, – она ушла в свою комнату и который уже раз за этот день погрузилась в мучительные раздумья. Но прежде она попросила Полю немедленно сказать ей, когда вернется папа. Сидеть или там лежать она от крайнего нервного возбуждения не могла. Она стала ходить по комнате, что называется, из угла в угол. Мещерина и Самородова арестовали впервые, не Бог весть какие они революционеры – ходили в собрание чай пить. Ведь не террористы же они в самом деле! не бомбометатели! Ну уж самое-самое опасное, что у них могли найти при обыске из поличного, так это какую-нибудь брошюрку, например, или там листовку. Неужели за такую мелочь их сурово покарают? Разве что исключат из университета. И еще, может быть, попросят из Москвы – так, кажется, наказывают за малую провинность. А из полиции их должны ввиду незначительности преступления отпустить и так, безо всякой протекции. А уж если за них кто-то еще и заступится, тогда их отпустят наверно. Ну надо же такому было случиться! Нужно быть или законченною дурой, или совершенною мерзавкой, чтобы ввергнуть близких людей в такое бедствие. И если у нее это действительно, как говорит папа, выведали обманом, то она сейчас сидит спокойно в классе, ни о чем не подозревая. А что, если по доброй воле рассказала? с умыслом? Но нет, нет. Верно говорит Лена: этого решительно не может быть. Завтра мы у нее обо всем расспросим, и она признается, как это вышло, кому и чего она рассказывала. Конечно, наша доверчивая Лиза оказалась всего-навсего инструментом в чьих-то ловких руках. Она сама жертва чьей-то грязной махинации. И все равно, это непростительное легкомыслие. Как же можно не предусмотреть, что всякое неосторожное слово, хотя и родителям сказанное, может обернуться для кого-то страданиями. Вот я вчера, рассуждала Таня, разговаривала на эту тему с папой. Но разве я проронила хоть полслова, способного доставить неприятности кому-либо? И это притом что папа абсолютно надежный человек. А с кем она говорила? С какими людьми? И как могла поверить столь важные сведения без оглядки? Не думать вперед! Ах, какая неосторожная, легкомысленная девушка эта Лиза! Какая легковерная! Ей, верно, кажется, что все люди такие же, как она сама. Вот кто-то ее простодушием и воспользовался. Хорошо, что беда еще вполне поправима. Ну, а не будь у папы знакомого начальника полиции, и Мещерин с Самородовым окажутся надолго в тюрьме, как ты, несчастная, стыдила Таня в уме подругу, сможешь жить потом с таким грехом на душе?! Это невозможно. Немыслимо.
Таня долго еще рассуждала таким образом, маясь в ожидании отца. Наконец к ней вошла Поля и сказала, что Александр Иосифович возвратился. Но Таня не сразу еще кинулась к нему со своими просьбами. Она знала, что папа будет теперь какое-то время рассказывать о чем-нибудь Екатерине Францевне, как это у них повелось, о разных там новостях, служебных, внеслужебных, своих, чужих, любезничать, шутить, говорить всякие приятности Поле и прочее. А потом он уже уйдет к себе в кабинет дожидаться за газетами обеда.
Но вот звонкий, доходящий до самого дальнего уголка квартиры голос Александра Иосифовича затих. Это означало, что ритуал встречи главы дома окончен и все разошлись по обычным своим надобностям. Через полчаса, как заведено, Поля приглашала всех в столовую. За этот срок Таня и собиралась поговорить обо всем с Александром Иосифовичем. У нее не было и тени сомнения в положительном результате этого разговора. И она совершенно спокойно, непринужденно, как по самому обыденному житейскому вопросу, постучала к папе и, не дожидаясь ответа, вошла в кабинет.
– A-а, иди-ка сюда, – сказал Александр Иосифович, не сразу меняя, под впечатлением прочитанного, сосредоточенный взгляд на сдержанно-радостный – обычный при общении с дочкой.
Он опять обнял ее за талию и опять же подставил щеку для поцелуя. Начало всякого их свидания в этом кабинете было до мелочей похоже на все предшествующие. Таня знала наверно, что сейчас, после нескольких отвлеченных, формальных, как дань этикету, слов, папа скажет: «Ступай сядь», и затем уже начнется собственно беседа.
– Давненько не виделись, правда? – улыбаясь, говорил Александр Иосифович. – Как там за морем житье?
– За морем житье не худо… Папа, мне надо с тобой поговорить по очень важному делу. Собственно, это продолжение нашего вчерашнего разговора. К несчастью…
– Вчерашнего?.. – Александр Иосифович нахмурился, изображая беспокойство. – Ну знаешь ли… Я вправе, кажется, был надеяться, что эта тема исчерпана и мы больше никогда к ней не возвратимся. И что такое «к несчастью»? Ты пугаешь меня, Таня. Что случилось? Ступай сядь. – Он отпустил дочку и сам устроился в кресле поудобнее.
Таня присела на самый краешек дивана.
– Папа, – сказала она, – вчера вечером Володю Мещерина забрали в полицию. А чуть раньше арестовали и его друга.
Александр Иосифович не сразу продолжил разговор. Он помолчал несколько секунд. Ему необходима была эта пауза, чтобы показать, насколько он растерялся от неожиданности, от всех этих страшных новостей, которые ему так безжалостно в последнее время преподносит родная дочь. Но растерянность его длилась недолго. Скоро Александр Иосифович овладел своими чувствами, и взгляд его приобрел выражение этакой строгой многозначительности. Своего, однако же, он добился – теперь Таня не чувствовала той уверенности, с которою она шла в кабинет к отцу.
– Та-ак, – как бы с трудом произнес Александр Иосифович. – Доигрались в революционеров мальчишки… Вкусили прелестей вольтерьянства сполна… Ну что ж, их никто не неволил, они сами устроили себе красивую жизнь. Вот и делай теперь выводы, Таня.
– Вывод у меня, папа, пока один – им надо как-то помочь.
– Помочь?! – Александр Иосифович подпрыгнул в кресле от такой дочкиной дерзости. – Ты, может быть, предлагаешь захватить участок?! Отбить их у полиции?! Устроить им побег?! Давай сейчас я, мама, Поля возьмем по кочерге и пойдем вызволять этих арестантов. Так, что ли? Я ничего не понимаю. В чем дело?
– Ну папа! Что ты говоришь! – с мольбой в голосе и с упреком, оттого что ее не понимают, сказала Таня. – Можно же попросить за них Антона Николаевича! Они ничего решительно не сделали такого, за что их следовало бы посадить в тюрьму. Они такие же революционеры, как и я, как Лена. Не более того. Ты же знаешь Мещерина. Он тебе всегда очень нравился. Ты еще вчера говорил о нем с такою симпатией. Ну, пожалуйста, поговори с Антоном Николаевичем. Они же ни в чем не виноваты…
– Вот что я тебе скажу, девочка: ты для начала успокойся, оставь эмоции. Я теперь отчетливо вижу, что ты еще совсем не поняла, в какой истории оказалась замешанной. Тебе кажется, это пустяки – подумаешь, собрались, посидели, почитали там Гегеля или кого еще, погрозились из подполья кулачком чиновным кровопийцам-бюрократам и разошлись. Что тут такого особенного? Верно? Так вот, вообрази себе, что все это считается тяжким преступлением против государства и власти. И за это по закону полагается весьма суровое наказание. Но ты, видимо, считаешь, раз я обезопасил, при помощи своих связей, тебя, то могу избавить от преследований – законных, подчеркиваю, преследований! – и весь этот ваш кружок. Я правильно тебя понял? – правильно! Так знай же, я не только не могу, но и не хочу, и не буду этого делать! И вот почему. Мы только вчера условились с тобой, что больше никогда наша фамилия не прозвучит в связи с какой бы то ни было незаконною кружковою деятельностью. А теперь ты мне предлагаешь самому идти в полицию и сказать: здравствуйте, я статский советник Казаринов, я прошу вас отпустить этих людей, потому что они ни в чем не виноваты, мне это известно наверно. Тебе не кажется, что там кое-кто может заинтересоваться, отчего этот Казаринов постоянно вертится около запрещенной революционной организации, как муха у меда? А не себя ли он хочет выгородить? Не свои ли какие-то там следы заметает? Да, я один раз попросил Антона Николаевича за тебя. Потому что ты моя дочь. Он, как человек умный и порядочный, понимает, что в данном случае мною руководили естественные чувства отца, спасающего попавшего в беду своего ребенка. Но за кого я пришел просить теперь? За некоего Мещерина, которого я видел однажды? За его сообщника, совершенно мне не известного? Да любой нормальный человек тотчас заподозрит меня в причастности к организации, если я прихожу выручать одного за другим выявленных или уже арестованных ее членов. Я дорожу своею репутацией! Нет! И еще раз нет! Ни в коем случае. Да и потом, не родственник же нам в самом деле Антон Николаевич. Не кум там, не сват какой. Это совершенно чужой человек. Ради чего он должен ставить то и дело под угрозу свою карьеру, свою репутацию? Мы и так должны теперь быть ему по гроб обязаны за то, что ты сидишь сейчас дома в моем кабинете, а не с этими двумя арестантами в участке. Но просить его еще и за них – нет уж, уволь!
Уже с первых слов отца до Тани стало доходить нечто ужасное – все их с Леной оптимистические планы рушатся! Оставалась, правда, еще надежда, что Мещерина с Самородовым выпустят и так, без постороннего заступничества. Ну что особенного такого они сделали? В чем уж таком непростительном виноваты?
– Они же ни в чем не виноваты! – Голосок Танин уже дрожал от отчаяния, от беспомощности. – Они не сделали ничего дурного!
– Не виноваты? Не сделали? Ты можешь поручиться?
– Могу! – вскрикнула Таня.
– А я не могу! – тоже повысил голос Александр Иосифович. – И тебе не советую. Ты говоришь, Мещерин ни в чем не виноват. Ты не знаешь за ним никакой вины. Все правильно. Но это оттого, что ты самого Мещерина едва знаешь. Вы с ним вместе провели в общей сложности несколько часов. Вся остальная его жизнь проходила помимо твоего внимания. Почему ты знаешь, чем он занимался в это время? Да, может быть, он разбойничал на большой дороге. Воровал! Убивал! Тебе в это не верится. Это на него не похоже. Правильно! Он втерся в доверие нашей семьи, и вот уже ты не допускаешь самой мысли, что под видом овечки может таиться волк алчущий. Вспомни же Тартюфа! Их разве мало существует на свете в той или иной разновидности?! Сними же ты эти розовые очки, дорогая моя! Взгляни реально на вещи, на мир!
– Но как же теперь быть, папа? Нельзя же так!
В это время в дверь тихонько постучали. Вероятно, был уже подан обед, и Поля обходила покои и приглашала господ пожаловать к столу. «Да!» – громко сказал Александр Иосифович. Вошла Поля. Но Александр Иосифович, даже не улыбнувшись ей, а он никогда не разговаривал с горничной без улыбки, нервно сказал: «После, после. Мы подойдем попозже. Екатерина Францевна пусть нас не ждет». Девушка поклонилась одним только изящным движением шейки и вышла.
– Ты говоришь, как теперь быть? – продолжил Александр Иосифович. – Я знаю, как тебе, Таня, теперь следует быть. Я вчера просил тебя, чтобы все эти порочащие наш дом связи прекратились. Но теперь уже я не прошу, – я настаиваю, я требую. Я, Таня, понимаю, что для тебя было бы оскорбительным – для меня, кстати, тоже! – если бы нам с мамой пришлось следить за тобой, контролировать каждый твой шаг, каждый поступок. В нашей семье никогда не существовало взаимных подозрений, недоверия. Поэтому, если угодно, я обещаю, что этого не будет и впредь. Но в этом случае я хочу чтобы и ты выполнила все то, о чем мы говорили вчера и теперь говорим. Я на этом настаиваю. Каков будет твой ответ? Я жду Таня.
– Я не знаю, папа…
– Вот так новость! Что ты не знаешь?
– Ты говоришь, что мое знакомство с Володей – это порочащие наш дом связи. Но мне кажется, что он порядочный человек.
– Порядочных людей не арестовывает полиция. А не известно, был ли у него обыск?
– Был.
– Вот видишь. Порядочный человек! В общем, мне все ясно – мои условия ты принимать отказываешься. Я правильно понял?
– Папа! Но ты же толкаешь меня, по сути, на предательство друга. Я не могу так поступить. А если он окажется невиновным и его отпустят? Что тогда? Нам же самим будет до смерти совестно, что мы заранее отреклись от него. А что, если арестуют Лену? Значит, мне и от нее отречься? Но я-то знаю, что безобиднее Лены нет человека на свете.
– Ну при чем здесь Лена? Это уже слишком.
– Но ведь арестовали Мещерина. А он не больший преступник, чем Лена. Я уверяю тебя в этом.
– Не уверяй. Можешь ошибиться. Вспоминай почаще Тартюфа. А что до безобидности Лены… У тебя и другая подруга тоже, наверное, была милою, безобидною девушкой. А как все обернулось?
– Ты говоришь про Лизу? – Тане было страшно неприятно это напоминание о предательстве подруги.
– Да, я говорю про эту Тужилкину. Теперь-то нам о ней все доподлинно известно. А вчера еще, до нашего с тобой разговора, ты, конечно, стала бы защищать ее от любых обвинений с не меньшим усердием, нежели сегодня отстаиваешь Мещерина.
– Ты знаешь, папа, у нас и теперь есть большие сомнения, что кружок выдала Лиза.
– У кого это у вас, позвольте спросить? – подавляя тревогу, произнес Александр Иосифович.
– У нас с Леной. Мы нынче утром обсудили все очень подробно.
– Они обсудили! И что же вы там придумали?
– Ничего конкретного. Но мы сомневаемся, что это сделала Лиза. Слишком уж это на нее не похоже. Может быть, Антону Николаевичу как-нибудь неверно донесли или там напутали что-то. Ведь бывает же так?
– Это маловероятно. Хотя совершенно не допускать возможной погрешности в работе полиции тоже было бы неверно. Ну и какие же у вас появились аргументы в пользу Тужилкиной? – Александр Иосифович успокоился, поняв, что под подозрение подпадает Антон Николаевич, но никак не он самый.
– Она всегда была очень доброю и честною девушкой. И сколько мы ее знаем, она никогда даже по мелочам никого не обманула и никого не подвела… поступком ли каким-то своим непродуманным или неосторожным словом…
– Ну, милая моя, с точки зрения права это совсем не аргумент. Мало ли кем или какой она была. Ангелы и те бывают падшими. Твое отношение к ней основано на сантиментах прошлого, а у меня имеется совершенно конкретное показание свидетеля против нее. Что, скажи, будет предпочтительнее для суда – твои сантименты или информация, которой я располагаю?
– Не знаю. И все-таки мы решили пока этой информации, как ты говоришь, не доверять. Во всяком случае, повременить с окончательными выводами.
– Повременить? До какой поры? До новых арестов? Нет, я очень приветствую вашу позицию. Вы до последнего отстаиваете свою подругу. Это вызывает к вам уважение. И все же, какие такие окончательные выводы могут у вас появиться? Кажется, происшествие с Мещериным и с тем другим кружковцем уже кое о чем говорит.
– Ты понимаешь, папа, мы вот как с Леной рассуждали: Мещерина и его друга полиция арестовала по доносу человека, который их неплохо знает, которому известны их имена, известно, где они живут, и так далее. Так ведь?
– Совершенно верно.
– Правильно, теоретически это могла сделать и Лиза. А могла и Лена, могла и я. Потому что мы все их знаем. Но это мог сделать и еще кто-то из кружка, кому также о них кое-что известно. Логично, не правда ли?
– Ну допустим. – Александр Иосифович опять вынужден был повести внутреннюю борьбу с поднимающимся волнением, чтобы выглядеть внешне спокойным.
– Так вот, если в кружке есть провокатор, то он может выдать полиции кого угодно, но при всем желании не выдаст нас. То есть меня, Лену и Лизу. Потому что нас в кружке никто не знает даже по именам. Не говоря уже об адресах. Мы ни с кем там не знакомились…
Александр Иосифович застыл в напряжении. Эти девицы, кажется, способны самостоятельно докопаться до истины. Если это произойдет, то его безупречная репутация внутри семьи, да и не только внутри семьи, понесет колоссальный ущерб. Его авторитет, особенно в глазах дочери, будет непоправимо поколеблен. А это чревато огромными неприятностями, от которых он, собственно, и пытается ее избавить. И себя избавить, конечно. Он себе честно в этом признается. И жену. Всех, одним словом. Но не ошибся ли он с самого начала, затеяв всю эту историю с Тужилкиной? Но назад пути теперь нет. Теперь эту злополучную историю придется доводить до какого-то завершения. Лишь бы не упала эта трижды проклятая революционная тень на его семью, а значит, и на него самого.
– …Но, напротив, – продолжала Таня, – если полиция как-то потревожит меня или Лену, впрочем, со мною, стараниями моего родителя, это едва ли случится, – улыбнулась она, – то вот тогда вероятность того, что в этом повинна Лиза, многократно возрастет, потому что Лиза неплохо знает Мещерина, кое-что ей также известно и о его друге, и уж, конечно, она все знает о нас с Леной. Но мы надеемся, что этого не произойдет.
– А это значит, Антон Николаевич меня обманул?
– Отчего непременно обманул? Я же говорю: они сами могли обмануться каким-то образом.
– Ну хорошо, хорошо. – Александр Иосифович проговорил это мягким, словно оттаявшим голосом, потому что ему представился в это мгновение весь ход его дальнейших действий. Теперь он знал, как ему избавиться от появившейся было угрозы. – Это, в конце концов, меня немного интересует. Кто там кого выдал – Тужилкина или еще кто? Не мое дело. Сейчас я больше обеспокоен твоею судьбой. Я еще раз тебя спрашиваю, Таня, намерена ли ты исполнять мое требование и немедленно, сию секунду, обещать прекратить всякие свои сомнительные знакомства?
– Папа! Но я не могу тебе обещать сделать то, что считаю бессовестным. В кружок мы больше не пойдем. Так мы решили с девочками. Но при чем здесь наша дружба с Мещериным? За что мне от него отрекаться? – за то, что его постигло несчастье? Это очень красиво! Это достойно! Да?
– Все, Таня, довольно! – очень строго сказал Александр Иосифович. – Я понял тебя. Будь добра, выслушай теперь мои условия. Через месяц ты сдаешь экзамены и выходишь из гимназии. Тотчас вслед за этим вы с мамой поедете на дачу. Я вынужден буду маме все о тебе рассказать и просить ее внимательно за тобой наблюдать. Чем ты займешься осенью, я еще не решил. Ну а пока, в оставшееся до этого время, я сам прослежу, чтобы твое поведение отвечало моим довольно-таки еще мягким требованиям. К подругам на этот срок я тебе ходить запрещаю. Пусть к нам приходят. Лена – пожалуйста, и эта девушка… дочка генеральши Лекомцевой…
– Надя, – пролепетала Таня.
– Да, и Надя. В гимназию теперь тебя будут к трем четвертям девятого привозить. Как первоклассницу. И в три сорок увозить домой. И, пожалуйста, не хмурься. Это вынужденная, крайняя мера. Ты ни за что не несешь ответственности, а я за все отвечаю. За должность, за семью, за тебя, между прочим. За твое настоящее и будущее. Вчера я тебе сказал: подумай хорошенько обо всем. Сегодня я так не говорю уже. Теперь думать буду я. Все, Таня. Ступай обедать.
Выпроводив дочь, Александр Иосифович несколько минут стоял посреди кабинета, сложив руки на груди, и смотрел в одну точку. Взгляд его был страшен. Александр Иосифович думал не о том, что ему теперь делать. Это было решено. Он обдумывал, как это сделать. Как лучше сделать. Как вернее.
Таня сидела за столом и ела с обычною заведенною в их доме степенностью. Поля прислуживала ей. Не будучи в одиночестве, Таня умела не показывать даже самое дурное свое настроение. Когда она показалась в столовой, ни Екатерина Францевна, ни горничная не заметили в ней ни малейших следов предшествующего тяжелого разговора с отцом.
Дверь растворилась, и очень бодро, тоже как ни в чем не бывало, совсем как обычно, вошел Александр Иосифович.
– А где Екатерина Францевна? – спросил он у Поли с неизменною улыбкой.
– А барыня только что ушла к себе, – ответила девушка.
– Скажи ей, пожалуйста, Поленька, что я срочно поехал по делам в Думу. Теперь обедать не буду. Там пообедаю.
Глава 6
Если душевные волнения приобретают сколько-нибудь продолжительное постоянство, то страдания от них, боль, в отличие от мук телесных, от боли плотской, притупляются, становятся хотя и докучливыми, но, при некотором усилии воли, вполне терпимыми сопутниками. А Тане, с ее-то волей, справиться с этою напастью вообще почти не представляло труда.
Таня ехала в гимназию в легкой, на мягких рессорах, коляске Александра Иосифовича. Отделанные упругою резиной колеса не стучали по булыжникам, как у извозчичьих пролеток, а катились бесшумно и плавно. И коляска казалась скользящею по водной глади быстрокрылою ладьей. Зато два могучих буланых жеребца били по мостовой своими серебряными подковами звонко во всю улицу, в один удар и с искрой. Их поземь длинные, как у сказочных коней, черные гривы роскошно и горделиво полоскались по ветру. Экипаж Александра Иосифовича был одним из лучших в Москве. Их кучер Андрей, молодой человек лет двадцати двух, уже даже не выказывал без особой нужды своего молодечества, как он прежде это делал. На пешеходов шибко не кричал. Кнутом над самыми ушами лошадок не хлопал. Он пережил эту страсть. А лошади и без кнута прекрасно его слушались. Подчинялись малейшему движению вожжей. Андрей любил своих лошадок больше, чем невесту. Ну не меньше, по крайней мере. Но уж и лошадки платили ему сполна за это. Кроме Андрея, буланые не подчинялись так сознательно и с такою охотой никому. Это было уже проверено. Но больше того, кони и друг без друга чувствовали себя неуютно. Когда однажды правый захромал и Андрей выехал на одном жеребце, тот слушался плохо и очевидно нервничал. На другой день Андрей поставил ему в пару здоровенную флегматичную кобылу той же масти. Но вышло еще хуже – левый здорово обиделся, слушаться Андрея перестал вовсе, а безответную кобылу несколько раз ни за что потрепал за гриву зубами. К счастью, дружка его скоро поправился, и благотворное триединство было восстановлено.
Таня грациозно покачивалась на кожаном стеганом диване. До самой гимназии она ни разу не посмотрела по сторонам. Тане казалось, что ее в откинутой коляске разглядывает вся улица, как арестованную или, там, ссылаемую в каторжные работы и т. п. Александр Иосифович велел Андрею каждый день теперь подвозить Таню к гимназии точно к самой молитве в девять без четверти. А в полчаса четвертого снова быть у подъезда и забирать ее. Себе на этот срок Александр Иосифович взял экипаж внаем. Вначале он вообще хотел брать всякий раз извозчика, но Екатерина Францевна отговорила его. Не к лицу ему было ездить в должность на извозчике, как какому-нибудь средней руки делопроизводителю. Вчерашнее нервозное состояние сменилось у Тани на самое хладнокровное отношение к случившемуся. Абсолютно непредвиденный результат разговора с отцом только вначале ее смутил. А потом Таня подумала, что не обстоятельства должны быть сильнее ее, а она сильнее обстоятельств. Отчаиваться рано. Да и вообще отчаиваться не следует, что бы ни случилось.
Андрей остановился у самого подъезда гимназии. Он проворно соскочил с козел и, разыгрывая сценку из жизни бомонда, распахнул дверцу коляски и подал Тане руку, словно это была выехавшая в театр или на раут первейшая дама света. Несколько опаздывающих гимназисток и беззаботных реалистов, не спеша бредущих в свое училище, отнеслись к происходящему с пониманием и заулыбались. Не до смеху было только Тане. Теперь ей предстояло как-то объяснять девочкам, отчего ее в гимназию стали привозить. Ни на кого не глядя, сосредоточенная, она поспешила к спасительным дверям. Андрей ей вдогонку еще сказал: «Успехов вам в науках, барышня». Таня безотчетно, по привычке благодарить за добрые пожелания, прошептала какие-то слова благодарности, не дошедшие, конечно, до слуха Андрея, и скрылась за дверями.
Большинство воспитанниц уже разошлись по классам. Лишь немногие, из тех девиц, что взяли за правило подходить на урок к самому его началу, мелькали в коридорах и на лестнице, да бежали две-три по-настоящему опаздывающие испуганные ученицы младших классов. Таня впервые оказалась в числе этих воспитанниц. Но теперь ей всякий день предстояло приходить в гимназию именно в эту минуту. Так распорядился Александр Иосифович. Она поднялась в третий этаж, где находился их класс. С другого конца коридора, с журналами в руке, навстречу ей, также к их классу, шел учитель истории Корнелий Венедиктович Негоряев, которого девочки между собой называли иногда Негодяевым. Хотя, по правде, причины так его звать у них не было, и делали они это исключительно ради забавы. Историк был не молодой, но и не старый вроде бы человек, летами предположительно между сорока и пятьюдесятью. Волосы у него на голове сильно поредели, зато средней длины каштановая борода густо разрослась до половины щек. Его с лукавинкой карие глаза всегда улыбались, – рта в густой бороде вообще почти не было видно, – и такою ироническою улыбочкой играли глаза, словно он знал на самом деле о воспитанницах решительно все, а они, дурехи, думают, что ему о них известно лишь немногое.
Несколько лет тому назад с Негоряевым приключилась история, едва не стоившая ему права заниматься педагогическою деятельностью. Он тогда служил в другой гимназии, и у него там вышел случай с одною старшеклассницей. Причем активною стороной, по крайней мере в начальной стадии их отношений, выступала воспитанница, а не учитель, что, разумеется, нисколько не умаляло вины Корнелия Венедиктовича и не избавляло его от самого сурового взыскания, вплоть до увольнения из должности без права занимать ее впредь.
Как-то во внеурочное время, когда он в одиночестве сидел в классе, к нему подошла одна его ученица, глазастая красавица с недетским, многообещающим, смелым взглядом. Спросив вначале, для видимости, что-то там будто бы по делу, она вдруг сказала: «Корнелий Венедиктович, я хочу быть рядом с вами». Негоряев вначале ее не понял и ответил, что, дескать, пожалуйста, детка, ты и так рядом со мною. И тут ему девица заявила напрямик: «Я хочу быть с вами, как Ева с Адамом». Негоряев остолбенел. Разумеется, он тотчас все понял. Хотя и высказано это было довольно убого. Что такое, как Ева с Адамом? Яблоки, что ли, вместе есть им? Или как? Но уточнять Негоряев не стал, ввиду ясности для себя ее намерений. В тот же день он и навестил свою ученицу у нее на дому.
Роман учителя и ученицы длился недолго и был прерван родителем последней, заставшим однажды дочь и ее наставника в своем доме в самое для них неподходящее время. Взбешенный родитель бросился на Негоряева. И не с чем-нибудь, а с чугунною сковородой. И конец педагогической, а равно и всякой иной деятельности мог бы для Корнелия Венедиктовича наступить в тот же час. Но вначале ему посчастливилось отбиться от отца воспитанницы и даже не получить почти побоев при этом, а потом ему еще более посчастливилось выдержать натиск попечительского и педагогического советов. Заступился за него один его знакомый высокопоставленный чиновник, у которого, в свою очередь, были знакомства еще выше. Да к тому же потерпевшая сторона не пошла до конца. Отроковица созналась папаше, что инициатива, в сущности, принадлежала ей, а Корнелий Венедиктович, себе на беду, всего лишь не отвергнул ее. И родитель не решился поднимать большой скандал, страшась совершенного бесчестия, в случае, если оскорбленная за свои попранные ретроградом-отцом чувства дочь в самый решительный момент изобразит из себя страдалицу за любовь. Родитель, через доверенного, послал Корнелию Венедиктовичу предложения с условиями мира.
Условия эти предусматривали некоторые репарации. Корнелий поторговался. Доверенный уступил. И сделка состоялась. Негоряев сколько-то отслужил совсем по другому министерству а потом тот же его знакомый чиновник, ставший к этому времени еще более высокопоставленным, доставил ему место в Мариинской гимназии, где он с тех пор и учительствовал. И теперь Негоряев только улыбался всем воспитанницам своею ироническою улыбочкой, но более ничего такого себе не позволял.
Увидев спешащую в класс Таню, Негоряев заблестел глазами еще более, но, рисуясь удивленным ее позднему появлению, покачал головой. Таня виновато опустила глаза и, может быть, всего на дюжину шагов раньше учителя впорхнула в класс. Едва она дошла до своей парты, появился в дверях, блеснув золотыми пуговицами, и Негоряев. Все встали. Учитель подошел к кафедре и дирижерским движением руки позволил воспитанницам садиться.
– Ну, пожалуйста – кто дежурная? – начинайте, – сказал Негоряев.
К кафедре вышла невысокого роста симпатичная воспитанница с огромными глазами и ресницами в полвершка.
Все снова встали. Дежурная повернулась к классу лицом и начала читать молитву. За годы учебы молитва эта, повторяемая ежедневно, была вызубрена до такой степени, что при чтении ее можно было думать о чем-нибудь совершенно отвлеченном, как почти все воспитанницы, не исключая и чтеца, и делали. Певучим голосом девушка читала:
– Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Все перекрестились и сели по местам. Негоряев разложил на кафедре журналы – один для отметок, другой для записи пройденных и заданных уроков.
– А кого сегодня нет в классе? или все на месте? – спросил он дежурную, все еще стоящую возле кафедры.
Девушка внимательно оглядела класс и сказала:
– Епанечниковой Лены сегодня нет.
Только после этих слов до Таниного сознания в полной мере дошло, что она сидит за партой одна, а место справа, где последние годы неизменно с ней сидела Лена, свободно, хотя давно уже должно быть занятым. Правильно, она привыкла, до безотчетности привыкла, приходить в класс раньше Лены, и свободное соседнее место, всегда бывшее незанятым вплоть до самого начала урока, впопыхах нисколько ее не насторожило. Но ведь сегодня-то она сама появилась в классе едва ли не с опозданием, сама села за парту в тот срок, когда обычно к ней подсаживалась Лена. И сколько уже прошло времени от начала? Минут пять? А Лены нет! И тут перед Таней и разверзлась бездна нового страшного откровения. Она поняла, что произошло. И едва не вскрикнула от ужаса. Она уперлась локтями в парту и, чтобы спрятать лицо, опустила, как молящаяся католичка, голову на сцепленные в замок ладони. Ни вчера вечером, ни сегодня утром ей и мысли не пришло, что с Леной может случиться то, о чем они говорили. Они же фантазировали! Их план с самого начала был шит белыми нитками. Таня прекрасно понимала, что Лена, как за соломинку, хватается за любой повод, чтобы отвести от Лизы подозрения в злодеянии, оставляет ей, как она говорит, шанс. И, разумеется, Таня подыграла подруге. Не настолько же она, в самом деле, бессердечна, чтобы не оставить Лизе ни малейшей возможности реабилитироваться в их глазах. Но одновременно Таня была и совершенно убеждена в полнейшей безопасности Лены, независимо от того, по чьей вине пошли аресты. Она настолько не допускала никаких неприятностей с Леной, что за все сегодняшнее утро даже не вспомнила о ней ни разу. У нее нужда была совсем до другого. До более важных, как ей казалось, забот. Как, например, отнесутся окружающие к тому, что ее привозят в гимназию в коляске? что ее привозят к самой молитве и не на минуту раньше? что ее забирают после уроков, как маленькую? О недостойная! Легкомысленная, самовлюбленная эгоистка! Ты же своим равнодушием к подруге, своими только на себя самое обращенными помыслами предала ее точно так же, как это сделала…
Дойдя в своих рассуждениях до слов «как это сделала…», Таня подняла голову и в упор посмотрела на девушку, сидящую прямо пред ней. Так это, значит, все-таки она! Все-таки Лиза! Как это ужасно! Вот, Лена, мы и проверили нашу подругу, как ты хотела, думала Таня. Вот и удался твой план. Тут Таня вспомнила, как она заверила Лену, что той даже при самом трагическом развитии событий отчаиваться не придется, потому что Александр Иосифович выручит ее так же непременно, как если бы это была его родная дочь. Таня вспомнила об этом и едва не застонала от обиды и беспомощности. Она обманула ее! Она просто-таки обманула подругу, которая теперь, может быть, только и жива надеждой на ближайшее участие в ее судьбе семьи Казариновых. Но Таня уже наверно знала, что на помощь папы можно больше не рассчитывать. Если она пойдет просить у него за Лену, ответ его будет точно таким же, как в случае с Мещериным и Самородовым. Ни на что иное рассчитывать не приходится.
Пока Таня рассуждала таким образом, Лиза, пошептавшись вначале о чем-то с Надей, с которой они сидели за одной партой, быстро написала записку и положила ее перед Таней. Там было написано: «Таня. Где вы были вчера? Где Лена?» Таня размашисто черкнула в ответ: «Не теперь» – и отдала им бумажку назад.
Не теперь! Вчера Таня мучилась вопросом: как им вести себя с Лизой? Как им с ней относиться, если, паче всякого чаяния, ее вина будет доказана? И вот, судя по всему, вина доказана вполне. А ответа на вопрос «как же быть дальше?» нет как и не было. Не теперь?! Но когда и как?! С такою проблемой Таня столкнулась впервые в жизни. Не разговаривать ли с ней вовсе? Дуться ли на нее, как маленькой девочке? Обдать холодом презрения? Как?! Как вести себя с ней?! А что бы делала Лена на моем месте? – подумала Таня. Опять бы стала искать ей оправдание. Опять бы утешалась весьма сомнительными предположениями, что Лиза сделала это не по злому умыслу, что у нее кто-то выведал об этом обманом и т. п. Но пускай хотя бы и так. Разве легче от этого станет тем, кто из-за нее пострадал? Нет уж, дорогая Леночка, я не хочу заставлять себя делать приветливое выражение лица, чтобы, не дай бог, не нанести ей душевную рану своими подозрениями в предательстве. Пусть она получит, что заслужила. Сколько же можно заботиться о покое этой особы, так безответственно навлекшей беду на стольких людей. На друзей! Я теперь же скажу ей все, что думаю. Довольно играть в благородных, всепрощающих подруг. Сейчас же, после урока!
Таня совершенно не слушала урока, а между тем Негоряев, любуясь собой, своим красноречием, уже довольно долго рассказывал про реформы Александра Второго. Воспитанницам нравилась его манера читать лекции, потому что Негоряев очень удачно использовал в своей речи поговорки и пословицы, которых он знал великое множество, цитаты из известных поэтов и иные риторические приемы. Он говорил с упоением, самозабвенно и никогда не укладывался в отведенное время. Колокольчик прерывал его обычно на полуслове, и Негоряев, с удивлением и сожалением вынимал часы, чтобы удостовериться, верно ли уже конец урока, или ослышался он, или недоразумение какое вышло.
Точно так же было и в этот раз. За дверями прозвонили конец урока. Негоряев отщелкнул крышечку часов и, как бы извиняясь за вынужденное окончание лекции, развел руками, при этом улыбнулся он совсем уж широко, так что из-под усов даже показался ряд крепких белых зубов. Затем он собрал журналы и ушел. Класс сразу же наполнился оживленным девичьим щебетанием. Лиза и Надя одновременно обернулись к Тане и засыпали наперебой ее вопросами.
– Отчего вы вчера не были на уроках?
– Не случилось ли чего?
– А где Лена?
– Что с тобой, Таня? Ты будто опечалена чем-то. Ты не больна?
– Что произошло?
Таня молчала. Она в упор смотрела на Лизу и не произносила ни единого слова. Ее взгляд был страшен. Глаза нездорово горели. Но уста ее, из которых подруги чаяли услышать объяснений, угрожающе безмолвствовали. Девочки тоже, в растерянности, замолчали, причем Лиза, смутившись, даже подалась назад, подальше от Тани, от ее жуткого взгляда. Казалось, сейчас в Тане неистово борются две антагонистические силы. Одна из них заставляет ее немедленно выговориться, крикнуть, может быть, даже, а противная сила не дает раскрыть рта, душит ее немотой. Но вот, по всей видимости, вторая сила взяла верх. Порозовев лицом, Таня отвернулась от Лизы и сейчас же схватила свой портфель, который она так и не раскрыла с начала урока, и стремительно вышла из класса, оставляя подруг совершенно уничтоженными непостижимостью такого ее поведения.
– Боже, что случилось? – пролепетала Лиза, смутно предчувствуя, что она находится в какой-то связи с невиданным Таниным поведением.
Надя, едва придя в себя от неожиданности, вскочила и выбежала вслед за Таней. В коридоре резвились воспитанницы младших классов. Тани здесь уже не было. Догнала ее Надя только внизу перед самым выходом.
– Таня, постой, пожалуйста. – Надя нежно взяла подругу за запястье, удерживая ее от намерения распахнуть дверь. – Что произошло? Ты можешь объяснить или нет?
Могла ли Таня объяснить?! Да она сгорала нетерпением облегчить душу. Искатель жемчуга не столь стремится на поверхность за глотком воздуха, как Таня желала рассказать, наконец, обо всем надежному, понимающему человеку. Посоветоваться с ним. Держать всю эту безысходную драму в себе было положительно невыносимо. Таня ощущала приближение некоего нервного срыва. Она никогда не знала разных там истерик и прочих женских сентиментальностей. Мама с детства ей внушала, что это есть театральщина и моветон. Но теперь, казалось, всякую секунду с ней может приключиться именно истерика. И только благодаря крайнему напряжения воли она как-то справлялась с чувствами. Конечно, ей сейчас стало бы намного легче, если бы она все рассказала Наде. С кем, как не с Надей теперь поговорить?! Ведь она остается единственным человеком, кому еще можно довериться, у кого можно спросить совета. К тому же Наде прекрасно известна предыстория этих событий. Она не меньше других знакома с Мещериным. Она знает, что подруги участвовали в кружке. Она и сама должна была пойти туда вместе со всеми, и лишь какая-то нужда помешала ей сделать это. И это ее счастье. А иначе томиться бы ей сейчас вместе с Леной и другими в мрачной арестантской. Все эти мысли в единый миг пронеслись у Тани в голове. И она уже хотела было позвать Надю прогуляться к их любимому месту на Пресненском пруду и о многом поговорить. Но вместо этого сказала:
– Не спрашивай меня ни о чем, Надя. Ступай в класс. Пожалуйста.
Обескураженная Надя выпустила ее руку из своей ладони. Таня виновато посмотрела ей в глаза, как бы принося извинения и за этот не вполне любезный ответ, и за все свое сегодняшнее более чем странное поведение, и скрылась за дверью.
Не смогла она ничего сказать ни Лизе, ни Наде. Хотела, да не смогла. Это предполагать было легко, с какими цветистыми упреками обрушится она на несчастную предательницу. Но как, оказывается, непросто воочию произнести слова порицания. Не то что не просто, а вообще невозможно. Таня не нашла в себе силы этого сделать. И поэтому предпочла так нелепо удалиться. А вернее сказать: убежать, спрятаться. Ей легче было самой показаться вздорною девицей, нежели выговаривать другому какие-то там претензии. Ведь, по сути, это для Лизы приговор. Но отчего она вообразила, что имеет право выносить и оглашать приговоры?! Кто ее наделил полномочиями судить и казнить?! Разве Лена поступила бы так? – никогда в жизни! Потому что она не столь самонадеянна. И, слава богу, что это бессловесное объяснение не обернулось еще большим конфузом. Вполне, кстати, заслуженным конфузом. А в случае с Надей, когда Таня совсем было уже решилась все рассказать подруге, ею вдруг овладело сомнение: к чему посвящать в неприятности еще и Надю? чем она может помочь, что посоветовать? – разве посочувствовать… Вот это, кажется, и есть истинная причина, побуждающая к откровенности. Конечно, у тебя страшная тяжесть на душе, говорила сама себе Таня, и нестерпимо хочется переложить часть бремени еще на кого-нибудь, пусть и Надя теперь потерзается, поломает голову над проблемой. Достойный поступок! Лена сейчас страдает в заточении. Ей в тысячу раз хуже. А ты ищешь, с кем бы поделиться неприятностями, чтобы на душе полегчало. Неисправимая эгоистка! Да из одной только солидарности с арестованною подругой не следовало бы даже думать, как бы облегчить свои мнимые страдания! И Таня не стала ничего говорить и Наде тоже.
Она вышла на улицу. Никакого плана дальнейших действий у нее не было. Разве пойти к Лене домой, узнать подробности у родителей. Подробности, по правде, ее не очень интересовали. Какие подробности? – пришли, арестовали, ну еще, наверное, обыскали квартиру. Но ведь идти надо куда-то. Не на урок же возвращаться.
От гимназии к Мерзляковскому можно было идти несколькими путями. Но Таня, совсем не имея в виду какой-то конкретной цели, а скорее непроизвольно, пошла по Малой Никитской. Она и хватилась-то, что идет именно по этой улице, когда случайно посмотрела налево, на противоположную сторону, и узнала вдруг знакомый двухэтажный особняк. Дом по-прежнему выглядел угрюмым и безлюдным. Окна были так же тщательно зашторены. Таня лишь вздохнула с сожалением, припомнив, как вчера они приходили сюда вдвоем с Леночкой. Каким легкоразрешимым выглядело еще все произошедшее. Как оптимистично обе они еще были настроены. И как все вышло! Поравнявшись уже со следующим номером, Таня оглянулась на дрягаловский особняк, и ей показалось, что в нижнем этаже в ближайшем к двери окне шелохнулась занавеска. Но что за дело теперь, есть ли в доме кто-нибудь или нет. Сегодня это ее уже мало интересовало. И Таня, снова погрузившись в свои печальные думы, продолжила путь. Она почти дошла уже до Вознесенского проезда, когда ее догнала простоволосая, в посконном платьице, симпатичная девочка. Таких девочек обычно берут из деревень в услуженье в мещанские дома.
– Барышня, вас хочут видеть… – проговорила девочка, изо всех сил стараясь справиться с учащенным от быстрого бега дыханием.
– Кто меня хочет видеть? – улыбнулась Таня.
– Молодой хозяин велели вас догнать и позвать пожаловать к ним, – с детскою угодливостью говорила девчушка.
– Но кто же он, твой хозяин, голубушка? – Таня не удержалась от улыбки, глядя как старается ее собеседница соблюдать плохо еще усвоенные манеры, заведенные для своих слуг разбогатевшим неблагородным сословием.
– Мой хозяин – Василий Никифорович. Но их нету теперь. А за вами меня послали Мартимьян Васильевич. Сын ихний.
– Ну пойдем, – сказала Таня после недолгой паузы и вполне поняв, о ком идет речь. – Как тебя зовут?
– Клаша, – ответила девочка.
Это было весьма неожиданно. Младшего Дрягалова Таня совершенно не знала. Хотя и старшего-то она, в общем, тоже не знала. Но о Мартимьяне Васильевиче она вообще впервые услышала. Таня сообразила, что он, вероятно, тоже член кружка. Ну конечно, так и есть. Если отец дает в своем доме приют революционной организации, является сам ее членом, то отчего бы и сыну не принимать участия? Вероятно, он был среди прочих на том собрании, запомнил ее, а теперь случайно увидел из окна. Только зачем я ему понадобилась? – размышляла Таня. Скорее всего, это как-то связано с последними событиями. Если так в самом деле, то это просто счастливый случай вышел! Отыскался хотя бы один человек, с кем можно наконец-то без опаски обо всем поговорить. Но вот что странно: мы вчера приходили сюда, чтобы предупредить об опасности Дрягалова-отца, но ведь не меньше, выходит, нуждается в безопасности и сын его, если он такой же член кружка. Почему Дрягалов всего за день до первых арестов уехал за границу? Мещерин рассказывал, что они, революционеры, умеют предчувствовать опасность. Ну допустим, Дрягалов что-то такое заранее предвидел. Так отчего же он сына тогда не взял с собой? Выходит, отъезд Дрягалова накануне арестов – это случайность? Он мог бы уехать и на день раньше, и на два, да когда угодно. А этот Мартимьян Васильевич? Его что же, не тронули? Ну тогда уже совсем ничего не понятно. А может быть, его уже и отпустили?
– А скажи, Клаша, – спросила Таня удевочки, – Мартимьян Васильевич последние дни дома был или отлучался куда-нибудь?
– Где уж им, барышня. Дома, известное дело, сидели. Они сроду дома сидят.
Таня отступилась решить эту головоломку. К тому же до прояснения оставалось потерпеть самую малость. Не для того ли ее и приглашают сюда, чтобы разрешить некоторые вопросы?
Они подошли к дому. Клаша позвонила в колокольчик. Должно быть, их караулили, потому что дверь распахнулась тотчас. Здоровенный бородатый детина оценивающе и неприветливо оглядел Таню и сквозь зубы процедил: «Просим».
Прямо по коридору, под лестницей, имелись еще одни двери, выходившие во внутренний дворик. Клаша сказала Тане идти за ней. Они вышли во дворик, в котором лежали и делали вид, будто спят, две огромные лохматые собаки, и, обогнув какую-то надворную постройку, очутились у того самого флигеля, что выходил фасадом своим в Гранатный переулок. Возле флигеля сидел на лавочке, подставив морщинистое лицо солнышку, их с Леной вчерашний знакомец – былинный кудесник. Завидев Таню, он заулыбался ей, как добрейшей своей старой знакомой. Таня в ответ сотворила малый поклон, изяществу которого позавидовала бы иная балерина. Старец заулыбался еще более и принялся размеренно кивать головой, не прекратив этого делать даже после того, как Таня скрылась за дверью.
Клаша довела ее до самого входа, постучала и, не дожидаясь ответа с той стороны, сказала: «Проходите, пожалуйста, барышня» – и отворила перед ней дверь. Без малейшего страха, но с обычною осторожностью человека, вступающего в незнакомое помещение, Таня переступила порог.
Это была довольно обширная, светлая, со множеством окон комната. Таня немного даже удивилась, найдя эту комнату не только исключительно чистою и убранною, но еще и устроенную с редким для купеческих домов вкусом. Но Таня-то, стараниями Екатерины Францевны, как никто, знала, что такое устроить дом со вкусом. Цвета обоев, обивки мебели, драпри находились здесь в совершенной гармонии. В комнате не было ни одного предмета, фасоном своим нарушающего целостность обстановки. Всякие излишества отсутствовали. Только что икон в красном углу было непомерно много. Три чина. И всё старого письма. Причем все лампады теплились, подмигивая крохотными своими огоньками. У Тани промелькнуло: что нынче за праздник? – но она не вспомнила. Левее иконостаса, у окна, укутав ноги в плед, сидел в кресле молодой, болезненного вида человек. Лицо этого человека, притом что и было изможденным давнишнею, по всей видимости, болезнью, еще хранило следы былой красоты. Могло даже показаться, что с наружности его еще не полностью вытеснено болезнью выражение необычного для этого сословия благородства. Удивительно, но, при очевидном болезненном его состоянии, комната не выглядела помещением, в котором содержится болящий. Здесь не то что, упаси боже, не было какой-нибудь там скляночки для мокроты, но и даже всякие микстуры и прочие медикаменты, равно как и самый их запах, здесь отсутствовали. А внешний вид обитателя этой комнаты свидетельствовал об отменно усердном за ним уходе. Он был тщательно, если не сказать строго, одет. Густые волосы и борода аккуратно подстрижены. Мраморно-бледные руки чисты и ухоженны. Приглашенную гостью он смерил злым и одновременно высокомерным взглядом. Таня этому не особенно удивилась, потому что у больных, она знала, часто бывает такой взгляд. Она поздоровалась. Незнакомец отвечал на приветствие медленным кивком головы и указал тонкою слабою рукой на канапе у стены. Таня присела на краешек.
– Что вам угодно, сударыня? – с вызовом спросил Мартимьян Васильевич.
Таня сразу не поняла широкого значения этого вопроса. Она подумала, если ей сюда предложили прийти, то это от нее что-то угодно.
– Но мне кажется, – отвечала она, – что это у вас была нужда видеть меня.
– Мне нужда видеть вас?! Да, верно! Есть нужда! Вы второй день кружитесь возле нашего дома. Вы вчера в набат здесь били. Сегодня снова что-то выискиваете. Знаете, что я вам скажу: оставьте его! Добром прошу – оставьте! Вы – революционеры, вы – бунтари. У вас душа рвется – дайте побунтовать! дайте покуролесить! Будьте любезны. Но не совестно ли вам вовлекать в свои молодые забавы постаревшего и поглупевшего жуира?! Что вы его ищете? Зачем он вам? Вы же при всей своей революционной принципиальности не признаетесь, что вам нужна лишь его казна. Вам надо оплачивать счета, гасить долги. Мне все известно!
Мартимьян Васильевич говорил взахлеб. Нездоровый румянец на его лице перешел в густую красноту. Сухонькие кулачки дрожали. Конечно, его обвинения звучали совсем не по адресу. Хотя, наверное, по сути, они были справедливыми. Но зато, после первых же его слов, Таня стало ясно, что Мартимьян Васильевич не член организации. А это уже был какой-то результат от ее визита сюда.
– Вы обложили его, как волка, – продолжал брызгать слюной Мартимьян Васильевич. – Вы шпионите за ним. Следите за домом. Он весь теперь в вашей власти. И по-доброму, я знаю, вы его уже не отпустите. Потому что без него вам придется снова положить зубы на полку. Это что же, называется революционною деятельностью?! Это мошенничество! Неприкрытое, грязное мошенничество! Вот как это называется. – Мартимьян Васильевич оборвал речь свою, чтобы перевести дыхание.
– Я прошу вас выслушать меня, – сказала Таня, воспользовавшись его заминкой. – Ваши гневные речи я ни в коей мере не отношу на свой счет. И себя, в данном случае, считаю стороннею слушательницей, которой вы выдумали высказать все свое наболевшее. Здесь поблизости находится моя гимназия, – и что же удивительного, если я прошла мимо вашего дома? А вчера мы действительно искали господина Дрягалова, но не затем, чтобы он оплатил какие-то наши счета, как вы изволили сказать, – мы живем, к вашему сведению, в достаточных семьях, – а чтобы предупредить о грозящей ему опасности.
– Самое лучшее, что вы можете сделать для его безопасности, – забыть сюда дорогу навсегда. И остальным это передайте. Вот вы благородная вроде бы девица. Из достаточной, говорите, семьи. Так отчего же вы покушаетесь на достаток моей семьи? Или это теперь у благородных почитается за доблесть?
– Я попросила бы вас говорить конкретно: какие у вас лично ко мне имеются претензии?
– Извольте. Возможно, вы и впрямь не все знаете о ваших сотоварищах. Если только не лукавите ловко. Тогда послушайте, что я вам скажу. Уже два года, – целых два года! – мой отец содержит на свой счет ваш кружок. За этот срок вам перепало от него приличное состояние. Когда я говоря «вам», я имею в виду не лично вас, а всю вашу братию, – поспешил уточнить Мартимьян Васильевич, предупреждая Танины возражения. – Хорошенькое дело! Посчастливилось вам с вербы груши собирать. Без трудов и забот вести жизнь сытую и праздную. Охотники до чужого добра! Из достаточной семьи, говорите? Так возьмите у вашей матушки кольца и серьги, у батюшки часы с портсигаром и передайте их в кружок, коли вам есть нужда. Ну нет, как же! Своего-то, поди, жаль! Да и потом, выискался благодетель, у которого и так можно брать, сколько надо и еще сверх того. Он даст! Куда денется! Вы же его как быть аккурат связали по рукам и ногам. Он будто по грудь в трясине. Вы в кружке недавно. И, может быть, не знаете, как батюшка угодил в их сети. О-о, они хитры на выдумку! Порождения ехиднины! Я расскажу вам. Извольте. Впрочем, не скрою, у меня есть основания полагать, что вам все это хорошо известно. Но слушайте же. Для моего брата Димитрия понадобилась в ту пору домашняя учительница. И они, коварные, какими-то ухищрениями – они в этих делишках великие искусники, – подсунули батюшке свою товарку – весьма распущенную мамзель. Их расчет был верный, – стареющий волокита скоро увлекся этою гнусною интриганкой и стал служить у нее на побегушках. Он подносил ей дорогие подарки, пресмыкался перед ней, как юнец перед первою своею пассией, и, натурально, мамзель сделалась совершенною его содержанкой. Так мало того – она еще и привела за собою целую артель ненасытных, охочих до даровой поживы здоровенных бездельников. Недурно, правда? Свое назначение она исполнила. Но это не все. Мамзель-то оказалась совсем не простушкой. И то верно – у вас таких не водится. Себе на уме была плутовка. Она сообразила: зачем ей делиться с другими, когда можно и одной взять весь куш? Ну, в общем… вы, наверное, понимаете… вскоре она оказалась в некотором положении… И, разумеется, предъявила батюшке счет. Что ему оставалось делать? – пришлось выделять ее. На кружок свой она тотчас наплевала. К чему ей теперь какой-то кружок? – она вполне обеспечена! ее жизнь устроена! а вы копошитесь, как копошились! Где-то зимой она уехала в Париж. Конечно, для ваших это оказалось большою неприятностью. Еще бы! – через нее они имели дополнительную и, уверяю вас, немалую статью. А тут лишились. Обмишурились! И они затеяли повторить этот спектакль. Только с другою уже актеркой. Более послушною и более бездумною. Еще лучше, если у нее где-нибудь поблизости будут жить родственники. Такая не удерет в Париж. Такую всегда можно держать в беспрекословном повиновении, шантажируя угрозой благополучия близких. У вас родители в Москве живут?
Таня даже вздрогнула, настолько неожиданно для нее прозвучал этот вопрос. Лишь когда Мартимьян Васильевич спросил ее о родителях, Таня поняла, какой намек содержали его предшествующие слова.
– При чем здесь мои родители? – проговорила Таня, чувствуя, что ей изменяет голос.
– А вот при чем, голубица. Вы неспроста появились с подружками именно теперь. Сдается мне, что этот ваш старший – провор, каких свет не видывал, – прочит кого-то из вас батюшке в новые фаворитки.
– Какая нелепая инсинуация! – Таня встала с канапе, давая понять, что не намерена больше слушать эти оскорбительные речи. – Я, к вашему сведению, и не состою вовсе в кружке. Мы были один раз на собрании, но это ничего еще не значит.
– Они вас затянут, не увидите как. Раз были, другой придете, а там и захлопнется дверца. Устроят так, что сами будете им служить. За страх ли, за совесть – все равно. Если уже не служите, – добавил Мартимьян Васильевич с еще большею желчью в голосе. – Вы по-французски знаете? – спросил он как будто невпопад.
– Да, – ответила Таня, опять не поняв сразу, к чему клонит собеседник.
– Очень хорошо. Они не велели вам еще поступить сюда в службу учительницей? Ну, может быть, намекали? Вам или вашим подругам?
– Позвольте мне оставить вас! Я теперь занята! – в гневе воскликнула Таня.
– Вот то-то. Ступайте. Я вас не задерживаю больше. И передайте там вашим, чтобы поостереглись сюда ходить впредь. Вы дурачите батюшку, но меня вам не провести! Имейте в виду, я найду способ, как избавить дом от этого езуитского подспудного грабежа. У меня достанет средств. К совести вашего брата взывать, я знаю, пустое дело. К помощи полиции прибегнуть я также лишен возможности. Потому что у самого в семье революционер завелся. Но нанять человека, чтобы он подкараулил вас однажды в темном переулке, я могу. Это дело верное. Берегитесь тогда!
Выслушав угрозу, Таня смерила Мартимьяна Васильевича полным презрения взглядом и, не проронив ни слова, вышла. Угроз его она, разумеется, не испугалась. Еще и потому не испугалась, что уже раньше решила никогда здесь больше не появляться. И не только здесь, а вообще в кружке, где бы он ни собирался. Но ей было нестерпимо стыдно слушать речи этого упыря в чистой рубахе, не допускающего и мысли, что перед ним может находиться человек, связанный каким-то образом с кружком, но не способный при этом даже на самую малую подлость.
Очутившись снова на улице, Таня не сразу еще и вспомнила, что она шла из гимназии к Епанечниковым расспросить что-нибудь о Лене, настолько велико было ее впечатление от этой непредвиденной беседы. Если в его словах есть хоть доля правды, размышляла она по пути к Мерзляковскому, то с нимии поздороваться-то при случае будет зазорно. А правда, похоже, есть. Потому что и папа говорит, по сути, то же самое. А когда свидетельства разных людей совпадают, то дело можно считать доказанным. А что же тогда Володя? Он не знает ни о чем? Не разглядел их? А может, и разглядел, и знает все, да поздно ему уже порывать с ними. Захлопнулась клетка, как сказал сейчас этот ревнитель отцовского состояния.
Обуреваемая тяжелыми раздумьями и сомнениями, Таня не заметила, как оказалась у Леночкиного дома. Дверь ей отворила девушка-прислужница, неплохо знавшая Таню. Она попросила гостью подождать и пошла сказать барыне о ней. Но вернулась она очень не скоро. Тане успело уже наскучить разглядывать художественные достопримечательности передней Епанечниковых, когда снова появилась девушка и пригласила ее пройти в будуар.
В комнате, куда допустили Таню, сидела в белом, с высокою спинкой кресле, в роскошном, неутреннем туалете, как царица, Наталья Кирилловна. Весь ее торжественный вид, и туалет, и самое кресло, несомненно, предназначались произвести впечатление на очевидца. Кланяться бы, по совести, полагалось, представая перед светлыми ее очами. Таня догадалась, отчего ее так долго держали в передней: Наталья Кирилловна даже в такой несчастный день не упустила случая явиться гостям во славе.А чтобы только облачиться в это роскошное одеяние требуется немало времени, подумала Таня.
– Танечка, дорогая! – воскликнула Наталья Кирилловна, всплеснув руками и пытаясь изображать удивление, будто ей не доложили сейчас, что пришла Таня Казаринова – Леночкина подруга.
Она подошла к Тане, обняла за плечи и прижалась щекой к ее щеке. Нежность эта была неожиданною и неестественною, разве только оправданною обоюдным их горем, потому что с подругами своей дочери Наталья Кирилловна, по известной причине, почти не имела отношений. Таню она не видела уже где-то около полугода. И до этого их встречи носили характер мимолетных свиданий, безо всякого дружелюбного сближения.
– Ах, Таня, какое у нас несчастье! – сказала Наталья Кирилловна, не убирая рук с Таниных плеч. – Я совершенно убита горем. Лену забрали в полицию. Вы знаете об этом?
– Ее не было сегодня в гимназии. Вот я пришла узнать, что случилось.
Таня не стала открываться, чтобы не навлекать нежелательных расспросов со стороны Натальи Кирилловны. Новости, которыми она располагала, не могли принести Наталье Кирилловне ни пользы, ни утешения, а вот Леночке они навредили бы наверно, если бы каким-то образом дошли до сведения заинтересованных лиц. А то, что Наталья Кирилловна была ненадежною хранительницей важных сведений, Таня, за время дружбы с Леной, смогла понять, даже при столь ограниченном с ней общении. Таня вообще уже пожалела, что пришла сюда. В крайнем случае, можно было спросить о Лене у служанки и сразу уходить. Как теперь вести разговор с Натальей Кирилловной? Та непременно будет задавать ей какие-нибудь относящиеся к делу вопросы. Значит, придется увиливать, выкручиваться каким-то образом. А то и обманывать. Как это неприятно!
– Пойдемте присядем, Таня, – сказала Наталья Кирилловна. – У меня нет мочи держаться на ногах. Вчера у меня был дурной сон, – начала свой рассказ Наталья Кирилловна, поудобнее усевшись и заботливо оправляя складочки и оборки на платье. – Мне приснилось, будто мой покойный батюшка, царство ему небесное, а он был дворянин, – для чего-то уточнила Наталья Кирилловна, – закладывает тройку. И вдруг кони у него разбежались по двору. Здоровенные такие вороные. А я, маленькая еще, стою на крылечке и смеюсь. Батюшка бегает, коней ловит, а я надрываюсь, смеюсь. Остановиться не могу. Вот и насмеялась. Верно говорят: от смеха до плача недалеко. Не к добру так смеяться. А мне еще Сергей Константинович утром говорит: что ты так смеялась ночью? А мне сон приснился – кони у батюшки разбежались, он давай их ловить…
– Наталья Кирилловна, – Таня вынуждена была прервать ее, – а что сказали полицейские?
– Полицейские?.. Ах, полицейские! Они сказали… Сказали… Я не помню, что они сказали! Они ничего не говорили. Всё искали какие-то бумаги. Но ничего не нашли. А потом забрали Лену с собой в участок. Бедную мою девочку. – Наталья Кирилловна хотела было прослезиться, но поспешила захлопать подступившие слезы глазами, чтобы не потек грим.
– Но вы что-нибудь предпринимаете? Вы узнали, за что ее забрали в полицию? Неужели они так даже и не сказали, за что забирают?
– Сказали. Они сказали: за участие в этой… в организации. Таня, я вам даю честное слово, мы не знали, что Лена участвует в организации. Она нам ничего не рассказывала.
– А где Сергей Константинович?
– А он ушел в полицию. Утром пораньше. Я еще спала.
Тане здесь было делать больше нечего. Подтвердилось лишь то, что она уже знала. Ничего нового для себя она не услышала. Правда, Сергей Константинович мог бы еще чего-нибудь рассказать. Но неизвестно, когда он возвратится. А Наталья Кирилловна в любой момент могла перейти к вопросам. И тогда Тане не поздоровится. Что она будет отвечать? Только что обманывать.
– А что вы об этом думаете, Таня? – начала спрашивать Наталья Кирилловна. – Она ни о чем таком вам не рассказывала? Знаете, девушки часто доверяют друг другу свои маленькие секретики.
– Нет, ни о чем таком она мне не рассказывала. Наталья Кирилловна, я, к сожалению, должна вас оставить. Я так спешу.
– Как?! Таня! Вы разве не позавтракаете со мной? Я велела сегодня приготовить паштет из дичи с кумберлендом. Прошу вас, останьтесь.
– Спасибо большое. Я и сама очень хотела бы задержаться, чтобы дождаться Сергея Константиновича, но, увы, не могу. Право же, очень спешу.
– Ах, как жаль! Но, пожалуйста, приходите. Мы будем вам очень рады. Отчего вы так давно у нас не были, Таня?
– Да все как-то не случалось. Я к вам непременно приду. Или завтра, или даже сегодня вечером. Может быть, что-нибудь к этому времени прояснится. Пожалуйста, не провожайте меня. Не трудитесь. Вам сейчас так тяжело. – Таня подошла к двери. – До свиданья, Наталья Кирилловна. Если б вы знали, как я переживаю. Но надеюсь, все будет хорошо.
– Танечка! я сама совершенно расстроена. Ко мне вот-вот должна прийти госпожа де Желаббо, моя портниха, и я боюсь, что мы не сможем даже с ней заниматься.
– До свиданья, – едва сдерживая гнев, сказала Таня.
Девушка проводила Таню к выходу. В передней, у самой двери, Таня спросила ее:
– Скажите, вы присутствовали при вчерашнем?..
– Да, барышня.
– Вы слышали, что говорили полицейские?
– Не все, конечно. Они сказали, что арестовывают барышню по подозрению в участии в антиправительственной организации.
– И больше ничего?
– А в конце, когда ее уже уводили, господин в статском – он здесь всем распоряжался, верно, начальник, – сказал барину, что поскольку Лена девушка несовершенных лет, то ее отпустят сегодня или завтра. Но прежде ей учинят допрос.
Как часто слуги лучше господ все знают и помнят, думала Таня, бредя бесцельно по улице, как часто они бывают благоразумнее, находчивее, дальновиднее. Таня не решила, куда ей теперь идти. Можно было подойти к половине четвертого к гимназии, чтобы вернуться домой под конвоем, как ей и определил быть Александр Иосифович. Но в неволю, хотя бы и в комфортную, ей не хотелось смертельно. Она отдавала себе отчет, что если Андрей вернется домой один, то папа применит к ней еще более жестокие меры. И все же к гимназии она не пошла. Последняя новость о Лене сильно ее возбудила. Окрылила. Ноги сами будто понесли куда-то. Она с утра ничего не ела. И теперь только поняла, как ей хочется есть – теленка, наверное, целиком проглотила бы! К счастью, повстречался разносчик, и Таня купила у него две сайки с изюмом. Ей нестерпимо хотелось простора. Шумных улиц. Побольше людей. Разных новых незнакомых лиц. Таню несло. Голова ее наконец-то была свободна от тяжелых дум. Она просто брела, куда глаза глядят. Ее влекла, манила, не выпускала из жарких объятий одуревшая от радости и счастья вечная буйная апрельская Москва.
Глава 7
Когда Таня, не сказав ни слова, выбежала из класса, Лиза почувствовала, как лицо ее обожгло огнем, будто она в печку заглянула. Случилось, по всему, нечто необыкновенное. Из ряда вон выходящее. Еще никогда Таня не была такою страшной. Ее леденящее душу молчание и последующий демонстративный исход, мало сказать, смутили – они очень напугали Лизу. И самым пугающим было осознание того, что она каким-то образом имеет к этому инциденту отношение. А поскольку Таня не пожелала даже объясниться, подумала Лиза, значит, она находится в сильнейшем, невиданном гневе на нее. Как испепеляюще все вокруг горели ее глаза! Да что же, в самом деле, случилось?! Лиза была близка к совершенному отчаянию.
Надя, вернувшись в класс, ничего нового не рассказала. Таня и с ней не стала объясняться. И вообще обошлась очень бесцеремонно. До конца перемены подруги промолчали, смущаясь и теряясь в догадках.
Следующим уроком, после истории, у них было законоучение. Воспитанницы любили слушать своего законоучителя отца Петра еще больше, чем Негоряева. Потому что говорил отец Петр завораживающе мягко, а речь его, наполненная благозвучными архаизмами и риторическими приемами прошлого, была настоящим талантливым художественным произведением. Причем отец Петр часто изображал своих героев в лицах. И выходило у него бесподобно. Учениц это просто приводило в восторг. То он говорил вкрадчивым, обольстительным голоском фарисея. То он становился в позу и резал по-римски короткими и вескими фразами Пилата. Очень оригинально отец Петр преподносил образ самого Христа. В его изображении Христос проповедовал и с ненавязчивою деликатностью, и иногда как будто даже сомневаясь в собственном учении. Для тех, кто не был на этих уроках-представлениях отца Петра, такая его метода могла бы показаться самым возмутительным кощунством. Но это было совсем не так. По своей убедительности и проникновенности его уроки превосходили любую, самую мастерскую, церковную проповедь, по-настоящему трогали душу и результаты давали отменно положительные. В классе не было ни одной ученицы, да и во всей гимназии таковых почти не было, кто имел бы по Закону Божьему оценку ниже хорошей. А уж с каким прилежанием воспитанницы внимали своему законоучителю. Как радовались вместе с ним победам добра над злом и как переживали, если выходило иначе. Девочки однажды рыдали всем классом, когда отец Петр со словами «Или! Или! лама савахфани?» испустил дух возле кафедры. То есть он так передал им этот эпизод Евангелия, так им его продемонстрировал, что девицам потом казалось, будто они присутствовали в тот роковой день на самой Голгофе и воочию видели крестные муки Христа.
Но на этот раз, при всей любви к законоучению, Лиза не слушала отца Петра, точно так же, как Таня на предыдущем уроке не слушала Негоряева. Самым тягостным для Лизы было неведенье – в чем она виновата? в чем ее обвиняют? Лиза еще подумала, может, она и впрямь сделала что-то такое, что доставило Тане неприятности. Она стала вспоминать, какие ее поступки или слова могли так огорчить подругу, но ничего не припомнила. Что же тогда случилось, боже мой? – в третий раз уже сама себе задала отчаянный вопрос Лиза. Продолжать занятия она была не в состоянии. Ей срочно, как воздуху, требовалось определенности, ясности. Она решилась пойти за Таней и во что бы то ни стало добиться от нее объяснений. И лишь прозвонили конец урока, Лиза собрала книжки и ушла. Наде она сказала, что ей нездоровится сегодня. А когда та вызвалась проводить ее до дома, Лиза уговорила ее этого не делать, под предлогом, что всем им будет лучше, если хотя бы одна Надя останется сегодня в гимназии, а потом поможет остальным наверстать упущенное.
Лиза не повторила Танин маршрут. Она поехала к Староконюшенному на конке и совсем по другим улицам. Но если бы Лиза пошла по Малой Никитской, а это ей тоже было по пути, то не исключено, что она повстречала бы там Таню, потому что приблизительно в это самое время Таня выходила из дома Дрягалова.
Лиза была у Тани всего несколько раз. Вообще девочки больше всего любили собираться у Нади. Уютнее дома они не знали. Изредка у Лизы. И никогда у Лены. У Тани они, в общем-то, тоже не собирались. Во всяком случае, не проводили у нее напролет целые вечера, как у Нади, а только иногда заходили ненадолго по какой-нибудь надобности. Потому что Александр Иосифович и Екатерина Францевна завели во всем очень строгий этикет. И Танины подруги, бывая у нее, постоянно совестились не исполнить каких-то их домашних правил и уже не могли поболтать вволю о том о сем, а тем более похохотать, порезвиться. Одна только Лена стала задерживаться в последнее время у Тани довольно.
Поднимаясь на этаж к Казариновым, Лиза чувствовала, как усиливается ее беспокойство. Какая новая неприятность ждет ее за этой дверью? Какое еще потрясение? Не ходить разве?.. Никто не неволит ее сюда идти. Но деваться некуда – идти придется. Потому что тревожное неведенье давило уже совершенно невыносимо, и любая, даже дурная, новость была бы теперь для нее избавлением от этого гнетущего, томительного чувства страшной неизвестности. И Лиза решительно позвонила в дверь.
Открыли ей немедленно. В доме статского советника все делалось по-военному быстро и четко. И Поля, и Андрей, и повар Никита были вымуштрованы, как лейб-гвардия. Лиза по одному только выражению лица прислужницы поняла, что ее опасения узнать здесь дурные новости полностью подтвердились. И хорошо было хотя бы то, что это не стало для Лизы неожиданностью. Поля видела Лизу прежде и, вероятно, помнила ее. Но, всегда приветливая и предупредительная с подругами своей барышни, теперь она встречала одну из них с этаким виноватым лицом, очевидно, переживая, что вынуждена по указанию господ встречать некоторых гостей без обычного своего радушия. Но как ни тяготилась Поля этим странным поручением Александра Иосифовича, не исполнить его ей не могло и в голову прийти.
– Здравствуйте, Поля, – сказала Лиза, всем своим видом показывая, что она не собирается переступать порога.
– Здравствуйте, барышня, – ответила Поля очень тихо, чтобы никто, кроме Лизы, не услышал любезного «барышня».
– Я хотела бы увидеть Таню.
– А барышни теперь нету дома. Она же в гимназии.
– В гимназии… Скажите, а что вообще у вас случилось?
Поля растерялась, смутилась. Александр Иосифович велел ей не принимать Лизу, если та когда-нибудь придет к ним. Но теперь прямо так взять и сказать ей об этом Поля никак не могла найти в себе сил. Просящим у гостьи пощады голоском она ответила единственное:
– Барышня, сейчас никого из господ нету дома… пожалуйста…
Лиза поняла, что девушка ничего рассказывать не будет. И вообще, видимо, ей здесь теперь совсем не рады.
– Да, конечно… – произнесла она, безуспешно стараясь не выдать своего огорчения.
Визит в Староконюшенный ничего не прояснил. И тогда Лиза отправилась к Лене в Мерзляковский переулок. И снова у нее была возможность повстречать Таню. От Натальи Кирилловны Таня вышла всего за несколько минут до появления Лизы.
У Епанечниковых Лизу встречали совсем иначе. Бойкая и улыбчивая прислужница попросила ее подождать один момент, пока она доложит барыне. Но Лиза не удержалась отложить свои вопросы до высочайшего приема. Она тут же спросила девушку о Лене: что с ней? отчего не ходит в гимназию уже два дня?
– Как! Вы не знаете?! – удивилась девушка. Она, натурально, думала, что об этом должно уже быть известно всему свету. – За ней же вчера приходили полицейские. Ее арестовали! – Она с удовольствием наблюдала, какое впечатление производит эта новость на гостью. – За участие в антиправительственной организации. Да вы не печальтесь так сильно, – сказала девушка, увидев как побледнела Лиза. – Они обещались отпустить мадемуазель нынче же. Я и вашей подруге мадемуазель Тане сейчас об этом сказала. Она сию минуту ушла от нас. Вы ее едва не захватили.
Новость была слишком потрясающая. И при других обстоятельствах Лиза расчувствовалась бы до полной беспомощности. Но теперь некогда было предаваться чувствам. Хотелось скорее осознать случившееся. Всю энергию употребить именно на это. Осмыслить новость прежде, чем состоится свидание с Леночкиною мамой. Правда, к чему ей нужна Наталья Кирилловна, она не смогла бы объяснить. Не вызывало сомнений только то, что этот невероятный арест и остракизм, которому она – Лиза – подвергается со стороны семьи Казариновых, каким-то образом между собою связаны. Но каким? Это решительно не поддавалось ее пониманию.
Возвратилась девушка и пригласила Лизу пройти к барыне. Наталья Кирилловна встречала ее еще более церемонно, нежели Таню полчаса назад. Предшествующая репетиция, видимо, давала положительные результаты. Она царственно поднялась из кресла, выплыла ей навстречу, покровительственно положила на плечи девушке руки и прижалась щекой к ее нежной щечке.
– Бонжур, ма шер Лиз, – сказала Наталья Кирилловна. – Я только что проводила вашу Танечку. Мы с ней так мило побеседовали. Пойдемте присядем. – Она взяла Лизу под руку и повела к дивану. – Нет мочи держаться на ногах. У нас, Лиза, такое приключилось… Лену забрали в полицию.
– Да, мне сейчас сказала девушка. Какой ужас!
– А это все мой сон! Сон не обманет, он правду скажет.
– Какой сон?
– Мне вчера приснилось, будто мой покойный батюшка, царство ему небесное, закладывает тройку. А он же заводил все здоровенных таких донцов. Страсть, какой силы кони у него были. И вот стал он запрягать, а они возьми да и разбегись по двору. Незадача какая вышла, правда, Лиза?
Мысли у Лизы страшно путались. Она уже не помнила, по какому случаю Наталья Кирилловна стала ей рассказывать о лошадях. Как эта история соотносится с арестом Леночки? В каком месте она потеряла нить повествования? Но ведь зачем-то Наталья Кирилловна рассказывает о лошадях, разбежавшихся по двору. Лиза попыталась восстановить в памяти начало их разговора, чтобы определить, на какой стадии она перестала понимать собеседницу. Но справиться с царящим в голове хаосом не смогла. И дальше уже слушала Наталью Кирилловну безо всякой надежды что-либо понять в ее рассказе.
– Батюшка давай их ловить, – продолжала с радостью в голосе Наталья Кирилловна. – А я стою на крылечке и смеюсь-покатываюсь. Батюшка бегает, все за удила их поймать норовит, а я знай себе смеюсь как полоумная, не могу остановиться, и все тут. Прямо вот распирает смех, все бока распирает. Вот и насмеялась. Что впору плакать теперь.
– Отчего же плакать? – не поняла Лиза. Она совсем запуталась в этих лошадях, смехе и плаче Натальи Кирилловны и не догадывалась, что все это является иносказательным объяснением ареста Леночки.
– Ну как же?! – ведь Леночку забрали в участок. Каково это матери переживать!
Лиза чуть было не сказала вслух «ах, да!», но, к счастью, вовремя удержалась.
– А где этот участок, Наталья Кирилловна? – спросила она. – Я должна туда пойти немедленно.
– Я не помню… То есть я не знаю, где она теперь. Сергей Константинович поехал утром пораньше. Он все разузнает. А пока, Лиза, давайте завтракать. Я и Танечку уговаривала остаться, но она не согласилась ни в какую. Но уж вас-то я не отпущу просто так, – сказала Наталья Кирилловна с улыбкой.
– Послушайте, Наталья Кирилловна, тут вот какое дело… Видите ли, в том кружке мы с Леной были вместе.
– В котором кружке?
– Ну в этом – в социалистическом. Нас пригласили туда только полюбопытствовать, уверяю вас. Но ничего любопытного мы там не нашли и решили к ним больше не ходить. Никогда. Честное слово.
– Ах, Лиза! Зачем же вы пошли в этот ужасный кружок? Глупые девочки.
– Да. Но каяться в содеянном, как видите, поздно. Теперь уже приходится отвечать за собственную глупость. Поэтому мне и надо идти туда. Это разве справедливо, чтобы страдала одна только Лена, а мы все спокойно гуляли бы?
– Подождите, Лиза. Я ничего не понимаю. Что вы хотите делать? Куда идти?
– Я должна пойти в полицию и сказать, что тоже была в кружке. Вместе с Леной.
– Еще не лучше! Да вас же сразу арестуют! Нет, нет, Лиза, я не отпущу вас туда. Во всяком случае, давайте дождемся Сергея Константиновича, он скоро должен возвратиться, и посоветуемся с ним. Как же так можно? – сразу в полицию: нате, берите меня всю, я тоже была в кружке. – Эти весьма разумные слова Натальи Кирилловны были скорее следствием ее постоянного подсознательного стремления к добродетели, нежели плодом изощренного умозаключения.
А вот Лиза, кроме того, что и она не в меньшей степени исповедовала добродетель, причем совершенно сознательно, еще и в состоянии была осмыслить реплику Натальи Кирилловны. Лиза подумала: а не доставит ли она Лене еще большую неприятность? Если прислужница верно сейчас сказала, что Лену нынче отпустят, то объявившийся новый участник дела может только помешать этому. Следствию прибавится тогда чем заняться. И твое благородство боком всем выйдет, подумала Лиза. К тому же это благородство выглядит несколько показным, притворным. В самом деле, нужно хотя бы дождаться Сергея Константиновича и разузнать у него все подробнее. А там уже видно будет, что делать.
Наталья Кирилловна решительно настояла, чтобы гостья откушала с ней, и Лизе пришлось подчиниться. Однако позавтракать у Епанечниковых Лизе не вышло. Едва Наталья Кирилловна распорядилась подавать завтрак, из передней послышалась нетерпеливая и будто бы с благовестными нотками трель колокольчика. Невозможно не узнать звонка, сулящего радость. У него особенный голос. Наталья Кирилловна и Лиза переглянулись и поспешили выйти на звонок.
В переднюю все вступили одновременно. Доктор Епанечников сиял, как награжденный. Мог ли он когда-нибудь предполагать, что самым счастливым днем в его жизни будет день вызволения дочери из-под ареста? А своей Леночкой он не просто дорожил и не просто любил ее. Он был влюблен в дочь. Его чувство к ней превосходило обычную отцовскую любовь. Сергей Константинович, не имея в лице супруги Е[атальи Кирилловны духовно близкой спутницы жизни, стал в последние годы, к совершенному своему удовлетворению, получать от дочери восполнение этого ущерба. И теперь считал себя счастливейшим из людей. И не согласился бы променять эту сладчайшую нежную духовную близость с дочерью ни на что другое. Хотя бы законная жена каким-то вдруг чудом сделалась первейшею разумницей. Он часто с Леночкой советовался по тому или иному вопросу, беседовал, что называется, по душам. Мнение ее ценил чрезвычайно. А суждения дочкины о чем-либо считал весьма авторитетными, хотя и небесспорными.
Наталья Кирилловна бросилась к Леночке, с силою прижала дочку к груди и стала покрывать поцелуями ее лицо. Сергей Константинович и прислужница с радостным умилением любовались счастьем матери. Девушке, помимо этого, полагалось бы еще и прослезиться. Но служанка Епанечниковых – Наташа, – по складу своего характера, не годилась для всякого рода сентиментальных сцен и даже своей барыне не собиралась подыгрывать. Наталья Кирилловна за это и за другое считала Наташу девушкой бесчувственною и недалекою. Оно и понятно – прислуга. Сергей же Константинович, тот, напротив, весьма Наташе симпатизировал. И не хотел бы иметь в услужении никого другого, кроме нее.
Для Лены присутствие Лизы в их доме стало совершенною неожиданностью. Нет, она не смутилась и не растерялась, и, тем более, не воспылала, как говорят, презрением при виде виновницы своих бед. У Лены промелькнуло: как же теперь тебе туго придется; что ты себе уготовила, несчастная?! ведь совесть покою не даст! Лиза, Лиза, что же ты натворила?! и о своей роли в происшествии, верно, еще не знаешь, иначе не улыбалась бы так приветливо, словно мы после каникул повстречались впервые; и какому же злодею только ты так неосторожно открылась?
Нацеловавшись с дочкою вдоволь, Наталья Кирилловна выпустила наконец ее из объятий. Леночка понимала, как родителям сейчас хочется быть с нею рядом, держать ее за ручки, не отрывать глаз – любоваться своею дорогою девочкой. Она и сама с удовольствием провела бы с ними ближайшее время. Потому что сильно по ним соскучилась за эти долгие ночь и день, проведенные вне дома. Посидела бы с мамой. Поговорила о многом с папой. Но прежде всего, необходимо уделить внимание Лизе. Объясниться. Успокоить ее, если потребуется. Она же, наверное, переживать будет очень сильно, когда узнает всю правду. И Лена, безжалостно оставив во всем покорных ей в эту минуту родителей, ушла с Лизой к себе. Наталья Кирилловна сейчас же отправилась делать новые распоряжения повару и Наташе. А Сергей Константинович удалился до обеда в кабинет и в радостном возбуждении заметался из угла в угол.
Оставшись наедине, девочки не сразу разговорились. Каждая из них как будто стеснялась начать первою. И это притом, что прежде их отношения были совершенно сестринские. Лена мучительно подбирала слова, чтобы насколько возможно в меньшей степени огорошить подругу известием. А Лиза инстинктивно желала хоть на миг оттянуть разговор, потому что предчувствовала услышать сейчас некое горькое откровение.
– Лиза, ты не видела сегодня Таню? – сказала наконец Лена, не подозревая, что начала с одного из тяжелейших для Лизы вопросов.
– Да. В гимназии утром, – вымолвила Лиза.
– И она ничего тебе не рассказывала, если не ошибаюсь? Так?
– Да, Лена, – почти шепотом ответила Лиза. Она поняла, что бессмысленно оттягивать развязку, какою бы для нее дурною она ни была. – Таня сегодня едва не опоздала на урок. А на первой перемене ушла, не сказав нам ни слова. Мне показалось… То есть я отчетливо видела, как из нее готов был вырваться какой-то упрек. Но она не стала ничего говорить и прямо-таки убежала из класса. Потом я пошла к ней домой, но их прислужница хотя и ничего такого мне не сказала, но вполне дала понять, что я у них теперь визитерша нежелательная… Но отчего так? – непонятно… Лена! скажи хоть ты мне, что произошло, – взмолилась Лиза.
– Прежде всего, не волнуйся, прошу тебя. А произошло еще не самое скверное, как я теперь знаю. Лиза, скажи мне, пожалуйста, ты рассказывала кому-нибудь о том, что мы были тогда в кружке?
– Вовсе нет. Ни единому человеку, – не понимая еще, к чему клонит подруга, ответила Лиза.
– Ты это верно помнишь? – Лена, готовая уже приласкать раскаявшуюся, даже смутилась чуточку, оттого что Лиза не созналась сразу, как она ожидала.
– Помню лия? Ну разумеется! А в чем дело, Лена?! – Только теперь Лизе стало открываться, что Лена и свой арест, и эпатирующее поведение Тани связывает с ее возможным рассказом кому-нибудь об их участии в кружке. – Что вы подумали?! – И не то что лицо, у Лизы руки порозовели от стыда и гнева.
– Послушай, Лиза. Третьего дня арестовали Мещерина и его приятеля Самородова Алешу. Тебе известно это?
Лиза ничего не ответила, настолько она была подавлена обидными подозрениями подруг. Но Лена поняла, что об остальных арестах Лизе еще не известно.
– А вчера Таня мне рассказала, – продолжала Лена, – будто Александр Иосифович узнал от какого-то там своего знакомого из полиции, что сведения о кружке к ним поступили от тебя. Разумеется, мы и мысли не допустили, что ты могла это сделать умышленно, в отместку нам за что-нибудь. – Лена попыталась пошутить, улыбнуться даже, но тотчас посерьезнела, так страшно Лиза сверкнула глазами. – Но, может быть, ты в разговоре с кем-то упомянула об этом злосчастном похождении в кружок?
– Ты хочешь, чтобы я тебе ответила: да, дорогая Лена, я, по недоразумению, разболтала обо всем, не предвидя худого, а теперь винюсь-убиваюсь? Ты этого хочешь от меня?
– Я, прежде всего, хочу, чтобы ты была спокойна…
– Довольно! Я решительно тебе объявляю, и Тане можешь передать: я никому не говорила о кружке ни полслова! В том, что с вами случилось, нет моей вины! Ну вот, я же вижу, ты мне не веришь! Лена, это какой-то ужасный подлог! Кому и зачем это понадобилось?! – не знаю! Но я не виновата, честное слово, Леночка! Я не рассказывала никому!.. – Лиза больше не выдержала, она закрыла лицо ладошками и расплакалась. Кипящая влага заструилась из-под ее пальчиков и блестящими извилинками побежала в рукав.
Лена, сама расчувствовавшись едва не до слез, обняла Лизу и усадила ее на диван.
– Лиза, дорогая, давай поговорим спокойно, без эмоций. Все, что случилось, это уже в прошлом, а нам надо думать о будущем. Не о нашем с тобой будущем. Оно мне представляется более или менее ясным и благополучным. Но в беде наши друзья. Вот о чем нам нужно поразмышлять. Ты согласна?
– Да, – тихонько ответила Лиза и посмотрела на подругу взглядом ребенка, которого хотели было несправедливо наказать, да вовремя разобрались.
– Ну вот и хорошо. Не надо плакать. – Лена, в умилении, погладила Лизу по плечу. – Все обойдется. Нам ли, близким людям, не уметь прощать друг другу? Не любить друг…
Леночка резко оборвала речь, потому что Лиза вдруг, словно обжегшись, отдернула плечо от ее руки.
– Как ты сказала? – прощать?! – Слезы мгновенно высохли у Лизы на глазах, а щечки опять гневливо заалели. – Не нужно меня прощать! Меня не за что прощать! Я не сделала ничего такого… Но ты так и не веришь мне! Слишком убедила тебя Таня! Какие же вы все-таки!..
– Лиза!..
– Нет! Не говори мне больше ничего! Вы думаете, я предала друзей?! Это вы с Таней предаете меня! Вам зачем-то непременно надо, чтобы я была виноватою! На этом построено какое-то ваше учение, от которого вы не можете отказаться. Но знай, Лена, это лжеучение! Рано или поздно вы это поймете…
Больше Лиза ничего не говорила. Она встала и пошла к двери. Лена что-то пыталась ей еще сказать, объяснить, но Лиза не оглянулась на нее даже и вышла из комнаты.
Глава 8
Прогуляв совершенно бесцельно неведомо сколько времени, Таня хватилась, что вполне свободной ей быть, вероятно, еще не долго, и она подумала, как бы оставшиеся до новых, еще больших взысканий, несомненно, ожидающих ее дома, часы провести с особенною пользой. А для этого ей необходимо было как-то упорядочить дальнейшее путешествие. И, прежде всего, выяснить, куда она забрела.
Таня оглянулась вокруг, но местности не узнала. Эта часть была ей незнакома. По улице впереди стояла красная, с двухэтажною трапезной, церковь. Чуть позади слева за домами и деревьями возвышался оригинальный, со слуховыми окнами по окружности, зеленый купол другой церкви. И где-то поблизости находилась гимназия. Это Таня поняла, когда ей на пути, то поодиночке, то группами, стали попадаться черные фартучки. На Тане был точно такой же фартук, и встречные девицы, особенно старшеклассницы, бросали на чужачку быстрые оценивающие и сейчас же переходящие в нарочиторавнодушные взгляды.
Таня остановила одну миленькую девушку, бывшую, очевидно, ее ровесницей, и спросила, как называется эта улица. Девушка ответила. Но Тане это название ни о чем не говорило. Она его впервые слышала. Тогда девушка, поняв Танины трудности, сказала, что вон там, за красною церковью, находится Таганская площадь.
Вот так прогулялась она! Не заметив как, Таня оказалась на другом конце Москвы! И она с таким удивлением посмотрела на девушку, что та участливо спросила:
– Вы, должно быть, что-то ищете? Могу я вам помочь? Я здесь все знаю.
Таня ничего не сказала. Она просто забрела, куда ноги привели. Но дать это понять симпатичной и, судя по всему, не глупой незнакомке, а значит, и показаться в ее глазах странною девицей, Таня постеснялась. И она вымолвила первое, что пришло на ум:
– Мне нужен Даниловский монастырь…
Таня давно уже собиралась побывать на могиле Гоголя, любимого своего писателя, и теперь, вынужденная что-то отвечать на вопрос, назвала эту якобы цель своего путешествия. Назвала и тотчас сообразила, что поиск Даниловского монастыря возле Таганки может показаться еще большею странностью, нежели бесцельное путешествие по городу в то время, когда ей полагалось бы сидеть за партой. Она смутилась и хотела уже побыстрее уйти прочь.
– Тогда нам с вами по пути, – сказала девушка и улыбнулась. – И мне как раз в те края. Пойдемте на площадь. Отсюда на конке где-то полчаса ехать, ну, может быть, чуть больше.
До остановки они дошли, обмениваясь какими-то малозначительными репликами, но уже в вагоне, усевшись рядышком, девушки разговорились совсем по-дружески. Но прежде, разумеется, познакомились.
– Как вас зовут? – спросила Таня.
– Наташа, – ответила девушка.
– А меня – Таня.
И они рассмеялись от радости. После первых же слов, сказанных друг другу, девушки почувствовали сильную взаимную симпатию, и у них не было причины не радоваться. Они тут же перешли на «ты».
– Таня, ты где-то далеко отсюда живешь? – Только спустя некоторое время Наташа позволила себе задать попутчице вопрос, содержащий косвенный намек на ее странный поиск Даниловского монастыря вблизи Таганки.
– Да. Довольно-таки, – сказала Таня. – На Арбате. Там… в переулке. Ты бывала на Арбате?
– К стыду своему, нет. Хотя у папы там живут знакомые, и он сколько раз ездил к ним и меня приглашал с собой, но я так и не удосужилась побывать на одной из красивейших улиц…
– На самой красивой! – Таня смеялась одними только глазами, приглашая Наташу поддержать ее шутку.
– Будто бы уж! – Наташа в долгу не осталась. – Да всему свету известно, что самая красивая улица в Москве наша Верхняя Болвановка!
И девицы снова рассмеялись, да так звонко, что вожатый обернулся на них и с улыбкой погрозил проказницам-гимназисткам пальцем.
– А там у тебя, Наташа, наверное, рядом гимназия? – спросила Таня. – Я видела много девочек.
– Да. Конечно. Прямо на нашей улице. В двух шагах от дома. Пятая гимназия. А ты в какой учишься? В Мариинской?
– Да. Тоже. В Четвертой. Это на Садово-Кудринской. Знаешь?
– Нет, по правде сказать. Я тех мест почти не знаю. Это неблизко от нас. Согласись.
– Что и говорить… – Таня опять вспомнила, как сама растерялась, угодив на далекую Таганку. – Но тебе, я вижу, хорошо известна эта часть, где мы сейчас едем.
– Ну еще бы! Мы так любим гулять по Замоскворечью. Пешком его исходили вдоль и поперек.
– Наташа, а куда ты теперь держишь путь? – наконец поинтересовалась Таня.
– В одно замечательное место. То есть само место-то так себе. Невеселое, прямо сказать. Кладбище это. Даниловское. Но живет неподалеку от него одна старушка… Нет, не просто старушка… А старица блаженная. Чудотворица. Матушкой Марфой ее зовут. Да ты, может быть, слышала?
– Нет, не слышала.
– Ну как же!.. Ее называют «восьмым столпом» России. К ней отовсюду народ идет без счету. Порою очень издалека. Всякий со своею нуждой. Кто просто совета попросить. А иные исцеления ищут. И она много раз исцеляла людей. Одержимых все больше. На них у нее особенный дар.
– Но ты, Наташа, кажется, совсем не похожа на одержимую.
– Благодарю. – Наташа улыбнулась, но тотчас посерьезнела. – Но знаешь, когда дело касается матушки Марфы, я оставляю всякие шутки. Это тема не для смеха. Ну, конечно, я еду к ней не хвори лечить, слава богу. Совета хочу у нее спросить… – Наташа что-то недоговаривала, очевидно, какой-то свой девичий секрет. И, чтобы избежать неудобных вопросов, перевела внимание на другое: – К ней с утра до ночи идут десятки людей!..
– Значит, она не может каждому уделить много внимания. Так что же она тебе посоветует, не вполне разобравшись в твоей проблеме? – засомневалась Таня.
– А вот в этом-то и есть ее особое избрание. Ей ни к чему слова, долгие речи. Только войдет человек, начнет говорить, и она уже все о нем знает. Мне ее послушница одна рассказывала, что на некоторых это производит такое сильное впечатление, что люди совершенно теряются, не могут слова вымолвить, забывают, зачем пришли. И матушка сама им тогда напоминает об их нуждах. Можешь себе представить?
– Значит, ты не в первый раз к ней идешь?
– Да. Я была у нее на прошлой неделе. Почти весь день ждала своей очереди. Но матушка тогда не смогла поговорить со мною. И сказала приходить сегодня.
Наташин рассказ о вещей старице взволновал Таню. Вообще, их семья, в отличие, например, от Епанечниковых, не была такой уж воцерковленною. Таня видела, что папа – Александр Иосифович – в церковь ходит только затем, чтобы, по его же словам, не прослыть неблагонадежным. Мама – Екатерина Францевна – так и не сделалась настоящею православной, хотя также исправно бывала в церкви. Как Таню покоробило, когда Екатерина Францевна однажды своим гостям, тоже природным лютеранам, рассказывая что-то там к случаю, святых в церковном иконостасе назвала богами! Таня никогда бы не допустила погрешности такого рода. Для того типа учебного заведения, которое она заканчивала, Таня более чем достаточно владела премудростями христианского богословия. И у отца Петра считалась одною из лучших учениц. Но вот исполняла она Закон без осознанного вполне благоговения, а преимущественно в силу заведенного в их доме порядка четко и безукоризненно исполнять все, что полагается. Не случайно Таня не знала даже о существовании живущей с ней в одно время и в одном месте творящей чудеса блаженной старицы. Но вот, теперь, узнав о ней и вдобавок познакомившись с девушкой, так уверенно, как можно было судить, ищущей у нее помощи, Таня почувствовала вдруг совершенно неожиданный, несомненно благодатный, прилив оптимизма. Ей страшно захотелось тоже явиться перед матушкой и просить у нее совета.
– Наташа, – с решимостью произнесла Таня, – мне тоже необходимо видеть матушку Марфу.
– Очень хорошо, – ответила Наташа безо всякого удивления, словно ожидала такого Таниного решения. – Пойдем вместе. Но ты, Таня, так не похожа на одержимую…
Девушки едва-едва улыбнулись друг другу. Особенно веселиться им уже не хотелось. До веселья ли, до смеха, когда совсем скоро им предстоит явиться пред «восьмым столпом» России!
Они доехали до Серпуховской заставы. Дальше конка не ходила. Но до цели их путешествия отсюда было уже совсем близко. Пешком минут десять ходу. Так объяснила опытная Наташа.
– А Даниловский монастырь вон там, налево, – добавила она кстати.
Таня только взглянула мельком на сверкающие саженях в двухстах от площади золотые крестики, но ничего не сказала. Все ее помыслы были теперь устремлены совсем к другому.
Скоро они свернули в переулок, сразу привлекший Танино внимание своею колоритную провинциальностью. Дома в переулке были всё бревенчатыми и в основном одноэтажными, без каких-либо декоративных хитростей. Наличники на окнах и те имелись не на всех домах. Да и там, где имелись, они были незатейливы до примитивного. От дома к дому, по всему переулку, шли сплошные тесовые заборы с такими же тесовыми воротами. И неизменно у каждого номера, под окнами или у забора, рядом с воротами, были вкопаны низенькие лавочки. На некоторых лавочках сидели обыватели, преимущественно старички, и тешились тем, что рассматривали всякого прохожего, до слез напрягая слабые свои глаза.
Возле предпоследнего двухэтажного дома по правой стороне собралась группа людей, дюжины этак в две, казавшаяся на фоне общей пустынности и глухости переулка изрядною толпой. Здесь были и калеки, и увечные, и люди, очевидно, странные, бродяжные, нищенствующие, но были среди них, как ни удивительно это выглядело, и граждане как будто вполне благообразные, старательно показывающие вид, что они не испытывают неудобства, находясь в этом обществе.
– Это всё к матушке народ, – сказала Наташа. – Я в тот раз и сама так же дожидалась здесь своей очереди. Но сегодня она мне разрешила сразу идти к ней. Не ждать.
Девушки вошли в калитку и очутились в небольшом чистеньком дворике, до тесноты заполненном людьми, ожидающими очереди войти к блаженной старице. Многие из присутствующих тихо молились, иные перешептывались между собою, а несколько человек, босых и в сермягах, пришедших, судя по всему, издалека, сидели в сторонке, прямо на земле, и неторопливо, по-крестьянски чинно и молчком, как на картине «Земство обедает», вкушали простых своих припасов.
Наташа подошла к женщине, строгостью своего убранства напоминающей монахиню, и как можно тише, чтобы никто не услышал, сказала:
– Я была у матушки на прошлой неделе. Она велела мне прийти сегодня…
– Да, да, я вас помню. Проходите, пожалуйста, – так же тихо ответила женщина и с некоторым выражением сомнения в глазах скользнула взглядом по Тане.
– Это моя подруга, – объяснила Наташа, заметив взгляд послушницы. – Она со мной…
Женщина покорно опустила голову, показывая свое непротивление появившемуся, помимо прежней договоренности, обстоятельству, и сказала следовать за ней. По мрачным, заставленным какими-то ларями и коробами, сеням послушница проводила их к самой дальней двери и, уже взявшись за ручку, спросила:
– А крестики на вас надеты, девочки? Без крестика к матушке нельзя.
– Да. Есть, – как-то скованно, видимо, сильно волнуясь, проговорили девицы, причем Таня непроизвольно коснулась пальчиками груди, имея в виду проверить, на месте ли ее крестик.
Послушница отворила дверь, и Таня с Наташей вошли в исключительно тесную, переполненную всякою недорогою мещанскою рухлядью комнату. Тут был и комод с трельяжем, и широченный буфет, и сундук «спальный», и сундук поменьше, и круглый стол посреди комнаты, покрытый синею с аграмантом скатертью. У дальней стены, под иконами, стояла высокая, едва ли не с комод ростом, с исполинскими железными шишками кровать, на которой сидела, свесив короткие, в бумажных чулках, ножки, не молодая, но как будто и не старая женщина. Предположить что-либо о ее возрасте представлялось затруднительным главным образом оттого, что женщина была совершенно слепа. Ее ввалившиеся, плотно сомкнутые веки со страшною убедительностью об этом свидетельствовали. И Тане вначале эта обитательница комнаты показалась женщиной средних лет, чуть ли не моложавой. Таня даже поискала глазами среди изобилия вещей: а кто же тут старица? Но в комнате никого больше не было. И тогда она припомнила, что это понятие, «старица», отнюдь не является характеристикой возраста данного человека. Это своего рода духовная степень, могущая быть у любого достойного, хотя бы он был и молод. А рассмотрев матушку Марфу повнимательнее, Таня смогла убедиться, что та к тому же и не молода совсем. Лет по крайней мере пятидесяти.
Послушница, лишь только переступила порог, тотчас троекратно перекрестилась на образа. Наташа и Таня поспешили повторить за ней это действо. Все это время старица с застывшею на лице строгостью наблюдала за вошедшими. Если, конечно, уместно сказать «наблюдала» по отношению к незрячему человеку. Но едва девушки перекрестились, она заговорила.
– Ну что, пришла? – сказала матушка Марфа, по всей видимости, обращаясь к Наташе. В ее речи были заметны немосковские диалектные нотки. – Я думала давеча про тебя. Но зачем ты не одна? На что тащишь с собой кого ни попадя? А ты, девка, что это выдумала ко мне заявиться?! – обратилась матушка Марфа, как можно было понять, уже к Тане. – Тебя кто звал сюды?
Такая нелюбезная, почище, чем у Мартимьяна Дрягалова, встреча очень Таню уязвила. И теперь она больше всего переживала, как бы ей не вспылить, не приведи Господь. Тогда все пропало. Старица наверно не будет с ней говорить и прогонит прочь.
– Я только хотела спросить… – старательно подавляя раздражение в голосе, начала Таня.
– Спрашивать надо было прежде! Спросить она хотела! Набедила раньше, а теперь премудрости хватилась искать! Ты почто подружку свою гонишь? Почто затравила ее вконец? А она не виноватая! Понятно тебе? – не виноватая! И за нее и за другое с тебя еще взыщется! – При этих словах блаженная старица перекрестилась.
Если бы Таня не была заранее готова повстречать в этом доме всякие, даже самые невероятные, самые чудесные неожиданности, то, при всей своей бесподобной выдержке, при всем своем редкостном хладнокровии, она могла бы испытать от явленного ей сейчас откровения совершенное умопомрачение. Ей открылось, что провидица знает всё! Решительно всё! Вся Танина драма ей известна! А если так – Боже правый! – то логическая конструкция, которую Таня строила в течение нескольких последних дней в отношении участников этой драмы, и в первую очередь Лизы, и которой она так упорно, так последовательно держалась, оказалась ложью, химерой. Ибо, ежели провидица вообще знает, то она непременно знает истину! Что я наделала? – пронзило Таню убийственное позднее раскаяние. И как быть теперь?! Можно ли поправить что-нибудь?
– Как же мне теперь быть, матушка? – подавленно простонала Таня.
– А чего ты меня спрашиваешь? Отца своего поди спроси. Почем я знаю… Она хватилась, когда скатилась! Худое ты сделала. Вот что. Неповинную душу под монастырь подвела. Эх ты, девонька! Я уже вижу на тебе печать многих бед. – С этими словами матушка Матрона вытянула руку в Танину сторону. – И кабы не это, я и разговаривать с тобою не стала бы. Тяжел будет твой крест, – матушка Марфа снова перекрестилась, – и нести тебе его не столько за свои грехи – у тебя весь грех-то, только что неразумная ты! – сколько за иных своих ближних. А с них станется! Но что тебе до этого?! Ты покорствуй знай и молись. Молись больше. Вот что.
Таня стояла ни жива ни мертва. Она и услыхав пророчество о тяжких испытаниях, якобы уготованных ей, не устрашилась. Но ею овладело уныние. Едва ли не до полного упадка духа уныние. Она неповинную душу под монастырь подвела!Сделала точно то же, в чем совсем недавно еще обвиняла другого, – предала! Она легко, по первому же навету, – гнусному полицейскому навету! – отреклась от ближайшей подруги! Подавленность Таниного настроения умерялась лишь одним – безусловною готовностью любою ценой искупить свою вину. Все равно, ценой ли мученичества лихого, как говорит матушка Марфа, или даже жизни самой. Но только бы еще послужить кому-то на пользу. Только бы не бездействовать.
Блаженная старица пока не говорила ничего, словно позволяя Тане поразмыслить. Наконец, много мягче прежнего, она произнесла:
– Ну ступай. С Богом. Я тоже буду молиться за всех вас. Погоди, – прибавила матушка Марфа, когда Таня было уже попятилась к двери. – Ты Иверскую знаешь?
– Какую Иверскую? – переспросила Таня, и без того вполне понимая, о чем идет речь. Это получилось у нее от волнения чувств.
– Часовню Иверскую! – опять будто осерчав на бестолковую отроковицу, сказала матушка Марфа. – «Какую Иверскую» говорит?! Так знаешь? – нет?
– Знаю, – поскорее, чтобы не сердить старицу, ответила Таня.
– А коли знаешь, ступай туда. К Матушке к нашей заступнице. – Голос старицы дрогнул, и она в очередной раз перекрестилась. – Теперь ступай. Понятно тебе? Подружку не жди. Тогда увидитесь. Тогда. – Она махнула рукой куда-то в сторону будущего. И, возможно, недалекого. Так, во всяком случае, поняла ее просторечное «тогда» внимательно следившая за их разговором Наташа.
Таня, опять же по обыкновению непременно говорить слова прощания при расставании с кем-либо, почти беззвучными сухими неподатливыми губами прошептала «до свидания» и, не отворачиваясь от всеведущей Божией угодницы, стала спиной отступать к двери. Послушница, не первый день уже состоявшая при старице и повидавшая в этом доме сцены куда как драматичнее нынешней, заботливо поддержала Таню под локоток и вывела ее за дверь. Но прежде Наташа успела ей шепнуть свой адрес. Таня, в подтверждение того, что она принимает сказанное к сведению, кивнула подруге и тотчас все забыла.
Недолгое время спустя Таня была уже у часовни, хорошо ей знакомой по прежним посещениям. Последний раз они приходили сюда втроем с Леной и Лизой где-то в конце зимы. Лена любила водить подруг по всяким достодивным местам Москвы, особенно по церквам и монастырям.
В часовне слева от двери сидели две старушки, укутанные в платки, как черницы. Едва появилась Таня, обе они угрожающе зашевелились, имея, вероятно, в виду как-то выразить ей нарекание за непокрытую голову. Но Таня, знавшая эту манеру церковных бабушек навязчиво поучать в храме молодежь, предупредила их. Она троекратно, с поясными поклонами, перекрестилась и стала шепотом, так, чтобы это явственно дошло до внимания ревнительниц церковного порядка, читать молитвы. Прием этот был верный. Прерывать молитвенницу старушки не посмели и успокоились.
Обычно в часовне никто не задерживался. Так, следом за Таней, в часовню, по-кошачьи крадучись, видимо, страшась наделать сапогами шуму, вошел офицер с двумя девочками в белых платьицах и в белых же капорах с бантами. Они поставили свечки к иконе, причем у девочек все никак не получалось установить свои свечки строго прямо, и папа помог и той, и другой, после чего они все замерли в молитве, перекрестились и ушли. И пока Таня стояла в своем уголке, к иконе подходили еще люди и всё делали, как по образцу: ступали тихо, крадучись, зажигали и ставили свечки, шептали молитву, крестились и, не поднимая глаз, словно стыдясь только что совершенного, так же бесшумно выходили. Одна из старушек иногда поднималась со своего места, ловко вынимала из свечника огарки, задувала их и бросала в бывшую тут же коробочку.
Таня молилась, как, наверное, никогда еще этого не делала. Слишком уж на нее подействовал короткий и, казалось бы, суровый разговор с матушкой Марфой. При всей своей суровости слова старицы оказались для Тани цельбоносными, ибо после них она не только не продолжила мучить себя всякими отчаянными домыслами, а, напротив, успокоилась. Матушка Марфа, хотя и предрекла ей неприятности, одновременно вселила в ее душу надежду, сказав покорствовать и молиться. То есть предать дух свой в руци Божии. И Таня ей уверовала. Уверовала, как никогда прежде. И как же было не уверовать, если матушка Марфа своим чудесным всеведением посрамила всю ее логику и весь ее рационализм, всегда служившие Тане основой для умозаключений.
И вот теперь, по воле блаженной старицы, Таня стояла перед одною из главных московских святынь, вглядывалась в этот темный, будто бы прокопченный вечно горящими свечами и лампадами, образ и только молилась горячо. Даже старушки стали смотреть на нее уже с сочувствием.
Времени Таня не наблюдала. Подходили к иконе новые люди. Две старушки-служительницы исправляли свои маленькие, но очень для них важные заботы. А странная гимназистка с портфелем и без платочка все стояла в углу, не отрывая глаз от лика Богородицы, и все вела с Матушкой какую-то одной ей ведомую длинную внутреннюю беседу. Старушки уже не выдержали и, сжалившись над молодою и такою усердною богомолкой, предложили ей посидеть отдохнуть. «Давно как стоишь-то, сердешная», – добавила одна. Эти слова возвратили, наконец, Таню на землю. Она, оказывается, здесь давно? – а ей казалось всего-то ничего! Разумеется, сидеть она не стала. Пора было уходить. Кажется, уже и день подходит к концу. Таня поблагодарила участливых старушек, главным образом за то, что те помогли ей вернуться в реальность, и вышла на улицу. Она испытывала совершенное умиротворение. Не хмельную лихую радость, как тогда утром, после разговора со служанкой Епанечниковых, когда узнала, что Лену выпустят из-под ареста не сегодня завтра, а именно умиротворение. Как же мудра матушка Марфа, думала Таня, как она верно знает, что надобно душе в минуты смятения, отчаяния. Куда надобно эту душу направить. Вот уж воистину Божия угодница!
Незаметно как наступил вечер. Солнце, хотя и не село еще, но было где-то совсем низко, и редкие облака поэтому порозовели. Таня не припомнила бы, пожалуй, в своей жизни ни одного дня, столь же насыщенного событиями. Сколько повидала она всего, сколько узнала нового. Она без устали прошла пол-Москвы. И только теперь, к вечеру, почувствовала, что смертельно устала. Ее уже едва держали ноги. Хотелось поскорее оказаться дома и упасть в кровать. Правда, еще предстоял разговор с папой. И разговор, по всему, не простой. Ну да как-нибудь переможется и это. Только бы домой скорее. И Таня, собрав последние силы, пошла на Моховую. Оттуда к Арбату ходила конка. Она перешла Воскресенскую площадь, миновала Лоскутный переулок и уже приближалась к Обжорному, как вдруг в дюжине шагов впереди увидела знакомое лицо. Знакомица возникла так неожиданно, что Таня не смогла сразу даже сообразить, кто это такая и где она ее видела раньше. Это была черноглазая, смуглая и, как говорят, жгучая брюнетка с манерами настоящей эманципанки, пятью – семью годами старше Тани. Их глаза встретились. И хотя брюнетка тотчас отвела взгляд, Таня ясно увидела, что и она ее узнала, но по какой-то причине не хочет этого выдавать. И когда они поравнялись, возле самого подъезда Лоскутной гостиницы, Таня одновременно и сказала ей «здравствуйте», верная этикету в любой обстановке, и узнала, наконец, ее. Эту девушку она видела в дрягаловском доме на заседании кружка. Ее, кажется, звали Хая. Она еще так запальчиво со всеми спорила тогда.
Делая насколько возможно безразличный вид, Хая продолжила свой путь. Очевидно, она решила не заметить эту неосмотрительную девицу и побыстрее пройти мимо. Но когда Таня поздоровалась и всем своим видом показала, что имеет к ней какую-то неотложную нужду Хая, не поворачивая головы и не шевеля губами, чуть слышно бросила ей на лету: «Идите за мной» – и свернула в Лоскутный.
– Вы сошли с ума, – зашипела Хая, лишь только Таня догнала ее в Лоскутном. – Вы что позволяете себе?! Здесь повсюду полно шпиков. Вам не известно разве, что при случайной встрече в городе мы ведем себя так, будто не знаем друг друга?
– Я только хотела вам сказать… – начала Таня нормальным своим голосом, но Хая сейчас же оборвала ее.
– Вы еще закричите на всю улицу! Говорила я: хлебнем мы с этими младенцами! – сказала она в сторону. – Вас кто ведет? Мещерин? Он что же, ничему вас не научил?
– Он арестован! – опять не сдерживая голоса, сказала Таня, но на этот раз замечания от строгой спутницы ей не последовало.
Для Хаи это было не менее потрясающей новостью, чем в свое время для Тани. И хотя ей для того, чтобы взять себя в руки, требовалось времени несравненно меньше, первый ее вопрос к Тане вполне выдавал растерянность опытной революционерки.
– Когда? – только и нашлась спросить Хая.
– Третьего дня. И Самородов тоже.
– И Самородов тоже?! – сама уже не выдерживая голоса в конспиративной интонации, переспросила Хая.
– Да.
– Вот что… Мы с вами идем до конца этой улицы. Там вы свернете направо, я – налево. Ясно? А теперь быстро рассказывайте.
Таня коротко пробежалась по всем событиям последних двух дней, известных ей от кого-то или даже участницей которых она была сама. Кстати, рассказала и об угрозах, посылаемых кружковцам Дрягаловым-сыном, на что Хая лишь усмехнулась многозначительно. Не стала Таня рассказывать только о Лизе. После откровения, явленного ей матушкой Марфой, она самое Лизино имя оберегала от упоминания в связи с известными неприятностями. И кроме того, она хорошо помнила страшные слова Лены, что нелегальщики, если им указать на Лизу как на провокатора, еще, пожалуй, и расправятся с ней по-своему, то есть убьют ее попросту. И поэтому Таня о Лизе промолчала. Но скажи она теперь хотя бы полслова об их с Леной подозрениях, к тому же последующим арестом Леночки как будто доказанных подозрениях, Таня могла бы получить от Хаи, в подтверждение чудесного откровения блаженной старицы, еще и вполне логически обоснованный убедительный аргумент в пользу Лизиной невиновности. Хае сегодня сообщили, что третьего же дня, то есть одновременно с арестом Мещерина и Самородова, полиция арестовала и подпольную, исключительно законспирированную типографию организации. Причем в типографии находился весь отпечатанный накануне тираж речи Гецевича. Весь тираж до последней брошюрки! Сам автор не успел получить свои экземпляры. Все пошло под нож. И очень маловероятно, чтобы эти события – и облава на типографию, и аресты некоторых проживающих легально кружковцев – были между собою не связанными. Или случайно совпавшими. А в этом случае Лиза, безусловно, не может попадать в круг подозреваемых. Потому что о местонахождении святая святых организации – типографии – не то что какая-то новенькая девица, старые кружковцы далеко не все знали.
Пока Таня рассказывала, Хая как можно беззаботнее улыбалась, словно слушала анекдот или амурную девичью сплетенку. Когда окончился торопливый – и оттого нескладный – Танин рассказ, Хая, не раздумывая – на это абсолютно не было времени, – принялась наставлять неопытную новую свою товарку. Делать это она стала менторским и поэтому крайне неприятным для Тани тоном.
– Вы еще хоть кому-то про это говорили? – спросила Хая.
– Нет. А кому же? Я говорю: мы никого не нашли.
– Очень хорошо. И не выдумывайте никого больше искать. Вы и на других наведете филеров и сами угодите к ним в лапы. Лучше всего для вас было бы теперь скрыться, уехать побыстрее куда-нибудь на время. В имения там в ваши, в вотчины, – сказала Хая, не скрывая яда в голосе.
– Мы не землевладельцы, – ответила ей Таня с вызовом.
Хая поняла, что Тане язвить не следует. Эта не из тех, кто будет покорствовать такой с ними манере общения. И вообще нужно смягчить тон. Все-таки у них сейчас общие трудности, общие заботы, а может быть, их еще ждет и общая судьба. Судьба многих, ступивших на путь борьбы за всеобщее счастье и справедливость.
– Ну вы понимаете… вам надо пока затаиться, – продолжала Хая уже более миролюбиво. – И передайте это своим подругам. Хотя бы той, что не арестовали. Никуда пока не ходите. Ни на какие там ваши девичьи посиделки. Только гимназия и дом. Все! Если и вправду выпустят эту вашу Лену в заслугу за ее малолетство, скажите ей, чтобы сидела как мышка. И пусть ни в коем случае не ищет никого из кружка. Дом Дрягалова обходите за версту. Если вы понадобитесь, вас и так найдут. Никакой больше самодеятельности. Вам понятно? Никакой. – Так говорила Хая.
Таня не отважилась ей теперь сказать, что они с девочками еще до всех этих событий сговорились в кружке больше не участвовать. И единственно только забота о попавших в беду друзьях вынуждала ее быть заодно с организацией. А Хая, похоже, уже совсем почти считает ее за свою. Даже как будто заботится о ней. О ее безопасности. После этого как-то совестно говорить: я не с вами, я сама по себе, наши интересы лишь временно совпадают и т. д. Кажется, Мартимьян Дрягалов верно говорил, что они вовлекут к себе в кружок, не увидишь как.
Больше Хая ничего сказать не успела. Они дошли до конца переулка и, как было уговорено, свернули, каждая в свою сторону. Расстались, не церемонясь, как случайные попутчицы.
Возле университета Таня села, наконец, на конку и через полчаса была дома.
Девушка, открывшая ей, опустила глаза в смятении. И этого для Тани было достаточно, чтобы понять, какой невиданной силы гроза собралась над ее головой. За все время службы у Казариновых Поля не видела еще барина и барыню столь разгневанными. Александр Иосифович, когда вернулся из должности и узнал, что дочери нет дома, а из гимназии она ушла самовольно и неизвестно куда, накрепко сжал побелевшие губы, так что выразительные черты его благородного лица еще более заострились, и девушку, с которой всегда был любезен и весел, не удостоил больше ни единым словом, ни единым взглядом. Екатерине Францевне же он, мимоходом и с небывалою сухостью, сказал, чтобы негодницу немедленно направили к нему, лишь только она возвратится, и затворился в кабинете.
Высокое его указание было исполнено надлежащим образом. Причем Екатерина Францевна даже не высказала Тане пока ни малейшего своего нарекания по поводу ее изумительного ослушания, настолько свято она соблюдала право первенства главы дома во всем. В данном случае право первой выволочки провинившейся дочери. В свою очередь, Таня была вполне готова к вечернему аутодафе. Отправляясь странствовать по Москве, она предполагала, какие эмоции это может вызвать у папы и какую встречу он затем ей окажет.
У дверей кабинета Таня нарочно погромче постучала каблучками по полу, чтобы папа не был застигнут ее появлением врасплох. Ставить его сразу в невыгодное положение Тане не хотелось. Но и стучать в дверь она не могла. Потому что как-то сложилось, что Таня единственная в доме могла входить в кабинет Александра Иосифовича без стука. И если бы она теперь постучала, в кабинете это могло быть истолковано как ее беспокойство ввиду предстоящего разговора. А ведь на самом деле Таня очень даже беспокоилась: что ее там ждет за огромными темными дверями с ручками-драконами? какие еще нечаянности ей уготованы? Как бы то ни было, но, предупредив о своем появлении папу, Таня решительно вошла в кабинет.
Сидя за своим безмерным и пустынным, как газон, столом, Александр Иосифович казался совсем маленьким человечком. Высокая спинка кресла еще более усиливала это впечатление. Перед Александром Иосифовичем, лишь подчеркивая величину и пустынность стола, лежала раскрытая книга с приметным пурпуровым обрезом. И всякий, кто бы ни вошел в кабинет, без труда догадался бы – и по пурпуровому обрезу, и по двум характерным столбцам текста на каждой странице, – что Александр Иосифович пребывает наедине с Евангелием! А, как известно, потребность в этой книге душа испытывает чаще всего в минуты роковые. Но когда вошла Таня, Александр Иосифович уже не читал. Откинувшись в кресле и погрузив пальцы одной руки в волосы, он смотрел куда-то в сторону и был, как бы это сказать, дум печальных поли.
На появившуюся из-за портьер дочку Александр Иосифович прореагировал одним только движением глаз. Он был слишком отягощен раздумьями, чтобы так сразу переменить еще и позу по случаю явления нового лица.
Таня понимала, что в этот раз подходить к папе для исполнения традиционных их интимностей, как то: объятия и поцелуя в щеку – несвоевременно. Поэтому она остановилась, не доходя до стола нескольких шагов.
– Bonsoir, papa, – сказала Таня. – Vousm’appeliez? [3]– Интуиция ей подсказывала, что будет лучше, если разговаривать теперь не по-русски. Она, натурально, переживала, как бы поучения папы, высказанные на родном языке, не прозвучали фальшиво. Это гораздо неприятнее самих поучений. Чужой же язык имеет свойство отчасти сглаживать эту фальшь.
Неожиданно для самого себя Александр Иосифович оказался в положении довольно-таки идиотском. Ему и в самом деле было бы очень кстати холодность, с коей он намеревался повести разговор, укрыть в инообразии чужой речи. Но он не ожидал, что эту возможность ему предоставит дочка. Александру Иосифовичу это показалось оскорбительнейшею милостыней с ее стороны. Внутри у него все закипело новым гневом на паршивицу, восхотевшую, для пущего его унижения, выглядеть еще и великодушною, кроме того, что она уже, наперекор его воле, заявила себя вполне независимою. И все-таки, после минутного колебания, скрепя сердце Александр Иосифович заговорил по-французски. Садиться Тане он, разумеется, не предложил.
– Извольте, мадемуазель, слушать меня, – так начал Александр Иосифович, – ваше поведение не позволяет больше надеяться ни на ваше благоразумие, ни на элементарную вашу порядочность. Вы манкируете родительскими наказами самым возмутительным манером. Вы непочтительная дочь! Да! Именно так: непочтительная дочь! И будь вы старше, я бы не стал даже разговаривать с вами – после такого! Я бы удалил вас от себя. Но ваши юные лета не позволяют нам так поступать, а, напротив, взывают приложить к вам дополнительное внимание. И мы исполним свой родительский долг. Будьте покойны, Татьяна Александровна! Отныне вы попадаете под самое пристальное наше наблюдение. С завтрашнего дня я беру для вас компаньонку. Вы будете неразлучны, как сиамские близнецы. Из дома вы теперь самостоятельно не выйдете даже на бульвар на променад. И не советую пытаться. Иначе Pauline я уволю со службы с самою скверною рекомендацией. Ее я уже предупредил. В гимназию вы тоже больше не пойдете. А на экзамены вас будут сопровождать до самой парты. Если вы нуждаетесь в помощи учителей, скажите каких именно, и я приглашу для вас учителей на дом. Мы более не строим иллюзий на счет вашей лояльности. Вы этого вполне добились. И чтобы возвратить к себе прежнее наше доверительное отношение, вам придется поусердствовать в доказательство своей благонамеренности. Если, конечно, вы хотите возвратить такое отношение, в чем я очень сомневаюсь, должен признаться. Впрочем, это уже не имеет первостепенной важности. Важнее всего для нас теперь осуществить оговоренные репрессивные меры. Вы сами избрали этот путь. Вас никто не неволил. И пеняйте только на себя. – Он остановился, ожидая услышать от дочери если не мольбы о прощении, то хотя бы слова покаяния. Но тщетно. Молчала Таня. – Ну что ж, я думаю, стороны поняли друг друга, – помрачнев лицом, произнес Александр Иосифович. – Я вас далее, мадемуазель, не задерживаю.
Александр Иосифович был очень разочарован тем спокойствием, с каким дочка выслушала известие о ждущих ее репрессивных мерах. Он усмотрел в этом новый ему вызов. На самом же деле Таня была просто слишком готова к любому приговору. И даже к более суровому, нежели ей вынесли. Еще не так давно папа предлагал Таню отдать в очень хороший заграничный пансион. Кажется, в Пфальц. И, решись Александр Иосифович теперь исполнить свое намерение, он бы доставил Тане переживания куда как хуже против нынешних. Это означало бы, по меньшей мере, на год расстаться со всеми – и с подругами, и с мамой, и с папой, по которому она, несомненно, тоже будет скучать – и жить в каком-то тридесятом государстве почти по монастырскому уставу! И уж, конечно, в Танином молчании не было и тени вызова. Слушая перечень репрессивных мер, она думала, что, может быть, это и есть начало того самого мученичества, о котором говорила матушка Марфа. А если так, то принимать это следует благодарно, не иначе как ниспосланную свыше милость, как душеспасительное искупление ее безрассудных поступков.
Танины переживания относительно Пфальца были совсем небезосновательными. И в самом деле, размышляя о судьбе дочери, о судьбе всей семьи, Александр Иосифович, кроме прочего, подумал и о варианте с пансионом. Но отказался от него. Если дочка увязла основательно в этих делишках, рассуждал Александр Иосифович, то ссылка в пансион может принести лишь временный результат, но не решить проблему принципиально. Где гарантии, что по возвращении она не увлечется романтикой подпольных кружков с еще большею силой? И если она теперь едва покоряется родительской воле, то на ее покорность в будущем надеяться весьма отчаянно. Нужна какая-то иная, особенная, радикальная мера, которая гарантировала бы безопасность семьи, а равно и самой Тани, и в настоящем, и в будущем. И такую меру Александр Иосифович выдумал. Вначале, правда, она ему представилась даже чересчур радикальною, почему отцовские его инстинкты готовы были восстать против столь решительной перемены в жизни юной дочери. Но затем, тщательно взвесив все преимущества и недостатки своей идеи и найдя преимуществ в ней несравненно больше, нежели недостатков, он остановился на этом как на предприятии совершенно решенном. Удовлетворение от расторопности своего ума было у Александра Иосифовича настолько велико, что ему пришлось сделать над собою усилие, чтобы дочка застала его будто бы в печали от ее злонамеренных проделок.
Расставшись с Таней, Хая немедленно отправилась в Мясницкую улицу. Прежде чем позаботиться о собственной безопасности – а она вполне допускала, что раз пошли аресты, то и ее арестовать могут всякую минуту, – прежде даже чем оповестить товарищей, Хая поспешила исполнить данное когда-то обещание бывшей своей подруге. Перед отъездом за границу Машенька наказывала опытной Хае, по возможности, не оставить Алексея своим вниманием, хотя бы советом помогать ему, а если – не дай бог! – с ним выйдет какое-то происшествие, тотчас сообщить ей об этом. И Хая, как ни завидовала она тогда Машеньке, пообещала все это исполнить. Но повышенное ее внимание к подопечному Самородову выражалось единственно в неизменных их разногласиях, доходящих порою до откровенной и жестокой, особенно со стороны Хаи, перепалки на собраниях. Разумеется, при таком положении вещей, быть Самородову доброю советчицей она не могла. Обо всем этом Хая вспомнила теперь с искренним сожалением. Она же ничего не сделала для своего товарища! И не пыталась даже ничего сделать. Потому что он был всегдашним ее оппонентом. Но он же в первую очередь был ее товарищем – товарищем! – а потом уже оппонентом! Верно он говорил давеча, что нас может погубить внутренний разлад. Как верно. Так рассуждала Хая, спеша на Мясницкую. Она торопилась исполнить хотя бы последнюю просьбу подруги.
Тем же вечером Машеньке и Дрягалову на их парижскую квартиру доставили telegramme-express. Там было написано: «Leneveuvisitechezl`oncle» [4].
Глава 9
На другой день Таня в гимназию не пошла, как и было определено Александром Иосифовичем. Проснулась она, по обыкновению, рано, но, вспомнив, что на занятия ей идти больше не нужно, Таня еще понежилась в горячей своей постели, зевая и потягиваясь с удовольствием и чувствуя, как все тело ее, ослабевшее со сна, наливается новою силой. Наконец, она в последний раз вытянулась вся с улыбкой блаженства, потом отшвырнула одеяло и вылетела проворно из постели прочь. Она подбежала к окну и с шумом распахнула обе створки. Приятная свежесть апрельского утра поползла в комнату, лаская прелестное оголившееся Танино плечико. На окнах дома напротив сидело множество голубей, и Таня, от досады, что не умеет свистеть, стукнула даже кулачками по подоконнику, так ей захотелось вдруг свистнуть погромче, чтобы взвилась в небеса серая стайка. Но, сейчас же оставив голубей, она обернулась к иконам и, мало помедлив, начала молиться, как прежде молилась только по воскресеньям. Не по облегченному правилу для мирян, а по полному чину.
До обеда Таня совершенно не находила, чем бы ей заняться. Она безо всякого интереса полистала свои учебники и тетрадки, принималась читать роман. Вначале один, потом другой. Но всё безуспешно. Слишком уж непривычно ей было чувствовать себя под арестом, хотя бы и в стенах собственного дома. От этого мысли ее рассеивались и не могли вполне обратиться ни к наукам, ни к романам. Тогда, забросив книги, Таня отправилась бродить по квартире. Из комнаты в комнату. Заглянула даже в кабинет к Александру Иосифовичу. Посреди кабинета, вольготно развалившись на ковре, спал Диз, папин бульдог. Он только слегка и очень неохотно приоткрыл один глаз, когда появилась его лучшая подруга, и сразу же закрыл его, настолько неинтересна и, пожалуй что, в тягость была ему сейчас Таня. Ущемленное такою возмутительною собачьею выходкой Танино самолюбие возопило о мщении, и она хотела было уже подойти пнуть легонько этого обнаглевшего ленивца, дабы напомнить ему, кто такой он и кто она, но у нее опять сделалась апатия, и Таня ушла из кабинета, разве только дверь захлопнув посильнее, чтобы самый их привилегированный домочадец не очень-то воображал себе, будто она совсем уж угодничает перед ним.
Прогуливаясь по квартире, Таня без какой-нибудь нужды оказалась в передней. И тотчас туда же вышла Поля зачем-то. Но Таня-то отлично понимала, отчего девушка появилась в передней одновременно с нею. Поля исключительно строго, а иначе и быть не могло, выполняла указания Александра Иосифовича по надзору за узницей. И Таня решила намного развлечься. Она ушла куда-то вглубь квартиры. Пошумела там даже, чтобы усыпить бдительность служанки: стул передвинула, ткнула пальчиком два-три раза по клавишам рояля и т. п. А потом, едва касаясь пола, быстро прошмыгнула в переднюю. И уж тут дала волю своим каблучкам. В тот же миг в переднюю буквально вбежала Поля. Но, увидев, что Таня спокойно стоит и будто бы поджидает ее, Поля едва не споткнулась от неожиданности, причем сильно смутилась.
– Вы что-нибудь хотите, Поля? – старательно изображая сарказм, спросила Таня.
Девушка не была готова теперь отвечать на Танины вопросы и смутилась еще больше.
– Нет, ничего, барышня, – ответила она, пряча от Тани виноватый взгляд.
– Но вы для чего-то явились сюда, к тому же с поспешностью, достойной похвалы? – не унималась Таня.
Продолжать увиливать Поля больше не могла. Преодолевая неловкость, она призналась Тане о возложенных на нее Александром Иосифовичем дополнительных обязанностях, как то: внимательно наблюдать за Таней и ни в коем случае не дозволять ей выходить из дому в течение дня.
– Как же это не дозволять? – удивилась Таня. – А если я сейчас возьму и пойду куда-нибудь, вы что же, драться со мною будете?
– Прошу вас, барышня, не надо. – В голосе девушки слышалась слезная мольба. – Иначе мне не поздоровится. Александр Иосифович обещался тогда прогнать меня…
Тане стало совестно за свою шутку, принесшую страдание исключительно добродушной Поле. Шутка вышла злою. И, разумеется, Поля такого не заслуживала. Таня заверила девушку, что никуда из квартиры не выйдет, и удалилась к себе. Буду сидеть, как в арестантской, думала Таня. Пусть им всем сделается стыдно.
Свое одиночное заключение Таня переносила мужественно весь день. Но когда из передней послышались голоса, среди которых был и незнакомый голос, она не выдержала и, чем дожидаться, пока о ней вспомнят, сама вышла на люди.
Александр Иосифович вернулся из должности несколько позже обычного. И вернулся не один. С ним приехала до жалости странная пожилая особа в старомодном и к тому же хорошо поношенном зеленом турнюре, затянутая в корсет, как раньше говорили, sans ventre [5], с лорнетом на шнурке и с неновым веером на поясе. Было очень неловко наблюдать, как дама отчаянно старается казаться моложавою и как беспомощно она силится придать своим движениям легкость. Вслед за дамой в квартиру внесли ее сундучок, несколько картонок, тонетовскую качалку, еще какие-то вещи.
Александр Иосифович, увидев, что все домашние в сборе, – а кроме упомянутых уже лиц, в передней была Поля, а потом вышла и Екатерина Францевна, – почел сделать собравшимся представление прибывшей с ним особы, на которую, кстати, он смотрел глазами влюбленного поклонника. Он сказал:
– Друзья мои, сегодня радость в нашем доме. Светлый счастливый день. Не часто, увы, в последнее время случаются такие дни. – При этом Александр Иосифович недвусмысленно посмотрел на дочь. – Сегодня к нам приехала, и, надеюсь, останется надолго, мадемуазель Рашель! – И он сделал рукой в сторону совершенно польщенной дамы этакий балетный жест. – Мадемуазель Рашель милостиво согласилась принять мое предложение и не только быть для нашей возлюбленной дочери мудрой наставницей и доброй… – он хотел было сказать «подругой», но чувство меры все-таки его не подвело, и Александр Иосифович, помявшись, нашел этому слову замену, впрочем, едва ли подходящую, – воспитательницей, но сделаться еще и членом нашей семьи… до некоторой степени, – умерил опять же Александр Иосифович свои щедроты. – Прошу поэтому ее любить и жаловать. – И он снова посмотрел на даму взглядом обожателя, осчастливленного ею.
Присутствующие все по-разному отнеслись к появлению в доме новой жилицы. Поле m-lle Рашель сразу не понравилась. Хотя виду девушка не показывала. Она интуитивно почувствовала, что этот новый член семьи не упустит случая самоутвердиться за счет притеснения слуг. Таня, напротив, нашла свою компаньонку особой небезынтересною, на первый, чисто поверхностный взгляд, и, до упадка духа наскучавшись за день, рада была любой перемене в ее заточении. Но самое неотразимое впечатление m-lle Рашель произвела на Екатерину Францевну. Увидев этот персонаж,другого слова ей просто не пришло больше на ум, Екатерина Францевна растерялась, не в силах себе объяснить: что бы это значило? Но когда было авторитетно заявлено, что это и есть та самая наставница или воспитательница для Тани, о которой Александр Иосифович ее вчера и предупреждал, Екатерина Францевна изумилась настолько, что поискала глазами, обо что бы ей опереться. Но тотчас овладев собой, она, как обычно, решила, раз Александр Иосифович привел в дом это допотопное ископаемое, значит, так нужно для дома. Ему виднее.
С Екатериной Францевной m-lle Рашель поздоровалась как будто бы с любезною снисходительностью, допускающею, что госпожу Казаринову, при известных оговорках, можно считать ровней. Полю она удостоила лишь беглого безучастного взгляда. А на Таню посмотрела с притворным заговорщицким выражением, словно их уже не короткое время связывают какие-то неведомые для окружающих отношения.
– Здравствуйте, моя дорогая девушка Таня, – сказала m-lle Рашель, улыбаясь при этом одними только губами, но так широко, что видны были все ее белые крупные зубы. – Мы будем иметь с вами хорошую дружбу. Это правда?
Екатерина Францевна только глаза закатила в ужасе от столь вульгарного перевода на русский. Но делать было нечего. Ей следовало, безусловно, покорствовать, какие бы неожиданности, по воле главы семьи, в их доме ни происходили. Как-то переменить это устроенье Екатерине Францевне не могло даже прийти в голову.
M-lle Рашель проводили в ее комнату. Александр Иосифович, без умолку шутя и смеясь, сам показывал ей апартаменты. На шум вышел, шатаясь, как пьяный, Диз из кабинета. Танина компаньонка, брезгливо морщась, довольно долго рассматривала его в лорнет, и было заметно, что радости от перспективы проживания с таким сообитателем она не испытывает. Но и собаке эта зеленаяне понравилась сразу. Диз сделал страшную морду и зарычал. Он, может быть, и залаял бы на нее, но Александр Иосифович строго приказал ему ступать прочь. Что Диз и выполнил, покорно попятившись назад в кабинет.
Когда улеглись первые треволнения, обычно сопровождающие появление в доме нового лица, вся семьясобралась в столовой. Александр Иосифович решил дать, как он сказал, grand-diner в честь несравненной m-lle Рашель, сделавшей отныне их дом счастливым вполне. Не знавший особенно толку в вине – больше он любил выпить водочки для аппетита, – теперь Александр Иосифович попросил Полю подать к столу
«Шато Марго», чтобы m-lle Рашель, опять же по его выражению, ощутила зной и пряность родного Бордо. Причем разливать вино он взялся самостоятельно, не позволив прислужнице выполнить эту традиционно неженскую заботу. Налил он немного вина и Тане. Это должно было выглядеть, как шаг с его стороны к восстановлению их нежных доверительных отношений. До этого случая Тане приходилось вкушать лишь пресуществленное вино.
– Господа, – подняв бокал, насколько возможно торжественно обратился к собравшимся Александр Иосифович. – То есть дамы! – веселясь, поправился он без особой надобности. – Я не склонен преувеличивать значения сегодняшнего события, но и преуменьшать его я тем более не склонен. Что такое семья, господа? Ну представьте себе античный храм, этакий Эрехтейон, грандиозная кровля которого покойно опирается на ряды стройных колонн. Пока стоят колонны, все как одна, и удерживают кровлю, им не страшна непогода, им нипочем дождь. Но вот, вообразите, одна из них обветшала и разрушилась, за ней другая, третья, пятая… Что сделается с кровлей? – она рухнет, и если не поломает при этом оставшиеся колонны, то уже не сможет быть им впредь защитой от ненастья. Но если вовремя укрепить эти самые колонны, если взамен развалившихся вовремя возвести новые, то такой храм не разрушится. Он будет стоять крепко и долго. – Александр Иосифович всех оглядел самодовольно. Он упивался впечатлением, которое, как ему мыслилось, должна была произвести на дам образность его речи. – Все это удивительным образом напоминает нашу семью, едва не поплатившуюся кровлей за необдуманное, неосмотрительное поведение иных своих членов. – Александр Иосифович снова выразительно посмотрел на дочку. – Но, кажется, минует печальное время. Волею самого Провидения наша семья приобретает дополнительную надежную опору, я бы сказал, столп – столп и утверждение истины! – в лице мудрой и очаровательной мадемуазель Рашель. Так позвольте же, друзья мои, предложить вам испить этого доброго вина за мадемуазель Рашель – в первую очередь, – а также за благоденствие всей нашей семьи!
Александр Иосифович поднял бокал выше прежнего, кивнул плавно, как истый кавалер, каждой из сидящих за столом дам, в том числе и дочери, и выпил вино до дна. M-lle Рашель и Екатерина Францевна сделали по несколько маленьких глоточков. А Таня из познавательных соображений отпила целых полбокала, совсем не поняла, в чем же прелесть этого знаменитого пития, но продолжать свои опыты постеснялась и равнодушно, с видом, что это ее нисколько не интересует, отставила бокал с недопитым вином.
– Вы очень хорошо знаете аршитектюр, Александр Иосифович. Это правда, – имея в виду польстить ему, сказала m-lle Рашель.
– Архитектуру?.. – не сразу и сообразил Александр Иосифович, что француженка нимало не поняла его изощренного иносказания. К счастью, улыбка ему не изменяла в подобных обстоятельствах. Даже и догадавшись, наконец, что его ораторские усилия оказались не понятыми, он продолжал так же непринужденно, как ни в чем не бывало, улыбаться.
– Да, да, архитектюр! – радостно поправилась m-lle Рашель.
– Да, знаете ли… слушал кое-какие лекции по данному предмету, читал Барберо… – вынужден был Александр Иосифович сделать вид, будто архитектура только и владеет теперь всеми его помыслами.
Но, заметив, в каком положении оказался муж, сию же секунду на выручку ему пришла Екатерина Францевна. Рискуя заслужить от m-lle Рашель совсем уж нелестный для нее комплимент по поводу своей недюжинной компетенции в кулинарной области, она сказала:
– Мадемуазель Рашель, не изволите ли отведать этого рябчика в сметане? Мы специально по случаю вашего приезда велели его приготовить.
– А уж Никита, наш повар, когда узнал, что его мастерству предстоит держать экзамен перед таким утонченным вкусом, как ваш, мадемуазель Рашель, постарался прямо-таки на славу, – с благодарностью посмотрев на супругу, подхватил Александр Иосифович. – Превзошел, как у нас говорится, самого себя. У них ведь, знаете, как заведено, у прислуги: своим господам можно и вполсилы служить, но уж для гостей разбиться горазды, ради похвальбы одной.
– Разбиться? – но поняла m-lle Рашель.
– Ну, то есть, особенно постараться, – объяснил Александр Иосифович.
– Да, слуги должны быть очень усердными и хорошо делать все, – согласилась француженка. – У князей М. слуги не были ленивые. Я правильно говорю? – обеспокоилась она за свою русскую речь, – не были ленивые?
– Совершенно верно, – успокоил ее Александр Иосифович. – А расскажите, мадемуазель Рашель, как вы занимались с княжнами? Если не ошибаюсь, княжон М. зовут Наталья и Мария?
– Да-а! Мари и Натали. Как они любили меня! О-о! Когда я ушла от них – ушла из службы, – с ними сделалась меланхолия. Бедные девочки! Им очень не хватает меня… – Голос m-lle Рашель дрогнул.
– Ну еще бы! – тоже с чувством сказал Александр Иосифович. – И все же, хотелось бы узнать, хотя в общих словах, как устроен был ваш воспитательный метод? Вы, вероятно, беседовали с княжнами на различные эстетические предметы, там: о поэзии, искусстве, философии, рассказывали им многое?
– Да-а! Да-а! Мы читали стихотворения и произведения литературы. Мы смотрели много эстампов. Мы слушали много произведений музыки. Княжна Мари очень хорошо играет на фортепиано, а княжна Натали очень хорошо играет на фортепиано и поет. И княжна Мари тоже очень хорошо поет. Это правда. Это настоящая маленькая Гранд-опера. – M-lle Рашель, кажется, готова была прослезиться. – Как им не хватает меня!.. – повторила она свою сожалительную реплику, которую понимать следовало, наверное, как сетование на то, что, наоборот, ей, m-lle Рашель, не хватает ее любезных воспитанниц, княжон М.
Все это так и поняли. Причем Александр Иосифович в утешение ей сказал:
– Я очень хорошо понимаю ваши чувства, мадемуазель Рашель. Действительно, привязавшись к чему-либо всем сердцем, очень тяжело затем с этим расставаться. Как вы, должно быть, страдаете! Как убиваетесь!
– Убиваетесь? – с некоторою тревогой спросила m-lle Рашель.
– Ну да. Конечно. Убиваться – означает по-русски переживать о чем-нибудь очень сильно, – объяснил ей опять Александр Иосифович.
– Да. Это правда, – вздохнула m-lle Рашель. – Я убиваюсь! Я очень убиваюсь!
– Мадемуазель Рашель, – сказала Екатерина Францевна, несколько уязвленная ностальгией француженки по прежней службе, – может быть, расстройство ваших благородных чувств умерится, хотя бы отчасти, если вы узнаете, что наша Танечка тоже играет на фортепьянах и, смею утверждать, совсем недурно поет. И думаю, скоро вы сможете в этом сами убедиться.
Таня знала, что на подобные слова ей следует реагировать каким-либо выказыванием своей скромности. Если уж не краской неловкости на лице, то хотя бы смиренно опустить глаза. Покраснеть, она почувствовала, у нее уже не получится, потому что она и без того вся давно зарумянилась от выпитого вина, и Таня только опустила глазки.
Ей прежде никогда не случалось испытывать опьянения. То есть быть пьяною в прямом значении этого слова. И теперь Тане казалось, что она именно пьяна. Во всяком случае, полбокала вина вполне могли бы стать причиной того, что она решительно не была в состоянии уловить логическую нить этого редкостного суемудрия взрослых. Что за бессвязная беседа? О чем идет речь? Вздор какой-то. В конце концов, Таня оставила пытаться их понять. Ей не хотелось утомлять голову ни вниманием к разговору, ни какими-нибудь еще размышлениями. Она, как умела иногда это делать, совершенно отключилась и лишь отрешенно тыкала вилкой в закуски.
Ужин затягивался едва ли уже до неприличного. M-lle Рашель нашла Никитиного рябчика весьма добросъедобным изделием. А слова Екатерины Францевны о том, что рябчик приготовлен «по случаю ее приезда», она истолковала, как «для нее». И теперь заканчивала с этим блюдом. Екатерина Францевна и Александр Иосифович вынуждены были делать вид, что и они ужинают. Причем Александр Иосифович еще и развлекал m-lle Рашель, как говорится, словом крылатым.
Из передней донесся звонок. Новое явление, как в пьесе, приходилось кстати. Все, и Таня откровеннее других, предвкушая окончание затянувшегося действия, с облегчением и с деланою озабоченностью зашевелились. Хотя в это время Казариновы обычно никого не принимали. И в другой бы раз им было впору встревожиться. Но не теперь.
Поля пошла открывать. Когда она возвратилась в столовую, ее взгляд растерянно блуждал между Таней и Александром Иосифовичем. Девушка словно бы мучилась выбором, к кому из них отнестись. Наконец, она приняла решение и сказала, обращаясь к Александру Иосифовичу:
– Там мадемуазель Лена пришла…
Александр Иосифович вначале деловито нахмурился, вроде как бы даже оскорбляясь этим визитом. Но затем отмяк и великодушно велел проводить Леночку к себе в кабинет. Он еще помедлил немного оставлять трапезу. Посидел, что-то там сказал, попил неторопливо «боржома», причем многообещающе посматривая на дочку. И, только выждав время, поднялся и с извинениями вышел. А m-lle Рашель он еще добавил:
– Это та особа, о которой я вам давеча рассказывал в связи с нашею печальною семейною историей.
M-lle Рашель понимающе и сочувственно закачала головой.
В кабинет Александр Иосифович вошел торжественно и грозно, как суд является в заседание. Он задержался в столовой с умыслом потомить посетительницу, причинить ей беспокойство, посеять в ней тревогу, чтобы преимущество его в этом свидании было подавляющим.
Но, к неудовольствию своему, Александр Иосифович нашел Лену, беззаботно, казалось бы, играющую с собакой. Диз лежал на спине, лениво шевеля лапами, а старая его добрая приятельница гладила ему живот.
Увидев Александра Иосифовича, Лена тотчас оставила свое занятие.
– Добрый вечер, Александр Иосифович, – сказала она, встав в полный рост.
– Здравствуйте, – буркнул он ей в ответ, указал небрежно рукой садиться на диван, где обыкновенно сидела Таня, и, все-таки дождавшись, пока Лена сядет, опустился в кресло сам.
– Вы, мадемуазель, вероятно, к Тане? – холодно спросил Александр Иосифович.
– Да, к Тане, – ответила Леночка, ничуть не удивляясь такой холодности всегда приветливого с ней Александра Иосифовича. Ей было все понятно: как человек благородный, Александр Иосифович, не раздумывая, встал на защиту подруги своей дочери, но это не обязывает его не считать ее самое ни в чем не повинную, незаслуженно пострадавшею, что, естественным образом, влечет за собой и соответствующее к ней отношение. И Лена поникла головой перед своим спасителем.
– Вы вообще-то понимаете, что произошло? – начал проповедь Александр Иосифович.
– Что вы имеете в виду, Александр Иосифович? – Разумеется, Лена знала, о чем ее спрашивают, но она не могла себя заставить прямо ответить на этот неконкретный вопрос.
– Ничего, кроме вашего с Таней недавнего приключения, которое для вас еще и имело трагическое продолжение.
– Но мы ни в чем не виноваты. Когда меня допрашивали…
– Ее допрашивали! – воскликнул Александр Иосифович, не дав ей даже закончить. – Милочка моя, да одного этого достаточно, чтобы для вас навсегда закрылись двери приличных домов. Удивительно, как сегодняшняя молодежь беспечно относится к репутации! Вы, кажется, и в самом деле не понимаете… Вы, наверное, думаете, что это просто детская шалость, за которую вас ну побранят, ну не дадут сладкого в наказание… и не более! И невдомек вам, в какую бездну вы можете полететь. И еще других прихватить с собою за компанию. Вот ваш отец занимается частною врачебною практикой. Да стань только известно, что у доктора Епанечникова революционерка дочь, клиенты будут за версту обходить его кабинет. Вы, надеюсь, этого не желаете своему отцу? А ваши юные братья? Вы знаете, какое к ним может начаться отношение в гимназии?! Как к презренным! Или даже их вовсе исключат. Такое тоже возможно. В Первой гимназии, как вам, должно быть, известно, сплошь дети высокопоставленных родителей. Не думаю, чтобы они остались равнодушными к тому, что их чада знаются с учениками, в семье которых есть государственные преступники. Да! Да! Так у нас официально именуют лиц, занимающихся революционною деятельностью. Если вы этого не знали, то примите к сведению. Отчего же вы никогда не думаете о последствиях?! Ни одна, ни другая! Или мы сами виноваты, что воспитали вас такими беспечными?! – вопросил он с патетикой. – Не знаю. – Ну хорошо, Лена, – сменив гнев на милость, продолжал Александр Иосифович, – скажите, что вы дальше намерены делать? Надеюсь, этот досадный случай послужит вам уроком?
– Вполне, – ответила Леночка.
– Рад за вас. Вы понимаете, Лена, я же хочу чтобы и вы, и Таня были счастливы. Ваши родители, безусловно, хотят того же. Родительский долг требует от нас быть иногда строгими с детьми, если дети опасно заблуждаются. Подчас до жестокости строгими. Но это оправданная жестокость. Я бы сказал: праведная жестокость. Ибо наградой за нее будет благополучие детей, а стало быть, и всей семьи. Вы согласны со мной, Лена, или нет?
– Возможно, – только и ответила Леночка.
Ей было что возразить Александру Иосифовичу. Она могла бы, например, спросить у него: почему это человек должен совеститься за свои поступки, если он руководствовался благими намерениями? если он не лукавил? Кто такого человека будет обходить за версту? Во всяком случае, не люди чести. Но она ничего не стала говорить, кроме короткого и многозначительного «возможно». За последние дни она слишком утомилась от долгих и нудных разговоров в полиции, дома, с подругами. Все ее много спрашивали, но никто толком не слушал, какие бы страстные слова она ни говорила собеседникам. И больше вообще ей не хотелось чего-либо обсуждать по этому поводу. Да и как можно что-то еще возражать Александру Иосифовичу после такого его жертвенного участия в ее судьбе.
Такой ответ, разумеется, не мог понравиться Александру Иосифовичу. Как и с его собственною дочерью, с Леночкой не было ясности: отрекается ли она решительно от своих заблуждений или избегает отвечать однозначно, чтобы в случае чего не выглядеть клятвонарушительницей? Но свою дочь он мог родительскою властью уберечь от роковой случайности. Хотя бы и таким жестоким манером, как он это сделал. Уберегать же от неприятностей ее подруг ему было совсем не интересно. Да и власть над ними у Александра Иосифовича ограничивалась только правом исключить их из числа лиц, вхожих в дом. Вначале он подумал именно так и поступить. Для верности. Но потом решил, что таким строгим отношением к Лене, к лучшей дочкиной подруге, которую сама государственная власть в лице полиции не находит виновною, а следовательно, и не причисляет к разряду отверженных, он таким строгим к ней отношением может возбудить у окружающих определенный интерес, вызвать подозрения, будто он располагает о Лене сведениями большими, нежели знает об этом власть. Но он же ничего не знает, кроме того, что известно всем! И Александр Иосифович не решился быть строже полицейских. Не виновата? – ну тогда, милости просим, мадемуазель, наш дом открыт для вас. И поэтому, получив от Лены столь неопределенный ответ, от не стал обострять их разговора. Напротив, он не показал виду, что заметил эту неопределенность.
– Вот и славно, Лена, – сказал Александр Иосифович, вставая. – Вы девушка разумная и все хорошо понимаете. Но я вижу, как я вам уже надоел со своими разговорами. – Он улыбнулся. – Вам, наверное, не терпится к подруге. Ступайте, пожалуйста. Простите великодушно, что задержал. Да! Еще вот… Видите ли, Таня теперь будет находиться дома до самых экзаменов – есть на то причины, – поэтому прошу приходите почаще. Иначе она будет скучать. Мы рады будем вас видеть у себя.
Леночка поднялась с дивана, но уходить медлила. Она подошла поближе к Александру Иосифовичу и, теребя пальцами вьющийся по груди локон, сказала:
– Александр Иосифович, я не знаю даже, как вас благодарить. Если бы не вы…
– Не понимаю… В чем дело? – удивился искренне Александр Иосифович.
– Спасибо вам большое…
– Да в чем, наконец, дело? За что спасибо? – Он, между прочим, даже подумал, что это такой своеобразный упрек за его строгость.
– Но ведь вы предстательствовали за меня… Если бы не вы…
– Ах, вот что! – Александр Иосифович все понял. Но как ни соблазнительно ему было выглядеть благодетелем, нужда заставляла объяснить Лене ее заблуждение. Он бы никогда этого не сделал, если бы не знал наверно, что она теперь же узнает всю правду от дочери. И Александр Иосифович вынужден был признаться: – М-м-м… моей заслуги в этом нет, так сказать…
– ?!
– Я, как юрист, отчетливо видел, что особенной вины, за которую вы могли бы понести наказание, за вами не водится, и оттого не счел нужным вмешиваться… И оказался прав…
Через минуту Лена и Таня уже сжимали друг друга в объятиях. Им бы, казалось, после всего пережитого дать волю слезам, не сдерживать более чувств. Но нет. Ни вздоха, ни стона, как говорится. Они и раньше не были сентиментальными барышнями, что рыдают над «Вертером», но за эти дни девочки сразу вдруг повзрослели, возмужали, если так можно о них сказать. Духом окрепли, как было в моде высокопарно говорить о себе среди революционной молодежи.
Тане совершенно не о чем было Леночку расспрашивать. И так уже вроде бы все известно и понятно.
– Ну как ты, Лена? – только и нашлась спросить она.
– Да ничего, спасибо. Отсидела. – Последнее слово Лена произнесла с ироническою улыбкой.
Как и ее отцу, Тане почудился упрек в сказанном. Ведь третьего еще дня она уверяла подругу, что Александр Иосифович легко избавит ее от любых неприятностей. И как вышло.
– Лена, это так ужасно. Но я ничего не сумела сделать, – повинилась Таня.
– Полно тебе. Для меня, к счастью, ничего и не надо было делать, как оказалось. Хотя, по правде, я была до сих пор убеждена, что это только благодаря Александру Иосифовичу меня так скоро выпустили. Но он сказал сейчас, что его заслуги в этом нет.
– Да, это правда… Тьфу ты… Ко мне это выражение уже привязалось.
– Какое выражение?
– «Это правда». Ты знаешь, какие у нас новости? – папа запретил мне теперь выходить из дому, – я же тотчас побегу метать бомбы в генералов, – и взял для меня надзирательницу, то есть компаньонку, как он ее приличия ради называет, француженку мадемуазель Рашель, презабавная личность, честное слово. Да ты сама увидишь. И вот эта мадемуазель Рашель то и дело, где надо и где не надо, вставляет их неизменное c'estvraiпо-русски. – Таня рассказывала о m-lle Рашель чересчур весело и, видимо, подругу тоже приглашала повеселиться.
Но Лена с грустью смотрела на эту неизвестно чему радующуюся чудачку. И Таня, застыдившись, умолкла.
– Какие еще новости? – спросила Лена.
– Да особенно… Впрочем… Как тебе сказать… – Таня отвернула лицо. – Понимаешь, я теперь думаю, что Лиза ни в чем не виновата…
– Ты правильно думаешь, Таня, – как-то таинственно и одновременно с тем твердо проговорила Лена.
– А ты откуда знаешь? Тебе что-нибудь известно? – Таня сразу взволновалась.
– Кое-что. Но прежде расскажи, что тебе известно.
И Таня, без возражений, как на духу, принялась ей рассказывать все, что с ней было после их последнего свидания. Она рассказала и об осложнившихся по известным причинам отношениях с отцом, и о том, как безжалостно, высокомерно, словно обиженная инфанта, обошлась она с Лизой в гимназии, и о странном разговоре с Мартимьяном Дрягаловым, и о случайном знакомстве с Наташей.
– Мы с ней разговорились. О том о сем. Ну это не важно. О пустяках каких-то болтали, – продолжала Таня. – А потом она по какому-то случаю мне сказала, что едет не то исповедоваться, не то совета там спрашивать к одной монашествующей старушке. Она, старушка эта, живет возле Даниловского кладбища, на окраине…
– К блаженной Марфе?! – воскликнула Лена.
– Ты ее знаешь? – Таня этого никак не ожидала и оттого растерялась.
– Еще бы! Это знаменитая личность! Ее один питерский священник, известный тоже подвижник, назвал «восьмым столпом» России. Ты только подумай, как это грандиозно звучит: «восьмой столп» России! Слушай, Таня, – у Леночки вдруг округлились глаза, – так это матушка Марфа тебе сказала про Лизу?! Ты была у нее! Это же настоящее чудо! Рассказывай же скорее! и подробнее!
– Вот я и говорю… решила я тоже поехать с этой Наташей к старице, спросить ее… Подъезжаем… А у нее возле дома столько народу стоит! Видела бы ты! Думаю, человек с полета. А может быть, и больше.
– Все правильно. К ней едут люди со всей России. Ну и что? Какая она? Я тоже к ней собираюсь сходить. Да все никак не могу выбраться. Я так тебе завидую, Таня. Ну же, рассказывай!
– Отвели нас к ней в комнату. Там у нее есть несколько таких… по виду совершенных монашек…
– Это послушницы.
– Да. И вот одна из них нас к ней и проводила. Она оказывается слепая…
– Она от рождения слепая. Но это воистину для того, чтобы на ней явились дела Божии. Она и без глаз видит, чего мы, зрячие, никогда не заметим. Ну и что дальше было? Я тебя перебиваю все время.
– Дальше… Мы вошли к ней… Поздоровались… – Здесь Таня замялась, подыскивая слова. – Меня она встретила… Ну, в общем… ее ко мне отношение любезным не назовешь…
– А что она тебе сказала?
– Не помню уже. Сильно браниться начала.
– Но за что?!
– Вот это и есть самое удивительное. За Лизу. За то, что я к ней несправедлива была. Она сразу сказала, не узнав еще, в чем дело, не расспросив ни о чем, не выслушав меня, сразу сказала, что Лиза не виновата. Представляешь?! Особенно мне запомнились ее слова: ты почему подругу свою гонишь?!
– A-а! Это же Христос так говорил Савлу: что ты гонишь Меня? Боже мой! Таня, ты понимаешь, вообще, какое это чудо?! Настоящее чудо! – Леночкины глаза сделались совсем уже как блюдца и неистово горели. – Но дальше, дальше!
– Да, собственно, вот и все, – неуверенно проговорила Таня. – Ничего, кажется, больше такого конкретного она не сказала. И я ушла. А Наташа осталась у нее.
– Бог с ней, с Наташей. – Леночка видела, что мысли у Тани рассеиваются, и поэтому поспешила возвратить ее к важнейшему. – Неужели она больше ничего тебе не говорила? Вспомни. У нее всякое слово вещее. Может быть, пожелала чего-нибудь на прощание?
– Как будто нет… Ничего такого… Она мне сказала идти тогда же к Иверской иконе…
– Зачем?
– Ну как зачем? – приложиться, я полагаю, – зачем еще? Чтобы покаяться там, видимо. А еще больше, наверное, чтобы поразмыслить обо всем хорошенько. Не знаю я. Она не сказала зачем. – Дойдя в рассказе своем до этого места, Таня вспомнила и о следующем важном событии. – Да! – и вот послушай дальше: только я вышла из часовни, сразу же повстречала ту брюнетку, – Таня оглянулась на дверь и понизила голос, – ну помнишь? – на собрании тогда была, Хая зовут ее.
– Помню, как же… Слушай! – вот за этим тебя матушка Марфа и послала к Иверской! Чудеса! Для того чтобы ты встретилась с этой Хаей. Значит, так для чего-то нужно. Я же говорю тебе: она напрасно слова единого не скажет.
– Ты думаешь? – спросила Таня с сомнением. Ей до сего времени не приходило в голову, что та, как ей казалось, совершенно случайная встреча с Хаей была неким следствием посещения матушки Марфы.
– Я уверена, – ответила Леночка. – Ты, Таня, просто все еще не понимаешь, с кем тебе посчастливилось увидеться. Провести вечер в обществе самой государыни было бы меньшим счастьем. Нам же страшно повезло, что мы живем с ней в одно время и можем запросто вот так пойти послушать ее слова. Да это, может быть, самое святое, что есть сегодня в России, – говорила она вдохновенно. – И что эта Хая? – помолчав немного и собравшись с мыслями, продолжила Леночка разговор.
– Я ей рассказала все, что мне было известно. И про тебя тоже. Что тебя арестовали.
– А она?
– А она говорит, чтобы мы ничего не предпринимали больше самостоятельно, ни к кому не ходили и, вообще, затаились, как говорится.
– Очень даже разумно.
– Но еще она добавила, что, если мы понадобимся, они нас сами разыщут…
– Ну посмотрим… Там видно будет… Во всяком случае, пока надо делать так, как она сказала. Потому что ведь это не она сказала на самом-то деле. Ты понимаешь?
– Ты думаешь?..
– Без всякого сомнения. Ты сама посуди: чем не соломоново решение? – нам ничего не предпринимать и спокойно ждать дальнейшего развития событий, а они нас, может быть, разыщут, если понадобимся. Может быть! А скорее всего, мы им не понадобимся. Я, например, совершенно не представляю, какая им от нас польза. Вот, по-моему, и исчерпан вопрос.
Когда Таня рассказывала Леночке о своем разговоре с сыном Дрягалова, она утаила от нее только одно – циничное предостережение Мартимьяна о том, в какой роли они могут быть интересны кружку. Ей неловко было даже с подругой говорить о таком. Но теперь, после Леночкиных оптимистичных рассуждений, это сделать было вообще невозможно. Она только спросила:
– А как же Алексей и Володя?
– Ну сама скажи? – мы можем им чем-нибудь помочь? Вот то-то и оно. Поэтому давай больше не суетиться и спокойно ждать. Авось, с Божьей помощью, все образуется.
Больше Леночке расспрашивать Таню было не о чем. Она достала из кармашка распечатанный и мятый конверт и стала с загадочным видом разглаживать его у себя на коленях. Таня сразу почувствовала таящуюся в этом белом клочке новую неожиданность и смотрела на него с опаской. Она уже сообразила, что Леночка, уяснив все ее новости, теперь собирается преподнести ей свои, и весьма невеселые, судя по выражению ее лица и по этой зловещей паузе. Что еще она задумала?! Что это за неприятный такой конвертику нее на коленях?!
– Что это? – робко спросила Таня.
– А это вот… подтверждение слов матушки Марфы, – ответила Леночка с этакою обреченно-спокойною безысходностью, чем совершенно растревожила подругу. И, поскольку Таня не осмелилась дальше расспрашивать ее, она продолжила:
– Я, собственно, с этим и пришла к тебе… чтобы сказать… В общем, дело такое… Лиза пропала. Нет ее нигде…
– Как это пропала? – пролепетала Таня, не успев еще, кажется, даже в полной мере изумиться от услышанного, а иначе вообще ничего не вымолвила бы.
– Ну как пропадают?.. – ответила Леночка совсем уже неприличествующе спокойно. Она будто бы дразнила Таню этим своим спокойствием. – Нету ее нигде, и все. В гимназию она сегодня не пришла. Я к ней домой… И дома ее тоже нет. Как с утра ушла, так и не возвращалась больше. А потом нашли у нее в комнате вот это письмо. Нам с тобою адресованное. На вот почитай…
Таня, уязвленная Леночкиным тоном, решительно взяла у нее письмо. Хорошо же, подумала она, пускай я кругом виновата. Изведите вконец теперь меня! Ни оправдываться, ни сопротивляться я не буду. Нервно, с шумом, рискуя порвать, она развернула бумагу. Красивым ровным почерком, без единой помарки, что свидетельствовало о совершенном владении автора своими чувствами, там было написано:
«Лена и Таня.
Дорогие мои подруги.
Когда я решилась написать к вам, то думала, как безутешно буду сетовать на свою судьбу, как горько буду упрекать вас, какие цветистые слова подыщу, чтобы выразить вам свою укоризну. Но, уже сев за письмо, я поняла, что на самом деле вы много несчастнее меня. И не укорять вас должно, но пожалеть, сострадать вам. Вспомни, Лена, как нам говорил о. Петр: страстотерпец счастливее притесняющего его. И еще: благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Вы можете подумать, что на бумаге я пишу слова смиренные, а внутри у меня клокочет на вас лютая злоба.
Хотя для меня уже не имеет значения, что вы подумаете, все-таки, прошу вас, поверьте, это не так. Если вам интересно знать мое состояние, то я испытываю отнюдь не злобу, а скорее тяжкое разочарование. Разочарование в ценностях, которым я поклонялась долгое время. Я искренне верила в нашу дружбу, а оказывается, мы не доверяли друг другу. Едва вышел случай, и дружба уступила место отчуждению. Я была убеждена, что подруги не только не могут несправедливо ко мне отнестись сами, но будут настолько великодушными, что простят, случись такое, мою нечаянную несправедливость по отношению к ним. Но оказалось достаточным одной нелепой клеветы, как-то занесенной в прекрасный наш союз, чтобы они, презрев многолетнюю беспорочную нашу дружбу, не соблаговолили даже объясниться с мнимою отступницей, предпочитая безмолвно травить ее своими оскорбительными подозрениями. Впрочем, я обещалась не упрекать вас ни в чем, но вот как-то незаметно скатилась на упреки. Простите, девочки. Больше мне написать вам нечего. Все-таки те дни, когда мы были все вместе, были дружны и полны светлых надежд, я считаю счастливейшими в своей жизни. Спасибо вам всем за эти дни.
Прощайте.
Не думайте обо мне.
Лиза».
– Ну и что ты скажешь? – спросила Лена. Все время, пока Таня читала, она пристально наблюдала за ней.
– А что ты хочешь, чтобы я сказала?! Ну да, я затравила ее своими подозрениями! Верно она пишет! Ты довольна?! – Таня, мало того, что уже была раздосадована тоном, с которым с ней разговаривала Лена, но она окончательно вышла из себя, посчитав последний Леночкин вопрос заданным не без ехидства.
– Да разве я об этом. Какая ты!.. Вчера она приходила к нам. Мы с папой вернулись… ну оттуда… а Лиза у нас. И сумей я быть с нею душевнее, мы бы теперь не читали этого письма. Да вот не сумела. Потому что, честно признаюсь, я не могла себя заставить поверить ей полностью. Гордыня проклятая не позволила. Вот и подумай, кто виноват больше: ты или я? Обе мы хороши. Но не об этом я говорю. Я спрашиваю твоего мнения: как нам быть? что делать теперь? Не сидеть же так просто и горевать о случившемся только! Она написала: не думайте обо мне. Но разве мы можем, и вправду, не думать о таком несчастье.
– Я не знаю… Конечно… – несколько успокаиваясь и оттого с трудом проговорила Таня. – Надо подумать. Ты что-нибудь можешь уже предложить?
– Пока ничего такого определенного. Ума не приложу, куда она могла подеваться… Я, например, себя ставлю на ее место – куда бы я пошла? Решительно некуда идти. Разве на дачу?.. Таку них нет дачи.
– А что, если она… То есть ее уже… – прошептала Таня. Она не осмелилась закончить эту свою мысль, но и без того все было понятно.
– Господь с тобою! Такого греха Лиза не примет на душу. Никогда. Я уверена. Я даже этого предполагать не хочу. Но что предполагать, я, по правде сказать, не знаю. Нам с тобой надо будет пойти к ее родителям и обо всем хорошенько договориться. Чтобы действовать вместе. Сообща. Думаю, тогда пользы будет больше.
– Как к родителям?! – переполошилась Таня. – Это значит им нужно будет все рассказывать?! О том, как мы… как я обошлась с Лизой?! Да я бы не хотела им на глаза теперь показаться. Как это ужасно!
– Не тревожься об этом, – успокоила ее Лена, причем Тане опять показалось, что подруга говорит с ехидцей. – Они уже все знают. Как мы обошлись. Письмо они, разумеется, прочитали вперед меня. А что ты думаешь?! – и правильно сделали! – у них дочь любимая пропала, а они что же, должны быть настолько щепетильными, чтобы даже не прочитать последней ее записки, не испросив прежде на то разрешения у лиц, к которым эта записка адресована?!
– И что они? – краснея и пряча глаза, спросила Таня. Если за свой поступок Таня успела уже испытать и тяжелые душевные переживания, и болезненное раскаяние, и мучительное от своей бесполезности сожаление, чего угодно, но менее прочего стыд, то теперь именно стыд, жгучий, щемящий стыд, охватил всю ее до кончиков пальцев, превзойдя все другие чувства.
– Они ко всему этому отнеслись как к обычной размолвке между подругами, – ответила Леночка. – И к нам как будто не в претензиях. Во всяком случае, не показывают виду. Григорий Петрович вообще сильно на нее ругается. Взбалмошною девчонкой называет. Но, кажется, больше для видимости. Ты же знаешь, как он ее любит. Поэтому и давай думать, что полезного мы можем предпринять. Знаешь, что еще можно было бы сделать? – обойти ближайшие к их дому приходы и расспросить там. А вдруг кому-нибудь что-то известно. Случайно. Обычно в приходах такие происшествия как-то быстро узнаются. От них там поблизости, кажется, церковь Василия Кесарийского. На Тверской-Ямской. Прежде всего давай туда сходим.
– Да я бы с удовольствием. – Таня грустно и виновато улыбнулась. – Но я в узах… Ты же знаешь…
– Да-а, совсем забыла… Александр Иосифович строг очень. Но его тоже можно понять. Он сейчас со мною разговаривал, и, в общем-то, он прав… почти во всем. А кстати, Таня, я тебя вот о чем хотела спросить еще прежде. – Леночка помялась, затрудняясь продолжить. – А не мог ли это Александр Иосифович выдумать?., для чего-нибудь…
– Что выдумать? – не поняла Таня. С ее лица еще не сошла грустная улыбка от предшествующих дум.
– Ну про Лизу… – совсем уже с трудом вымолвила Леночка. – Что это она… про кружок сказала…
– Папа?! – выдохнула Таня, не до конца еще уяснив себе существа сказанного. Но уже в следующую секунду она вся вздрогнула, словно ей чем-то плеснули в лицо. Она порывисто вскочила со стула и, борясь со сдавливающим горло удушьем, прорычала: – Как ты смеешь… ты п… презренная!..
За время разговора с Леночкой Таня не раз уже была готова вспылить, настолько пристрастно, ей казалось, подруга с нею объясняется. Но все сдерживалась. Свои обиды ей доставало сил претерпевать. Теперь же ее совершенно прорвало. Ибо тень брошена была уже не на нее, а на благороднейшего из людей – на ее отца. Тут уже спуска не может быть. Никому и никогда.
– И ты думаешь, после такого гадкого оскорбления останешься моею подругой?! – Таня наступала на Леночку, страшно сверкая глазами. – Думаешь, появишься еще в этом доме?!
Леночка, потрясенная и покрасневшая от досады за свою оплошность, тоже вскочила и, сложив на груди руки, как складывают на причастии, оборотила к Тане кричащий мольбою о пощаде взгляд. Как же, говоря об ее отце, она не учла так хорошо ей известный крутой норов подруги! Как могла не соотносить с этим все свои слова! И вчера с Лизой, и теперь с Таней у нее не хватило ни мудрости, ни такта, чтобы избежать ссоры, чтобы необдуманною наперед своею речью не нанести обиды той и другой. И такая-то незадача выходит у нее! Известной между подруг миротворицы!
– Таня! – взмолилась Леночка. – Выслушай меня ради бога! Я совсем не то хотела сказать. Я не имею в виду, что Александр Иосифович оболгал Лизу. Я только предположила, а не мог ли он ошибиться, то есть неверно понять… – Она торопилась побыстрее объясниться и оттого запуталась. – Я хотела только сказать, что не он ли сказал… то есть не он ли…
– Прочь от меня! – прошипела Таня сквозь онемевшие губы. – Презренная арестантка!
Леночка почувствовала, что ей делается дурно. Она закрыла лицо ладошкой и бегом выбежала за дверь.
Глава 10
Василий Никифорович Дрягалов прежде уже бывал в Париже. Но ни тогда, ни теперь ему этот Париж не показался. После первого своего вояжа на все расспросы он отвечал коротко: суетно дюже. Он не договаривал, что, привыкши в отчине быть для многих повелителем и, что еще удовольнее, покровителем, на чужбине ему пришлось почувствовать себя вдруг одиноким и потерянным. В городе, например, он не мог самостоятельно ни спросить ничего, ни прочитать. Взять фиакр и то для него было проблемой: коли извозчик-то по-русски ни бельмеса! И все это действовало на него крайне удручающе. Ему вспомнилось, что таким же беспомощным он был четверть века назад, когда, поступив в услужение в мясную лавку к бывшему своему односельчанину, он впервые попал в большой город. Но тогда у него ветер гулял в карманах, а каково-то ему было себя почувствовать беспомощным теперь?! Правда, в этот его, второй по счету, приезд в Париж Машенька постаралась сделать все, чтобы он поменьше затруднялся неудобствами, повлеченными умеренною, мягко говоря, его образованностью. Она сопровождала Василия Никифоровича повсюду и спешила предупредить малейшие его трудности в сношениях с инородцами.
Больше всего Дрягалов интересовался, как это у них в загранице заведено торговое дело. Его тянуло на торжища и во всякие магазинчики, как почитателя изящного тянет в Лувр. Хотя и в Лувре, и в других достодивных местах Парижа Дрягалов, под Машенькиным водительством, тоже побывал. Но все эти парижские чудеса болезненно задевали в нем патриотические чувства. Выслушав от Машеньки рассказ о Вандомской колонне, он авторитетно ей и Диме объяснил, что если бы мы, русские, перелили отбитые у него пушки – при этом Дрягалов небрежно махнул длинною своею бородой в сторону застывшего на вершине колонны императора, – то вышел бы столп аккурат втрое против ихнего! Собор Парижской Богоматери поразил его в самое сердце. «Поболее храма Христа церква будет», – проговорил он с досадой, впившись глазами в мрачный готический колосс. Зато он даже обрадовался, когда услыхал парижские колокола. «А-а, – махнул Дрягалов рукой, – чугунный звон». Машенька только прятала улыбку, слушая подобные толкования Василия Никифоровича.
Совсем иные чувства пробуждали в нем всякого рода торговые заведения. Тут-то он чувствовал себя в своей стихии. Тут он был большим мастером. Каких и в самом Париже поискать. Среди немногих запомнившихся слов marche и boutique [6]сделались у него самыми, если так можно сказать, обиходными. Прогуливаясь с Машенькою и Димою по этим разным рю и авеню, он то и дело говорил: а ну зайдемте-ка вон в тот бутик, или: давайте заглянем на этот марше. И юные его спутники, трясясь от смеха, следовали за ним на марше. И уж тут-то Дрягалов брал свое. Отводил душу. Он интересовался решительно всем. Он подолгу беседовал со всякими торговцами, в равной мере находя согласие и с рыночными зеленщиками, и с важными господами – владельцами больших магазинов, и неизменно покорял всех совершенными своими познаниями в их общем непростом промысле. Машенька, которая, казалось бы, должна уже привыкнуть к тому, что от Василия Никифоровича, по его-то достоинствам, можно ожидать каких угодно неожиданностей, снова была приятно изумлена, когда в одном фешенебельном магазине сам хозяин, почтенный мэтр с красною ленточкой в петлице, поговорив недолго с русским собратом, стал не только интересоваться его мнением о своем деле, но и спросил даже у него какого-то совета, причем слушал он Дрягалова, как прилежный ученик слушает профессора, чем очень озадачил своих вышколенных приказчиков. Мэтр сразу уяснил, что этот touriste de Russe [7]искусник, каких немного. Того же мнения остался о собеседнике и Дрягалов. Но, даже и почувствовав взаимную симпатию, они беседовали подчеркнуто степенно, чинясь. Машенька переводила их разговор и одновременно любовалась и забавлялась этим старинным третьесословным этикетом. Встреться впервые русский граф и французский барон и окажись у них общие интересы и вдобавок взаимные симпатии, они бы сейчас сошлись коротко, рассказали бы по анекдоту, на грани вульгарного поболтали о женщинах и друг друга называли бы запросто – raimablecomte и moncherbaron [8]. Совсем не так все было у господ негоциантов, прошедших, и тот, и другой, путь от лаптей и сабо к пластронам и цилиндрам. Они не могли не степенничать. Что, впрочем, выходило у них не без некоторого даже изящества. Они точно знали, что фамильярничать им не позволительно ни в коем случае. Равно как и непозволительно обнаруживать и иные приметы их происхождения из черного народа.
Не в пример всяким колоннам, соборам или аркам, парижскими торговыми заведениями Дрягалов остался очень доволен. И в значительной степени потому, что он не нашел в Париже ни одного такого заведения, которое бы существенно превосходило множественными своими статьями его магазины. А уж с лепотами, как он выразился, петербургского и вовсе ни что не шло вровень. Разумеется, эти суждения относились только к бутикам, подобным его собственным. Так несколько дней к ряду touriste de Russie приобщался европейской цивилизации, веселя своих близких и сам вполне развлекаясь.
Дрягалов предполагал пробыть в Париже еще недели три или дольше. Этого требовалось для Димы, для его упражнений во французском. Да ему и самому было желательно сколько можно больше оставаться с ненаглядною своею зазнобушкой, по которой он в разлуке сильно истосковался. Но вести из Москвы заставили его переменить намерения.
Придумав в свое время для вящего Машенькиного спокойствия спрятать ее куда-нибудь подальше и от интересного к ней сыска, и особенно, может быть, от людишек из известной организации, Дрягалов настоял, чтобы она уехала за границу, для чего он взял ей внаем в Париже очень приличную квартиру. Отряжая доверенного, Дрягалов наказывал ему, чтобы квартира была не в самом центре города, но и, конечно, не в трущобах, вроде Пресни, по возможности, на тихой, уютной улице, такой, как его Никитская, рядом с каким-нибудь парком и непременно в первом этаже, что являлось для Машеньки, бывшей в ту пору в интересном положении, условием не последней важности. Дрягаловские пожелания исполнились, как обычно, безукоризненно. Квартира, которую подыскал готовый в угоду своему хозяину вырваться вон из кожи доверенный, могла бы удовлетворить весьма притязательные вкусы. Комнаты были устроены вполне и даже с претензией на роскошь. Впрочем, как и весь остальной дом, при котором имелся еще и jardin d'hiver [9], как внушительно называли хозяева примыкающую с заднего плана обширную застекленную террасу, до тесноты заставленную кадками и ящиками со всякими диковинными растениями. В Париже не иметь такой jardin для дома, претендующего считаться аристократическим, было много хуже, чем не иметь «de» перед фамилией. Из покоев, отданных внаем, в jardin d'hiver имелся отдельный вход, что, наверное, не могло не сказываться на величине выставляемого Дрягалову счета. А для сугубого удобства – и жильцов, и своего – подъезд в доходную квартиру хозяева устроили прямо с улицы, минуя свою половину. Самый же дом, утопающий в зелени, находился на улице Пиренеев, не столь уж многолюдной парижской улице, неподалеку от Бюте-Шамонского парка. Все это делало Машенькину квартиру во всех отношениях жилищем комфортным, достойным возлюбленной Василия Никифоровича Дрягалова.
Дом этот принадлежал весьма в Париже популярному и преуспевающему адвокату мэтру Годару, приобретшему широкую известность с памятного громким судебным делом девяносто четвертого года. Он к тому времени успел уже блеснуть в нескольких делах, малозначительных, правда, и стал членом парижского Tordre des avocats [10]. После того как впервые прозвучало наделавшее сразу столько шуму обвинение в шпионстве в адрес офицера Генерального штаба, еврея по роду, группа прогрессивныхлиц во главе с известнейшим литератором обратилась к подающему большие надежды, а главное, политически, как казалось, индифферентному, молодому адвокату Годару с просьбой быть одним из защитников обвиняемого. Годар вежливо отказался, что, естественно, не могло повлечь к нему никаких взысканий со стороны просителей, поскольку он имел на это полное право. И профессиональное, и моральное, какое угодно. Но через несколько дней, неожиданно для всех, в печати появилась его гневная статья против германского шпиона и всяких за него ходатаев.На первый взгляд статья казалась только воинствующе антигерманской. Но при более пристальном ее прочтении обнаруживались и вполне в духе Дрюмона, разве что не столь откровенные, антисемитские претензии. Это был довольно рискованный поступок. Потому что общество, во всяком случае, некоторая его часть, якобы оскорбленная в благородных своих чувствах, могла бы отвернуться от недостойного оскандалившегося parvenu [11]и наслаждаться затем его падением. Но развязка этого скандала была, как известно, такова, что те, кто в другое время превратился бы в неприкасаемых,или, как, там, еще говорят, в нерукопожатных особ,оказались правыми. Они как в воду глядели. Офицера признали виновным и приговорили к вечной каторге. И хотя почти сразу вслед за этим всякого рода национальные предрассудкиопять стали почитаться дурным тоном, даже и среди тех, кто еще вчера участвовал в разразившейся антисемитской буре, многие из них успели на этой волне выдвинуться. И одним из таковых был мэтр Годар. О том, что его неожиданное, но ко времени пришедшееся суждение сослужило ему добрую службу, лучше всего свидетельствовали его гонорары, многократно в результате увеличившиеся. Он сделался заметным. Всякие знаменитости стали искать, как бы сделаться его клиентами. О лучшей карьере практикующему адвокату нечего было и мечтать.
Семья мэтра Годара была невелика. Всех четыре человека. Но в самое ближайшее время семейству ожидалось на одного, по крайней мере, человека умножиться. Сын адвоката Паскаль, будучи около года помолвленным, собирался вот-вот жениться. Его невеста мадемуазель Клодетта Ле Галль служила танцовщицей в «Comedie», была совершенною красавицей, несколькими годами старше своего жениха и к тому же разведенною, что, впрочем, нимало не смущало младшего Годара. Он был влюблен и счастлив.
В семье к предстоящей сыновней женитьбе относились по-разному. Мэтр Годар предпочел бы, с одной стороны, избежать породниться с неровней. Танцовщица из «Comedie»! В его годы это был едва ли не синоним падшей. Но с другой стороны, ему даже где-то хотелось устроить этот мезальянс. Времена изменились, и это выглядело проявлением либеральности. По-республикански! Когда-то он отбросил национальные предрассудки, а теперь презрел, как и подобает человеку прогрессивному, предрассудки сословные. Тем более что ему отнюдь не грозило принять невестку на свое иждивение. Не грозило это, нужно сказать, и Паскалю, который сам-то едва ли не состоял иждивенцем у отца. Клодетта в материальном отношении была совершенно независимою и, в принципе, обошлась бы и без богатств Годаров, потому что ее бывший муж выделил ей ренту, позволяющую Клодетте жить если не роскошествуя, то, во всяком случае, безбедно. И уж совсем отчаянно с ее стороны было бы стоить расчеты на то, что за Паскалем стоит внушительное состояние, которое он, а значит и она, унаследуют. И здоровье, и самый возраст мэтра Годара и его супруги позволяли этакого ожидать только в весьма отдаленном будущем. А это все равно что никогда.
Как бы невероятно это ни показалось, но Клодетта тоже не строила расчетов на свой новый брак. Конечно, кто поверит, что какая-то там актерка полюбила всею душой, а не затеяла хитрую и выгодную интрижку. Для того, например, чтобы стать вдруг членом знатной и уважаемой семьи. И что из того, что жених почти бессребреник, a beaux-parents [12]скупы до неприличия? Иное имя подчас дороже серебра. Как знать, не на это ли позарилась красотка? С них станется!
Такое вот приблизительно мнение насчет невесты своего сына исповедовала г-жа Анна-Лаура Годар, адвокатша, дама на редкость норовистая и своевольная. Ее роль в семье была такова, что если бы она решилась не допустить этой женитьбы, то так бы оно и стало. Но она рассудила по-своему: невестка с прошлым будет более управляемою, более покорною. Да, она удостоится войти в их семью, но при этом жизнь ее сделается этаким вечным искуплением за прежние заслуги.
Сама же г-жа Годар была совсем не знатного происхождения. Ее отец дул стекло у хозяина. А мать служила в шляпном магазине. Жили они скромно, но у родителей достало средств, чтобы оплатить второй дочери, то есть Анне-Лауре, пансион. Когда она вышла замуж за молодого безвестного avoue Годара, Анна-Лаура была еще очень далека от того, чтобы подчинять кого-то своей воле, чтобы заставлять кого-то принимать ее мнение. Можно даже сказать, что она была редкостною скромницей. Но по мере роста успехов мужа росло и ее самомнение. Она, возможно и справедливо, считала, что без нее этих успехов могло бы и не быть. И мэтр Годар, верно ли или для виду только, чтобы доставить супруге приятность, без оговорок принял таковое суждение. И в дальнейшем он не находил нужным противостоять жене по тому или иному вопросу. Этого никогда и не требовалось, потому что все у них выходило ладно.
Паскаль Годар, как и его отец, изучал в свое время право. И, надо сказать, небезуспешно. Его отмечали на факультете. Но практическую деятельность Паскаль, неожиданно для самого себя, нашел занятием чрезвычайно нудным и тягостным. Ему претило копаться в этих скучнейших и, на удивление, поразительно друг на друга похожих делах, чаще всего имущественных. Когда он отправлялся на судоговорение представлять сторону, у него было так скверно на душе, будто ему предстояло в присутствии занимать скамью подсудимых. И, провалив однажды дело, бывшее настолько беспроигрышным, что и посредника-то тяжущиеся пригласили только по требованию закона, Паскаль объявил отцу свое решительное намерение оставить это занятие. Мэтр Годар и без того уже разгадал, что адвокатура, увы, стезя не для его сына. И как ни досадно ему было, что Паскаль не наследует главного дела всей его жизни, мэтр Годар особенно не возражал. Только что сделал ему строгое внушение на будущее. По согласию с Паскалем, он выхлопотал ему место во «France-matin», одной из крупнейших парижских газет. Главный редактор, ликуя от представившейся возможности угодить виднейшему адвокату Франции, сразу доверил Паскалю заведовать отделом хроники и положил приличное жалованье. Но уже спустя две недели ему пришлось вежливо просить Паскаля поработать для начала простым хроникером, потому что за это короткое время Паскаль умудрился из самого читаемого некогда раздела газеты сделать беспорядочную свалку малозначительных и вдобавок дурно преподнесенных материалов. Но и исполнять поручения нового руководителя отдела Паскалю оказалось не по плечу. Он сбился с ног, собирая материал по всему Парижу и его окрестностям. Ему приходилось бывать во множестве разных мест: и в палате депутатов, и в посольствах, и в префектуре, и в полицейских участках, в театрах, в салонах, на выставках, в Академии, в церквах, на кладбищах. И отовсюду он должен был приносить информацию, заметки, репортажи. Не сделай он этого, перевернется земля! конец света наступит! Прослужив в этаком изнеможении с месяц, Паскаль взмолился к отцу доставить ему любую другую должность, хотя бы она приносила мизерное вознаграждение. Мэтр Годар ответил сыну, что никаких больше должностей он доставлять ему не собирается. А если Паскаль помыслит только сесть beaux-parents на шею, он немедленно женит его на самой последней дурнушке, лишь бы за нею выделили побольше. «И такая у меня уже имеется на примете!» – добавил мэтр Годар для пущего устрашения своего рохли. Совершенно подавленный разговором с отцом, Паскаль поплелся к редактору, по известной причине все еще благоволившему ему. Там он совсем раскис и, ссылаясь на нездоровье, попросил позволения отпустить его, как говорят, на вольные хлеба и не требовать сверх того, что он сам будет давать. Редактор успел уже вполне уяснить, какой есть работник этот Годар, поэтому, посочувствовав, приличия ради, его хворобам, перевел Паскаля на построчную оплату. Только потаенное угодничество перед мэтром Годаром не позволило редактору вовсе отказаться от услуг незадачливого хроникера. Любому другому он велел бы проваливать. Больше того, он дал указание оплачивать Паскалю его материалы на уровне самых дорогих перьев Парижа. Получив свободу исправлять службу по своему усмотрению, Паскаль стал давать в газету по пяти – семи заметок в неделю. А иногда даже и небольшую статейку в подвал, помимо этого, если его вдруг увлекала какая-то интересная тема. В результате его заработок оказался ненамного меньше прежнего, когда он состоял в газете по штату. И Паскаль был, по крайней мере, избавлен теперь от позора угощаться в кафе на счет друзей. Напротив, он сам мог иногда оплачивать пиво своим друзьям фланерам. Таким образом, сгустившиеся было тучи отцовского радикального прожекта отступились от него.
Кстати, он, то ли из желания доставить удовольствие своим квартировщикам, то ли просто пользуясь случаем, дал в газету заметку о том, что-де в Париж приехал для негоциаций и для иного разного passe-temps известный русский коммерсант и магнат Basile Drhjagaloff.Впечатление это на Дрягалова произвело. Да еще какое! О нем написали во французской газете! Он целый вечер, и на другой день по новой, сидел и все рассматривал непонятные иностранные буквы и слова, из которых смутно угадывалось единственное – Basile Drhjagaloff. Он спросил у Машеньки совета, как бы ему отблагодарить замечательного юношу за такую любезность. Может, выезд ему купить? Все-таки он человек важный, хотя и молодой, – в газете служит! – а выезда своего не имеет. Машенька, хорошо знавшая способность Дрягалова одаривать бывших у него в фаворе поистине царскою милостью, поспешила отговорить Василия Никифоровича делать это. Она сказала, что подобная услуга, разумеется, выезда не стоит. А если уж Василию Никифоровичу так непременно хочется отблагодарить Паскаля, то можно подарить ему, скажем, сто франков. Дрягалов страшно изумился сперва: не смеется ли над ним его забавница?! Деньгами впору одаривать лакея за отменное усердие. А здесь такой человек! Да он оскорбится, чего доброго! Но Машенька успокоила его, сказав, что у них так принято. Дрягалов только руками развел. Он решительно не знал, как это возможно достойному человеку подарить какие-то жалкие франки. Да и рубли. Все равно. Тогда Машенька сказала, что возьмет эту заботу на себя. Тем же вечером она пригласила Паскаля к ним на чай и устроила все наилучшим образом. Паскаль, привыкший за оказанное людям внимание получать, может быть, одобрение, да и то не всегда, остался счастлив сверх всякой меры.
С Клодеттой Паскаль познакомился обычным для газетчиков образом. В «Comedie» открывался новый сезон, и руководитель отдела хроники попросил его сходить туда и сделать репортаж. Как настоящий дотошный хроникер, Паскаль после представления заглянул еще и за кулисы, чтобы побеседовать с директором, с артистами, чтобы проникнуться событием, что называется «изнутри».
Клодетта Ле Галль отнюдь не была примою, но имела репутацию девицы норовистой, и даже директор ее побаивался, особенно после того, как она перестала нуждаться и осталась служить у него только ради собственного развлечения. С господами газетчиками Клодетта успела уже довольно познакомиться к тому времени. Много их перебывало у нее в уборной. Но все они, будто сговорившись, приходили к ней с единственною и, как правило, откровенною целью – ради устройства известного рода связей. В лучшем, и крайне редком, случае они имели матримониальные виды. А чаще просто вульгарные. Натурально, для видимости, все это начиналось с добросовестного и деловитого производства репортажа.По их разумению, одно только то, что они принадлежат к миру прессы – они люди пишущие! – должно действовать на всех завораживающе и самые неприступные и эффектные дамы обязаны прямо-таки падать тотчас в их в объятия. И с некоторыми, наверное, так и выходило. Но только не с Клодеттой. Удальцов таковых она распознавала с полуслова. Одного только взгляда иного репортерабыло достаточно, чтобы она поняла, с чем он к ней явился. А поскольку ее внимания искали лица и куда более солидной категории, мелочиться с какими-то там газетчиками ей было не интересно ни в каком отношении. Но в итоге, как уже известно, именно газетчик и покорил ее сердце.
Когда к ней в уборную впервые явился этот вежливый и робкий молодой человек, Клодетта, хотя у нее и был глаз на всяких субъектов пристрелян, решительно не смогла сразу уяснить, кто это и что ему надобно. Незнакомец чем-то напоминал одного из тех юнцов – любителей театра, – что выдумывают для себя так называемые платонические чувства к какой-нибудь актрисе. Но те обычно не ходят по уборным. Не смеют. Они довольствуются тем, что наблюдают из райка предмет своего обожания и иногда посылают записки в дешевых букетиках. Кто же он в таком случае? Клодетта чуть ли не смутилась. А когда Паскаль представился, она была столь же изумлена, как если бы визитер оказался, например, сутенером или еще каким-нибудь хлыщом. Паскаль ей сразу сделался интересен. Они разговорились. Конечно, у Паскаля не было ничего общего с его пишущими собратьями. Его беспорочность слишком бросалась в глаза. Кроме того, Клодетта с удовлетворением отметила, что молодой человек весьма образован, галантен, находчив и вдобавок с отменным юмором. В общем, Клодетта нашла Паскаля юношей во всех отношениях очаровательным. Она его попросила оказать любезность и принести ей газету, как только материал выйдет. Но если материал и слетит, говорила они со знанием дела, то все равно пусть он навещает ее запросто. Материал и вправду слетел. Но это уже не имело для них ровно никакого значения. Паскаль зачастил в «Comedie». Там он, розовея от удовольствия, любовался своею красавицей, выделывающей, вместе с другими такими же длинноногими девицами, фигуры на сцене. И он был страшно горд оттого, что это егодама. Еще более он гордился, когда после представления они под ручку шли в кафе или на бульвары. В эти минуты ему было даже неловко оборотиться на окружающих, такими все кругом казались ему жалкими и униженными в своей зависти. Но я же не виноват, господа, что так счастлив, про себя извинялся Паскаль. Так вот вышло. Дай и вам бог того же.
Однажды Клодетта, отчаявшись дождаться когда-либо от Паскаля обычных в этих случаях просьб или намеков, сама позвала его к себе. В тот же день он попросил ее руки. Клодетта вполне могла бы довольствоваться и известными безбрачными отношениями, но она побоялась этим разочаровать благородного своего возлюбленного и согласилась на его предложение. Потерявший голову счастливец кинулся побыстрее исполнять приличествующие марьяжные заботы. Он представил Клодетту родителям и испросил их благословения. Годары тщательно всё обдумывали несколько недель, справлялись, где только возможно и у кого возможно, о Клодетте и, наконец, благословили детей.Они обручились. И была объявлена свадьба.
Так случилось, что Дрягалов, будто подгадав, приехал в Париж накануне этого события. И, конечно, месье и мадам Терри Годари его, и Машеньку пригласили быть гостями на свадьбе их сына. Мэтр Годар мог бы позвать своих жильцов и по-простому, но он предпочел поцеремонничать. Он послал к Дрягалову и Машеньке на их половину лакея с faire-part [13]. Дрягалова это очень рассмешило. А Машеньку еще больше. Потому что выезд, который она было отстояла, кажется, снова, и уже не на шутку, собирался стать собственностью Годаров. Но теперь отговаривать Василия Никифоровича она и не подумала. Дрягалов никогда бы не допустил, чтобы его подарок был дешевле подарков других гостей. Впрочем, погулять на свадьбе у Паскаля и Клодетты ни ему, ни Машеньке не пришлось.
Странная телеграмма из Москвы была для Машеньки вполне ясна. Собственно, она сама и придумала так написать, если с кузеном стрясется какая беда, и наказала Хае. Машенька не посмела просить Василия Никифоровича поскорее поехать в Москву и попытаться выручить Алексея, как в свое время он выручил ее. Но Дрягалов, видя, в каком горестном состоянии она находится, сам решился возвратиться и сделать все, что будет в его силах. И сейчас послал за билетами человека – для себя и для сына Дмитрия. Машенька предлагала оставить Диму с ней в Париже, но Дрягалов решительно не пожелал расставаться с наследником, хотя бы ненадолго. Ему было спокойнее, когда Дима находился при нем.
Через несколько дней после того, как Дрягалов приехал в Париж, в редакцию «France-matin» явился престранного вида господин. Его внешность свидетельствовала, что некогда он знавал и достаток, но в последние месяцы испытывает крайнюю нужду И, судя по всему, нужду безнадежную, потому что весь его вид выдавал в нем человека опустившегося, плюнувшего уже и на наружность свою и, вероятно, на самую судьбу. На нем был костюм былого бульварного фланера: узкий пиджак, светлые в полоску брюки – лучше бы они не были светлыми! – канотье, трость. Но все эти предметы пришли уже в полнейшую негодность, и от совершенного рубища их отделял, может быть, месяц-другой носки. И пиджак, и брюки, и даже галстук – все было заляпано чем-то отвратительным, и на всем имелись прорехи, из которых лишь некоторые выделялись неумелою починкой. Из-под засаленного канотье торчали сваляные светло-каштановые космы. Лицо, шея, руки у господина были немыты целую вечность. В довершение, от него, как потом долго всем рассказывал швейцар, пахло котом.Поймав в коридоре не успевшего от него спрятаться сотрудника, господин на плохом французском спросил, как бы ему переговорить с Паскалем Годаром. Паскаля в тот час в редакции не было, и странному господину предложили подождать его quell quepart [14]. Скоро-де он появится. Quel quepart конечно же означало на улице.Гневно сверкнув глазами, господин все-таки смирился и вышел. Паскаля он остался караулить возле дверей. И, когда тот в свое время появился, швейцар доложил ему, что вот его ожидает посетитель.
Паскаль, по своему обыкновению, отнесся к незнакомому человеку, невзирая на его многозначительный наряд, участливо. Он живо ему представился и поинтересовался, чем может быть полезен. Господин назвался каким-то иностранным именем, кажется, русским, и сказал, что недавно он прочитал во «France-matin» за подписью m-r Годара сообщение о приезде в Париж русского коммерсанта Дрягалова. «Совершенно верно, – ответил Паскаль, – это была моя информация». – «Видите ли, – продолжал господин, приободрившись, – я соотечественник господина Дрягалова и давнишний его знакомец, и мне крайняя нужда видеть его». Простодушный Паскаль, нисколько не смущаясь подозрительной наружностью посетителя, назвал ему свой адрес и даже посоветовал, когда именно нужно приходить, чтобы вернее застать господина Дрягалова дома. Паскаль был, натурально, обрадован, что оказал услугу соотечественнику и знакомцу их замечательного гостя, а значит, и самому Дрягалову.
В тот же самый день, к вечеру, подозрительный господин пришел на улицу Пиренеев. Годаровский слуга, вышедший к калитке, принял его за просителя подаяния и хотел уже вежливо, но строго указать ему ступать прочь, но тот упредил его:
– Же вудре вуар о месье Дрягалоф, де Рюс! [15]– Причем сказано это было с несообразною его убогости требовательностью.
– Je vous en prie [16], – сразу же покорно ответил слуга и даже поклонился слегка, пропуская визитера в калитку. Он проводил его в vestibule на половину Дрягалова и Машеньки и пошел докладывать.
Через минуту в vestibule в красном парчовом халате, похожий на персиянина, вышел Дрягалов. В незваном госте он без труда узнал соотечественника и знакомцаЯкова Руткина. Слишком уж тот остался ему памятен, чтобы не узнать его, в каком бы обличье он ни явился. Дрягалов внимательно его оглядел и, не услышав от Руткина еще ни единого слова, вполне догадался обо всем, что с ним произошло: промотался, прохвост! – и поделом же тебе! Взгляд Дрягалова сделался брезгливым.
– Что надо? – сурово спросил он.
– Да вот повидать вас пришел, господин Дрягалов, – с неуместною, казалось бы, наглостью произнес Руткин.
– А чего меня видать? Я не колонна Вандомская, чай! Ты дело говори! А коли нечего по делу сказать, ступай отсель с Богом! Что надо-то?! Ну!
– Как вы нелюбезно встречаете гостей. Разве это по-христиански? Я к вам со всею душой… – продолжал бесстыдно разглагольствовать Руткин.
– Ты брось!.. Слышишь!.. – Дрягалов уже начал не на шутку гневаться, потому что ему стало ясно, что этот мерзавец настроен даже не просить у него Христа ради на бедность свою, а требовать, судя по всему, как от должника, как от вечно ему обязанного. – Известны нам ваши души! Тридцать сребреников, что ли, все вышли?! За прибавкой пришел?! Но кого на этот раз продавать будешь?! Или перезаложишь свою жидовскую шайку?! Новый донос написал? – или тебе снова продиктовать?!
– Я попросил бы вас, сударь, без оскорблений! – заголосил Руткин, но наглый тон, однако же, поубавил. – Это вы там привыкли нам кричать: «жиды! жиды!» Но здесь не Россия! Здесь демократическая республика! Я могу вас и в суд призвать…
Руткин не закончил своей реплики и отступил на шаг назад, так на него зыкнул собеседник:
– Врешь, иуда! Где стоит Дрягалов, там и есть Россия! Это под тобою завсегда будет чужая земля! Потому что вам отмеряется вашею же мерой! И ты лучше уходи поздорову со двора! Слышишь? Не доводи до греха! Не то я тебя своим судом рассужу!
Руткин уже осознал, как он промахнулся, поведя разговор с Дрягаловым на равных.Больно уж ему хотелось показать, что в демократической республике равенстваон не тот бесправный Яшка, которого в России все шпыняли и гнали единственно за его принадлежность к подлому семени.Расплачься он раньше перед Дрягаловым, тот, может быть, и подал бы ему. Не столько из жалости даже подал бы, сколько в подтверждение собственного превосходства. Но теперь уже поздно было падать ему в ноги. Теперь Руткин видел, что у Дрягалова одно только желание: вышвырнуть его вон. И никакое самоуничижение уже не поможет Руткину избежать этого. И тогда, в отчаянии, Руткин решил доиграть свою партию до конца. Хоть душу отвести, раз не вышло милостыню выклянчить!
– Знаю! я для вас всегда был и есть жид! все равно как прокаженный! – дрожащим тенором заверещал Руткин. – Брезгуете, да? А как вы с вашею христианскою правильностью любовницу себе у жида купить не побрезговали?! Вас-то какою мерой мерить?!
– Уймись, анафема! Убью! – взревел Дрягалов и бросился на готового принять смертные муки Руткина.
Дрягалов сгреб Руткина в охапку и уже размахнулся выбить его головой уличную дверь. Но в это мгновенье в vestibule выбежали напуганные шумом все домашние – Машенька, Дима, горничная с младенцем на руках, слуга-француз.
– Что происходит?! – вскричала Машенька. – Василий Никифорович! Кто это?! – Руткина она не узнавала пока.
Зато он узнал ее тотчас. Руткин не подумал и предположить, когда шел сюда, что вместе с Дрягаловым здесь может оказаться и Машенька. Иначе бы он повел себя по-другому. Еще раньше он верно рассудил, что Дрягалов никогда не посмеет рассказать Машеньке о своей с ним сделке. Напротив, он будет всячески оберегать ее от этой новости. Вот чем можно было воспользоваться-то с выгодой! Мог бы выйти недурной шантаж! Руткин, как всегда, запоздало обругал себя в уме.
Машенькино появление было для него спасением от неминуемых, казалось, увечий, если не от самой смерти. Ее требовательный окрик заставил Дрягалова прийти в себя, и он отпустил скорбящего. Обретя свободу и сообразив, что бить его в этот раз, скорее всего, уже не будут, Руткин, с неожиданною проворностью, бросился вдруг припасть к узнавшей его, наконец, Машеньке и, ломая руки, слезно запричитал:
– Мария! выслушай меня, Мария! меня ограбили! избили! меня преследует полиция! меня приговорили к смерти! я погибаю! у меня нет ни сантима! я давно ничего не ел! я так несчастен!..
– Яша, успокойся, прошу тебя! – повелительным тоном сказала Машенька. – Василий Никифорович, объясните же мне, что происходит?!
– Чего объяснять? Вот земляк нас попроведать пришел, – насмешливым тоном ответил ей Дрягалов, совершенно уже овладевший собою.
Дрягалову не то что теперь бить Руткина, срамно смотреть было, как он растирает грязными ладонями по лицу сопли. Такого унижения он, повидавший всякие виды, еще не видывал.
– Вы не хотите говорить со мною серьезно? – В голосе Машеньки слышались претензии. – Я лишена права узнать, что…
– Полно! – оборвал ее Дрягалов. – Ужо поговорим.
И Машенька покорно опустила глаза, что стало для Руткина самою большою, может быть, здесь неожиданностью. Он совсем другою знал Марию Носенкову.
– Эй, человек! – окликнул Дрягалов слугу. – Запомни этого босяка с Хитровки, – он кивнул на Руткина, – и чтоб вперед духу его коло дому на версту не было. Димитрий, переведи. – И, зная, что более ему никто ничего не посмеет сказать, Дрягалов ушел в комнаты.
Дима и горничная последовали за ним. Слуга-француз, красноречиво наступая грудью на совсем поникшего Руткина и указывая ему рукой направление требуемого от него движения, а именно – на дверь, для начала произнес неизменное «Je vous еп рпе», однако был готов, в случае каких-либо сомнений гостя, и к более решительным действиям. Руткин поплелся на выход.
Конвоируемый слугой, Руткин подходил уже к калитке, когда его догнала Машенька. Слуге она велела оставить их. Как ни хотелось ей узнать, что же все-таки вышло у них с Дрягаловым, расспрашивать теперь об этом Руткина, в обход Василия Никифоровича, она посовестилась.
– Яша, отчего ты так неожиданно исчез из Москвы? – спросила она. – И что с тобою случилось? Ты в таком виде…
Руткин был на нее зол не меньше, чем на Дрягалова. Вообще зол он был на весь свет. Ему сейчас хотелось всех избивать, душить, кусать и бог знает, что еще с ними делать. А что может эта? Только что посочувствовать. Да катилась бы ты со своим сочувствием! Больно надо! Руткин неохотно, с постным выражением лица, оглянулся на Машеньку.
– Уехал, – пробурчал он. – Так надо было.
– Ты никого не предупредил…
– Надо так было, говорю! – еще больше разозлился Руткин. – Меня выследила полиция! Меня едва не схватили! Я отстреливался! Это для вас все просто! А с евреями ты знаешь, как обходятся в России! Мне кто-нибудь тогда помог?! Ни одна собака! Все меня бросили! Ты вот можешь мне помочь?! Мне денег надо теперь! – Он врал ей, не опасаясь, что она узнает когда-нибудь правду. Старик предпочтет скорее умереть, нежели открыться.
Машенька уронила голову. У нее было чувство, словно ее хлещут по щекам. И по заслугам хлещут! Но она же ничего не знала! Разве бы она не помогла своему товарищу!
– Но я не знала ничего этого, Яша! – пролепетала она.
– Все ничего не знают. И не хотят знать, – безнадежно подытожил Руткин. – Ладно, прощай. Что говорить… – И он, сгорбленный, жалкий, всеми отвергнутый, повернулся уходить.
– Постой, Яша! – Голос Машеньки сделался вдруг бодрее.
– Ну, что?.. – Руткин продолжал разыгрывать несчастного гонимого, но все же любопытство пересилило, и он покосился назад.
– Вот, у меня есть немного… – Она с лихорадочною поспешностью, словно боялась, что он не будет ждать, достала из кармана маленький кошелечек и высыпала на ладошку содержимое. В кошельке оказалось несколько луидоров и еще какая-то серебряная мелочь. Машенька протянула ему деньги и покраснела, полагая, что может нанести человеку оскорбление, предложив ему невеликую в общем-то сумму. Он вправе будет отнестись к этому, как к постыдной милостыне. Машенька не смела поднять на Руткина глаз. И была готова, как крест свой, вынести возможный его безмолвный и гордый исход.
– Давай, – произнес Руткин так, будто ему приходилось преодолевать гадливость.
Машенька сразу оживилась. Глаза ее загорелись радостным и благодарным светом. Разве может он ее унизить своим отказом! Он, как человек благородный, скорее предпочтет сам унизиться!
– Вот… Всего только… – с виноватою улыбкой говорила Машенька, пересыпая монетки ему в руку. – Но скоро у меня должны появиться кое-какие деньги.
– Когда? – сразу спросил Руткин с деловою интонацией в голосе.
– Василий Никифорович послезавтра уезжает в Москву. Он… оставит мне денег… – Говорить это ей было неловко. Для всякого, наверное, уже очевидно, что она далеко не только учительница в доме Дрягалова. И для Яши, конечно, тоже.
– Ладно. На днях зайду, – сказал Руткин.
Больше ему здесь делать было нечего. Сегодня, во всяком случае. Но он скрепя сердце решил еще немного задержаться, чтобы, в благодарность за Машенькино посильное участие, сказать ей какую-нибудь любезность, расспросить ее о том о сем – в общем, показать как-то свою заинтересованность к ней.
– Как ты живешь, Мария? – спросил он, стараясь говорить неравнодушно.
– Мне жаловаться грешно…
– Ты не нуждаешься, я вижу…
– Пожалуй что…
– А это главное. Ну я пошел. Оревуар. – Но тут он вспомнил спросить еще: – А это твой, наверное, ребенок, что служанка держала?
– Да, – радостно ответила Машенька. – Это моя Людочка. Наша, с Василием Никифоровичем, – немного смущаясь, добавила она. Машенька решила открыть уж все карты старому своему товарищу, чтобы не оставалось трудных недомолвок.
– Ясно, – задумчиво проговорил Руткин. – Ну все. Привет. – И уже больше ничего не сказав, он ушел.
Дрягалова Машенька нашла в детской. Он сидел возле крошечной кроватки и смотрел на спящую дочку. Иногда, если девочка во сне шевелила головкой или причмокивала губками, он осторожно покачивал кроватку. Машенька села рядом с Василием Никифоровичем и взяла свободную его руку в свои маленькие ручки. Дрягалов знал наверно, что она ни о чем его не спросит, прежде чем он сам не заговорит о случившемся. Он незаметно, одними глазами, улыбнулся, вспомнив, какою вольтерьянкой появилась она у него в доме. Но то все было напускное и чужое. А русская-то исконная натура все одно берет свое. Он обнял Машеньку и поцеловал ее в волосы.
– Ты верно все думаешь о давешней сваре?., да, Мань?.. – зашептал ей на ушко Дрягалов.
– А о чем я еще могу думать? – так же шепотом отвечала Машенька. – В доме натуральное побоище учинилось. Как можно?!
Дрягалов спрятал лицо к ней в волосы, чтобы посмеяться тихонько.
– А коли добром не понимает проклятый, как быть?
– А что он не понимает? ты можешь сказать?
– Не. Не скажу. Ты не серчай, пожалуйста, но не скажу.
– Во всяком случае, мне ясно, что приходил он просить денег.
– А то зачем еще!
– И ты гонишь его взашей. Хотя прежде ссужал им безвозмездно. Согласись, Василий Никифорович, это выглядит странно.
– Ничуть…
– Но тогда что же?
– Ну считай, что невзлюбил я его очень. И больше мне сказать тебе нечего.
– Как знаешь. Но что за вид у него! Совершенный мизерабль. И как он вообще оказался во Франции? – рассуждала Машенька, не чая услышать от Василия Никифоровича каких-либо объяснений. – Он и по-французски-то не знал. Удивительно все это.
– Да, удивительно, – сочувственно подтвердил Дрягалов.
– Уж ты как знаешь, Василий Никифорович, но я дала ему немного денег. Сколько у меня было… франков, может быть, около ста. Но надолго ли их ему?.. – сама себя сокрушенно спросила Машенька.
«Где там надолго! – подумал Дрягалов. – Через два дня за прибавкой жди Теперь кувшин повадится по воду ходить. Без меня он тут до самых до ее колечек доберется! до сережек! Нынче не отдала – так верно не додумалась впопыхах. А погодя отдаст. Непременно отдаст. Уж такая в ней натура. Да разве беда только, что он побираться теперь сюда будет приходить? – он же придумает, единственно ради ее денег, учинить здесь бунтарскую шайку из таких же бродяг, как сам, а она, по простосердию своему, натурально, будет благодетельствовать им. Сибири миновала, дуреха, так во французскую каторгу пойдет, за море!»
Как же пожалел Дрягалов, что попустил Машеньке остаться с Руткиным наедине! Не хотелось лишний раз притеснять ее покорствованием. Тем более что казалось, корысти-то от нее тому нет никакой. Но верно говорят: голодный француз и вороне рад. Несколько франков да выклянчил. Не погнушался.
– Со мною в Москву поедешь, – объявил Дрягалов. – Собирайся ужо.
Если бы Дрягалов вчера сказал, что они поедут в Москву вместе, Машенька была бы очень даже счастлива. Сильно уж истомилась она в этой комфортной ссылке, как сама называла свое парижское жительство. Машенька и просилась поехать с ним, но он не позволил, сказав, что здесь и ей, и дитю будет оставаться спокойнее. Не срок еще возвращаться ей в Москву. Но сегодня он уже считает, что возможные московские беспокойства меньшее для них зло, нежели беспокойства парижские. Отчего переменились его намерения, вполне очевидно.
Без сомнения, причиною тому сегодняшний случай. Значит, он боится оставлять ее вблизи нежданно-негаданно объявившегося Руткина.
– Ты боишься его? – спросила Машенька.
Дрягалов вздрогнул даже от такого вопроса. Почему Машенька поняла, что попала в точку.
– Ты чего говоришь, матушка?! Окстись! – зло зашипел Дрягалов. – Да кабы такое дело, я б в живых не оставил нехристя. Убил бы. Ей-ей. Я боюсь его!.. Сказать так!.. Это надо!..
– А тогда не ревнуешь ли ты, часом? – Машеньке стало веселее, потому что происходящее как будто начало проясняться.
Но для Дрягалова такой поворот оказался исключительно счастливою находкой. И он моментально сообразил, что именно эту иллюзию и надо в Машеньке поддерживать. Пусть ее думает, что-де старый дурак, помимо множества своих чудачеств, стал еще и ревнивцем.
– Еще не лучше! – делано возмутился он. – Пустое ты все говоришь.
Машенька улыбнулась и кокетливо положила ему на плечо локоток. Какой же он милый, думала она. Уже и потерялся, только что его раскусили. И ее охватил небывалый к нему прилив нежности.
– Конечно, мы поедем в Москву. Поедем. – Машенька сказала это так, как любомилостивые родители говорят своим детям, уступая, по обыкновению, какой-либо их просьбе. Она обняла Дрягалова за шею и, заглянув ему в глаза с тем многозначительным женским бесстыдством, что не может не доставлять всякому приятного волнения, с силой впилась в его губы.
Назавтра, с утра, Дрягалов послал человека взять для Машеньки с малышкой и для ее горничной компартиман в первом классе. Сами же они с Машенькой и с Димой отправились телеграфировать в Москву о своем приезде. Возвратились они не скоро. Потому что Машенька с Димой уговорили Василия Никифоровича подольше погулять напоследок. Они дошли пешком до самого Булонского леса. Там они катались на лодке на прудах, потом обедали в кафешантане. Если бы не тревога по московским неприятностям, то они были бы счастливы почти также, как в предыдущие дни. Во всяком случае, у Дрягалова поубавилось раздражения от вчерашнего инцидента. Но дома их ждала новая незадача.
Слуга, посланный давеча Дрягаловым за билетами, вернулся из вокзала, оказывается, ни с чем. На завтрашний поезд ни в первый, ни хотя бы во второй класс билетов уже не оставалось. Дрягалов сразу решил, что все они в таком случае поедут на следующем поезде. Но Машенька стала настаивать, чтобы он не ждал ее и ехал как можно скорее, потому что для кузена теперь может быть дорога каждая минута. И так-то совсем нет уверенности, что Дрягалов непременно его вызволит. Но тем более не следует это и без того далеко не надежное дело откладывать. Машенькины аргументы убедили Дрягалова. И утром они с Димой уехали.
Перед отъездом Дрягалов еще зашел попрощаться с хозяевами и попросил мэтра Годара, по возможности, попридержать какое-то время квартиру. Не понадобится ли скоро она им снова, как знать? Адвокат пообещал. А Паскаль, в добродетельном порыве, сказал, что если Дрягалов с семьей будет в Париже, независимо от того, свободна ли останется квартира или нет, чтобы во всяком случае останавливались у них. Для дорогих русских друзейон уступит свои комнаты на антресолях. Когда Машенька это перевела, Дрягалов только сдержанно поблагодарил полюбившегося ему молодого человека, но для себя приметил не забыть его доброты.
Проводив Василия Никифоровича, засобиралась и Машенька. Вчера еще она в Россию готова была на крыльях лететь, но сегодня ей как-то уже и взгрустнулось. Ведь приходилось расставаться, и неизвестно насколько, возможно навсегда, со многим, к чему она так привыкла, что уже сделалось таким своим, таким дорогим – с уютною квартирой, с радушными Годарами, в совершенстве воплощающими знаменитую urbanite francaise, с красавицею Пиренейскою улицей, с чудесным парком, в который она или горничная всякий день возили на прогулку Людочку, с самим Парижем, наконец, – городом, ставшим для русских людей новым святым местом. К тому же, здесь, во Франции, она почитается за madame Basile Drhjagaloff. В России же, известно, кем ей снова быть – купеческою полюбовницей. Да еще и с незаконнорожденным дитем. От обиды Машенька даже всплакнула потихоньку. Но делать было нечего. Все уже решилось. Да и не самая еще худшая доля ее. С людьми со многими судьба куда как немилостивее. С тем же Яшей Руткиным, например. Как ни горестно ей на душе, как ни тоскливо, но, по крайней мере, она не обременена заботой о насущном хлебе и о крыше над головой. А Руткин, верно сказал Василий Никифорович, вылитый бродяга с Хитровки. Вот истинное-то несчастье где. Подумав о Руткине, Машенька сразу и вспомнила, что обещала тому денег. Но как теперь ей выполнить свое обещание?! Во-первых, скорее всего, он ее уже не застанет у Годаров, а во-вторых, появись он хотя бы и сию минуту, ей попросту нечего ему дать. Виды невзначай переменились. И в Париже она уже не остается, как еще вчера думала. А когда так, то и оставлять ей денег Дрягалову не было нужды. Конечно, он дал какую-то малость. На извозчика, там, на носильщиков, на всякие чаевые и прочее подобное. Но не на Руткина же. Скажи только ему Машенька нечаянно о такой предстоящей ей статье расходов, Дрягалов бы совершенно вознегодовал. А каков есть Василий Никифорович в гневе, Машеньке уже случилось наблюдать, и попустить этого снова ей совсем не было желательно. Одним словом, Руткину, вопреки обнадеживающему своему обещанию, она помочь никак не могла. Не могла помочь здесь, в Париже. Но почему бы не сделать этого из Москвы? – пришла вдруг в голову к Машеньке счастливая мысль. Она еще, может быть, успеет переслать Годарам деньги для Яши прежде, нежели он явится сюда! Но на случай, если так и не успеет, Машенька решила оставить Руткину записку с извинениями и заверениями о непременном выполнении обязательств в самом ближайшем будущем. Довольная своею находчивостью, Машенька села поскорее за письмо к несчастному своему старинному товарищу.
Тем временем ее горничная возила малютку Людочку в парк на прогулку. Жить им в Париже посчастливилось неподалеку от Buttes-Chaumont, одного из красивейших парков города. Мэтр Годар знал, где устраивать свое жилище. И почти ежедневно Зина, Машенькина горничная, или Машенька сама выходили гулять с девочкой в этот дивный уголок.
Горничную эту взял для Машеньки Дрягалов еще задолго до ее отъезда в Париж. Это была разумная, сноровистая, усердная в работе и богобоязненная девушка из деревни. Именно потому, что она была из деревни, ее Дрягалов и взял. Городских девиц он считал худыми норовом.И не доверял им. А что до большей учености городских, то грамоте, по крайней своей любознательности и при Машенькином доброхотном вспомоществовании, скоро выучилась и Зина. И по написанному она читала, пожалуй, даже ловчее иной московской мещаночки. Так мало того! – за месяцы, проведенные в Париже, и конечно же опять с Машенькиною помощью, Зина научилась и по-французски. Хорошо ли, плохо ли научилась, но для того, чтобы объясниться с лавочником или там с каким-нибудь блузником, достаточно. Для Дрягалова, среди многих парижских удивлений, это показалось самым дивным. И он прибавил от щедрот своих содержание богознаменной, по его выражению, отроковице. Кстати, Зине шел только что пятнадцатый год.
В числе немногих обязанностей, порученных ей Машенькой, прогулки с девочкой были любимым Зининым занятием. Как она была счастлива, как гордилась, когда везла по улице детскую колясочку. Конечно, сама еще будучи, в сущности, ребенком, она и счастлива была наивным детским счастьицем. Девочка малолетняя, у которой есть хорошенькая, как живая,куколка, также счастлива. А тут настоящая живая куколка! Зине казалось, что все на нее смотрят и страшно завидуют. Было бы можно, так она бы весь день катала колясочку по парку. Но Машенька строго наказала ей возвращаться вовремя.
Из Buttes-Chaumont Зина всегда возвращалась по улице Боливара. Это был самый короткий и удобный путь, пройденный ею, наверное, уже сотни две раз. Не было у нее и теперь причины не идти по этой хоженой-перехоженой дороге. Она шла не спеша и любовалась на мирно посапывающую в колясочке свою драгоценность и ничего не замечала кругом. А, между тем, совсем рядом с ней, по мостовой, в том же направлении и с той же скоростью, с минуту или больше уже, двигался фиакр. Да хотя бы она и обратила на него внимание – какое ее дело? – мало ли фиакров разъезжает повсюду. Но вдруг дверца фиакра распахнулась, из него выскочил человек, быстро подбежал к колясочке, схватил ребенка и впрыгнул назад в фиакр. Кучер с красивым размахом, звонко хлобыстнул бичом, кони рванулись, и фиакр полетел, как выпущенный из пушки снаряд, свернул налево и загрохотал куда-то в сторону Крымской улицы.
Все произошло потрясающе стремительно. Как в cinema у Люмьеров. И так же ирреально. Зина порядочно испугалась, но еще не понимала хорошо, что именно случилось. Толкая впереди себя пустую колясочку, бедная девочка побежала вслед за фиакром. Ей казалось, что сейчас за поворотом какой-то зло над ней пошутивший дядя отдаст ей Людочку, и они поедут домой. Она добежала до угла Бельвильской улицы, но ни шутника-дяди, ни самого фиакра там не было. И только тут до Зины дошло, что Людочку у нее попросту украли. Она схватилась за голову и завопила на весь квартал. Вокруг нее стали собираться прохожие, всякие любопытные, зеваки. А вскоре появились и полицейские.
Машенька давно закончила писать, но все сидела за бюро. Всякие сомнения лезли ей в голову. Что-то их ждет в России?.. Что будет с кузеном?.. Получится ли у Василия Никифоровича помочь ему?.. И как в дальнейшем ей быть с Руткиным? Потому что выручать его она сможет, скорее всего, только в том случае, если об этом не будет знать Дрягалов. Иначе он просто ограничит ее в средствах, чего никогда не делал. То есть ей бы пришлось обманывать Василия Никифоровича. Но разве она теперь его не обманывает? Все, что она задумала сделать для Яши, можно выполнить лишь втайне от Дрягалова. А не выполнить этого тоже было бы обманом. И даже еще худшим. Потому что тогда бы она обманула несчастного голодного, а поэтому богоизбранного человека. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Машенька решила все-таки в этот раз Руткину помочь, как задумала, несмотря ни на что, а там будет видно, как поступать.
Ее размышления были прерваны какими-то тревожными звуками, вдруг наполнившими дом. Доносились мужские голоса, кто-то плакал взахлеб, причем стараясь что-то рассказывать, кто-то часто затопал каблуками – побежал, наверное. За дверью послышалось пронзительное: «Parici! Parici!» [17]. Машенька почувствовала, что приближается несчастье, и похолодела. Двери распахнулись, и вся в слезах в комнату вбежала Зина. Глаза у девочки были раскрыты широко и полны ужаса, как у повидавшей преисподнюю.
– Людочка пропала! – сразу же выпалила Зина. – Ее украли!.. Ее украли у меня!.. – Больше она ничего не была в состоянии сказать, потому что разрыдалась совсем безутешно.
Машенька вскочила. Но так же, как и Зина давеча, она не сейчас осознала случившегося. Это было все равно как инстинктивное сопротивление смерти. Она не так поняла! Ослышалась! У горничной припадки! Ее жалостливый взгляд, жаждущий найти опровержение услышанному, заметался, заскользил по сторонам и наткнулся на темные силуэты квадратноголовых полицейских, стоящих в деликатной нерешительности в дверях. И она тотчас поняла все. Людочка пропала!!! В глазах у Машеньки поплыло. Она неуверенно поискала рукой, обо что бы опереться, и рухнула без чувств на пол.
* * *
Как уже говорилось, семейство Годаров состояло из четырех человек. Кроме самого адвоката, его жены и сына, в доме жил еще и престарелый отец мэтра Годара отставной пехотный подполковник кавалер Шарль Анри Годар.
Подполковник Годар был по-настоящему легендарною личностью. И даже то, что дослужился он всего только до чина lieutenant-colonel [18], столь же для света ничтожного, как и просто lieutenant, было результатом невероятного и загадочного происшествия, приключившегося с ним в Китае, во время знаменитой так называемой опиумной англо-французской экспедиции. А ведь блистательные успехи Шарля Годара в начале карьеры делали для него вполне досягаемою перспективой и самый маршальский жезл.
Впрочем, по окончании военной школы, когда он был определен в захолустный нормандский гарнизон, абсолютно ничто не предвещало ему Тулона. И, что самое опасное для офицера, с каждою неделей службы Шарль все меньше думал о Тулоне. Жизнь его в гарнизоне превратилась в этакое тупое ожидание эфемерной мелкобуржуазнойрадости. Исправляя рутинную службу, он только и мечтал об выходном. А в скучные и, как на подбор, однообразные выходные он все думал: как бы это поскорее в службу, что ли… Так и шли недели, месяцы, сезоны целые. В Париже уже несколько лет кряду разворачивались драматические события, кипели страсти, там направо и налево раздавали чины и награды. А в жизни Шарля Анри Годара только что и было – рутина и скука, скука да рутина. Но неожиданная случайность решительно переменила вдруг его жизнь. А может быть, это произошло и по воле Провидения,как любил говорить обожаемый в те годы Шарлем первый француз.
Один из офицеров их гарнизона, с которым Шарль был дружен, пригласил его однажды поехать с ним в Париж. Он сказал, что на днях перед армией собирается выступить президент республики. И речь его должна якобы сделаться для них, для офицеров, неким отправным моментом, за которым последуют грандиозные перемены в их бренном существовании. Уговаривать Шарля, разумеется, не требовалось.
В Париже в Елисейском дворце 9 ноября 1851 года собрался цвет французской армии. Мало что может сравниться с роскошью и блеском Елисейского дворца, этого зримого Элизиума, но собравшиеся там офицеры были настолько ослепительны, так богоподобны, что совершенно затмевали неземные красоты великолепного чертога.
Президент Бонапарт говорил долго и красочно. Для сколько-нибудь разумного человека одного этого было бы достаточно, чтобы понять, до какой степени племянникне наследует дяде.Но собравшиеся во дворце, жаждущие битв и славы воины, всею душой желали, чтобы он именно наследовал! А перед душевными порывами разум пасует, как водится. Затаив дыхание, все внимали оратору. И было же что послушать! Как он говорил! Разве только у мертвого сердце не возгорится от столь пламенных речей.
«Если важность обстоятельств наведет на нас испытания, – говорил президент, – и принудит меня сделать призыв к вашей преданности, то ваша преданность, я в этом уверен, не изменит мне. Потому что, вы знаете, я не потребую от вас ничего такого, что не было бы согласно с моим правом, признанным конституцией, с военною честью, с интересами отечества. Потому что я поставил во главе вас людей, которые пользуются моим полным доверием и заслуживают вашего. Потому что если придет когда-либо день опасности, то я не сделаю, как правительства, предшествующие мне, и не скажу вам: идите, я следую за вами; но скажу: я иду! следуйте за мной!»
У подпоручика Годара после этих слов было лишь одно желание – умереть за своего президента! И лучше прямо сейчас, в зале, в виду десятков товарищей. Надо полагать, что и у остальных были подобные же чувства. Чем для них раньше являлся президент? Да всего только главным французским чиновником. Теперь же он у них на глазах превратился в отца нации! В вождя! Явившись собранию простым смертным, он теперь, как архистратиг, рдел сиянием славных побед. И что из того, что самих побед-то не было. Главное – восторженное собрание видело это сияние. А это и есть уже победа.
После торжественной части, когда все вышли в кулуары, к группе офицеров из провинции, среди которых находился и Шарль со своим другом-однополчанином, во главе блестящей свиты, подошел незнакомый генерал. Коротко расспросив их о службе и узнав, что все они горят желанием послужить во славу отечества и своего президента, он предложил им немедленно вступить в столичные полки, причем посулил всем высшие, против прежнего, должности. Об увольнении из их старых частей генерал велел не беспокоиться. Это он обещал легко уладить.
На другой день Шарль вступил в командование ротой в батальоне венсенских стрелков. Генерал Маньян – так звали незнакомого генерала – приказал всем офицерам быть наготове и ждать его особенных распоряжений. Скоро, говорил он, всем нам придется доказывать свою любовь к отечеству.
И долго ждать не пришлось. Не прошло и месяца, как важность обстоятельств,на которые туманно указывал в своей речи президент, заставила войска выйти из казарм. Это были роковые дни начала декабря 1851 года.
Шарля совсем не интересовала предыстория этих событий. Лишь спустя годы, попав уже в опалу у тех лиц, за коих в памятном декабре он готов был лечь костьми, Шарль стал критически размышлять о случившемся. И, надо сказать, у него достало мужества признаться самому себе, что им, в ту пору двадцатиоднолетним юношей, двигали одни только карьеристские соображения. А любовь к отечеству, к которой в те дни так настойчиво апеллировали ближайшие сторонники президента, вроде генерала Маньяна, для Шарля и подобных же рядовых исполнителей их замыслов была не чем иным, как только красивым самообманом. Стоять за национальное собрание, разумеется, было не менее патриотично, чем выступать за президента. Но разве мог какой-то там Беррье предложить молодым честолюбивым военным столько же благ, сколько давала им победа президента Луи-Наполеона Бонапарта. Это обстоятельство все и решило. Армия безо всяких сомнений выступила за исполнительную власть.
Второго декабря, в день годовщины Аустерлицкой битвы, в Париже, при помощи военной силы, был совершен государственный переворот. Национальное собрание было разогнано, и вся власть в государстве перешла к единому лицу – к президенту. Гюго прямо назвал случившееся преступлением. Но что из того? Историю делают счастливые победители, а не отверженныеэмигранты, какими бы гордыми и непокорными они ни хотели казаться.
А Шарль Годар в результате оказался именно в числе победителей. И мало того, он приобрел известность, сделался поистине историческою личностью. Спустя с лишком полвека трудно было поверить, что этот замкнутый старик, коротающий дни свои в семье сына и всякий вечер отстукивающий тростью маршрут до Пер-Лашез и обратно, в 1851 году лично распустил Национальное собрание Французской республики.
Утром 2-го декабря двести двадцать депутатов собрались в мэрии Десятого округа на улице Гренель. Бурбонский дворец еще накануне был занят войсками. Ни малейшей власти, ни хотя бы влияния на толпу поредевшее Национальное собрание уже не имело. И напрасно депутаты поочередно подходили к окну и взывали к народу противостоять перевороту. Лишь несколько недружных криков из толпы «Да здравствует республика!» было им в утешение.
Но мученичество депутатов могло, в конце концов, подвигнуть народ к каким-то более решительным действиям. Военные это прекрасно понимали. Слишком памятны им еще были сорок восьмой и пятидесятый годы. Поэтому они решили больше не медлить. Войскам был отдан приказ оцепить мэрию Десятого округа. После чего в зал к депутатам явился офицер с ультимативным предложением прекратить заседания и разойтись. Этот офицер и был Шарль Годар.
В сопровождении двух сержантов своей роты он вошел к депутатам и произнес исторические слова: «Именем приказаний исполнительной власти мы приглашаем вас разойтись сию же минуту!» Всякие возражения, а тем более сопротивление были уже бесполезны. И депутаты покорились. Вторая республика прекратила свое существование. Впрочем, время падения Второй республики можно относить к разным событиям и периодам. Тьер, например, еще в 1850-м сказал: Tempire est fait [19].
Даже если бы в жизни Шарля ничего такого выдающегося больше не свершилось и дни его текли бы уныло и вяло, то одного этого случая ему вполне достало бы, чтобы пожинать лавры еще очень долго. Может быть, и всю оставшуюся жизнь. И в самом деле, скоро на него просто-таки посыпались всякие милости. Самым важным было то, что его заметил президент.
Среди участников декабрьских событий, обласканных Луи-Наполеоном Бонапартом, Шарль оказался одним из первых. Он был пожалован сразу двумя чинами. А когда год спустя президент принял титул и самое имя своего дядюшки, то есть исполнил то, ради чего, собственно, и совершался переворот, Шарлю было предложено вступить во вновь образованную императорскую гвардию. И ни много ни мало как командиром батальона. Такое назначение, если еще и не выводило Шарля в элиту, то, во всяком случае, делало его к элите человеком очень близким. В Тюильри он бывал не реже иных свитских офицеров. Да и что касается самой свиты, то быть к ней причисленну, для Шарля оставалось лишь вопросом времени. Карьера, составляемая вчерашним нищим безродным провинциальным офицериком, была поистине головокружительною.
И все-таки такая карьера, при всей своей видимой пышности, не могла удовлетворять честолюбие настоящего офицера. В душе Шарль осознавал, что успехами своими он обязан подвигу весьма сомнительному. Хороша это слава для офицера – одержать победу над двумя сотнями безоружных и беззащитных своих соотечественников! Нет, честолюбие Шарля требовало иных подвигов. Достойных звания французского офицера, а не какого-нибудь там презренного гражданского интригана.
И вскоре, как будто угадав настроение иных своих подданных, вроде Шарля Годара, первый французпредоставил им возможность сполна выказать воинскую доблесть. Это уже были не аресты безоружных представителей и даже не потасовки на бульварах с рабочим людом из предместий. Это была настоящая большая война с иноземным противником, грозным и многочисленным.
В 1854 году Шарль оказался в Крыму, в славной армии маршала Сент-Арно. Могло бы показаться, что ему, избалованному уже парижскою жизнью, службой при высочайшей особе, парадами и балами, военные тягости окажутся непосильным испытанием. Ничего подобного. Шарль и на войне нашел себя столь же скоро, как и в парадно-караульной службе при дворе. Он отличился в первом же деле – в битве при Альме.
А за Инкерманское сражение он был представлен к «Почетному легиону».
В том сражении русские, имея численное превосходство, решились под покровом тумана атаковать английские позиции, разрезать союзную армию и сбросить ее в итоге в море. Очень тихо, густыми сомкнутыми рядами они подошли к расположению англичан. Столкновение было ужасно. На тесном пространстве, лицом к лицу, противники дрались штыками и прикладами. В ход шли даже камни, находившиеся здесь во множестве. Мало кто способен выдержать русскую отчаянную штыковую атаку. Турки бежали бы сразу. Но англичане выстояли. Они удержали позиции до подхода союзников. В самый критический для них момент несколько французских батальонов неожиданно атаковали русских с фланга и принудили их отступить, причем потери последних были значительными. Один из этих батальонов и возглавлял Шарль Годар. Благодаря их стремительной атаке было спасено сражение. А в конечном счете и вся кампания. Генерал Канробер, принявший после смерти маршала Сент-Арно командование армией, немедленно отправил в Париж реляцию, где, в числе первых героев Инкерманского дела, указывался и капитан Шарль Анри Годар.
Отменно превосходные успехи Шарля на войне были омрачены лишь одною случайностью – при несчастном для союзников первом штурме Малахова кургана он получил ранение, и из Крыма ему пришлось вскоре эвакуироваться. Конечно, быть раненным в бою это тоже подвиг. Но вступать с победоносными полками в поверженный Севастополь, эту новую Трою,как тогда говорили, было несоизмеримо большею славой, нежели лежать на одре, хотя бы и окруженному маршальскими почестями. Так рассуждал Шарль, маясь в варнинском госпитале.
Но все хорошо, что хорошо кончается. Шарль поправился и выехал в Париж. Явившись на другой день по приезду к своему начальнику, он был поздравлен подполковником и офицером свиты Его Императорского Величества одновременно. Через несколько дней сам император повесил ему на грудь «Почетный легион». Шарлю шел двадцать пятый год. Ровно столько же, сколько и тулонскому герою.
Устроена ли была его жизнь? Всякий, наверное бы, сказал: да, вполне, – чего еще может пожелать молодой человек, помимо таких успехов? Разве достойной партии?
В высоких парижских кругах мало кто не подумал об этом. Ведь Шарль теперь был одним из самых завидных женихов. Его ждало, как казалось, великое будущее. Правда, все знали, что состояние Шарля исчисляется лишь карманными наполеондорами. Но восхитительные перспективы, без сомнения ожидающие его, позволяли особенного значения этому не придавать. Шарля стали нарасхват приглашать во всякие знатные дома. В этот период он перезнакомился с таким числом юных баронесс и виконтесс, что достало бы переженить всю императорскую гвардию.
Но не вышло ему теперь жениться. Не успел он как следует освоиться на этом параде прелестниц, как труба вновь позвала его в поход.
Самый миролюбивый в целом свете государь вынужден был вновь посылать лучших сыновей Франции на смерть. Интересы любезного отечества этого потребовали. Но уж эта-то война будет последнею. Правда, и предыдущая тоже была последнею. И, казалось, что недруги Франции, где бы они ни были, навеки присмирели. Ан нет – одни присмирели, но другие, немногие оставшиеся, еще хотят испытать силу французского оружия. А коли так, то пусть и эти узнают, что французский порох всегда сух.
Вместе со своими новыми верными союзниками – англичанами – первый француз предпринял военную экспедицию в далекий Китай. Для чего туда был снаряжен целый армейский корпус.
Шарль вполне мог бы избежать участвовать в этой кампании. Собственно, его никто и не неволил туда ехать. Но Шарль рассуждал следующим образом: он подумал, что если ему не проявить теперь служебного рвения и по первому же мановению обожаемого монарха не устремиться выполнять его волю в Китай ли, в другие ли дальние страны, то это будет выглядеть как неблагодарность с его стороны за все те милости, которых он удостоился. И карьера, столь старательно им устраиваемая, оказалась бы под серьезною угрозой. Шарль быстро сориентировался в положении дел и написал рапорт с просьбой разрешить ему принять участие в экспедиции в Китае.
Его подвижничество было оценено и вознаграждено сразу же. Вероятно, не без указания благоволившего ему императора, Шарля назначили на высокую и вместе с тем вполне безответственную должность офицера штаба корпуса. Это была одна из тех военных синекур, что позволяет безо всякого риска получать чины и награды наравне с непосредственными участниками боевых действий. А зачастую и преяеде них.
Все бы, наверное, так и получилось. И быть бы ему полковником, а то и генералом. Но где-то в конце войны, когда он уже наперед наслаясдался оясидающими его в Париже лаврами, с ним вышла поистине достойная приключенческого романа история. В результате чего счастливо складывающаяся карьера его решительно рухнула.
Осенью 1860 года союзники подступали к Пекину. Но мандарины сдаваться так просто не собирались. Они готовились к решительному сражению. Или, вернее сказать, к обычному своему неожиданному, по-восточному коварному набегу на союзнические войска. Для координации сил союзников, в связи с вероятным ударом неприятеля, начальник штаба французского корпуса направил во все колонны полномочных офицеров с соответствующими предписаниями. В одну из колонн был послан и Шарль. Такого рода поручения ему приходилось исполнять совсем не редко.
Вместе с ним, но по своим надобностям, туда же выехала и целая группа офицеров – англичан и французов, – числом человек за тридцать.
Был среди них один офицер французской армии, принятый в службу, как ни странно, уже в Китае. Удивительна была его судьба. Родился он в русской Польше. Когда разразилось знаменитое венгерское восстание, он пробрался в Венгрию и примкнул к повстанцам, полагая, что этим послужит и делу скорого освобождения собственного народа. Но венгерские события, как известно, в Польше тогда поддержки не получили. Жестоко подавив при помощи русских войск восстание, австрийцы выдали некоторых участников – подданных России – царскому правительству. И поляк этот, вместе с прочими, пошел в каторгу, в Сибирь. Там он несколько лет кряду, в железах, отработал на рудниках. Но едва подошел срок умерить ему наказание и его расковали, он тотчас бежал из каторги. Таясь, как ночная зверушка, избегая встречи с кем бы то ни было, он пробирался на юг. Наконец, ему удалось перейти границу. Но и в Китае было небезопаснее путешествовать. Он знал, что китайцы очень симпатизируют России, и, попадись им беглый русский каторжник, они, скорее всего, схватят его и выдадут. Так он и шел, пугаясь всякого куста и немедленно хоронясь, едва доносилась человеческая речь. Целью его было выйти к какому-нибудь порту и разыскать там английский или французский корабль. Но, пробираясь к морю, однажды он, к полнейшему своему изумлению, наткнулся на… французский пехотный батальон. И путешествие его на этом окончилось. Но не окончилось везение, будто бы чудесно дарованное ему свыше в награду за перенесенные непомерные страдания. В батальоне в это время находился офицер из штаба корпуса подполковник Шарль Годар. Он лично допросил несчастного поляка и очень сочувственно отнесся к его приключениям. Шарль решил позаботиться о нем. Он забрал его с собою в штаб и добился, чтобы поляк был принят во французскую службу. Беглец сам просил оказать ему такое одолжение. Не зная как иначе отблагодарить спасителей, он придумал предоставить в их распоряжение самую жизнь свою. И его зачислили в один из батальонов. Служил он безупречно. В делах за спины товарищей никогда не прятался. А однажды в стычке с татарами он, презрев смертельную опасность, выручил своего ротного командира, едва не взятого в плен неприятелем. За подвиг этот его представили к награде. Но покровительствующий ему Шарль вместо ордена исхлопотал для него младший офицерский чин. Он объяснил это поляку тем, что быть офицером, и особенно на войне, во всех отношениях предпочтительнее, нежели иметь орден, но оставаться рядовым. Поляк вполне доверял своему покровителю. И вскоре вчерашний каторжный заблестел эполетами подпоручика французской армии.
И вот вся эта группа офицеров, выехавшая из главной квартиры во фланговую колонну, бесследно исчезла. Позже выяснилось, что они нарвались на засаду и попали в плен в местечке Тонг-Чеу.
Поспешно принять меры для их выручки командование не смогло, потому что союзнические войска, почти одновременно с этим происшествием, подверглись внезапному отчаянному нападению многотысячной татарской орды. И хотя татары были разбиты наголову и бежали, время для немедленного поиска и освобождения попавших в беду офицеров оказалось потерянным.
После этого сражения главные союзнические силы двинулись к Пекину. Часть же армии направилась в Юнг-минг-юн, летнюю императорскую резиденцию, куда бежали остатки разбитого татарского воинства. Но по пути в Юнг-минг-юн им повстречались несколько офицеров из той злосчастной группы, исчезновение которой взволновало всю союзническую армию. Офицеры эти все до единого имели следы побоев, пыток. А переданные ими подробности смерти многих их товарищей были настолько чудовищны, что довели англичан до совершенного неистовства. Они бросились в Юнг-минг-юн, чтобы поубивать всех, кто там окажется, а сам дворец обратить в пепел.
Давать нового сражения татары не решились. И, едва узнав о приближении неприятеля, бежали из Юнг-минг-юна. Резиденция осталась безо всякой защиты, и англичане с французами беспрепятственно вступили в нее.
Взору союзного войска открылась потрясающая картина: на протяжении четырех ли простирались дворцы, павильоны, пагоды, озера, сады с разными богатствами и диковинами. И все это доставалось теперь победителям. Два дня англичане и французы, солдаты и офицеры, производили дележ богатой добычи. Все самые потаенные уголки этих роскошных зданий были исследованы. Золото, вазы, мебель, всевозможные предметы китайского искусства, шелковые изделия, бархат, атлас, золотая парча – все было захвачено в течение этих двух дней. А уходя, союзники подожгли Юнг-минг-юн.
Несомненно, та же участь ждала теперь и самую китайскую столицу. Но русский посол генерал Игнатьев уговорил мандаринов прекратить бессмысленное сопротивление и сдать Пекин. Китайцы послушались и открыли ворота на милость победителей. Почему разорять города союзники и не стали.
А через несколько дней в Пекине на старом католическом кладбище состоялись пышные, со всеми приличествующими воинскими почестями, похороны французских офицеров, попавших в плен в Тонг-Чеу и замученных затем татарами. Англичан похоронили отдельно – на русском кладбище.
На похороны геройски погибших соотечественников вышло все французское посольство. Их провожала вся армия. На похоронах этих привлекало внимание одно очень всем понятное и оттого щемящее сердце обстоятельство – закрытые гробы. И не случайно. Это была вынужденная мера, ввиду того, что тела и лица героев были невероятно жестоко искалечены и обезображены пытками. И показывать их не представлялось возможным. Их похоронили под залпы салюта. К свежим холмикам был выставлен почетный караул из одних офицеров. И преимущественно из тех, что вместе с покойными находились в монгольском плену, но чудом избежали гибели. Среди них стоял и тот самый подпоручик-поляк, которого приняли в службу уже здесь на войне, в Китае. Везение, по-видимому, так и не изменяло ему. Он мог бы лежать теперь в земле вместе с другими. А ему вот выпало стоять на карауле у их могил. Он стоял навытяжку, а по лицу его бежали неудержимые слезы. Все, кто знал его, понимали, отчего подпоручик не может сдержать чувств. Ведь только что он похоронил своего друга и покровителя. На ближайшей к нему могиле на кресте было написано: «Шарль Анри Годар. Подполковник. 28 лет. Год 1860».
А спустя несколько месяцев Шарль Анри Годар, подполковник, двадцати восьми лет, объявился в Париже собственною персоной. Все знакомые уже похоронили его. Сам император очень опечалился, когда узнал о гибели своего свитского офицера. А он, оказывается, жив и даже вполне невредим.
Разумеется, на войне полно самых невероятных случайностей. И не было еще, наверное, такой войны, начиная с Троянской, когда в доме родном не объявился бы всеми похороненный Одиссей, чтобы не воскресал кто-нибудь после нее – этой войны. И во всех почти подобных случаях, так же как и в случае с царем Итаки, их «воскресение» доставляло кому-то какие-то неудобства. Действительно, положивший живот на войне – это герой. А вот воскресший – это уже не герой, а в первую очередь претендент на наследство погибшего. То есть на свое же наследство. Которое, как правило, уже кем-то примечено, а то и вообще прибрано к рукам.
Когда Шарль вернулся в Париж, он нашел должность свою занятою. Но это еще полбеды. Хуже было то, что для военной бюрократии он сделался крайне неудобным явлением. Он видел, как за улыбками чиновников скрывается озабоченность от такой нечаянности. А в некоторых случаях его принимали и с откровенно постными лицами: ах ты жив… а как все хорошо уже устроилось…
Если бы Шарль стал униженно просить этих чиновников дать ему приличное место, они наверно что-нибудь ему и подыскали бы. Но просить их Шарль не стал. И вообще, некоторые его знакомые заметили странную перемену, произошедшую с ним. До китайской войны все знали его как человека, главный интерес которого состоял лишь в устройстве собственной карьеры. Ради карьеры он мог пойти на смерть. Но ради нее же он не погнушался бы и согнуть спину перед кем следует. Да, таков он был прежде. Но теперь – и многие это с удивлением отмечали – его как будто перестала интересовать карьера. Во всяком случае, он не просил за себя в кабинетах. Он входил туда, как к своим должникам. А когда, побывав в двух-трех местах, Шарль понял, что в нем особенно-то никто не нуждается, в очередном и последнем кабинете он попросту хлопнул дверью.
Но даже и после этого для него не все еще было потеряно. Прежние его заслуги и членство в ордене позволяли ему, в обход бюрократов-чиновников, напрямую обратиться со своею нуждой к первому французу.Разумеется, это и означало согнуть спину.Но в данном случае и самому большому гордецу это сделать было совсем не зазорно. Ведь перед кем! Но Шарль не предпринял ни малейшего усилия, чтобы хотя бы напомнить императору о себе. Больше того, он не воспользовался случаем, когда в Тюильри сами вспомнили о нем. Через какое-то время, после его неожиданного возвращения, когда императору доложили, что известие о гибели Шарля не является верным, Их Величество пожелали видеть этого бессмертного Годара. Адъютанты тотчас кинулись разыскивать Шарля. Они привезли ему бумагу с приглашением прибыть в указанный срок во дворец. Бумагу Шарль взял, но во дворец не пошел.
Это был уже совсем необыкновенный поступок. Так мог поступить либо по-настоящему слабоумный, либо человек, ни в чем не нуждающийся, совершенно независимый и оттого презирающий весь этот пошлый и лицемерный свет. Но всем было хорошо известно, что Шарль отнюдь не состоятельный, а значит, и вполне зависимый человек. Следовательно, причиной его столь странного поведения остается только одно – слабоумие. Недаром с ним история какая-то вышла в Китае. Вот и нашла блажь на молодца. Так решили в свете.
А очень скоро Шарль доставил новый повод для пересудов, воспринятый всеми уже как естественный порядок вещей. Ведь должен же он был сделать что-то неожиданное по уму своему скудному. И он сделал. Пожив какое-то время в Париже, Шарль вдруг уехал… в Китай.
Вот было радости-то в салонах, где знали Шарля. Новость обсуждалась на все лады. Уехал в Китай! А что еще от него можно ожидать! Aliene! [20]Все распродал. Самый орден свой в заклад отнес! Кто-то придумал пошутить, что-де Годар поехал навестить собственную могилку. Все с удовольствием пересказывали эту шутку. Особенно потешались над ним в тех домах, куда перед войной Шарль едва не вошел как член семьи. Все эти бароны и виконты, чаявшие когда-то иметь его в зятьях, благодарили теперь судьбу за непопущение им такового несчастья.
Не возвращался Шарль довольно долго. И в Париже мало кто уже из его бывших знакомых вспоминал об оригинальном Годаре. А когда он, наконец, вернулся, то узнать в нем прежнего Шарля было совершенно невозможно. Настолько он переменился. Теперь из Китая вернулся совсем другой человек. Не то что в первый раз. Он и с лица сделался другим. Будто состарился лет на десять. Великолепная шевелюра его побелела. Глаза приобрели этакое прозрачно выплаканное выражение, какое бывает у схимников-ортодоксов. Но еще большие перемены произошли в его характере. Он стал очень нелюдимым и апатичным. Никакие прежние ценности больше его не интересовали. Ничто не радовало и не заботило больше его. Он снял насколько возможно дешевую комнату в предместье и поступил служить кондуктором в почтовые поезда. Ему не было и тридцати пяти, а его уже стали называть папаша Годар.
Как-то незаметно, само собою, он сошелся с хозяйкой, у которой квартировал в мансарде, довольно привлекательною вдовицей лет сорока. Они поженились. И папаша Годар сразу сделался многодетным отцом. Потому что жена его имела троих детей от первого брака. А вскоре у них родился еще и сын Терри.
Бремя ответственности за семью наполнило жизнь Годара каким-то смыслом. Он значительно воспрянул духом и даже помолодел, то есть стал выглядеть сообразно своему возрасту. Душевная рана от таинственного китайского приключения стала постепенно зарубцовываться. Он с удовольствием занимался с детьми. Заботился о благополучии дома. И если бы иногда его не посещали черные мысли о несостоявшейся прежней жизни, о катастрофе, выпавшей на его долю, он был бы, пожалуй, и счастлив. Тем нехитрым мелкобуржуазным счастьем, с которого и началась его самостоятельная жизнь и выше которого ему не следовало бы и подниматься. Может быть, он прожил как раз не свою судьбу. А его судьба – это домик в предместье, четверо детей и добрая пожилая женушка.
Лет через пятнадцать папаша Годар и сам остался вдовцом. Приемных своих детей он выделил по совести, насколько это позволяло невеликое их с женой состояние. А с младшим Терри он никогда не расставался. Он дал сыну образование. И, разумеется, не военное. Он опекал его по ту пору, пока сам Терри не сделался вполне самостоятельным. Когда родился Паскаль, старый Годар совершенно освободил сына и невестку от забот о ребенке, предоставив им заниматься иными всякими важностями. А с Паскалем они сделались самыми добрыми, самыми нежными друзьями. Паскаль никому не был так предан, как деду, ни с кем не был так доверителен. Решившись жениться на Клодетте, он прежде посоветовался именно с дедушкой, а затем уже рассказал родителям о своей невесте.
Такую вот удивительную жизнь прожил отец мэтра Годара. В свои семьдесят три года он был на редкость бодр и крепок, мудр и остроумен. Дрягалов отозвался о нем в обычной своей образной манере: ядреный старик.Он всякий день прогуливался по Пиренейской улице до Пер-Лашез. И кто бы мог подумать, что этот суровый престарелый господин с осанкой и выправкой лейтенанта в свое время положил конец Второй республике, получил «Почетный легион» за Восточную войну, а во Вторую опиумную войну сделался обладателем несметных сокровищ китайских императоров. Но кто мог так подумать?..
Глава 11
В Гнездниковский Дрягалов отправился сразу, как только приехал в Москву. Он лишь завез домой Диму да наскоро расспросил по телефону управляющего, как идут дела в магазинах. Как и в первый раз, когда он приходил просить за Машеньку, так точно же и теперь, у Дрягалова совсем не было уверенности в успехе своего ходатайства. В первом случае даже его усердие имело куда как большее оправдание – он очертя голову бросился спасать любимую женщину. А за кого он идет просить теперь? Кто ему этот бедолага-студент? Только что ближний. Вот уж для полицейских причина уважительная!
Ставший – что уж говорить! – добрым знакомым Дрягалова, чиновник охранного отделения – Викентий Викентиевич, – кроме того, что он в своем опричном деле был непревзойденным искусником, одновременно являлся редкостным знатоком человеческой натуры. Он выстраивал со своими тайными агентами, или, как их называли в Гнездниковском, сотрудниками, особенные личные отношения, старался найти к каждому индивидуальный подход. Мало будет сказать, что он ими дорожил – дорожили своими сотрудниками все начальники: из охранного ли отделения, из полиции ли, из жандармского ли корпуса, – но Викентий Викентиевич, в отличие от большинства коллег, был с ними человечен. Именно человечен. В том смысле, что старался вникнуть в душу каждого, понять сотрудника, войти в его положение и, соответственно, строить работу с ним, учитывая его интересы, играя на этих интересах. Ровно таким образом он принудил к сотрудничеству Дрягалова: разобравшись в его душевных переживаниях, ловкий чиновник устроил их отношения так, что запутавшийся в личной жизни купец согласился служить ему на пользу истинно за совесть, поскольку чувствовал себя одолженным Викентием Викентиевичем. Но вместе с тем этот хитроумный государственный муж понимал, что из сотрудника нельзя, как из лимона, выжимать все до последней капли: он хорош и полезен до тех пор, пока лично заинтересован в сотрудничестве. Но как только у него наступает момент некоего психологического перелома, сотрудник становится не только менее полезным, но и подчас опасным для их дела: его могут разоблачить свои и в лучшем случае как-то от него избавиться, а в худшем еще и заставить поведать им подробности его провокационной деятельности. Вот этот-то момент и нужно уметь предупредить – для чего и самого человека, и самую его личную жизнь надо хорошо знать – и вовремя вывести сотрудника из большой игры.
Что касается конкретно Дрягалова и его сотрудничества с охранным отделением, то это был случай исключительный даже для опытнейшего Викентия Викентиевича. Исключительность случая состояла главным образом в том, что Дрягалов совершенно не зависел от учрежденияматериально, как почти все прочие сотрудники. Василий Никифорович, как известно, только забавлялся. Прихоти ради. Ему было забавно участвовать в кружке. Но и вынужденно попав в услужение к охранке, Дрягалов, при своей-то своевольной натуре, не смирился бы долго оставаться подневольным. В Гнездниковском это все хорошо понимали. Для лиц, стоящих во главе московского охранного отделения, и, в частности, для своего шефа-чиновника, Дрягалов был этаким enfant-gate [21], в благорасположении которого «les parente» заинтересованы не меньше, чем он сам в их доброжелательности к нему. Викентий Викентиевич, в частности, хотя и приходился как будто Василию Никифоровичу начальником, на самом деле благоговел перед ним и даже, пожалуй, завидовал Дрягалову. Ему импонировала способность необыкновенного сотрудника жить широко, с разни скою разудалью, не зная ничего невозможного, и при этом оставаться мирным членом общества. И не одно только колоссальное состояние позволяло Дрягалову быть разудалым и обязывало его оставаться верноподданным, но в первую голову особенный душевный склад. Но одновременно эта независимость и особенные его душевные свойства делали Дрягалова, с точки зрения охранного отделения, сотрудником не очень-то надежным. Это тоже понимал Викентий Викентиевич, почему он обычно и предпочитал работать либо с профессиональными революционерами, у которых не было никаких отходных путей, кроме однажды избранного единственного, либо с такими незначительными бесцветными личностями, как инженер Попонов. Одним словом, чиновник принял решение от сотрудничества с Дрягаловым отказаться – как поверенный Василий Никифорович для его дела теперь был, пожалуй, в большей мере опасен, нежели полезен.
О происшествии с двумя студентами из своего поднадзорного кружка чиновник узнал, конечно, пораньше Дрягалова, Машеньки и даже самой Хаи Гиндиной. Хотя Мещерина с Самородовым арестовала и не охранка вовсе, а сыскная полиция, в Гнездниковский сведения об этом поступили мгновенно. Равно и о том, что полиции удалось обнаружить и накрыть кружковскую типографию, за которой охранное отделение охотилось давно, да все безрезультатно. События эти заставили чиновника основательно задуматься. Как ему казалось, саломеевский кружок сделался для него почти родным. Он не один год следил уже за его деятельностью. Он его взлелеял. Он, если угодно, покровительствовал ему. Биографии большинства кружковцев были ему известны исключительно подробно. Для него кружок сделался своеобразным барометром, указывающим на состояние погоды в революционной среде.
Вздумайся только ему покончить немедленно с кружком, это сделать было бы нисколько не сложно. Но для чего? Избавив общество от двух дюжин социалистов, он практически утратил бы контроль надо многими другими такими же бунтовщиками, поддерживающими в той или иной форме связь с его кружком. Во всяком случае, на некоторое время утратил бы. Так, например, когда в Москве появлялся гость из других краев, в Гнездниковском это сразу становилось известно. Потому что гость этот, как правило, наведывался для докладаили по иной надобности в кружок. Кстати, гости такие домой чаще всего уже не возвращались . Не своихохранка хватала без малейших сомнений. Точно так же обнаруживались и неизвестные ранее подпольные революционеры из московских. Это могли быть и новые, вроде студентов Мещерина и Самородова или подруг-гимназисток Тани, Лены и Лизы. А могли быть и люди бывалые, из других, более скрытных, обществ. Многие из таких, хотя и изредка, появлялись в кружке Саломеева и тогда уже попадали в поле ведения охранного отделения. Все эти сведения и многие другие поступали в Гнездниковский преимущественно от внедренных в кружки сотрудникови в некоторой, но, разумеется, в меньшей степени от так называемых агентов наружного наблюдения. Последние обычно выслеживали свой объект на улице и провожали его по всему городу, насколько это требовалось или было возможным.
Нужно сказать, что кружок, в котором сотрудничал Дрягалов, был отнюдь не единственным московским кружком, находящимся под пристальным наблюдением охранки. Но именно в этом кружке отделению удалось произвести крайне желательные для отслеживания его деятельности обстоятельства. Такой порядок, по мнению Викентия Викентиевича, должен быть заведенным, по возможности, в наибольшем числе поднадзорных революционных организаций. Дело все в том, что, помимо Дрягалова, в кружке состоял и еще один сотрудник. Причем каждый из них не подозревал ничуть о существовании дублера. Такая система, по своей сути, была чрезвычайно действенною. Ведь два различных источника, показывая об одном и том же, могли давать самые исчерпывающие сведения. Впрочем, в данном конкретном случае, хитрый порядок этот пользы приносил не столь уж, как хотелось бы в Гнездниковском. От Дрягалова сведения поступали самые незначительные. И с этим приходилось мириться. Потому что Дрягалов был слишком видною личностью, и к тому же натурой своенравною, чтобы он так запросто позволил притеснять себя повинностью большею, нежели ему самому благорассудилось бы исправлять. А другой сотрудник – инженер Попонов, человек, напротив, без особенных достоинств, почему и играющий в кружке роль довольно-таки ничтожную, опять же не мог в достаточной мере удовлетворять охранное отделение. Знал он едва ли не меньше Дрягалова. Единственное, доносил он в Гнездниковский решительно обо всем, что ему становилось известно, ничего не утаивая. Так, донося об их последнем собрании у Старика, он отписал в охранку, что в кружке появились трое новых девиц, видом благородных чинов,и что оне речей не говорили, а всё на ус мотали.
Этот осведомитель Попонов являлся одним из редких социалистов, кто еще и служил. Он был инженером-технологом и состоял в соответствующей должности на известной фабрике «Эйнем», почему от него постоянно пахло ванилью и бисквитами. В кружке к нему отношение сложилось вполне безразличное, ввиду его полной научной социалистической никчемности. Даже как человек близкий к пролетарскому классу он не представлял интереса. Выяснилось вскоре, что революционные преобразования его интересовали лишь постольку, поскольку они могли быть полезны непосредственным участникам, то есть кружковцам, и, конечно, ему самому среди прочих. И он совершенно откровенно, так, во всяком случае, всем казалось, не понимал, что социалисты, а значит и он сам, в первую очередь должны быть озабочены улучшением положения простого работного люда. На собраниях он никогда не выступал, но неизменно задавал много вопросов. При вотировании обычно присоединялся к большинству. Для Саломеева он был очень даже удобным клевретом. Поэтому, одаривая по своему усмотрению кружковцев дрягаловскими деньгами, Саломеев никогда не забывал о Попонове, который, таким образом, имел доходы сразу по трем статьям – в кружке, в охранке и по должности своей на фабрике. Все это позволяло скромному и невзрачному на вид служащему жить довольно. И, кроме содержания семьи из шести человек, ему доставало еще средств и на известного рода забаву, к которой он захаживал раз-другой на неделе в 1-й Бабьегорский переулок.
Однако, как ни старался Попонов угодить охранке, донесения его, даже и дополненные скупыми сведениями от Дрягалова, не способствовали до сих пор решению одной из важнейших для Гнездниковского проблем – обнаружению подпольной типографии. О существовании ее знали там давно. Все, что в ней выделывалось – будь то брошюры, листовки, книжечки всякие, – немедленно попадало на стол к ведущим за кружком наблюдение служащим охранного отделения и в первую очередь к дрягаловскому знакомцу Викентию Викентиевичу. Чиновник этот принимал все возможные и невозможные меры, чтобы раскрыть типографию. Но она оказалась крепким орешком даже для него, настоящего в своем деле искусника. Вместе со своими верными помощниками он самым внимательным образом анализировал все поступающие к нему сведения. Он до пены у рта загонял агентов наружного наблюдения – филеров, принуждая их выслеживать кружковцев по всей Москве и по губернии, в надежде на то, что те выведут-таки их к заветной цели. Так нет! Все тщетно. В результате он узнал много всяких иных полезных неожиданностей. Ему, например, стало известно, где квартируют двое самых скрытных кружковцев – Саломеев и Гецевич; где кружок собирается еще, помимо дрягаловского дома; выяснились также и кое-какие подробности о других малоизвестных или даже совсем ему неизвестных ранее кружках и организациях и об их участниках; выяснялось что угодно, но только на типографию ему так и не удавалось выйти, будто она заговоренною какою была. И вдруг эту типографию берет полиция! Мало того, будто бы насмехаясь над незадачей охранного отделения, из полицейского дома, на поверенной территории которого и была обнаружена типография, в Гнездниковский тотчас послали об этом известие и еще присовокупили к нему несколько экземпляров брошюры некоего Тимофеева из захваченного там же полного свежеотпечатанного тиража. Тимофеевым в последнее время подписывал свои сочинения Лев Гецевич – главный прожектер саломеевского кружка, за которым охранка давно наблюдала и не трогала его по той же причине, по какой не трогала и весь кружок. Заботливый о кружке радетель – чиновник охранного отделения – отнюдь не придавал Гецевичу значения, как представляющему собою серьезную общественную опасность социалисту-мыслителю. Он был знаком с его творчеством. И считал, что один бомбометатель много опаснее десятка подобных Гецевичу теоретиков. Из социалистов вообще мало кто не выдвигал всесветных революционных идей. Другое дело, что Гецевич по натуре своей не остановился бы при необходимости и перед индивидуальным террором. Это чиновник также успел понять, наблюдая за своими кружковцами.
Спустя какие-то часы после первого насмешливого извещения в охранное отделение прибыл курьер уже из самого полицейского управления с уведомлением о том, что известный кружок, за которым полиция, оказывается, тоже вела наблюдение, ею раскрыт вполне. Произведены аресты. Обнаружена и захвачена огромнаятипография с целым складом недозволенных сочинений при ней. Вредная деятельность разоблаченной намиорганизации прекращена. Так заканчивалось уведомление.
Чиновник только за голову схватился. Многомесячная его кропотливая работа с кружком, при посредничестве которого он уже начинал контролировать практически все революционное подпольное движение в Москве, пропала втуне. Ему было отчего прийти в отчаяние. Правда, после выяснилось, что полицейское уведомление оказалось несколько преувеличенно. И деятельность организации была совсем и не прекращена, а только приостановлена. Так грубо потревоженный, кружок, естественно, затаился. Арестов было произведено всего два, что опять же не позволяло говорить о кружке как об организации, раскрытой вполне. И уж совсем потешно характеризовалась захваченная типография. В традиционной своей манере преувеличивать собственные достижения, полицейские назвали огромною типографией тесный грязный чулан, две трети которого занимал колоссальный, со слоновьими ногами пресс, по-видимому, доставшийся русской революции от самого Гутенберга. Производительность этого экземпляра для кабинета редкостей была крайне невелика, почему и никакого склада изделий при типографии не существовало. Впрочем, в углу чулана в стопках лежало полторы тысячи брошюр г-на Тимофеева. Они-то, вероятно, и значились в полицейском уведомлении как склад недозволенных сочинений.
Но все эти подробности для чиновника охранного отделения уже не имели значения. Его снедали совсем другие раздумья. Как бы ни преувеличивали свои доблести полицейские, одно бесспорно – они перехватили здесь первенство у Гнездниковского. Как бы грубо они ни сработали, успех их был очевиден. Могло ли такое произойти случайно? – сам себе задавал вопрос чиновник. Ведь в сыскном деле полно всяких, порою самых невероятных, случайностей. Но, как подсказывало ему чутье опытного сыщика, теперь был не случай. Как-то все это у них ловко вышло: одновременно и арестовать людей, и типографию найти, и захватить ее в тот самый момент, когда там еще находился полный тираж последней отпечатанной брошюры. О полноте взятого тиража можно было предположить, прежде всего, потому, что нигде больше по всей Москве не появилось и следа нового сочинения этого Тимофеева. Все указывало прозорливому чиновнику на какую-то предшествующую работу полиции с его кружком. О чем он, к стыду своему, не проведал вовремя. И какую именно работу исполнила полиция, долго гадать ему нужды не было. Методой покойного полковника Судейкина с переменным успехом пользовались все сыскные учреждения. Почти наверно в кружке, кроме двух сотрудников охранного отделения, сотрудничал еще и полицейский агент, бывший к тому же куда как осведомленнее обоих своих конкурентов. У Викентия Викентиевича – человека не без юмора – это открытие не могло не вызвать улыбки: кто же делает русскую революцию, подумал он, неужели одни сотрудники?
Да, действительно, все это было бы смешно. Но до шуток ли, когда ему теперь надо начинать все едва ли не с самого начала. Нужно поднимать расстроенный кружок. Опять налаживать его работу. Полицейским что! – им нужен лишь сиюминутный успех. Единственно ради поощрений от начальства. А каково будет завтра, уже не их печаль.
Викентий же Викентиевич поистине исправлял свое дело за совесть. Те же чувства он всегда старался внушить и подчиненным. Насколько это ему удавалось, можно было судить в первую очередь по тому, что работа охранного отделения вполне наладилась. И тут вышел такой досадный случай, поставивший под угрозу срыва все запланированные им дальнейшие мероприятия по ограничению опасной для государства революционной деятельности! Полиция спутала ему все карты. Как говорится, «дала нос».
Но что за честь теперь роптать. Необходимо действовать. Его обязанности остаются его обязанностями. И за их невыполнение будет строго взыскиваться именно с него. Невзирая ни на какие причины.
И чиновник скрепя сердце поехал к своим заклятым друзьям в полицейское управление. Как он и предполагал, переговоры его с мундирамине оказались сложными. Во-первых, он выразил свой безмерный восторг от работы полицейских и искренне поздравил их с последним удачным крупным делом. Кроме того, он сказал, что непременно доложит еще и от себя лично общему их начальнику директору департамента полиции об изумительном успехе московского сыска. И уже затем он попросил полицейских передать охранному отделению двух арестованных намедни студентов. Он сказал, что, может быть, ему удастся добыть от них еще какие-нибудь сведения, в равной мере небесполезные и для охранного отделения, и для полиции. Это его выражение «еще какие-нибудь» должно было свидетельствовать, насколько он убежден в том, что основные-то сведения от арестованных полиция получила. А он, отдавая должное их бесподобному мастерству, смиренно согласен довольствоваться и какими-нибудь.О, если бы полицейские умели смущаться или краснеть, подобно барышням! Но нет, они не смутились и не покраснели. А было отчего. Дело в том, что им решительно не удалось добиться от арестованных каких бы то ни было сведений. Ни самых пустячных. Нехитрый их арсенал приемов состоял из одних только угроз либо безответственных обещаний всяких благ. Ни то ни другое на Самородова и Мещерина не подействовало. И теперь полицейские просто-таки терялись, как с ними поступать дальше. Они, естественно, ни в чем не признаются. Улик против них никаких. И обыск ничего не дал. Что с ними делать? И тут представляется счастливый случай сбыть арестантов с рук. Вот и кстати, рассудили полицейские чины, пускай-ка эти статские сними попыхтят теперь.
А у чиновника охранного отделения были на Самородова и Мещерина свои особенные виды. Он начинал новый этап работы с кружком. И теперь его задача куда как усложнялась. Кроме обычного, теперь он должен был и позаботиться, как бы оградить свой кружок от непомерного к нему интереса полиции. Для чего срочно требовалось выявить в нем полицейского провокатора. И вот в этом-то ему и могли помочь два студента-кружковца. Нет, конечно, он ни в коем случае не надеялся обратить их в сотрудников. Чиновник был слишком умен, чтобы всерьез рассчитывать на такое. Он хорошо представлял себе, что они за люди. Изучил их довольно. Такие скорее предпочтут каторгу, нежели посрамят свою по-юношески обостренную и уязвимую честь какими-либо связями с охранкой. Но чиновник придумал хитрый план, по которому Самородов и Мещерин послужат ему на пользу, сами того не ведая. А господин Дрягалов поможет осуществить этот план. О том, что Дрягалов и Самородов люди друг другу не чужие, чиновник также прекрасно был осведомлен.
По его расчетам, Дрягалов вот-вот мог прийти к нему с тою же просьбой, с какою он появился здесь и впервые. Он знал, куда и когда уехал Дрягалов. Знал и о том, что в Париже уже получена весточка о случившемся. Филер, наблюдающий за Гиндиной, принес в Гнездниковский список с ее телеграммы, немедленно выданный ему в «черном кабинете», через полчаса после подачи оригинала к отправлению. Догадаться же об истинном содержании этого, казалось бы, безобидного послания опытному сыщику, управляющему к тому же своими кружковцами, как шахматист фигурами, не представлялось сложным. И, конечно, думал он, Дрягалов не откажет своей даме сердца немедленно поехать в Москву выручать из беды ее братца.
И теперь чиновник временил отпускать арестованных кружковцев, хотя dejure и выходило, будто бы они безвинные. Он хотел отпустить их не просто так, а как бы опять оказывая Дрягалову милость. И еще более таким образом одалживая его. Все вышло в точности, как он рассчитывал.
Придя в охранку, Дрягалов сразу, не заводя долгих разговоров, попросил помилосердствовать к парнишке. На что Викентий Викентиевич ему многозначительно и, как всегда, с улыбкой ответил:
– Милосердным быть, Василий Никифорович, нетрудно. Гораздо труднее выполнять свой долг.
Дрягалов потупил взгляд. Понятное дело. Чего уж тут не понять? – в претензиях на него их благородие. Про долг напоминает. И то верно, подумал он, худо я отслужил за оказанную милость, чего говорить. Не очень-то усердствовал, будь оно неладно!
– Так ведь… это самое… конечно, справедливо… – забормотал Дрягалов. Он не знал, о чем говорить, но молчать было совсем уже совестно. Это выходило похожим на то, как молчит мальчишка-рассыльный, с которого хозяин взыскивает за леность.
– Вы, кажется, недавно из Парижа? – неожиданно спросил чиновник.
– Нынче только вернулся, – нисколько не удивляясь, и при этом неожиданно для самого себя безвольно, ответил Дрягалов. Он уже окончательно смирился с тем, что в этом учреждении про него известно как есть все. Ни один старец-монах, будь он хоть самым прозорливым и вдохновенным, не расскажет о человеке столько, сколько знают о нем, о Василии Никифоровиче, здесь, в охранке!
– С сыном вернулись мы. Вдвоем, – зачем-то добавил Дрягалов.
– И что Париж? – живо поинтересовался чиновник.
Париж, на самом деле, заботил его не более летошнего снега.
Но он верно уловил в ответах Дрягалова, и особенно в последней его реплике, какую-то неуверенность и заговорил о пустяках единственно для того, чтобы помочь ему взять себя в руки.
– Да, право сказать… не по мне все… – охотнее уже отвечал Дрягалов. – Хотя… что город, то норов. На всех и солнышко не угодит.
– А знаете, – подхватил чиновник, – я был там два года тому назад. Ну, тогда, на выставке. Помните? И у меня Париж, представьте, вызвал те же ощущения. Народ, народ кругом, толчея, суета. Я за две недели этого отдыха так называемого утомился сильнее, чем за год службы в нашей тихой Москве.
Дрягалов согласно кивнул.
– А как там наша Мария Носенкова поживает? – перешел чиновник уже ближе к делу.
– Живет помаленьку.
– Как чувствует себя малышка?
– Благодарствуйте. Тоже слава богу.
– Вот и хорошо. Все же, что ни говори, а там жить спокойнее. Не так ли?
Намек на Машенькино беспокойное прошлое был Дрягалову понятен. Понятно было также и то, что теперь придется говорить о скором ее возвращении, с дитем вместе, в Москву, чего вначале он не собирался делать. Здесь об этом все равно узнают в свой срок, так лучше уж самому сказать, чтобы потом не было повода у этого всеведущего их благородия думать, будто он, Дрягалов, хитрит с ним при случае. И он ответил:
– Да как сказать… Я вот решил их в Москву перевезти. Поближе…
– В Москву? – Чиновник верно почувствовал, что здесь имеется какая-то важная и для него небезынтересная причина. – Не знаю, могу ли я быть вам в этом советчиком, это уже как бы… ваше внутрисемейное дело, но, мне кажется, непредусмотрительно так скоро вновь возвращать Носенкову в ту среду, из которой вы ее недавно только вывели. Впрочем, повторяю, вам виднее, конечно.
Дрягалов решился уже быть откровенным до конца и рассказал все об инциденте с Руткиным в Париже, после чего он, естественным образом, не рискнул оставлять там Машеньку. У них не получилось уехать вместе, но на днях они и одни приедут.
Внимательно все выслушав, чиновник нашел такое решение Дрягалова разумным. А о Руткине и его похождениях там, за границей, ему, оказывается, было почти все известно.
– Французская полиция доводит до нашего сведения некоторые подробности о русских эмигрантах, – сказал он. – В частности, об этом субъекте мы кое-что узнали. Французы характеризуют его просто как уголовника. Да, да, обыкновенного мелкого жулика. Согласитесь, забавно это получается – вчерашний социалист, демократ, этакий самодеятельный борец со всевозможными общественными пороками обернулся жалким воришкой. Да еще и вымогателем, как вы сейчас сказали. Вот это и есть их сущность. Во всяком случае, большинства из них.
Дрягалов опять согласно покивал.
– Но что про него говорить, – продолжал чиновник. – Это теперь не наша забота, – как-то подчеркнуто сказал он. – А я вот о чем хотел поговорить с вами, Василий Никифорович: видите ли, я подумал и решил, что нам с вами, наверное, больше сотрудничать не следует. Вы нам помогаете уже довольно долго. С одной стороны, я вижу, какие неудобства это вам доставляет. С другой же стороны, не хочу пугать, но дальнейшее сотрудничество становится для вас небезопасным. Я говорил вам: они тоже иногда распознают… – чиновник замялся, подыскивая, как бы заменить едва не сорвавшееся слово «провокатор», – распознают чужих. Так что давайте останемся с вами просто знакомыми, если пожелаете. А с кружком, я думаю, вам порвать будет совсем несложно: достаточно только дать понять, что вы впредь отказываете им ссужать, и они сами вас позабудут. Как вы считаете?
– Все верно, – согласился Дрягалов.
– Вот и хорошо. Значит, так и решим. Единственное, попрошу вас об одном одолжении. Понимаете, в чем дело… Этого вашего шурина, – я правильно говорю: шурина? – Самородова с его приятелем Мещериным, по всей видимости, теперь исключат из университета. В лучшем случае с правом восстановления когда-нибудь. Полицейские, разумеется, не преминули донести о них университетскому начальству. А министр просвещения, как вы, может быть, знаете, завел очень строгие порядки в отношении неблагонадежных студентов. Так вот, я бы попросил вас приютить их обоих. Ну то есть оставить их у себя. Например, домашними учителями. Свидетельства для них мы сделаем. И пусть они поживут у вас лето. Вы, помнится, говорили, что у вас за городом имеется дача?
– В Кунцеве, – запросто подтвердил Дрягалов.
– Порядочный дом?
– Да, думаю, комнат о пятнадцати…
– Вот и прекрасно! Поселите их там. И главное, настрого запретите им выезжать за пределы Кунцева. А чтобы они вас не заподозрили ни в чем таком, мы возьмем с них письменное обязательство в течение года не появляться в столицах. Все будет выглядеть естественно и складно. Вам же нужно будет внимательно следить, чтобы они никуда не отлучались, и если кто-то из кружка навестит их, немедленно сообщить об этом сюда, в охранное отделение. Сами не приезжайте – пошлите человека. Вот, собственно, и есть вся моя к вам просьба.
Ни о чем расспрашивать Дрягалов не стал. Понятно, их благородие придумал какую-то хитрость с двумя мальчонками, потому как расчет имеет. Ему ли расчета не иметь! Такому-то пролазе! Только как бы через это хуже ребятам не вышло. А то, глядишь, и под монастырь их подведут. Он хотя нутром и кроток, вроде блаженного, а все одно состоит в государевой службе и блюдет не только единый закон, но, верно, и свой интерес – так рассуждал Дрягалов. А какой ему интерес то и дело спускать ослушникам царева закона? Никакого. Стало быть, есть расчет! Есть. Как в тот раз был, так и нынче. Только нынче совсем уж мудреный расчет его. Не понять так вдруг. Но делать нечего. Не он в нашей – мы в его воле, думал Василий Никифорович. В результате он пообещал чиновнику исполнить все, о чем тот его просил, но себе заметил быть теперь много усерднее в попечении своего новоявленного шурина и заодно его товарища. На том они и расстались.
Едва Дрягалов ушел, Викентий Викентиевич дал распоряжение подчиненным выпустить завтра арестованных студентов. И еще он велел срочно купить ему билет в Париж на ближайший поезд.
Действительно, на следующий день Мещерин и Самородов были отпущены и отправились под дрягаловский надзор на его роскошную дачу в Кунцево. Настроение у них было превосходное. В полной уверенности, что они обвели вокруг пальца всю тупоголовую российскую полицию, Мещерин и Самородов уже строили планы, как они будут дальше вести свою благородную борьбу за счастье человечества. Их исключили из университета? – что за беда! – они только вчера прошли уже один университет. И, надо думать, не последний. Их выслали из Москвы? – прекрасно! – для революционера быть высланным естественное состояние. Зато как это упоительно будет пробираться иногда, по делам кружка, в Белокаменную под носом у полиции и вопреки их запретам! Одним словом, жизнь прекрасна, и печалиться нет оснований.
Вначале, правда, Самородова смущало то обстоятельство, что он попадает почти в полную зависимость от Старика. Его как будто усыновляют. Но сомнения относительно того, пристойно ли ему будет жить в доме Дрягалова, причем на полном пансионе, быстро разрешились в пользу такого жительства. Дрягалов сказал, что это только воля самой Марьи Лексевны. И что не сегодня завтра она будет в Москве и осерчает тогда, коли они не исполнят ее наказа. А Мещерин еще и друга убедил не стесняться этим иждивенством. Если Старик и в самом деле заинтересован, чтобы они занимались с его сыном науками, говорил он Алексею, то они, безусловно, проявят в этом отменное усердие. И считать их нахлебниками ни в коем случае не придется.
Но больше всего жизнь на природе – в глуши! – прельщала друзей своею многообещающею романтическою неведомостью. Кипучее юношеское воображение живописало им самые восхитительные приключения, ожидающие их на даче. Чего только там не будет! И охота на каких-то зверей по темным лесам, и катания на лодках, и скачки взапуски, и ночные философствования в саду, под звездами. И, конечно, роман. Как же это лето на даче может быть без романа? И далее в таком духе.
С ними на дачу Дрягалов отправил кухарку, на которую возлагалось еще и прислуживать господам бывшим студентам, но главное – наблюдать за ними и решительно обо всем докладывать хозяину. Диму он обещался привезти к ним вместе с Машенькой, лишь только она возвратится в Москву.
Мало-мало разобравшись с беспокойною молодежью, Дрягалов вернулся к своим обычным занятиям. Его магазины требовали пристального хозяйского присмотра. Иначе дела могли разладиться. А дела торговые для Дрягалова были на первом месте. Поэтому он денно и нощно пропадал теперь в главной своей конторе, при магазине на Тверской.
Известие о катастрофе в Париже дошло до Дрягалова только спустя почти неделю. С Машенькой вовсе сделался припадок, лишивший ее возможности что-либо предпринимать самостоятельно. Годары из опасения, как бы с ней не вышла горячка, уложили Машеньку в постель и пригласили для нее, помимо горничной Зины, еще опытную сиделку, категорически наказав той не спускать глаз с больной и не позволять ей подниматься в ближайшие дни. Они, само собою, прекрасно понимали, что требуется поскорее сообщить о случившемся Дрягалову. Но изощренная французская щепетильность удержала их от этого. Годары рассудили, что просто так телеграфировать в Москву будет неделикатно. Это нужно передать как-то более участливо. И тогда Паскаль вызвался немедленно отправиться к несчастному русскому другу и лично поведать ему о беде. Они с Клодеттой хотели даже в связи с такими обстоятельствами перенести их свадьбу на более поздний срок, но против этого очень возражали мэтр Годар с супругой, потому что о свадьбе было объявлено уже всему Парижу да и Машенька воспротивилась такой жертве самым решительным образом. Но уже, отпраздновав свадьбу, Паскаль тотчас выехал в Москву, причем Клодетта наказала ему уделить времени попавшим в беду русским друзьям столько, сколько будет необходимо.
На другой день, после похищения Людочки, рано утром, слуга Годаров обнаружил на дорожке возле калитки письмо, вероятно, кем-то подброшенное ночью. Поскольку письмо было адресовано к Дрягалову, то, естественно, оно оказалось ужены выбывшего адресата. Так благорассудили Годары. Последствия это имело весьма печальные. Машенька, едва-едва опомнившись от вчерашнего потрясения, прочитав письмо, вконец занемогла. У нее, впрочем, нашлось сил сделать французский перевод этого письма и переписать его еще по-русски. После чего Паскаль отнес письмо, вместе с переводом, в полицию, а русскую копию Машенька попросила его взять с собой в Москву и передать там ее Василию Никифоровичу.
Дрягалов вначале почти безучастно отнесся к словам посыльного от Димы о том, что к ним пожаловали гости из города Парижа. Ну приехала, промелькнуло у него, и слава богу. Вечером увидимся. Теперь недосуг. Но лишь только человек заикнулся, что гость всего один, к тому же француз, а Марья Алексеевна с дитем не приехала вовсе, Дрягалов тотчас побросал все дела и, смущенный, поспешил домой.
Рассказ Паскаля Дрягалов выслушал с покорностью Иова. Он ничего не ответил. Он взял письмо и, тяжело ступая, ушел к себе. Много всякого ему преподносила судьба. Не один только успех, но довольно и бед он знал на своем веку. Он детей своих перехоронил столько, что впору со счету сбиться. А сколько раз обворовывали его, по миру чуть не пустили как-то. Чего только не было. Но такого с ним не случалось еще никогда. Ему, человеку бывалому, в самом воображении своем даже такое не представлялось. Превосходило все его понятия.
Вот что ему отписал Руткин: «Г-н Дрягалов. Наша с вами последняя встреча делает невозможным мне больше быть к вам расположенным. Мое терпение все вышло. Не захотели вы условиться по-хорошему, пеняйте на себя. А я только поступил наподобие вашего. Как вы обираете людей нещадно и детей несчастных, между прочим, так и вам поделом. Это я увез вашу дочку. Ловко у меня со товарищи это как вышло! Глупая нянька не успела охнуть, как у ней из-под носа увезли дите. Гоните ее прочь. Пусть вон в работницы идет в фабрику или в проститутки. А дочку вашу мы спрятали так, что не найти ее вам, коли не договоримся по-хорошему. Вы, ежели о дочке страдаете, как бы она не пропала без вести, извольте хорошо заплатить. Приготовьте 50 тысяч франков. На днях зайдет от меня человек и заберет. А уже тогда я вам скажу, где она. Только не выдумывайте сообщать об этом в полицию. Вашей же дочке будет хуже. Вам надобно знать, что ежели пропаду я, пропадет и она. Вам ее все равно не найти. А там, где она содержится, ей хорошо не будет. Это нищенская семья, пьяницы. Она всю жизнь будет в нужде, в голоде. Так что вам резон смириться и делать, как вам говорят. А я еще подумаю, отдавать вам девочку или не отдавать. Ненависть моя к вам так велика, что мне лучше остаться без денег вовсе, но не отдавать вам девочку, чтобы больше вам досадить. Вы весь в моих руках. Как пожелаю, так и будет. Какие идиоты этот кружок! Только болтают о революции который год. А я уже сделал революцию. Я победил капитал и подчинил его себе. Вот как надо. Я оказался умнее и ловчее всех. Берегитесь со мною связываться! Я еще и не такое могу!!! J. R.».
Конфуз был полный. Он, Дрягалов, оказался бессильным! И перед кем?! – срамно сказать! – перед каким-то гнусным смердюком! Дожил, Василий Никифорович! Он теперь даже убить этого упыря не может. Настолько в зависимости от него. Дрягалову подумалось: а, верно, постарел я, отстал от жизни. Молодежь-то вона переступает лихо, через чего мне ни в жизнь не переступить. Ни прежде, ни теперь. Никогда. Уходит, уходит наше время. А молодежь эта позубастее нашего будет. Верно, верно.
В записке этой, более всех руткинских угроз к самому ли к нему или даже к несчастной малышке, Дрягал ова обожгло его пожелание в адрес Зины. Вот вы чего желаете русским людям! Даново колено! Дрягалов заскрипел зубами: «Так не бывать же этому! Зину-то я вам нипочем не выдам! Пока жив – не выдам!»
Уничтоженный невиданною бедой и в не меньшей мере потрясенный от внезапного осознания своей небывалой немощи, Дрягалов не выходил на люди до самого вечера. К нему же зайти не рискнул никто. Даже Дима.
Василий Никифорович все сидел у себя и разглаживал на столе роковую бумажку на которой драгоценною Машенькиною рукой ему был выписан форменный приговор. Наконец, он позвал к себе Диму и велел ему завтра утром взять в «Лионском кредите» пятьдесят тысяч франков и передать их Паскалю.
Дрягалов понимал, что поступает и малодушно, и глупо. Не по-дрягаловски.Уступить шантажу всегда означало лишь попустить шантажисту. Это он знал не понаслышке. Когда-то уже пришлось на таком обжечься. И все равно он уступил. Поскольку ничего лучшего не сумел придумать. Да и не старался особенно придумывать что-то. Опустились руки у Василия Никифоровича.
В результате все получилось как не бывает хуже.
Паскаль, пообещав, как настаивали отец и сын Дрягаловы, непременно вернуться в Москву и погостить, сколько душа пожелает, уехал с выкупными на родину.
А дальше все происходило по руткинскому плану. К Годарам на Пиренейскую улицу пришел человек, очевидно, той же породы, что и сам Руткин, и, прежде чем взять деньги, предупредил, что, если он окажется в полиции, о девочке можно будет забыть. А если родственники будут благоразумными, то уже завтра она обнаружится в одном из парижских приютов с соответствующей запиской под ленточкой. «Благослови вас Бог», – все говорила, расчувствовавшись, еще очень слабенькая, но воспрянувшая духом Машенька, провожая проходимца с туго набитыми карманами до калитки. Он ушел. Людочка же, разумеется, ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, ни в приютах, ни еще где-либо не обнаружилась. Как справедливо заметил мэтр Годар Машеньке, известия о ее дочке появятся теперь, наверное, тогда, когда у соотечественника, – подчеркнул адвокат, – выйдут все деньги.
На всякий случай помаявшись в Париже, в ожидании чуда, еще несколько дней, Машенька, в сопровождении Паскаля, уехала в Москву. Она, словно тяжко заболела – изменилась за это короткое время настолько, что Дрягалов, увидев ее, поник головой, и две слезы – не более – соскользнули ему в бороду.
Глава 12
В июне Москва наполняется вдруг множеством белых фартучков. Их можно повстречать в эти дни везде: у Кремля, на бульварах, в парках, на прудах, в вагонах конки. Почти никогда поодиночке, а всё по двое, по трое, большими группами, чаще без провожатых, но иногда и с кавалерами в небрежно накинутых студенческих тужурках. И всюду слышен их звонкий и чистый, как лесной ручеек, смех, отовсюду доносится их непрестанное щебетанье. Это означает, что учебный год в Москве завершился, и счастливые старшеклассницы празднуют окончание своих гимназий.
В 4-й женской гимназии по случаю завершения учебного года и выдачи аттестатов и наград воспитанницам, окончившим курс, проходило торжественное собрание. Сборный зал гимназии был полон. Весь год учителя, классные дамы и прежде других сама начальница усердно, как это им предписывалось, удаляли от девиц всякий так называемый ложный блеск, могущий оказать на их не окрепшие еще против соблазнов юные натуры вредоносное влияние. И порою случалось, что единственная только улыбка воспитанницы, оцененная особенно ревнивыми наставниками как фривольное поведение, могла послужить причиной для наказания этой воспитанницы. Такое бывало. Но сегодня лорнеты и pince-nez наставников были добры к воспитанницам. Или, вернее сказать, сегодня, в виду собравшихся гостей, они жеманно рисовались добрыми и сверкали в сторону девиц елейными улыбочками. А между тем ложного, с точки зрения строгих педелей, блеска вокруг имелось в избытке. Одни дамские туалеты чего стоили. Это был настоящий праздник роскоши и мод. И, разумеется, всех роскошнее и моднее оказался туалет несравненной Натальи Кирилловны Епанечниковой. От огромных черепаховых шпилек в волосах до самых туфелек, все на ней было «Lе derniercri» [22]. Бесспорная царица торжества, она находилась в центре внимания собравшихся, и особенно воспитанниц. Ее наряд производил на девиц совершенно умоисступительное впечатление. Все они прекрасно знали, кто эта дама, и очень завидовали Леночке. А Наталья Кирилловна действительно подготовилась к этому дню основательно. Все ее портнихи и модистки просто-таки попадали в изнеможении по окончании работ. Ее же неисчерпаемой энергии достало не только на создание собственного нового пышного убранства, но и на изобретение оригинальных костюмов для детей – Сережи и Кирилла. Мальчики, как лейб-пажи, стояли по сторонам от своей царственной матушки, наряженные маленькими гусарами. И, надо сказать, смотрелись они при Наталье Кирилловне очаровательно. Даже Сергей Константинович, всегда относившийся к нарядопоклонничеству супруги, как к почти безобидной ребячьей шалости, то есть снисходительно, остался на этот раз очень доволен ее трудами. Но еще более он ликовал в душе оттого, что на днях ему удалось предотвратить совсем уж откровенное чудачество супруги, едва не исполненное ею в угоду все той же моде. Вычитав в каких-то там своих журналах, что у американских великосветских дам высшим шиком теперь стало наносить на тело татуировку, Наталья Кирилловна возжелала иметь вышеозначенное украшение у себя на самом бюсте. И она так идеей загорелась, что Сергею Константиновичу стоило немалого труда убедить ее этого не делать. Ее нисколько не смущала мучительная операция по нанесению татуировки на тело. Подействовал на нее лишь последний аргумент Сергея Константиновича. Он сказал, что столь эксцентричная мода не может быть долговечна. Рано или поздно, во всяком случае, татуировка из моды выйдет. И как нелегко тогда придется человеку, нанесшему уже на тело рисунок. Ведь это не брошка какая-нибудь, чтобы ее так запросто с себя снять. Почему обладатель татуировки в будущем рискует прослыть человеком отсталым, немодным. Услыхав, что она когда-то может прослыть дамой немодною, Наталья Кирилловна отказалась от своей чересчур смелой затеи.
Кроме родителей воспитанниц и учителей присутствовали здесь также и члены попечительского совета гимназии и разные прочие достойные и высокого звания люди, как то: инспектор классов, представители от ведомства императрицы Марии, опекуны и другие. И все это в золотом шитье, в орденах, в муаре. Одним словом, парад и только был сегодня в гимназии.
Но как ни импозантно выглядело это пышное собрание, все же краше самих воспитанниц, хотя и в скромных своих ученических платьицах, ничего здесь не было. Да и что, вообще, может быть краше старшеклассницы-гимназистки, хотелось бы знать?
На всех торжествах, бывших в гимназии, Лена и Таня, сколько они дружили, всегда стояли рядышком, локоток к локотку, и лишь сегодня, впервые, подруги были поодаль одна от другой. Обе они страшно стыдились этой своей размолвки и страдали. Но первою ни та, ни другая не решалась попытаться примириться. Так они и томились – стояли, разделенные доброю дюжиной других девиц, и старались не встречаться взглядами.
Между тем празднество шло своим чередом. Первое слово к воспитанницам, как обычно, имел законоучитель. Девушки насторожились. Им была хорошо известна удивительнейшая способность отца Петра в своих речах к ним говорить нечто такое, в чем каждая из них именно в этот момент нуждалась. Иных просто жуть охватывала: зачем он об этом говорит?! почему может знать?! Причем это случалось и на уроках, когда какая-нибудь воспитанница вдруг принималась плакать. Без видимой, казалось бы, причины. Батюшка относился к подобному сочувственно всегда. И деликатно, не показывая виду, как он понимает, что слова его глубоко проникли в алчущую душу, умилили и насытили ее, утешал плачущую. Вот и теперь девицы приготовились услышать от любимого своего преподавателя ответы на свои насущные душевные потребности, о которых он самым непостижимым образом всегда знал.
Священник вышел на середину зала, погладил бородку, поправил крестик и высоким размеренным голоском начал свою речь.
– Дорогие мои милые дети, – сказал отец Петр, заулыбавшись на не совсем теперь уместное, но такое привычное слово «дети», – прощаясь с вами и искренне желая вам быть счастливыми в жизни, я, прежде всего, прошу вас не забывать вашего первейшего, святого женского призвания: быть истинными помощницами мужей, достойными матерями семейства и воспитательницами детей в вере и любви к отечеству. Вот подлинный идеал! Вот высокое назначение женщины! В основе своей идеал этот так прост и так естественен для вас, что в каждом звании и состоянии, которые Господь назначит уделом вашей жизни, всегда возможно достигнуть его.
Вы покидаете сегодня гимназию, в которой провели немалые и, уверяю вас, счастливейшие годы. Что вы принесете отсюда с собою в мир? какие нетленные ценности? Я нисколько не сомневаюсь, что этими ценностями стали для вас те дорогие начала, в которых вы воспитывались в этих стенах, – любовь к Богу и освещаемая ею любовь к людям. Будете ли вы жить некоторое время еще в семействе ваших родителей, отрешитесь от малейшей требовательности, а старайтесь скромностью достохвальною, добротою и послушанием быть отрадою и успокоением для них. Обязательно помогайте в хозяйстве и во всех делах семьи и таким образом постепенно приучайтесь к самостоятельной семейной жизни. Никогда не бегайте работы, а ищите ее – чтобы не оказаться вам лишним членом семьи, чтобы не отвыкнуть от деятельности и не охладеть в энергии к ней. Усвойте отныне и навсегда мудрость народную: «Делу – время, а потехе – час». Запомните – час! не более! И исполняйте эту мудрость неукоснительно и вовеки.
Захотите ли вы продолжать свое образование в эстетическом или научном отношениях, никогда не забывайте, что одно научное или эстетическое образование не может принести ожидаемой пользы, а напротив – или сделает вас односторонними, или оторвет от прямого вашего назначения, если вы не будете вместе с тем воспитывать себя в религиозном и нравственном отношениях, если вместе с приобретением знаний не постараетесь более и более отвечать назначению истинно образованных христианок. Учеными быть легче, чем христиански глубоко любящими людьми.
Если же вашею долей будет воспитание и обучение детей, то приложите все свое старание и усердие, чтобы не сделать из этого великого, из этого святого дела механического и малоосмысленного труда, но чтобы вверяемые вам дети чувствовали бы неотразимое влияние на себе ваших добрых внушений, чтобы ваша доброта и любовь привязали их к вам, чтобы дети видели в вас для себя образец не только на уроках, но и во всей вашей жизни и поведении. Учите детей вместе с словом и самим делом так, чтобы ваше слово находило себе подтверждение на деле, и ваши требования от детей имели бы для себя ближайший и наилучший пример в вас самих. Невинное чувство ребенка настолько остро, и непотемненный страстями ум его настолько проницателен, что он всегда подметит, когда дело его воспитания и обучения идет вполне искренно и честно и когда подкладкою его служат фальшь и ложь. И слишком тяжелая ответственность лежит на тех воспитательницах и учительницах, которые с ранних лет приучают вверенных их попечению детей к этой пустой формальности, к этой фальши и лжи! Из таких детей никогда не выйдет добрых и честных граждан, напротив, лицемерие, более или менее механическое исполнение обязанностей, пренебрежение честным и бескорыстным трудом – вот что будет выражаться в их жизни и деятельности. Помните! – отцы и матери вверяют вам души своих детей, а душам детей не найдете вы цены. Благоговейте же пред своим великим, пред своим святым служением обществу!
Если, наконец, Господь призовет вас к жизни супружеской и благословит быть матерями семейств, то свято чтите учрежденный самим Богом брачный союз и твердо помните, что семейство есть малое государство и что общее доброе направление и благоустройство семейств обеспечивает крепость и благоденствие самого государства. Старайтесь быть истинными женами – помощницами своих мужей, не поставляйте целью своей жизни богатые наряды, выезды в свет и удовольствия, но живите так, чтобы ваша любовь и ваша ласка, ваш привет и неподдельная прелесть домашнего очага служили бы истинною поддержкою и отрадою для ваших мужей, одушевляли бы их на новые и высшие труды для блага и пользы отечества, вносили бы в их жизнь и в жизнь всего вашего семейства царство любви и счастья, мира и добра. Как матери семейств, вы должны быть привязаны к своему дому, следить за развитием своих детей, внедрять в них основное учение веры и правила христианской жизни и нравственности, помогать их развитию и укреплению в добре. Религия есть чувство сердца, и кто способнее матери говорить дитяти от сердца к сердцу! Вот почему, между прочим, так высоко поставлено нашим мудрым правительством дело религиозного образования в женских учебных заведениях. Если матери укрепят детей своих в основных началах веры и нравственности, внушат им любовь и уважение к старшим, заставят их свято чтить родительскую волю, то они на всю жизнь положат в детях прочное основание всего их будущего благоденствия и сделают из них наилучших граждан для дорогого своего отечества. Любовь и уважение к семейству естественно приучат детей к любви и уважению к своему отечеству, почтение к старшим и непременное исполнение их воли заставит детей впредь свято чтить и исполнять законы государственные. Ум и сердце, утвержденные в правилах веры и нравственности, навсегда сделают из них самых трудолюбивых, добрых и честных граждан и вместе лучших христиан.
Я неслучайно несколько раз уже упомянул о государственной пользе. Ибо смыслом всей вашей жизни, на каком бы поприще вы ни подвизались, должно стать беззаветное служение возлюбленному нашему Российскому государству. Прежде чем приняться за какое-то дело, всегда подумайте: а какова будет польза от него отечеству? – и если пользы нет, то даже не беритесь за него, не расходуйте на это дело, а вернее сказать – безделье, своего драгоценного времени. Помните, что такое есть наше богоспасаемое отечество, наша матушка Россия, – мы же об этом с вами не однажды говорили, – это особенная, единственная страна, которая противопоставлена всему остальному миру, как твердь небесная противопоставлена тверди земной. Наш народ, в значительной своей массе, не собирает, подобно другим народам, сокровищ на земле, но собирает их на небе, почему русские люди и приближены к небесам более других. Помните и об этом. И не уроните никогда эту русскую славу в делах ли ваших или в поступках.
Заканчивая свое напутствие, я хочу пожелать вам, вступающим в более обширный, чем прежде, круг жизни, не расставаться, быть вместе! Пусть вашими взаимными отношениями на всю жизнь останутся уважение друг к другу, любовь и дружба, взаимная помощь, поддержка и охранение товарища в трудных обстоятельствах, как своего брата. И пусть черные эгоистические чувства да не запятнают никогда больше вашей жизни. Да благословит же вас Господь! Будьте счастливы!
Отец Петр перекрестил воспитанниц, неловко как-то помялся, не то, подумав, еще им и поклониться, не то благословить и гостей, но делать, однако, ни того, ни другого не стал и возвратился на место.
Вслед за законоучителем пошли говорить разные уважаемые люди из числа гостей и родителей воспитанниц. Разумеется, выступил с речью и Александр Иосифович Казаринов. Он не был краток. Он говорил долго и красочно. Пожелав, что полагается, девицам, он от лица родителей очень сердечно и пространно еще благодарил и учителей, и начальницу гимназии, и попечителей, и опекунов, и инспектора классов, и, наконец, самую государственную власть за ее беспрестанное радение о народном просвещении. В заключение Александр Иосифович поклонился императору и тогда удалился, приниженный и не пряча заблестевших влагою глаз.
Наконец все уважаемые люди наговорились. И, после короткой заминки, началось собственно главное действо. Воспитанниц стали поочередно вызывать и вручать им аттестаты и Евангелия. Всякий выход приветствовался рукоплесканиями собравшихся. Объявленная выпускная, обыкновенно покраснев и опустив глазки, подхватывала юбку и семенила к председателю попечительского совета, который, отчаянно силясь не показать виду, как у него уже ломит в скулах от долгой беспрерывной улыбки, вручал воспитанницам все, что следовало.
Но с особенным воодушевлением и председатель, и все прочие встречали двух воспитанниц, за оказанные отличные успехи в предметах удостоенных медалей. Это были известные всей гимназии неразлучные подруги Лена Епанечникова и Таня Казаринова.
Быть неразлучными, казалось, им предназначалось самою судьбой. Лена и Таня в списках учениц своего класса находились рядом, потому что не было в их классе никого с фамилией на букву между «Е» и «К». И когда учениц перечисляли по списку, тотчас вслед за Леной называли Таню. Естественно, и теперь Таню объявили ровно следом за подругой.
Взволнованная Леночка с медалью и прочим еще не успела вернуться на место, когда к председателю направилась Таня. Девочки поравнялись где-то на середине зала и не удержались и встретились взглядами. И немедленно их размолвке наступил конец. Им стало ясно: все позади, и они по-прежнему лучшие подруги.
А окончательное их примирение, скрепленное к тому же нежными объятиями, произошло спустя полчаса, когда, по окончании торжества, счастливые семьи Казариновых и Епанечниковых сошлись, чтобы засвидетельствовать обоюдное почтение.
Александр Иосифович едва-едва поцеловав пальчики Наталье Кирилловне и наскоро пожав руку Сергею Константиновичу, в самых восторженных выражениях принялся рекомендовать Епанечниковым нового их члена семьи, так сказать, виновницу установившегося в доме благорастворения воздухов m-lle Рашель.
Пока Епанечниковы, и, между прочим, Сережа с Кириллом, заинтересованно слушали, как Александр Иосифович живописует добродетели Таниной компаньонки – странной француженки, похожей на старую, полинялую, с нарисованным лицом куклу, Лена и Таня, оставленные вниманием взрослых, немедленно подошли друг к другу и наконец-то обнялись. Первою заговорила более отходчивая и ласковая Леночка.
– Таня, – сказала она, – давай не будем больше ссориться…
– Давай… – прошептала, не поднимая глаз, Таня. – Прости меня, пожалуйста, любимая моя Леночка… Я такая…
– Не нужно больше об этом, Таня. Это все прошло. Давай думать теперь только о будущем. Ты слышала, что сказал батюшка: мы должны с любовью относиться друг к другу, дружить, помогать, быть вместе. И чтобы черные эгоистические чувства никогда больше нами не овладевали. Никогда!
Таня ничего не ответила, только по-детски согласно закивала и еще крепче прижала к себе Леночку. Как и в давешнее их свидание у Тани дома, они теперь не проронили ни слезинки, хотя кругом в зале многие воспитанницы навзрыд оплакивали расставание с гимназией, и, захоти только Лена с Таней последовать их примеру, это никому не показалось бы странным. Впрочем, девицы остаются девицами. И ничего девическое им не чуждо. Кто-то вдруг их окликнул. Они оглянулись и увидели идущих к ним Надю Лекомцеву со своею мамой, генеральшей Елизаветой Андреевной. И тут подруги, словно одурев, бросились к Наде, облепили ее со всех сторон и совершенно разрыдались. И, конечно, соблазнили и Надю. Так они и стояли втроем, уткнувшись лицами в плечи друг другу, и лили бестолковые свои женские слезы.
Наконец они наплакались вволю. На лицах их, как солнышко из-за тучек, забрезжили улыбки, и не успели еще просохнуть слезы, как девицы уже и развеселились.
Вокруг них стояли умиленные родные и любовались повзрослевшими своими чадами, плачущими, совсем как маленькие беспомощные дети.
Александр Иосифович, увидев, что сантименты все вышли, вновь взял инициативу в свои руки. Обняв за плечи девиц, он сказал:
– Господа! Сергей Константинович! Елизавета Андреевна! прошу всех нынче же быть у нас. Да что нынче! – теперь едем!
И, показывая, что решение его окончательное и не подлежит какому-либо обсуждению, он взял под ручки Надю и Леночку и повел их на выход. Все прочие, польщенные непринужденным обхождением Александра Иосифовича с их дочерьми и, в общем-то, довольные его неожиданным предложением и особенно его умением распорядиться быстро, без церемоний, потянулись за ним.
Вторая часть Заботы семейные
Глава 1
Самая ожидаемая, самая, казалось бы, неизбежная война все равно приходит неожиданно: любой нормальный человек в душе до последнего мгновения надеется, что обойдется, что минует лихо, погрозятся дипломаты и генералы друг другу, постращают своею готовностью сейчас ополчиться на супротивника, коли потребуется, – такая уж это служба у них, – да и отступятся, замирятся. И хотя в России не было единого поколения, на долю которого не выпало бы войны, а то и двух, но человеческая натура – что ли, так она устроена? – все никак не свыкнется с тем, что военного лихолетья из жизни не избыть, не миновать.
Как ни очевидно было для всех, что империя в последние месяцы перед 1904 годом и особенно в первые дни нового года с нарастающим ускорением приближалась к военному разрешению противостояния со своим восточным соседом, все-таки многие, даже большинство, потерялись, оторопели, как от нечаянного расплоха, когда утром 29 января узнали – война таки объявлена! Во всех российских газетах в этот день был напечатан «Высочайший манифест»:
Божиею поспешествующею милостию, Мы, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигалъский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Пслотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северной страны Повелитель; и Государь Иверские, Карталинские и Кабардинские земли и области Арменские, Черкасских и Горских Князей и иных наследный Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всем Нашим верным подданным:
в заботах о сохранении дорогого сердцу Нашему мира, Нами были приложены все усилия для упрочения спокойствия на Дальнем Востоке. В сих миролюбивых целях Мы изъявили согласие на предложенный Японским Правительством пересмотр существовавших между обеими Империями соглашений по Корейским делам. Возбужденные по сему предмету переговоры не были однако приведены к окончанию, и Япония, не выждав даже получения последних ответных предложений Правительства Нашего, известила о прекращении переговоров и разрыве дипломатических сношений с Россиею.
Не предупредив о том, что перерыв таковых сношений знаменует собою открытие военных действий, Японское Правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать Нашу эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артура.
По получении о сем донесения наместника Нашего на Дальнем Востоке, Мы тотчас же повелели вооруженною силою ответить на вызов Японии.
Объявляя о таковом решении Нашем, Мы с непоколебимою верою в помощь Всевышнего и в твердом уповании на единодушную готовность всех верноподданных Наших подданных встать вместе с Нами на защиту Отечества, призываем благословение Божие на доблестные Наши войска армии и флота.
Дан в Санкт-Петербурге в двадцать седьмой день января, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот четвертое, Царствования же Нашего в десятое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества ргукою написано: «НИКОЛАЙ».
Но, как это обычно бывает, когда наступившая беда воспринимается избавлением от тягостного, нестерпимее самой беды, ее ожидания, объявление войны принесло всем сильнейший душевный подъем. Был четверг. Но почти никто в этот день не приступил к своим повседневным занятиям. Всем захотелось вдруг сплотиться в единую силу. И люди, не сговариваясь, не по оклику начальной власти, а истинно по зову сердца, вышли на улицу.
В Москве, на Тверской, перед домом генерал-губернатора собралась многотысячная толпа верноподданных подданных.В руках у многих были иконы, портреты Их Императорских Величеств – государя императора и государыни императрицы, над головами развевались национальные флаги. Это было редкостное смешение различных сословий и состояний: здесь рядом с мастеровыми стояли шикарно одетые франты, бобровые шапки и собольи воротники соседствовали с собачьими треухами и овчинными тулупами, дамские шляпки – со студенческими фуражками. Площадь гудела. Все возмущались давешнею атакой японских миноносок, гневно осуждали вероломных «макак» и с удовольствием живописали, как Россия ужо разделается с ними. То тут, то там слышалось одно и то же выражение: «На начинающего – Бог!» Какой-то человек в запотевшем пенсне и в сбившейся набок шапке размахивал газетой и кричал: «Господа! Государь повелел ответить неприятелю вооруженною силою! Вы читали, господа? – вооруженною силою!» Где-то ближе к губернаторскому дому в очередной раз запели народный гимн, и тотчас вся площадь подхватила: «…Царствуй на страх врагам! царь православный! Боже! царя-а-а, царя-а-а хра-а-ани-и-и!» Едва кончили петь, из окна «Дрездена» кто-то закричал «Ура!», и вся площадь тоже единым духом выдохнула: «Ура-а-а!» И тут на балкон вышел сам генерал-губернатор – великий князь Сергей Александрович с женой великой княгиней Елизаветой Федоровной. Губернатор был в шинели, с георгиевскою ленточкой, приколотой к пуговице, и в александровской низкой мерлушковой папахе. Елизавета Федоровна – вся в белом. Толпа взревела. Полетели шапки в воздух. Сергей Александрович подождал некоторое время, потом слегка приподнял руку, призывая народ успокоиться, и, когда площадь примолкла, громко сказал: «Спасибо, братцы! О ваших чувствах я доложу государю императору!» Тут уже все просто с ума посходили от счастья, от любви к государю императору, к великому князю, от чаяния неминуемой скорой победы: иные неистово вопили «ура!», иные обнимались, иные плакали. И весь день по всей Москве – в трактирах, в театрах, в консерватории, – где бы только ни собирались люди, они всюду давали волю патриотическим чувствам – говорили пламенные, полные верой в успех, речи, пели гимн, кричали «ура!», обнимались и плакали от умиления.
Никто не придавал значения тому, что еще до выхода царского манифеста, в первые часы войны, русский флот на Дальнем Востоке, и без того уступающий японскому и числом кораблей, и особенно в их вооружении, после первой минной атаки на него и последующего тут же – на внешнем рейде Порт-Артура – сражения понес такие потери, что решительно не мог больше противодействовать флоту неприятельскому, предоставив последнему совершенную свободу деятельности во всех дальневосточных водах. Собственно, об этом вполне недвусмысленно и своевременно сообщалось в газетах. Но, видимо, люди, упоенные воинственными призывами своей верховной власти, патриотической патетикой этих призывов, предпочитали думать лишь о том, как сейчас Россия вооруженною силою отобьет дерзостного соседа, заставит его присмиреть. Русский характер, по самой сущности своей всегда предпочитающий мистическое рациональному и в этот раз бессознательно возуповал на некую высшую справедливость – «На начинающего – Бог!». А значит, победа нам уготована самими Небесами.
К решительному столкновению Россия и Япония шли многие годы, если не века. Шли, не подозревая даже об этом, ничего даже еще не зная друг о друге. России было тесно на Восточно-Европейской равнине – исконно русских землях, – и она устремилась в Азию – на Урал, в Сибирь, к Великому океану. Но и Японии к концу минувшего столетия точно так же сделалось тесно на ее островах – и она точно так же стала искать новых пространств для реализации энергии своего народа.
В 1894 году японская армия вторглась в Китай. Война эта, напоминающая экспедиции североамериканских регулярных войск против индейцев, была недолгой и окончилась совершенною победой японцев – они наголову разгромили неприятеля и потребовали от дряхлой средневековой империи богдыхана уступок столь щедрых, что в конфликт немедленно вмешались третьи страны, обеспокоенные таким стремительным усилением и ростом доселе почти безвестного, затерянного в океане государства. Японцы претендовали на все острова в Восточно-Китайском море, до Формозы включительно, на Ляодунский полуостров, расположенный в северной части Желтого моря, и, кроме того, на значительное денежное вознаграждение.
Если бы Япония вознамерилась подчинить себе хотя бы и весь Китай южнее Великой стены, в России, пожалуй, отнеслись бы к этому довольно безучастно. Может быть, интересы других держав это каким-то образом задевало бы. Но российские менее всего. А вот утверждение Японии на Ляодунском полуострове могло нанести ущерб именно интересам России. Ее планам собственного продвижения в Азии. Расположенный исключительно выгодно, этот полуостров способен служить всякому, кто им владеет, удобною исходною твердыней при осуществлении своего влияния в Корее, в Маньчжурии и во всем Срединном Китае. Особенно болезненно в Петербурге воспринималось всякое возможное покушение на Маньчжурию, которую в русских правительственных кругах не только почитали территорией исключительного российского присутствия, но и даже серьезно обсуждали возможность присоединения этой страны, или, по крайней мере, северных ее областей, к империи. Поэтому в самых высоких российских политических кругах появилось беспокойство по поводу занятия Ляодуна Японией. Влиятельнейший министр финансов Сергей Юльевич Витте прямо заявил, что русскому правительству ни в коем случае нельзя допускать Японию на Ляодунский полуостров, так как она, очевидно, не ограничится владением одним лишь Ляодуном, а будет пытаться со временем утвердить свое присутствие и далее в Маньчжурии. Исходя из этого соображения и принимая во внимание вместе с тем, что России не только важно сохранить добрые соседские отношения с Китаем, но и желательно, насколько возможно, поднять русский престиж в этой стране, Витте полагал, что правительству следует действовать в японо-китайском деле смело и решительно в пользу Китая, а именно предъявить Японии ультиматум, требующий отказа с ее стороны от притязаний на Ляодунский полуостров, а в случае несогласия не постоять и за объявлением ей войны! Россию поддержали тогда Франция с Германией, имевшие собственные интересы в Китае. И японцы, оказавшись перед угрозой конфликта со всею Европой, умерили свои репарационные претензии к Китаю, ограничившись Формозой с рядом мелких островов и денежным возмещением. Но, разумеется, при этом исполнились лютой ненависти к России, лишившей их части военной добычи. Если Россия в результате и подняла свой престиж в Китае, как говорил Витте, то уже в лице Японии она теперь обрела затаившегося смертельного врага, который отныне только и жил чувством мести к северному соседу. К тому же события скоро обернулись таким образом, что и в Китае русский престиж оказался окончательно подорванным.
Спустя два года после несчастной для Китая войны с Японией в провинции Шаньдунь были убиты двое германских католических миссионеров. Знать бы китайским властям, какие беды в результате этого убийства выпадут на долю их страны, они охраняли бы злополучных миссионеров, как императорских наследников. Но где ж знать-то?.. Этим инцидентом воспользовалась Германия, у которой уже не будущее, а самое что ни на есть настоящее было на воде, и высадила в Шаньдуне большой отряд войск. Под предлогом удовлетворения своих оскорбленных убийством соотечественников национальных чувств Германия заявила притязание на китайскую территорию. И, отхватив в Шаньдуне кусок по своему усмотрению, немцы объявили его заморским владением рейха.
Китайцы немедленно обратились за помощью к русским – самым добрым и верным своим друзьям. Они просили каким-то образом повлиять на Германию, а если не выйдет иначе, то и оружием помочь Поднебесной избыть напасть. В Петербурге тщательно обдумали все возможные последствия такого развития событий – и решили, что из-за этого, в сущности, пустяка может начаться очень большая война. И отнюдь не в Китае, а в Европе. В самом деле, что же, Германия от русских защищаться будет в Желтом море? – когда в Европе обе державы имеют общую тысячеверстную границу! Но в случае их прямого столкновения, на стороне России, верная своим «сердечным» обязательствам, должна выступить всем оружием Франция, а на стороне Германии ее союзники – Австрия и Италия. Так стоит ли затевать такое невиданное кровопролитие из-за куска китайского берега? И, после консультаций с парижским кабинетом, русское правительство приняло решение – Германии теперь не перечить, китайцам не помогать. Более того, в Петербурге рассудили, что случай этот позволяет России, без ущерба в глазах всего мира для собственного renommee, сделать в Китае приобретения, аналогичные германским.
В ноябре 1897 года по инициативе министра иностранных дел графа Михаила Николаевича Муравьева состоялось совещание правительства в самом узком кругу. На этом совещании, кроме самого графа Муравьева, присутствовали военный министр генерал от инфантерии Ванновский, управляющий морским министерством адмирал Тыртов и министр финансов Витте. Министр иностранных дел напомнил собравшимся, что Россия уже давно нуждается в незамерзающем порте для своей дальневосточной эскадры. Сам он некомпетентен судить о том, в каком именно месте на побережье такой порт нужен, но, как министр иностранных дел, считает необходимым представить, что ныне, с занятием немцами Цзяо-чжоу, Россия, в качестве ответной меры, может занять, например, крайнюю оконечность Ляодуна – Квантунский полуостров с Порт-Артуром и заливом Даляньванем, вполне пригодным для устройства там нового порта. При сложившихся теперь обстоятельствах, сказал граф Муравьев, от занятия русскими Порт-Артура не ожидается никаких внешних политических осложнений. Почему, по его мнению, России не следовало упускать столь благоприятного случая, которого впредь может и не повториться. Витте возразил министру иностранных дел, заметив, что Россия связана договором с Китаем, вменяющим ей не только не претендовать в какой бы то ни было форме на территорию этого государства, но и защищать его в случаях, подобных нынешнему. На такое замечание граф Муравьев ответил, что договор с Китаем обязывает Россию защищать его только от Японии, но Россия отнюдь не принимала на себя обязательств отстаивать китайские интересы еще перед какими-то державами. К тому же, сказал министр, он опасается, что если мы промедлим с решением, то как бы, следуя примеру Германии, Порт-Артур не заняла Англия. Доводы министра иностранных дел были очень убедительными. Но вряд ли вообще тогда надо было кого-то в русском правительстве убеждать занимать Порт-Артур. Даже осмотрительного министра финансов. Который возражал скорее для того, чтобы под напором аргументов собеседника окончательно увероваться в правильности его мнения. Как тут можно раздумывать – брать или не брать? считаться с пережитком старины глубокой полумертвою Китайскою империей или не считаться? сохранять видимость собственного благородства, пока другие будут растаскивать Китай, или не сохранять? Ответ очевиден: ни в коем случае нельзя упустить то, к чему Россия стремилась веками, к чему через ледяную Сибирь пробивались многие поколения русских людей, – теплый, незамерзающий порт на океане.
Спустя короткое время, после совещания четырех министров, русские войска заняли-таки Квантунский полуостров, а на рейде Порт-Артура встал русский флот. По договору с китайским правительством территория эта уступалась России в арендное пользование на двадцать пять лет. В бухте Далянь-вань русские тотчас начали строить новый порт. Теперь уже министр финансов Витте, прежде скептически относившийся к занятию Квантуна, принял самое деятельное участие в колонизации нового края. И даже предложил назвать порт в бухте Даляньвань – Дальним. По мнению министра, это название, созвучное китайскому Даляню, и соответствовало географическому положению нового порта – на дальней азиатской окраине, и вместе с тем было вполне в духе русской народной и солдатской манеры переиначивать иностранные слова на свой лад.
Но ведь именно эту землю, эти самые бухты – Даляньвань и Порт-Артур, каких-то два с небольшим года назад, Россия, под вполне благовидным предлогом заступничества за немощный Китай, не позволила занять японцам. И если тогда Япония затаила злобу на Россию за ее мнимое благородство, то что же теперь должны были испытывать японцы к русским, когда те, отбросив уже всякое приличие, поднимают свой флаг ровно там, откуда по их настоянию были выдворены флаги японские?! Разумеется, на островах о русских окончательно сложилось представление как о народе коварном, лукавом, укравшем у японцев их победу, причем не сделав ни единого выстрела, не потеряв ни самого негодного солдата.
Но окончательный непоправимый урон своего престижа Россия понесла в Китае. Когда в Петербурге иные политики размышляли, как бы занятие русскими китайской территории не навредило renommee России в глазах остального мира, то сам Китай, по всей видимости, даже и не рассматривался как часть этого «остального мира» – он воспринимался, наверное, некою пустынною Антарктидой, которую можно делить как угодно, все равно пингвины останутся безответными, потому что и не поймут происходящего. Китайский канцлер Ли-Хун-Чжан прямо назвал политику России и других европейских государств в его стране разделом Китая. Дорого же обошлись китайцам германские миссионеры!
Вслед за Россией в Китай хлынула вся Европа. Англия и Франция потребовали от китайского правительства отдать им в аренду порты, подобно тому, как России был отдан Порт-Артур. Китайцы выполнили все требования сильных. Италия, страна едва способная заявлять свое присутствие где-либо вне Средиземного моря, и та пожелала иметь порт в Китае. Несколько раз итальянское правительство посылало соответствующие ноты китайскому правительству, но, не получив ни на одну из них ответа, отступилось. Как ликовали китайцы, ободренные маленьким своим успехом!
В 1899 году в Китае вспыхнуло так называемое Боксерское восстание, направленное против иностранной колонизации империи. Русский военный министр Куропаткин назвал Боксерское восстание «патриотическим антихристианским движением». В таком его определении содержалось очевидное лукавство: министру ли не знать, что прежде всего китайцы ополчились на русское своевольничанье в их стране, – но как в этом можно было сознаться? Назвав восстание «антихристианским», Куропаткин тем самым подчеркивал, что оно было направлено в равной степени против всех европейских стран, участвующих в захвате Китая. Разумеется, у китайцев не могло не быть претензий и к другим незваным своим гостям, но особенные претензии у них были к России. Еще прежде, чем завладеть Квантунским полуостровом, Россия добилась от дружественного в то время китайского правительства концессии на постройку в Маньчжурии железной дороги. Эта дорога должна была пройти от Читы, через всю Маньчжурию, до Владивостока, с веткой на Порт-Артур. Но если основная линия – до Владивостока – проходила преимущественно по степным, почти безлюдным районам Маньчжурии, то ветка на Порт-Артур, напротив, строилась в местах густонаселенных, порою прямо по крестьянским угодьям, причиняя населению всякого рода неудобства, а зачастую и прямой ущерб. Но особенное раздражение у китайцев вызывали даже не частные их неудобства, а та пугающая, предвещающая самые дурные последствия перспектива, которую сулила всему Китаю эта дорога. Во-первых, строилась она по русскому стандарту – пятифутовой ширины. В Китае таких дорог не было. Кроме этого, при дороге стали селиться русские колонисты. В месте ответвления путей на Порт-Артур появился даже немалый город, населенный целиком русскими, – Харбин. По всей дороге была размещена русская охранная стража – целое войско. Все эти приметы с предельною очевидностью указывали на то, что Россия не долго будет считать Маньчжурию заграницей. И скорее рано, нежели поздно, аннексирует ее. Как в этом случае поступят прочие державы, китайцам было хорошо известно на недавнем своем опыте – Китай просто разделят, как Польшу сто лет назад. Поняв, что самое существование их государства находится под серьезною угрозой, тут уже все китайцы выступили единодушно. Это было редкостное единение черни и привилегированных, состоятельных сословий, вплоть до министров и принцев. Но восстание Китая было не войной армий и народов, а схваткой цивилизаций – высокою развитою европейскою и крайне отсталою азиатскою, – соперничеством древнейшего, почти чингисхановского, оружия с пулеметами и броненосцами. И удивительно, что восстание длилось довольно долго – более двух лет. Это свидетельствует, как же велико было воодушевление восставшего народа. И в некоторых случаях действия восставших были очень небезуспешными. Кстати, особенно неистово они разрушали русскую железную дорогу в Маньчжурии, справедливо полагая, что дорога эта – основа присутствия России в Китае. Если в руки к ним попадались европейцы, они расправлялись с ними по-восточному безжалостно. Боксеры как-то схватили одного русского инженера и отрезали ему голову. Тело они спрятали, а голову специально подбросили русским для устрашения. Так одна голова, без тела, и поехала в Москву, где и была похоронена. Само собою, европейским армиям с их совершенным вооружением мятежники не могли не уступить. Их восстание было подавлено с необыкновенною для европейцев жестокостью, причем Россия целиком оккупировала Маньчжурию. Многих главарей боксеров императорский суд, в угоду победителям, приговорил к весьма суровой каре, между прочим, и к такой чисто китайской мере – к самоубийству. Суд положил им день, когда они должны были покончить с собою. И все приговоренные истово исполнили приговор.
Но, казалось бы, после всего случившегося европейским державам вообще уже ничего не мешало разделить Китай. Однако этого не произошло. Не погибла древнейшая империя лишь оттого, что победители, между которыми, к счастью для людей Срединного государства,не было единомыслия, больше всего боялись таким образом друг другу доставить какие-либо преимущества. Поэтому они ограничились единственно восстановлением в стране status quo.
Но такие откровенно хищнические действия европейских государств, и прежде всего России, послужили причиной решительной перемены в китайской политике. Совсем недавно Китай заключил союз с Россией против Японии. Но китайцы не подозревали, что этот союз, по сути, будет еще и против них самих. В результате теперь оба народа – и китайцы, и японцы, – каждый по-своему, были в претензиях к России. Не получив от союза с Россией, кроме бедствий, больше ровно ничего, Китай, в котором теперь все заговорили о единстве желтой расы, стал сближаться с Японией.
Россия же продолжала укрепляться в Маньчжурии. И за этим наблюдал весь мир. Английская «Times» в начале 1902 года писала, что обязанности, возлагаемые на русского резидента, как они называли наместника, в Мукдене, схожи с таковыми же полномочиями великобританских резидентов в туземных княжествах Индии и что Маньчжурия уже de facto находится под русским протекторатом.
Тогда японское правительство, полагая, что Россия вполне удовлетворена своим безраздельным владением огромною Маньчжурией с северным берегом Желтого моря, предложило русскому правительству заключить конвенцию о разграничении интересов обеих держав на Дальнем Востоке, по-видимому, рассчитывая, что петербургский кабинет, ввиду фактического признания Японией русских приобретений в Китае, не станет препятствовать осуществлению японских интересов в Корее. Но не тут-то было. Россия отнюдь не собиралась ограничиваться владением одною только Маньчжурией. О Корее в Петербурге и сами думали.
Когда в российских высоких кругах стало ясно, что политика осваивания новых земель на Дальнем Востоке привела империю к реальной угрозе столкновения с Японией, проводящей ту же политику, высокие российские круги разделились на две партии: одна из них, возглавляемая министром финансов Сергеем Юльевичем Витте, проповедовала умиротворение Японии путем разумных уступок ей; другая же партия, во главе которой стоял статс-секретарь действительный статский советник Александр Михайлович Безобразов, настаивала на сколько возможно жестком противостоянии с Японией, полагая в этом для России большую пользу. Безобразов и его единомышленники считали, что войны с Японией России не избежать ни в коем случае, уступать ли ей в чем-то или, напротив, абсолютно неглижировать японскими интересами. Так лучше уж, если война начнется при условиях наибольшего нашего продвижения на Дальнем Востоке, то есть как можно дальше от России, нежели умиротворять неприятеля уступками до тех пор, пока он не появится на собственных наших границах, – так они рассуждали. Поскольку в Китае России продвигаться практически было уже некуда – южнее начинались территории, относящиеся к германским интересам, – то русским оставался один путь – в Корею. Проникнуть в эту страну, ввезти туда капиталы, ввести туда войска для защиты этих капиталов, а затем и аннексировать ее всю или, по крайней мере, северную ее часть. Вот такой порядок действий предлагал Безобразов. И именно на сторону этой партии склонилась российская верховная власть. Сам государь император стал ревностным приверженцем и покровителем Безобразова и его соратных товарищей.
В результате Россия двинулась-таки в Корею. Началась колонизация этой страны с действий, казалось бы, безобидных. Учрежденное безобразовскою партией Русское лесопромышленное товарищество получило концессию на заготовку леса по обоим – и маньчжурскому, и корейскому – берегам реки Ялуцзян. Русский посланник в Токио барон Розен по этому поводу сообщал в Петербург, что в Японии очень внимательно следят за происходящим в Корее и считают деятельность русского лесопромышленного предприятия несомненным проявлением затаенных замыслов России на Корейский полуостров. Но когда уже вслед за этим Россия стала добиваться от Кореи концессии на строительство железной дороги до Сеула, японцы пришли к окончательному убеждению, что русские приступают к следующей части своей программы на Дальнем Востоке: к поглощению вслед за Маньчжурией и Кореи. Всему миру, по примеру с Маньчжурией, было известно, что это такое русская железная дорога – пять футов между рельсами, переселенцы, охранная стража и de facto протекторат России, а возможно, и аннексия. Дальше Японии отступать было некуда. Дальше оставалась одна только вода. Так русское продвижение в Корее закончилось японскою атакой на Порт-Артур.
Но столь несчастный результат деятельности безобразовской партии вовсе не подтверждает возможный удачный для России исход, последуй государь предложениям своего министра финансов Витте. Если постоянное наступление на чьи-либо интересы приводит противную сторону в отчаяние и побуждает к самым ожесточенным ответным действиям, то чрезмерные уступки противнику позволяют ему уверовать в собственное всесилие и, опять же, могут побудить его к решительным действиям, чтобы добиться еще большего. Поэтому война России с Японией, скорее всего, началась бы при любых обстоятельствах.
Но в Петербурге мало кто сомневался в безусловно счастливом исходе этой войны, случись она. Даже многие компетентные лица считали, что России одолеть теперь Японию не сложнее, чем было завоевать Ахалтекинский оазис. Когда наместник на Дальнем Востоке адмирал Евгений Иванович Алексеев за несколько месяцев до начала войны доложил военному министру генералу Алексею Николаевичу Куропаткину, побывавшему, кстати, незадолго перед этим в Японии, о недостаточном, по его мнению, числе войск на Квантуне и попросил отправить туда дополнительные войска, военный министр не нашел достаточного основания для исполнения просьбы наместника и подкреплений не отправил. Он послал адмиралу Алексееву телеграмму, в которой приказывал обратить внимание на то, что при соотношении сил нельзя упускать из виду, что один русский солдат может равняться сорока японцам. Скорее всего, это была такая шутка.
Ровно за четыре года до начала войны, по личному желанию государя, в Николаевской Морской академии прошли занятия военно-морской игры, имеющие целью проверить боевую готовность русской армии и русского флота на Дальнем Востоке. Естественным образом, противником России в этой игре являлась Япония. Русской стороной назначен был командовать великий князь Александр Михайлович, а японской – адмирал Вирениус.
Адмирал Вирениус начал «боевые действия» неожиданною, без объявления войны, ночною атакой на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. Посредники на игре – генералы и адмиралы – посчитали, что в результате этой атаки русский флот понес потери, не позволяющие ему более противостоять флоту японскому, а следовательно, Япония, захватив совершенное господство на море, могла беспрепятственно переправить с островов на материк неограниченное число войск. Высадив на Квантуне порядочную армию, адмирал Вирениус взял Порт-Артур в осаду. По его мнению, наиболее уязвимым местом крепости был ее не вполне укрепленный северный фронт. И именно там Вирениус повел наступление значительными силами. После такого маневра японцев посредники на игре решили, что атака эта, несомненно, окончится падением Порт-Артура, и отдали победу Вирениусу. То есть японцам. Занятия произвели на всех участников, не исключая и адмирала Вирениуса, самое гнетущее, самое безутешное впечатление. Ход игры был очень подробно изложен в секретном отчете, представленном государю. Но, увы, надлежащих мер по исправлению открывшихся недостатков вовремя так и не было принято. Спустя четыре года японцы действовали против русских таким образом, будто этот отчет находился у них в руках, – их действия до мелочей совпадали с недавнею игрой в русской Морской академии. Любопытно заметить, что за три месяца игры ее занятия ни разу не посетили ни военный министр Куропаткин, ни морской министр Тыртов, ни начальник Главного штаба генерал Сахаров. Так-то Россия готовилась к войне на Дальнем Востоке.
В конце 1903 года, когда многие уже понимали, что война неминуема, русский посол в Японии барон Розен имел в Токио встречу с одним высокопоставленным офицером русского Главного штаба. Посол поинтересовался у него – сколько именно сейчас наших войск стоит в Квантуне? Услышав в ответ, что только двадцать тысяч, барон даже сразу не поверил этому и спросил: так, верно, туда идут подкрепления? Но, узнав, что и подкреплений не ожидается, посол схватился за голову и воскликнул: «Если бы я мог сказать японскому министру иностранных дел, что на Квантуй подходят два русских корпуса, я вам ручаюсь, никакой войны не будет, а теперь мы накануне войны!»
Действительно, шансов на мирный исход почти не оставалось. В Японии, в конце концов, всем стало ясно, что политика России на Дальнем Востоке будет по-прежнему неизменно жесткою, неуступчивою. И 22 января 1904 года в Токио состоялось совещание высших лиц государства под председательством самого императора, на котором решено было больше не предлагать России договариваться – в этом японцы отчаялись, – а послать русскому правительству ультимативную, по сути, ноту, настолько требовательную по своему тону, чтобы Россия даже и не смогла уже дать на нее положительный ответ. Но каким бы ни был ответ русского правительства, не дожидаться его, а прервать с Россией дипломатические сношения и перейти к военным действиям.
На следующий день, а это была пятница, японский посланник в Петербурге вручил ноту русскому министру иностранных дел графу Владимиру Николаевичу Ламсдорфу. Вот что говорились в этом документе:
Так как японское правительство считает независимость и территориальную целостность Корейской империи безусловно необходимыми для безопасности и спокойствия своей собственной страны, то оно не может безразлично взирать на всякое действие, направленное к тому, чтобы сделать положение Кореи ненадежным. Русское правительство путем неприемлемых поправок отвергло одно за другим предложения Японии, которые японское правительство считало необходимыми для обеспечения независимости и территориальной целостности Корейской империи и для охраны преобладающих интересов Японии на этом полуострове. Этот образ действий русского правительства вместе с его неоднократным отказом уважать территориальную целостность Китая в Маньчжурии, которому серьезно угрожает оккупация этой провинции Россией, продолжающаяся, несмотря на ее договорные обязательства с Китаем и на повторные заверения, данные другим державам, имеющим интересы в том же крае, заставили японское правительство серьезно обсудить, какие меры самообороны оно должно предпринять ввиду оттяжек со стороны русского правительства при текущих переговорах, – оттяжек, остающихся в значительной мере необъяснимыми, – и развиваемой им оживленной деятельности на суше и на море, которую трудно согласовать с вполне мирными целями.
В продолжение текущих переговоров японское правительство обнаружило меру долготерпения, достаточно доказывающую, как оно думает, его лояльное желание устранить из отношений между Японией и Россией всякий повод для будущих недоразумений. Не видя, однако, после всех своих усилий никакой надежды добиться от русского правительства согласия на умеренные и бескорыстные предложения Японии или на другие какие-либо предложения, от которых можно было бы ждать установления твердого и продолжительного мира на Дальнем Востоке, японское правительство не имеет теперь перед собою иного выхода, как положить конец бесполезным переговорам. Поступая подобным образом, японское правительство оставляет за собою право принять такой независимый образ действий, какой оно сочтет наилучшим для упрочения и защиты положения Японии, которому грозит опасность, так же, как для охраны ее установленных прав и законных интересов.
Понятное дело, на столь резкий ультимативный тон японской ноты государственный престиж Российской империи не позволял русской стороне в своем ответе каким-то образом изъявить покорность. Ответ России, по всей видимости, был бы столь же суровым. Но японцы не стали дожидаться никакого ответа. Они уже так были настроены воевать, что смягчение позиции России, что трудно себе вообразить, пришлось бы им совсем некстати. И не дожидаясь хотя бы понедельника, как обычно в России, японский посланник при высочайшем дворе передал графу Ламсдорфу еще одну ноту, в коей доводилось до сведения императорского правительства о решении Японии прекратить дальнейшие переговоры с Россией и отозвать посланника и весь состав своей миссии из Петербурга. Это был разрыв дипломатических сношений.
В воскресенье все российские газеты сообщали о том, что японцы, проживающие в дальневосточных областях России или в Маньчжурии, стали поспешно уезжать в Японию. Из Владивостока, из Благовещенска, Харбина, Дальнего, Порт-Артура, отовсюду панически побежали японцы. Немедленно ликвидировав свои дела, продав или даже побросав имущество. И хотя наместник на Дальнем Востоке адмирал Алексеев обещал всем японцам полную их охрану и безопасность в случае войны, никто из них оставаться не пожелал. Тут уж, наверное, всякому должно стать понятным, что до войны остаются считаные часы.
В последний мирный день – 26 января – в газете «Московский листок» какой-то анонимный публицист горячо взывал к оскорбленным заносчивою Японией чувствам русского народа. Эта пафосная заметка – пример чудовищной самонадеянности, царящей в русском обществе. Самонадеянности, основанной даже не на осознании силы русского оружия, а на вере в богоизбранность православного народа! В представлении этого публициста, а равно и в представлении всех тех, кому его выспренные слова предназначались, Япония была обречена. Вот как об этом говорилось:
До вчерашнего дня не потеряна была надежда Православного царя, а вместе с Ним и всего русского народа, на мирное разрешение дерзновенных притязаний Японии к России.
Мы верили вместе с народом в мирный исход дипломатических переговоров. Сердце наше было спокойно, как и народная душа сел и деревень полсветной России.
Невозможно было предполагать такого безумства, такого легкомысленного воинского задора, каким заявила себя Япония по отношению к России, так долго и терпеливо искавшей с нею мира и желавшей ей блага.
В самом деле, возможно ли было думать, что какой-нибудь народец, витающий на островах, имея за собою лишь воды океана, дерзнул бряцать оружием против величайшей в истории мира державы, объемлющей пятую часть земного шара?
Возможно ли было думать, чтобы этот народец, в душе варвар, язычник, идолопоклонник, решился на борьбу со святою Русью, в истории коей видимо шествие Божие – в давней борьбе с более диким и ярым монголом?
Возможно ли было думать, чтобы Япония, разъеденная партийностью и мелким торгашеством, нахально выступила против самодержавного государства, представляющего историческую несокрушимую силу – единую волю Царя и народа?
Весь свет теперь знает, как искренно и торжественно сказывалось миролюбие Русского Царя – апостола мира всего мира. Весь свет знает, как велики были сделаны Им у ступки японским требованиям для укрощения их воинственного задора.
Но что же мы видим?
Если эти уступки вполне удовлетворяют просвещенных европейцев, то варвар а-азиата они лишь надмевают и вызывают в нем новое нахальство и дерзость.
Вот, наконец, до чего дошло!
Япония объявила русскому правительству, что она разрывает с Россией всякие дипломатические сношения, и отозвала своего посланника со всею миссией, и так поступила она, не дождавшись даже Царского ответа с новыми миролюбивыми предложениями.
Это такое оскорбление, с коим не может мириться русская душа. Это такая обида великого народа, которая заставляет гореть каждое русское сердце огнем негодования… Поднимись, русская грудь, на защиту своей исторической чести!
Подобный образ действий токийского правительства, не выждавшего даже передачи ему отправленного на днях ответа Императорского Правительства, возлагает на Японию всю ответственность за последствия, могущие произойти от перерыва дипломатических отношений между обеими империями.
Достоинство России потребовало с своей стороны – отозвать из Японии безотлагательно российского посланника со всем составом Императорской миссии.
Итак, война близка. По дерзости японского варвара – только русское оружие должно с ним разговаривать и усмирить навсегда нахальные азиатские мечтания и притязания.
«Все, взявшие меч, отмеча погибнут».
«На начинающего – Бог!»
Такова вера и таково упование православного русского народа.
Но вот удивительно! – при том, что многие в России, наподобие этого сочинителя из «Московского листка», рвали на себе рубаху и готовы были сразиться хоть с целым светом, коли на то пошло, почти никто так до конца и не верил в решимость Японии взяться за оружие. И, что особенно странно, не верили многие военные. Хотя, казалось бы, это их первейшая забота – в любой момент ожидать войны, быть начеку. Но, судя по тому, как русская эскадра в Порт-Артуре встретила атаку японцев, она этой атаки не ожидала. Ни морское, ни военное министерства не послали, как можно понять, наместнику на Дальнем Востоке адмиралу Алексееву телеграммы с приказом держать теперь флот в полной готовности к бою. Когда русские корабли были атакованы японскими миноносками, они все стояли на якорях! А командующий эскадрой адмирал
Старк на берегу беззаботно гулял на именинах у своей адмиральши. И уже самому Алексееву пришлось вот что телеграфировать в Петербург:
Всеподданнейше доношу Вашему Императорскому Величеству, что около полуночи с 26 на 27 января японские миноносцы произвели внезапную минную атаку на эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артур, причем броненосцы «Ретвизан, «Цесаревич» и крейсер «Паллада» получили пробоины, – степень их серьезности выясняется.
Подробности представлю Вашему Императорскому Величеству дополнительно.
Генерал-адъютант Алексеев.
В дополнение телеграммы от сего числа всеподданнейше доношу Вашему Императорскому Величеству, что все три поврежденных су дна держатся на воде. Котлы и машины исправны. «Цесаревич» получил пробоину в рулевом отделении. Руль поврежден. На «Ретвизане» – пробоина в отделении подводных носовых аппаратов. На «Палладе» пробоина в верхнем борту, близ машины. После взрыва к броненосцам немедленно подошли дежурные крейсеры для оказания помощи и, невзирая на темную ночь, приняты были меры ввести потерпевшие суда на внутренний рейд.
Потери в офицерах нет. Нижних чинов убито – 2, потонуло – 5, ранено – 8. Неприятельские миноносцы своевременно были встречены сильным огнем судов. По окончании атаки найдены 2 неразорвавшиеся мины.
Генерал-адъютант Алексеев
Японцы застали русскую эскадру врасплох. Русский флот, хотя и был под парами, стоял на внешнем рейде Порт-Артура на якорях. В основном этим и объясняется успех минной атаки японцев. Стоящий на якоре корабль неподвижен, будто остров, он не может отклониться от выпущенной по нему мины. И прежде чем якорь будет поднят и корабль тронется с места, до него доплывут несколько мин-торпед. Так все и вышло. Японские миноносцы превосходно сделали свое дело.
А в 11 часов утра к Порт-Артуру подошли главные японские морские силы – пятнадцать броненосцев и крейсеров. Они открыли огонь одновременно и по крепости, и по русской эскадре, поредевшей после ночной минной атаки, но так и не ушедшей на внутренний рейд. Значительно преобладая в числе кораблей, в их вооружении японцы превосходили русских с лишком вдвое: на выстрелы 240 тяжелых корабельных орудий неприятеля русские имели возможность ответить лишь из менее чем 120 подобных же своих орудий. Адмирал Алексеев телеграфировал в Петербург об этом бое:
Всеподданнейше доношу Вашему Императорскому Величеству, что после бомбардировки, продолжавшейся около часа, японская эскадра прекратила огонь и отошла к югу. Наши потери: во флоте офицеров – 2, нижних чинов убито – 9, ранено – 51-На береговых батареях нижних чинов убит – 1, ранено – 3-В происшедшем бою броненосец «Полтава» и крейсеры «Диана», «Аскольд» и «Новик» получили по одной подводной пробоине по ватерлинии. Повреждения, причиненные крепости, незначительны.
Генерал-адъютант Алексеев
Военные тотчас стали объяснять это первое в Японскую войну поражение русских неудачною позицией, занятою порт-артурскою эскадрой. Многие, в том числе и адмирал Степан Осипович Макаров, говорили, что ничего подобного не произошло бы, находись эскадра на внутреннем рейде, то есть глубоко в бухте. Но незадолго до японской атаки эскадра стояла именно на внутреннем рейде, и тогда военные точно также высказывали мнение, что эскадра, лишенная на малой воде свободы маневра, делается более уязвимой в случае нападения неприятеля и лучше ей выйти на простор. И так плохо, и так никуда не годится. Нет, это поражение вышло совсем по другой причине: прежде всего оттого, что в России не верили в решимость Японии воевать. И высшее русское военное и морское начальство и самая верховная власть империи так до конца и были убеждены, что народец, витающий на островах, не дерзнет бряцать оружием против величайшей в истории мира державы.
А японцы, прямо-таки будто по отчету игры в русской Морской академии, разделавшись с порт-артурскою эскадрой и завладев морем, стали беспрепятственно высаживать войска на материке. Их батальоны хлынули в Корею. Главные схватки противоборствующих сторон предстояли теперь на суше.
Глава 2
Среди прочих небедных, прямо сказать, кунцевских дач дом Дрягалова выделялся своею старосветскою монументальностью. Он был срублен из добротной сосны в виде русского терема, о двух этажах, кроме светелки под крышей, с маленькими оконцами, с затейливым крылечком. На дворе еще имелись конюшня и каретный сарай, выстроенные в том же вкусе. И вся эта заимка, стоящая под сенью нарочно не вырубленного сосняка, была кругом обнесена крепким тесовым забором с тесовыми же воротами и калиткой.
На даче постоянно жил сторож Егор Егорович, бывший унтер-офицер, человек одинокий. Из всей дрягаловской челяди Егорыч единственный относился к хозяину без лакейского подобострастия. Но ни в коем случае не без уважения. Просто Егорычу, в отличие от всех прочих дрягаловских работников, мало того что решительно нечего было терять – он был гол как сокол, – так вдобавок он и решительно ни в чем не нуждался, то есть не имел целью трудами своими праведными добиться некоего достатка. Егорыч бы мог служить и бесплатно, за один только хлеб, но Дрягалов ему еще и платил по совести.
Дрягалов скоро вполне понял, каков есть натурою его кунцевский сторож. И очень полюбил его. Вообще их отношения сделались как равного с равным. Они ведь были почти однолетками. Во многом схожи. И Дрягалов часто и не без интереса разговаривал сЕгорычем. Именно разговаривал. В то время как остальным работникам он лишь раздавал указания или коротко взыскивал с них. Дрягалов даже остался снисходительным к привычке Егорыча курить табак, чего для прочих людей не допускалось категорически.
Мещерин и Самородов сразу сделались с Егорычем большими друзьями. В первые же дни они под его водительством обошли все кунцевские окрестности, облазили все закоулки, причем Егорыч много и дельно им рассказывал всякого. А вечерами он тешил их игрою на гармошке, в чем был совершенным виртуозом. Молодых друзей своих Егорыч сам называл, особенно не чинясь – ребята, молодцы, солдатушки, – и им велел также относиться к нему запросто, величать его единственно по отчеству – Егорычем.
Накануне Троицы Егорыч отправился нарезать березы. Мещерин с Самородовым вызвались помочь ему. Конечно, к ним присоединился и Паскаль, для которого эти предпраздничные хлопоты являлись забавною русскою экзотикой. Решили идти пешком. С кобылой лишние хлопоты, рассудили. А по одной охапке и на себе сдюжить не бог весть какой труд был, как сказал Егорыч.
Вышли пораньше, пока все дачи еще спали. Егорыч завел своих молодых друзей подальше в рощу. Там уже глухо постукивали топорики: местные мужички тоже промышляли березу к празднику. Они рубили молодые березки целиком, под корешок.
– Здорово, ребятушки, – окликнул их Егорыч. – Откуда будете?
– С Крылатского, – ответил самый старший из них.
– Для церквы? – Егорыч кивнул на порубленные деревца.
– Для нее… Куды ж…
– Ну помогай вам Бог.
Вчетвером они скоро нарезали веток вдоволь. Хотя и побродили по опушкам тоже хорошо: Егорыч все выбирал погуще березки, посочнее, покудрявее. Пасха была в этом году ранняя, и к Троице листочки едва-едва развернулись.
Они вышли к реке. С высокого откоса хорошо были видны московские купола, мутновато поблескивающие в легкой утренней дымке. Егорыч прихватил из дому узелок с припасами. Там у него оказалось полкраюхи хлеба и несколько вареных картофелин.
– Вот и завтрак подоспел, – сказал Егорыч, раскладывая тряпицу на бугорке. – Ну-ка, молодцы, давай… налетай. – И он перекрестился на ближайший филевский куполок.
После долгого пешего перехода скудный завтрак они проглотили мгновенно.
– Порешили давеча чего? с дитем-то? – Егорыч был вполне в курсе дрягаловской драмы. Впрочем, в доме это ни для кого не осталось тайной.
– Порешили. На днях едем с Владимиром и Паскалем в Париж. Выручать девчушку. – Самородов сказал все это таким без тени сомнения тоном, словно успех их предприятия был очевиден.
Егорыч лишь головой покачал, услыхав такую юношескую самоуверенность.
Накануне Дрягалов собрал семью – а семьей у него теперь, кроме любимого сына Дмитрия, почитались Машенька с братцем Алексеем и его другом Владимиром заодно, и, конечно, здесь же присутствовал и дорогой французский гость, бывший к тому же непосредственным свидетелем их семейного беспокойства, – Василий Никифорович созвал близких, чтобы посоветоваться, как бы избыть нечаянную беду, выпавшую на их долю. Никогда прежде ни с кем не советовавшийся, а поступающий только по собственному разумению, в этот раз он просто-таки потерялся от чудовищной выходки коварного своего врага.
Дрягалов сам же наперед и сказал, что у него имеется один человечек, очень ему обязанный, его земляк, которого он в свое время откупил от каторги. И если он научит его извести изверга, от того завтра же ни соринки не останется. Но Дрягалов тут же сам и заметил, что тогда найти Людочку будет совсем уже непросто. А никаких других идей подавленному горем Василию Никифоровичу в голову не приходило.
Но если Дрягалов, не знавший прежде столь изощренных методов соперничества и в ответ на вызов ему способный разве что отрядить убийцу чтобы тот совершил суд праведный, в то время как новые формы мошенничества требовали новых же способов противодействия, если это все было не по дрягаловскому разумению, то молодые его соучастники сориентировались моментально. Самородов даже не раздумывал нисколько. Едва сказал свое слово Дрягалов, он сразу в ответ ему изложил собственный план. По его выходило, что для спасения Людочки им теперь не противоборствовать надо Руткину, а на время сделаться его споспешниками. И только тогда можно будет и отыскать девочку, и отобрать ее у злодеев. Для этого им надо объявиться в Париже как беглецам от преследований жестокого царизма. И именно таковыми предстать перед Яковом Руткиным. Если при этом они будут располагать приличною суммой, якобы выделенной организацией для дальнейшей их деятельности в эмиграции, то можно утверждать наверно, Руткин сам станет искать согласия с ними. Вот тогда уже они и смогут аккуратно, не вызывая у него подозрений в истинном их намерении, выйти на Людочкин след.
Машенька, в восторге от столь обнадеживающего плана, бросилась целовать любимого братца. Дрягалов слушал Самородова и, потрясенный находчивостью этих юнцов, только кивал согласно да поглаживал бороду. Он сказал, что денег им даст с собою вволю и что они не токмо этому голодранцу –всему Парижу смогут пыль в глаза пустить. Выезжать они могут хоть на той неделе. Паспорты он им выправит легко. Его знакомец из охранки, разумеется, ради такого дела не откажет помочь, подумал Дрягалов.
Когда Егорыч выслушал рассказ Самородова об этом их семейном сговоре, он опять недоверчиво покачал головой.
– Ты что, Егор Егорыч, сомневаешься? Да дело наше верное! – задорно вымолвил Мещерин.
– Не знаю… – вздохнул мудрый сторож. – Гладко, говорят, на бумаге, да забыли про овраги.
Молодым людям, очевидно, не по вкусу пришелся этот старческий скептицизм. Они переглянулись, имея в виду сказать: что-де взять с деда, ему только по Кунцеву бродить, березки резать, куда ему думать о парижских приключениях.
Егорыч не показал виду, что понимает, как о нем подумали молодые.
– Вы вот что, ребятушки, послушайте, – сказал он им, – может, польза какая будет, – да перескажите для нашего друга по-французски. Я буду помедленнее. Помните, я рассказывал вам, как служил в солдатах в Китае? – начал Егорыч. – Двадцать с лишком лет тому прошло. В тот год мне выходил срок, и я уже готовился скоро отправляться в Россию, когда у нас в посольстве объявился новый чиновник – секретарь, молодой человек, чуть, может быть, вас постарше, бойкий такой малый: все шутил с нами – с солдатами да с казаками, – всякие небылицы смешные рассказывал. А уж до чего оборотистый был, сметливый: через месяц он знал Пекин, будто всю жизнь там прожил, а через два месяца он уже худо-бедно мог разговаривать по-китайски. Помню, на него все нахвалиться не могли: и умен, и ловок, и службу исправляет отлично. Так мало того, он еще придумал, по примеру езуитов, школу при миссии открыть для китайских детей. Обучать их, значит, грамоте. У него была жена – чудесная женщина! красавица! – так она же и стала там учительствовать. Он ее туда определил.
– C'est une personne remarquable! [23]– воскликнул Паскаль.
– Вначале и я так же думал, – ответил Егорыч, когда ему перевели реплику француза. – Но потом все оказалось совсем по-другому… Как-то он добился позволения отправиться ему в глубь страны в экспедицию. Сказал, что ему необходимо изучить, как китайцы судят и казнят всяких своих законоослушников, хочет якобы книгу об этом составить. Ему выделили конвойных – двух казаков-бурят. А старшим конвоя отрядили меня, хотя я должен был вот-вот уехать в Россию. Этого, оказывается, пожелал сам наш предводитель. Я тогда сразу-то не смекнул, чем ему показался, – я был унтером, Китай повидал за годы службы довольно, с китайцами мог объясниться, коли нужда, – может быть, поэтому? Хотя по-китайски он знал к тому времени лучше меня. Ну да не все ли равно… Одним словом, мне приказали отправляться с ним, и я отправился. Это потом только я догадался, почему он выбрал меня. Из Пекина мы выехали к северу – в Маньчжурию. Первую неделю шли хорошо – верст по пятидесяти в день. Но потом где-то свернули с тракта и пошли по бездорожью. Да ладно бы хоть по ровному. А то ведь все то в гору, то на гору. Иной раз взбирались на такие кручи, что даже наши погонщики мулов – их там называют кули – и те роптали. Все время в пути наш предводитель записывал что-то в особую книгу. Чуть, бывало, привал, он достает чернила, перо – и давай записи писать в книгу. Или поговорит с китайцами о чем-нибудь – и опять в книгу. В некоторых городах мы видели казни, а казнят своих китайцы нещадно, чуть что – сразу казнить, так он, наш главный, все записывал, что подмечал, и даже еще картинки рисовал. Похоже так выходило. Казнят в Китае дюже люто: все головы режут ножом или душат насмерть. В одном городе такое дело было: привели девку на площадь – красивая же косоглазая! – и ну ее душить. Двое китайцев перехватили ей горло веревкой и стали тянуть в разные стороны. Потянут и ждут, пока задохнется. А тогда отпускают. Только она отдышится, они опять за свое. Так, верите ли, раз двадцать ее душили. Так, в конце концов, и уморили несчастную. А за что она муку смертную приняла? – ни в жизнь не догадаетесь!
– Блудницею, что ли, была? – спросил Самородов.
– Вот за это у них не казнят, – серьезно ответил Егорыч, – хотя надо бы. Много их там. А ее жизни лишили за то, что дурно обращалась с родителями мужа. Там за это живо шкуру спускают. Так-то вот. Я вам недаром рассказал, как в Китае взыскивается за непочтение к родителям. Потом поймете для чего. Там у них старики, а уж родители пуще всего, живут в исключительном почете. Не чета нашему. Помню, рассказывали, как-то в голодный год сын отхватил у себя от ноги кусок мяса, сварил его и накормил отца-китайца. Но слушайте дальше. Две недели минуло, как мы выступили из Пекина. Уже края пошли почти безлюдные. Разбойники-мадзеи и те поотстали. А то всё увивались за нами – то тут покажутся, то там. Но русских они не трогают – ружья боятся нашего. Сами-то они вооружены только что не дрекольем. И вот как-то предводитель наш говорит мне: я, говорит, должен сказать тебе одну важность, унтер, я снарядил эту нашу экспедицию не только, чтобы казни китайские изучить, есть у меня тут одна нужда, с которой мне без помощника не управиться. Ну я, конечно, рад стараться, отвечаю. Про нужду и не спрашиваю – мое дело служивое. И он мне вот что рассказал. Там, где он прежде служил, – продолжал Егорыч, – как-то повстречалась ему одна несчастная блажная. Полячка по роду. Он ее призрел: позаботился о ней. Или еще как. Он мне вроде говорил, да я теперь не помню. И она рассказала ему, что якобы ее отец во время войны в Китае – это когда англичане с французами их воевали…
– В шестидесятом году, – подсказал Мещерин.
– Верно. Я еще застал в русской миссии двух-трех человечков, которые помнили эту войну. Так вот, якобы он – отец ее – схоронил тогда там большой клад – драгоценности всякие. Схоронить-то схоронил, а откопать и увезти потом ему почему-то не вышло. Так там и оставил. В Китае, значит. Вернулся он ни с чем домой да скоро помер. Хорошо еще дочке рассказал обо всем. Но ей куды ехать клады искать, когда она не в своем уме?! Законно…
– Но, подожди, Егорыч, – перебил его Самородов. – И он что же, легко поверил умалишенной? Да вы нашли клад-то или нет?..
– Нет, не нашли…
– Ну-у… – разочарованно произнес Самородов. – Так я и думал. О чем тогда говорить…
– Ты не спеши! Больно быстрый… Всему свой черед, – ответил Егорыч. – Дай по порядку рассказать. Да и не в кладе дело. Разговор наш о другом вовсе… Что же вы думаете, я не спросил у него, у этого секретаря, прежде это же самое: как вы, ваше благородие, могли довериться полоумной и по ее наущению отправиться за тридевять земель сокровища искать? Мыслимое ли дело! Но он мне ответил, что у нее было доказательство верное – золотой перстень с драконьей головой. Такие, кроме как в Китае, больше нигде не выделывают. Из всех драгоценностей отцу ее только этот перстень и удалось сохранить. Вот как было. Он сказал, что меня за мое пособничество одарит по-царски, а себе не возьмет ни копейки – все повезет несчастной и ее сиротам. Ну, ладно, говорю, об чем речь, я – солдат, вы – мой начальник, мое дело маленькое. После этого разговора шли мы еще не больше дня, наверное. Господин секретарь все по написанному сверял местность, по заметкам, которые ему та полячка передала. И подступились мы, наконец, к одному монастырю. Их монастырю – китайской веры. А у них монастыри на наши очень похожи. Тоже ограда со вратами со святыми. Тоже церква внутри стоит. Только что колоколен нет. И крыши все прогнутые – и на домах у китайцев, и на церквах. У нас, коли крыша прогнута, значит, хозяин дурной, пьяница. А у них новые так строят. Такие уж люди… Встали мы, значит, биваком в полуверсте от монастыря. Предводитель наш в тот же день принялся опознаваться: давай шаги отсчитывать от каких-то одному ему ведомых примет. Я при нем состою. И вот идем мы с ним – он впереди, я следом, – шаги считаем. Идем прямо на монастырь. Подходим к самой стене. Вижу – его благородие недоволен чем-то. Сердится. Сызнова возвращаемся, откуда начали. Он прежде внимательно сверился со своими бумажками. Карандашом что-то там нарисовал. Опять идем. И опять в стену монастырскую упираемся. Будь она неладна! Он прямо уже весь побелел как мел – волнуется! И вдруг он, словно об чем догадался, побежал бегом в монастырь. Я не отстаю. В монастыре у входа в церкву сидят в рядок монахи в желтых платьях без рукавов, головы у всех голые, молятся что ли… Их не поймешь… Но отнеслись к нам по-хорошему. Его благородие спросил настоятеля. Вышел настоятель – такой же желтый, с голою головой китаец. Давно ли монастырь тут стоит? – спрашивает его господин секретарь. Пятнадцатый год оказывается только! Ведь как вышло?! – вы поняли? – монастырь встал аккурат там, где был зарыт наш клад! Что тут с их благородием случилось! У него будто язык отнялся. Ни жив ни мертв стоит. Я скорее ему водички подаю, да не берет – рассудок, видать, помутился. Напоил я его кое-как, да и увел в наш лагерь. Уложил в палатке. Как бы лихорадки, думаю, не приключилось, не приведи: здесь в глуши это верная смерть. Да вроде обошлось. Наутро он был снова молодцом. И сейчас пошел к настоятелю. На этот раз без меня. Но потом мне стало ясно, об чем они разговаривали. Господин секретарь просил настоятеля вместе со всею братией уйти из монастыря. Понятное дело: как доставать клад, как рыться в земле, когда тут хозяева? И он предложил им построить на свой счет новый монастырь, больший и лучший, но только где-нибудь подальше отсюда. Но настоятель – упрямый китаец – ни в какую: здесь мы жили, в святой своей обители, здесь и умирать будем. Уж он его и так и этак уговаривал. Но тот знай на своем стоит. И тогда наш главный придумал хитрость, как изжить ему непокорных. Он узнал прежде, что у настоятеля здесь неподалеку, верстах в ста, живет в селе старик-отец. И он с двумя нашими казаками отправился туда. По дороге он специально разыскал шайку мадзеев. И уговорился с ними, верно, за плату, чтобы они схватили старика и привезли его к монастырю. Так и вышло. Привезли мадзеи старика и спрятали неподалеку в пещере. И тогда наш господин секретарь сказал настоятелю, что, ежели он не исполнит все как требуется, не быть его отцу в живых. И послал ему косу старикову, как подтверждение своей угрозы. Да сказал, что в другой раз пришлет самую голову.
– Слушай, Егорыч, – не выдержал Самородов, – ты не сочиняешь, нет? На правду как-то это все не больно похоже. Прямо роман чистый – сокровища, разбойники, отрезанные головы…
– Ну, отрезанных голов не было, слава тебе господи, – продолжал Егорыч, нисколько не смутившись. – А вот настоятель-китаец и вправду жизни лишился. Ей-ей, не вру. Кручина по родителю его вконец извела. Сильно затосковал сердечный. Но и уступать своего не хотел. Взошел он тогда на стену на монастырскую и прямо у нас на глазах сиганул оттуда вниз головой. Дескать, от мертвого вам ничего не добиться, когда так. И отцовыми муками больше не испугать. Но главное, что теперь нет вам никакой надобности мучить старика…
Молодые люди догадались, что за мудрость содержится в рассказе старого солдата.
– Егор Егорыч, – с иронией сказал Мещерин, – ты что же намекаешь, что нужно послать в Париж голову Василия Никифоровича, чтобы показать Руткину, насколько мы презираем его шантаж?
– А это уже вы, ученые, сами придумайте, что вы ему покажете. Китаец вон тот жизни своей не пощадил.
– Господа! – воскликнул Паскаль. Все это время он, затаив дыхание, слушал Егорыча. – У меня, кажется, есть идея. Кого, собственно, обирает Руткин? Не Мари, во всяком случае. А того, кто в состоянии платить. То есть господина Дрягалова. Значит, если он не сможет шантажировать Дрягалова, то вся его махинация утрачивает смысл. И вот что я придумал: я подам у себя в газете объявление о смерти господина Дрягалова!
Мещерин с Самородовым онемели от изумления. Егорыч ничего не понял, потому что ему никто не перевел сказанного.
А Паскаль продолжал:
– Как я понимаю, Мари нисколько не является его наследницей. – Его юридическое прошлое даром не пропало. – Потому что они в установленном законом браке не состоят. Думаю, это понимает и Руткин. А если не понимает, ему кто-нибудь из сообщников да объяснит. Следовательно, со смертью господина Дрягалова у Руткина не остается никакого интереса продолжать нынешнее свое вымогательство.
Когда все это наконец перевели Егорычу, он сказал русским СВОИМ друзьям:
– Вот, учитесь! Вот это голова. А Никифорычу до ста лет жить, коли его до срока кто схоронит. Примета верная.
Паскаль, выслушав в переводе эту реплику, принялся радостно, с воодушевлением о чем-то рассказывать Егорычу.
– Он говорит, – повторил за ним Самородов, – что полностью с тобой согласен. Его дедушку в молодости посчитали погибшим на войне. А он оказался жив-здоров. Так он и теперь, хотя ему восьмой десяток идет, вполне крепок. Кстати, воевал он как раз в Китае, тогда – в шестидесятом году, во французском корпусе. Ну ты рассказывал…
Егорыч согласно кивал головой. Паскаль продолжал что-то еще ему говорить.
– Он спрашивает, – переводил Самородов, – не будешь ли ты возражать, если он запишет это твое китайское приключение и тоже опубликует в газете? Французы любят читать всякие забавности. Но только ты расскажи, Егорыч, чем ваш поход закончился. Ему до конца надо знать все.
– А об чем рассказывать? – пожал плечами Егорыч. – Так и закончился: ничего этот наш посольский секретарь не добился и отступился от монастыря. Уж переживал как! – не приведи бог. С лица изменился. Глаза потускли.
– А ты не рассказал в посольстве об этом? – спросил Самородов.
– Да думал было… А кому расскажешь-то? С послом так запросто мне, хотя и унтеру, не повидаться. В русскую миссию можно было сходить к архимандриту. Да видите, как хитро сделал этот секретарь – он же недаром меня самого взял, а не другого кого, – знал, что службе моей конец. И только мы возвратились из похода из нашего, на следующий день меня и отправили прямиком в Кяхту.
Вечером семья опять собралась на совет, ввиду новых обстоятельств их дела. Василий Никифорович нисколько не воспротивился, узнав, какой трюк молодые придумали выкинуть. «А печатайте, – махнул он рукой, – чего там. Надо – так надо. Но я ужо явлюсь ему живым! Паскуднику! Потолкуем тогда…» Заговорщики рассудили, что новый их замысел, подсказанный Егорычем, ничуть не противоречит первоначальному плану. А совокупив усилия, можно было ожидать верного успеха. Так они и решили: Владимир и Алексей все-таки отправятся в Париж, как раньше уговорились, а Паскаль одновременно подаст свое объявление в газету.
Глава 3
В третий раз Василий Никифорович Дрягалов появился в Гнездниковском переулке – в московской охранке. Он, как ни был опечален, а усмехнулся про себя: вот зачастил, будто домом родным стало заведенье это; уж мне и отставную выдают, – так я теперь сам не отстаю, знай докучаю со своим.
Начальник охранного отделения, верный своему правилу оставаться признательным всем сотрудникам, в том числе и бывшим, принял Дрягалова с обычною любезностью. О парижском происшествии он уже знал: французская полиция, по его словам, немедленно известила русских коллег о предерзкой разбойничьей проделке революционера-эмигранта из России.
Выслушав рассказ Дрягалова, как ловко они придумали вызволить малышку из беды, Викентий Викентиевич оценил их план очень одобрительно и сказал, что непременно поможет Мещерину и Самородову с выездом за границу. Недельки через две он все постарается устроить. Дрягалова же он попросил быть в эти дни особенно внимательным к своим подопечным. И если их навестит какой-то визитер, из кружка, например, кто-нибудь, немедленно сообщить об этом в охранное отделение. Василий Никифорович обещался все это исполнить добросовестно и, довольный, откланялся.
А господин чиновник, едва от него вышел Дрягалов, тотчас написал некую записку, причем в конце, вместо подписи, аккуратно вывел слово «Верноподданный». Адресована эта записка была московскому обер-полицмейстеру. Чиновник вызвал секретаря и велел ему теперь же послать человека опустить бумагу где-нибудь неподалеку от Тверского бульвара.
Ровно на другой день в Кунцеве объявился красивый, солидный молодой человек в ладном костюме, в мягкой шляпе, похожий на американского коммивояжера. Он разыскал дрягаловскую дачу и, внимательно, но довольно самоуверенно осмотревшись прежде по сторонам, постучался в тесовую калитку.
Дисциплинированный по-военному Егорыч отворил немедленно. Он было, как полагается, спросил незнакомца, что за нужна у того к ним, но тут из окна дома, из второго этажа, раздался звонкий голос Самородова:
– Егорыч, пропусти человека! это к нам! – Он легко узнал в госте их кружковского руководителя Сергея Саломеева.
И не успел Саломеев, сопровождаемый сторожем, перейти двора, как из дома, просто-таки обгоняя собственный восторг, выскочили Самородов с Мещериным и кинулись обнимать своего товарища. Вообще они с Саломеевым не были прежде такими уж любезными друзьями, но, истосковавшись в ссылке, как они называли свое кунцевское заточение, Алексей с Владимиром счастливы были теперь любому старому знакомому.
– Здравствуйте, здравствуйте, изгнанники земли родной, – этак снисходительно, как старший младших, приветствовал их Саломеев. – Как вы тут, вдали от шума городского?
– Даром времени не теряем, – бодро ответил Мещерин, – познаем жизнь российского крестьянства.
– Не увлекайтесь хождением в народ! – с игривою строгостью сказал им Саломеев. – Этот метод давно устарел. Нашаборьба в городе.
– Да мы думаем как-нибудь наведаться… – понизив голос, проговорил Мещерин.
– Не советую рисковать понапрасну. Если вас выследят в Москве, то отправят уже не в Кунцево, как вы понимаете. А существенно дальше. К тому же и необходимости нет: мы сейчас не собираемся, а сообщаемся только по эстафете. Но не переживайте, вас не забудут.
В это время из дома вышла Машенька.
– А вот и наша красавица! – расплылся в улыбке Саломеев. – Давно, давно не виделись. – Он снял шляпу и этаким элегантным балетным манером поднес к губам ее руку.
– Здравствуй, Сережа, – улыбнулась ему Машенька. – А ты совсем не меняешься. Все такой же жизнерадостный.
– А нашим делом без радости жизни нельзя заниматься, – торжественно отвечал Саломеев.
– Дорогая сестрица, давай-ка, чем любезностями обмениваться, предложим гостю отобедать, – сказал Самородов. – Самое время теперь.
– И то верно, – согласилась Машенька. – Через полчаса все, пожалуйста, в столовую. – И она ушла распорядиться с обедом.
– А Маша очень переменилась, – заметил Саломеев, проводив ее внимательным, изучающим взглядом. – Сколько же мы не виделись? Кажется, год… или чуть больше…
– За это время многое чего произошло, – сказал Самородов. – Она стала матерью…
– Рождение дитя обычно только красит женщину, – улыбнулся Саломеев.
– Да… если она не теряет потом дитя…
– Что ты хочешь сказать? У Маши умер ребенок?!
– Нет… Тут видишь, какое дело… – начал было Самородов, да раздумал рассказывать их эпопею здесь, на улице. – Пойдем-ка, Сергей, в дом, там поговорим.
О том, что Яков Руткин довольно давно живет в Париже и, кажется, отошел от революционной деятельности, Саломеев знал. Но все прочее стало для него потрясающею новостью. Во всяком случае, он был очевидно обескуражен услышанным.
– Каков мерзавец! Какое ничтожество! – горячился Саломеев. – И вот вам мое мнение, товарищи: эта его выходка, наносящая ущерб авторитету всего революционного движения, дискредитирующая высокое звание революционера в глазах общественности, вполне может нами расцениваться как провокация. А самого Руткина мы должны отныне считать предателем революции. Вам, наверное, не надо объяснять, как с такими элементами надлежит поступать? Провокаторы и предатели уничтожаются! Я в самое ближайшее время соберу кружок, и мы безусловно примем соответствующее решение. Вот, кстати, вам тогда и придется нелегально наведаться в Москву, как вы того хотели.
– Видишь ли, Сергей… – сказал Самородов, переглянувшись с Мещериным. – Не знаю, нужно ли еще обсуждать что-то по этому… элементу, как ты сказал, по этой падшей личности. Кажется, с ним и так все ясно. Но если кружок и соберется, то в ближайшее время мы не сможем принять участие. Мы с Владимиром на днях едем в Париж, чтобы самим отыскать девочку. Но без Руткина ее не найти. Ты должен это понимать. Пока он нам очень нужен. И мы сейчас не мести ему должны искать, а, напротив, каким-то образом расположить его к себе, втереться к нему в доверие.
– Ну что ж, – согласился Саломеев, – это обычный тактический ход, очень даже толковый: для достижения цели все средства хороши. Но затем, по достижении этой цели, революционное возмездие неотвратимо должно совершиться. Вы едете в Париж? Прекрасно! Я дам вам адреса некоторых надежных товарищей. У них вы получите оружие. Приговор должен быть исполнен. Предателю одна участь – смерть! И вы правы! – к чему собирать кружок, когда факт предательства очевиден.
Это неожиданное, жестокое, хотя, наверное, и справедливое решение Саломеева повергло кунцевских ссыльных в смущение, мальчишеское и постыдное, заставляющее их злиться самих на себя. Они как-то виновато исподлобья опять переглянулись.
– Сергей… – вымолвил с трудом Мещерин, – вряд ли мы сможем это сделать… Как тебе объяснить… Руткин – это ничтожество. Если бы речь шла о каком-то достойном и опасном нашем недруге, тогда разумеется. А это… в сущности, все равно как травить паршивого падальщика. Одним словом… мы не сможем этого сделать…
– Понимаю: благородные люди могут сражаться только в честном поединке и только с равными себе. Но неверно вы рассуждаете, товарищи, – строго сказал им Саломеев. – Есть высшая революционная целесообразность, которая ни в коем случае не должна зависеть от подобных сантиментов. Без этого нам не победить в нашей борьбе. Вы уже не новички. И мне почти неудобно объяснять вам, что, если на пути революционера к его высшей цели будет стоять беспомощный старик или даже беззащитный ребенок, революционер должен совершенно бесстрастно переступать через эти… искушения чести. Наша честь в другом! Наша честь – это социальная революция. Любыми средствами! Любой ценой!.. – Саломеев эффектно оборвался, выдержал паузу и, сменив строгость на добросердечный тон, сказал совсем уже подавленным своим товарищам: – Но в данном случае я вас понимаю. Хорошо. Поезжайте и делайте свое дело. Сейчас важнее всего спасти Машину дочку. А с предателя мы еще спросим! Непременно спросим!
За обедом Саломеев дал волю своему красноречию: он говорил много всякого приятного в Машенькин адрес и в адрес Паскаля, увлекательно рассказывал о Волге, где прошла его рабочая молодость. И очень сокрушался, что не застал на даче самого Дрягалова.
– Не поверите ли, – восторженно говорил он, – но я с некоторых пор явственно обнаружил, что у меня такая же жажда общения с Василием Никифоровичем, как вообще влечение к знаниям, к наукам, к книгам. Ведь это же истинный хранитель мудрости народной! Его жизненный опыт бесценен!
– Мы все ищем премудрости в Европе, – продолжал Саломеев, – порою завороженно, как кролики, смотрим на заграницу. Нет, конечно, я не хочу сказать, что мы не должны учиться всему лучшему, где бы оно ни было, – заметив, что Мещерин шепчет Паскалю перевод его речи, поспешил он смягчить патриотический тон, чтобы не показаться нетактичным. – Но, усваивая европейские передовые идеи, мы часто безынтересно относимся к собственным духовным богатствам. Незаслуженно манкируем ими. И очень многое теряем в результате. Поэтому дорожите каждым днем, проведенным в обществе Василия Никифоровича, – напутственно обратился он к Мещерину и Самородову, – ловите всякое его слово. Я чего только не повидал в жизни, – вздохнул он, – но и мне можно многому еще поучиться у Василия Никифоровича.
Паскаль вдруг начал что-то восторженно говорить Саломееву, но тот по-французски едва понимал, поэтому Мещерин перевел ему:
– Наш французский друг очень поддерживает твое мнение о Василии Никифоровиче. И он говорит, что мы вообще напрасно преклоняемся перед Европой. Познакомившись с Россией и русскими людьми, он считает, что не нам у них, а, напротив, им у нас есть чему поучиться. Сейчас во Франции мода на Россию. Но он – Паскаль – относится к этому едва ли не с сожалением: знала Европа моду на Египет, на Индию, на другое, но, кроме каких-то чисто внешних знаков почитания, от этого ничего больше не осталось. Так же точно бездарно может пройти и увлечение Россиею. И вот это было бы для них настоящею потерей. Впрочем, как он говорит, они сами не будут даже догадываться, насколько эта потеря велика.
– Же суи дакор авек ву [24], – старательно, членораздельно, как все малознакомые с чужим языком, выговорил Саломеев. – Но, видите ли… эта, как вы говорите, мода на Россию в вашей стране основана на намерении вполне прагматическом и, в сущности, антирусском. Нет, только не подумайте, что я имею в виду как-то задеть Францию. После столь лестных слов о нашей родине это было бы верхом невежливости. Я искренне люблю вашу страну. Восхищаюсь ее талантливым народом. Но дело в том, что французское правительство, равно как и русское, выражает интересы не миллионных трудящихся масс, а небольшой группы капиталистов. Кажется, это всем понятно. Тридцать с лишним последних лет французская власть живет идеей реванша за поражение в семьдесят первом году. Понятное дело, в одиночку Франции никогда своего восточного соседа не одолеть. Надеяться на союз с Англией, скажем, особенно не приходится: Англия ни в коем случае не станет кому-то помогать, если это в первую очередь не отвечает ее собственным интересам. И, даже если отвечает, все равно не будет. Англичане устраивают политику так, чтобы только другие вынимали для них каштаны из огня. Вот и пришлось французам заводить моду на Россию. Вы говорите, Россия во Франции в моде теперь? Правильно! – как же России не быть у вас в моде, когда французский реванш предполагается добывать русскими штыками и русскою кровью.
Паскаль ответил что-то очень горячо, раскрасневшись. Мещерин перевел:
– Реванш – это не только идея французского правительства и капиталистов. Весь французский народ живет этим. И русских во Франции никто не считает пушечным мясом. Французы, прежде всего, сами будут возвращать свое потерянное. Своею кровью. А к русским они относятся, как к равноправным союзникам.
Саломеев с улыбкой оглядел своих кружковцев:
– Вот пример, как национальное сознание берет верх над классовым. И чтобы было наоборот, надо многому учиться. Совершенно верно – разве это просто понять, что рабочему человеку заграничный рабочий больший друг, чем собственное правительство капиталистов-угнетателей? А вам, Паскаль, я вот что скажу: Франция вложила в Россию колоссальные капиталы и продолжает вкладывать, так рассудите сами – разве может быть равноправным союз богатого кредитора и нищего должника?
На это Паскаль ничего не ответил. Мещерин с Самородовым едва скрывали торжество оттого, как блестяще их предводитель доказывает свои взгляды.
– Будет вам уже спорить о политике, – вмешалась Машенька. – Мужчины прямо-таки не могут без этих разговоров. Мы же на даче. Давайте говорить о чем-нибудь приятном, дачном.
– Я давно заметил, – поддержал кузину Самородов, – ни от чего люди не ссорятся так легко, как от политических споров.
– Потому что речь идет об общественных интересах, – объяснил Саломеев. – А человек так устроен, такова его природа, что за общественное он будет стоять беспощаднее, нежели за личное. Ты, Маша, говоришь, о дачном о чем-нибудь поговорить нам? Что ж, изволь. Я сейчас тут у вас на улице повстречал разносчика – здоровенный такой мужичина, – скобяным товаром торгует ходит. Разговорились мы с ним. Вы же знаете, я никогда не упускаю случая поговорить с простым народом. Я у него спрашиваю: ну, вот, скажи, мужик, как ты думаешь, когда справедливость наступит? почему жизнь так устроена – одним всё, другим – ничего? И вот как он ответил: а когда мир захочет, тогда и будет справедливость. А пока, значит, миру так по душе. Вот она мудрость народная! Это же прямо для нас с вами сказано, – он обратился к Мещерину с Самородовым. – Мы читаем всяких мыслителей, своих и заграничных, изучаем опыт передовых стран, как говорится… – он скользнул взглядом по Паскалю, – но, оказывается, простой русский мужик лучше нас порою знает, что нам надо делать: пробуждать мир! чтобы тот, прозрев, наконец, переменил несправедливое устройство жизни.
– Ну вы все о своем, – с улыбкой махнула на них рукой Машенька. – По любому поводу у вас выходит политика. Одна только политика…
Вечером Дрягалов, узнав, кто у них был в гостях, сделал, как ему наказывал чиновник из охранки – отправил в Гнездниковский переулок человека с запиской.
А через два дня после визита Саломеева на дрягаловскую дачу явился урядник и вручил Мещерину и Самородову предписание незамедлительно прибыть по мобилизации на сборочный пункт в Крутицкие казармы. Сроку им было отпущено сутки.
Дом Дрягалова снова впал в уныние: едва-едва забрезжила какая-то надежда вырвать девочку из рук злодеев, и вот все их планы рухнули. Прямо-таки злой рок преследует, да и только.
Паскаль, правда, заверил, что будет действовать, как он давеча придумал. Но прежнего оптимизма это уже ни у кого не вызвало. Наверное, отчаяние придало Машеньке решимости, – она объявила, что если в Париж не могут теперь поехать Алексей с Владимиром, то поедет сама. Она будет изображать там из себя беглянку-эмигрантку, кого угодно – бомбистку! – соблазнит Руткина, если потребуется, но во что бы то ни стало узнает, где он скрывает ее Людочку. Василий Никифорович хмуро заметил, что для Руткина это будет последний соблазн в его жизни, потому что он тоже поедет в Париж и тайком, не открываясь никому, будет помогать Машеньке.
Но как не озабочены были Дрягалов с Машенькой судьбой малышки, новые неожиданные обстоятельства заставили их отложить заниматься парижскими проблемами по крайней мере на завтра. А сегодня Дрягалов решил по чести проводить в солдаты двух своих ученых приживальцев, ставших ему людьми близкими, настоящими членами семьи.
Для Мещерина и Самородова столь решительные перемены в их жизни трагедией отнюдь не стали. В сущности, Маньчжурия, куда им, по всей видимости, предстояло отправиться, даже более распаляла юношескую страсть к приключениям, нежели поездка в Париж. Удручало их лишь то, что теперь они не смогут помочь Машеньке. Впрочем, кто знает? – может быть, без них в Париже ничего не выйдет, и им еще придется съездить и туда. Война на Дальнем Востоке будет недолгой, дальше осени Япония не протянет, и тогда уже они победят все зло мира, в Париже ли оно, где угодно.
По случаю проводов новобранцев в армию вечером на дрягаловской даче состоялся прощальный ужин. Причем Василий Никифорович в обычной своей манере не пожелал ограничиваться скромным застольем в узком семейном кругу, а решил отпраздновать важное событие широко, с размахом, истинно по-дрягаловски. Когда Мещерин попросил его, коли так, нельзя ли ему пригласить к ним двух знакомых по Москве барышень, кстати, и ему, Дрягалову, немного знакомых, которые теперь так же живут здесь на дачах в Кунцеве, Василий Никифорович ответил, чтобы приходили, это само собою, но если пожелают, если барышням неловко появляться одним, пусть приходят в сопровождении старших – с родителями или еще с кем.
Обрадованный Мещерин отправился к Тане и Лене. Девочки вначале переполошились, узнав, что их друзья завтра уезжают на войну, опечалились, но, видя, как беззаботно, с какою молодецкою удалью они относятся к солдатчине, успокоились.
Таня и Лена и правда пришли на ужин к Дрягалову не одни. Ну Таня, после всех потрясений, случившихся с нею, после всех своих домашних драм, понятное дело, вообще не могла пойти куда-то одна, а тем более к Дрягалову. Поистине только война была достойным поводом, чтобы ей войти еще раз в его дом.
Александр Иосифович, выслушав новость о Мещерине и его друге, не только не возражал, чтобы дочка отправилась нынче проводить их, но даже настоятельно ей это рекомендовал. Вместе с m-lle Рашель, разумеется. Больше того, Александр Иосифович с энтузиазмом отнесся к любезному предложению Василия Никифоровича пожаловать к нему в гости с девочками и их родителям, – он сказал, что это долг каждого добропорядочного гражданина проводить героев, оправляющихся на дальнюю чужбину сражаться за Россию с коварным врагом, и поддержать их высокий боевой дух отеческим наставлением. Екатерина Францевна же с ними не пошла. Она сама в этот вечер принимала гостей. С некоторых пор она увлеклась спиритизмом, и как раз сегодня у нее был сеанс. Причем проводить сеанс должен был известный германский спирит, приехавший ненадолго в Россию, как говорили, по приглашению какого-то великого князя, и любезно согласившийся принять приглашение Frau Kazarinoff посетить ее.
Танина подруга, Лена, тоже пришла не одна. С ней была ее мама. Как этого ни хотелось Леночке, но отговорить Наталью Кирилловну было совершенно невозможно. Если выходил случай показать публике свои туалеты, ничто не могло остановить ее сделать это.
К назначенному часу гости стали собираться. Кроме Тани и Лены с их родными Василий Никифорович пригласил еще каких-то своих кунцевских знакомых. И всех людей у него собралось порядочно.
Александр Иосифович под ручку с Таней прошел к дрягаловскому дому самою дальнею дорогой, через все дачи, не торопясь. Настроение его было отменным. По пути он веселил Таню всякими забавностями. Несколько раз что-то прошептал ей на ушко. И их едва ли можно было принять за отца с дочкой. Казалось, прямо-таки влюбленная пара вышла на вечерний promenade – зрелый, но моложавый, красивый мужчина со своею юною ненаглядною половиной. Позади них, подхватив юбки и не отнимая от глаз лорнета, плелась француженка.
В калитке дрягаловского двора сторож Егорыч встречал поклонами всех гостей. Когда мимо него проходил Александр Иосифович, Егорыч вначале было удивился чему-то, но затем с улыбкой по-военному поприветствовал его:
– Здравия желаю, ваше благородие!
Александр Иосифович, также вначале не обративший на служивого человека ровно никакого внимания, растерянно оглянулся на приветствие, встретился взглядом с Егорычем, тотчас отвел глаза и этак снисходительно произнес:
– Здравствуй, здравствуй, братец.
– Не дача прямо, а квартира лейб-гвардейского полка, – сказал он Тане со смехом, когда они прошли во двор.
Дрягалов, давно не дававший больших торжеств – не до них стало: беда беду родит, бедой погоняет, – тут уж дал волю природной своей широте натуры. Ему хотелось, чтобы все, и особенно господа дворяне, узнали, каково это праздновать по-настоящему. А настоящее празднество в его представлении было это когда шампанское вместо сельтерской идет, когда невозможно отведать всех закусок, потому что на восьмом или на десятом блюде насыщается уже и самый неугомонный чревоугодник, а его ждут еще с дюжину других блюд.
Когда все расселись на гигантской веранде за длинным столом, заставленным яствами так щедро, что гости-то за всем этим обилием были как-то незаметны, Дрягалов сказал:
– Спасибо, добрые люди, за то, что пришли, не побрезговали нашею скудостью мужицкою. – Он слегка поклонился. – Вот ведь дело какое… Опять воюет Россия. Четверть века не знала войн, матушка. А вот снова собирается ополчение. Снова солдатушки идут на смерть. Не знаю, что это за война за такая… Где это Россия схватилась с супостатом? в каком краю света? – неведомо… Для чего? – бог весть… Однако ж, вот и мы отдаем молодцов в солдаты. Добралось лихо и до нашего дома. Вы вот что, ребятушки, – обернулся Василий Никифорович к Мещерину и Самородову, сидевшим вместе во главе стола, – коли выпала вам судьба идти на смертный бой, знайте, война какая ни есть, а солдату един закон: мы – русские, и с нами Бог! И еще воину нужно знать, что кто-то его ждет-мается, кто-то молится за него день и ночь. Тогда ему много легче идти на битву, – в сердце у него отдается та молитва. И вы знайте наверно, что здесь, в этом доме, вас ждут и за вас молятся. И здесь не бывать покою, не бывать никакому веселью, покуда вы не воротитесь.
Дрягалов закончил и, приподняв рюмку, кивнул всем, приглашая следовать его примеру. Все выпили. Его слова произвели довольно тягостное впечатление. Гости ожидали, что собрание у Дрягалова, хотя и по поводу довольно-таки безрадостному, будет отнюдь не поминками.
И тогда Александр Иосифович понял, что он должен объяснить всем, и в первую очередь почтенному хозяину, насколько неверное у них сложилось представление о происходящих нынче событиях в жизни Российского государства, а следовательно, и переменить к лучшему настроение их вечера.
– Господа, – сказал он, – позвольте занять ваше внимание и в продолжение темы, поднятой глубокоуважаемым Василием Никифоровичем, высказать свои взгляды. Совершенно верно, солдат, которого отечество отправляет на войну, должен вполне представлять, за что же он идет воевать. И тогда ему в не меньшей степени легче идти в бой на врага, чем осознавая, что его ждут и за него молятся. – Александр Иосифович оглядел присутствующих. – Давайте разберемся, что же это за война разразилась на Дальнем Востоке? В чем, так сказать, ее природа? Видите ли, мир пребывает в спокойствии лишь тогда, когда удовлетворяются интересы великих держав. И малосильные народы должны быть очень заинтересованы в таком мироустройстве. И не противодействовать этому, а, напротив, всячески способствовать. Ибо, покорствуя великим, каковы бы ни были их устремления, малые народы в конечном счете обеспечивают собственное благополучие и спокойствие. Но если же они, возомнив себя способными тягаться с сильными мира сего, пытаются нарушить этот установленный Божьею волей порядок, они сами уготавливают себе печальную участь. Когда Япония, наперекор русским интересам, заявила о каких-то своих видах, она, таким образом, нарушила порядок существования, и ее будущность лично у меня вызывает теперь большое сомнение. Во всяком случае, неразумное японское правительство отбрасывает свою страну на еще более отдаленную периферию мировой политики и самой цивилизации. И неизвестно, станет ли Япония когда-нибудь хотя бы тем, чем она является теперь. А скорее всего, навсегда превратится в этакую островную, затерянную в океане Абиссинию. А вы, молодые люди, – обратился Александр Иосифович к Мещерину и Самородову, – как ни желаю я вам всяких воинских подвигов и славы, можете еще и не успеть добраться до полей сражений – путь туда не ближний, – как враг уже будет повержен, – он повысил голос, – и херувимский глас вострубит всему миру новую победу святой Руси!
– Ура-а! – закричала госпожа Епанечникова.
Но никто не поддержал ее восторга. Настроение поминок не переломила даже блестящая оптимистическая речь Александра Иосифовича.
– А пусть бы японец победил, – отчетливо в наступившей тишине произнес вдруг Мартимьян Дрягалов. Он ничего не ел и не пил, лишь наблюдал, как пируют отцовы гости. Увидев среди прочих Таню, он никак не выдал своих эмоций, хотя, пожалуй, сделался еще мрачнее обычного.
Все оглянулись на него, изумленные таким высказыванием.
– Позвольте! – изображая голосом, как уязвлен его патриотизм, проговорил Александр Иосифович. – Как это понимать?
– Победа на пользу господам, – ответил Мартимьян. – А мужику вредно, когда холка не мята долго – распускается. Что ж непонятного: зажирел народ, в дурь пошел от гладкой жизни. Не четверть века он не знал хорошей взбучки – победа не в счет, – а полета лет, с Крыма. Оттого и смуты завелись, всякое якобинство бродит. А вот даст японец по шапке, глядишь, и образумится российский мужик.
– Ах, вот, что вы имеете в виду… – примирительно сказал Александр Иосифович. – Ну здесь я с вами не могу не согласиться. Пожалуй, вы и правы. Только, увы, мужик не образумится, – усмехнулся он. – В этот раз неприятель объективно слаб.
– Но не чудно ли выходит? – удивился Василий Никифорович. – Когда это бывало, чтобы слабый зачинал первым драку с сильным? А коли-таки лезет на рожон, может, он и не слаб, а только что представляется таковым.
Александр Иосифович страдальчески наморщил лоб, показывая, как ему трудно разговаривать с людьми, малосведущими в политике. К счастью, вмешалась Наталья Кирилловна, заскучавшая уже от воинственного мужского разговора, и попыталась перевести его в более понятное и любезное ей русло, и казалось, будто она помешала ему ответить.
– Господа, не все ли равно, сильны японцы или нет? – весело и громко сказала она. – Россия победит, вне всяких сомнений. Но, Александр Иосифович, как вы нашли Куропаткина и его офицеров? Это же настоящие герои, красавцы! Былинные богатыри! Только почему он едет без жены? – проговорила она жалобно. – У него же такой шикарный поезд. Я бы непременно поехала!
– Совершенно с вами согласен, Наталья Кирилловна, – довольный ее вмешательством, ответил Александр Иосифович. – Куропаткин талантливейший военачальник. Это настоящий наш современный радомысл! А его штаб – это блестящие, доблестные офицеры. Мне доподлинно это известно. Вы помните, наверное, господа, мудрые слова командующего: терпение, терпение, терпение. Это же кутузовская тактика! Как же можно сомневаться в нашем успехе!
Едва Паскалю перевели эти слова, он воскликнул:
– Но не потребуется ли генералу Куропаткину, верному кутузовской тактике, сдать неприятелю Москву для достижения успеха?
Те из присутствующих, кто знал по-французски, дружно рассмеялись. Пришлось и Александру Иосифовичу, хотя шутка и была ему неприятна, присоединяться к прочим, чтобы самому не выглядеть смешным.
Таня и Мещерин сидели рядом. Они не особенно слушали общий разговор. Им – старым знакомым – куда интереснее было поговорить о своем. Впрочем, не они одни не слушали Александра Иосифовича и его собеседников. Леночка, та вообще щебетала не к случаю жизнерадостно. Оказавшись с Димой Дрягаловым за столом соседями, через минуту молодые люди вполне подружились и теперь без умолку о чем-то рассказывали друг другу.
Как ни был Александр Иосифович увлечен беседой с отцом и сыном Дрягаловыми, от его внимания не ускользнуло ни слова из разговора Тани и Мещерина. Но он не показывал вида, что следит еще за каким-то разговором, кроме того, что вел сам. Между прочим, он услыхал, как дочка и ее друг договаривались переписываться.
Улучив момент, когда за столом ненадолго стало тише, Александр Иосифович обратился ко всем:
– Господа, я должен вам кое о чем сообщить. Мне даже неловко как-то говорить об этом в час проводов солдат на войну. Но уж осмелюсь воспользоваться случаем. Да простят меня виновники нашего торжества. – Он с улыбкой оглянулся на Мещерина и Самородова. – В отличие от сегодняшнего нашего вечера, событие, о котором идет речь, исключительно счастливое. Единственное, чем оно будет омрачено, – это отсутствием на нем наших молодых героев. – И он снова искренне-дружески улыбнулся новобранцам. – Но не буду уже вас, господа, томить: моя дочь Татьяна Александровна, – он изящно склонил голову перед Таней, – выходит замуж! И мы просим всех присутствующих быть нашими гостями.
Если бы Александр Иосифович сейчас вдруг скинул пару и предстал перед людьми в своем, так сказать, естестве, Танино изумление было бы не столь велико.
Таня не сразу еще вдумалась в слова отца. Сколько-то времени она сидела и страдала от осознания, какой же, наверное, глуповатою девицей сейчас выглядит. Ей что-то говорила сидевшая слева от нее m-lle Рашель, но Таня ее не слышала. Наконец, радостные реплики собравшихся и особенно бурная реакция Натальи Кирилловны, которая как вихрь налетела на нее с объятиями и поцелуями, заставили Таню оценить слова Александра Иосифовича и понять, что она не ослышалась и отец, нисколько не шутя, выдает ее замуж, о чем она до сего момента не слышала от родителей ни самого туманного намека.
– Давайте, когда так, выпьем за красавицу-невесту, – сказал Дрягалов, сверкая на Таню лукавыми глазами.
Гости все разом загомонили, звонче и как-то более раскованно, чем прежде, зазвенело стекло, и вообще за столом стало веселее.
Когда, спустя какое-то время, все расходились, Александр Иосифович отвел в сторону Мещерина.
– Владимир, я вам вот что хотел сказать… поймите только меня правильно, – старательно подбирая выражения, проговорил Александр Иосифович. – Таня, как вы слышали, выходит замуж. И вам поддерживать какие бы то ни было связи с ней, включая переписку, отныне будет возможным лишь при благосклонном отношении к этому ее мужа. И уже во всяком случае, не минуя его. Не станете же вы компрометировать девушку подобными связями с нею? – с улыбкой, очень так по-дружески, доверительно, сказал Александр Иосифович.
– Понимаю, – только и ответил Мещерин.
В их отношениях с Таней не было и намека на что-то большее, чем просто дружба. Хотя Мещерин, осознавая, впрочем, как велика разница их положения, в глубине души, тем не менее, не исключал появления и этого чего-то большего. И теперь его призрачные и поэтому особенно дорогие мечтания были безжалостно развеяны. Они и распрощались с Таней как-то нескладно, наспех, не сказав дорогих, запоминающихся слов, будто не были добрыми друзьями.
Александру Иосифовичу пришлось еще задержаться в гостях. Когда, после разговора с Мещериным, он с дочерью и ее компаньонкой направился на выход, перед ним склонился слуга и сказал, что его очень просит по важному делу к себе Мартимьян Васильевич – немощный сын Василия Никифоровича. Александр Иосифович удивленно пожал плечами и, велев Тане отправляться с m-lle Рашель домой, пошел за человеком. Он подумал, что младший Дрягалов хочет ему сказать что-то в продолжение их разговора за столом.
В комнате у Мартимьяна сидела Наталья Кирилловна Епанечникова, что было для Александра Иосифовича первою неожиданностью. Причем дама всем своим видом выражала полнейшее недоумение – для чего она тут понадобилась? Но еще более неожиданное Александр Иосифович услышал затем от Мартимьяна. Неожиданное в том смысле, что он меньше всего ожидал это услышать здесь, в этом доме и от этого человека. А поведал им Мартимьян об их дочерях – Тане и Лене – в основном то, что Александру Иосифовичу было уже известно, разве с некоторыми новыми обстоятельствами. И главная новость состояла в том, что Таня, уже после участия, вместе с Леной, в сходке в дрягаловском доме в Москве, имела, оказывается, там же очень полезную беседу с Мартимьяном. Александр Иосифович с чувством искреннего удовольствия слушал рассказ Мартимьяна о том, как он строжился с Таней, как запугивал ее.
– Вы должны понимать, – говорил Мартимьян, – у меня, как у наследника состояния, свои интересы. Я не хочу, чтобы старый жуир пускал деньги на ветер по всякой своей прихоти, а еще больше по прихоти ловких людишек, что стали кружиться около него, как воронье. Христом Богом прошу вас, накажите своим дочерям забыть этого старика, – он махнул бородой куда-то в сторону, – будто и знакомыми не были никогда! Я прямо так и сказал вашей дочке, – продолжал Мартимьян, обращаясь к Александру Иосифовичу, – если они сами не забудут сюда дорогу, у меня найдется средство отвадить их!
– Простите, – заинтересовался Александр Иосифович, – о каком именно средстве вы говорите?
Мартимьян было стушевался, но злоба помогла ему овладеть собой.
– А вот когда бы в ваш дом пришла беда, вы бы стали церемонничать, как бы ее избыть?! – спросил он с истерическими нотками в голосе.
– Ну, допустим, – согласился Александр Иосифович, будто чего-то припомнив.
– Вот то-то… – Мартимьян почти успокоился. – И я сказал, что, если они подобру не оставят расточителя моего наследства… – он опять кивнул куда-то в сторону, – есть у меня один лихой малый, на все гораздый, и душу погубит – глазом не моргнет, то тогда уже он поговорит где-нибудь в укромном месте…
– Но это уже слишком! – воскликнула Наталья Кирилловна. – Вы за это будете отвечать по закону!
Она оглянулась на Александра Иосифовича, призывая его в союзники. Но тот не торопился выражать как-то свою солидарность с ней и только хитро улыбался одними глазами.
– Наталья Кирилловна, – сказал он, – я думаю, теперь уже нет никакого основания для беспокойства: ни Лена, ни тем более Таня, которая, как вы знаете, на днях идет под венец, с батюшкой уважаемого Мартимьяна Васильевича никаких сношений иметь не будут. К тому же Мартимьян Васильевич просто привел пример своих возможных мер. Но поскольку сами эти меры не имели места, то нет и нарушения закона. Я вам говорю это как юрист… И прошу вас, Наталья Кирилловна, – продолжил он после эффектной паузы, – давайте уже сегодня оставим этот разговор. Я загляну к вам, может быть, завтра, тогда и договорим. А сейчас я бы хотел сказать Мартимьяну Васильевичу нечто приватное. Прошу прощения.
Он подошел к Наталье Кирилловне и подал ей руку, предлагая помочь подняться.
– Вы знаете что, сударь, – решительно произнес Александр Иосифович, когда они остались с Мартимьяном наедине, – я ведь сказал, что в ваших словах нет ничего противозаконного, единственно, чтобы успокоить эту благородную и несчастную женщину, пережившую только что тяжелую семейную драму. По милости своей дочери. На самом же деле ваши слова содержат прямую угрозу – угрозу убийства, как можно понять. Понимаете, чем для вас это чревато? Я вам как юрист говорю, для вас это может иметь уголовные последствия. Против вас уже три свидетеля: я самый, госпожа Епанечникова и моя дочь Татьяна, которой вы прежде угрожали! А если еще сюда присовокупить непатриотичные и антигосударственные речи, высказанные вами нынче за столом, чему свидетелями вообще были многие, то вы так, пожалуй, и в каторгу поедете в своей коляске.
Александр Иосифович оборвался, наблюдая, как забеспокоился Мартимьян. Он помедлил, давая младшему Дрягалову как можно полнее испытать страдание.
– Впрочем, всему этому можно и не придавать значения. Будто и не было ничего. В доказательство этому я готов обещать вам не предпринимать ничего из того, о чем я говорил. Но! – Александр Иосифович поднял палец кверху. – Но, – повторил он, – я хотел бы и с вашей стороны иметь некое свидетельство дружеского расположения. Это было бы справедливо. Не так ли?
– Чем могу быть полезен? – вяло произнес Мартимьян.
– Мне нужен тот человек, о котором вы говорили. Ну этот… исполнитель крайних мер по спасению вашего наследства.
– Зачем он вам?
– Это касается только меня. Пока что не я заинтересован в вашем благорасположении, а, напротив, вы в моем. А нужен, в общем-то, за тем же, зачем и вам. Итак, мы договорились о взаимной пользе? Или нет?
– Договорились… – глухо сказал Мартимьян. – Вы теперь хотите с ним встретиться?
– Да, на днях.
– Только учтите, он не из тех, кто побежит исполнять работу по всякой указке. Сумеете ли еще уговорить?
– Это уже мои заботы.
– Коли так, спросите – его зовут Сысоем – в доме Пихтина, на Зацепе. У Саратовского вокзала. Знаете?
Александр Иосифович утвердительно покачал головой, но не столько в ответ Мартимьяну, сколько на захватившие его собственные размышления.
Глава 4
В последние годы в Москве завелся обычай различаться обывателям не только по традиционным признакам – сословным, имущественным, по роду ремесла или службы, – но также и по месту расположения дачи. Понятное дело, самые дачи имеются не у многих. И это еще одно важное различие между московскими жителями. Но уже у кого дача все-таки есть или кто в состоянии ее нанимать, образуют своего рода землячества: люблинские дачники, царицынские, кусковские и другие. И среди всех прочих кунцевские были как столичные жители среди провинциалов. Конечно, и на других дачах попадались персоны важные, известные, но лишь изредка. В Кунцеве же таковые встречались как правило. Здесь жили крупные военные и статские чины, владельцы состояний, еще больших, чем дрягаловское, профессоры, преуспевающие адвокаты или врачи, как Константин Сергеевич Епанечников.
И здесь, в Кунцеве, окруженный такими соседями, Александр Иосифович Казаринов отнюдь не выглядел значительною персоной. Его пятый класс среди десятков генералов и равных им статских особенного впечатления произвести не мог. Еще меньше Александр Иосифович мог соперничать с кунцевскими миллионерами – фабрикантами и купцами. Видимое благополучие Казариновых целиком зависело от приличного в общем-то жалованья Александра Иосифовича и в не меньшей степени от бесподобной рачительности Екатерины Францевны. Но уже позволять себе какие-то излишества, а тем более мотовство, наподобие купеческого, средств у них решительно не оставалось. И по совести, Александру Иосифовичу нужно было бы иметь дачу где-нибудь в Кузьминках. Это больше бы соответствовало его достатку. Но ради престижа он не посчитался с дополнительными издержками и дачу завел все-таки в Кунцеве.
По соседству с Казариновыми стоял дом известного промышленника – мецената и коллекционера. Александру Иосифовичу очень досаждало это соседство. И преодолеть досаду ему не мог помочь даже верный его прием – вечно трунить над чьими-то недостатками. У мецената их не было.
Уступая «третьему сословию» в достатке, Александр Иосифович преяеде утешался своим безусловным превосходством над их братом духовными, умственными силами. Многие из этих толстосумов были людьми не вполне просвещенными, а иные так просто малограмотными. Но сосед-меценат образованностью своею ничуть не уступал Александру Иосифовичу, а в чем-то даже и превосходил его: Александр Иосифович учился в свое время в Московском университете, но тот, оказывается, тоже закончил университет, только где-то в Европе; Александр Иосифович знал по-французски и по-немецки, а мануфактурщик, кроме этих языков, еще и по-итальянски. Но уже совсем Александр Иосифович был уничтожен, когда ему стало известно, что там, за высоким забором, в сосновых палатах пишутся статьи по искусству и затем публикуются в ясурналах. Выходило, что не устояло и его дарование сочинителя – самое высокоценимое Александром Иосифовичем свое дарование. По всем статьям перещеголял его внук крепостного крестьянина.
О соперничестве их недвижимости и речи быть не могло. Хотя домик Казариновых был симпатичный и уютный, но невеликий. Зато с просторною, светлою верандой, где Александр Иосифович любил сидеть с газетами.
Особенно внимательно Александр Иосифович следил за событиями на Дальнем Востоке. Как и в своем московском кабинете, он вывесил на веранде большую брокгаузовскую карту Маньчжурии. И часто, просмотрев газеты, и прежде всего военные сообщения и сводки, он сверялся по карте. Причем подолгу стоял возле нее, задумавшись и остановив взгляд на какой-то точке.
Казариновы перебрались в Кунцево всем домом, со служанкой, поваром и кучером, сразу после того, как Таня получила аттестат. Александр Иосифович, позаботившийся вывезти семью на дачу насколько возможно поспешно, и не полагал, что те, от кого он старательно изолировал дочь, окажутся здесь же, в Кунцеве. И он вначале просто-таки опешил, увидев однажды Таню и Лену, прогуливающихся в обществе Мещерина и еще какого-то молодого человека. Присутствие же при них неотлучной дочкиной компаньонки – m-lle Рашель – привело Александра Иосифовича в еще большее недоумение. То, что женщина эта беспробудно глупа, ему было ясно с самого начала. Именно такая надзирательница за дочкой ему и требовалась. Эта, подумал он, будет исполнять его указания со стоеросовою последовательностью. Но, повстречав такую идиллию, степенно шествующую по Кунцеву, Александр Иосифович, на секунду растерявшись, усмехнулся: а не ошибся ли он в m-lle Рашель? – в том смысле не ошибся ли, что, принимал ее всего лишь за глупую, в то время как она совершенная безумица, если понимает его указания столь буквально и не препятствует нежелательным Таниным встречам с кем-либо, но только присутствует при этом.
Однако все опасения Александра Иосифовича развеялись, когда он узнал, какими судьбами здесь оказались студенты, и у кого они живут, и кто такой Дрягалов, и прочие подробности. И как незадолго до этого он поступил в случае с Таниною подругой Леной, рассудив, что коли уж она оправдана, то и ему не следует строжиться с ней, будто с государственною преступницей, также он решил относиться теперь и к Мещерину: если полиция не считает его личностью общественно опасною и прекращает по отношению к нему репрессивные меры, то для чего же ему быть католиком больше папы Римского, быть более верноподданным, чем сама полиция?!
Александр Иосифович, когда надо, мог быть и либералом. Почему бы нет? Он не стал взыскивать с дочери за продолжение этого знакомства. Больше того, он сам предложил ей пригласить как-нибудь Мещерина с другом к ним в гости, что и было исполнено немедленно. Александра Иосифовича вообще уже не страшили какие-либо Танины знакомства и увлечения, потому что судьба ее была решена. Alea jacta est [25], как сам себе сказал Александр Иосифович.
Когда перед Александром Иосифовичем встал вопрос, как бы избавиться от опасных дочкиных увлечений и саму Таню впредь оградить от опрометчивых поступков, он, между прочим, подумал: а почему бы не выдать ее замуж? Рано или поздно это все равно должно произойти. Так зачем откладывать? Дочь, как говорится, чужое сокровище. Но вместе с тем и просто так сбыть Таню с рук, как сбывают дочерей-бесприданниц, в планы Александра Иосифовича не входило. По его замыслу, эта жертва, кроме того что она предотвращает возможные неприятности, должна быть еще и очень полезной для их семьи в будущем.
Несколько лет тому назад старый знакомый Александра Иосифовича, и не просто знакомый, но человек близкий и доброжелательный, тот самый пристав одной из московских частей, что предупредил Александра Иосифовича о небезопасном Танином увлечении, Антон Николаевич Потиевский овдовел. Разумеется, одного только вдовства пристава было бы недостаточно для того, чтобы Александр Иосифович мог с уверенностью рассчитывать выдать дочь за него замуж. Но от него не ускользнуло, что Антон Николаевич где-то в последние полгода-год, бывая у них дома, смотрит на Таню с интересом, превосходящим обычное внимание человека зрелого к дитю. К тому же как раз в последние полгода он стал бывать у них почему-то чаще, чем прежде. Трудно даже предположить почему. Приедет так вдруг вечерком, посидит с часок с Александром Иосифовичем и Екатериной Францевной в гостиной, выпьет рюмку-другую коньяку и тогда назад. Несколько раз за это время он дарил Тане коробки, перевязанные лентами. И уже всегда просил ее спеть что-нибудь. Таня садилась за рояль. Антон Николаевич садился поблизости. А Александр Иосифович внимательно наблюдал за ними. Эти наблюдения позволили ему сделать вывод, что Антон Николаевич, пожалуй, скоро спросит у них руки Татьяны Александровны. Он поделился своими соображениями с женой. И Екатерина Францевна не нашла в этом ничего такого уж предосудительного. С ее точки зрения, это было бы очень даже лестное предложение для них: Антон Николаевич человек более чем обеспеченный, с положением высоким и прочным, который мог бы при желании устроить себе самую блестящую партию. Ее не смутило даже то обстоятельство, что у Антона Николаевича имелась дочь – аккурат Танина ровесница. Екатерина Францевна так рассудила: вряд ли теперь дочка Антона Николаевича долго будет оставаться в отчем доме; вероятно, она также выйдет замуж, и скорее рано, нежели поздно, и получится, будто ее и нет вовсе.
Таким образом, заручившись благосклонностью жены, хотя этого ему даже и не требовалось – Екатерина Францевна была бы солидарна с любым его решением, – Александр Иосифович приступил к осуществлению своего намерения. Его нисколько не заботило отношение к этому самой Тани, он даже не утруждал себя подобными размышлениями – дочка, безусловно, поступит так, как повелят родители. Но необходимо было наверно знать о конкретных видах на Таню Антона Николаевича. То, о чем Александр Иосифович говорил Екатерине Францевне, в сущности, было гипотезой, его предположением. Небезосновательным, но отнюдь не верным. Что если он ошибается? что если пристав и в мыслях не имел строить относительно Тани какие-то планы? А то получится, как в анекдоте про того раввина, что убеждал Рабиновича отдать дочь за сына Ротшильда, и, уломав-таки его, удовлетворенно рассуждает: теперь остается только уговорить Ротшильда. Но удостовериться в намерениях Антона Николаевича было мало. Если даже он ни о чем таком пока не думает, то необходимо дать ему понять, что они – Танины родители – были бы совсем не против его сватовства.
И вот однажды – это было вскоре после того рокового дня, когда Танино непослушание переполнило чашу терпения Александра Иосифовича, вынудив его принять к дочке жестокие меры, – он с Екатериной Францевной нанес визит Антону Николаевичу.
Жил пристав Потиевский вблизи Таганки в трехэтажном старом московском доме – с узкими лестницами и маленькими окошками, с множеством труб на крыше. Но квартиру занимал порядочную – во весь второй этаж, наверное, комнат с дюжину или более, правда комнаты все были невелики, как обычно в таких домах. Этот дом никак не привлекал бы к себе внимания, будучи одной из рядовых построек, каких особенно много на Таганке, если бы по тротуару, вдоль его фасада, во всякое время, и даже ночью, не прохаживался городовой. Лишь по этой примете можно было судить, что здесь живет какая-то важная особа. В первом этаже в доме жил на покое архиерей – старичок лет восьмидесяти. А в третьем ютилось несколько семей, но это были все малозначительные люди. Всем местным жителям было хорошо известно, отчего здесь существует полицейский пост, – потому что в доме живет пристав.
Для Александра Иосифовича оказалось исполнить его замысел еще легче, чем он думал. А он особенно и не собирался утруждать себя. Дело в том, что Антон Николаевич сам же ему помог в этом. Пристав был человеком опытным, искушенным, с редкостною интуицией, выработанною и отточенною за многие годы его службы в полиции. И когда перед ним предстала чета Казариновых, а нужно еще прибавить, что они-то бывали в гостях у Антона Николаевича крайне-крайне редко, он понял, что теперь они явились с каким-то серьезным, судьбоносным разговором, но явно не с бедой, не с нуждой, а, судя по их лицам, с чем-то приятным, задушевным. Собственно, особенных вариантов не было. Хорошо зная о предмете забот семьи Казариновых последнего времени, Антон Николаевич мгновенно вообразил, в каком направлении могли выстроиться раздумья Александра Иосифовича. И пристав помог своему другу осуществить его деликатную дипломатическую миссию. Он первым заговорил о Тане и сказал, между прочим, что прямо-таки увлечен ею, тоскует, да и только, если долго не видит ее, не слышит ее голоса, ее песен. Что оставалось после этого Александру Иосифовичу? – конечно, только подсказать Таниному воздыхателю не тушеваться и не медлить, а прямо брать ее в жены. Антон Николаевич еще было усомнился: а как-то отнесется к их уговору сама Татьяна Александровна? будет ли благосклонна? На что Александр Иосифович, имея в виду показать, насколько безосновательно такое беспокойство, ответил единственно снисходительною усмешкой.
Но как ни был уверен Александр Иосифович в Таниной безропотности в отношении задуманного им, все-таки он решил позаботиться, как бы заранее исключить почти невероятное ее противление. И для этого он, воспользовавшись случаем, в Танином присутствии объявил многолюдному собранию о ее скором замужестве, как о чем-то безусловно решенном.
Замысел Александра Иосифовича удался на славу. В тот же вечер, возвратившись от Дрягалова, он очень сердечно, с истинно отцовскою доброжелательностью, побеседовал с Таней о грядущем важном для их семьи событии – ее браке. Беседа эта состояла из длинного монолога Александра Иосифовича, прерываемого оратором лишь для того, чтобы сделать глоточек чаю. Все получилось в точности, как он предполагал. Таня, чувствуя себя уже обязанною исполнить то, о чем было объявлено отцом во всеуслышание, не только не выказала какого-то недовольства столь решительною переменой в ее жизни, но даже не стала спрашивать, отчего это делается так неожиданно, так поспешно. Да и к чему спрашивать, когда на эти и на многие другие возможные вопросы убедительно и подробно ответил в своей речи Александр Иосифович. Это было апофеозом ее строгого, исключающего малейший ропот, воспитания. Закончив говорить и не услышав ни слова в ответ, Александр Иосифович позвал Екатерину Францевну, и они, по очереди перекрестив и поцеловав Таню, дали ей свое родительское благословение.
Но на этом предсвадебные формальности не закончились. Антону Николаевичу не хотелось, чтобы Таня шла под венец, будто приговоренная к каре, да к тому же заочно. Он так и сказал Александру Иосифовичу и Екатерине Францевне, что считает недостойным для себя пользоваться Таниным смирением, не считаясь с ее чувствами, что в обычае скорее диких народов, а не просвещенных европейцев и христиан. Поэтому он непременно должен встретиться с ней и, как подобает человеку благородному, просить ее руки. Александр Иосифович, хотя и считал это излишнею щепетильностью, не возражал.
И вот в назначенный день к даче Казариновых подкатила красивая черная коляска, запряженная двумя рослыми чагравыми. С Антоном Николаевичем приехала очаровательная девушка в легком белом платьице и в соломенной шляпке с узкими полями, какие носят англичанки, стриженная по моде коротко – волосы едва до плеч.
Весь дом, за исключением Тани, вышел встречать дорогих гостей. Даже бульдог Диз отправился полюбопытствовать – для чего это все собрались за калиткой? Александр Иосифович сменил по такому случаю дачный костюм на строгую партикулярную пару, и, как оказалось, не напрасно: Антон Николаевич также приехал по парадной форме – на нем был летний белый китель с ослепительными на солнце погонами.
Гостей, расспрашивая, по обыкновению, о том, как они добрались, не тяжела ли была дорога и прочем подобном, проводили в дом. Дочку Антона Николаевича взялась опекать и занимать Екатерина Францевна. А самого пристава Александр Иосифович с заговорщицкою улыбкой подвел к Таниной комнате и, не сказав ни слова, оставил его у заветной двери.
Таня заранее получила наставления от отца, как ей следует вести себя с Антоном Николаевичем: поскольку все уже решено, ей нужно вежливо и по возможности показывая свою симпатию к жениху, ответить согласием на его предложение.
Встретила она Антона Николаевича без тени смущения, хотя и не имела представления, как ей вести себя в этаких обстоятельствах – предлагать ли ему садиться или не надо? – но полагала, что жениху не занимать такого рода опыта.
Пристав помолчал, остановив внимательный взгляд на девушке.
– Татьяна Александровна, – прежде он никогда не обращался к ней по имени-отчеству, – вам, должно быть, известно, зачем я явился. Поэтому ни к чему намеки и недомолвки: я прошу вас быть моею женой. Согласны ли вы?
Тане почему-то стало его жалко. Не молодой ведь человек. И просит девушку. Спрашивает, согласна ли она. Наверное, очень переживает, каким бы невозмутимым не представлялся. Она опустила глаза и…
– Согласна, – произнесла тихо.
Ее сострадательный к вероятным мукам Антона Николаевича голос можно было принять как раз за проявление симпатии к нему. Александр Иосифович мог быть вполне доволен дочкой, – она исполнила все и даже сверх того, что от нее требовалось.
Пристав вдруг быстро и очень близко подошел к Тане, так, что она даже подалась от него на полшага, и поцеловал ей руку.
– Таня, пойдемте, я вас познакомлю со своею дочкой, – сказал он. – Она вам будет доброю подругой.
На веранде ждали их с нетерпением. Александр Иосифович, не сомневаясь нимало в Тане, не мог быть столь же спокоен за Антона Николаевича. Что, если тот в последний момент отступится? Нет, разумеется, пристав не Подколесин. И не сбежит в окошко. Но он может покориться излишне благородным порывам, если заподозрит, что Таня не по доброй воле дает ему свое согласие. Вот о чем переживал Александр Иосифович.
Но его опасения оказались напрасными. Он понял это, увидав сияющее счастьем лицо Антона Николаевича. Пристав чинно вышел на веранду с Таней под ручку.
– Господа, – сказал он, – Татьяна Александровна только что согласилась стать моею женой!
Александр Иосифович с широко разведенными для объятий руками подошел к ним и, расцеловав по очереди, сказал: «Будьте счастливы».
– Катенька! – позвал он забывшуюся в умилении Екатерину Францевну. – Иди же скорей поздравь дочку. И не забудь покрепче поцеловать зятя, – со смехом добавил он.
Вслед за родителями к Тане подошла молодая спутница Михаила Николаевича. Таня, занятая родительским вниманием, прежде как-то не рассмотрела ее и только теперь внимательно вгляделась в лицо красавицы. И сейчас же узнала.
– Вот это моя Наташа, – сказал Михаил Николаевич. – Знакомьтесь.
– А мы знакомы, – улыбнулась девушка, – правда, Таня?
В Таниной жизни в последние месяц-полтора произошло столько всего удивительного, что она уже не успевала удивляться какой-нибудь новой неожиданности. Наташа, с которой они были у вещей старицы Марфы в тот памятный последний день Таниной вольницы, оказалась дочкой Антона Николаевича!
Эта новость вызвала у всех натуральный восторг. Ликовала даже m-lle Рашель, не разобрав толком, в чем причина радости. Но ей, по ее положению в доме, полагалось проявлять ровно те же чувства, что были у господ. Александр Иосифович крикнул девушке подавать шампанского.
– Друзья! Любезные мои друзья! – Он ходил по комнате и беспомощно оглядывался на всех, словно терялся выбрать, кого бы сейчас расцеловать – эх, взять бы так всех разом да прижать к сердцу, только жаль не получится, но и одного кого-то, в ущерб прочим, он не мог выбрать. – Вот когда чувствуешь, что не напрасно прожил жизнь! Это… чувство полета! Невероятного облегчения! Нет, я теперь верно знаю, что печалятся, убиваются, выдавая дочь замуж, неискренние люди. Они еще и плакальщиц наймут! Лицемеры! Это же величайшая радость видеть дочь счастливою. А как говорят, счастлива не та, что у отца, а та, что у мужа!
В этот момент вошла служанка с шампанским.
– Так выпьем же, – сказал Александр Иосифович, взяв с подноса бокал, – за жениха и невесту! За наше общее счастье!
На другой день, возвращаясь со службы, Александр Иосифович заехал на Зацепу. Он разыскал дом мещанина Пихтина и спросил жильца Сысоя. Симпатичная толстушка лет тридцати, к которой он обратился, недоверчиво разглядывая Александра Иосифовича, стала допытываться, для чего ему понадобился жилец. Александр Иосифович ответил только, что он от Мартимьяна Дрягалова. И это произвело неожиданное впечатление – никаких вопросов к нему больше не последовало. Красотка проводила его во двор. Там находился бревенчатый амбар, служивший домовладельцу по всей видимости, конюшней и каретным сараем одновременно, но в одном углу в нем была отгорожена небольшая каморка, вполне пригодная для проживания хоть круглый год – с окошком, печкой и с отдельным входом. В каморке, у окна, сидел человек лет тридцати, может быть, и чинил сапог. Он был худощав, высокого роста, насколько можно судить о сидящем, с сильными костистыми руками. Александр Иосифович прямо-таки загляделся на то, как он мощно и мастерски тянет дратву. Обитатель каморки скользнул взглядом по вошедшим и вновь как будто сосредоточился на своем занятии.
– Ты, что ли, Сысой? – строго спросил его Александр Иосифович.
– А это кому как, – не поднимая на собеседника глаз, спокойно ответил тот. – Кому Сысой, а кому – не свой.
– Поговорить мне с тобой надо, – не умерив строгости в голосе, сказал Александр Иосифович.
– Говорите, коли надо… Да было бы чего слушать.
Александр Иосифович с болью во взгляде оглянулся на свою провожатую, не решаясь при ней говорить о чем-то, по всей видимости, важном.
– Мартимьян Дрягалов говорит, что ты большой мастер… – туманно начал Александр Иосифович. – И можешь исполнить работу… по своему ремеслу.
Рука с намотанною на ней дратвой застыла в воздухе. Сысой наконец-то внимательно посмотрел на своего незваного гостя.
– Люба, – сказал он, – поди-ка займись своим чем. О каком ремесле вы говорить изволите, господин хороший? – спросил Сысой, когда женщина вышла. – Я и сторож, и по плотницкой, и сапоги стачать могу, коли нужда. – Он снова дернул веревку и, убедившись, что она крепко села на место, взялся за шило.
– Ловко шилом орудуешь, – язвительно произнес Александр Иосифович. – Поди, и ножом умеешь не хуже? Сторож, говоришь? Где сторожишь-то? – на большой дороге?!
Сысой замер. Он так сжал кулаки, что они побелели.
– Красивая девка, – сказал Александр Иосифович будто бы ни с того ни с сего. – Ладная. Бела и румяна. Жена?
Сысой успел уже справиться с чувствами.
– Вроде того, – прошипел он сквозь зубы.
– А терем-то не по красаве. – Александр Иосифович оглядел тесную каморку, убранную с почти нищенскою скудостью.
О том, что комната все-таки знает женский уход, можно было судить по чистым кружевным подзорам под иконой и на кровати. Да и сама широкая кровать с медными блестящими шишечками свидетельствовала о том, что эта Люба Сысою не соседка вовсе, а кое-кто помилее. Эта догадка сразу подсказала Александру Иосифовичу, на чем ему теперь следует сыграть.
– Ей бы жить в палатах каменных, – продолжал он рассуждать. – Да ходить в шелках и бархате.
Сысой с силою воткнул шило в колодку.
– Что вам-то за дело? – По его голосу можно было судить, что ему слышать все это очень болезненно, досадно.
– Я свое дело знаю. А тебе надо бы знать свое. И хорошенько подумать о том, что я тебе говорю. А то ведь как бывает: упорхнет пташка туда, где просторней и сытней. Каково тогда одному придется, а? – И Александр Иосифович выразительно посмотрел на кровать.
– От меня если только упорхнет, так туда, откуда не возвращаются. – Сысой провел ладонью по горлу, наглядно изображая, что он имеет в виду.
– Иногда для женщины и такая перспектива не препятствие. Да и к чему тебе это, когда ты завтра же можешь стать обеспеченным человеком и близких сделать счастливыми. Если, конечно, захочешь.
– Так вам чего нужно? – спросил Сысой примирительно.
– Я с того и начал: поговорить. – Александр Иосифович поставил стул на середину комнаты и сел, не дожидаясь предложения хозяина.
– Отчего же не поговорить… Можно…
Глава 5
Оставшиеся до венца дни были для Тани, как и полагается, хлопотными. Обычно вся эта предсвадебная суета считается приятной. Таня же ничего приятного в ней не находила. Хотя и особенного недовольства происходящее у нее не вызывало. Она относилась ко всему безразлично, как это бывает, когда знаешь о неотвратимости надвигающихся событий, о невозможности их избежать.
Вместе с Екатериной Францевной и m-lle Рашель Таня с утра уезжала в Москву и лишь к вечеру возвращалась на дачу. Александр Иосифович даже уступил им на это время свою коляску. Оказалось, что Тане необходимы десятки разных новых вещей: от туфелек до заколок, от корсета до муфты. Муфты и те потребовались две – темная и белая. Так подсказала Наталья Кирилловна Епанечникова. Она, как непревзойденный знаток и эксперт по части дамских туалетов, приняла самое деятельное участие в Таниной марьяжной экипировке. Вечером, когда Таня, Екатерина Францевна и m-lle Рашель, нагруженные коробками, свертками, кульками, возвращались из Москвы, Наталья Кирилловна уже сидела у них на даче. Едва позволив Тане перевести дух, она, как театральный постановщик, устраивала целое представление. Она заставляла Таню примерять по отдельности и ансамблем приобретенные вещи и дефилировать по комнате перед всеми собравшимися, причем делала бесчисленные замечания и давала уйму советов.
Но за все эти дни Таню так и не навестила ее лучшая подруга, несмотря на то что могла бы прийти хотя бы за компанию со своею неуемною матушкой. Таня была уверена, что Лена в большой обиде на нее за недоверие, за то, что она не посчитала нужным поделиться с подругой такими важными новостями, за то, что она все-таки неисправимая гордячка. Так, наверное, теперь Лена думает о ней. И разве она поверит, что Таня узнала о своей женитьбе ровно одновременно с ней – на пирушке у Дрягалова! Да ни один нормальный человек в это не поверит.
На самом же деле все было не совсем так. Конечно, Лене и в голову не могло прийти, что для Тани ее скорое замужество стало такою же новостью, как и для всех прочих. Но особенно обижаться на подругу она не стала. Не сказала и не сказала. Мало ли почему? Александр Иосифович такой строгий. Может быть, не разрешил. Таня же почитает папу до самозабвения. Такие мысли приходили Лене. Но ее смущало другое. В сущности, ее детство так и продолжается. Она – Лена – по-прежнему остается ребенком своих родителей. А вот для Тани эта пора навсегда окончилась. Она вступает во взрослую жизнь, становится замужнею женщиной. И все это вдруг, совершенно неожиданно, в какие-то считаные дни. От таких размышлений Леночка сильно затосковала. Поэтому навестить Таню так и не собралась. У Тани же не было ни часа свободного времени, чтобы сходить к подруге.
Девочки жили в Кунцеве уже с месяц. В первые же дни они попытались что-то предпринять в поисках их несчастной подруги Лизы. Собственно, по-настоящему искать Лизу, куда-то поехать, где-то что-то узнавать о ней, могла только Лена. Потому что Таня имела теперь волю действовать по своему усмотрению еще меньшую, чем поднадзорные Мещерин с Самородовым. А Лена действительно несколько раз ездила в Москву. Она обошла, наверное, с дюжину церквей в той части, где жила Лиза, и все расспрашивала о пропавшей недавно девушке – не известно ли кому о ней чего-нибудь? Многие об этом слышали. К тому же Лизин отец – Григорий Петрович – в отчаянии дал объявление в газету: «Моя дочь! Прошу тебя пощадить меня и свою мать и возвратиться для нас в твое старое жилище. Тужилкин».Но, увы, как ни разнеслась молва об этом случае, никто ничего определенного сообщить о Лизе не мог. В одном месте, правда, какой-то прихожанин рассказал, что его кум, живущий в Симонове, сдает одной молодой особе комнату внаем. А нанимательница, в свою очередь, недавно приютила у себя совсем уже юную мадемуазель. На днях этот прихожанин был у кума и видел ее. И она, по его словам, вылитая та девушка, которую описывает Лена, то есть Лиза. Услыхав это, Лена стала упрашивать его сейчас же поехать им вместе в Симоново. Но прихожанин отказался, сославшись на занятость. Однако сказал, что собирается вновь быть у кума через несколько дней, пусть Лена приходит сюда же, и тогда он возьмет ее с собой. Но когда они с этим человеком все-таки добрались до его кума, выяснилось, что как раз в эти дни обе квартировщицы съехали. Куда? – не известно. Никаких больше соображений, как еще им искать подругу, у Тани с Леной не было. И они решили оставить это, в сущности, безнадежное занятие, предоставив событиям развиваться самостоятельно: может быть, какой-то случай поможет им разыскать Лизу, или та объявится сама.
Наконец, Таня все-таки вырвалась к подруге. Она уже не стерпела и довольно резко объявила маме и всем прочим, что имеет же она право хотя бы пригласить Лену к себе на свадьбу. Просто так пойти к ней и дружески пригласить. Или ей посылать лучшей подруге, живущей теперь в ста саженях от нее, билет по почте?! А самой день-деньской разъезжать по пассажам. А потом до ночи примерять юбки и шляпки, на радость Наталье Кирилловне! Тут уже Таню не стали неволить. Она и так беспрекословно подчинялась всем родительским повелениям, большим и малым. И как-то воспротивиться такому совсем уж пустячному ее желанию не посмел никто. Александр Иосифович даже сам распорядился, чтобы m-lle Рашель в этот раз Таню не сопровождала.
Таня нашла подругу в саду в беседке. Лена сидела там с книгой. Но не читала, а безучастно смотрела куда-то в заросли, где, собственно, и смотреть-то было нечего. Увидев Таню, она тотчас позабыла всю свою печаль. Раз уж Таня первой пришла к ней, мелькнуло у нее, значит, чувствует себя в чем-то виноватою. А в таких случаях Лена предпочла бы сама быть виноватою. Для нее это было бы много легче, чем знать о душевных переживаниях ближнего. Подруги, как обычно, обнялись и коснулись губками друг друга.
– Поздравляю тебя, – вздохнула Лена.
– Grand mersi, – с иронией ответила Таня. По привычке всегда интересоваться тем, что именно читают ее ближние, она взяла у подруги из рук ее книгу. Это оказался справочник по сестринскому делу. Таня знала, что Лена недавно поступила в курсы. – Когда заканчиваешь?
– К осени обещают выпустить.
– И ты решила все-таки ехать? – В свое время Лена ей рассказала, что после окончания курсов собирается отправиться с госпителем в Маньчжурию. – А что родители говорят?
– Папа очень даже одобряет! Говорит, и сам бы поехал, если бы не обязательства перед пациентами. А мама… у нее есть поважнее заботы. Она не сильно тебя замучила? – улыбнулась Леночка. – Уж если я просто прячусь от ее бесконечных рассказов о ваших приготовлениях, то воображаю, каково достается тебе.
– Нисколько! Я так благодарна Наталье Кирилловне за ее помощь…
– Понимаю… – Леночка было развеселилась, но тотчас умерила веселье. – Что ж, Таня, мы теперь расстаемся? – спросила она.
– Отчего?.. – Танин вопрос вроде бы подразумевал отрицательный ответ, но прозвучало это так неуверенно, что казалось, будто она подтверждает Леночкины опасения.
– Ну как же… У тебя теперь будет муж. А что подруги?.. Вспомни: для наших родителей имеют ли какое-то значение их друзья детства?
– Ах, Лена, – не выдержала наконец Таня, – я сама ничего не знаю! не представляю, что впереди и что это вообще такое быть замужем!
Лена нежно погладила подругу по плечу.
– А кто этот человек? – вдруг спросила она. – Ты давно с ним знакома?
Таня понимала, что Лена недоговаривает, и еще один вопрос: почему она ничего никогда ей не рассказывала? Но что на это можно ответить? Во всяком случае, сказать правду – это значит вызвать у Лены подозрение в ее притворстве, в нежелании быть откровенной. И не больше.
– Это папин старый знакомый, – ответила Таня. – Да я говорила тебе о нем – помнишь, Антон Николаевич, из полиции?
Лена даже не сразу продолжила разговор, так велико было ее изумление. Какое-то время она лишь смотрела на Таню широко раскрытыми глазами.
– Но, Таня, он же, наверное, пожилой человек, – проговорила она, запоздало сожалея о сказанном.
– У него дочка нам ровесница, – нисколько не смутившись, запросто ответила Таня.
– Ну, вот, ты будешь еще и мачехой. – Лена не удержалась от улыбки.
– Я сама об этом уже подумала, – усмехнулась Таня.
– Ты его любишь? – спросила Лена уже серьезно.
На этот раз Таня совсем уже не знала, как ответить. И прежде всего потому, что не вполне представляла, а что же подразумевать под любовью. Неприязни к Антону Николаевичу у нее не было и раньше. А последний их разговор, когда Антон Николаевич так благородно доверился ее воле, внушил Тане натуральную симпатию к нему. Но сказать, что она любит его, Таня не могла, равно и не могла сказать, что не любит.
Лена так и не дождалась ответа.
– Мама говорила, у вас венчание уже совсем скоро, – сказала она.
– Нынче в пятницу. Ты придешь? – как-то просяще спросила Таня.
– Куда же я денусь…
– Прошу тебя, приди, пожалуйста, пораньше утром. С тобой мне так спокойно.
Захваченная заботами, Таня и не заметила, как подошел день свадьбы. С раннего утра в доме уже было такое оживление, что все предыдущие дни казались временем праздного затишья. К даче Казариновых съехалось экипажей больше, чем когда-либо собиралось у их соседа-мецената. Какое удовольствие испытывал Александр Иосифович от этого! Он восторженно заметил кому-то из гостей, что это напоминает сбор кораблей ахейцев перед походом на Трою.
Первыми явились Епанечниковы с детьми. Маленькие Кирилл и Сережа были не просто гостями: на них возлагалась ответственная обязанность нести перед врачующимися иконы Спаса и Богородицы. На этот раз фамилию возглавлял сам Сергей Константинович. Вообще он редко появлялся на даче – не позволяла обширная практика. Но уже ради такого случая – свадьбы лучшей дочкиной подруги – он ненадолго оставил свои повседневные занятия.
Пришел и Дрягалов с Машенькой, Димой и Паскалем. Пришли еще какие-то люди – кунцевские дачники, – которых Александру Иосифовичу пришлось приглашать, когда он впервые у Дрягалова в доме объявил о Таниной женитьбе.
Наконец, прибыл поручитель жениха с огромным белым букетом из померанцевых цветов для невесты. Эта роль была возложена на помощника Антона Николаевича по службе – неженатого еще, стройного, с аккуратными усиками полицейского.
Появление поручителя жениха было для всех сигналом к отправлению. Дом просто-таки весь заходил ходуном. Слуги решили почему-то, что в эту минуту лучше передвигаться бегом. Наталья Кирилловна вдруг заметила какую-то, по ее мнению, неисправность в Танином убранстве и принялась было по новой зашпиливать ей платье, меняя расположение и форму складок на нем, что грозило отсрочить венчание на неопределенное время. И Леночке пришлось очень настоятельно потребовать от своей энергичной матушки оставить Таню в покое.
И вот Таня в сопровождении Александра Иосифовича вышла из дома. Собравшиеся – и знакомые, и незнакомые, и гости, и просто зеваки из соседних дач, – увидев ее, издали этакий общий возглас одобрения, похожий на могучий единый выдох. Дрягалов прищурился с такою многозначительною веселостью в глазах, что Машенька, хорошо знавшая истинный смысл этого лукавого прищура, погрозила ему пальчиком.
В белом шелковом платье, с длинною вуалью, в драгоценностях, присланных давеча женихом в свадебной корзинке, Таня была ослепительна. Казалось, на улице сделалось светлее, когда она появилась.
Александр Иосифович посадил ее в лучшую коляску, запряженную белою парой, туда же сели Екатерина Францевна, m-lle Рашель, Лена и оба ее братца с иконами. Все прочие расселись по своим экипажам, и поезд отправился в путь.
Жених в это время находился уже в церкви. Венчание назначено было неподалеку от Кунцева – в Покровском храме в Филях. Здесь гостей собралось еще больше, чем на даче у Казариновых. В основном это были сослуживцы Антона Николаевича. Казалось, будто в Филях ожидается полицейский парад – куда ни посмотри, всюду мелькали мундиры, фуражки, погоны.
Когда подъехала невеста, полицейские чины быстро выстроились в две шеренги от подножки коляски до паперти, причем правофланговые взяли сабли в положение «на караул». Александр Иосифович и Таня, пройдя сквозь этот строй почета, вошли в церковь, и уже там отец передал дочку ее жениху.
И тотчас начался обряд. К ним подошел священник – маленький, с остренькою бородкой батюшка, – благословил их и вручил каждому по зажженной свече. Дьякон густым басом запел молитву. Потом священник надел жениху и невесте кольца и повел их на середину храма. Там на полу перед аналоем был расстелен белый плат, на который Таня с Антоном Николаевичем и встали. Батюшка громко, так, чтобы всем было слышно, спросил у жениха: «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем этой Татианы, которую видишь перед собою?» Антон Николаевич, борясь с волнением, как это чувствовалось по голосу, ответил: «Имею, честный отче». – «Не связан ли ты обещанием другой невесте?» – спросил батюшка. «Нет, не связан», – отвечал жених. Те же вопросы задавались и Тане. И, как ни вслушивалась в Танины ответы Леночка, она не нашла в ее голосе ни малейшего смущения, ни намека на робость. Лена сама оробела от этого вечного, при любых обстоятельствах, бесстрашия подруги. Если бы она сию секунду оглянулась на дочку Антона Николаевича – Наташу, стоявшую напротив нее по правой стороне, она бы без труда поняла по выражению ее лица, что и от Наташи не ускользнуло, насколько уверенно, невозмутимо держится Таня, превосходя в этом даже ее многоопытного отца.
Священник же в это время, прочитав следующие по чину молитвы, взял венец, перекрестил им жениха, поднес венец ему к губам и со словами: «Венчается раб Божий Антон рабе Божией Татиане во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» – возложил его на голову Антона Николаевича. Его поручитель подхватил венец и так уже и держал затем над головой жениха. Проделав то же самое с невестой, батюшка передал другой венец ее поручителю. После чего он с особой торжественностью трижды произнес: «Господи Боже наш, славою и честью венчай их!» Потом батюшка еще читал Евангелие, молитвы. Наконец, дав испить молодым повенчанным вина из общей чаши, он повел их кругом аналоя. Поручители следовали за ними, неся венцы над головами врачующихся. С клироса густо звучал тропарь: «Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало…»
В самый разгар венчания в храм вошел запыхавшийся, взволнованный молодой человек – кто-то из прислуги, как можно было судить по его платью. Несколько мгновений он искал растерянным взглядом кого-то в толпе. Наконец, разглядев бороду Дрягалова, он пробрался к нему и прошептал всего несколько слов на ухо Василию Никифоровичу, отчего тот сделался белее полотна. Дрягалов даже ничего не сказал ни Маше, ни Диме и опрометью выбежал вон из храма. За этим эпизодом внимательно, но не показывая, однако, вида, наблюдал Александр Иосифович.
Венчание подходило к концу. Молодые супруги приложились к иконам на Царских Вратах и, приняв от батюшки у самой солеи уже неведомо какое по счету благословение, торжественно вышли их храма. Маленькие Сережа и Кирилл Епанечниковы, одинаковые, будто один из них был отражением другого, несли впереди новобрачных образа.
Еще с час Таня и Антон Е[иколаевич принимали поздравления. Очередь к ним протянулась через весь двор. Тане вручили столько цветов, что скоро ее коляска, куда шустрые Леночкины братья сносили букеты, напоминала клумбу на колесах. Первым, естественно, поздравлял дочку Александр Иосифович. Он говорил, нисколько не приглушая голоса, а, напротив, так, чтобы его слова были слышны всем присутствующим. К тому же все гости деликатно примолкли, когда заговорил отец новобрачной.
– Дорогая, любимая моя дочь! – не в силах скрыть свои переживания, изменившим ему голосом произнес Александр Иосифович. – Если в этот светлый день во всем мире и найдутся двое людей, которые лишь изображают себя радостными и счастливыми, чтобы не омрачать всеобщего веселья, но на самом деле душа у них ноет от скорби, так знай, эти двое мы – твои родители! Я, конечно, всегда понимал, что дочь – это не собственность моя, живущая мне на забаву, которую я могу держать при себе сколько угодно долго. Я понимал, что рано или поздно мне придется скрепя сердце ввести ее во храм и передать тому, который предназначен ей в вечные спутники. Но, милая Таня, я и вообразить не мог, каким непосильным испытанием это для меня будет. И если бы рядом с тобой сейчас стоял не Антон Николаевич, а любой другой человек, не знаю, смог бы я пережить свою душевную боль. И только осознание того, что заботу о тебе отныне будет нести достойнейший из людей, отчасти умеряет наши едва переносимые страдания. Будьте же счастливы. – Его голос умягчился, подобрел, лицо просветлело в грустной улыбке. – Не думайте о том, как безутешны мы теперь будем в нашем горестном одиночестве. Мы смиренно понесем свой крест. Лишь бы вы никогда не знали печали. Наша родительская отрада отныне только в вашем счастье.
И Александр Иосифович, более не сдерживая слез, прижал к себе Таню и долго не отпускал ее, будто прощался, будто обнимал ее в последний раз. Екатерина Францевна даже слегка поддержала его под локоть, будто опасаясь, что муж может лишиться чувств. Иные женщины в толпе промакивали глаза платочками.
В цилиндре, во фраке и пластроне, с тростью в руке, Дрягалов верхом летел в Кунцево. У калитки его дачи стояли какие-то люди. Дрягалов прямо на коне хотел въехать в калитку, да передумал, разглядев под самою дверью большое бурое, уже подсохшее, пятно. Он спрыгнул на землю, чтобы внимательнее рассмотреть пятно, которое оказалось не единственным: на двери он увидел еще несколько пятен того же цвета, оставленные, как можно было понять, вымазанною кровью рукой.
– В дом отнесли! В доме он! – быстро заговорил кто-то Дрягалову на ухо.
Дрягалов вбежал в дом. Кто-то из прислуги проводил его в людскую. И там перед ним предстала страшная картина: на лавке весь в крови лежал Егорыч, он казался мертвым, лицо его было пугающего землисто-серого цвета. Вокруг него хлопотали слуги. Старик-знахарь, с былинною белою бородой, живущий в доме при больном Мартимьяне, держал у носа несчастного Егорыча пузырек с нюхательными каплями. Мартимьян тоже был здесь. Он вжался весь в свою коляску и, не отрываясь, страшными глазами смотрел в лицо Егорычу.
– Доктора позвали?! – громко спросил Дрягалов.
Но никто ему не ответил, так все были растеряны.
– Викулыч, я спрашиваю, позвали доктора?! – с угрозой спросил Дрягалов у знахаря.
– Позвали, – ответил старик. – Да только ни к чему он ему… дохтур-то…
В это время Егорыч приоткрыл глаза.
– Василий… – прошептал он. – Василий… скажи этому парнейчику… французу… что он здесь…
– О ком ты? – спросил Дрягалов, страшась, что больше ничего не услышит от него.
– Секретарь… из русского посольства… он знает… – совсем уже невнятно проговорил Егорыч. – Какой сокровища искал…
– Сокровища? – переспросил Дрягалов, приняв это за бред умирающего.
– Он здесь… – из последних сил сказал Егорыч. И больше уже не произнес ни звука.
– Помер Егорыч, – сказал старик-знахарь.
Все, как по команде, перекрестились. Старик протянул было руку к лицу покойного. Но Дрягалов опередил его и сам закрыл Егорычу глаза.
– Кто его? – страшным голосом вымолвил Дрягалов.
– Кто-то постучался в ворота, – ответил Мартимьян, – Егорыч открыл и сейчас получил финку в живот.
Скоро вернулась и Машенька с Димой и Паскалем. Встревоженные тем, как поспешно Василий Никифорович ушел с самого венчания, они не остались на свадьбе. И, едва поздравив Таню и ее мужа, поспешили домой.
Дрягалов сразу же попросил Маню помочь ему объясниться с Паскалем. И передал тому слово в слово все, что услышал от Егорыча на последнем его издыхании.
Для Паскаля смерть Егорыча, с которым он очень подружился, стала по-настоящему горестною потерей. Он так опечалился, что даже не смог хладнокровно вдуматься в последние слова Егорыча к нему. Паскаль решил, что старый добряк, прельстившийся его намерением записать рассказ о своих приключениях в Китае, даже сходя в могилу, заботился, как бы не унести с собой какой-нибудь детали, относящейся к этому повествованию, как бы присовокупить еще какие-то сведения, хотя бы и такие пустячные. Паскаль пообещал себе расписать все подробно, как только возможно. Это будет его данью уважения к замечательному русскому.
Егорыча похоронили на Дорогомиловском кладбище. Дрягалов поставил на его могиле большой дубовый крест, который хорошо было видно с Москва-реки.
Через несколько дней после этого Дрягалов, Машенька и Паскаль уехали в Париж.
Глава 6
Как ни радел чиновник охранного отделения о своих сотрудниках – действующих и бывших, – как ни старался позаботиться об их судьбе, но если их интересы не соответствовали его замыслам, он поступал все-таки по-своему, не считаясь с тем, что доставляет кому-то неудобства. То есть если требовалось принести сотрудника в жертву делу, Викентий Викентиевич не останавливался перед этим.
Решившись во что бы то ни стало обнаружить полицейского агента в поднадзорном своем социалистическом кружке, он придумал использовать двух друзей студентов как приманку для выявления этого человека. Он попросил Дрягалова поселить их у себя на даче, ни в коем случае не позволять им никуда отлучаться и докладывать ему о всяком визите к ним. Случай помог исполниться его замыслу быстрее, чем он сам предполагал. Когда Дрягалов пришел к нему просить посодействовать выправить Мещерину и Самородову бумаги для выезда из России, чтобы те могли помочь ему в его бедствии, Викентий Викентиевич, пообещав все это сделать, сам же немедленно написал московскому обер-полицмейстеру анонимный донос от некоего «верноподданного», но, как можно было понять из написанного, человека не совсем чужого и в революционных организациях, в котором он известил полицию о том, что ему наверно известно о намерении таких-то поднадзорных скоро уехать за границу с целями, по всей видимости, противозаконными. Он полагал, что полиция, узнав об этом, отправит к студентам своего агента из кружка, который, под видом дружеского визита, выведает у них, для чего именно они едут в Париж, с кем там намерены встречаться и прочее. То, что в результате они вряд ли куда-то поедут – полиция позаботится этого не допустить, – а следовательно, и Дрягалову они не сумеют помочь, Викентия Викентиевича вполне устраивало. Это исключительно отвечало его собственным видам.
Получив от Дрягалова сообщение о том, что к студентам приезжал Саломеев, чиновник от души посмеялся. Выходило, что агент полиции в кружке… сам его руководитель! Кстати, Викентий Викентиевич предвидел возможность такого варианта, почему сообщение от Дрягалова не стало для него слишком уж оглушительною новостью. Когда полиция раскрыла типографию, он сразу понял, что выдать ее мог только кто-то из первых лиц кружка. Такими лицами, как верно он знал, были Лев Гецевич, Хая Гиндина и Саломеев. И вот теперь вполне подтвердилось, что последний-то как раз и является агентом полиции.
Когда Викентию Викентиевичу открылось это важнейшее обстоятельство, он смог сделать очень интересные выводы. Удивительным агентом был этот Саломеев: работая на полицию, он вместе с тем укреплял кружок, заботился о дальнейшем его существовании. Если он выдал двух не особо опасных мечтателей – Мещерина и Самородова и еще какую-то совсем незначительную гимназистку, но не открыл главных, по-настоящему опасных кружковцев, значит, он имел цель, показывая полицейским свою работу, все-таки не допустить окончательного разгрома организации. По всей видимости, Саломееву выгодно было сохранять status quo по двум соображениям: во-первых, это давало ему двойной доход – от полиции и по линии революционной деятельности, а во-вторых, положение руководителя социалистической организации, возможно, очень льстило его амбициям. Такие мотивы Викентию Викентиевичу тоже были известны.
Обнаружив наконец в кружке агента полиции, чиновник, естественным образом, задумался: а что же ему теперь с ним делать? Не обращать на него внимания и по-прежнему продолжать работу с кружком, опираясь на своего малозначительного сотрудника Попонова, это значит рисковать успехом, сводить на нет работу не только свою, но еще многих людей, – полиция в любой момент может спутать ему карты, как это они сделали недавно. Оставлять все как есть, очевидно, не годится. Викентий Викентиевич подумал даже, а не устранить ли вообще этого Саломеева. Такой прием не нов. Это можно сделать руками самих же социалистов: можно подбросить им какие-то сведения, доказывающие, что Саломеев провокатор, еще как-то его подставить, и тогда уже они сами разберутся. Если не так, то с ним вполне может приключиться какой-нибудь случай из тех, о которых пишут в газетах в разделе «Московская жизнь». Мало ли народу ежедневно попадает под колеса пролеток, конок, тонет в реке, становится жертвою душегубцев где-нибудь в темном переулке и прочее. Да, можно было и так решить с ним. Но профессиональный азарт побуждал чиновника охранки к совершенно иным действиям, к более интересной комбинации: избавиться от недруга было несложно, но это не принесло бы такой пользы, какая выходила охранному отделению от перевербовки Саломеева в свои сотрудники; в этом случае чиновник получал бы не только полный контроль над кружком, не только дополнительное влияние на другие социалистические организации в Москве, но и смог бы в значительной степени управлять действиями своих конкурентов – доблестного сыска, который пока лишь мешал ему в его работе. Саломеев – этот талантливый в своем роде человек – был ему очень нужен живым и невредимым. И для начала Викентий Викентиевич решил просто поговорить с ним, постараться убедить Саломеева склониться к сотрудничеству. Не выйдет договориться, найдутся и другие методы воздействия. Но добиться своего во что бы то ни стало чиновник считал уже делом чести.
И как-то на улице к Саломееву подошел человек, в котором опытный подпольщик и не менее опытный полицейский агент без труда угадал филера. Такие типы попадались на их пути нередко. Их можно было узнать по взгляду по манерам, по другим, незаметным для простых людей, но ясно видимым для социалистов, приметам.
Саломеев тотчас определил, что это филер. Но обычно они никогда не разговаривали с тем, за кем наблюдали. Они всегда оставались на почтительном расстоянии от объекта. Этот же не только приблизился к Саломееву необыкновенно близко, но и заговорил с ним.
– Господин Саломеев, – сказал незнакомец, – не откажите сейчас зайти в трактир Феклушина, это здесь рядом – на Пятницкой. Там вас ждут.
– Вы, сударь, верно, ошиблись… – стараясь не показывать испуга, произнес Саломеев.
– Никак нет-с. Ждут вас там. Для разговора для важного…
Тут у Саломеева начало проясняться, что это не слежка за ним и не угроза ареста, чего, впрочем, он и не боялся, имея надежное прикрытие. Вместе с тем он сообразил, что сейчас его беспокоит вовсе и не сыск, – их связь с ним была устроена совсем по-другому, – а кто-то еще. Он пожал плечами.
– Как вы сказали? – спросил Саломеев. – Трактир… Феклушина?
– Так точно-с, – почти радостно подтвердил филер. – Войдете, и в левом углу столик, возле окошка… Там вас ждут.
Саломеев отправился по указанному ему адресу. Он разыскал трактир, занимающий весь первый этаж двухэтажного дома. Возле дверей, обнявшись, покачивались двое пьяных, они мутными, непонимающими глазами разглядывали всякого входящего в трактир, однако все-таки не задирались ни на кого и не шумели, потому что поблизости прохаживался городовой. В трактире Саломеев сразу приметил в левом углу зала господина с красивыми вьющимися волосами, сидевшего за круглым столиком спиной ко всем. Перед ним стояли бутылка вина и бокал. Едва Саломеев подошел к нему, он сказал, не оглянувшись:
– Прошу вас, господин Саломеев, садитесь. Простите великодушно за беспокойство, – продолжил господин, когда Саломеев сел рядом, – но очень уж хотелось побеседовать с вами, встретиться, так сказать, tete-a-tete.
– С кем имею честь? – стараясь говорить надменно, спросил Саломеев.
– Называйте меня Викентием Викентиевичем. Я служу в Московском охранном отделении. Надеюсь, вы слышали о такой организации?
– Вроде что-то слышал… – довольно развязно, показывая, насколько слова собеседника не произвели на него впечатления, ответил Саломеев. – А в чем, собственно, дело?
Саломеев все понял. Он понял, что нужен зачем-то охранке. И, по всей видимости, ему будет сделано предложение о сотрудничестве. Саломеев неплохо уже разбирался в жандармских приемах и, в общем-то, предполагал, как может быть теперь выстроена его вербовка охранкой – от подкупа до угроз. И он резонно рассудил: зачем ему дожидаться угроз или еще какого-нибудь шантажа, когда лучше сразу согласиться работать за вознаграждение?
– Вам не нужно, наверное, рассказывать, господин Саломеев, о том, что нам известно о вас решительно все, – сказал чиновник охранного отделения.
– Допустим…
– Так вот, понаблюдав за вами довольно, мы сделали вывод, что могли бы стать полезны друг другу, если бы пришли к согласию.
– Чем же я могу быть вам полезен… Викентий Викентиевич? – Саломеев делал вид, будто не понимает, что от него хотят.
– Ровно тем же, чем вы полезны сыску. Я, кстати, хочу объяснить вам, если вы не знаете, что мы, охранное отделение, и сыскная полиция – два подразделения одного департамента. Следовательно, если вы помогаете одной государственной службе, то даже нелогично было бы манкировать подобною же другою. Вы не согласны?
– А разве мое согласие имеет какое-нибудь значение? – с достоинством ответил Саломеев.
Викентий Викентиевич усмехнулся.
– Приятно иметь дело с умным человеком, – сказал он. – Давайте же оговорим условия нашего сотрудничества. Чтобы у вас был к этому интерес.
Саломеев утвердительно кивнул головой, имея в виду показать, что это само собою, что никак по-другому и не может быть.
– Я думаю, – продолжил тогда Викентий Викентиевич, – вам было бы неинтересно с нами сотрудничать, если бы вознаграждение за это уступало тому, что вы получаете от сыска?
Саломеев опять лишь кивнул головой, подтверждая справедливость сказанного.
– Поэтому у нас вы будете получать немного больше. Но за это немногое я попросил бы вас исполнить одно необременительное, на мой взгляд, условие: ни в коем случае не посвящать полицию в наше сотрудничество. Иначе!.. – оборвался чиновник. Пугать Саломеева в минуту их сердечного согласия ему не хотелось. – Вы же понимаете, мы легко об этом узнаем.
Саломеев пообещал о своих связях с охранкой полиции не докладывать.
– Вот и славно, – улыбнулся Викентий Викентиевич. – Тогда обсудим наши действия. – Он щелкнул пальцами, к ним тотчас подбежал половой. – Принеси-ка, любезный, еще один бокал…
– Скажите, – спросил чиновник, наливая вина Саломееву, – отчего вы показали полиции на студентов и гимназистку – очевидно, не самых ценных ваших кружковцев, – но не открыли главных заводил?
Саломеев поднял брови, показывая, будто его удивляет такая непроницательность виртуоза-сыщика.
– Вам так не терпится лишиться работы?! – ответил он. – Революционные организации – это же ваш, жандармов, хлеб. И я вам больше скажу: в последнее время я стал чувствовать какую-то заботу о нас, такое впечатление, что организацию кто-то опекает, оберегает. Уж не вы ли? Но я вас вполне понимаю: деятельность таких организаций – это смысл вашего существования. Точно так же, как смысл существования военных в войне.
– Почему же вы не добавляете, что это и для вас чревато некоторыми неприятностями? Ведь и ваш смысл существования ровно в этом же – вы, как посредник между властью и беззаконием, что вы станете делать, если беззаконие будет, в конце концов, подавлено? Купите домик где-нибудь здесь – в Замоскворечье – и превратитесь в неприметного мещанина? Вам по вкусу пришлась бы такая перспектива?
– Не думаю, – улыбнулся Саломеев. – Но как любопытно выходит: получается, я – революционер – не хочу революции, потому что нынешняя жизнь посредника, как вы сказали, меня вполне устраивает, а вы, жандармы, напротив, хотите революции, чтобы вечно предотвращать ее и, таким образом, быть нужными государству людьми. Значит, у нас с вами много общего.
– Не много. Но кое-что есть. – Чиновнику, кажется, пришелся не по вкусу этот саломеевский парадокс. – Давайте все-таки говорить по существу. Скажите, вашу типографию вы открыли по той же причине, по какой сдали студентов и гимназистку, – чтобы показать полиции видимость своей работы?
– Да, пришлось… Что поделаешь… Но о какой гимназистке вы все время говорите? У меня не было никакой гимназистки.
У Викентия Викентиевича промелькнуло, что он случайно коснулся еще какого-то неизвестного обстоятельства дела. Если гимназистку арестовали не по саломеевской наводке, то по чьей? Но сейчас об этом не время было размышлять.
– Скоро вы получите новую типографию, – сказал чиновник. – Надо же вам показывать видимость своей работы и на революцию. Не только на нас.
– Типографию? – изумился Саломеев.
– Да. Небольшую. Но, разумеется, сыску о ней ни полслова. Я не намерен собственными руками доставлять им успех в их работе. В ущерб своим же интересам.
– Да, конечно, – согласился Саломеев.
– Скажите, чем ваш кружок собирается заниматься в ближайшее время?
Саломеев как-то неопределенно пожал плечами.
– Сейчас идет война, – ответил он. – Социалисты, как вы знаете, наверное, против этой войны и даже желают поражения России, полагая, что поражение ослабит самодержавие. Если вы не в шутку выделяете нам типографию, значит, будем теперь пропагандировать эту идею в форме распространения листовок и брошюр. Или вы хотите, чтобы мы печатали там дешевые календари для народа?..
– Нет, нет, – поспешил его успокоить Викентий Викентиевич. – Используйте типографию, так же, как вы использовали старую, то есть по собственному усмотрению. Но какие у вас планы, кроме этого?
– Пока ни о чем таком конкретном сказать вам не могу. Наша организация уже довольно долго не собиралась… ввиду известных обстоятельств… Должно быть, вы об этом также осведомлены. Как-нибудь соберемся, тогда и будет видно.
– Хорошо. Так и решим. Но скажите, вам известно, где теперь ваша Гиндина? Из последней своей квартиры она недавно съехала. И куда? – мы пока не знаем.
– Она жила в Симонове где-то, кажется… И не говорила, что собирается куда-то съезжать. Для меня самого это новость. Но, как только узнаю, скажу вам, если нужно…
– Нужно. Мне необходимо знать о ваших кружковцах решительно все – где они живут, где находятся в настоящий момент, куда поехали. Понимаете? – все!
На всякий случай Саломеев не стал рассказывать чиновнику из охранки, куда именно съехала Хая Гиндина, сославшись на незнание, – что уж теперь им всю подноготную открывать! – на самом же деле новая квартира соратницы ему была известна. Больше того, это он и помог ей туда перебраться.
Незадолго перед тем Саломеев привел к Хае новую участницу их организации – одну из тех трех девушек, что когда-то приходили к ним на заседание, – и поручил ей взять новенькую под свою опеку, велев одновременно поскорее куда-нибудь перебраться отсюда вместе с ней. Потому что Хая жила в Симонове уже довольно долго. И если полиция не заинтересовалась ею, слава богу, пока она жила одна, то наверно заинтересуется теперь, когда у нее появилась еще компаньонка. На новом же месте они, по крайней мере, первое время могут оставаться в относительной безопасности. Саломеев вручил той и другой новые документы и пообещал подыскать им какое-нибудь укромное местечко. Он им посоветовал выдавать там себя за единоутробных сестер-сирот, приехавших в Москву поступать в курсы. Вскоре Саломеев, как и обещал, сообщил Хае один надежный адрес в Хамовниках. И девушки немедленно перебрались туда.
Саломеев все это отнюдь не посчитал нужным доводить до сведения патрона из охранки. Он рассудил так: если у них сотрудничество долгосрочное, то зачем же рассказывать все сразу?! – у них свой расчет, а у меня свой, – довольно будет и изредка сообщать что-либо, причем не самые свежие новости, а такие, которые за давностью не смогут нанести сколько-нибудь заметного ущерба организации. Таким образом, он и своим товарищам не сильно навредит, и в глазах охранки будет выглядеть деятельным, полезным сотрудником.
Когда же Саломеев сказал Викентию Викентиевичу, что не знает никакой арестованной гимназистки, то в этом случае он действительно нисколько не слукавил: о странном происшествии с Леной Епанечниковой ни ему, ни кому-нибудь еще в кружке так и не стало известно.
Этою новенькой, что Саломеев привел к Хае, была, как нетрудно догадаться, сбежавшая из дома Лиза Тужилкина.
Когда Лизе стало понятно, в чем именно ее подозревают Таня и Лена – и, мало сказать, подозревают: Таня, так та не желает даже объясниться, настолько ожесточена, до такой степени теперь пренебрегает ею, – Лиза в отчаянии бросилась куда глаза глядят. Подобной несправедливости она не знала в жизни. Особенно ее обидело, что несправедливы к ней не какие-то случайные люди, а лучшие, надежные и испытанные, казалось, подруги. От жгучего стыда Лизе захотелось ото всех спрятаться, скрыться, исчезнуть. Чтобы ни одно лицо, включая любимых, добрых родителей, никогда больше не напоминало о случившемся с ней величайшем бесчестии. Первым ее порывом было затвориться в каком-нибудь монастыре поглуше. Не откладывая дела вдаль и пользуясь случаем, пока не было родителей, она наскоро собрала чемоданчик и, распрощавшись с братьями и сестрами, отправилась на Рязанский вокзал.
Самый глухой из известных ей женских монастырей находился в Нижегородской губернии вблизи Арзамаса. Добравшись до обители, Лиза попросилась у игуменьи взять ее на послушание. Осторожная начальница, понимая, что образованная молодая москвичка, выбирая рясу, видимо, руководствуется какими-то мотивами отчаяния, поручила ей для начала просто потрудиться во славу Божию при монастыре. Через несколько дней к Лизе подошла какая-то монахиня и сказала, что ее хочет видеть духовница монастыря матушка Параскева. Ее проводили в изумительно чистую, уютную келью, в которой сидела старица… с детскою куклой на коленях. Кроме того, еще дюжины две кукол разного размера были аккуратно рассажены у нее на кровати. Духовница, не отрывая взгляда от любимой игрушки, проговорила: «Маменька не велит тебе в монастырь идти. Возвращайся, откуда пришла». Когда Лиза с провожатой вышли из кельи, монахиня объяснила ей, что прозорливая старица имеет духовное общение с предыдущей духовницей монастыря – блаженной Пелагеей. И если она сказала, что маменька не велит идти в монастырь, значит, это законно: так тому и быть! На следующий день Лиза распрощалась с монастырем и поехала назад в Москву.
Однако и возвращаться как ни в чем не бывало домой Лиза отнюдь не собиралась. Это выглядело бы совсем уж по-детски: поскиталась где-то неделю, постращала близких своим исчезновением в отместку за нанесенную обиду, да и объявилась. Прямо-таки возвращение блудной дочери.
Но, прослонявшись целый день по Москве, Лиза не придумала даже, где ей сегодня ночевать. Не говоря уже о более далеких планах. На Тверской забитые снедью витрины напомнили ей, что она целый день ничего не ела, и Лиза решила зайти куда-нибудь купить хоть сайку да ветчины, что ли, полфунта. Она вошла в первый попавшийся магазин с надписью над входом «Торговля Дрягалова и сына» и в самых дверях столкнулась с двумя господами, в которых тотчас признала знакомцев: в немолодом бородаче – того домовладельца, у которого они присутствовали на заседании социалистического кружка, – с ним рядом она в тот вечер сидела, – а в его элегантном спутнике – самого руководителя кружка. Эта нечаянная встреча и решила ее судьбу. Уяснив, в какой нужде оказалась девушка, руководитель кружка Саломеев предложил Лизе отправиться с ним к одному надежному товарищу, у которого она найдет приют на неограниченный срок. Узнав по дороге, что у Лизы нет теперь никаких определенных планов на будущее, Саломеев спросил: а не желает ли она быть полезной в благородной борьбе за лучшую долю рабочего народа? там исполнять какие-нибудь необременительные поручения? еще как-то помогать их организации? Лиза, не раздумывая, согласилась. Прежде всего, из благодарности к его участливому отношению. Но, вместе с тем, все сказанное Саломеевым отнюдь не было чуждым ее собственному настроению. К тому же Лиза подумала, что если подруги считают ее виновницей случившегося с кружком бедствия, то она теперь своим участием в этом самом кружке докажет всем ошибочность такого мнения.
Надежным товарищем, к которому Саломеев привел Лизу, оказалась еще одна ее мимолетная знакомая – та самая девушка, что так неодобрительно отозвалась о гостях кружка – трех подружках-гимназистках – на том памятном заседании, а потом еще запальчиво высказывала свое мнение по каким-то вопросам. Лиза ее тогда хорошо запомнила. На удивление, в этот раз Хая отнеслась к Лизе вполне дружелюбно. Когда Саломеев отрекомендовал ее новым их товарищем, Хая улыбнулась и протянула Лизе руку, – это была очень высокая степень благорасположения бывалой революционерки к кому бы то ни было.
Первое время, естественно, социалисты к Лизе присматривались: ни в какие свои тайны ее не посвящали. Но затем стали относиться все с большим доверием. Саломеев придумал для Лизы конспиративный образ гимназистки – благо вживаться в эту роль девушке не требовалось: вчера только бегала с книжками на уроки. Хая помогла ей сшить форменное платье с фартуком. А Саломеев позаботился приобрести портфель. Причем, бывалый конспиратор, он раздобыл где-то старый, повидавший виды портфель: не должно быть у старшеклассницы нового портфеля! И вот так, изображая гимназистку, Лиза ходила по Москве – из одного места в другое – и переносила всякие свертки в портфеле. Позже, когда она уже основательно втянулась в деятельность организации, ей стало известно, что свертки, которые она доставляет по разным адресам, – это листовки и брошюры для рабочих, отпечатанные в собственной типографии их организации. В конце концов Саломеев стал вполне доверять Лизе и позволил ей приходить получать листовки и прочее прямо в типографию, минуя посредников. Хая потом сказала: это означает, что она отныне считается одним из самых надежных их товарищей, способным при необходимости даже и возглавить организацию. Само собою, Лиза постоянно присутствовала на заседаниях кружка и с каждым разом все более уверенно и аргументированно высказывалась там.
Саломеев нашел для Хаи и Лизы квартиру в Теплом переулке у одинокой вдовы-дьяконши, у которой уже квартировали две курсистки. Вообще в Хамовниках повсюду нанимали комнаты студенты и курсистки. Поэтому среди массы учащейся молодежи еще две девушки вряд ли могли привлечь к себе чье-то внимание.
После встречи Саломеева с чиновником охранного отделения прошло месяца три. За это время новый сотрудник охранки не предоставил своему шефу никаких сколько-нибудь важных сведений, ограничиваясь лишь малозначительной информацией: например, извещал, куда именно отправляется произведенная в типографии печатная продукция, кроме того, он все-таки сообщил наконец в Гнездниковский о том, где скрывается Хая Гиндина, а также и о том, что вместе с ней теперь живет новая их участница Тужилкина, известная в организации под кличкой Гимназистка. Но Саломеев сам понимал, что за все это и подобное охранное отделение долго содержать сотрудника, к тому же весьма высокооплачиваемого, не будет: с него либо потребуют по-настоящему значительных сведений либо как-то взыщут – в лучшем случае отставят. Поэтому Саломееву во что бы то ни стало требовалось сообщить плательщику нечто такое, что, во-первых, укрепит к нему доверие Гнездниковского, а во-вторых, позволит еще несколько месяцев, не особенно утруждаясь, получать от охранки щедрое вознаграждение. И вот что Саломеев придумал.
Как-то вечером он постучался к своему соседу Льву Гецевичу.
– Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас! – игриво прокричал в дверь Саломеев. И, зная, что суровый товарищ ему не подыграет и «аминя» не последует, вошел в комнату. – Можно навестить схимника-отшельника?
Гецевич сидел за столом. Перед ним лежали раскрытые брошюрки и листы бумаги. Теоретик, видимо, сочинял какую-то новую статью. В печке у отшельника уютно потрескивали дрова. Саломеев знал, что Гецевич никогда не садится за работу, не затопив прежде печку: а ну как нагрянет полиция! – тотчас все бумаги и брошюры полетят в огонь!
– Лев, у меня к тебе вот какое дело, – посерьезнел Саломеев. – Товарищи из комитета требуют от нас более активных действий. Царизм увяз в войне. Пока еще коготком. Наша задача помочь всей птичке пропасть. Поражение царизма в войне – это наша победа.
– Очевидно, Россия эту войну не выиграет, – отозвался Гецевич.
– Нам мало, чтобы просто не выиграла, – завелся Саломеев. – Нам нужно насколько возможно более сокрушительное поражение государства угнетателей. Мы заинтересованы, чтобы война длилась как можно дольше и людские потери были как можно большие. Тогда в стране окажется больше недовольных бездарною государственною политикой. А следовательно, больше народа будет поддерживать тех, кто выступает и против этой политики, и самого государства, то есть нас. Нам повезло: Япония оказалась совсем не тем, чем ее представляли прежде. Вместо маленькой победоносной войны царизм ждет серьезное поражение, – довольно говорил он. – Царскому войску приходится несладко, японцы – наши союзники! – бьют его и в хвост и в гриву. И было бы прекрасно, если бы они дошли хоть до Урала. Поэтому наша текущая задача – по возможности поддержать этих нежданных союзников.
Гецевич пристально, строго, сощурив глаза, глядел на оратора.
– Послушай, – проговорил он, – давно собирался спросить: ладно, мы народ без чувства земли, нам все равно, где жить в подлунной, и эта страна для нас – лишь часть суши, где можно ставить какие угодно опыты, хоть известью все засыпать; но для тебя-то это, как вы говорите… отечество! как же ты так безжалостно относишься к земле, где покоятся десятки колен твоих предков? Ты утверждаешь: чем больше набьют ваших солдат на войне, тем сильнее аукнется выгодное для нас недовольство в народных массах! Нравственно ли это?
Саломеев понимающе улыбнулся.
– Нравственности вообще не бывает, – снисходительно ответил он. – Это выдумали слабые. Чтобы оправдать свое ничтожество, свое никчемное существование. Чтобы по отношению к ним была нравственность! А достойны ли они ее?!
Гецевич в обычной своей манере только безразлично пожал плечами в ответ, показывая, что больше его эта тема не заботит – все ясно!
– Итак, Лев, – перешел к делу Саломеев, – вот какова наша задача: комитет обязал нас выделить опытного, надежного человека для участия в диверсиях на Сибирской магистрали. Да, именно так! Теперь не время для теоретических изысканий. Революция ждет от нас реальных действий. На днях я выезжаю в Иркутск.
Взгляд Гецевича приобрел какое-то новое, несвойственное ему выражение – изумление, недоумение, интерес к собеседнику.
– То есть как это выезжаешь? – искренне-удивленно проговорил он. – Ты что же, сам поедешь?
– Боевой группы у нас, как ты знаешь, нет, – с иронией в голосе ответил Саломеев. – И откомандировать бывалого бомбиста мы не в состоянии. Следовательно, едет старший.
– Нет, нет, это невозможно. Кто же останется руководить организацией? Хая?
– Хая поедет со мной. Будет гораздо безопаснее, если в Иркутск отправится не подозрительный одиночка, а молодожены, не думающие вроде бы ни о чем, кроме своего медового месяца. Что касается организации: я очень надеюсь на тебя, Лев, тебе опыта не занимать, и никто лучше с руководством не справится.
– Подожди, подожди… Это абсурд! Я толком не знаю даже некоторых членов организации. Все связи, все явки – все держал ты! – типографию!
Саломеев замялся. Казалось, он не знает, что отвечать – находится в растерянности. Он как-то неуверенно развел руками.
– Что же прикажешь делать, Лев? – недовольно проговорил Саломеев. – Некоторые товарищи из других организаций уже поехали. А мы, значит, будем из благополучного московского далека поддерживать их своими теоретическими концепциями? Так? Это будет нашим вкладом в революцию?! Нет, Лев, настало время быть там, где труднее и опаснее! Словом, принимай руководство.
– Но разве ты бомбист? Или там какой-нибудь… динамитчик? Насколько мне известно, у тебя подобного опыта нет.
– И что из этого следует? – Заметно было, как Саломеев сдерживается, чтобы не рассердиться. – Это дает мне право бесчестно сидеть в замоскворецкой тиши, в то время как другие отправились на смерть?.. – Он оборвался, отвернулся и стал безотчетно судорожно мять кисти.
Гецевич, сжав зубы, так же безотчетно бегал глазами по разложенным на столе бумагам. Повисла пауза.
Вдруг Гецевич хлопнул ладонью по столу.
– Все! – сказал он. – Еду я! Лишить организацию головы – это свести на нет всю ее деятельность! Еду я. И точка!
– А ты бомбист? Или динамитчик? – язвительно спросил Саломеев.
– А какое это имеет значение?! Ты прав: у нас нет боевой группы! Так не все ли равно, какой неумеха поедет? Но, по крайней мере, организация не лишится руководителя и сохранит способность действовать.
Саломеев упал на стул и обхватил голову руками. Он был подавлен вставшей перед ним трудноразрешимою дилеммой.
– Лев, это опасно! – воскликнул он, не находя других аргументов. – В случае провала и ареста знаешь, что террористу полагается в условиях военного времени?!
– Не нужно только мне этого объяснять! – раздраженно отозвался Гецевич. – Передай Хае, что еду я!
– Ну нет, тогда Хае не судьба прогуляться до Байкала. Придется тебе побыть какое-то время мужем нашей Гимназистки. У вас с Хаей такая яркая экзотическая внешность, что если вы поедете вместе, то будете бросаться всем в глаза, как североамериканские индейцы, путешествующие по России. А Лиза – русская красавица – внимание к себе привлекать, разумеется, будет, но в этом-то и уловка! – в равной степени, таким образом, она отведет подозрения от тебя. И, кстати, она умеет стрелять, как рассказывала мне. Кто знает, может, это ее мастерство еще и пригодится?..
– Хорошо. Мне, в сущности, все равно – Хая, Лиза!.. Когда выезжать?
– Через два дня для вас изготовят документы – и хоть сразу в путь. В Иркутске найдете вагонное депо. Оно где-то рядом с вокзалом. Там нужно будет разыскать товарища Трофима – это председатель подпольного стачечного комитета. Пусть его ищет Гимназистка. Сам в депо не показывайся. Товарищ Трофим все объяснит, что делать. И, пожалуйста, Лев, будь осторожен, – сердечно добавил Саломеев.
На следующий день Саломеев встречался в условленном месте – в том же трактире Феклушина – с чиновником из охранки.
Саломеев напомнил Викентию Викентиевичу, что социалисты добиваются поражения России в войне. И средств не выбирают – любые годятся.
– Послезавтра двое членов нашей организации – Гецевич и Тужилкина – выезжают в Иркутск, – рассказывал он. – Там заодно с местными социалистами они должны будут организовать и осуществить диверсию на железной дороге: может быть, взорвать мост или пустить воинский эшелон под откос – что-то в этом роде. Это очень серьезное предприятие. Но чтобы его осуществить, – продолжал Саломеев, – чтобы собрать и выслать за тридевять земель людей, мне требуется некоторая сумма. И немалая, замечу.
– Позвольте, – удивился Викентий Викентиевич, сообразив, о чем зашла речь, – что же, я должен оплачивать террористам дорогу к месту предполагаемой диверсии? И еще выдать им карманные на гостиницу и ресторан?
– Так вы же и предотвратите диверсию. А значит, выслужитесь. Деньги вернутся вам сторицей.
Чиновник не удержался усмехнуться на такой цинизм.
– А вам не жалко этих ваших друзей-товарищей? – спросил он. – Вы хоть представляете, что их ждет?
– Я вас не понимаю… – насторожился Саломеев.
– Да нет, нет. Все в порядке. Это я так…
Викентий Викентиевич вынул из кармана несколько сложенных вдвое бумажек радужного цвета и вручил их Саломееву.
Глава 7
В Париже Дрягалов и Машенька поселились в разных концах города: Машенька у Годаров на Пиренейской улице, а Дрягалов – в Пасси, в квартире, заранее нанятой для него Клодеттой. Клодетта же и отвезла его туда прямо с Восточного вокзала. Молодежь наказала покорному им во всем Василию Никифоровичу пока не выходить из дому. Потому что если с ним произойдет какое-нибудь происшествие, что очень даже возможно при его беспокойной натуре и при неумении объясняться по-французски, то это может попасть в газеты, и тогда все их замыслы разрушатся.
А Паскаль, как и было условлено, немедленно поместил в своей «France-matin» объявление: «Известный русский коммерсант, владелец Торгового дома, Дрягалов и сын“, Василий Дрягалов скончался 9 июня этого года в Москве, о чем безутешная вдова, находящаяся теперь в Париже, извещает его французских поставщиков».
Машенька так и не окрепла после случившегося с ней несчастья и чувствовала себя крайне скверно, но тем не менее она ни в коем случае не пожелала сидеть дома и ожидать, когда Руткин пожалует навестить ее – безутешную вдову, – как полагал Паскаль. Она решила не терять времени и самой его искать. Паскаль не только не стал Машеньку отговаривать – он страшно обрадовался такому ее намерению: его-то тем более привлекали приключения и опасности. Он прямо-таки загорелся сражаться со злодеями, хотя бы это были все парижские апаши. Для верной своей победы, а больше для собственной уверенности он попросил у дедушки его «смит-вессон». Старик Годар, вполне осведомленный о несчастьях, преследующих их русских гостей, нашел воинственные намерения Паскаля поведением, достойным внука заслуженного офицера. Он не только выдал ему револьвер, но и решительно заявил, что также мобилизуется и вообще принимает на себя главное командование. С его точки зрения, найти Руткина в Париже было делом почти безнадежным. Разве что повезет, и он случайно им попадется. Подполковник очень высоко оценил уловку Паскаля с объявлением о смерти Дрягалова и сказал, что, вернее всего, разбойник сам будет как-то искать связи с Машенькой, чтобы еще поживиться на ее счет. Но с другой стороны, сидеть, будто в осаде, ничего не зная о маневрах неприятеля, и рисковать быть застигнутыми врасплох, им не годится. Им нужно постараться нанести упреждающий удар.
По плану подполковника Годара им прежде всего необходимо было позаботиться о прочности собственного тыла, что в конечном счете и обеспечивает инициативу в действиях. Без сомнения, Машеньку будут искать. Но вряд ли Руткину имеет смысл приходить самому, после того, как он вполне открыл ей свою изуверскую сущность. Скорее всего, пожалует какой-нибудь разведчик из его шайки. Это и будет для их франкорусского согласия случаем раскрыть, где именно дислоцируется неприятель. Кто бы «вдову» господина Дрягалова ни спросил, а это может быть не обязательно клошар, а человек вполне респектабельный, но кто бы ни был, лакею следует отвечать, что да, мадам в Париже, но теперь ее нет дома. И когда визитер отправится восвояси, в действие вступит их авангард.
Старик Годар за годы жительства на улице Пиренеев свел знакомство со многими местными les enfants abandonne – бездомными детьми, но, разумеется, не подкидышами-младенцами, как, казалось бы, можно было перевести это по-русски, а с вполне солидными господами восьми – тринадцати лет. Он не раз водил этих гаврошей угощаться к булочнику, не раз выручал их из полиции или просто во время своих прогулок о чем-нибудь с ними беседовал, причем, увлеченные его рассказами, «абандонеры» так и шли за подполковником до самого Пер-Лашез, а потом обратно. Все прохожие оглядывались с удивлением на эту странную компанию.
Этим своим верным гвардейцам старый Годар и дал ответственейшее поручение – находиться где-то неподалеку от его дома и внимательно, но незаметно следить за калиткой. Если к калитке кто-нибудь подойдет и лакей подаст им условленный сигнал, то им нужно будет следовать за этим человеком, куда бы он затем ни отправился – хоть в Нёйи, хоть в Ванв, – все равно идти за ним до конца.
Так, оставив в тылу засаду, подполковник Годар повел главные свои силы – внука с женой и русскую гостью – искать диверсий в расположении неприятеля. Прежде всего он соответствующим образом экипировал отряд. Показаться в тех местах, куда лежал их путь, в своей обычной одежде им было совершенно невозможно. Сам подполковник надел вылинявшую плюшевую куртку, отчего стал похож на букиниста с набережной Сены. Паскаля нарядили в латаный серый костюм, одолженный у кого-то из слуг. С Клодеттой проблем не было вовсе: у себя в театре она выбрала из реквизита платье, какие носят девицы из провинциальных заведений. Этот костюм к ней так подходил, и она выглядела в нем настолько соблазнительно, что Паскаль, позабыв, зачем они затеяли весь этот маскарад, возгорелся удалиться с любимою женой в их комнаты. И Клодетте стоило немалых усилий унять своего безрассудного супруга. Сложности возникли с Машенькой. Дело в том, что ей непременно требовалось каким-то образом скрыть лицо, чтобы не быть случайно узнанной тем, на кого они выходили охотиться. Например, надеть шляпку с вуалью, как придумал вначале Паскаль. Но подполковник категорически возразил против такой идеи: в компании, в которой ей предстояло бродить по злачным местам Парижа, а особенно в самих этих местах, шляпка с вуалью была такой же нелепостью, как когда-то короткие штаны среди санкюлотов. Выход придумала Клодетта. Она устроила Машеньке такую замысловатую куафюру, что в результате ее лица почти не стало видно.
Для начала подполковник предложил прогуляться им за бульварами – по пивным, винным погребкам, дешевым кабачкам – одним словом, там, где полно всякого сброда. Можно, конечно, было поискать Руткина и под мостами, где ночевали самые отпетые бродяги. Но старый Годар рассудил, что вряд ли тот докатился до столь безотрадного существования, если он предъявляет своим данникам тысячные счета. Наверное, он обитает среди апашей, промышляющих чем-то позначительнее воровства булок.
Они разъезжали по предместьям несколько дней. Обычно подполковник велел кучеру остановиться где-нибудь в переулке за несколько кварталов до нужного им кабачка. И дальше они уже шли пешком, как будто и не думали никогда брать фиакр – откуда у них на это деньги?
В кабачке они садились куда-нибудь в сторонку, но так, чтобы хорошо просматривались все столики. Старик Годар вел себя в этих заведениях смело и даже вызывающе. По его мнению, здесь не следовало выглядеть беззащитными тихонями. Это могло кого-то побудить предъявить к ним какие-либо свои претензии. Поэтому подполковник, едва переступал порог, на все заведение кричал: «Garcon, biere!» [26]. Как будто он был главарь самой знаменитой парижской банды, а вокруг сидела такая мелочь, что ему вовсе не по чину было еще заботиться об их комфорте. И все равно совсем без стычек в таких местах обойтись не могло. Особенное внимание привлекала к себе Клодетта. Раза два или три Паскалю приходилось утихомиривать какого-нибудь не в меру горячего поклонника своей жены. Однажды даже, когда интерес каких-то посетителей к Клодетте превысил допустимый, подполковнику и его внуку пришлось доставать револьверы. Стрельбы, впрочем, не последовало, потому что один вид оружия подействовал на дерзостников умиротворяюще.
В этих заведениях старый Годар обычно завязывал с кем-то из завсегдатаев разговор. Это сделать было несложно, – стоило только предложить полупьяному полусонному субъекту, остановившему бессмысленный взгляд на ножке соседнего стола, стакан вина или кружку пива, мутные глаза его несколько оживали, и он мог в знак благодарности выложить все, что знал. В таких случаях подполковник начинал разговор издалека, с каких-нибудь пустяков. Но в конце концов подводил собеседника к вопросу о русских эмигрантах, которых, по его мнению, в Париже стало чрезвычайно много. В основном ни у кого на этот счет даже и мнения не имелось. У некоторых – немногих, – хотя и было какое-то представление о русских в Париже, вызвать интереса у Годара и его спутников оно не могло. Во всяком случае, о Руткине никаких, самых отдаленных, самых приблизительных сведений им услышать не удалось ни от кого.
Но это не сильно смущало подполковника – он сразу не строил особенных иллюзий на успешный результат их поисков. Его гораздо больше настораживало то, что спустя неделю, после публикации объявления о смерти Дрягалова, никто не явился спросить Машеньку. Юные друзья его, наблюдающие за домом, так и не дождались сигнала от лакея, чтобы им следовать за каким-нибудь визитером. Паскаль предложил было повторить объявление. Но дедушка категорически запретил это делать. Если те, к кому это объявление адресовалось, увидят повтор, объяснил подполковник, они могут смекнуть, что их настоятельно вызывают открыться, и тогда замысел добраться до Руткина уже наверно сорвется.
Наконец, всевидящие дозорные доложили подполковнику нечто такое, отчего старый военный едва не растерялся. Мальчишки сказали, что им кажется, будто за домом кто-то следит. Они заметили, как за эти дни по улице несколько раз прошел один и тот же человек, причем, стараясь не показывать вида, он рассматривал дом Годаров. А в последние два дня на улице появился нищий, которого они здесь никогда прежде не видели. Он со всеми своими пожитками разложился на скамейке на противоположной стороне, чуть наискосок от дома, и все поглядывает в его сторону, особенно если мимо дома кто-нибудь проходит. Иногда ему подают, и кажется, будто он только за тем здесь и устроился.
Встревоженный такими известиями и не находя пока им объяснения, подполковник решил срочно собрать большой совет. Гвардейцам своим он дал теперь такое поручение: не ждать визитеров, а следить за всяким подозрительным, по их мнению, прохожим, особенно за этим бродягой с плетеным кузовом. Куда-то же он уходит в конце дня. Вот это и надо выяснить.
Сам же подполковник с Паскалем и Машенькой отправился в Пасси к Дрягалову. Надо было, наконец, и булонского затворника, как они прозвали Василия Никифоровича, ввести в курс дела и выслушать его мнение обо всем происходящем. Да и долг вежливости требовал навестить человека, который уже неделю с лишним не видит никого, кроме посыльных с обедами. В Пасси они поехали с невиданными предосторожностями. Главнокомандующий решил, что добираться всем следует поодиночке, разными путями, и в дороге каждому непременно сменить экипаж.
Дрягалов вначале обрадовался гостям, как, наверное, не радовался ничему с самого детства. «Я здесь сижу, будто в схиме!», – прокричал он Машеньке. Но увидев, как она невесела, и он притих. Подполковник Годар, не мешкая, приступил к делу.
– Что ж… нужно признать, усилия наши пока не принесли успеха, – сказал он. – Больше того, у меня такое чувство, словно не мы охотимся за неприятелем, а, напротив, неприятель внимательно следит за нами и наперед знает обо всех наших замыслах. Давайте рассуждать. На чем основывался план нашей кампании? – на газетном объявлении, которое должно было ввести врага в заблуждение и в итоге открыть его нам. Увы, этого не произошло.
– Он мог не прочитать, – предположил Паскаль.
– Если бы он был один, тогда, согласен, он мог бы и не заметить объявления. Но Руткин не один. С ним заодно действует целая банда сообщников. И это совершенно невозможно, чтобы никому из них оно не попалось на глаза. Тебе, мой друг, как журналисту, надо бы знать, что газета для преступников это такой же инструмент, как отмычка, как нож. Очень часто именно газета подсказывает им новое злодеяние: среди подателей объявлений они выискивают себе жертву. Уверяю, никто так внимательно не читает газет, как преступный мир.
– Безусловно, объявление они прочитали, – продолжал подполковник. – Но давайте спросим сами себя: почему же они действуют вопреки нашим предположениям? почему этот Руткин так никак и не дал о себе знать? Я вам наверно могу ответить – они знают, что мы от них ждем, поэтому и поступают наперекор нашим ожиданиям.
– Как же это так?! – удивленно воскликнул Дрягалов, когда Машенька ему перевела слова подполковника. – Как он мог проведать, бестия?
– Пока сказать не могу. Это мы сейчас и попробуем выяснить, – ответил старый Годар. – Но, вне всякого сомнения, ему известно, что вы живы и находитесь в Париже. Скажите, господин Дрягалов, кто именно знал о ваших планах?
Василий Никифорович стал перечислять по пальцам всех участников их заговора – он сам, Машенька, Паскаль, Мещерин, Самородов и Егорыч. Но с последних трех, как говорится, взятки гладки: двое скоро месяц как в солдатах и на войне, а добрый его сторож – в могиле: три седмицы минуло.
– Ах, да, – вспомнил что-то еще Дрягалов и виновато посмотрел на Машеньку. – Есть у меня в Москве один знакомец, ему я тоже сказывал.
– Кто этот человек? – насторожился старый Годар.
– Ну как объяснить, Мань, ему… не знаю… – Дрягалов с трудом подбирал слова. – Это тот из охранки… помнишь… главный их.
Теперь и Машенька растерялась. Она не представляла, как так с ходу рассказать Годарам об их связи с русскими жандармами? С чего начинать? – с того, как она поступила в дом к Василию Никифоровичу учительницей? и как он ее вытащил из охранки?
Впрочем, Годары поняли по их заминке, что разговор коснулся какого-то очень непростого для русских гостей вопроса.
– У господина Дрягалова есть один знакомый – крупный жандармский чин, – принялась объяснять Машенька. – Он возглавляет в Москве особое отделение политической полиции. И он когда-то оказал нам очень большую услугу… – сказала она, потупившись. – Ему тоже пришлось рассказать…
Подполковник задумался. Из деликатности он не стал уточнять у Дрягалова с Машенькой, какую именно услугу оказал им жандармский чин. Но он сообразил, что за это, вероятно, они в долгу перед ним.
– А как вы думаете, – спросил он, – этот жандарм знаком с Руткиным?
– Знакомы ли они лично, нам ничего не известно, – переводила Машенька слова Дрягалова. – Но вообще о самом Руткине и о его похождениях здесь, в Париже, он знает. Его об этом извещает ваша полиция.
– Что? Флики извещают русскую политическую полицию о каком-то парижском жулике?! – удивился подполковник. Он недоуменно переглянулся с Паскалем.
– Да это маловероятно, – подтвердил внук. – Я, во всяком случае, о таком никогда не слышал.
– Господин Дрягалов, – спросил подполковник, – а этот ваш знакомый – жандармский чин, – он вполне ли заинтересован в вашем благополучии? То есть он вам друг добрый? Или нет?
– Друг?.. – нахмурился Дрягалов. – Этот друг, пожалуй что, и зарежет вдруг. Он только за свое стоит накрепко. А все чужое для него пустое. Пока ему нужен кто-то, он вроде бы привечает тебя. А в ком нужды больше нет, так они для него уже и не люди – мошки!
– А вы ему нужны для чего-нибудь?
– Нет. На что я ему…
– В таком случае почти наверно можно утверждать, господин Дрягалов, что вы поделились планом спасения вашей дочки с самым коварным своим врагом, – грустно подытожил старый Годар. – Что же нам сетовать теперь на наши неудачи…
– Да как же это… – опешил Дрягалов. – Неужто они заодно с этим?..
Он обернулся к Машеньке, словно просил разъяснить ему верно ли он понял. Но та и сама, потрясенная новым, неожиданным поворотом их дела, лишь беспомощно смотрела на Василия Никифоровича.
– Друзья мои, не время отчаиваться! – уверенным голосом произнес подполковник. – Все еще не так плохо. Разгадать маневры неприятеля – это означает наполовину победить. Итак, нам известно, что Руткин был кем-то предупрежден о наших действиях. Вероятнее всего, этим жандармом, о котором вы говорите. Но это отнюдь не означает нашего поражения. Я вам скажу больше: мы сейчас имеем даже некоторое преимущество над врагом, который убежден, что его действия остаются для нас неведомыми, в то время как мы не только о них знаем, но и позаботимся теперь, как бы нам на них вернее ответить. Каковы цели неприятеля? – в очередной раз, шантажируя господина Дрягалова похищенным младенцем, поживиться на его счет. Как он будет действовать? – а ровно так, как мы не ждали по нашему прежнему плану. Мы надеялись, что, поверив в смерть господина Дрягалова, Руткин будет искать связей с мадам Дрягаловой. Однако он как будто не ищет. А почему? – да потому что понимает, мы этого ждем, ему или его сообщникам там приготовлена засада. И сейчас он должен произвести на нас, как ему кажется, атаку абсолютно неожиданную: явиться вдруг к господину Дрягалову и предъявить свои требования. И не сделал он этого только по одной причине – мы очень хорошо спрятали того, кого он ищет.
– Хорошо бы, явился, пес, – прорычал Василий Никифорович. – Я бы поговорил с ним.
– Должен вас предостеречь, господин Дрягалов: как я понимаю, он вряд ли настроен вести с вами мирную беседу, – если бы это было так, он давно подбросил бы к нам какой-нибудь ультиматум для вас, – но в том-то и дело, он намерен нагрянуть к вам неожиданно и действовать с вами жестко, по всей видимости. Я подозреваю, что вам угрожает серьезная опасность. И уже само собою, он явится к вам не один, а с целою бандой.
– Да хоть всю Францию пущай приводит! – загремел Дрягалов. – Сверну шею – за него и вступиться никто не успеет!
– Я рад, что предстоящие баталии не страшат вас, – улыбнулся старый Годар. – Но давайте подумаем, как использовать нашу догадку о возможных действиях неприятеля с наибольшею для нас выгодой. Прежде всего, продолжая делать вид, что мы ждем Руткина у нас на Пиренейской улице, нам надо как бы невзначай открыть ему место, где вы, господин Дрягалов, скрываетесь. И тогда уже ждать его здесь всем оружием. Они не случайно сейчас внимательно следят за нашим домом: так они предполагают разыскать вас – отправится же рано или поздно ваша супруга навестить мужа в его убежище. Нам остается только помочь им в этом: показать путь к их цели. Вам, сударыня, – сказал он Машеньке, – надо будет теперь, не таясь, приехать сюда – в Пасси. Может быть, не раз. Пусть вас это не смущает – мы с внуком позаботимся о вашей безопасности.
Новая диспозиция потребовала от франко-русского согласия повести наступление с еще большим усердием. В тот же день, возвращаясь домой, подполковник Годар заехал в ближайший к его дому каретный сарай, который держал один его знакомый, нанял фиакр, заложенный парою, и попросил еще знакомца подобрать ему костюм кучера. Он велел, чтобы и фиакр, и костюм были утром наготове.
А когда подполковник затем, не торопясь, будто, по обыкновению, прогуливаясь, подходил к дому, его встретили юные разведчики и рассказали о кое-каких своих успехах. К нищему, который так и сидел на скамейке возле годаровского дома, подъехал в коляске какой-то очень прилично одетый человек. Наверное, для видимости он бросил ему монетку и потом несколько минут еще о чем-то с ним разговаривал. На этот раз мальчишки не растерялись, и двое из них проследовали за этим господином на запятках его же коляски. Они приехали в Шарантон. Там господин вошел в один из прибрежных кабачков. Маленькие смельчаки запомнили этот кабачок и вначале хотели было возвращаться домой, но потом решили: а не заглянуть ли им туда? Может быть, удастся еще что-нибудь узнать? Опасаться особенно им было нечего. Бездомные дети в поисках пропитания часто шныряли по кабачкам. В крайнем случае, хозяева их прогоняли. Но обычно на них там не обращали внимания. Дети вошли в кабачок. Господин, за которым они следили, сидел под газовым рожком с каким-то невзрачным субъектом в грязной безрукавке и что-то очень строго, настоятельно ему втолковывал. Маленькие хитрецы, делая вид, будто они просят подаяния, стали ходить по залу от одного стола к другому, причем старались что-нибудь уловить из речи своих поднадзорных. Но как ни вслушивались они в их разговор, как ни пытались уловить хоть слово, ничего у них не получилось, потому что собеседники говорили… на чужом языке.
Эта новость лишь придала уверенности старику Годару: она вполне согласовалась с его планами и подтверждала предположение, что они имеют дело не с одним Руткиным и такими же, как он, французскими проходимцами-клошарами, а с заговором людей очень серьезных, уходящим, может быть, в самую Россию.
Наутро подполковник, наряженный кучером – в красном жилете и в клеенчатом низком цилиндре, – и смотревшийся очень живописно, прямо как живой персонаж из романа Бальзака или Гюго, сидел на козлах своего фиакра за несколько кварталов от дома. Несколько раз его окликали и просили куда-то поехать, на что старый Годар коротко отвечал: «Занят!» Он и в самом деле был занят – в фиакре за занавешенными окнами скрывался Паскаль.
Спустя какое-то время из дома вышла Машенька. Она, совершенно не таясь, прошла мимо нищего, внимательно наблюдающего за ней с противоположной стороны улицы, села в первый же попавшийся фиакр и уехала. Дозорный суетливо вскочил и замахал кому-то рукой, видимо, подавая знак. Тотчас вслед за этим из переулка выехала коляска с пассажиром, помимо кучера, и направилась за Машенькой. Тут уже пришел черед действовать подполковнику. Он подстегнул лошадок и, не торопясь, но так, чтобы не потерять из виду Машеньку и ее преследователей, поехал вслед за ними.
Так все три экипажа добрались до Пасси. Не доезжая немного до дома, где скрывался Дрягалов, старик Годар придержал своих лошадок. Он увидел, как Машенька вошла в подъезд, а ее преследователи, тоже убавив ходу, но не останавливаясь, проехали дальше. Судя по всему, им нужно было лишь узнать, куда именно она ехала. Все как будто выходило по плану подполковника.
Ровно через час, как они условились, Машенька вышла на улицу, наняла случайно проходивший мимо фиакр с картинным седоусым кучером, похожим на персонаж из старого романа, и поехала домой. Василия Никифоровича она предупредила, что к вечеру они все вновь тайком приедут сюда и будут ждать, сколько потребуется, визитеров, которые теперь непременно должны пожаловать по его душу.
Старый Годар остался доволен устроенною ими комбинацией. Но, прежде чем садиться у Дрягалова на квартире в засаду, он решил побывать еще и в Шарантоне – в кабачке, куда добрались его юные разведчики за каким-то подозрительным типом, говорящим на чужом языке. Почти невероятно, чтобы к Дрягалову кто-то заявился днем, а до вечера у них времени предостаточно.
Дома они опять нарядились в походное обмундирование – в те невзрачные костюмы, в которых прежде искали Руткина по предместьям. И не мешкая отправились в путь. Клодетта тоже поехала с ними, чтобы вызывающим, до неприличия ярким, театральным своим туалетом отвлекать внимание от Машеньки.
Кабачок, в который они приехали, хотя и был устроен в подвале дома, оказался довольно уютным заведением. В вытянутом и узком, как коридор, помещении, освященном газом, стояли в два ряда дощатые столы вдоль стен с деревянными же скамьями без спинок. В дальнем конце этого коридора на крошечной эстраде плечистый человек с могучими руками негромко, как будто лениво, играл на пианино. Казалось, если он энергичнее ударит по клавишам, старенькое пианино рассыплется. Но выбивать из инструмента звуки с силой и не требовалось, потому что обычного пьяного гомона в этом кабачке не было: для этого еще не пришло время – самые буйные гуляки собираются ближе к вечеру. Поэтому и подполковник не стал здесь вызывающе кричать гарсону «Пет!», как делал в других местах. Впрочем, гарсон и сам подбежал к ним, едва они заняли свободный столик неподалеку от эстрады.
Старый Годар рассадил своих спутников таким образом, чтобы Клодетта привлекала к себе всеобщее внимание, а Машенька при этом могла бы легко рассматривать публику, не будучи особенно заметною сама. Так они сидели, пили пиво и слушали незатейливую мелодию час, другой, третий… Машенька рассмотрела внимательно всех посетителей – и тех, кто сидел там прежде, и тех, кто появился позже, – но ни в ком из них Руткина она не узнала. Паскаль несколько раз подходил к буфету единственно за тем, чтобы по пути послушать, не говорят ли за каким-нибудь столиком по-русски, – русскую речь он, пожив в России, научился узнавать. Но тщетно – ни Руткин, ни вообще какие-нибудь иностранцы в кабачке так и не обнаружились. Подполковник уже стал поглядывать на часы. День у них был отнюдь не праздный: их ожидало сегодня еще более важное и более опасное предприятие.
И вот когда они уже решили, что больше им оставаться здесь нет никакого смысла, а надо допивать пиво и держать путь на выход, в кабачок вошли двое новых посетителей. Это были люди из обычной породы завсегдатаев дешевых пивнушек – неопрятные, слегка пьяные, с физиономиями нагловатыми, но одновременно будто ищущими опасности всякое мгновение. Машенька какое-то время вглядывалась в них, и вдруг резко вся подалась вперед, словно не веря своим глазам, причем руки ее задрожали, так что даже кружка, которую она держала, застучала по столу.
– Это он, – страшным, не своим, голосом произнесла она.
Старый Годар медленно протянул через широкий стол ладонь и придавил к доске ее руки.
– Спокойствие, – сказал он. – Только без шума. Который?
– Вон тот – с голыми руками, в канотье…
Подполковник оглянулся не сразу. Он еще со смехом что-то сказал сотрапезникам. А потом позвал гарсона и как бы случайно скользнул взглядом по залу. Через два стола от них он увидел небритого, с рыжими взлохмаченными волосами человека в серой или, может быть, никогда не стиранной безрукавке и в старом, помятом канотье, заломленном на самый затылок.
– Ты вот что сделай, – шепнул он Паскалю, – проводи Мари в фиакр, а сам будь наготове у входа.
Когда Паскаль и Машенька встали и направились к выходу, к столу подбежал гарсон в белом переднике.
– Любезный, – сказал ему подполковник. – Это знаменитая актриса. – Он указал на Клодетту. – Она хочет спеть для гостей вашего замечательного заведения. Ступай, предупреди тапера.
– Очень хорошо, – улыбнулся гарсон. – Момент.
– Слушай, детка, – быстро заговорил подполковник, когда гарсон отошел от них. – Сделай так, чтобы этот красавец в канотье вообразил, будто ты поешь для него. И вообще будто ты от него без ума. Пусть ему придут в голову самые смелые виды на твой счет. А потом выволоки его как-нибудь из зала. Все равно как. Пообещай ему что угодно. Рассчитываться по твоим обещаниям будут уже другие…
В это время гарсон громко объявил выход Клодетты. Все в зале заинтересованно вытянули шеи.
Клодетта, подхватив юбки, выпорхнула на эстраду. Она сказала два слова таперу, и тот с чувством заиграл что-то из популярного Милланди. Пела Клодетта, может быть, не так мастерски, как танцевала, но и заведение, в котором ей пришлось это делать, было далеко не ее «Comedie». А лучшего исполнения не знал еще ни один подвальчик в Шарантоне.
Она пела о молоденькой парижанке, которая долго искала любимого по всему Парижу, расспрашивала о нем всех подряд, заглядывала в те места, где они, бывало, любили гулять вдвоем, но все тщетно – его нигде не было, и нашла-таки она его в конце концов… на бульваре в объятиях порочной женщины.
Эту вечную историю Клодетта, как настоящая актриса, еще и показывала: изображая героиню песни, она ходила по залу и вглядывалась в лица посетителей – не любимый ли это ее? – увидев же, что это совсем другой человек, она в отчаянии заламывала руки и отбегала прочь, к следующему. Прежде всего, она подошла к старому Годару. Она бесцеремонно повернула к себе его голову, но подполковник довольно грубо оттолкнул ее руку, и вообще, показывая, как противна ему вся эта мелодрама, поднялся, бросил на стол монету и вышел вон из зала. А Клодетта, в поисках любимого, продолжила свой путь по кабачку. Так она дошла до рыжего в канотье посетителя. Тот уже поджидал ее со слащавою улыбкой. В нем она совсем было признала любимого и уже, кажется, готова была упасть к нему на грудь, но в самый последний момент поняла, что обозналась, и лишь опустилась рядом с ним на скамейку, горестно уронив голову. Рыжий посетитель был вне себя от счастья. Ему хотелось дотронуться до красавицы, может быть, обнять ее, но он пока не решался этого сделать, потому что не мог никак определиться, а из той ли она породы дам, до которых можно запросто дотрагиваться. Но Клодетта сама развеяла его сомнения – она игриво схватила его кружку и отпила из нее, чем оказала незнакомцу особенное почтение. Потом, не отрывая от него лукавого взгляда, она встала и направилась к выходу. А не доходя нескольких шагов до двери, Клодетта оглянулась и призывно кивнула ему головой, приглашая последовать за ней. Тут уже рыжий не стал мешкать и поспешил следом за очаровательною соблазнительницей, которой он, по всей видимости, пришелся очень по нраву.
Но едва он вышел из зала, к нему подступился какой-то человек, и вдруг перед ним мелькнуло дуло пистолета и больно уткнулось в бок. Это все произошло так быстро и неожиданно, что у незадачливого соблазненного восторг чувств не успел даже смениться на соответствующее происходящему настроение. Первые мгновения его душа так и неслась вперед, полная надежд на предстоящее любовное приключение. И лишь только разглядев, что его чаровница не улыбается ему больше, а смотрит презрительно-хмуро, он сообразил, как безотрадно это приключение закончилось, так и не начавшись, и впал, наконец, в уныние.
– Тихо. Пошел вперед. Скажешь слово – получишь пулю, – не оставляющим никакой надежды тоном произнес старый Годар.
Еще раз ткнув для верности пленнику пистолетом в ребра, подполковник быстро вывел его на улицу и втолкнул в фиакр. Паскаль вскочил за ним следом. И через секунду странный экипаж с благообразным стариком в плюшевой куртке и с молодою красавицей в ярком черно-красном одеянии ночной феи на козлах уже несся прочь из Шарантона.
В фиакре было довольно темно. И рыжий, очумевший от случившегося, не сразу разобрал, что, кроме него и его стража, там сидит еще кто-то. Но скоро он почувствовал на себе страшный, пронзительный взгляд этого некоего третьего, взгляд, заставивший его взволноваться куда больше, чем от зловеще поблескивающего в руке Паскаля пистолета. Он не выдержал и, обернувшись к этому не то живому человеку, не то призраку, дрожащим, плачущим голосом пролепетал:
– Кто вы такие?! Что вам от меня надо?!
Машенька откинула волосы, и от ее мраморного лица в мрачном фиакре будто бы сделалось светлее.
– Где моя дочка, Яков? – гневно произнесла она. – Говори немедленно!
Руткин будто бы оцепенел на миг и вдруг рванулся с отчаянным криком, намереваясь, по всей видимости, выпрыгнуть из фиакра. Но Паскаль опередил его, – резким коротким движением он рукояткой пистолета глухо задвинул Руткину по темени, так что с того слетело канотье и покатилось куда-то под ноги. Руткин обмяк и опустился на место. Машенька, подождав, пока он придет в чувства, снова задала ему свой вопрос. Тогда, Руткин, немного опомнившись и сообразив, что дела его плохи – хуже некуда, а сбежать никак не удастся, решил действовать по-другому, и, как в ту первую их встречу в доме у Годаров, запел Лазаря:
– Это не я, Мария! Меня неволят страшные люди! Это убийцы! Настоящие головорезы! – запричитал он. – Посмотри на меня! – разве я похож на человека, живущего в достатке? Я гол как сокол. Они заставляют меня воровать на базарах и все до копейки отдавать им. А иначе мне смерть! Верь мне, Мария! Давай подумаем вместе, как нам от них избавиться и спасти твою дочь. Вспомни, какими мы были товарищами. Я любил тебя, Мария. Я и теперь тебя люблю… – Он оборвался, не в силах больше сдерживать подступивших слез, и, уткнувшись лицом в ладони, затрясся от рыданий.
Машенька какое-то время растерянно смотрела на него, потом вынула платок и стала вытирать ему слезы, приговаривая:
– Успокойся, Яша. Ну не надо. Прошу тебя. Успокойся…
Руткин завыл еще жалобнее.
Решительно не находя объяснений тому, что происходит, изумленный Паскаль из своего угла немо наблюдал эту сцену. Если бы он не знал, какую роль сыграл Руткин в жизни Машеньки, он бы мог подумать, что присутствует при встрече двух близких людей: казалось, любящая сестра утешает покаявшегося в своем заблуждении беспутного брата. Или, может быть, такой поворот действий вполне в русском характере? Кто их разберет?.. Ему даже пришло в голову, – а не лишний ли он тут? И Паскаль смущенно отвел взгляд.
Едва он это сделал, в карете вышел совершенный переполох. Руткин внезапно извернулся самым невероятным образом, обвил правою рукой Машеньку за шею и приставил ей к груди нож, неизвестно откуда появившийся у него в другой руке. Он бешено закричал Паскалю по-русски: «Бросай пистолет! Заколю! Бросай! – кому говорю!» Из всего руткинского вопля Паскаль разобрал только одно слово – «пистолет». Но и этого ему достало, чтобы понять, что именно от него требуется. Он разжал пальцы, и пистолет полетел на пол. Тогда Руткин, ударив несколько раз ногой в переднюю стенку кареты, пуще прежнего заорал: «Сарете! Сарете!» [27]. На козлах, видимо, еще по первому крику сообразили, что там – у пассажиров – случилось нечто чрезвычайное, и фиакр стал замедлять ход. Но в это время Машенька, поняв, что она своею доверчивостью, кажется, погубила все их дело, в отчаянии, умножившем ее силы, обеими руками схватила мерзкую и совсем не сильную, как оказалось, руку с ножом и впилась в нее зубами. Руткин издал крик, который, наверное, услышала вся улица, и выпустил нож из изувеченной руки. В ту же секунду, получив от Паскаля сокрушительный удар в челюсть, он лишился чувств.
Когда дверь отворилась и в фиакр заглянул удивленный подполковник, там уже воцарился мир: Руткин лежал на полу, а Машенька спокойно сидела на своем месте, прикрыв глаза ладошкой, будто ей мешал яркий свет, брызнувший в открытую дверь. Паскаль в ответ на вопросительный взгляд дедушки только пожал плечами и улыбнулся.
Оставшуюся часть пути до Пасси они проехали без приключений. Подполковник решил, что заявляться к Дрягалову сразу вместе с Руткиным будет небезопасно. Для Руткина небезопасно. А он им в дальнейшем может еще очень пригодиться. Поэтому, когда они подъехали к дому, где скрывался Дрягалов, старый Годар велел Машеньке идти вперед и настрого обязать булонского затворника держать себя в руках.
Как уж там Машеньке удалось убедить Василия Никифоровича следовать во всем плану старого Годара, но, во всяком случае, он был сдержан с Руткиным. Когда того ввели в квартиру, Дрягалов лишь взглянул на него, полумертвого от ужаса, взглянул скорее с жалостью, чем с гневом, плюнул: «Тьфу, нечисть!» – и ушел к себе в комнату.
Руткина посадили в другой комнате, и подполковник немедленно приступил, при помощи Машеньки, его допрашивать. Он полагал, что присутствие Дрягалова сделает злодея сговорчивее, для чего и привез сюда. И его предположения вполне оправдались – запираться Руткин нисколько не стал. Он рассказал все как на духу. Впрочем, о многом из рассказанного им подполковник догадался заранее. Руткин подтвердил, что о трюке с объявлением о смерти Дрягалова ему было известно, поэтому ни он, ни кто из его пособников на Пиренейскую улицу не явился. Они действительно следили за Машенькой, чтобы следом за ней пробраться к Дрягалову. И уже лично ему предъявить новый счет. А если он будет упорствовать, сопротивляться, то, может быть, и порешить с ним. Сегодня утром им удалось наконец выследить, как Машенька ездила сюда – в Пасси, и, таким образом, они открыли местонахождение Дрягалова. Осталось только заявиться к нему всей бандой. И планировали они это сделать уже нынче ночью. На главный вопрос подполковника: кто же ими руководит? кто их предупредил о подложном объявлении в газете? – Руткин замялся было с ответом, но когда Машенька пригрозила, что, в таком случае, ему придется разговаривать с Василием Никифоровичем, он, не раздумывая более, рассказал и об этом. По его словам выходило, что и похищение девочки, и последующее вымогательство у Дрягалова выкупных за нее придумал некий русский полицейский начальник, который с тем и отпустил Руткина за границу в свое время, что тот будет действовать там – во Франции – по его указанию. А теперь он лично находится в Париже и на месте руководит их действиями против Дрягалова.
Машенька опять спросила его о своей дочке. На этот раз Руткин разыгрывать комедии не стал, никакой пользы от этого ему все равно уже не вышло бы после его давешнего коварства: он подробно рассказал, где теперь находится девочка, – оказалось, что она спрятана там же, в Шарантоне, – и даже изъявил готовность сейчас проводить к ней. Несчастная Машенька страдальчески посмотрела на старого Годара. Но подполковник убедил ее не спешить немедленно отправляться за дочкой. Пока они владеют инициативой, нужно не давать неприятелю ни малейшего шанса переменить положение, а действовать стремительно, молниеносно. Но уже когда враг будет добит, то первое, что они сделают, пообещал подполковник, это поедут в Шарантон за малышкой.
Как рассказал Руткин, их предводитель остановился в одном из фешенебельных отелей на Монпарнасе. В самом отеле Руткин не был – кто бы его пустил туда в таком-то одеянии? – но он несколько раз доезжал с этим человеком в фиакре до подъезда – по дороге тот давал ему всякие наставления.
Ехать в отель старик Годар решил сейчас же. Днем, когда они отправлялись в Шарантон, подполковник предусмотрительно велел всем захватить обычные свои костюмы – кто знает, не окажется ли так, что им вдруг потребуется сменить обноски на господскую одежду? Так и вышло. Пришлось даже и Руткину выделить что-то приличное. Потому что грязная безрукавка этого типа совсем уж не гармонировала с аристократическим одеянием старого заслуженного офицера, имевшего к тому же красную ленточку на лацкане, и его не менее солидных спутников.
Наконец, смог принять участие в деле и булонский затворник: подполковник сказал, что Дрягалову теперь необходимо поехать с ними. Возможно, это вообще будет их последний маневр в нынешней кампании. И роль Дрягалова здесь может стать решающей.
Руткин, кажется, уже вполне смирился с тем, что дело проиграно, поэтому больше никак не сопротивлялся: он верно показал дорогу. И через полчаса они были уже в отеле на Монпарнасе.
Место их решающего сражения старый Годар, как ему казалось, мгновенно оценил во всех его особенностях. И выстроил хитроумную диспозицию: Руткина с Паскалем и Клодеттой он посадил в вестибюле в укромном месте, за пальмой, так, чтобы их не было особенно заметно, но и одновременно с этим чтобы Паскаль мог по первому же сигналу привести Руткина туда, где сидели Дрягалов с Машенькой. Сам же подполковник, узнав прежде за стойкой, что русский постоялец, снимающий восьмой люкс, сейчас находится у себя в номере, попросил портье вызвать его к нему, сказавши, что того-де дожидается соотечественник.
Прошло довольно времени, но в вестибюль так никто и не выходил. Вначале это не вызывало у подполковника особенного беспокойства, ибо он понимал, что для человека, знающего цену собственному достоинству, такие манеры в обычае – никогда не бегать на зов очертя голову. Подождав еще сколько-то и начавший уже беспокоиться, подполковник уточнил у портье: а сказал ли тот русскому постояльцу, что его внизу ждут? застал ли его в номере? И когда портье ответил, что да, постояльца он застал и все выполнил, как было велено, подполковник уже по-настоящему встревожился. Он только теперь обратил внимание, что в вестибюле, над центральною лестницей, устроен ряд окон. По всей видимости, там, за окнами, проходила галерея. И если посмотреть оттуда вниз, то все, кто находится в вестибюле, будут видны как на ладони. Диспозиция старого Годара вполне могла быть раскрыта, если русский, которому они устроили западню, прежде чем выходить, осмотрел вестибюль из галереи: он оттуда, разумеется, не мог не разглядеть и Дрягалова с Машенькой, и Руткина с Паскалем в засаде. Старый Годар сунул портье в руку немалую бумажку и попросил скорее проводить его в номер к русскому. Портье вначале ответил, что так делать не полагается, но, получив еще одну бумажку, побежал за ключом. Через минуту подполковник был уже в восьмом люксе, дверь которого выходила аккурат на галерею над вестибюлем. В номере не было ни души.
У старого Годара едва не подкосились ноги. Неприятель обвел его, как неопытного лейтенанта. Это было равносильно поражению. И ладно бы это был его личный конфуз – но ведь самое ужасное то, что он доставил новое, и, возможно, непоправимое, бедствие людям, которые положились на него, доверили ему свою судьбу.
Чудовищным усилием воли старый военный заставил себя стряхнуть апатию. И, словно вспомнив вдруг о чем-то важном, бросился вон из номера. Он сбежал в вестибюль и, не объясняя ничего удивленному своему воинству, но лишь жестами приглашая всех бегом следовать за ним, выскочил на улицу. Не дожидаясь, пока все комфортно разместятся в фиакре, подполковник хлестанул бичом, и лошади рванулись вперед, так что Паскалю пришлось уже впрыгивать на ходу.
Такой гонки Париж не видел, наверное, со времен мушкетерских приключений. Случается, что напуганные чем-то лошади понесут, не слушаясь возничего, но и тогда их бег бывает не столь стремителен. Фиакр старого Годара летел по улицам, обгоняя, то слева, то справа, все прочие экипажи и едва не цепляясь за них ступицами. Несколько раз от него шарахались зазевавшиеся прохожие, лишь чудом не сбитые с ног. Особенно удивительно было видеть, что на козлах этого взбесившегося фиакра сидит осанистый, благородного вида старик в цилиндре и с ленточкой «Почетного легиона» на ладном сюртуке. Причем он отнюдь не пытался сдерживать лошадей, а напротив, что есть мочи погонял их.
Знавший в Париже каждую улицу, каждый дом, подполковник гнал по каким-то неведомым закоулкам, способным, по его расчетам, сократить им путь до Шарантона. Всю дорогу он в голос на чем свет стоит проклинал себя за свою оплошность на Монпарнасе, шансов исправить которую почти не было. Разве чудо поможет. Выбравшись на бульвар Массена и нахлестывая лошадей здесь, на просторной прямой дороге, совсем уже безжалостно, подполковник втолковывал сам себе: «Хорошо еще, что ты, старый осел, не стал маршалом – погубил бы Францию!» До Шарантона оставалось рукой подать.
Наконец, они въехали в предместье. Подполковник крикнул Паскалю, чтобы тот узнал у Руткина, где находится дом, в котором он с сообщниками укрывает Машенькину дочку, и подсказывал теперь ему дорогу. Так Паскаль дальше и направлял дедушку, высунувшись по пояс из фиакра.
Они свернули в какую-то мрачную, мощенную дурно выделанным камнем улицу. И старый Годар увидел, как в конце этой улицы, поспешно отъезжает коляска от подъезда одного из домов. Даже издали можно было разглядеть, как неистово кучер машет бичом, стараясь разогнать лошадь. Оказалось, что коляска стояла у того самого дома, к которому быстрее ветра мчался через весь Париж старый Годар со своею ратью. Подполковник резко осадил возле этого дома коней и закричал, чтобы все выходили прочь из фиакра и чтобы Дрягалов быстро забирался к нему на козлы. Василию Никифоровичу никаких дополнительных объяснений не требовалось. Он одним прыжком взлетел к подполковнику, и фиакр рванулся вдогонку за коляской, которая уже скрылась из виду.
Но старый Годар недаром взял у своего знакомого владельца каретного сарая фиакр, запряженный парой. Он уже тогда подумал, что на всякий случай им нужно иметь превосходство в скорости над обычными экипажами – вдруг как-нибудь пригодится? И вот теперь его предосторожность очень приходилась кстати.
Они миновали Шарантон, вырвались на проселок и увидели в четверти лье к востоку клубящийся шлейф пыли, оставляемый быстро двигающимся экипажем. Но не настолько быстро, чтобы его не могла нагнать годаровская пара. Подполковник подстегнул лошадей. По абсолютно пустынной сельской дороге лошадки летели уже совсем как птицы. Справа от них в лучах позднего солнца розовела Марна, слева – нескончаемою стеной тянулся Венсенский лес. Расстояние между двумя экипажами быстро сокращалось. Уже, несмотря на пыльную завесу, можно было разглядеть, что в коляске, помимо кучера, находится единственный пассажир на заднем сиденье и то и дело оглядывается на преследователей.
Старый Годар несколько раз прокричал Дрягалову: «Tirez sur l’air! Tirez!» [28]. Но Дрягалов не понимал, что от него требуется. Тогда подполковник догадался выкрикнуть не нуждающееся в переводе: «Pistolet!» Тут уже Дрягалов сообразил, что ему нужно делать. Он выхватил браунинг, тот самый, что когда-то подарил Машеньке, и несколько раз выстрелил вслед коляске, но все-таки чуть в сторону от нее.
Коляска стала замедлять ход. Подполковник обогнал ее и перекрыл своим фиакром ей путь. Это оказался обычный извозчичий экипаж с тощею, ребристою кобылой. Кучер соскочил на землю и с трясущимся от страха подбородком стоял возле своей кормилицы, прощаясь, по всей видимости, мысленно с жизнью. Но Годар и Дрягалов на него даже не посмотрели. С пистолетами в руках они быстро подошли к пассажиру на заднем сиденье.
– Без глупостей! – крикнул подполковник, направляя на него оружие. – Я буду стрелять!
Но пассажир в коляске, видимо, и не собирался как-то сопротивляться. Он так и продолжал сидеть, как ни в чем не бывало, и грустно, но без тени страха, смотрел на своих победителей. На коленях у него, закутанный в одеяло, лежал младенец и отчаянно голосил.
– Вот ваша дочь, господин Дрягалов, – сказал Годар. Но, видя, что Дрягалов его не понимает, он обратился уже к пассажиру в коляске: – Скажите моему другу, что это его дочь. Да и отдайте же наконец ему ребенка…
Но Дрягалов и сам уже вполне догадался, каков вышел финал всей этой истории. Он молча, исподлобья и, как ни странно, вовсе без злобы смотрел на человека, который, представляясь его доброжелателем, доставил ему столько бедствий, не останавливаясь ни перед самыми бессовестными приемами.
– Как же это, ваше благородие? – промолвил Дрягалов. – Вы же благородным считаетесь… православным зоветесь… А сами с вором заодно, с нехристем… Дите украли!..
Старый дрягаловский знакомый, чиновник московской охранки Викентий Викентиевич шумно выдохнул через нос и довольно высокомерно, показывая, как он далек от забот этих невеликих людей, ответил:
– Есть в жизни такие высокие цели, для достижения которых средств не выбирают. Впрочем, вряд ли вы поймете…
– А свое дите отдали бы таким вот, как этот? – кивнул Дрягалов головой назад – в сторону Шарантона. – А, ваше благородие? ради целей-то высоких не пожалели бы свое дите? – спросил он, принимая от Викентия Викентиевича всхлипывающего в одеяле младенца.
Ответа не было.
– Вы, сударь, вполне изобличены, – сказал подполковник. – Вам грозит каторга.
– Почему вы думает, что мое правительство это допустит? – усмехнулся Викентий Викентиевич.
– Вы правы, – согласился Годар, – любое правительство обыкновенно покровительствует своим жандармам, полагая, что все их действия, даже и не согласные с законом, в конечном счете полезны для государства. Только вы забываете, что Франция – демократическая республика. И наше правительство очень дорожит общественным мнением. Я знаком с несколькими депутатами, в том числе и с оппозиционными, и, думаю, они обрадуются сделать сенсационный запрос – каким это образом русский полицейский чин осуществляет интересы своего правительства во Франции, нарушая при этом французские законы? Это чревато большим общеевропейским скандалом. Понимаете, какой ущерб может понести ваша страна в результате?
Викентий Викентиевич ничего ему не ответил, но спеси у него заметно поубавилось.
– Нам удалось захватить вашего главного пособника и тех людей, у кого вы прятали дочку господина Дрягалова, – продолжал подполковник. – Да вы это и без меня знаете. Сегодня же они все будут сданы полиции. А завтра, по их показаниям, полицейские начнут искать по всему Парижу некоего главаря этой банды вымогателей… понимаете – кого? Поэтому, если не хотите отправиться в Кайенну за компанию с сообщниками, у вас остается лишь ночь до завтра, чтобы убраться из Франции. Но, прежде чем сдавать Руткина и других полиции, мы возьмем у них письменные свидетельства против вас. И если вам вздумается когда-нибудь хоть как-то побеспокоить господина Дрягалова и его семью, эти свидетельства будут обнародованы, и тогда вселенского скандала, уверяю вас, не миновать. И жаркая Кайенна вам покажется желанным райским уголком по сравнению с ожидающею вас ледяною Сибирью.
Эпилогом этого дела стал суд над Руткиным и еще тремя французами, действовавшими с ним заодно. Старый Годар научил Руткина не говорить о том, кто руководил их бандой, а если он хочет получить наказание не слишком суровое, показывать следствию, будто его самого неволил какой-то крупный проходимец из России – грозился за непослушание извести его родню в Киеве. А кто он такой? – бог весть. Темная личность, одним словом. Подполковнику хотелось сделать этого русского жандармского начальника верным обязанным Дрягалову. Осудить его на каторгу было несложно. Но какая и кому от этого выходила польза? Вот он Руткину и внушил не раскрывать главаря. Тот, думая, что ему это выгодно, так и стоял на своем: не знаю, кто таков, документов его не читал, на именинах не гостил, не кумился… И получил, в результате, Руткин за все двенадцать лет каторги.
После суда Машенька призналась Дрягалову, что ей жаль Руткина – больно велик срок ему положили присяжные. Василий Никифорович и сам был того же мнения. Он сказал, что и вправду крест маломувыпал нелегок: пусть бы себе сидел в пивной, пиво пил, раз ни на что доброе не сгодился, – какой от него вред? – один дух смрадный.
Дрягалов никаких таких шумных торжеств с фанфарами и фейерверками по случаю счастливого избавления от бедствия не устраивал. Ну, банкет в русском вкусе – само собою, подарки для Годаров – тоже дело обычное. Но Василий Никифорович придумал забавное развлечение совсем другого рода: он предложил им всем поехать в путешествие в Америку. На его счет, разумеется. Ему давно уже хотелось взглянуть на эту Америку, – что за страна за чудесная, о которой столько говорят? Но из всех Годаров к предложению Дрягалова восторженно отнеслись лишь Паскаль с Клодеттой, подполковник же и его сын, адвокат Терри Годар, с супругой под разными предлогами отказались от дальнего вояжа. Впрочем, с Америкой у них ничего не вышло. Вдруг появились такие новые обстоятельства, что им всем пришлось ехать совсем в другую сторону.
Глава 8
Совершенно презрев собственные заботы и нисколько не считаясь с опасностями, Паскаль, не раздумывая, вступился за попавших в беду русских друзей. Клодетта могла быть горда за своего отважного, бескорыстного мужа. Но уже победив и отпраздновав со всеми вместе счастливое завершение их кампании, он наконец мог вернуться к своим обычным занятиям.
В пылу жестоких схваток Паскаль как-то даже уже и забыл думать о занимательной истории, рассказанной Егорычем, которую он собирался записать и опубликовать в своей газете. Но, разделавшись с врагами, теперь он все-таки вернулся к своему намерению.
Несколько дней подряд, затворившись ото всех, Паскаль работал над этими записками. Причем собственно рассказ русского отставного солдата он обильно сдобрил всякими экзотическими деталями, позаимствованными им из разных описаний Китая и Маньчжурии французских и других европейских путешественников. Essai вышло у него в результате весьма колоритное – казалось, будто автор сам являлся очевидцем описываемых событий, – и быстро было опубликовано.
Когда у Паскаля только начали выходить первые его газетные заметки, он был так счастлив и горд, будто его выбрали в «бессмертные»: он обегал всех своих знакомых и раздавал им номера. Само собою, первыми его читателями были домашние – родители и дедушка. Но впоследствии, когда газетная служба сделалась для него довольно-таки рутинным занятием, публикации перестали приводить его в восторг, и он иногда даже не интересовался открыть номера со своею статьей: вышла – и ладно, чего там смотреть? И разумеется, он перестал бегать как оглашенный с газетами по друзьям. Это уже выглядело как-то несолидно для бывалого журналиста. Единственное, от чего Паскаль не отступился – это вошло уже в их семейную традицию, – он почти всегда приносил газеты со своими публикациями домой и раскладывал их по столам – дедушке, отцу, матери, когда появилась Клодетта, то и Клодетте.
Точно так же было и в этот раз: когда в «France-matin» вышло его essai о приключениях русского солдата в Маньчжурии, Паскаль принес домой несколько газет и разложил их всем по комнатам. Потом он отправился по каким-то своим делам. И домой пришел только к вечеру. Но едва он появился, слуга сказал ему немедленно зайти к дедушке – тот-де ждет его и вне себя отчего-то.
Удивленный Паскаль заглянул в комнату к дедушке и прямо-таки потерялся – таким он его никогда еще не видел. Старый Годар метался по комнате из угла в угол с «France-matin» в руках. Увидев Паскаля, он бросился к нему и дрожащими, не слушающимися руками раскрыв перед ним газету со статьей, каким-то незнакомым, глухим, голосом промолвил:
– Что это?!
Паскаль не понял, что имеет в виду дедушка, но, боясь рассердить его своею невосприимчивостью, не стал уточнять и ответил первое, что пришло на ум:
– Это мне рассказали в России…
– Что это?!. О, непонятливый! – Старый Годар все-таки вышел из себя. – Я тебя спрашиваю: откуда?., кто рассказал?., кто именно?! от кого ты это узнал?!.
– Это в России… Сторож господина Дрягалова… бывший солдат… служил в Китае… – быстро и отрывисто начал рассказывать Паскаль.
– Успокойся, – сказал старик Годар, и скорее самому себе, нежели внуку. – Не спеши. Давай-ка все по порядку с самого начала.
– Что? Статью рассказывать с начала? – удивился Паскаль.
– К дьяволу твою статью! – опять вспылил старый Годар. – То, что ты здесь наговорил о заливных рисовых лугах и о круторогих китайских буйволах, – это все никчемная экзотика для ваших мелких буржуа, что никогда не выезжали из Парижа дальше Булоня! Ты мне про этого человека рассказывай! С того самого момента, как впервые увидел его. Нет! скорее самому придется ехать в Россию, чем дождешься услышать от этого журналиста вразумительного повествования! – в сердцах сказал он.
– Если ты думаешь повстречаться с этим человеком, то можешь не беспокоиться, – мстительно ответил Паскаль, – он был убит незадолго до нашего отъезда из Москвы.
Старый Годар, пораженный, какое-то время не мог ничего вымолвить.
– Вот что, дружок, давай-ка все по порядку, – сказал он наконец спокойным, уверенным голосом. – Прямо с тех пор, как ты приехал в гости к господину Дрягалову.
Паскаль очень обстоятельно, как ему казалось, рассказал о своем вояже в Россию, и особенно о Егорыче, и, конечно, изложил насколько возможно подробно все услышанное от него. Закончил он свой рассказ внезапною гибелью дрягаловского сторожа.
– Мы в этот день с утра поехали в церковь: соседи господина Дрягалова выдавали замуж дочь, и нас пригласили на свадьбу, – рассказывал Паскаль. – В это время и произошло убийство. Какой-то человек постучал в калитку виллы, и едва сторож открыл ему, он ударил его ножом. Но Егорыч умер не сразу, – он еще сколько-то был жив, и, как мне потом говорили, последние его предсмертные слова были именно ко мне: сторож несколько раз повторил: «Он здесь» – и велел, чтобы это передали мне.
– Кто он? – насторожился старый Годар.
– Ну тот ловкий служащий русского посольства. Егорыч так и сказал: передайте ему то есть мне, что он здесь – секретарь из посольства, что искал сокровища.
Старик Годар прямо-таки весь преобразился. Паскалю случалось иногда в своих газетных заметках употреблять расхожее выражение «глаза его горели», но в жизни он ничего такого никогда не наблюдал и понимал это выражение единственно как риторическую фигуру. Но теперь он вдруг явственно увидел, что это такое – горящие глаза.
Какое-то время дед и внук лишь молча смотрели друг на друга. Но, наконец умерив чувства и как-то безнадежно вздохнув, старый Годар произнес снисходительно:
– А ты знаешь, для чего несчастный умирающий велел тебе это передать?
Паскаль неуверенно пожал плечами:
– Ну… наверное, он думал, что это может быть мне как-то интересно.
– Но тебе, как я понимаю, это показалось неинтересным, – язвительно заметил старый Годар. – Ты об этом и не упомянул.
– А о чем тут упоминать? О том, что этот человек жив-здоров и где-то там обитает по соседству с нашим героем? Так ли это важно? Я и о гибели старого солдата ничего не стал писать. Зачем? Пусть все остается будто бы без развязки. Это больше интригует читателя.
Старый Годар помотал головой, будто силясь стряхнуть с себя вздор, который наговорил ему внук.
– Какова же, по-твоему, вышла развязка? – с иронией спросил он Паскаля.
– Ну как?.. Вот… Я все рассказал…
– Ничего ты не рассказал. Потому что сам ничего не понял. Этот русский Егорыч при последнем издыхании открыл тебе своего убийцу! Понимаешь ты это или нет?! Секретарь из посольства – его убийца!
Паскаль онемел. Но это свидетельствовало о том, что дедушкино открытие до него вполне дошло.
– Рассказать тебе, чем твоя статья должна была завершиться и о чем ты по своему легкомыслию не додумался вовремя? – спросил старый Годар и, не дождавшись ответа, продолжил: – Изволь, слушай: через много лет после того, о чем ты тут расписал, они случайно встретились – секретарь русского посольства и бывший его конвойный – твой Егорыч. И узнали друг друга. Секретарь, очевидно, понял, что старый солдат вполне признал его. Но это ему было совсем некстати. И вот почему: когда-то ему удалось завладеть тайной этого клада, но сам клад оказался для него недоступным; все эти годы он жил мечтой как-нибудь добраться все-таки до сокровищ – я его хорошо понимаю! – и, судя по всему, недавно это стало возможным. Почему и встреча со свидетелем прежней его неудачной попытки была для этого секретаря крайне нежелательной: сторож Егорыч мог как-то помешать ему еще раз попытаться овладеть сокровищами – рассказать обо всем кому-нибудь более расторопному, нежели мой внук.
– Но почему ты, дедушка, говоришь, что недавно стало возможным добраться до этого клада?
– В Маньчжурии началась большая война. На войне порою получается сделать то, чего никогда не сделаешь в мирное время. Братию монастыря, что встал на сокровищах, можно убедить ввиду грозящей им опасности куда-то уйти на время или даже обязать покинуть стены обители под предлогом какой-нибудь там военной необходимости. В конце концов, монастырь попросту может быть разрушен или сожжен. Почему бы нет? На войне как на войне.
Дедушкины слова заставили Паскаля задуматься: история старого сторожа получила совершенно неожиданное продолжение – выходило, что забавное давнишнее приключение спустя многие годы обернулось кровавою драмой, которой он, Паскаль, возможно, даже не свидетель, а участник. Это уже как он сам будет относиться к случившемуся.
– Но кто же он, этот человек? – спросил Паскаль. – Как это теперь узнать? Если расспросить господина Дрягалова, может быть, он о нем что-то знает?
– Не торопись, – ответил старый Годар. – Расспросить господина Дрягалова мы всегда успеем. Но давай прежде попытаемся разобраться самостоятельно. Расскажи как можно подробнее обо всем, что происходило в его доме в последние дни, перед тем как был убит сторож Егорыч. Очевидно, своего пекинского знакомого он повстречал совсем незадолго перед смертью. И ты мог быть даже свидетелем их встречи. Вспомни только все хорошенько.
Паскаль рассказал обо всем, что видел в доме Дрягалова, пока находился там, о его обитателях, припомнил, кто за это время приходил к ним в гости. Старый Годар вначале очень заинтересовался социалистом, приезжавшим к брату Мари, Алексею, и к его другу Владимиру. Но тотчас и оставил подозревать этого человека, узнав, что ему едва ли больше тридцати лет. Тому секретарю посольства, по его мнению, теперь должно быть лет сорок пять. Что-то около того.
И тут Паскаль вспомнил, что действительно был в доме у Дрягалова господин приблизительно этих лет: он с семьей жил по соседству там же – в предместье, и в тот день, когда Алексея и Владимира провожали в солдаты, этот господин и его очаровательная дочка, давно дружившая с ними, были приглашены на торжество в числе прочих гостей. Кстати, спустя всего неделю уже Паскаль с Дрягаловым и другими был гостем этого человека – он выдавал дочку замуж.
– А кто он такой? – спросил старый Годар. – Ты это не узнал?
– Кажется, какой-то муниципальный служащий. Точно не знаю. Но уж господину Дрягалову наверняка о нем больше известно. Можно его спросить.
– Посмотри, что получается, – начал рассуждать дедушка, будто не услышав последних слов внука, – когда сторож рассказывал тебе о своих похождениях в Китае, он еще не встретился с этим человеком. А иначе бы он об этом как-то упомянул. Какой резон ему было это скрывать? Значит, встретились они чуть позже. Предположим, на этом торжестве, о котором ты говоришь…
– Но с тех пор до убийства прошла целая неделя, – заметил Паскаль. – Почему же за этот срок он так и не сказал ничего?
– А у вас с ним был разговор на эту тему?
– Нет… На эту тему мы больше не разговаривали. После того как мои переводчики ушли на войну, мне вообще ни о чем с ним больше не довелось поговорить. Но если бы он захотел рассказать об этом, он мог бы попросить Мари…
– Совершенно верно! – если бы он знал, что через несколько дней навсегда закроет глаза, он бы немедленно попросил Мари перевести тебе какие-то ценные, с его точки зрения, сведения. Но ведь как обычно рассуждают люди? – успею еще, куда торопиться? – выйдет случай, тогда и скажу. Разве не так?
Паскаль согласно кивнул головой.
– Ты когда видел этого муниципального служащего в последний раз? – спросил старый Годар.
– Когда… Пожалуй что, на свадьбе его дочери… Да, верно, после этого больше не встречал. Да, забыл сказать! – ведь и сторожа убили как раз в этот день: мы все были в церкви в соседнем селе на венчании, и в это самое время к господину Дрягалову явился человек с известием о случившемся. Кстати, и наш подозреваемый был там же… в церкви…
– Что ж, это отнюдь не опровергает подозрений против него, а скорее даже подтверждает их – понятно, он не сам убивал, а поручил кому-то это сделать. К тому же, пригласив на свадьбу господина Дрягалова с домочадцами, он мог, таким образом, облегчить исполнителю его задачу – чем меньше останется людей в доме, тем вернее успех.
– Но, дедушка, если ты верно рассуждаешь, то все это немедленно надо довести до сведения русской полиции. И опять же, по-моему, прежде всего необходимо обо всем рассказать господину Дрягалову. Его это касается куда больше, нежели нас. Но мне кажется, будто ты не очень-то настроен разговаривать с ним на эту тему…
Старый Годар помрачнел. Медленно, какою-то необычною для него тяжелою поступью он подошел к столу, на котором лежал Larousse, раскрытый на карте Маньчжурии.
– Подойди сюда, – сурово сказал он внуку.
Паскаль, чувствуя, что дедушка собирается сообщить что-то совершенно необыкновенное, смущенно приблизился к нему.
– Вот страна, равная своим пространством двум Франциям, – сказал старый Годар, указывая на карту. – Где-то там скрыты несметные богатства. Где именно – не известно. Показать к ним путь может только один человек – убийца сторожа Егорыча. И выдать его полиции теперь – это значит отказаться найти сокровища…
– Дедушка! ты и в самом деле полагаешь найти этот клад?! – весело произнес Паскаль. – Лично я готов в путь хоть сейчас!
Но старый Годар не собирался веселиться, судя по всему. Не обращая внимания на задорный тон внука, он продолжал с прежнею суровостью:
– …равно как и рассказать о нем господину Дрягалову. Но в то же время – я об этом уже подумал – без помощи господина Дрягалова нам вряд ли обойтись: это его, а не мой должник – крупный русский полицейский чин, которой мог бы помочь придать нашей экспедиции в Маньчжурию какое-то законное основание.
Видя, что дедушка все это говорит, нисколько не шутя, Паскаль тоже посерьезнел:
– Но позволь, почему ты вообще думаешь, что там есть какие-то сокровища? Мало ли что мне наговорил старый балагур-сторож. Может быть, все это лишь красивая легенда. Кто их когда видел эти сокровища?..
Старый Годар ответил не сразу. Казалось, он колеблется: говорить ему или нет? Но, наконец, взглянув внуку в самые глаза, уверенным, не оставляющим сомнений тоном он произнес:
– Я их видел. Эти сокровища принадлежат мне.
Паскаль хотел улыбнуться, но не смог этого сделать, попытался было что-то спросить, но опять же не сумел. Он так с открытым ртом и застыл на месте.
– Ты пишешь, что в свое время секретарю русского посольства какая-то полька в доказательство существования сокровищ показала перстень с китайским драконом. Верно? Так вот, взгляни на его двойника. – С этими словами старый Годар достал из кармана увесистый золотой перстень с изображением драконьей головы и протянул его Паскалю. – Если тебе этого доказательства мало, – добавил он, – попытайся все-таки задуматься – может ли мимолетное, двадцатилетней давности, знакомство быть единственною причиной, чтобы убивать человека?
Паскаль совсем уже не владел собою. Он держал в руке удивительный перстень, но не мог даже заставить себя внимательно рассмотреть его.
– Так, значит, все это правда?.. – едва слышно промолвил он.
В ответ старый Годар грустно усмехнулся.
– Послушай, что я тебе расскажу, любезный мой Паскаль, – сказал он. – Я молчал об этом почти полвека. Думал уже, сойду в могилу со своею тайной. Но, оказалось, рано ее хоронить. Полузабытое минувшее так и не отступается от меня, так и преследует. Впрочем, возможно, это судьба… Ты об этом знаешь: я когда-то участвовал в войне в Китае, – начал свой рассказ старый Годар. – В то время я был близок к императору. И меня, по его благоволению, назначили офицером штаба французского экспедиционного корпуса. Это считалось малоответственною и почти безопасною должностью. Но, уверяю тебя, исправляя ее, я не избегал быть в ответе за что-либо и не прятался от опасностей. Однажды там приключился забавный случай: в расположение одного нашего батальона вышел странный человек – вначале его приняли за китайского бродягу: он был бос, в рубище, в широкополой соломенной шляпе, с посохом в руке, – и само собою в нем заподозрили шпиона. Но оказалось, что это вовсе не китаец. И вообще не азиат. Это был беглый каторжный из Сибири. Родом из русской Польши. Его, вместе с несколькими соплеменниками – подданными России, – царское правительство сослало в каторгу за участие в венгерском восстании в 1848 году. Вообрази себе! – этот человек проделал путь, равный двум расстояниям от Парижа до Марселя! Он пробирался к морю в надежде найти в каком-нибудь порту моряков из Европы и просить у них милости к себе. Он и не знал, что в Китае идет война. Можешь представить его недоумение, когда в глубине страны, далеко от берега, он повстречал французский военный отряд! Я как раз тогда находился в том отряде. И почему-то этот страдалец за свободу – его звали Адам Мельцарек – показался мне симпатичным человеком, очень расположил к себе. Я отнесся к нему вполне сочувственно. Вначале я добился, чтобы его приняли во французскую службу волонтером. А когда он отличился в одном деле, я исхлопотал для него офицерский чин. И вообще подружился с ним, посчитав его достойным человеком. Увы, потом мне пришлось горько разочароваться. И даже поплатиться жестоко за свою доверчивость к нему. Как-то раз, – продолжал старик Годар, – я с группой офицеров, среди которых находился и этот Мельцарек, отправился с поручением во фланговую колонну. И надо было такому случиться – мы попали в засаду!..
* * *
Война близилась к завершению. Летом 1860 года, лишь со второго штурма взяв Севастополь Желтого моря, ключевую крепость Дагу в устье Пей-хо – реки, по которой канонерки союзников теперь беспрепятственно могли подняться к самому Пекину, – и разбив 18 сентября у Чанг-Кианга сорокатысячную татарскую орду, англичане и французы остановились в одном переходе от китайской столицы. Император Сянь-Фын бежал за Великую стену – в Маньчжурию. Медлили брать Пекин союзники только потому, что в это время русский посол генерал Игнатьев, имея в виду выиграть что-то для своего отечества, вел переговоры с мандаринами о сдаче города без боя и, следовательно, без напрасных жертв с той и с другой стороны.
Однажды командующий французским корпусом отправил своего штабного офицера подполковника Годара с каким-то важным поручением в расположение английского войска. В сильном конвое, как казалось, необходимости не было. Потому что вместе с подполковником Годаром и несколькими его сопровождающими отправилась к своим полкам и довольно большая группа английских офицеров, по тем или иным причинам в разное время оказавшихся во французских колоннах. Но, прежде всего, усилить сопровождение не посчитали нужным, полагая, что неприятеля, после дела у Чанг-Кианга, нигде поблизости уже быть не может.
Всех офицеров – французов и англичан – во главе с подполковником Годаром выехало тридцать пять человек. И они уже почти добрались до Тонг-чеу – селения, занятого своими, как вдруг перед ними словно из-под земли возникли сотни две татар. Они действительно объявились так неожиданно, что офицеры не успели бы даже выхватить сабли или пистолеты – их бы прежде изрубили. Поэтому подполковник Годар призвал свой отряд не оказывать теперь сопротивления. Он полагал, что в данной ситуации для них это будет наилучшим выходом. И отчасти оказался прав.
Разоружив пленных, татары погнали их в сторону Пекина. Подполковник Годар, поняв, куда лежит их путь, совсем было успокоился: он не сомневался, что в Пекине они попадут под защиту русского посольства, и если генерал Игнатьев не добьется для них полного освобождения, то, во всяком случае, не допустит их погибели. Чтобы ободрить товарищей, попавших в беду, как он считал, отчасти и по его вине, он поделился потихоньку с ними своими соображениями. И действительно настроение у пленников сразу улучшилось – очень уж небезосновательной им теперь казалась надежда на спасение.
Но произошло совершенно неожиданное. Проскакав полдня до китайской столицы, они увидели вдруг, что желтая пекинская стена остается левее, а сами они продолжают путь куда-то на северо-запад. Среди пленных это вызвало настоящий переполох.
Видя, что события принимают для них столь безотрадный оборот, один английский офицер вдруг вздыбил коня и ринулся в просвет между оцеплением татар. Ему удалось вырваться за пределы кольца, причем он сшиб своим могучим конем подвернувшуюся на пути малорослую татарскую лошадку вместе с всадником и что есть духу припустил к городу. Не удивительно ли? – главная неприятельская твердыня, которую вчера еще они готовились брать штурмом, если потребуется, сейчас казалась пленникам желанным и безопасным местом, где над ними, по крайней мере, не будет уже власти этих диких степняков.
Англичанин во весь опор погнал к спасительным пекинским стенам. С десяток татар с пронзительным визгом устремились за ним следом. И скоро их не стало видно в туче пыли. Увы, уйти от погони смельчаку не удалось. Его конь порядочно устал от долгого пути, а выносливые татарские лошади, приученные к долгим степным перегонам, были куда свежее. Татары настигли беглеца. И приволокли назад на аркане. Офицер был еще жив. Его бросили в самую пыль и тут же на глазах у всех закололи пиками. Это была такая устрашающая демонстрация расплаты, неминуемо ожидающей всякого, кто бы ни попытался еще бежать.
Так и оставив несчастного англичанина на дороге, татары погнали своих пленников дальше, теперь уже куда-то в сторону от Пекина. То и дело им навстречу попадались конные и пешие отряды китайцев в синих длинных рубахах и с красными кисточками на шапках, маньчжуров, по всей видимости, из императорской гвардии «восьми знамен», выделявшихся относительно слаженным строем, татар, в меховых шапках и в овчинных шкурах, явившихся, казалось, из эпохи Чингисхана. Татары откровенно разглядывали пленных европейцев, захваченных их соплеменниками, делали всякие угрожающие знаки и кто во что горазд голосили. Много раз пленников обгоняли или проносились в обратную сторону курьеры, в том числе, судя по нашивкам на груди и по шарикам на шапках, и довольно высокопоставленные. Благодаря этому подполковник Годар и догадался, куда их лежит их путь. Ему было известно, что где-то неподалеку от Пекина, несколько западнее, находится летняя императорская резиденция Юнг-минг-юн, которая теперь, по имевшимся у французского штаба сведениям, являлась главным лагерем китайской армии.
Его предположение вполне подтвердилось. Пройдя от того места, где был зверски умерщвлен их товарищ, еще верст десять, пленники с пригорка увидели потрясающую картину: перед ними на огромном пространстве, весь утопая в садах, раскинулся сказочный город – поверх деревьев возвышались разного размера изогнутые крыши дворцов, пагод, павильонов, арок – желтые, зеленые, красные, покрытые блестящею черепицей, с золочеными карнизами и украшениями.
В самом Юнг-минг-юне царила невообразимая суета: на улицах было полно военных или статских – в Китае их трудно различить, – конных, пеших, все куда-то спешили, носильщики паланкинов двигались едва ли не бегом, повсюду слышались крики, ржанье коней, рев верблюдов. Особенно много встречалось татар: после поражения у Чанг-Кианга сюда бежали остатки их конницы. И казалось, что в императорской резиденции нет никакой больше власти, кроме этой озверевшей шумной орды. Подполковник Годар, сразу заметивший свирепые взгляды, обращенные на пленных европейцев отовсюду, подумал, что эти варвары не растерзали их сразу только потому, что вознамерилась в свое время устроить какую-то более изощренную казнь – что-то, по всей видимости, в восточном вкусе.
На одной из площадей им велели спешиться и сесть на землю дожидаться своей участи. Вокруг них немедленно выросла большая беснующаяся толпа татар и китайцев. Все что-то выкрикивали пленным. То и дело из толпы в них летели какие-нибудь предметы – мелкие камни, кости, конские яблоки и даже человечьи испражнения, тут же в сутолоке, наверное, и произведенные.
Но вот из толпы вышли два китайца в халатах, подпоясанных красными кушаками, и принялись расплетать веревки. Тем временем несколько татар подбежали к сидящим на земле в ожидании своей участи офицерам и схватили первого попавшегося. Им оказался французский офицер – капитан Рапо, которого подполковник Годар неплохо знал. Только на днях этого капитана представляли к награде. Годар сам подавал список с его именем командующему.
Капитана вывели на свободное место и поставили на колени. Один из китайцев связал ему руки за спиной и передал конец веревки дюжему татарину, велев тому крепко держать ее. А второй палач накинул капитану на шею петлю и с силою потянул веревку вперед. Шея несчастного вытянулась, лицо побагровело. И тогда первый китаец, несколько помедлив, чтобы дать, вероятно, жертве помучиться, но вместе с тем и не дожидаясь, пока офицер задохнется, вынул широкий и длинный нож и ловким молниеносным движением полоснул его по шее. Голова тотчас отскочила, причем палач, тянувший за веревку вперед, так и полетел кубарем вместе с веревкой и головой казненного на землю. Возможно, этот трюк был и запланированным – для придания страшному действу большей эффектности. Китаец вскочил на ноги и поднял окровавленную голову на вытянутой вверх руке, показывая ее ревущей толпе. А потом швырнул под ноги к татарам, которые тотчас бросились на нее с криками и принялись пинать ногами.
Затем по знаку главного палача татары выволокли еще двоих пленных. Их также поставили на колени, но не связывали, а только держали крепко, заломив руки за спину. Китаец взял стрелу, приставил ее острием к уху одного из офицеров и сильным верным ударом вогнал ее тому глубоко в голову. Обливаясь кровью, офицер забился в судорогах и скоро испустил дух. То же самое было проделано и с его товарищем. Но этого варварам показалось мало. Они всею толпой бросились на мертвых и изрубили их саблями в куски. После чего продолжились издевательства над живыми.
Китайцы вынесли четыре пирамидальные бамбуковые клетки на высоких ножках, в каждой из которых с вершины внутрь свешивалась петля. Дна у этих клеток не было. Вместо дна там имелась единственная доска, проходящая по диагонали от одной стойки к другой. Причем доска была установлена на ребро и могла регулироваться по высоте. Пленники, хотя и поняли сразу, что это какие-то хитрые приспособления для изуверского лишения человека жизни, но как именно это происходит, пока еще они не догадывались.
На этот раз татары схватили сразу четырех офицеров. Их разули и некрепко связали им сзади руки. Под руководством палача-китайца татары поместили каждого из них в клетку и накинули петлю на шею. А нижнюю доску опустили таким образом, чтобы человек в клетке едва-едва мог доставать до нее пальцами ног. И вот он стоял какое-то время, балансируя на тонкой опоре на одних пальцах. Понятное дело, человек боролся за жизнь, сколько хватало сил. Вокруг бушевала толпа, татары что-то истошно выкрикивали отчаянно цепляющимся за жизнь людям в клетках, старались еще уколоть их саблями, чтобы прибавить им мучений. Не прошло и получаса, как все четверо уже висели в клетках без признаков жизни.
Для оставшихся пленных стало абсолютно ясно, что их всех сейчас истребят по очереди. И не просто перебьют – это была бы слишком легкая и в данной ситуации желанная для них смерть, – а на них будут демонстрировать разнузданной толпе дикарей самые искусные китайские способы умерщвления.
Поняв, что спасения им уже не будет, подполковник Годар решился на отчаянное предприятие. Воспользовавшись тем, что мучители их сейчас были увлечены глумлением над трупами удавленных в клетках и на прочих пленных пока особенно не обращали внимания, он сказал своим товарищам: «Друзья! мы, вероятно, все сейчас погибнем, но для чего же нам ждать, пока эти изверги придадут нас лютым мукам себе на потеху?! – давайте хотя бы этого удовольствия им не доставим; я предлагаю всем нам сейчас наброситься на них и попытаться завладеть оружием: кому удастся это сделать, тот уже не задешево продаст свою жизнь; кому же не удастся, тот, по крайней мере, умрет не со стрелою в ухе, а в бою – с честью и без мук!» Он оглядел свой отряд и увидел у всех в глазах то выражение неукротимой решимости, которое обычно подсказывает полководцу, что сегодня его воинство настроено победить. Медлить было невозможно. И Годар скомандовал: «Вперед!»
Офицеры, каждый приметив себе заранее саблю, которую ему предстояло отбить голыми руками, ринулись на толпу дикарей, от которой их отделяло не более дюжины шагов. Бросок их был настолько стремительным, что, упоенные расправой над бездыханными телами казненных и ни в коем случае не ожидающие от пленных каких-либо действий, татары не сразу и сообразили, что произошло. Офицеры же, которым отчаяние умножило силы, принялись проворно работать кулаками, отправляя тщедушных степняков в knock-out направо и налево. Переполох на площади был велик. Татары все разом завизжали пуще прежнего. Но их приблизительно двадцатикратное превосходство поначалу им же и доставило неудобства – задние, хотя и были готовы наброситься с саблями на восставших пленных, не могли этого сделать, потому что им мешали стоящие впереди. А передние, напротив, внезапно атакованные, непроизвольно попятились назад, отчего среди них произошла давка. Этого короткого замешательства в неприятельском строе офицерам хватило, чтобы вооружиться. Причем у большинства из них оказалось по сабле в каждой руке. Когда стороны на мгновение расступились, на месте потасовки осталось лежать несколько убитых и раненых татар, и среди них палач-китаец – кто-то из офицеров успел в свалке вонзить душегубцу в грудь его же нож.
Раздумывать о том, как им действовать дальше, у храбрецов не было ни единой секунды. Подполковник Годар лишь бегло огляделся по сторонам и мгновенно оценил положение. Шагах в ста от них, на берегу большого озера, находилась трехъярусная пагода. Но между ними и пагодой стояли, ощетинившись саблями, с полторы сотни татар. Годар посчитал, что это воинство не будет для них помехой прорваться к цели. По его команде восемь офицеров схватили одну из клеток и, направив ее острою вершиной вперед, устремились к пагоде. Остальные рассредоточились по сторонам от них в две колонны, готовые, если потребуется, отражать неприятеля с флангов. Но этого и не потребовалось. Если бы такой таран врезался в толпу, то с десяток человек, по крайней мере, было бы искалечено. Поэтому татары, поняв, что им грозит, очень благоразумно разбежались в стороны и пропустили удальцов.
Ворвавшись в пагоду, офицеры клеткой же подперли дверь изнутри. В помещении имелось несколько окон, но они находились относительно высоко от земли и были так узки, что двух-трех человек для обороны каждого окна вполне хватило бы, чтобы в них уже никто не влез. Расставив людей у окон, подполковник Годар велел остальным собирать повсюду любые предметы, пригодные служить средством обороны. Прежде всего это должны быть какие-то тяжести, которые можно будет сбрасывать на врага с верхних ярусов пагоды. В дело пошло решительно все: столы, скамейки, всякая храмовая утварь, подсвечники, вазы, статуэтки, даже ритуальные барабаны и толстые шнурованные китайские книги. Посчитав, что всего этого им будем недостаточно, подполковник Годар приказал разбить на куски идолов. Сейчас несколько офицеров, невзирая на присутствующих тут же лам, вскочили на высокий постамент, где стояли трое гигантских будд со свирепыми раскрашенными лицами, и сбросили их одного за другим на каменные плиты. Сила ударов и грохот были таковы, что пагода вся подпрыгивала, как при землетрясении, а шумливые татары на улице, так те даже притихли. Может быть, они это приняли за гром небесный или какое знамение и устрашились? В результате образовалась целая груда обломков, которые осажденным скоро очень пригодились.
Весть о случившемся разнеслась по Юнг-минг-юну мгновенно. И толпа на площади быстро выросла втрое-вчетверо против прежнего. Но это не много заботило осажденных. На такой выгодной позиции, какую они занимали, офицеры готовы были сражаться и с сильнейшим войском. Больше они беспокоились, что неприятель вообще не будет штурмовать их укрытия, а просто выкатит пушки и похоронит их всех под развалинами. Еще четверть часа назад такая смерть показалась бы им почти приятным расставанием с жизнью, по сравнению с тем, что их ожидало на площади. Но теперь, после некоторого успеха, они очень небезосновательно думали и о возможном спасении: их, разумеется, уже ищут, и наверняка сюда, в Юнг-минг-юн, по их следам идет кавалерия союзников, поэтому им во что бы то ни стало нужно продержаться хоть сколько-то времени. Впрочем, их опасения относительно артиллерийской атаки так и не подтвердились. Ни китайцам, ни полудиким татарам, без малейшего смущения способным перерезать человеку горло, и в голову не пришло стрелять из пушек по храму.
Но вот попытаться взять его штурмом они отважились. И еще бы им было не отважиться, когда их на площади собралось до двух тысяч кривых сабель! Никакого разумного плана у татар не было, и ими никто не предводительствовал, действовали они абсолютно стихийно. К тому же им, наверное, впервые в жизни приходилось сражаться в пешем строю. Метод они для начала позаимствовали у осажденных, ставших, некоторым образом, для них учителями в военном деле. Татары точно так же взяли наперевес одну из клеток и побежали таранить ею дверь пагоды.
Но довольно легкая бамбуковая клетка оказалась совершенно непригодною для выбивания могучих дверей: она рассыпалась после первого же удара. В бессильной злобе татары принялись было рубить двери саблями, но пользы от этого им было не больше, чем если бы они стали грызть их зубами или процарапывать ногтями.
И тут в самую гущу людей, столпившихся у входа, из окна второго яруса грохнулась гигантская голова Будды, и вслед за этим изо всех верхних окон в густую толпу полетели десятки разных тяжелых предметов. Даже забавно где-то было видеть, как из пагоды во все стороны вылетают вазы, подсвечники, какие-то чаны, увесистые книги в деревянных крышках, бронзовые и фарфоровые статуи, камни, доски и прочее.
Толпа отхлынула от пагоды, оставив под стенами человек до тридцати убитых и искалеченных. Как часто бывает при неуспехе в деле, в стане отбитого войска начались распри, взаимные претензии, в частности, у этих дикарей проявившиеся в форме шумной свары, доходящей едва ли не до резни. Офицеры наблюдали из окон за такими их действиями с удовольствием и надеждой. Наконец, татары пришли к какому-то согласию, как можно было судить, потому что толпа на площади как будто успокоилась, и несколько десятков человек куда-то бросились бежать. Как поняли осажденные, они побежали искать что-то более подходящее для тарана, нежели бамбуковая клетка.
Однако нового штурма не последовало. Вдруг послышался приближающийся топот копыт, отчего татары обеспокоились, пожалуй, больше, чем осажденные в пагоде. И на площадь выехали с полсотни всадников. Это были маньчжуры желтого знамени, судя по их облачению – из легиона императорских телохранителей. Они оцепили пагоду полукругом, причем позицию заняли фронтом к татарам. Казалось, будто они приняли сторону осажденных и намерены не подпускать к ним орду. Офицеры, внимательно следившие за всем, что творилось на площади, совершенно не могли себе объяснить происходящего – что все это значит?
Среди всадников выделялся один человек, судя по всему, не военный, но весьма высокопоставленный, – крупный сановник, о чем свидетельствовал его красный атласный халат, весь расшитый золотом и с белым журавлем на груди. Он соскочил с коня и как ни в чем не бывало направился к дверям пагоды. Это уже было что-то совсем необъяснимое. Даже татары на площади все затихли от неожиданности.
Китайский сановник подошел к дверям и негромко постучал. Открыли ему не сразу. Наверное, офицеры совещались: впускать ли его? не уловка ли это какая? Но затем дверь все-таки отворилась, и он вошел внутрь.
Он внимательно оглядел этих удивительных людей, противостоящих целой армии, и, в сущности, победителей, потому что их подвиг уже был большою победой, независимо от того, выйдут ли они отсюда живыми или положат здесь свои головы.
Сановник, сложив руки на животе, слегка наклонил голову, приветствуя героев. И на отличном французском сказал: «Я член Верховного императорского совета. Мне необходимо поговорить с командиром. Кто здесь командует?» – «Я подполковник французской армии, – сказал Годар, не двинувшись с места и не сделав никакого знака уважения в адрес высокого гостя. – Почему вы казните пленных?! На каком основании?! Если вы пришли к нам с предложением сдаваться, то можете не утруждать себя – больше мы вам по доброй воле не дадимся. Вы видели вокруг кумирни десятки трупов ваших солдат? Если вам этого мало, если вы еще хотите отведать, как умеют драться французы и англичане, – подходите! с удовольствием! – здесь будут горы трупов! Вас же, господин член императорского совета, мы задерживать не намерены. Мы представляем цивилизованные народы! Вы свободны». Мандарин внимательно слушал эту гневную речь, ни на миг не отводя внимательного взгляда от горящих глаз подполковника Годара. И ответил не сразу. Какие уж чувства он испытывал, угадать было невозможно, потому что на лице его не выражалось абсолютно никаких эмоций, словно собеседник ему рассказывал о чем-то обыденном и скучном. Наконец он произнес: «Господин подполковник, если вы готовы пожертвовать своею жизнью ради спасения ваших подначальных, вы отправитесь сейчас со мной. И я вам обещаю, что оставшимся будет обеспечена безопасность».
Предложение было в высшей степени неожиданное. Наступило тягостное молчание. Годар украдкой огляделся на ближайших к нему товарищей – а каково их отношение к сказанному? Но все до единого присутствующие при разговоре офицеры стояли потупив взоры. Конечно, он вполне понимал настроение своих соратников: все они, как люди чести, скорее предпочтут умереть, но по собственной воле не выдадут командира, чтобы ценою его жизни купить себе спасение. Но и одновременно – вне всякого сомнения – в измученных, настрадавшихся, не чаявших уже выбраться отсюда людях ожила какая-то надежда: а что если это шанс?., может быть, он сам решится?.. «Я согласен! – громко сказал подполковник Годар. – Но какие вы можете дать гарантии, что оставшиеся будут в безопасности?» – «Лучшая гарантия – это ваше высокое военное искусство: вы с помощью одних только обломков наших богов успешно противостояли многократно превосходящим вас силам, – не без иронии ответил сановник, – но, я думаю, будучи вполне вооруженными, ваши люди сделаются и вовсе не уязвимыми». – «Вы хотите сказать, – удивился Годар, – что дадите нам оружие?» – «Да, если вы отправитесь со мной, остальные получат ружья». – «Я иду с вами», – уверенно заявил подполковник Годар.
Сановник выглянул за дверь и сделал кому-то знак. Через минуту в пагоду вошли трое китайцев. Двое из них внесли продолговатый сверток. А третий – тяжелый мешок. Носильщики положили сверток на пол и развернули его. В рогоже оказалось двадцать абсолютно новых русских винтовок. А в мешке патроны к ним. Годар кивком головы показал своим офицерам разбирать винтовки и патроны.
Итак, обеспечив товарищей оружием, позволяющим им отстаивать свою жизнь, если придется, уже вполне аргументированно, подполковник Годар отправился в стан к неприятелю. Вместо себя он назначил старшим одного английского майора. Офицеры очень сердечно распрощались со своим спасителем. Все понимали, чем они ему обязаны и на какую жертву он ради них идет. Ближайший друг Годара, подпоручик Мельцарек, шепнул ему даже, чтобы он не ходил теперь с этим китайцем: это вовсе не бесчестие отказаться от обещания, данного нецивилизованному головорезу, – зато у них есть ружья, и под его командою им теперь не страшен хоть весь Китай. Но Годар в ответ лишь недовольно и сурово посмотрел на подпоручика, – он и мысли не допускал изменить своему слову, не важно, кому данному и какую бы цену за него ни пришлось платить.
Прежде чем им выходить, мандарин попросил подполковника Годара надеть облачение ламы. Благо такого добра там было вдоволь. В просторном сером халате и в высокой шапке с меховым гребнем, напоминающей каску кирасира, в Годаре вряд ли можно было издалека узнать одного из офицеров. А предъявлять его татарам для ближайшего рассмотрения в планы сановника отнюдь не входило. Как только они вышли из дверей пагоды, маньчжуры подали им коней, и они, в сопровождении нескольких конвойных, быстро ускакали.
Большая же часть прибывших с мандарином маньчжуров так и осталась на площади. Они по-прежнему стояли фронтом к толпе, недвусмысленно показывая всем своим видом, что не намерены никого подпускать к пагоде. Одновременно с этим какой-то маньчжурский военачальник вступил в переговоры с главарями степняков – он убеждал их отказаться пытаться добраться до забаррикадировавшихся в пагоде офицеров, пугая возможными большими потерями и прочим. Так ему велел действовать высокий сановник с белым журавлем на груди.
Член императорского совета с подполковником Годаром прискакали к гигантскому дворцу с немногочисленною стражей из тех же желтознаменных маньчжуров у входа. И мандарин повел его в свои апартаменты. Они долго шли по всяким коридорам, лестницам, переходили из помещения в помещение, из зала в зал. Казалось бы, подполковника Годара, свитского офицера французского императора, имеющего свободный доступ в любой дворец Парижа и Версаля, включая Лувр и Трианон, трудно было еще чем-то удивить. Но дворец Юнг-минг-юна совершенно потряс его. Такой роскоши и такого обилия богатства он прежде не видел и даже не думал, что все это может существовать и на самом деле, а не только в восточных сказках. Годару теперь, наверное, неуместно было думать о чем-то, кроме как о собственной судьбе, которая ему все еще представлялась отнюдь не в радужном свете, но он не удержался и спросил у своего спутника: неужели все бесчисленные предметы желтого металла, которые он тут видит, золотые? Сановник в ответ лишь удивленно пожал плечами, имея в виду ответить: а из чего же еще они могут быть сделаны?., странный вопрос…
Но каким потрясающим ни было зрелище, представшее перед ним, подполковник Годар не мог не обратить внимание на одно удивительное, казалось, в данной ситуации обстоятельство: в огромном дворце не было не только войска, но даже и никакой прислуги, сколько они шли по этому нескончаемому лабиринту, и той не было видно. На входе во дворец стояло двенадцать стражников-маньчжуров. Годар подумал: пусть в этом дворце даже и десять входов и у каждого стоит по дюжине солдат, все равно получается, что стражи тут не более ста двадцати – ста пятидесяти человек; да тут одних залов и комнат больше, – как же такая стража будет охранять дворец, если дикарям-татарам вздумается искать поживиться здесь чем-нибудь?
Наконец, они пришли в какие-то отдаленные покои, особенно не отличающиеся, впрочем, богатством интерьера от остальных помещений дворца: стены, потолок, обстановка – все преимущественно в желтых тонах, – те же золотые драконы повсюду, куда ни посмотришь – нарисованные, вышитые на тканях, вытканные на коврах, вырезанные из дерева, разного размера и формы, – с теми же фигурками животных и птиц – фарфоровых, из дорогого камня, позолоченных, а иногда и целиком золотых, – с иероглифами на стенах, с ширмами, фонариками, шелком и парчой.
Мандарин, с чисто восточною деликатностью выщцав, пока Годар оглядит достодивности и освоится в диковинной для него обстановке, сказал: «Господин подполковник, прошу не удивляйтесь, но я вас пригласил сюда, потому что крайне нуждаюсь в вашей помощи». – «Я не ослышался?..» – спросил изумленный Годар. «Нисколько, – спокойно продолжал китаец. – Вы, разумеется, не могли не заметить, что здесь – в Юнг-минг-юне – властвует единственно это распоясавшееся, озверевшее татарское стадо». – «Но, ваше превосходительство, – не удержался заметить ему Годар, – это, прежде всего, нелестно для вас же: если китайское правительство так устроило свою армию, что она по собственному произволу превращается в стадо, как вы изволили их назвать, то, значит, ваше правительство достойно такой… армии». Сановник выслушал это с обычным своим спокойствием. «Вы правы, – согласился он. – Война проиграна, и все рушится – армия, государство… И мы этого достойны… Кстати, все в точности, как и у вас в Европе. Знаете, для чего император уехал из столицы? – это сигнал для всех нас – высших государственных сановников – принимать яд. Правильно! – должен же кто-то быть виноватым в случившемся. А император, как известно, всегда безгрешен. Скажите, как вы, человек военный, оцениваете положение, в котором я здесь нахожусь? – мои полномочия подкреплены лишь сотней надежных солдат! И с такою силой я должен поддерживать порядок и законность на необъятном пространстве! в целом городе! Да, произошло непредвиденное – сорокатысячное войско татар, в победе которого никто не сомневался, было совершенно разбито вашими гораздо меньшими силами. И уж тем более никто не мог предполагать, что остатки этого войска превратятся в разбойничью ораву, без разбора грабящую и убивающую всех, кто встречается на их пути, – и своих, и чужих. По сути, Юнг-минг-юн взят ими, будто иноземными завоевателями. И в том, что в императорской резиденции еще не начались повальные грабежи, представьте, ваша заслуга – вы со своими людьми на время отвлекли на себя их внимание». – «Выходит, мои товарищи ценою своих жизней спасли императорскую резиденцию от разорения?!» – воскликнул Годар. «Вот именно! – подтвердил сановник. – Цена этих богатств – жизнь ваших людей. Да и, кстати, ваш личный подвиг тоже: не окажи вы столь ожесточенного сопротивления, здесь, может быть, уже были голые стены. Но давайте пройдем в соседнюю комнату. Мне нужно вам кое-что показать». И сановник направился к двери, жестом приглашая подполковника Годара следовать за собой.
В соседней, меньшей по размеру комнате Годара ждала новая нечаянность – там стояли в ряд несколько красных лакированных гробов, особенной китайской формы: глубокие, похожие на саркофаги, с массивными крышками.
«Вот, господин подполковник, – указывая рукой на гробы, сказал мандарин, – вот для чего я вас пригласил». Годар понимающе покачал головой, показывая, что не испуган и не удивлен, – он знал, на что шел. Но китаец, оказывается, вовсе не то имел в виду, о чем он подумал. «Для вас, как для патриота, наверное, нет больших забот, нежели всячески доставлять пользу отечеству, – продолжал сановник, – поэтому, не сомневаюсь, вы поймете и патриота чужой земли. Помогите-ка мне». Китаец ухватился за крышку одного из гробов. Подполковник Годар взялся с другой стороны. И они сдвинули крышку в сторону.
Готовый уже к любому финалу, не страшась самой смерти и даже безусловно убежденный, что китаец по восточному обычаю любезно знакомит его с пристанищем, где ему предстоит быть упокоенным навеки, бесстрашный подполковник, заглянул внутрь гроба и… нет, не растерялся и не смутился, – это не те чувства, – а именно испугался, вздрогнул, как ошеломленный внезапным криком на ухо или хлопком за спиной. Человек всегда пугается неожиданного. Если бы Годар обнаружил под крышкой расчлененный труп, это теперь, может быть, и не произвело бы на него особенного впечатления. Но то, что предстало его взору, он увидеть здесь не ожидал ни в коем случае, – гроб был почти полон золота. Там были беспорядочно навалены в основном предметы, имеющие культовое назначение – статуэтки божеств, подсвечники, кадильницы, вазы. «Что это?» – непроизвольно вырвалось у подполковника. Но сановник вполне понял его состояние. «Это сокровища Юнг-минг-юна, – спокойно объяснил он. – То есть половина сокровищ. А здесь, – он указал на соседний гроб, – другая половина. И она ваша».
Годар с трудом уже понимал, что происходит. У него голова пошла кругом. Безотчетно он рванул верхнюю пуговицу мундира, словно ему не хватало воздуха.
«Видите ли, господин подполковник, – продолжал китаец, – я не случайно сказал, что мне, так же как и вам, дороги интересы моего отечества. Война проиграна. Власти в стране нет. Собственная армия сделалась опаснее иноземного войска. Что на моем месте должен сделать всякий патриот? – хотя бы спасти богатства, сколько можно, чтобы в будущем обратить их на пользу отечеству. Вот они эти богатства. Вообще, все, что осталось в Юнг-минг-юне, по сути, принадлежит мне. Потому что любую недостачу всегда можно оправдать безвластием, бессилием защитить ценности от всякого рода грабителей – вышедших из повиновения своих или одержавших победу чужих. Но владеть этими ценностями мало. Их нужно еще сохранить. И вы мне поможете это сделать», – сказал он так, будто дело было уже совершенно решенное. «Каким же образом я могу вам помочь? – удивленно спросил Годар. – Я и мои люди – мы сами нуждаемся в помощи, в защите. Нас и взвода не наберется…» – «Верно, – взвода будет недостаточно, – подтвердил мандарин. – Сокровища должна охранять вся англо-французская армия». И видя, что подполковник уже решительно не понимает его загадочных слов, он объяснил, наконец, в чем же именно состоит его замысел: «Сокровища останутся в неприкосновенности, если в гробах будут положены еще и покойники – те люди из вашего отряда, которые нынче были казнены. Но уже для безусловно верного успеха нам нужно, чтобы все думали, будто среди прочих здесь лежите и вы. Тогда ваше командование обеспечит погибшим героям и надлежащую охрану, не ведая, что заодно охраняет и драгоценности, и позаботится похоронить их с воинскими почестями, не подозревая, что вместе с ними закапывает в землю золото. Нам же останется только спокойно откопать его через какое-то время».
Тут только подполковник Годар и осознал весь план хитроумного китайца. «Допустим, – сказал он, – я соглашусь сделать все, о чем вы говорите. Но это же будет выглядеть как дезертирство – во время войны исчезнуть, спрятаться. И как я потом объявлюсь живым?» – «Я уже не раз вам заметил, что война, по существу, окончилась, – отвечал сановник. – И ваше нахождение в строю – это теперь не более чем соблюдение формальностей. А что касается вашего дезертирства, как вы говорите, то с этим вообще никак невозможно согласиться: дезертир – это тот, кто прячется от опасностей, кто ищет собственного спасения в ущерб интересам своих ближних, своего народа, – вы же, напротив, отправились в стан к врагу, искупая своею жизнью жизнь соратников. Вы себя добровольно принесли в жертву. Это подвиг, а не дезертирство. А как вы затем объявитесь живым, вы спрашиваете? Уверяю, вряд ли у вас возникнут какие-то трудности, когда вы будете иметь целый гроб золота. Это только у бессребреников кругом трудности».
Годар задумался. Действительно, было о чем поразмыслить. Что, собственно, могло произойти из-за того, что он исчезал на какое-то время? Неприятности по службе? Едва ли. А если его в самом деле угнали в плен куда-нибудь в глубь Китая? Почему нет? Больше его заботило: а честно ли он поступает, идя на эту сделку?
Китаец, словно угадав его мысли, сказал: «Я вполне понимаю, у вас могут быть сомнения относительно этичности этого предприятия. Но для патриота, как мне кажется, этично все, что приносит пользу родине. Рассудите сами: когда вы больше сможете быть полезны Франции – с золотом или без него?»
Трудно было не согласиться с мудрыми словами мандарина. Последний скептический вопрос Годара был таков: «Но не много ли вы мне предлагаете?» – «Это не много и не мало, – заверил его сановник, – это по-честному: мне нужна ваша помощь, следовательно, вы являетесь равноправным партнером. Но видите ли, – продолжал сановник, – вдвоем нам с вами не обойтись. Кто-то должен будет засвидетельствовать, что вы погибли и лежите вот в этом гробу. Среди ваших людей, что остались в пагоде, найдется кто-нибудь, кому бы вы вполне доверяли?» Годар, не раздумывая, назвал своего друга подпоручика Мельцарека. Китаец спросил: а не тот ли это человек, что украдкой пытался отговорить его идти с ним сюда? И когда узнал, что тот самый, выразил сомнение – а можно ли в таком случае доверять ему? Но Годар подтвердил, что доверяет подпоручику. «Что ж, как знаете, – сказал китаец. – Напишите ему записку, чтобы он немедленно явился».
И вот что он продиктовал Годару:
«Любезный друг мой. Очевидно, живым мне из плена уже не выйти. Я вас очень прошу отправиться с посыльным, чтобы принять последнюю мою исповедь. Вашу безопасность мне гарантировали. Подполковник Годар».
Сановник велел своим маньчжурам доставить эту бумагу к осажденным в пагоду. И заодно привезти с площади всех казненных. Татары вряд ли могли этому помешать, потому что собирать останки замученных сановник отправил с воинами и нескольких буддийских монахов.
Скоро и подпоручик Мельцарек, облаченный, как и Годар, в костюм ламы, и все казненные на площади офицеры были доставлены во дворец. Услышанное для подпоручика оказалось не меньшим потрясением, чем и для Годара недавно. С той лишь разницей, что Мельцарек не задумывался, насколько этот замысел согласуется с понятиями о чести, – его потрясение целиком было вызвано известием о величине полагающейся ему доли золота. А когда Годар подвел его к гробам и показал самые сокровища, подпоручику едва не стало дурно.
Китайский сановник сделал распоряжение своим солдатам, чтобы те перенесли все гробы, и пустые, и с сокровищами, в небольшой павильон, расположенный в парке поблизости от дворца. Там же находились уже и все казненные. Солдаты разложили их по гробам, за исключением двух человек, которые по замыслу сановника должны были почивать на золоте.
Китаец велел солдатам уйти, и уже тогда они втроем с Годаром и с подпоручиком Мельцареком уложили оставшихся покойников и в гробы с сокровищами.
Решено было, что подполковник Годар сейчас же отправится с провожатыми в один укромный монастырь, что верстах в двадцати от резиденции Юнг-минг-юн, и будет там оставаться, вероятно, довольно долго, до тех пор, пока союзническая армия не уйдет восвояси. Только тогда им можно будет беспрепятственно откопать их клад. Подпоручику же Мельцареку вменялось оповестить остальных соучастников о месте захоронения сокровищ, ведь из всех троих лишь он один будет знать об этом.
Когда они все это обсудили и Годар с чиновником собрались было уходить, оставляя подпоручика при покойниках, Мельцарек вдруг рухнул наземь и, обняв сапоги своего командира и друга, забился в рыданиях. Годар с китайцем оторопели от неожиданности. Годар принялся его успокаивать, он погладил своего слишком чувствительного товарища по голове, потрепал по плечу, все тщетно, поляк был безутешен. Он только приподнял мокрое от слез лицо и, обращаясь к китайцу, пролепетал: «Умоляю… оставьте… нам надо проститься по христианскому обычаю…» Сановник нахмурился, помрачнел, но все-таки вышел. Он недоумевал: отчего это ему, неплохо знакомому с европейскою культурой, не известно, как принято прощаться по христианскому обычаю?
Едва китаец вышел, Мельцарек вскочил и приглушенно, порывисто заговорил на ухо Годару: «Господин подполковник! Почему мандарин говорит, что это и есть сокровища Юнг-минг-юна, когда во дворце кругом еще полно золота? Я шел через комнаты и видел множество золотых вещей, побольше, думаю, чем здесь лежит в обоих гробах. Здесь что-то не так».
Несколько мгновений они стояли и молча, оторопело смотрели друг на друга. Но Годар быстро овладел собою. Он подошел к гробу со всякими храмовыми принадлежностями, являющимися по уговору долей мандарина, на которых уже лежал обезглавленный капитан Рапо – первый казненный, и стал у него в ногах разгребать все эти статуэтки и кадильницы по сторонам. Оказалось, что слой золотых вещей вовсе не велик. Под ними, где-то на уровне середины гроба, был расстелен парчовый покров золотого же цвета. Годар приподнял край этого покрова, и они с Мельцареком просто-таки оцепенели. Увидевших сегодня много всяких чудес, необычностей, их, казалось, уже ничто не могло удивить. Но то, что теперь предстало их взору, решительно не поддавалось никакому осмыслению: под покровом сплошь лежали драгоценные камни. Мельцарек погрузил в россыпь руку и попытался достать до дна гроба. Его рука ушла в камни почти по локоть!
Они обследовали второй гроб, что предназначался им в награду, но там было одно только золото. Без сомнений, китаец не собирался делиться с соучастниками на равных условиях. Содержимое гроба, припасенное им для себя, по стоимости многократно превосходило их долю.
«Что же теперь делать?» – испуганно спросил Мельцарек. «Ровно ничего, – твердо ответил Годар. – Будет нам и этого. То, что нам с вами причитается, я думаю, превосходит самые крупные состояния Франции». Поляк хотел что-то еще сказать, но Годар приложил палец к губам, показывая, что разговор их окончен. Тогда Мельцарек с лихорадочною поспешностью выхватил из кучи золота два увесистых перстня, которые он, верно, уже приметил раньше, и засунул один себе в карман, а другой протянул Годару. «Возьмите, господин подполковник. Пусть эти перстни напоминают нам о нашей великой цели и зовут нас к ней», – произнес он с обычною польскою высокопарностью. Годар недовольно поморщился, но на возражения уже не было решительно никакого времени – он взял перстень и вышел из павильона.
Подполковник Годар рассудил, что требовать у китайца пересмотра их условий у него нет никаких оснований: сановник сказал, что они поделились по-честному, но это вовсе не значит, что поровну, – сколько он посчитал возможным выделить им за их участие, тем они и должны довольствоваться. Да и вообще, почему ему претендовать на что-то еще, если сановник расплатился уже с ним самым ценным – жизнями его товарищей, которым, благодаря их сделке, опасность теперь, скорее всего, не грозит.
Больше в Юнг-минг-юне Годару задерживаться было незачем. В сопровождении двух маньчжуров он выехал в монастырь, расположенный чуть севернее, где был принят, благодаря письму китайского сановника, исключительно любезно. Там Годару отвели уютную комнату, прилично кормили и абсолютно никак им не интересовались.
Путь же сокровищ лежал прямо в обратную сторону. Все устроилось, как и предполагал сановник. Вышедшие из-под всякого повиновения, окончательно осатаневшие татары попытались было еще раз штурмовать пагоду с забаррикадировавшимися там офицерами, но, встретив в ответ ружейный залп, за ним другой, третий, они бросились с площади врассыпную и, не думая больше о том, как бы расправиться со своими бывшими пленниками, принялись без разбора громить и грабить императорскую резиденцию. Между прочим, несколько человек ворвалось и в тот павильон, где стояли гробы с казненными. Но там они увидели такую картину: несколько лам сидели в рядок, поджав ноги, один из них глухо бил в огромный барабан, а остальные монотонно пели молитвы. Среди них находился и подпоручик Мельцарек. Но узнать его, облаченного в буддийское одеяние, в полумраке павильона было совершенно невозможно. К тому же татары поспешили уйти из павильона. При всей их невообразимой дикости, доходящей едва ли не до животных порядков, отношение к священству у них было почтительное до подобострастного.
А когда по Юнг-минг-юну пронеслась весть, что союзническая армия находится поблизости, татары немедленно бежали из императорской резиденции, особенно даже и не заботясь, как бы прихватить с собою побольше богатств богдыхана. У них вообще отношение к ценностям было своеобразное. Они, например, абсолютно безразлично относились к фарфору или к изделиям из нефрита, но при этом жадно хватали ковры или парчовые отрезы, тотчас рвали их по размеру попоны и набрасывали на лошадей. Парчовая попона с драконами! – это у них считалось самою дорогою добычей.
Когда офицеры по наступившей тишине поняли, что резиденция опустела, они выбрались из своего убежища и направились к Пекину, куда, по их предположению, уже должны были подойти английская и французская армии. И не ошиблись. Войска союзников они повстречали еще на полпути к Пекину.
Рассказ офицеров об их злоключениях в плену потряс всех до крайности. В отместку союзники готовы были сровнять Пекин с землей. И это непременно произошло бы, если бы не русский посол генерал Игнатьев: он убедил английского и французского послов, а через них и военное командование союзнических сил, ни в коем случае не штурмовать Пекина, дабы не затягивать войны и не проливать крови понапрасну, – китайцы-де и сами скоро сдадут столицу. Но англичане с французами пылали страстью как-то удовлетворить свой гнев. И тогда они устремились на Юнг-минг-юн.
Кроме нескольких монахов, там уже не было ни души. Союзники ворвались в резиденцию и подвергли ее совершенному опустошению. Все, что можно было унести, они забирали с собою. И на обратном пути их колонна напоминала нагруженный товарами купеческий караван. А все не поддающееся переноске они безжалостно уничтожали. Сказочную резиденцию китайских императоров союзники оставили лежащей в дымящихся развалинах.
Когда они рыскали по дворцам и пагодам в поисках поживы, из одного павильона вдруг вышел человек в мундире французского подпоручика. Он едва сумел поднять руку, чтобы, привлечь к себе внимание, и вслед за этим сел прямо на пороге, словно его окончательно оставили силы.
К нему немедленно подбежали несколько солдат, офицеров – они догадались, что это один из пленных, захваченных монголами у Тонг-чеу, но по какой-то причине не вышедший из Юнг-минг-юна вместе с основною группой.
Среди покорителей императорской резиденции было и несколько человек недавних пленников Юнг-минг-юна, пожелавших вернуться сюда, чтобы посчитаться за пережитые мучения. И они, конечно, без труда узнали в этом оборванном, грязном, измученном человеке подпоручика Мельцарека – своего товарища по несчастью. Они, сами все оборванные и измученные, но радостные, бросились его обнимать, поздравлять со счастливым избавлением. Кто-то протягивал ему вина, кто-то подсовывал раскуренную трубку.
Мельцарек, будто бы даже не осознавая, что его мукам пришел конец и он совершенно свободен, глядел вокруг себя бессмысленным, блуждаюяцим взглядом. Наконец, несколько овладев собой, он с трудом произнес, показывая на дверь павильона: «Там все наши казненные… И подполковник Годар тоже…»
Всех гробов в павильоне стояло числом восемь штук. Подпоручик Мельцарек, как он ни был обессилен, подробно рассказал о том, в каком именно гробу кто лежит – он сам их укладывал! – и попросил ни в коем случае не отбивать крышек, потому что вид покойных, по его словам, был ужасен. Бывшие с ним в плену офицеры присоединились к его просьбе: они подтвердили, что там нет трупов в обычном понимании, но лежат лишь нарубленные куски мяса.
Казненных всех привезли в Пекин и спустя несколько дней похоронили с наивысшими воинскими почестями. Правда, церемония погребения героев была несколько омрачена неожиданным недоразумением – французские миссионеры, которым принадлежало католическое кладбище в китайской столице, категорически воспротивились хоронить на нем англичан, объясняя это тем, что они-де другой веры и покоиться в одной ограде с добрыми католиками им никак не позволительно.
Опять же помог генерал Игнатьев. Он предложил похоронить англичан на кладбище русской духовной миссии. Возможно, русские миссионеры, так же как и их латинские коллеги, не желали бы иметь на своем кладбище покойников чужой веры. Но, в отличие от инославных коллег, русское духовенство никогда не посмело бы даже виду показать, что не согласно с волей какого-то своего вельможи. И хотя бы самая кроткая просьба всесильного генерала Игнатьева воспринималась русскою миссией как строгое указание к действию, прекословить которому было небезопасно.
Так или иначе, но недоразумение было разрешено. Вначале похоронили на русском кладбище четырех англичан. А затем и французов на старом португальском.
Подполковник Годар просидел в комфортном затворе с месяц. Он, как было условлено, терпеливо ждал от китайского сановника указаний на дальнейшие их действия. Но прошло уже довольно времени, а от китайца так и не приходило никаких известий. А однажды к нему вошел настоятель и сообщил совершенно невероятное: сановника нет более в живых! – разгневанный на него император Сянь-фын повелел ему покончить с собою, что тот и исполнил, вспоров себе живот.
Оставаться в монастыре Годару было абсолютно незачем. Настоятель, видимо, человек преданный покойному сановнику и чем-то ему обязанный, каким-то образом выправил Годару фальшивые документы на имя французского коммивояжера Луи Морана. И Годар, переодевшись в европейский партикулярный костюм, так под чужим именем и отправился в Пекин якобы по коммерческим надобностям – искать подпоручика Мельцарека.
Пекин просто-таки кишел англичанами и французами. Поэтому для Годара находиться там было небезопасно – его случайно мог узнать кто-нибудь из сослуживцев. Несколько раз он встречал на улице знакомых офицеров. И лишь чудом оставался неузнанным. Найти Мельцарека в гигантском городе было практически невозможно. Спрашивать о нем кого-то из французских военных тем более не годилось. Это было для Годара отчаянно рискованно. Тогда он придумал караулить лейтенанта у собственной могилы – придет же тот как-нибудь навестить друга. Годар выяснил, тоже не без труда, где именно его похоронили, и несколько дней подряд приходил на португальское кладбище. На свою свежую могилку он мог посмотреть только что издали. Потому что рядом с ней постоянно стояли, периодически меняясь, кто-то из французов, в основном офицеры. Наверное, они восторгались подвигом соотечественников, замученных татарами. Как же Годару хотелось послушать, что там они говорят о нем! Но, увы, подойти ближе было невозможно. Так он день-деньской и выглядывал из-за старинных крестов, надвинув пониже на глаза шляпу.
Наконец, день на четвертый засады, подпоручик Мельцарек появился. Он был в великолепном новом мундире и с орденом на груди. Годар еще не сразу и узнал его, подумал: что за франт штабной?
Подпоручик был не один. Он пришел с какими-то офицерами. Но, к счастью для Годара, его знакомых среди них не оказалось. Мельцарек принялся что-то рассказывать, причем делал это очень энергично, размахивая руками, изображая в лицах кого-то. Может быть, он живописал их приключения в Юнг-минг-юне?..
Годар вышел из своего укрытия и, не торопясь, с видом этакого праздного посетителя кладбища, направился к Мельцареку. Увидев его, подпоручик оборвался на полуслове и так и застыл с отвалившейся челюстью, будто ему вовсе не было известно, что Годар не лежит в могиле, и будто теперь явилось привидение. Оставив в недоумении своих товарищей, он поспешил навстречу к Годару, но не потому, что ему не терпелось обнять друга и соратника, а скорее для того, чтобы избежать объясняться с ним в присутствии посторонних.
Как рассказал Мельцарек, французский корпус постепенно начал выходить из Китая. И уже большая часть войска была либо на пути к дому, либо в Аннаме. Но все равно в Пекине остается еще довольно много французов, на кладбище выставляются караулы, и просто так взять и выкопать сокровища совершенно невозможно.
Известие о том, что всех претендентов на сокровища осталось только их двое, казалось бы, должно было вызвать у Мельцарека прилив радости, но его это повергло в напряженное раздумье. Он верно заметил, что в таком случае им разумнее теперь сосредоточить интерес на доле китайца и не думать пока о несоизмеримо меньшей своей доле. Потому что при сложившихся обстоятельствах откопать и перепрятать один гроб много проще, чем два гроба. Удастся завладеть еще и их первоначальной, менее ценной, частью клада – вообще прекрасно, не удастся – не велика беда. И тут Мельцарек предложил неожиданный и очень разумный план действий: лейтенант сказал, что Годару теперь надо ехать во Францию и привезти оттуда подтвержденное военным министерством прошение родственников капитана Рапо о перенесении его останков на родину. Тогда они беспрепятственно откопают гроб и увезут его, куда им будет нужно. Сам же Мельцарек в это время, как прежде Годар, исчезнет, спрячется где-нибудь, в том же монастыре, например, и будет ждать его возвращения. Так они решили действовать.
Поездка Годара на другой край света и обратно заняла почти полгода. Но все вышло, в общем-то, удачно. Во Франции он разыскал родственников капитана Рапо и убедил их обратиться к военному министру с просьбой оказать содействие в перенесении погибшего героя из Китая на родину. Получить согласие министра было не сложно, ибо это нисколько не касалось расходных статей министерства, – Годар заверил, что перезахоронение будет целиком осуществлено на счет сослуживцев покойного. Сложнее ему было объяснять, почему сам-то он жив. Его все уже похоронили. Посмертно представили к награде. Было даже предложение назвать его именем улицу в Париже. И вдруг! – он является собственною персоной. Услышав от очередного чиновника подобный вопрос – как это вышло такое, что он живой? – Годар вскипел, наговорил в ответ каких-то дерзостей, дело едва не дошло до дуэли, но обошлось. И когда Годар вскоре уехал назад в Китай, все страшно обрадовались, что этот несносный воскресший, к тому же ополоумевший, не будет им больше докучать.
Но по возвращении в Китай Годара ждала совершенно необъяснимая неожиданность – Мельцарек исчез. В монастыре, как рассказал настоятель, он и не показывался. Годар искал его где только возможно, расспрашивал у кого возможно, почти месяц всякий день ходил на кладбище и караулил его у своей могилки – не появится ли он там, как в прошлый раз? Все напрасно. Мельцарека след простыл.
Тогда Годар решил действовать самостоятельно. Если поляк когда-нибудь отыщется или как-то даст о себе знать, то он, безусловно, поделится с ним по-честному. Ну а если он пропал окончательно, что ж, тогда Годар останется единственным наследником сокровищ Юнг-минг-юна. Так он рассуждал.
Имея законное основание откопать и вывезти гроб, он и то и другое исполнил без труда. Но когда Годар в укромном месте вскрыл гроб, он, кроме полуистлевшего трупа, ничего там больше не обнаружил. Но что самое потрясающее – на покойнике был надет английский мундир! Годар знал об этой истории с принципиальными французскими миссионерами, не позволившими похоронить на католическом кладбище англичан. Сам Мельцарек ему об этом подробно рассказал полгода назад. Но тогда каким же образом кто-то из англичан все-таки оказался там похороненным? Как такое могло случиться?
Годар уже почувствовал какой-то подвох со стороны своего друга. Похоронив по чести англичанина, он отправился в Пекин на русское кладбище. И там ему рассказали нечто уже совершенно невообразимое: русское кладбище, в отличие от католического, не охранялось, и полгода тому назад две из четырех могил английских офицеров, казненных в китайском плену, были раскопаны – ночью! тайком! – гробы вынуты и увезены неизвестно куда. Кто это сделал? – Бог весть…
И тут только Годар все понял окончательно: как прав был китайский сановник, когда сомневался в благонадежности поляка! – он безжалостно, предательски надул своего компаньона. Но еще раньше он обвел вокруг пальца и хитроумного мандарина, не зная еще, что того нет в живых. Ведь покойных англичан отделяли от французов только по свидетельству Мельцарека. И он два гроба с сокровищами, в которых лежали казненные французы, отправил на русское кладбище, сказав, что-де там находятся все англичане. Значит, он заранее спрятал сокровища и от Годара, и от китайца. Потом, волею судьбы, одним дольником стало меньше. Потом он избавился от другого, надолго отправив его во Францию. А тогда уже единолично присвоил себе все ценности и скрылся.
Таков был рассказ старого подполковника Годара.
– Но, дедушка, – заметил Паскаль, – в конце концов, впрок этому поляку сокровища не пошли. Он их так основательно перепрятал, что ни сам, ни кто другой не мог ими воспользоваться.
– Я думаю, – ответил старик Годар, – он и не собирался их прятать. Как можно судить по рассказу твоего русского Егорыча, клад Мельцарек закопал где-то в семидесяти – восьмидесяти лье к северо-востоку от Пекина. Трудно даже предположить, куда именно он пробирался с драгоценностями. Не думаю, чтобы он шел в Россию. Хотя и это не исключено: у него уже наверняка были надежные документы, тоже на имя какого-нибудь Луи Морана, коммивояжера, и вряд ли у него возникли бы какие-то неприятности с русскими властями. Но мне кажется, у него был другой маршрут. Видишь ли, в чем дело, мой дорогой Паскаль, везти сокровища в какой-нибудь ближайший порт на Желтом море и искать там судно в Европу крайне опасно. Там повсюду полно китайских таможенников, всяких соглядатаев, а его груз – это не горсть чечевицы, и незаметно его на корабль не пронесешь. Скорее всего, он пробирался куда-нибудь за стену, к глухим северным берегам, ближе к Ляо-дуну, чтобы там подрядить случайное судно и вывезти сокровища из Китая контрабандно. Впрочем, это только мое предположение. Может быть, у него были совсем другие планы. Но, во всяком случае, ему зачем-то потребовалось закопать свой груз. А уже снова откопать его и увезти у Мельцарека по какой-то причине не вышло.
Старый подполковник замолчал. Казалось, он хочет о чем-то спросить Паскаля, но как будто не решается. Наконец, с какою-то необыкновенною для него неуверенностью в голосе и с надеждой заглядывая внуку в глаза, он произнес:
– Что ты обо всем этом думаешь?..
Паскаль несколько мгновений смотрел на дедушку с умилением, почти жалостливо, но тотчас улыбнулся и бодро, решительно сказал:
– Тут нечего и думать! Мы едем в Китай!
Глава 9
Самою большою неожиданностью для Тани сделалось даже не новое ее положение замужней дамы, а перемена места жительства. Ей казалось, что она вдруг попала совершенно в другой мир – в какой-то другой город, куда-то в глухую провинцию. Вместо привычных респектабельных арбатских переулков с многоэтажными домами, со стеклянными дверями подъездов и неизменными консьержами в них, здесь, на Таганке, – низкорослая застройка, глухие двери все на замках, на засовах, сплошь заборы, ворота, калитки, ставни, дымы над крышами. Во дворах лают собаки, кричат петухи, кругом бродят коты. Засыпает Таганка рано: летом так еще засветло на улице никого, и в домах тишина, а зимой и днем-то здесь едва встретишь прохожего.
Равным образом отличалось от прежнего и новое Танино жилище. Квартира ее родителей находилась в доме, который по своим архитектурным достоинствам и по степени комфорта не уступил бы лучшим домам Сен-Жерменского предместья. Апартаменты же Антона Николаевича живо напоминали о купеческой Москве эпохи Островского: низкие, едва ли четырех аршин, потолки, скрипучие половицы, маленькие оконца, печки по всем комнатам.
Антон Николаевич, понимая, как непросто девушке из европеизированной донельзя семьи освоиться во всей этой новой для нее, непривычной обстановке, начал было чуть ли не каждый вечер вывозить ее куда-нибудь в свет – в собрание, в театр, в ресторан, к знакомым. Но от визитов скоро пришлось отказаться: у большинства знакомых Антона Николаевича дети были старше Татьяны, и именно они, их любопытные или красноречиво ироничные взгляды доставляли Тане беспокойство, смущали ее. Это не ускользнуло от внимания Антона Николаевича. Поэтому, заботясь о Танином душевном покое, он под предлогом занятости почти прекратил с ней визитировать.
Зато сама Таня была вольна принимать кого угодно и сколько угодно. Но особо у нее гостей не бывало. Родители приехали к ней лишь однажды – сразу, как полагается, после свадьбы. И больше не появлялись. По обоюдному мнению Александра Иосифовича и Екатерины Францевны, Тане теперь следовало всецело принадлежать мужу и новой семье, и напоминать ей своими визитами о прежней семье они считали для дочки вредным. Руководствуясь этими же соображениями, Александр Иосифович посоветовал Тане воздерживаться без особой нужды бывать в родительском доме, а если и приходить иногда к ним с Екатериной Францевной в гости, то непременно с супругом.
Несколько раз к Тане приезжали ее подруги – Лена и Надя. Но где-то в начале осени Лена, закончив сестринские курсы, отправилась с госпиталем на войну на Дальний Восток. А Надя с мамой уехали путешествовать по Европе до будущего лета. Единственным близким, оставшимся с Таней от старой жизни, была теперь m-lle Рашель. Выдав дочку замуж, Александр Иосифович хотел тут же рассчитать француженку, но Таня, успевшая привыкнуть к ней и где-то даже полюбить это безответное, беззащитное существо, заступилась за чудаковатую свою компаньонку, для которой отставка была бы погибелью – ей абсолютно некуда было идти, никто ее нигде не ждал, – и попросила мужа Антона Николаевича взять за ней еще и это приданое. Пристав, готовый потворствовать любым прихотям своей молодой жены, не отказал. Компаньонке выделили комнату – бывшую детскую – и не потребовали от нее ровно никаких услуг. Столовалась m-lle Рашель вместе с господами. И, кажется, чувствовала себя вполне комфортно.
Само собою m-lle Рашель была не единственною статьей выделенного за Таней приданого. Она получила от родителей в свое распоряжение приличный счет в банке и, разумеется, семейные реликвии Нюренбергов – готическую Библию и полуистлевшую горностаевую шубу. Таня с благоговением приняла и то и другое, но шубу к мужу везти не рискнула, чтобы не опозориться в новой семье с самого начала своей жизни там, а попросила маму оставить ее у себя на сохранение. Екатерина Францевна побожилась сохранить ценность во что бы то ни стало.
Была ли Таня счастлива? Она сама на этот вопрос не ответила бы ничего определенного. Конечно, счастье не в высоте потолков в комнатах и не в асфальтированном тротуаре перед подъездом. Все-таки в невеликие свои годы она научилась понимать, что счастье заключается больше в отношениях с людьми, живущими вокруг, и менее всего в окружающих тебя предметах. Но если для человека бывает порою довольно болезненно свыкнуться с незнакомою неодушевленною материей, то сжиться с новыми людьми, принять порядки новой семьи и подчиниться им обычно куда как сложнее.
Отправляя дочку в дом мужа, Александр Иосифович наказывал ей быть покорною, непритязательною, кроткою женой, прилежною, усердною, рачительною хозяйкой, такою же, как ее мама, и неизменно помнить, что праздность – мать всех пороков. Екатерина Францевна безоговорочно подтвердила слова своего мудрого мужа. И от себя еще добавила Тане быть заботливою, преданною, нежною дочерью для престарелой матери Антона Николаевича, никогда ни в чем ей не перечить, стараться угадывать вперед и немедленно исполнять все ее желания и называть мамой.
После пустынной и тихой квартиры родителей дом мужа показался Тане растревоженным ульем. Там постоянно кто-то куда-то шел – из двери в дверь, из прихожей в коридор, из коридора в кухню. Там нельзя было выйти из комнаты, чтобы не столкнуться в узком коридоре с кем-то лицом к лицу: с самими ли господами, их гостями, домочадцами, – все перемещались по квартире, будто мыкались, ища выхода в лабиринте.
Собственно семья Антона Николаевича была невелика: сам пристав, теперь с женой, его матушка Капитолина Антоновна, две сестры-девицы и дочь Наташа. Но при господах находилось столько челяди, что Тане потребовалось некоторое время, чтобы запомнить всех слуг. Потом она узнала, что все это многолюдье содержится по воле ее свекрови.
Таня уже была немало наслышана о том, как важно жене иметь добрые, ровные отношения с матерью мужа – именно от этого в значительной степени должно будет зависеть ее семейное благополучие. И она готова была вполне добросовестно исполнять заповедь, данною ей мамой, то есть, безусловно, во всем угождать свекрови, ходить за ней, как за самым дорогим и близким человеком. Однако ближайшее знакомство с Капитолиной Антоновной просто-таки обескуражило Таню. Впрочем, впоследствии она искренне привязалась к матери мужа, полюбила ее всею душой.
Об этой почтенной даме следует рассказать подробнее.
Капитолина Антоновна родилась аккурат в день декабрьского восстания 1825 года. И это событие, видимо, каким-то мистическим образом отразилось на всем ее существе: она, как тот Муравьев, была не из тех, кого вешают, а из тех, кто вешает. Значительная часть жизни Таниной свекрови прошла при крепостном праве. Лишившись отца – уланского майора, погибшего в Венгрии и не успевшего даже выдать ее замуж, – Капитолина Антоновна, с согласия меланхолической от природы матушки, взяла в свои руки управление самым крупным из их имений – калужским. Но боже упаси подумать, что она была каким-то тираном-самодуром, этакою новою Дарьей Салтыковой. Да, обходилась с крестьянами Капитолина Антоновна строго, подчас жестоко, но справедливо, истинно по-матерински. Не было такого, чтобы, взыскивая с кого-то за ту или иную провинность, она сторицею не оценила бы заслуг этого же человека.
В то время как многие помещики тогда или вовсе отказались от работной повинности крестьян на земле, предпочитая получать с них откупа за самостоятельное ведение дел, или, по крайней мере, совмещали статьи, Капитолина Антоновна даже немногих оставшихся от отца оброчных посадила на барщину. Объясняла она это тем, что-де люди все должны быть у нее на виду, под ежечасным присмотром, а не куролесить по своему произволу в городах между делом по трактирам, а то и по иным каким постыдным заведениям.
Основательно взявшись соблюдать нравы крестьян, Капитолина Антоновна для наибольшей степени пользы завела в своих имениях правило, существовавшее на Руси при Иване Грозном: она повелела не пить никому вина ни в какую пору в году, кроме Святок и Светлой седмицы. В иные же праздники, а также по случаю каких-то семейных торжеств – свадьбы, крестин, именин – или поминок вино дозволялось только по ее особенному разрешению. Как-то два мужичка напились в самый день ангела Капитолины Антоновны, полагая, что барыня по такому уважительному случаю с них не взыщет. С них лично Капитолина Антоновна действительно не взыскала – она на целый месяц отправила в дальнюю деревеньку их жен. Уже через неделю мужики лежали у нее в ногах и умоляли выпороть их покрепче, но вернуть жен, потому как жизни у них теперь не стало никакой, хоть на стену лезь. Но барыня осталась непреклонною – свою чашу неразумные бражники испили сполна. Нарушали ли они с тех пор запрет – не известно, но, во всяком случае, не попадались.
Сама не знавшая в своих заботах ни отдыху, ни сроку, Капитолина Антоновна не позволяла и никому из людей праздничать. Она с вечера обдумывала, как бы с наибольшею пользой распределить завтрашний день. А с раннего утра энергично принималась за труды. Она появлялась решительно повсюду – в полях, на току, на мельнице, на маслобойне, в кузнице. Интересовалась уходом за скотом и птицей, содержанием пчел. И всюду раздавала указания, назначала уроки работным или проверяла исполнение назначенного прежде, распоряжалась, распоряжалась… При этом еще успевала сводить счеты прихода и расхода, вести поденник.
Слава о молодой радетельной помещице пошла по всей губернии. Кто-то из ее уездных даже всерьез предлагал избрать Капитолину Антоновну предводительницей на новое трехлетие. Но, разумеется, соседи-помещики не могли позволить доверить представлять их женщине. Так из этого ничего и не вышло.
Стараясь оградить крестьян от вредного чтения, для чего категорически препятствовала усвоению ими хотя бы начальных основ грамоты, сама Капитолина Антоновна устраивала порядки в своих имениях именно по науке – приобрела курс Тэера, а также выписывала всякие книги и журналы по земледелию. Отдавая должное заграничным порядкам, она все же предпочитала опираться прежде всего на отечественный опыт: Капитолина Антоновна внимательно изучала устройство самых знаменитых и процветающих русских поместий и старалась завести так же у себя. Узнав, например, как граф Алексей Андреевич Аракчеев указал своим крестьянкам рожать ежегодно – «и лучше сыновей!», – Капитолина Антоновна точно так же распорядилась у себя в имениях, причем вызвалась отныне быть крестною матерью всем крестьянским детям. Она рассчитала, что таким образом лет через двадцать число душ у нее удвоится.
По этому поводу один ее крестьянин – известный в округе балагур – как-то при всем народе сказал барыне: «А что же вы, матушка, сами-то отстаете? Пора бы и вам… того… Да и бабы, те скорее раскочегарятся, на барыню-то глядя!..»
Капитолина Антоновна вначале только усмехнулась на слова забавника. Но скоро задумалась: а ведь и верно, для чего она вообще хлопочет устраивает имения, умножает имущество, если все это некому передавать? Ей уже скоро тридцать, все ее однолетки давно замужем, пора бы и самой подумать о семье, о потомстве.
И вскоре она вышла замуж. Ни о какой любви, ни о каких чувствах к избраннику – малозначительному коллежскому асессору, с университетским, впрочем, образованием, Николаю Федоровичу Потиевскому, сосватанному по ее просьбе бывшим отцовым однополчанином, – не было и речи. Равно как не было речи и о том, чтобы доверить мужу хоть какое-то участие в управлении хозяйством, – Капитолина Антоновна по-прежнему занималась всем единолично. Женившись на владелице очень немалого состояния, этот господин, в сущности, не получал за ней ни рубля, ни души. Но это естественно! – за ним самим не было ничего, кроме заложенного именьица под Москвой.
Впрочем, наследник-то у Капитолины Антоновны родился не скоро. Будто и впрямь показывая пример своим крестьянам, она принялась рожать чуть ли не каждый год, но лишь пятым, и последним, ее ребенком был мальчик. Причем, как достойный сын своей матушки, Антон Николаевич появился на свет в еще одном судьбоносном для России году – в 1861-м.
Этот год стал для Капитолины Антоновны роковым. Среди помещиков разговоры о реформе шли задолго до манифеста. Но Капитолина Антоновна, как и многие землевладельцы, ни в коем случае не верила, что такое безумие возможно. Она искренне считала, что другого устройства, кроме крепостного права, в России быть не должно. Все прочее, всякие копирования европейских порядков, для России погибель. Русский мужик он как дитя малое: его никак нельзя оставлять без барского пригляда – сразу нашалит чего-нибудь. А потом сам же будет пенять-досадовать, что никто не предостерег его, не урезонил вовремя.
На распространенное мнение либералов, что-де в середине девятнадцатого века стыдно сохранять такой пережиток, как крепостное владение людьми – перед Европой стыдно! – мы же цивилизованный народ и должны немедленно отказаться от этого позора, от средневекового рабства, по сути! – на такие доводы консервативные крепостники, как их называли, и среди них Капитолина Антоновна, отвечали: Европа испокон ехала в Россию в службу, почитай, за кусом хлеба, – титулованные в оберы, а просто дворяне так и в гувернеры подчас! – и особенно-то не совестились по этому поводу; так неужели мы – хозяева богатейшей в мире, основательной, необоримой державы – будем стыдиться этих голодырых и чему-то учиться у них?
Кроме этого, консерваторы как за соломинку ухватились за античную еще мудрость, что рабство удерживает немногих, большинство же сами за него держатся, и старались внушить эту мысль противникам. Капитолина Антоновна, та говорила всегда, что у нее нет такого крестьянина, кто хотел бы получить вольную и не мог бы этого сделать: она назначала справедливые откупные, и мужичок скапливал их за три-четыре года, а иногда и раньше; но большинство именно не хотели откупаться, они предпочитали привычную упорядоченную отечески-поднадзорную неволю непредсказуемому беспризорному и беззащитному вольному существованию.
Но никакие доводы не помогли: реформа в свой срок свершилась. Многие помещики, не знавшие другого занятия, как только быть владельцами душ, совершенно разорились. Из таких в лучшем положении оказывались мелкопоместные: они и прежде жили не широко, теперь пусть еще скромнее, а, в общем-то, почти также. К тому же и крестьяне их, сплошь бедняки, обычно оставались временнообязанными. Хуже обстояли дела у средних и богатых помещиков: у тех наступивший упадок в большей степени контрастировал с прежним эпикурейским существованием.
Капитолина Антоновна еще более или менее счастливо справилась с напастью. В то время как большинство помещиков даже и не верили в грядущие перемены, она верно поняла, что дыма без огня не бывает: коли пошли слухи и начальство не рвет за них ноздри болтунам, стало быть, они имеют реальное основание, а значит, надо готовиться к худшему.
К ней как-то явился один ее вольноотпущенный – здорово разбогатевший мужик – и предложил устроить им в имении стекольное производство на равных паях, а крестьян с земли переписать в фабричные, – тогда, по его словам, если им и выйдет вольная, большинство все равно уже останутся при деле. Потому что фабрика, объяснял бывший крепостной бывшей своей барыне, это та же крепость, только держит в повиновении мужика уже не закон и не исправник, а куда более жесткий надсмотрщик – рубль. Капитолина Антоновна тогда даже не стала особенно вникать в суть предложения. Она с достоинством отказала, решив про себя, что русской дворянке негоже быть стекольщицей! И всю жизнь затем, вспоминая предложение своего вольноотпущенного, усмехалась: мне предложить стекло выдувать! каков, а! одно слово – мужик!
Не прельстившись стекольным промыслом, посчитав его недостойным, чуть ли не оскорбительным для нее занятием, Капитолина Антоновна, тем не менее, к худшим временам приготовиться позаботилась. Собственно, она произвела простейшее действие, возможное при сложившихся обстоятельствах. Но хотя бы так. Она удачно продала бывшие на ней после смерти матери невеликие имения – смоленское и ярославское, а также с согласия мужа его подмосковное, которое она же прежде выкупила из залога, сохранив из всего лишь главное и любимое имение – калужское. Значительную часть вырученного капитала Капитолина Антоновна положила в банк, имея в виду впоследствии выделить его за дочерьми. Но на всякий случай она сделала еще одно вложение, оказавшееся весьма ценным: купила в Москве на Таганке квартиру на всякий случай – а вдруг придется перебираться в город от их реформ?! Как в воду глядела! – так впоследствии и вышло.
А участь калужского имения – ее гордости, ее любезного детища – оказалась незавидной. Продай она его вовремя вместе с прочими, Капитолина Антоновна выручила бы очень приличное состояние. Но она доверилась событиям развиваться самостоятельно, полагая, что уж вконец-то их, дворян, начальство не обделит, по миру же не пустит.
В этом имении у нее состояло под триста душ в четырех деревнях, но земли числилось не так много. Поэтому, когда люди получили волю и пришлось им нарезать наделы – хотя бы по три десятины на тягло, – своей земли у нее осталось, как говорится, курицу выгнать некуда. А крестьяне у нее были не бедные, и поэтому в основном все выкупили землю без задолженностей. Казалось, куда лучше! – сразу богатый прибыток. Но такой прибыток хорош, если немедленно куда-нибудь выгодно вложен. Когда же деньги исключены из оборота и покоятся в укладке, они имеют свойство лишь убывать, пока вовсе не сойдут на нет.
Капитолина Антоновна, выручив за землю неплохие выкупные, почти не умерила свои прежние расходные статьи. Прежде всего, она вовсе не отказалась от дворни. Большинство помещиков своих вольныхслуг бросали на произвол судьбы: живите как знаете… Судьба этих людей была незавидна: самые удачливые из них шли в город и нанимались к кому-нибудь в услужение, менее же счастливые оставались в усадьбе, как брошенные за ненадобностью вещи, и часто буквально погибали там с голоду, – им земля не полагалась, да и, привыкшие с детства жить при господах, много бы они наработали на земле? А Капитолина Антоновна предложила своим дворовым по желанию оставаться при ней. Но не как подневольным холопам – они же теперь вольные люди! – а как наемным работникам за вознаграждение. Разумеется, почти вся ее прислуга с радостью осталась при ней.
И вот, имея вроде бы немалое состояние, Капитолина Антоновна с легким сердцем продолжила жить так же широко, как прежде. Зимовали они в Москве. Это было время едва ли не ежедневных приемов: самое дальнее, случайное знакомство с ней самой или с ее мужем Николаем Федоровичем было вескою причиной, чтобы бывать у них в гостях на Таганке. Кстати, прежде не допускавшая бесприданника-мужак управлению имениями, теперь Капитолина Антоновна вдруг позволила ему в равной степени с ней распоряжаться имуществом. И она была приятно удивлена, польщена, увидев, как же великодушен ее Николай Федорович! как щедр! – он, кажется, был готов распахнуть двери дома перед всей Москвой, усадить за стол весь мир. Их зимние lessoiree сделались дворянским собранием обнищавших помещиков, которыми Первопрестольная в шестидесятые – семидесятые просто-таки кишела. Это были смотры старой николаевской гвардии, до жалости потешной, в сущности: вытертые сюртуки, разноцветные выцветшие фраки, лоснящиеся панталоны со штрипками, дурно сидящие на сутулых или согбенных, раздобревших или высохших фигурах. И, конечно, никаких бород! – боже упаси! Собравшись, гости навыпередки, в один голос, перебивая и не слушая друг друга, поминали милые давности, бранили шестьдесят первый год и нынешние порядки. К весне этих могикан обычно уже становилось меньше, чем было осенью.
А на лето Капитолина Антоновна и Николай Федорович с детьми и со всеми домочадцами выезжали в калужское. Их отъезд в начале мая был по-старинному торжественен: впереди шла берлина, запряженная парою подобранных в масть лошадей, с господами и их детьми. За берлиной тащились три разного типа брички с дворней и скарбом – их тянули лошади уже без разбора мастей. В последнюю бричку вообще была впряжена единственная чубарая.
В имении они устраивали такие же lessoiree, как в Москве. Только гостей-то здесь днем с огнем захочешь – не отыщешь. Кроме редких случайных визитеров, к ним всякий вечер приходила за пять верст нищая, едва не побирающаяся, соседка-поручица в худом салопе и в допотопном шлыке. Сколько за лето Капитолина Антоновна передавала ей порядочной одежды! – но поручица так все и являлась в рубище. Приходил еще почти каждый вечер и местный батюшка, неизменно в сопровождении дородной попадьи и многочисленных отпрысков – с отменным аппетитом поповичей.
Чудно было осознавать Капитолине Антоновне, что вся земля здесь вокруг, кроме клочка под усадьбой, теперь не ее. То в бегунках бывало поместья не объедешь, а то стало и пойти некуда.
Большинство уездных дворянских гнезд угасло. Обезлюдевшие строения своей заброшенностью, какой-то сказочной таинственностью производили жуткое впечатление. Усадьба помещиков Потиевских оставалась чуть ли не единственная в округе, напоминающая о прежнем благополучном обильном помещичьем житье. Когда приезжали господа с детьми и с дюжиной прислуги и дом оживал, могло показаться, что и не было недоброй памяти шестьдесят первого года. В эти дни все здесь напоминало прежние благословенные времена: барские приказания, детский визг, дворецкий в ливрее, званые обеды, чаепития под дубом, конные прогулки.
Но эти летние путешествия в прошлое продолжались недолго. Однажды Капитолина Антоновна хватилась, что от капитала, вырученного за землю, остались крохи. Пришлось ей, как ни обливалось сердце кровью, продавать калужское с остатками земли. Назначенная цена обескуражила Капитолину Антоновну: покупатель платил лишь за землю, а собственно усадьба со всеми постройками, по его словам, годилась разве на дрова. И он еще предлагал лучшие условия! – другие не давали и того. Рассказывая об этом Николаю Федоровичу, Капитолина Антоновна плакала – впервые с юных лет! Но делать было нечего, пришлось соглашаться.
От частых lessoiree они теперь вынуждены были отказаться. Николай Федорович, впрочем, настоял, дабы им окончательно не ударить в грязь лицом, устраивать хотя бы еженедельные журфиксы, как это теперь завелось у образованных людей. По его расчетам, при таком образе существования денег, вырученных от продажи имения, им должно было хватить на многие годы.
Не имея прежде ни малого опыта в ведении каких-либо коммерческих предприятий, Николай Федорович вдруг открыл в себе способность оборачивать капитал. Он резонно заметил Капитолине Антоновне, что их деньги, вырученные от продажи трех малых имений, в сущности, даром лежат. То есть кому-то, каким-то ловким банкирам, они действительно приносят пользу, но только не им – своим законным владельцам! Разве это по-хозяйски?! по уму?! Это не деловой подход! – так выразился новоявленный коммерсант. Мы довольствуемся какими-то жалкими четырьмя процентами, внушал он супруге, в то время как все люди, кто с головой, конечно, получают со своих капиталов колоссальные доходы!
Через несколько дней Николай Федорович привел домой нового гостя. Это был коренастый господин с бородой и кудрями, как у медного Козьмы Минина, в гарусовом сюртуке, трещавшем на его саженных плечах, в сапогах гармошкою. Он топал, будто испытывал прочность полов, громко сморкался в огромную алую тряпицу, и говорил таким раскатистым дьяконским басом, что в комнатах звенел хрусталь.
Николай Федорович представил своей дражайшей половине гостя: почетный гражданин Елизар Саввич Пятикратов – председатель правления Московско-Камской железной дороги. Затем Николай Федорович произнес краткую, горячую речь на тему железнодорожного строительства. По его словам, выходило, что теперь нет более выгодного занятия, как принимать в этом участие. Он не успел договорить – его прервал иерихонский рев почетного гражданина. «У меня биржа во где!» – пророкотал Елизар Саввич, показывая Капитолине Антоновне пудовый кулак. «Во у него где биржа!» – тоже поднял кулачок Николай Федорович. «У меня концессия!» – показывал г-н Пятикратов другой кулак. «У него концессия!» – вторил Николай Федорович.
Выяснилось, что Николай Федорович придумал вложить приданое их дочерей целиком в дело, затеянное г-ном Пятикратовым. Нынче он как-то познакомился с почтенным председателем правления уважаемым Елизаром Саввичем, и тот великодушно согласился взять его с супружницей в пайщики, хотя у него и без того отбою от желающих вложить капиталы не было. «Только из уважения! – продолжал трубить председатель. – Я дело знаю верно! Если я с рубля не получу втрое… я их!.. – И он сверху вниз резко опускал кулак, будто прихлопывал кого-то насмерть. – Х-ха! У меня закон – тайга, медведь – хозяин!»
Когда гость ушел, Николай Федорович, весь дрожа от возбуждения, бегал по зале и кричал супруге: «Ты слышала?! – с рубля втрое! Вот что значит практический подход! Это самородок! Это уже от Бога! Нам теперь у них учиться! Я за учителей своих заздравный кубок подымаю! Железная дорога – не стекольный завод! Тут по науке подходить нужно! По инженерству! Ты можешь себе представить, что наш капитал утроится?! Это же!., это же!..» – обрывался Николай Федорович и, подняв глаза к потолку, видимо, подсчитывал нули в многозначной цифре.
Всех денег у Капитолины Антоновны лежало в банке двести пятнадцать тысяч. Двести из них – для ровного счету – она забрала и передала мужу. Тот немедленно отвез их г-ну Пятикратову. Возвратившись от него, Николай Федорович разложил на столе акции, как пасьянс, и принялся живописать Капитолине Антоновне ожидающие их перспективы. «Через три года железная дорога будет действовать, – рассказывал он, – а еще через три года наши двести тысяч вернутся к нам, как одна копеечка. Но это что! – это будет мелочовка на заколки нашим невестам! – а главное – ты вдумайся, Капушка! – главное, мы сделаемся совладельцами крупнейшей в России железной дороги! Наша доля составит полмиллиона! Даже больше! Это почти сто тысяч ежегодного дохода! Что там наши имения! Да мы сможем… Да мы… Мы еще четверкой будем выезжать! С гайдуками на запятках! А если бы наши деньги пролежали эти шесть лет в банке, – говорил Николай Федорович насмешливо, – они принесли бы всего-то… двадцать четыре тысячи, – брезгливо произносил он. – Ха-ха-ха! Да мы двадцать четыре тысячи им тогда подадим на бедность! Пусть поминают нас!»
Где-то месяца через два, проведенные Николаем Федоровичем в совершенном восторге чувств, «Полицейские ведомости» сообщили о крахе акционерного общества Московско-Камской железной дороги. Председатель общества, оказавшийся мошенником, исчез вместе с казной – почти миллионом! Всех надутых им числилось человек до ста. Из них самыми крупными держателями акций были господа Потиевские. Прочие пайщики имели бумаг на пять – десять тысяч рублей или даже меньше. Впрочем, часто бывает, что для одних и тысячу потерять – это куда больший ущерб, нежели сотни тысяч для других.
В том, что они окончательно разорились и оставили дочерей бесприданницами, Капитолина Антоновна винила лишь себя, – с мужа какой спрос! ей ли было не знать, каков он человек! каков коммерсант!
А у несчастного Николая Федоровича после этого случая жизни вовсе не стало. Боже упаси! – Капитолина Антоновна и не подумала как-то помыкать им, мстить за его безрассудство, приведшее их к полному разору. Она, напротив, с тех пор стала еще больше опекать мужа, жалеть его. Но Николай Федорович сам по себе сильно закручинился, затосковал, сознавая, какое бедствие доставил семейству. Принялся выпивать. И года не прошло после его коммерческого предприятия, как он зачах. Вдове даже не по средствам было похоронить в монастыре мужа – тоже, кстати, родовитого дворянина. Пришлось довольствоваться Калитниками.
Капитолине Антоновне в ту пору исполнилось сорок пять. Старшей ее дочери шел девятнадцатый, а младшему Антоше – только что десятый. На оставшиеся от капитала крохи они могли теперь влачить лишь самое скудное мещанское существование. Какие там журфиксы! – самим бы не оголодать!
Собрав как-то всех домочадцев – бывшую свою дворню, – Капитолина Антоновна объявила, что больше содержать их на жалованье она не в состоянии. Если кто-то согласен продолжать служить у нее единственно за пропитание, она будет молиться за них, как за родных детей. Ну а прочие… могут быть свободны. Первым порывом людей было остаться: сколько уж вместе! куда идти? кто где ждет? как-нибудь переможемся! Но впоследствии они – один за другим – в основном все разбрелись кто куда. Насовсем остались только кухарка да старичок-камердинер, служивший еще отцу Капитолины Антоновны. Но к тому времени, когда в семье появилась Таня, даже и той кухарки давно не было в живых.
Разобравшись с прислугой, Капитолина Антоновна основательно занялась устройством детей. Опять же с помощью каких-то престарелых отцовских однополчан она определила сына Антошу в военную гимназию. После чего почти одновременно выдала замуж старших дочерей-погодок. Капитолина Антоновна это сделала поспешно, не чинясь: где уж теперь фасон держать – лишь бы пристроить. Впрочем, женихи-то были по нынешним временам ничего себе: один судебный стряпчий, другой – доктор из Яузской больницы. Единственный недостаток: за душой у них имелось приблизительно так же, как и у невест, то есть небогато, мягко сказать.
Капитолина Антоновна продала свои бриллианты – самой все равно уже не носить! – и, прибавив к вырученному еще пять тысяч из оставшегося от имений, тем и выделила поровну дочерей, вздохнув про себя: с таким приданым горничных разве замуж выдают. Да делать было нечего.
Года через два Капитолина Антоновна собралась и оставшихся двух дочерей также выдать замуж за каких-нибудь аптекарей или целовальников, по собственному ее выражению. Но произошло невероятное. С одной стороны подвалило нежданное счастье. Но счастье это роковым образом повлияло на судьбу девиц Потиевских.
Однажды ей из Петербурга пришел запечатанный конверт от некоего нотариуса Дыбцына. Этот господин ставил в известность Капитолину Антоновну, что тетушка ее покойного мужа – Иулиана Васильевна Битепаж, вдова статского советника, – завещала все имущество своим внучатым племянникам Потиевским. Других наследников у нее не было. Недавно престарелая советница скончалась, и теперь Капитолина Антоновна могла вступить во владение отказанным ее несовершенных лет детям имуществом.
Всего наследства, с учетом вырученного от проданной квартиры на Большой Морской, составило почти четверть миллиона! Дочери Капитолины Антоновны снова были богатыми невестами. Но теперь уже матушка стала разборчива в женихах. Какой там аптекарь! – не ниже товарища прокурора женихов подавай теперь дочерям столбовой дворянки! Целовальникам не вышло стать ее зятьями, смеялась она, пусть поищут невест у мещанских.
Теперь можно было не торопиться выдавать дочерей. Капитолина Антоновна, в общем-то, верно рассуждала, что при нынешнем-то их приданом все самые завидные московские женихи будут смиренно ожидать, пока родительница состоятельных невест соизволит обратить на них внимание. И она на неопределенное время отложила устройство дочерей: всегда-де успею.
Вволю вкусив прелестей господства хамова колена,как Капитолина Антоновна называла наступившую эпоху власти капитала, она, сама имея теперь немалый капитал, а значит, и некоторую власть, озаботилась восстановить хотя бы часть прежнего своего положения владетельной барыни. Быть помещицей в старом понимании Капитолина Антоновна, разумеется, уже не могла. Но, во всяком случае, нанять с полдюжины слуг и таким образом создать видимость владения крепостною дворней ей было по средствам.
К имеющимся камердинеру и кухарке она еще наняла лакея, двух горничных, повара и кучера. Капитолина Антоновна сразу объявила, что называть будет их на прежний манер, как испокон людей звали: Мишка, Палашка, Аришка, Петрушка и Сашка. Новые слуги вначале было заартачились: не те времена, чтобы бесчестить личность – окликать, будто подневольных! – но смирились, когда барыня пообещала доплачивать за ее манеру к ним обращаться.
Не в состоянии теперь заводить и держать поместья, Капитолина Антоновна построила на Калужской дороге, за Беляевым, дачу в стиле типичной помещичьей усадьбы: довольно безвкусный одноэтажный продолговатый бревенчатый дом с фронтоном над входом посередине. Она выбрала Калужскую дорогу по причине понятной: ей хотелось, чтобы поездки на дачу напоминали прежние путешествия в имение. И снова в начале мая от Таганки стал отправляться поезд: впереди берлина с барыней и дочерьми, следом – брички с прислугой и скарбом.
И вот так побежали вроде бы благополучные годы. Сын Антоша состоит интерном в военной гимназии. А матушка с дочками беззаботно барствуют: зимой в Москве, летом – на даче.
К ее дочкам сватались бессчетно. Были среди этих женихов люди и состоятельные, и перспективные, и высокопоставленные. Был, кстати сказать, и товарищ прокурора с приличным жалованьем. Но чрезмерная разборчивость Капитолины Антоновны в претендентах на руки ее дочерей сослужила в конце концов девицам дурную службу. Годы шли, девушкам исполнилось по двадцати пяти, потом по тридцати, четвертый десяток пошел, а матушка все так и не могла найти удовлетворение своим претензиям. Точно по поговорке вышло: пока девушки невестились, стали бабушке ровесницы. И вот как-то Капитолина Антоновна хватилась, что женихи-то больше не домогаются ее дочек. Выбора больше нет. Впору снова самой идти искать. Как в прежние скудные времена. Но особенно-то стараться матушка не стала. Потеряв однажды состояние и узнав почем фунт лиха, она теперь, под старость, страшилась разбазарить капитал, хотя бы и на приданое дочерям. С чем останется Антоша – ее будущая опора? Поэтому Капитолина Антоновна теперь не только не старалась пристроить великовозрастных дочерей, но, напротив, негласно, скрытно, оберегала их от замужества. Она рассуждала так: если сохранить состояние в целостности, то будущее благополучие Антона Николаевича станет и ее с дочерьми благополучием. Истинно справедливое мнение по-своему. Дочки же, положившись с детства на матушкину волю, так и сами не заметили, как прошла их пора невеститься: у них даже и мысли не было как-то заявить о намерении переменить привычное существование, – так и оставались при маме, безропотно и, в общем-то, довольные своей жизнью.
А тем временем Антон Николаевич вышел из гимназии. Там он показал отменно отличные успехи. Но в чин тогда военных гимназистов не производили, и ему пришлось окончить еще и юнкерское училище. Из последнего он вышел подпоручиком. Кто-то ему предложил поступать не в военную службу, а в жандармский корпус. С чем он, недолго думая, согласился, рассудив, совместно с матушкой, что служба по полицейской части имеет преимущества перед карьерой военного. И так он дослужился до пристава в самой Москве – должность и положение немалые!
В свое время Антон Николаевич женился. Но скоро и овдовел – жена умерла первыми же родами, оставив ему дочку.
Как и предполагала Капитолина Антоновна, Антон Николаевич, встав на ноги, стал настоящим покровителем для своих близких. Будучи, по сути, главою семьи, он не только не ущемил в правах престарелую матушку, напротив, устроил порядки в доме таким образом, чтобы выглядело, будто глава всему по-прежнему Капитолина Антоновна. Тане вначале удивительно было видеть, как Антон Николаевич почтительно, с готовностью немедленно ей чем-либо услужить вскакивал с места, когда его старушка-мать входила в комнату.
Где-то на третий день после свадьбы, когда Таня еще не обвыклась на новом месте, к ней, довольно рано утром, по ее понятию, явился лакей Капитолины Антоновны и доложил, что барыня хочет теперь видеть ее у себя.
Таня вошла к Капитолине Антоновне в пеньюаре, который ей лично выбрала Наталья Кирилловна Епанечникова в Джамгаровском пассаже. Волосы ее вовсе не были убраны и спадали темными волнами на все стороны, как у русалки. Капитолина Антоновна с минуту смотрела на невестку через лорнет, очевидно, изучая ее наружность. Затем она лорнетом же показала Тане на пате.
– Ты, матушка, гимназию окончила нынче, слышала? – для чего-то спросила Капитолина Антоновна.
Таня подтвердила.
– А что же, у ученых теперь стало принято спать до восьми утра? Для чего ж было учиться? Неужто чтобы сны слаще снились?
Таня поняла, что ее отчитывают за леность. Но прежде подобных упреков она не знала даже от чрезмерно взыскательного отца. Потому что ленивой-то, по правде сказать, не была. Об этом свидетельствовала хотя бы ее блестящая успеваемость в гимназии. Таня собралась уже что-то ответить в свое оправдание, но вспомнила мамино наставление: прежде чем что-либо возразить свекрови, непременно помолчать минуту и подумать – не будет ли это дерзостью? И даже если не будет, то все равно лучше, по возможности, не отвечать. Так она и поступила теперь.
Похоже, Капитолине Антоновне такое поведение невестки понравилось. Она едва заметно улыбнулась.
– Чай уже пила? – подобрела и старая барыня в ответ. – А то давай со мной. Я ради такого случая еще попью.
– Я пью кофе по утрам, – ответила Таня, не подозревая, что это может не понравиться собеседнице.
– Кохвий?! – воскликнула Капитолина Антоновна. – И что это вы взяли моду пить кохвий? Надо пить чай! Антоша вон тоже завел моду пить шоколад, будто француз какой! Ну да ладно, ваше дело. Ты мне расскажи-ка, Татьяна Александровна, чем заниматься-то собираешься? – продолжала расспрашивать барыня. – Без дел-то сидеть – со скуки помереть! истомиться хуже каторги!
– Но чем же мне заняться? – осторожно, верно опасаясь, как бы ей после всех неудачных ответов не разбудить еще худшее лихо, заметила Таня. – Право, не знаю…
Но лихо именно было разбужено.
– Она не знает, чем заняться! – Капитолина Антоновна будто обрадовалась такому ответу. – Я, матушка, не ослышалась? Ульяна! Ирина! – Она позвонила в колокольчик. – Сюда! Скорее! Вы слышали? – она не знает, чем заняться! Вот новость!
В комнату, почти сразу, словно они ждали за дверью зова матери, вошли дочери Капитолины Антоновны – дамы лет по пятидесяти, – гладко причесанные и в одинаковых темных, наглухо застегнутых до подбородка платьях, похожие на учительниц гимназии. Они остановились, едва переступили порог, не смея даже подойти к свободной козетке, пока родительница не укажет им на нее. Но Капитолина Антоновна была так потрясена словами невестки, что даже забыла предложить дочерям садиться.
– Нет, вы только посмотрите! – взывала она к свидетелям. – Теперь замужняя дама не знает, чем заняться! У меня было триста душ рабов, и я при них работала по шестнадцати часов, а спала по шести! А у тебя, матушка, ни души в прислуге, и ты не знаешь, чем бы заняться… Вот это дожили!
– Я готова исполнять любую работу… – Таня, стараясь говорить покорно, повторила еще одно мамино наставление. – Могу учительствовать в классах…
– Учительствовать в классах… – чуть ли не брезгливо передразнила Капитолина Антоновна. И вдруг опять спросила будто ни с того ни с сего: – Ты вот рубашку-то сама шила или маме работу задала? – Она кивнула на ажурные кружева, надетые на Тане.
– Нет, купили в пассаже на Кузнецком, – ответила Таня. И, не подозревая, какую бурю негодования могут вызвать у собеседницы ее слова, добавила: – Это из Парижа.
– Из Парижа?! – чуть не подпрыгнула в кресле Капитолина Антоновна. – Ах ты батюшки! Святые угодники! Рубашка – из Парижа! – Она, изображая изумление, посмотрела на дочерей. – А халат что же, из Лондона выписывать? Так, может, будем тогда и овес лошадям завозить из Вены? А дрова – из Берлина?! А что? – может, прусские жарче горят? Вот так, девоньки, – сказала она дочерям, – теперь приданого не шьют. Это мы с вами да с Дашей и Дуней ночи напролет сидели – шили им рубашки с платьями. А теперь из Парижев все! Ну довольно пустые разговоры вести! – распорядилась Капитолина Антоновна. – Ты слышала, матушка, война теперь?
Таня кивнула головой.
– Слава богу, это ей известно. Япошку-то мы почти что разбили, да он уперся, мира пока не просит. А уж зима не за горами. Ну, зимой-то русский – первый воин! Тогда уж ему выйдет натуральный извод. Япошке этому. Жалко его, – вздохнула Капитолина Антоновна, – говорят, маленький всё человечек-то. Поэтому будем к зиме готовиться! – приказала она всем присутствующим, и прежде всего, конечно, Тане. – Будем солдатушкам белье теплое шить. Да ты шить-то умеешь ли? – Капитолина Антоновна опять поглядела в лорнет на Таню. – А то еще придумаешь исподнее солдатское на Кузнецком покупать. Чтобы из Парижа!
Таня заверила свекровь, что швейное мастерство ей знакомо.
Тут в комнату вошла Наташа – дочка Антона Николаевича. Наверное, она услышала бабушкины восклицания и поинтересовалась узнать: что за шум? по какому поводу? Наташа вошла и сразу сообразила, что здесь происходит: новый член семьи имеет честь познакомится с норовом старейшины – своевольной помещицы.
– Что за дознанье тут? Не квартира, а прямо участок! – притворно строго сказала Наташа. Она подошла к Капитолине Антоновне и поцеловала ее в щеку. – Сразу видно, достойная родительница полицейского! Бабушка! будет мучить человека!
И не дожидаясь, пока Капитолина Антоновна что-то ответит, Наташа подошла к Тане и, взяв ее за руку, потянула к двери.
Таня встала, но выйти из комнаты без разрешения хозяйки не посмела – она вопросительно и просительно посмотрела на Капитолину Антоновну: что та скажет?
– Ступай, ступай, матушка, – махнула рукой на дверь Капитолина Антоновна. – Да в другой раз заходи ко мне совсем голая. Запросто. Чего уж там.
Познакомившись задолго до того, как они сделались одной семьей, теперь Таня с Наташей вообще стали добрейшими подругами. Таня вначале опасалась, что Наташа будет в некоторых претензиях к ней – все-таки она вольно или невольно встает междудочкой и отцом. Но ничего подобного не произошло. Наташа, казалось, вовсе не знала, что такое ревновать. И уж тем более не считала Таню мачехой, – девушки вволю насмеялись, разгадывая, в родстве они теперь считаются или в свойстве, – будучи также единственным ребенком в семье, Наташа была безмерно счастлива тому, что у нее появилась дорогая сестрица.
Первые недели Наташа почти не разлучалась с Таней. Она водила ее по таганским закоулкам, по подругам, по знакомым. Показала монастыри, расположенные за Таганкой, – Новоспасский, Покровский, Андроников. Добрались девушки как-то и до Симонова – Наташе давно хотелось посмотреть на Москву с той самой площадки над монастырской трапезной, с которой, если верить Лажечникову, долгие годы смотрел на столицу схимонах Владимир – последний новик. Само собою девушки посещали электротеатр, читали и обсуждали романы, играли на рояле в четыре руки.
Но эти и другие развлечения, конечно, не могли быть для Тани основным занятием. Тем более после разговора с Капитолиной Антоновной. Старая барыня тогда отнюдь не шутила: она с дочерьми и с внучкой действительно шила белье для маньчжурцев.
Капитолина Антоновна, ее дочь Ирина Николаевна и Наташа раскраивали полотно, а другая дочь, Ульяна Николаевна, сшивала части в целое. После того как присоединилась Таня, ей также была поручена раскройка, а Ирина Николаевна тогда пересела за свободный «зингер». Теперь-то дело у них пошло живее.
Большинство полезных заветов и наставлений, полученных Таней от матушки перед венцом, исходили еще от Таниного дедушки – полковника Нюренберга. Это он когда-то передал мудрость своих предков дочке Катарине – чем та блестяще и воспользовалась! – а уже Екатерина Францевна донесла отцову науку до своей наследницы. Помимо прочего Екатерина Францевна заповедовала Татьяне, чтобы завоевать уважение в новой семье, во всем превосходить порядки и нормы, заведенные там прежде. К примеру, как бы ни было прибрано в комнате у ее свекрови, свою комнату Таня должна содержать еще более аккуратно, так, чтобы ее превосходство бросалось в глаза. И этому правилу ей надлежит следовать решительно во всем: чего бы ни коснулись ее руки, результат должен выходить лучший, нежели получается у кого-либо из новых родственников или их слуг. Таня же умела исполнять любую домашнюю работу, – Екатерина Францевна с детства приучила дочку обходиться, если потребуется, без прислуги.
Вот теперь Тане и вышел случай себя показать. Она отнеслась к изготовлению солдатского белья исключительно ответственно. Капитолина Антоновна скоро убедилась, что новой закройщице и указывать ничего не надо – сама вполне справляется. Понаблюдав за невесткой несколько дней, она благосклонно заметила Тане, что ей ни к чему было покупать рубашку из Парижа – могла бы и сама сшить не хуже.
После этого Таня еще несколько раз по разному случаю показывала свое бесподобное воспитание. И старушка умягчилась – поняла, что в доме появилась отнюдь не бездельница и не белоручка.
Итак, Таня была с честью принята в семью с высочайшего одобрения старейшины.
Еще перед свадьбой, когда только она узнала, чьею женой по родительской воле ей предстоит стать, Тане пришла в голову мысль: теперь же Лизу будет найти проще простого! Антон Николаевич крупный полицейский чин, и ему не составит труда разыскать подругу жены – только прикажет своим подначальным, и те мигом ее предъявят.
И вот некоторое время спустя Таня решилась поговорить с мужем. Конечно, ей нелегко было начать этот разговор, потому что она считала себя в случившемся первой виновницей, – и в этом тоже придется сознаваться! Но Таня верно понимала, что еще большая тяжесть останется у нее на душе, если она смалодушничает и не осмелится рассказать Антону Николаевичу о Лизе и о своей роли в ее судьбе.
Как-то, уже после судьбоносной утренней беседы с Капитолиной Антоновной, Таня попросила Антона Николаевича выслушать ее. По правде сказать, она не знала, как ей начать эту историю. По ее разумению, начинать надо было именно с того, как они втроем – Таня, Лена и Лиза – пришли в дом к Дрягалову на заседание кружка. Но ведь нужно иметь в виду, что собеседник ее не только муж, но еще и полицейский! Как он распорядится полученными от нее сведениями – неизвестно. Поэтому Таня прежде осторожно заметила, что их разговор касается таких предметов, которые она не считает возможным доводить до сведения полиции. Антон Николаевич от души рассмеялся. Он так ответил молодой разумной супруге:
– С тобой, дорогая, я не полицейский. Что же, если муж доктор, для него все кругом – больные? Так?
Теперь уже рассмеялась Таня, поняв свое заблуждение. И обо всем наконец рассказала.
Она напомнила Антону Николаевичу, о чем он сам же известил в свое время Александра Иосифовича: как-то весной она с подругами заглянула полюбопытствовать в одно безобидное собрание… Антон Николаевич подтвердил, что не забыл об этом пустяке. Тогда Таня задала ему вопрос, которым она давно мучилась, но все это время задать его ей было совершенно некстати: почему Антону Николаевичу стало известно, что это именно Лиза Тужилкина выдала некоторых кружковцев?
Полицмейстер неплохо знал о махинации Александра Иосифовича с Тужилкиной. Но он также отлично понимал, какими мотивами руководствовался его друг: ради безопасности дочери можно пойти на многое, а тем более на такой, казалось, безобидный подлог. Казаринов рассуждал, в общем-то, здраво: ну поругаются, подуются подружки, как обычно, а потом и обойдутся, – сколько уж они дулись друг на друга по разному поводу и тут же мирились! Кто же мог подумать, что так все обернется, что выйдет большая неприятность с этой легкоранимой и болезненно совестливой Лизой. Антон Николаевич тогда еще даже подыграл другу. Когда вскоре вслед за этим Александр Иосифович попросил для дальнейшего развития его хитроумного плана, то есть для поддержания у дочери иллюзии виновности Тужилкиной, немедленно арестовать хотя бы на сутки другую Танину подругу, Лену Епанечникову, Антон Николаевич сделал это.
И вот теперь полицмейстеру приходилось держать ответ. Он сообразил: раз Таня об этом спрашивает, значит, у нее есть все основания считать Лизу невиновной. Поэтому продолжать игру, затеянную Александром Иосифовичем, нет смысла. Но в таком случае у Тани будут все основания спросить, кто же придумал обвинять Лизу, и кто на самом деле донес на кружковцев. Со вторым вопросом проще: выдавать секреты своей службы Антон Николаевич не имеет права даже жене. Но вот за Тужилкину отвечать как-то придется.
Он объяснил случившееся с Лизой так:
– Ты думаешь, у нас не бывает неувязок? Увы, не без этого: что-то где-то напутали наши делопроизводители. Твоя подруга ни при чем.
Одновременно Антон Николаевич пообещал Тане попытаться выяснить, что случилось с Тужилкиной, где она может быть.
И выяснил моментально. Кроме того, что он распорядился искать Лизу по приметам городовым и филерам, Антон Николаевич решил проверить полицейскую агентуру среди социалистов: не появилась ли в их кругах девушка, таких-то лет и такой-то внешности, ведущая, видимо, нелегальный образ существования? Буквально через два дня Антону Николаевичу доложили, что, по сведениям от агента, действующего в одном из социалистических кружков, девушка с означенными приметами – и главное! – по имени Елизавета Тужилкина ему действительно известна: он ее видел у какой-то своей товарки по кружку.
Узнав об этом, Таня хотела немедленно встретиться с Лизой. Она попросила Антона Николаевича дать ей скорее Лизин адрес или как-то еще помочь организовать им встречу. Но Антон Николаевич вот что сказал на это:
– Таня, боюсь, вы с подругой не только долго еще не встретитесь, но даже и весточки какой-нибудь от тебя я передать ей не смогу. Дело очень осложнилось. Оказывается, твоя Лиза Тужилкина за это время успела стать революционеркой. Она теперь состоит в том самом кружке, куда вы однажды пришли из девичьего любопытства. Видишь ли, не скрою, полиция за этим кружком ведет наблюдение. И если сейчас дать Тужилкиной понять, что она обнаружена, значит, по сути, спугнуть и ее и всех прочих кружковцев. Они просто в очередной раз поменяют адреса. И тогда десяткам людей снова придется выполнять колоссальную трудоемкую работу по их обнаружению. Придется пока подождать. Но я тебе вот что скажу: пусть душа у тебя больше не болит, – если у тебя и была какая-то вина, то ты ее искупила своими искренними переживаниями о подруге, своим участливым отношением к ее судьбе.
– А ей грозит какой-нибудь наказание за то, что она состоит в этом кружке? – поинтересовалась Таня.
– Как тебе сказать… Вообще-то это считается участием в антиправительственной организации. Но если она ни в чем конкретном недозволенном уличена не будет, то, учитывая ее невеликий возраст и прочие обстоятельства, как то: горячее заступничество благонамеренной подруги, – улыбнулся Антон Николаевич, – можно будет обойтись какими-либо нестрогими мерами.
Такой ответ не только не успокоил Таню, а, напротив, насторожил. Значит, пока Лиза ни в чем конкретном недозволенном не уличена, строгие меры ей не грозят. Но время-то идет. Чем дольше Лиза состоит в этом кружке, тем вероятнее ее участие в чем-то недозволенном. Как же можно медлить предотвратить беду! Таня хотела попросить у Антона Николаевича Лизин адрес и впоследствии, невзирая на его запрет, все-таки как-то связаться подругой, может быть, не лично явиться, но, по крайней мере, послать записку с извинениями и словами примирения. А тогда и найти способ вырвать ее из порочной среды. Но она тотчас от такой идеи отказалась – посовестилась так откровенно обманывать мужа.
Но вместе с тем Таня не давала обещания не искать Лизу самостоятельно. Теперь же, когда она знала, что ее подруга состоит в кружке, ей казалось, это сделать будет несложно. Если бы в Москве были Володя и Алеша, связаться с Лизой вообще не составило бы ни малейшей трудности. Но поскольку их нет, то ничуть не меньше помочь может… Дрягалов. Таня улыбнулась, подумав, что каким-то странным образом все пути приводят ее к этому Дрягалову. Куда же без него!
Выждав несколько дней, чтобы Антону Николаевичу не бросилось в глаза, как она помчалась куда-то тотчас после их разговора о Лизе, Таня отправилась к Дрягалову. Она умышленно не воспользовалась собственным экипажем, опасаясь, что кучер Сашка доложит хозяину о том, куда ездила его жена, и взяла обычного извозчика.
В этот раз Таня подъехала к дрягаловскомудому со стороны Малой Никитской – к парадному подъезду. Она еще издали заметила толпу возле дома – человек двадцать – тридцать. Кроме того, напротив самого подъезда стояли дроги – их белые балясины со шторками ни с чем не спутаешь.
Таня сообразила, что она не вовремя пожаловала сюда со своими заботами. Но решила хотя бы узнать, что случилось. Она спросила об этом какую-то женщину в черном платке. Та взлянула как-то горестно-удивленно: Таня была одета будто специально к случаю – черные перчатки, шляпка с черною же вуалью, и, естественно, никто из собравшихся не мог бы подумать, что визитерша явилась по какому-то иному делу и ей неизвестно о случившемся.
– Да как же… – отвечала женщина, – у Василия Никифоровича умерла… – она замялась, подыскивая слова, – новая его супружница. Болела сильно…
– Супружница?.. – безотчетно повторила Таня, вспоминая, о ком идет речь.
Она и не знала, был ли женат Дрягалов. Да и вообще, в сущности, ничего она о нем не знала.
Вдруг к Тане подошла какая-то девочка в ватной жакетке и тоже в траурном платочке, смотревшемся на ней довольно несерьезно.
– Здравствуйте, барышня! – Она была неподдельно счастлива видеть Таню. – Я – Клаша. Помните, вы к нам приходили?
Тут только Таня признала девочку: она впервые увидела ее еще в мае, когда сын Дрягалова послал догнать изводчицу отцова состояния, – Таня теперь только улыбнулась, вспомнив Мартимьяновы нападки, – да и в Кунцеве летом несколько раз Клаша попадалась ей на глаза и все норовила как-то обратить на себя внимание взрослой барышни, несомненно, очень понравившейся девчушке.
– Что же у вас произошло, милая Клаша, расскажи, – спросила Таня, стараясь говорить неслышно для собравшихся у дверей.
– Марья Алексеевна давеча умерла, – отчеканила девочка. В ее голосе чувствовалось переполняющее душу счастье от общения с обожаемой, несомненно, барышней. О прочих неприятностях она в эту минуту, очевидно, позабыла.
– Это какая Марья Алексеевна? – переспросила Таня, догадываясь, впрочем, что речь идет о кузине Алеши Самородова, которую она видела на памятных проводах новобранцев и еще один или два раза мельком где-то там же на даче.
Таня знала, что эта Маша была возлюбленной Дрягалова и что у них родился ребенок, знала и о драме, приключившейся с ними в Париже.
– Вторая жена Василия Никифоровича, – просто ответила девочка.
Клаша привела ее в дом. Там в большой мрачной комнате горело несколько свечей, и стоял гробик, возле которого молодой человек в церковном облачении – наверное, дьякон – читал молитвы. Поодаль стояли какие-то люди с мрачными лицами. Но Таня, сколько ни вглядывалась, Дрягалова среди них не узнала. Правда, она тотчас приметила его сына – Мартимьяна Васильевича. Он сидел у стены, как обычно, в своем кресле на колесиках и смотрел в пол. Мартимьян бросил на Таню мимолетный грозный взгляд и вновь уставился в пол.
Когда дьякон закончил читать последование, гроб накрыли крышкой, какие-то сноровистые мужички – нанятые, что ли, работники – подхватили его и вынесли из комнаты. Все, кто был при молебне, потянулись следом. Один лишь Мартимьян не шевельнулся в своем кресле. Теперь он пристально смотрел на гостью.
– Какими к нам судьбами, мадемуазель? – на удивление добросердечно промолвил Мартимьян. – Или вы вроде замужем теперь? Мадам! Помнится, батюшка ваш объявил…
– Что случилось? Отчего умерла Маша? Она же молодая совсем.
– Болела… – повторил Мартимьян уже известное Тане.
– Я могу повидаться с господином Дрягаловым? – перешла к делу Таня.
Мартимьян не удержался захихикать.
– Не успели вынести… – пробормотал он, будто бы рассуждая сам с собой. – Нету господина Дрягалова теперь, – сказал он громко и с ехидцей. – В Китае путешествует. Годы-то молодые: самое время путешествовать на другом краю земли.
Таня чуть не порвала перчатку от отчаяния. Редкостное невезение! Почему, едва ей становится нужен Дрягалов, – раз в полгода! – его именно в этот момент нет в Москве. То он в Париже, то вообще в Китае.
У нее промелькнуло: а кроме старшего Дрягалова, никто ей здесь не может помочь? – тот же Мартимьян. Но она тотчас отбросила эти мысли – уж если она мужу не открывает своих поисков, то как можно открыться почти незнакомым людям?
– Знаете что, – сказала Таня, – у меня к вам просьба: как только появится господин Дрягалов, пожалуйста, немедленно сообщите об этом Наталье Кирилловне Епанечниковой. Вы ее должны помнить: она была у вас в гостях на даче.
Мартимьян покивал, показывая, что он помнит ту, о ком идет речь.
Назвав адрес Епанечниковых, Таня откланялась.
На обратном пути она заехала к Наталье Кирилловне. Как ни ясно было Тане, что Леночкина мама посредник не самый надежный, но никакого лучшего связного у нее теперь не имелось. Таня попросила немедленно позвонить ей, как только Наталье Кирилловне сообщат о возвращении господина Дрягалова. Причем ни в коем случае не передавать это известие никому, кроме нее самой! Наталья Кирилловна заверила, что исполнит все в наилучшем виде.
После госпожи Епанечниковой Таня отважилась на очень нелегкий для нее визит – к Тужилкиным. Но теперь-то она идет, по крайней мере, с доброй вестью. А когда Лена ее привела к Лизиным родителям в начале лета, Таня вообще первые минуты не могла на них глаз поднять. Впрочем, как и говорила раньше Леночка, у Тужилкиных никаких претензий к дочкиным подругам не было. Во всяком случае, они не выразили им ни даже самого малого неудовольствия по поводу случившегося. В тот раз подруги едва застали Лизиного отца: Григорий Петрович укладывал чемодан, – назавтра он отправлялся на войну, в Маньчжурию. Будто успокаивая девушек, он тогда сказал им, что от Елизаветы всяких фортелей можно было ожидать: своевольная! чуть что не по ней – ершится! – только бы по шерстке все гладить, а возьмешь против – так сразу на дыбы!
Лизина мама вначале и не признала в молодой богатой барыне дочкину подругу. Когда же Таня рассказала ей, что Лиза жива-здорова и находится где-то в Москве – где именно, пока не известно, – несчастная женщина безотчетно потянулась к гостье, чтобы верно прижать ее к себе и расцеловать, но, одумавшись, удержалась. Она тут же при Тане и детях упала на колени перед иконами и принялась истово креститься.
Домой Таня возвратилась в прекрасном настроении: она была убеждена, что совсем скоро осчастливит Тужилкиных еще более радостным известием о Лизе.
* * *
Разговор с Таней напомнил Антону Николаевичу о событиях полугодичной давности, которые он за прочими своими служебными заботами уже, по правде сказать, подзабыл. Полицмейстер еще тогда обратил внимание, как усердно, как целенаправленно Александр Иосифович поддерживает в дочке иллюзию виновности ее подруги Тужилкиной, как старательно топит эту девушку. Однажды он приехал к Антону Николаевичу под вечер, встревоженный, обеспокоенный, и сказал, что его план по спасению Тани под угрозой: чтобы окончательно и наверно убедить дочь в коварстве, в мошеннической, предательской сущности всей этой своры инородцев-социалистов, в которую она по недоразумению попала, нужно немедленно, хотя бы на один день, арестовать другую ее подругу – Елену Епанечникову. Особенных оснований поступать таким образом у полицмейстера не имелось: ну кто такая эта Епанечникова? – восторженная гимназистка, явившаяся в тайное общество исключительно из девичьего любопытства. Но, с другой стороны, такой арест не считался бы и противозаконным, поскольку девушка вольно или невольно попадала в поле интересов полиции как новая участница запрещенной социалистической организации. Поэтому Антон Николаевич решил пойти навстречу другу, а заодно попугать и Епанечникову с ее родными, – для острастки! – провести у них обыск по всей форме, ну и забрать девицу переночевать в участке. Вроде все вышло тогда складно. Вообще-то Александра Иосифовича очень даже можно понять: чего он добивался? какие и чьи интересы отстаивал? – да прежде всего, как мудрый глава семьи и заботливый отец, он радел о благополучии своего дома и предотвращал опрометчивые поступки юной дочери. И если ему для этого пришлось применить меры, не вполне согласующиеся с понятиями благородства и чести, – кто его осудит? какой безгрешный первым бросит в него камень? К тому же разве мог он предположить, что его комбинация с Тужилкиной и Епанечниковой обернется такими неприятностями? Как, наверное, рассуждал Казаринов: ну побранятся девицы, подуются друг на друга – сколько у них уже по разному поводу было смертельных обид и разрывов навеки! но всегда мирились самое большое на третий день, – так и в этот раз замирятся и забудут, что случилось. Мог ли он предположить, что эта Тужилкина, оскорбленная в высшей степени, сбежит из дома, исчезнет, пропадет? – конечно нет! В целом же его хитрость удалась: дочка была спасена от соскальзыванья в пропасть и при этом осталась в неведении об отцовой проделке.
И тут Антону Николаевичу пришла неожиданная и где-то даже досадная мысль: а не является ли их с Таней брак продолжением этой истории? Неужели Александр Иосифович, не вполне полагаясь на прежние, успешно осуществленные меры, решил еще более подстраховаться, поручив дочку надзору мужа-полицмейстера? Такой вывод расстроил Антона Николаевича: он любил Таню, причем влюбился еще до того, как они поженились, распознав в ней натуру волевую, самоотверженную – под стать ему самому! Не говоря уже о том, что Таня была красавицей и умницей. И вдруг выходит, их брак – это личный, потаенный, расчет Александра Иосифовича.
Антон Николаевич стал припоминать обстоятельства, предшествующие их с Таней женитьбе. Сколько накануне Таниного участия в кружке он встречался с Казариновыми, и никто из них – ни Александр Иосифович, ни Екатерина Францевна – ни полусловом не обмолвились о своих скорых или дальних матримониальных планах на дочку. Очевидно, таких планов у них тогда не было. И вдруг, вскоре после известного происшествия, они, хотя и не показывая вида, едва ли не понуждают его просить Таниной руки, сватают ее так настоятельно, будто девушка заневестилась. А она между тем еще не успела отмыть гимназических чернил с пальчиков! Следовательно, Танино замужество – это звено той же цепочки, той же нити, завитой Александром Иосифовичем, что и его трюки с Тужилкиной и Епанечниковой.
Понятно, все это Казаринов проделывал не без какой-то важной причины. Какую же именно цель он преследовал? Ну, само собою, отводил от семьи подозрения в неблагонамеренности. Если бы дело с дочкой-социалисткой получило широкую огласку, как бы это отразилось на карьере Александра Иосифовича? Какие бы последствия это для него имело? Во всяком случае, не повышение по службе. Но какой же вышел результат? Самый невероятный! – мастерски добившись своего, уладив все семейные проблемы, Александр Иосифович оставляет службу и отправляется… на войну!
У Антона Николаевича при решении разных криминальных головоломок имелся излюбленный прием: дойдя в своих рассуждениях до какого-то абсурдного, казалось, вывода, не сбрасывать его со счетов, а проанализировать события в обратном порядке – не окажется ли эта на первый взгляд нелепость логически следующей из предшествующих действий преступника, прежде не вполне оцененных сыщиками?
Итак, предположим, рассуждал полицмейстер, Александр Иосифович преследовал цель – оказаться в Маньчжурии. Как было известно Антону Николаевичу, господин Казаринов, вступив где-то летом в московский дамский комитет о раненых, затем выхлопотал для себя должность заместителя председателя комиссии Красного Креста князя Львова и вслед за патроном выехал на театр военных действий. Мог бы он всего этого добиться, имея славу отца революционерки? Практически никогда! Социалисты нисколько не скрывают своего интереса в поражении России, имея в виду, что поражение в этой войне ослабит режим и таким образом поспособствует осуществлению каких-то их замыслов. Причем эти люди отнюдь не ограничиваются одним только оглашением взглядов: они еще иногда и конкретными действиями подтверждают свои намерения – например, на пути следования воинских эшелонов на Дальний Восток организуют саботаж, а то и прямо террористические акции. Далеко бы уехал Александр Иосифович, рекомендованный в Москве как глава семейства социалистов? Может быть, до Читы добрался бы. А если дальше, то только в бескозырке в окопы под надзор фельдфебеля. Александр же Иосифович, как можно судить по его должности, равной штаб-офицерской, не имеет ограничений в передвижении и по пути следования на театр войны, и на самом театре: ему доступно практически все – и самые передовые позиции, и штабной эшелон главнокомандующего.
Значит, если у него была цель – во что бы то ни стало оказаться на войне, то все предшествующие его действия теперь представляются вполне обоснованными: расправившись с Таниными подругами и надежно изолировав от порочащих связей саму дочку, закабалив ее несвободой замужней женщины, он открыл себе прямой путь в Маньчжурию. Но что же его туда так влекло? Неужели один только благородный порыв попечительствовать о раненых? Возможно. Антон Николаевич знал своего друга как редкостного филантропа и альтруиста. Но, если на то пошло, ему и в Москве хватило бы забот: Лефортовский госпиталь, больницы – все было теперь переполнено ранеными и увечными маньчжурцами, а новые все поступали и поступали, эшелон за эшелоном. Вот где, казалось бы, бескрайнее поле деятельности для энергичного филантропа Александра Иосифовича Казаринова. Но нет! – он едет именно в Маньчжурию. Видимо, что-то, помимо раненых, влечет его туда.
Сделав этот вывод, Антон Николаевич вынужден был остановиться: чтобы продолжить дальнейшие рассуждения, одних логических умопостроений теперь уже недоставало. Требовались факты. Но вопрос – для чего ему факты о Казаринове, его друге? Зачем ему знать, по какой надобности отправился в Китай отец его жены, если сам он, кроме официальной причины, не счел нуясным ничего больше сообщить.
Тут Антон Николаевич испытал знакомое чувство – такое у него нередко случалось, когда он распутывал разные криминальные дела, – он вздрогнул, занервничал, силясь уловить только что промелькнувшую и на ходу не вполне им оцененную зацепку. Только бы ее не потерять! Что он сейчас подумал? – зачем ему знать, по какой надобности отправился его друг в Китай?.. Точно – в Китай! Маньчжурия – часть Китая. А ведь верно: Александр-то Иосифович, прежде всего, отправился в Китай! Туда, где двадцать или более лет назад служил в русском посольстве. Конечно, отнюдь не обязательно, что нынешнее его волонтерное участие в кампании на Дальнем Востоке как-то связано с прежнею службой там. Но и совершенно не принимать во внимание это обстоятельство тоже было бы неверно. Александра Иосифовича вполне могли позвать в Китай какие-нибудь начатые ранее и не оконченные дела. Почему бы нет?
Повинуясь профессиональному инстинкту расследовать все загадочное, Антон Николаевич вызвал помощника и поручил ему послать телеграмму в русское посольство в Пекине с просьбой срочно выслать в Москву все бумаги, имеющие отношение к пребыванию в Китае сотрудника посольства Казаринова. Одновременно с этим пристав велел помощнику связаться с жандармским управлением в Харбине и запросить у коллег сведения о передвижениях господина Казаринова вне расположения русской армии, если таковые имели место.
Ответ из Харбина пришел назавтра. Ровно ничего интересного с точки зрения расследования какой-либо неофициальной деятельности Александра Иосифовича на театре военных действий он не содержал. Маньчжурская жандармерия извещала, что господин Казаринов действительно много передвигается, но все его поездки ограничиваются посещением лазаретов вблизи фронта или госпиталей по КВЖД. Ни в какие отдаленные местности он не выезжал. Антон Николаевич даже обрадовался такому ответу. Он уже вчера вечером дома, остыв от охватившей его давеча сыскной горячки, навеянной какою-то сомнительною зацепкой, подумал, что подозревать в чем-то друга и родственника, отправившегося на войну, по меньшей мере непорядочно. Полиция завалена неотложными делами, а он озадачивает сотрудников и свое дорогое время тратит на поиски сведений, могущих якобы бросить тень на честного человека, презревшего в час тяжелых для отечества испытаний тыловое благоденствие и отправившегося туда, где и надлежит в лихолетье быть истинному патриоту – в военное пекло. Совестливый пристав еще подумал, что докапываться до Казаринова, пытаться отыскать пятна на солнце, может только человек несоизмеримо более низких душевных свойств, а то и прямо ничтожная личность, которая, естественно, завидует этому титану духа, почему и пытается бросить на него тень, как-то уязвить его, досадить ему.
Через три недели Антон Николаевич получил пакет из Пекина. Пристав вскрыл его, уже нисколько не имея в виду обнаружить об Александре Иосифовиче каких-либо сведений, кроме одобрительных. Он разложил бумаги на столе. Это были исключительно деловые документы: циркуляры, распоряжения, приказы посольского начальства, выданные секретарю Казаринову, или, напротив, адресованные этому же начальству рапорты, отчеты, служебные записки самого Александра Иосифовича. Как следовало из документов, главною заботой Александра Иосифовича в должности при посольстве были командировки: он постоянно выезжал в какие-нибудь места, преимущественно за стену на север и северо-восток, для дипломатического вспомоществования русским купцам, имеющим в Китае коммерческие предприятия. Начальственные бумаги содержали обычно указание маршрута, список лиц, наряженных в командировку, предписывали срок исполнения и тому подобное. Ничуть не красноречивее были бумаги и самого господина Казаринова. Напрасно Антон Николаевич выискивал в записках своего друга какие-нибудь, хоть эпизодические, путевые наблюдения: Александр Иосифович, не умеющий, казалось, не вложить души и в надпись на визитной карточке, здесь почему-то излагал скупым, строго формальным, казенным слогом. Его бумаги пестрели цифрами, ценами, верстами, географическими наименованиями, именами – китайскими, русскими. Но ничего отвлеченного! Единственное, что в них выдавало авторство господина Казаринова, помимо подписи, разумеется, так это исключительно прилежное, добросовестное их оформление. Антон Николаевич прямо залюбовался аккуратными, как прописи, автографами своего друга.
Много интереснее прочего были записи, сделанные и поданные начальству некими посольскими соглядатаями. Эти усердные дипломаты, верно, по долгу службы, а может быть, и по велению совести – кто их знает? – информировали кого следует о некоторых сторонах внеслужебной деятельности Александра Иосифовича. В частности, несколько раз до сведения посла доводилась информация о дружеских сношениях господина Казаринова с сотрудниками японского посольства, в том числе и с военным агентом. Впрочем, в этом ничего предосудительного не было – сотрудники разных посольств нередко заводили между собой дружеские связи, – это лишь свидетельствовало о дипломатических способностях Александра Иосифовича.
По настоящему умилили и даже растрогали Антона Николаевича сообщения о благотворительной деятельности господина Казаринова. «Ну куда же без этого! – усмехнулся пристав, – это был бы не он!» Сразу после принятия должности Александр Иосифович добился учреждения при посольстве школы для китайских детей, что очень возвысило русскую миссию и, прежде всего, посла в глазах прочих иностранцев. В этой школе взялась учительствовать Екатерина Францевна. Да и сам Александр Иосифович иногда давал уроки. А однажды он выкинул, по мнению дотошных доносителей, натуральное чудачество: нанял на свой счет дюжину китайцев и велел им до блеска вычистить русское кладбище в Пекине.
«Правильно! – подумал Антон Николаевич, – для вас, не знающих Казаринова, как знаю его я, это – чудачество. А если человек родился для того, чтобы всего себя отдавать людям! Если каждый день его жизни – это принесение без остатка себя в жертву! Если он по-другому не мыслит своего существования! Да что говорить! Казаринов – это Казаринов!»
Антон Николаевич, блаженно улыбаясь от осознания, что он друг, а теперь и родственник этого удивительного, непонятного, но выдающегося, истинно замечательного человека, собрал посольские бумаги и сложил их в папку. Он хотел было захлопнуть крышку, но взгляд его напоследок задержался на верхнем в стопке документе, на который он прежде уже обратил внимание, но отложил за очевидным отсутствием в нем чего-либо интересного. Это было одно из первых выданных Александру Иосифовичу распоряжений о назначении его в командировку в Мукден. Среди прочих сведений там значились поименно сопровождающие секретаря Казаринова конвойные – всего три человека. Антон Николаевич скользнул взглядом по этому списку и… помертвел, споткнувшись на одном имени! Задохнулся! Он хотел расстегнуть верхнюю пуговицу, да не справился с ней слабою, затрясшеюся, будто в лихорадке, рукой. Такого потрясения он не испытывал за все годы службы в полиции! не делал подобного открытия, занимаясь самыми громкими и скандальными уголовными случаями! Такое, наверное, бывает раз в жизни!
Кое-как совладав с чувствами, Антон Николаевич вызвал своего помощника по криминальным делам. Это был человек с феноменальною памятью: он помнил по именам всех московских душегубов и их жертвы, начиная с момента своего поступления в полицию.
Пристав протянул ему бумагу, попросил посмотреть и сказать, не находит ли он здесь какого-нибудь знакомого имени среди перечисленных. Помощник внимательно вчитался в документ, секунду подумал и ответил: «Ну, если не считать вашего тестя господина Казаринова, ваше высокоблагородие, то вот – Березкин Егор Егорович. Помните, летом произошло убийство в Кунцеве, так и не раскрытое? – там был убит сторож на даче у известного торговца Дрягалова. Его тоже звали Березкин Егор Егорович. Прикажите выяснить, одно ли это лицо?»
Некоторое время пристав сидел неподвижно в кресле, собираясь с мыслями. Ему запомнился этот Березкин, потому что убийство произошло в самый день их с Таней свадьбы. Вначале, бегло просматривая бумаги, Антон Николаевич его проскочил, не обратил внимания. Но когда документ второй раз попался на глаза, имя – Березкин Егор Егорович – просто-таки резануло, оглушило! Так на что же он наткнулся? На какой след напал? Этого же просто не может быть! Какой-то унтер, с которым судьба свела Казаринова сто лет назад на краю белого света, вдруг оказывается сторожем на соседней даче. И накануне отъезда Казаринова – туда же! в те же края, где они впервые встретились! – этот престарелый уже унтер погибает насильственною смертью. Это случайность? Ну, если случайность, то такая же, как поставить и выиграть на «зеро». Если все-таки проделки Казаринова с дочкой и ее подругами – это расчистка пути в Китай, то в таком случае происшествие со сторожем закономерно вписывается в череду казариновских предприятий. Допустим, Березкин был очевидцем каких-то давних и, очевидно, незавершенных дел Казаринова. Мог ли Александр Иосифович отправиться завершать эти дела, зная, что в тылу остается опасный для него свидетель? А это смотря какие дела?! Если он почему-то тайком поехал с инспекцией в учрежденную им прежде школу в Пекине, то от свидетеля такого давнего его деяния избавляться вряд ли имеет смысл. Но если он покушается ни много ни мало на убийство – это совершенно невероятно звучит: Казаринов, альтруист и филантроп, покушается на убийство! – так вот, если это так, то дело у него осталось в Китае, мягко говоря, неблаговидное.
Проблема вдруг приобретала новый, совершенно неожиданный оборот. Это уже не интриги с дочкой и ее подругами, за которые, кроме, может быть, устного порицания, Казаринову не полагается другого взыскания, – это тяжелейшее уголовное преступление, за которое – если выяснится, что повинен в нем все-таки Александр Иосифович, – ему грозит каторга! Вот тебе и титан духа! – подумал пристав и усмехнулся: как тут не быть хамелеоном нашему брату, когда то одно, то другое, то прямо противоположное!
Он вызвал секретаря и велел доставить ему к завтрашнему утру дело убитого летом в Кунцеве сторожа Березкина, а также известить маньчжурскую жандармерию о том, что находящийся при армии уполномоченный Красного Креста Казаринов подозревается в организации убийства, почему необходимо установить за ним негласное слежение с целью недопущения его исчезновения.
Едва наутро Антон Николаевич появился в части, секретарь подал ему телеграмму из Харбина. Это было уже нечто невообразимое! Жандармское управление извещало, что уполномоченный Казаринов объявлен в розыск по обвинению в государственном преступлении: под видом организации в стороне от фронта лазаретов он встречался с японскими шпионами и передавал им ценнейшую информацию о русской армии, что засвидетельствовано многими лицами. Если он появится в Москве, говорилось в телеграмме, его следует немедленно арестовать.
После вчерашнего потрясающего открытия новое известие о Казаринове уже не произвело на Потиевского особенного впечатления. Он даже не без некоторого удовлетворения воспринял это сообщение, потому что оно косвенно подтверждало причастность Александра Иосифовича к убийству сторожа: если Казаринов способен на одно, то почему не способен и на другое подобное?
Еще с утра, снедаемый любопытством: зачем же именно Казаринов отправился в Маньчжурию? – теперь, узнав ответ, пристав и думать об этой проблеме не хотел. Государственною изменой Александра Иосифовича и без него есть кому заняться! У него же задача прямая служебная – выяснить участие Казаринова в кунцевском убийстве.
Он раскрыл дело сторожа Березкина. В тонкой папке лежало всего несколько бумажек. Сведения они содержали самые скудные и относящиеся исключительно к периоду post factum: описание места преступления, показания дрягаловских чад и домочадцев, самого Дрягалова. Не нашлось ни одного свидетеля, кто бы видел убийство или хотя бы убийцу, а ведь преступление произошло среди бела дня!
Антон Николаевич понял, что дело практически безнадежное. Но в нем и подавно не разобраться, если оставаться сидеть в кабинете. Он приказал подавать ему экипаж.
В Кунцеве Антон Николаевич разыскал местного околоточного, и они вдвоем отправились к дрягаловской даче.
Кроме нового сторожа, который, понятно, ничего не мог знать, там теперь не было ни души. Работник сообщил единственную ценную новость: господин Дрягалов находится в Китае по своим торговым надобностям. Уже всякое упоминание Китая настораживало Антона Николаевича. Он и теперь сразу подумал: опять Китай! что они все сговорились, что ли? – бросились в Китай! Но размышлять на эту тему теперь было недосуг. Решив непременно вернуться к новости впоследствии и обдумать ее, пристав сосредоточился на рассказе околоточного. По словам последнего, выходило, что убийство совершил какой-то многоопытный злодей, который решительно не оставил никаких следов и улик, причем хитрец выбрал жаркий полуденный час, когда на дачных улицах обычно бывает немноголюдно. Единственное, что о нем можно сказать: видимо, он довольно молод, поскольку удар жертве нанес верный и сбежал быстро, и – главное! – он левша. Это определили криминалисты по расположению раны на теле убитого.
На обратном пути Антон Николаевич погрузился в раздумья. Околоточный несколько раз подчеркнул, что убийца – чрезвычайно опытный злодей. Объяснял он это тем, что-де не осталось ни самых малейших следов, а значит, действовал не новичок в своем деле. Но коли так, то его многоопытность и есть важнейший след! вернейшая его примета! Только не левша он вовсе. Какой же это опытный душегуб оставит такую улику? Да по ней его всякий городовой опознает! Ни в коем случае он не левша. Хотя удар наносил, очевидно, левой. Следовательно, владеет ей наравне с правой. Ловкач направляет полицию на ложный след! – ищите левшу, а я, нормальный правша, останусь вне подозрений.
Околоточный рассказал, что где-то дня за три до убийства на дачах появился разносчик, предлагавший ваксу, щетки, бархотки, подковки, гвоздики и прочие принадлежности, служащие для обновления обуви. Его прежде никто не замечал. И последний раз видели аккурат в день убийства сторожа. По мнению околоточного, это был сообщник убийцы: понятно, в таком предприятии без подручного не обойдешься! – кто-то должен разведать все пути, ходы-выходы, приметить, как и когда лучше появиться возле дачи и вызвать сторожа, подстраховывать исполнителя, да мало ли чего еще.
Но многолетний опыт отношений Антона Николаевича со всеми этими исполнителями и их подручными подсказывал ему совсем другое. Матерый душегуб обычно предпочитает обходиться без пособников: польза от такого содружества чаще всего не превосходит возможных неприятностей. Ведь сообщник – это одновременно и свидетель. Сегодня он подстраховывает, а завтра показывает на тебя. В данном случае не было никакого сообщника! Этот разносчик ваксы – сам убийца. В общем, в одном прав околоточный – дело исполнил мастер, каких немного.
Антон Николаевич попытался представить его себе: что это может быть за человек, который способен окликнуть немощного старика, поздороваться с ним для начала или поздравить с праздником и вдруг неожиданно, предательским ударом слева, пырнуть финкой. И ведь, наверное, ведет обычную, неброскую жизнь: ходит по улице, сидит в трактире, бывает, поди, и в церкви, работает, несомненно, как-нибудь, иначе будет выглядеть подозрительною личностью. Вот и разгляди-ка его попробуй, распознай. Хорошо еще, что околоточный – надо отдать ему должное – со слов дачников составил подробный портрет этого лоточника. Впрочем, вряд ли торговля вразнос его обычное занятие, служащее для отвода глаз. Этот народец не любит подолгу оставаться на виду. В основном по темным углам прячется – в лабазах, лавках, мастерских. А лоток с барахлом он повесил на шею, может быть, в первый и последний раз в жизни. Околоточный обратил внимание, что с таким товаром на дачи никто прежде не захаживал. Торговцев, например, скобяными изделиями всегда было немало. А вот вакса для дачников, почти сплошь обутых в парусиновые туфли, не такой уж необходимый товар. Зачем же он явился с неходовым товаром? Ну, понятно, меньше всего за тем, чтобы выиграть комиссионные. Для него это не ремесло! – взял что попало да и пошел. Он же не собирался зарабатывать на ваксе. У него были другие цели. Но вот удивительно! – он со своим редкостным для дачной местности товаром не убоялся выглядеть белою вороной среди прочих коробейников. Ведь куда бы был менее приметным, если бы вышел на торг с теми же скобяными изделиями или девичьими ленточками и заколками. Что же его вынудило взять именно эти щетки-бархотки? Тут могут быть, по крайней мере, две взаимодополняющие причины. Во-первых, он избрал те изделия, в которых более или менее разбирается сам. Вдруг на дачах отыщется бестолковый покупатель, который не знает, как именно накладывается вакса и набиваются подковки? В этом случае он должен будет ему все квалифицированно объяснить. А иначе вызовет подозрения: не мошенник ли какой? И во-вторых, скорее всего, он взял те изделия, какие были у него под руками: были бы замки, крючки и петли – взял бы их, но поскольку каким-то образом имеет отношение к принадлежностям, служащим, по выражению околоточного, для обновления обуви, то ими и довольствовался. Так кто же он такой? Чем занимается для отвода глаз? Чистильщик сапог? А значит, непременно оповеститель полиции и верный помощник городовым? – полный абсурд! Сапожник? День-деньской сидит в неприметной мастерской? Очень даже возможно. Во всяком случае, он точно не белошвейка. Лучшего варианта поисков пока нет, – так решил Антон Николаевич, – значит, начнем с сапожников.
Возвратившись в часть, он распорядился сотрудникам как можно скорее предоставить ему данные о всех московских сапожниках, похожих на описанного кунцевским приставом мнимого сообщника убийцы сторожа Березкина.
Данные такие Антону Николаевичу собрали лишь через несколько дней – дело оказалось довольно трудоемким. Пристав, прежде всего, взялся просматривать сведения о бывших каторжных, тюремниках или преданных суду. Среди побывавших в каторге или отсидевших тюремный срок ничего замечательного ему не попалось. Прочих он уже пробегал почти безынтересно, полагая, что просто предстать когда-то перед судом – мера, нимало не соответствующая уровню разыскиваемого преступника. Антон Николаевич листал бумаги одну за другой. Но вот где-то во второй дюжине ему вдруг бросилась в глаза фамилия – Дрягалов! Он упоминался там в связи с судом над его работником Сысоем Тузеевым восемь лет тому назад. Этот Тузеев обвинялся в попытке убийства сына Дрягалова – Мартимьяна Васильевича, – но был оправдан за отсутствием претензий к нему у пострадавшей стороны. С тех пор сапожничал и жил на Зацепе в доме мещанина Пихтина.
Пристав приказал срочно доставить ему судебное дело Тузеева. И вот что он там вычитал. Оказывается, Сысой Тузеев приходился Дрягалову земляком. Как самого Дрягалова когда-то взял в ученики в магазин выбившийся в люди односельчанин, так в свое время и Василий Никифорович, встав на ноги, призрел расторопного мальчишку из родного села и определил его в работники в первую собственную мясную лавку на Сретенке. Причем он доверил ему исполнять работу не для слабохарактерных: заметив, что парень-то не только расторопный, но и натурой лихой, каких не часто встретишь, Дрягалов поставил Сысоя колоть скотину. И тот скоро так навострился действовать ножом, что во всей Москве немного стало мастеров, равных ему. Казалось, молодцу путь верный: накопить кой-какой капиталец, да и завести когда-нибудь собственное дело по примеру покровителя – Дрягалов бы и дальше пособствовал земляку. Но коммерсанта из Сысоя не вышло. Однажды хозяин выдал ему полную отставку. Это совпало с кровавою драмой, разыгравшейся в доме Дрягалова.
В судебном деле события излагались следующим образом. Согласно первой версии, бесчестный лукавец, работник отплатил своему благодетелю самою черною неблагодарностью: пытался обворовать хозяина, а застигнутый случайно хозяйским сыном, не остановился лишить его жизни. Да, к счастью, только ранил. Отчего, однако, Мартимьян сделался калекой. Произошло это так: улучив однажды момент, когда Дрягалов с сыном были заняты в лавке в первом этаже и в комнатах никого не оставалось, Сысой пробрался в хозяйскую спальню, вскрыл конторку и собирался уже присвоить наличность, как вдруг в дверях появился Мартимьян. Увидев, что работник их обворовывает, он бросился было бежать жаловаться отцу, но не успел – Сысой догнал его на лестнице и ударил ножом в спину, причем повредил позвоночный мозг, в результате чего у Мартимьяна отнялись ноги. Об этом рассказал полиции сам Мартимьян, когда пришел в чувства. Однако впоследствии, на суде, отец пострадавшего – Василий Никифорович Дрягалов – изложил события ровно наоборот. И – на удивление! – Мартимьян подтвердил все сказанное батюшкой. Теперь выходило, будто бы хозяин, безоговорочно доверявший своему кристальной души работнику, сам послал его принести денег из укладки. Мартимьян же об этом поручении не знал. И когда он зачем-то вошел в комнату и увидел Сысоя, копошащегося в конторке, где отец держал казну, то по недоразумению подумал, будто работник их грабит. Испугавшись, Мартимьян поспешил в лавку известить об этом родителя, но на лестнице оступился, покатился кубарем и наткнулся спиной на выпавший у него из кармана ножик.
Антон Николаевич не удержался рассмеяться. А хорош же этот Дрягалов! Мог бы иуду неблагодарного, искалечившего сына, в каторге сгноить, душу из проходимца вынуть. Но зачем? Чтобы только насладиться его мучениями? Сын-то от этого здоровее не станет. И он прощает злодея. Избавляет от Сахалина. Но обременяет своею кабалой: взамен обязывает, очевидно, быть отныне ему преданным псом, готовым в любой момент по хозяйской указке хоть кому в горло вцепиться. В коммерческих делах такие помощники иногда требуются – уж это-то приставу неплохо было известно!
Практически не оставалось сомнений в том, что Сысой Тузеев и есть убийца сторожа Березкина. Неясно было лишь одно: каким образом Казаринов его подрядил? как на него вышел? Что же, Дрягалов дал ему Сысоя взаймы, как Бернадот когда-то одолжил палача Николаю Первому? Теперь об этом, верно, расскажет сам Тузеев.
Антон Николаевич решил немедленно отправляться арестовывать подозреваемого. Взяв с собой помощника и двух городовых, он выехал по адресу сапожника.
Полагая, что Сысой и не попытается бежать, будучи уверенный в своей неуязвимости, пристав все-таки велел одному городовому встать у задней калитки. Другой городовой требовательно постучал в дверь. Угодливый мещанин Пихтин поспешно отворил и, беспрестанно кланяясь, проводил полицию к одному из надворных строений, где сапожник нанимал у него комнату, сообщив попутно, что тот у себя.
Дверь в мастерскую оказалась не заперта. Полицейские бесшумно вошли в помещение.
Комната аршин в тридцать площадью была перегорожена надвое занавеской. Та половина, куда вошли полицейские, собственно, и являлась мастерской. А за занавеской находился, верно, жилой угол.
По знаку пристава городовой отдернул занавеску. Большую часть угла занимала кровать, на которой лежали мужчина с женщиной. Мужчина проснулся и заспанными глазами непонимающе смотрел на незваных гостей. Женщина продолжала мирно спать.
– Неплохо зажили сапожники, – иронично произнес Антон Николаевич, – прежде ночами не спали – за день не управлялись с работой, а теперь и днем не работают – спят.
Разбуженная его громкою репликой, проснулась и женщина. Увидев полицейских, она вздрогнула от неожиданности, а затем еще более вжалась в перину, натянула повыше на грудь цветастое покрывало и выглядывала из-под него, как испуганная зверушка.
– Вставай, Сысой Тузеев, – сказал пристав. – Теперь не скоро на такой кроватке полежишь.
Сысой свесил с кровати ноги в кальсонах.
– Что вам нужно? – злобно спросил он.
– Нам нужно тебя взять под стражу по обвинению в убийстве, – запросто, как о чем-то само собою разумеющемся, ответил Антон Николаевич.
– Вы что-то путаете, господин хороший. Я по сапожному…
– По сапожному, говоришь? А видать, зарабатываешь негусто, коли еще ваксой приторговываешь? Так тебе ли днем-то спать! Поедешь сейчас в участок, Тузеев. Там собрались люди, которые видели тебя однажды летом торгующим ваксой и другими сапожными принадлежностями. Посмотришь на них. А они на тебя поглядят. Это называется опознание. Кстати, тебе не интересно будет узнать, где именно они тебя видели? Или ты и так помнишь?
Сысой с ухмылкой покачал головой.
– Но это не все, с кем ты увидишься, – веселым тоном продолжал Антон Николаевич. – Тебя ждет еще одна интересная встреча. Не догадываешься с кем? С каким знакомым? Подскажу: с тем самым, после беседы с которым ты и взял лоток с ваксой и отправился на заработки… в пригород.
Сапожник злобно-презрительно оглянулся на пристава. Он повертел во рту языком, собирая слюну, и плюнул на пол. Взял со стола махорку со спичками, свернул цигарку, прикурил и спичку тоже бросил на пол. Видно было, что он вполне проникся сказанным ему и уже не считает это гнездышко своим. Антон Николаевич обратил внимание, что спичку из коробка Сысой вынимал правою рукой. А это верная примета – не левша он!
– Имени своего он тебе, разумеется, не открыл, – сказал Антон Николаевич. – Но как выглядит заказчик, ты запомнил прекрасно: энергичный, напористый, стройный, на вид сорока пяти лет, одет с иголочки – во все новое, накрахмаленное и наутюженное, – носит усы, как у Извольского, и аккуратную эспаньолку, то есть бородку. Правильно? Он?
Сысой знать не знал, кто такой Извольский, и ни в жизнь не догадался бы, что эспаньолка – это борода, не разъясни ему полицмейстер. Одно для сапожника было уже очевидным – этот полицейский знает о нем очень немало и, кажется, песенка его спета.
– Он, – пробубнил Сысой.
– Почему он обратился именно к тебе?
– Мартимьян Дрягалов прислал.
Антон Николаевич велел полицейским оформить арест и допрос убийцы сторожа Березкина, а затем отправить его в Каменщики. А сам теперь же поехал в Малую Никитскую.
Взять скорым приступом Мартимьяна Дрягалова было еще проще, чем едва не умертвившего его когда-то бывшего отцова работника. Антон Николаевич сразу заявил, что убийство их сторожа расследовано, убийца – Сысой Тузеев – арестован, и если Мартимьян не хочет неприятностей, то должен рассказать ему все обо всех.
Перепугавшийся насмерть Мартимьян не скрыл ничего: он рассказал, как решил постращать возможных новых батюшкиных фавориток жестокою расправой и как их сосед по даче Казаринов, прознав об этом, шантажом выведал у него адрес лиходея Сысоя. Но то, что господин Казаринов замышляет смертоубийство их сторожа и что убил Егорыча именно Сысой, Мартимьян божился: он ведать не ведал! Пристав про себя заметил, что это похоже на правду: действительно, кому придет в голову предположить, будто у статского советника и интеллигента может быть цель – убить какого-то сторожа!
Много интересного и непонятного Антон Николаевич узнал от Мартимьяна о старшем Дрягалове: о его парижских приключениях, счастливо закончившихся, о возвращении в Москву с двумя французами – дедом и внуком Годарами – и об их совместном скором отъезде в Китай.
Возвратившись в часть, пристав снова раздал уже и без того сбившимся с ног от его кипучей деятельности подчиненным приказы: запросить у французской полиции подробности вызволения Дрягаловым похищенной дочки, а также сведения о Годарах – кто такие? не имели ли прежде какого-либо отношения к Китаю? Кроме того, велел опять дать телеграмму в Харбин – попросить выяснить местную жандармерию следующее: чем занимались в Китае французские граждане Годары и купец Дрягалов? в каких именно местах они бывали? не пересекались ли как-то их пути с уполномоченным Казариновым?
Из обоих концов света ответы Антон Николаевич получил на следующий же день. Французские коллеги, насколько возможно подробно рассказав о похищении дочки Дрягалова и о том, как блестяще они это преступление раскрыли, сообщили, что главный его участник и организатор, русский эмигрант Руткин отправлен в Гвиану. Одновременно с этим французы информировали русскую полицию о Годаре: подполковник действительно служил когда-то в Китае – принимал участие в Опиумной войне, теперь же отправился в Маньчжурию на театр военных действий в качестве наблюдателя французского Генерального штаба. Он сам попросился у начальника Генерального штаба – старого своего знакомого по прежней службе – откомандировать его на русско-японскую войну.
А вот что телеграфировали из Харбина. Прежде всего жандармерия извещала подробнее о преступной деятельности Казаринова: во время предпринятого им путешествия с целью передачи секретных сведений японцам он повстречал где-то в глубине страны соотечественников – купца Дрягалова с сыном и его невестой, двух конвойных солдат, а также двух граждан Франции – военного наблюдателя подполковника Шарля Анри Годара и его внука, журналиста Паскаля Годара. Всех этих господ Казаринов выдал японцам, представив их как шпионов и мародеров. И лишь по счастливой случайности они не были казнены. Словно предугадывая вопросы Антона Николаевича – каким же образом во время военных действий купец со своими спутниками мог оказался вблизи фронта? да и наблюдателям разве не полагается находиться при штабе главнокомандующего? – жандармерия сообщала, что и сам Дрягалов, и бывшие с ним французы имели бумаги, выданные им в Московском охранном отделении и предписывающие любому представителю власти не чинить их обладателям никаких препятствий. Эти бумаги Дрягалов и оба Годара предъявляли на всех полицейских и военных кордонах, начиная с Иркутска.
У Антона Николаевича не оставалось ни самых малых сомнений в том, что Казаринов, Дрягалов и Годар, такие на редкость разные люди – злодей-интеллигент, малообразованный миллионщик и француз-подполковник, кавалер высшего ордена в своей стране, – оказались в одно время и в одном месте по какому-то таинственному единому делу. Шпионаж в пользу Японии – это, скорее всего, не главное, зачем приехал в Маньчжурию Казаринов. Но по какому именно делу они все там собрались – пока не ясно. Да и нужно ли ему это теперь выяснять? Он и так загонял своих сотрудников вконец. Правда, попутно раскрылось кунцевское убийство. Так что потрудились они недаром. Но зачем ему, московскому полицейскому, знать о каких-то китайских делах перечисленных господ? Равно также не его заботы вникать, каким образом Дрягалов и французы оказались наделенными всесильными мандатами охранки. У него есть теперь своя, личная важная проблема: какую бы найти форму – помягче да поделикатнее, – чтобы донести до жены поразительные новости об ее обожаемом отце. Вот это задача так задача. Пристав решил, что пока его участия в делах Казаринова и прочих не требуется.
Третья часть На войне
Глава 1
В конце августа Маньчжурская армия отходила от Ляояна. Японцы, не только не одолевшие противника в почти двухнедельном сражении, но сами-то отбитые повсюду с огромными потерями и уже готовые попятиться, поначалу натурально смутились от такого маневра русских: японский главнокомандующий маршал Ояма первым делом по получении неожиданного известия подумал, а не является ли этот отход неким загадочным и потому небезопасным для его армий движением неприятеля. Но, убедившись, что русские решительно отступают, японцы поняли, что поле боя, вне всякого сомнения, и в этот раз остается за ними.
Это было беспримерное в военном деле отступление победивших. Разумеется, никто не преследовал русские войска, не досаждал их арьергардам. Корпуса без какой-либо суматохи, будто на мирном переходе, переправились на северный берег Тай-цзы-хэ, и японцы даже не пытались хотя бы обстрелять их с сопок, порушить переправы: а ну как еще обозлятся и вернутся? – пусть уж уходят подобру, коли им воля такая. Врагу не оставалось ни самого пустячного трофея: ни единой поломанной пушки, ни единой повозки, ни вола, ни осла, никакого другого имущества. Само собою, и прежде всего, были вывезены раненые.
Если вообще можно говорить об отступлении как об успехе, то это отступление следует считать отменно успешным. Потому что оно было, как ни абсурдно это звучит, плодом победы самих же отступающих.
Но таково было решение главнокомандующего русскою армией. Получив известие – оказавшееся подложным! – о движении неприятеля к нему в тыл и полагая это серьезною угрозой всей кампании, главнокомандующий нашел, что при таких условиях с его стороны возможна единственная ответная мера – отступление.
Казалось, это неоправданное малодушное решение военачальника должно было вызвать недовольство или, по крайней мере, недоумение войска. Ведь никто лучше простого солдата не чувствует, насколько он сам и его товарищи окопники готовы сию минуту ожесточиться, упереться, готовы не уступить супротивнику. Да и сколько же, право дело, уступать-то можно? Войне седьмой месяц пошел. А япошка все так и не бит хорошенько ни разу. Пора бы уже ему и по шапке дать. И если здесь, в далекой чужой земле, не приходилось особенно надеяться на подъем патриотизма у солдат, то, во всяком случае, бойцовский азарт, как на кулачках, должен же пробудиться в русском человеке! К тому же в армии все до единого – от командующего до солдата – безусловно понимали, что означает их успех для осажденного Порт-Артура: как ждут там маньчжурцев, как на них надеются! И вот теперь, выходит, надеждам их товарищей, сидящих в осаде четыре месяца, сбыться не суждено. Не выручили своих маньчжурцы. Оплошали.
Но – удивительно! – хотя солдаты и готовы были наконец показать этому япошке, что на Руси не все караси, хотя армию и вдохновлял благородный порыв не выдать своих в Порт-Артуре, – все равно отступление приходилось более согласным с настроением войска, нежели все прочие обстоятельства. Иные солдаты, конечно, хорохорились, – как же без этого? – да мы бы их! – но про себя в основном все рассуждали об отступлении так: начальству виднее, а нам покойнее.
Можайский полк, в котором теперь были записаны неразлучные друзья Мещерин и Самородов, оставался в арьергардах. Их 12-я рота получила приказ прикрывать артиллеристов, спускающих свою батарею с горной кручи. Артиллеристы, как на грех, замешкались, вовремя не снялись отчего-то и отходить стали лишь уже в виду неприятеля. Ударь японцы здесь в штыковую, батарея наверно погибла бы, и слабое прикрытие нисколько не заслонило бы ее, а единственно разделило участь артиллеристов. Но японцы не атаковали, а ограничились лишь разрозненною ружейною пальбой, которая, тем не менее, вред отступающим нанесла: пуля угодила в кого-то из солдат, опускавших пушку на лямках, он упал, а остальные, больше от неожиданности, чем от недостатка сил, отпустили лямки, и пушка сорвалась и разбилась о камни.
Для солдат 12-й роты это были поистине роковые минуты. Они то всматривались напряженно в долину – не раздастся ли сейчас из-за ближайшего уступа пронзительный крик «банзай!» и не выскочит ли оттуда японский батальон? – то оглядывались на артиллеристов, кляня в душе земляков на чем свет стоит: да что же у вас, собачьи вы дети, пушки глиняные, что ли!., что же вы их так нежно… неужто нельзя малость быстрее!
Наконец артиллеристы управились и уехали. Но ротный, как будто испытывая собственную волю, еще минут десять не давал приказания своим солдатам отходить с позиций. Он прохаживался позади окопов и, казалось, был озабочен какими-то своими думами. Иногда поблизости от него звонко цокали по камням или глухо, совершенно с тем же звуком, с каким они входят в человека, ударяли в землю пули, и тогда ротный останавливался и какое-то время хмуро смотрел на это место. И, только выждав им же самим положенный срок, он распорядился роте отходить.
12-я оказалась последнею во всей армии ротой, переправившейся за Тай-цзы-хэ. Сразу же за переправой их встречал командующий Южною группой генерал-лейтенант Зарубаев. Очевидно угнетенный бездарно проигранным делом и отступлением, генерал, тем не менее, старался выглядеть довольным, чтобы видом своим ободрить честно выполнивших свой долг солдат.
Рота выстроилась перед ним во фронт. Признать военных в этих людях можно было только по винтовкам в их руках. Почти ничего из того, что называется военною формой, на них не оставалось. До половины солдат стояли совершенно разутые. У некоторых на ногах были надеты китайские туфли – улы. Кто-то ухитрился перемотать развалившиеся сапоги веревкой. Большинство солдат было в самодельных бумажных рубахах и в китайских кофтах, крытых какой-то лоснящейся материей самых разнообразных цветов. Впрочем, наверно судить о цвете этих экзотических нарядов уже не приходилось: все солдаты с головы до ног были перемазаны землей и глиной.
Командир полка – полковник Сорокоумовский, – бывший тут же, что-то отрапортовал генералу. И Зарубаев, с трудом сдерживая разыгравшегося, свежего, по всей видимости, коня, крикнул:
– Спасибо, можайцы, за вашу службу!
Солдаты набрали побольше воздуха в грудь и выдохнули:
– Рады стараться, ваше превосходительство-о!
– Еще раз спасибо! Вы молодецки стояли на своем посту!
– Рады стараться, ваше превосходительство-о!
Зарубаев объехал строй, отдавая честь солдатам. Поравнявшись с ротным, таким же оборванным и грязным, как и солдаты, генерал придержал коня и сказал ему:
– Я хочу вполне наградить ваши действия, штабс-капитан. И поэтому представьте к награде всех, кого только захотите поощрить. А теперь всем отдыхать, отсыпаться. – И командующий, пришпорив своего беспокойного коня, ускакал прочь.
Последние слова генерала приходились теперь солдатам особенно по сердцу. Они больше недели почти не смыкали глаз. Если им и случалось иногда, под доящем, в окопном месиве, забыться, провалиться в беспамятство, то не более чем на полчаса-час, и тут же на постах поднимались тревоги, хотя и ложные чаще всего, тут же раздавались свистки, и бежал по окопам ротный, который, казалось, вообще никогда не спал, и расталкивал всех, пытался как-то ободрить людей – иногда шуткой, иногда угрозами. И благодаря этому 12-я рота за все дни и ночи Ляоянского сражения ни разу не была застигнута неприятелем врасплох.
И хотя до устроенных квартир, бани и нового обмундирования оставался еще по меньшей мере дневной переход по непролазной в эту пору мандаринской дороге, солдаты почти бодро отправились в путь.
На их счастье, дождь теперь не шел, и по грязи идти было малость легче, – кое-где дорога начала подсыхать.
– Слыхали, ребята, чего генерал распорядился? – сказал немолодой бородатый солдат, которого в роте все почтительно называли по отчеству – Матвеичем. – Их благородие всех, кого только пожелает, может представить к награде. Так это всю роту можно представить… Всех как есть…
– Ты небось думаешь, Матвеич, и тебе крестик полагается? – отозвался первый в роте зубоскал Васька Григорьев. – За что тебе его? Ты, вон, все обмундирование растерял. Идешь – чисто шулюкан. На тебе казенного осталось только что ремень на животе.
– Много ты понимать, молодец. За то и дадут, что в исподнем из боя идем. Значит, не в тылах-резервах праздничали. А из самого адища выбрались. Соображать?
– Так что, Васька, скидай свои китайски вулы, – поддержал Егорыча сибиряк Дормидонт Архипов, трехаршинный детина, тоже с большою бородой. – А то скажут, что ты в штабе при Куропаткине хоронился.
– Если бы и вправду так подумали, мне бы тогда быстрее всех крест пожаловали! – ответил Васька. – Когда это штабным награды задерживали?!
– Ну-ка вы там, говоруны! попридержите языки, – прикрикнул на них фельдфебель Стремоусов. – Неровен, их благородие услышат: ужо вам будет!
Некоторое время солдаты шли молча. Скоро справа от дороги им повстречались два связанных из гаоляна креста над свежими могилами. Проходя мимо, солдаты крестились.
– Братцы! – воскликнул Самородов, – да это же наш унтер! Сумашедов!
На одном из крестов была дощечка с надписью: «Младший унтер-офицер 12-й роты Можайского полка Сумашедов. Убит в сражении 18 августа 1904 года. Вечная память».
– Вот так так, – проговорил Мещерин. – Не выдюжил, значит. Богу душу отдал.
Недавно, при ночном нападении японцев, Мещерин и Сумашедов оба были ранены. Унтер, как теперь выяснилось, – смертельно. Мещерин же получил тогда неопасное ранение и всего только провалялся в лазарете три дня. А прошлым вечером, когда лазарет эвакуировался, он не поехал вместе с ним в тыл, а сбежал в свою роту.
– А он не с тобой вместе лежал? – спросил Самородов.
– Нет. У него ранение тяжелое было. Его сразу отправили в госпиталь. Да вот не довезли…
– Где ж там, – отозвался солдат Тимонин. – В самый живот ему тогда штыком пришлось. Я видел – страшное дело.
– Царство Небесно, – вздохнул Матвеич и перекрестился.
И больше о покойном унтере они не говорили. Такое уж повелось у солдат правило – думай каждый втихомолку о погибших однополчанах сколько душа пожелает, но вслух не сказывай. А иначе можно было только об этом и говорить всякое время.
Обычно после таких случаев наступало тяжелое молчание, когда каждому как-то боязно было заговорить первому. Но всегда находился кто-нибудь, кто, ко всеобщему удовлетворению, заводил новый разговор. Все равно о чем, пусть о самом пустом, но лишь бы не об этом.
– Чудной народ китайцы, – принялся рассуждать неуемный Васька Григорьев, – придумали же эти обутки кожаные – улы: когда жарко и сухо, они твердые, будто деревянные, ноги в кровь сбивают; когда вода – размокают, скользят, чисто по льду, того гляди – в грязь мордой полетишь.
– Тебе полезно было б, – беззлобно заметил Дормидонт Архипов. – Угомонился б, глядишь.
В другой раз солдаты, может быть, и посмеялись бы или еще как-то подтрунили бы над Васькой, но теперь ни на какие забавы ни у кого не было охоты.
– Помню, где-то в начале войны читал в газете, как один генерал советовал всю нашу армию в Маньчжурии обуть на лето в лапти, – рассказал Самородов. – В них и не жарко, и воды он не боится, родной наш лапоток, да и покрепче сапог будет, окаянных! – кто их только шьет! какая вражина? – Алексей опустил голову, словно хотел воочию убедиться в верности своих слов: он уже считать сбился, который день ходил босиком.
– Да-а, зря не послушались умного человека, – поддержал его Матвеич. – Он, верно, солдатску нужду понимат, генерал этот…
– Это все, Матвеич, не так просто, как кажется, – отозвался Мещерин. – Лапоть – это не обувь. Лапоть – это символ.
– Да пущай он хоть кто ни на есть! – не удержал-таки голоса Архипов. – А лучше вот так, как мы теперь?! Я, скажу вам, братцы, так лаптей отродясь не видал. У нас в Сибири лапотники – это только самые нетелёпы-троеперстники. Пьяницы. У справных мужиков сапоги, что у твово генерала. А таких у нас, почитай, вся Сибирь. Но, истинный крест, теперь обул бы и лапти.
– Понимаете, в чем дело, – авторитетно принялся объяснять Мещерин, – оно только на первый взгляд кажется, лапоть – пустяк. На самом же деле это причина политическая.
– Как? Какая причина? – изображая испуг, спросил Васька Григорьев.
– Политическая! – не смутился Мещерин. – Правильно заметил Дормидонт, лапоть – это наш русский символ бедности, неустроенности. И надеть на солдат лапти, какова бы ни была от них практическая польза, означает показать всему миру, как бедна Россия, как не готова она к войне. Ну, представьте, например, что нас вооружили бы вилами или, того лучше, рогатинами, которые имеют хотя бы то преимущество перед винтовкой, что они не ржавеют. Как бы это выглядело? Как ни удивительно, но для государственной политики лучше пускай армия остается разутою и раздетою, – это можно объяснить жестокостью современной войны, – чем если бы она была в лаптях. Кажется, лапти последний раз надевали партизаны в Отечественную двенадцатого года. А теперь, в двадцатом веке, регулярные войска снова в них обуются! Так, что ли?
Да Россию засмеют. Вы же видели, сколько кругом здесь заграничных военных наблюдателей.
– Да… чего говорить… – вздохнул Матвеич. – Все верно. Как ни ворочай – одно другого короче.
– Не тужи, Матвеич, – успокоил его Васька, – выдадут тебе нынче новенькие сапожки. На картонных подметках. День-другой пофорсишь.
– Пофорсим… Дойти б только Бог дал… Эка распутица… – Матвеичу уже невмочь было отвечать на всякий Васькин вздор.
– И как сами-то китайцы ходят по таким дорогам? – пророкотал Архипов. – Ведь они, людишки малые, поди завязнут здесь, чисто в трясине.
– Я именно об этом как-то спросил одного китайца, – сказал Самородов, – как вы, говорю, сообщаетесь меяеду собой, когда в сезон доящей по вашим дорогам пройти совершенно невозможно? – ни конному, ни пешему. Так он ответил, что они в это время и не пользуются дорогами. Сидят все дома. А осенью и зимой, говорит, у них дороги чудесные, крепкие.
– Чтоб и воевать-то так – в вёдро. А когда дождь-непогодье – сиди дома.
– Тебя не спросили, как воевать, – со смехом сказал Васька. – Надо было военному министру с генералами приехать в твою сибирскую глухомань… Как ты говоришь, деревня-то твоя называется?
– Кошкина Матка, – раз в пятидесятый уже повторил Архипов название своей деревеньки Ваське, для которого было любимейшим развлечением услышать этот шедевр русского топонимического творчества из уст простоватого сибиряка.
– Ну да, вот им надо было приехать к тебе в… Кошкину Матку, – старательно выговорил эти два словца Васька, – и спросить: скажи-ка нам, Дормидонт, как нужно воевать ловчее?..
– А ну кончай разговоры говорить! – опять урезонил солдат Стремоусов. – А вы, студенты, смотрите у меня! Будете еще мутить людей!
Солдаты притихли и больше уже не разговаривали. Им еще предстояло пройти добрых двенадцать верст. И тратить понапрасну силы на разговоры никому не хотелось.
Мещерина с Самородовым в полку так и прозвали студентами с тех пор, как стало известно, что до войны они учились в университете. Солдаты, отдавая должное их учености, относились к ним очень дружески, с почтительностью, и постоянно о чем-нибудь их расспрашивали, советовались с ними. А уж сколько писем во все концы России по просьбе своих однополчан написали друзья за это время, они и не считали, – сотни. У некоторых солдат в их деревнях не было ни единого грамотного человека, и прочитать писем от своих служивых там никто не мог. И все равно эти солдаты просили написать для них чего-нибудь, чтобы весточкой с войны, пусть она и останется непрочитанною, позабавить любезных сродников.
Слава о Мещерине и Самородове, как о людях с небезупречным прошлым, а, вернее сказать, именно неблагонадежных, исключенных за это из университета и преследуемых полицией, разнеслась по полку немедленно. И, вероятно, не без полицейского усердия. Конечно, ничего хорошего это им не сулило. Они сразу почувствовали на себе более пристальное, нежели к другим солдатам, внимание со стороны командиров. А иной раз они встречали к себе отношение просто-таки как к японским шпионам. Особенно от каких-нибудь унтеров.
Но неожиданно им вышел счастливый случай: где-то в июле, вместо раненого ротного, к ним был назначен новый командир – москвич, из запасников – штабс-капитан Тужилкин. Едва друзья узнали фамилию нового ротного, они тотчас припомнили, что эта же самая, довольно редкая, фамилия была у девушки – подруги Тани и Лены, – с которой они знакомы особенно не были, хотя и виделись мельком два-три раза, но о которой много слышали в последние дни своей мирной жизни. Ее звали Лиза. И она тогда исчезла куда-то странным образом, оставив подруг и всех кругом в совершенном смятении. Сколько об этом велось разговоров. В газетах даже писали что-то.
Мещерин как-то улучил момент и спросил ротного, а не дочка ли ему та девушка? И оказалось, именно так, дочка. Штабс-капитан Тужилкин, видно было, тяжело переживал случившееся. Он хотя и обрадовался как будто знакомцам своей пропавшей дочери, но разговаривать с солдатами о ней не пожелал. И вообще он не стал каким-то образом выделять, привечать их на том основании, что-де они не совсем ему чужие люди. Но единственное, что он позаботился сделать для них, так это объявил всем своим субалтернам в роте, и унтерам, и фельдфебелю категорически воздержаться в какой-либо форме вменять Мещерину и Самородову в вину их прошлое.
К вечеру рота, в один дух отмахав верст двадцать, подошла к деревне, где им был определен постой. Солдаты разбрелись по фанзам и замертво свалились спать. В этот день из 12-й роты даже в секреты было приказано никого не наряжать.
На следующий день, никем не понуждаемые, люди неторопливо, обстоятельно приводили себя в порядок: чистили винтовки, сами мылись, чинили и стирали что-то из старого обмундирования, что еще, по их мнению, могло бы послужить на пользу, – выданное новое был соблазн пока поберечь, припасти, так что офицерам даже приходилось заставлять иных слишком рачительных солдат расставаться с каким-то, с их точки зрения, еще годным отрепьем.
И так несколько дней весь полк жил как будто в отпуске от службы: офицеры поочередно ездили в Мукден, где для них было устроено собрание, солдаты, чтобы не избивать понапрасну сапог, сидели больше по фанзам и без конца приготавливали для себя чего-нибудь съестного. За недолгое время постоя вся деревня пропахла русским духом – щами, кашами, жареным луком, квасом, заведенным на сухарях. Китайцы только дивились на все эти невиданные блюда и на сноровку русских солдат. Офицеры вначале снисходительно относились к этому массовому кашеварению, прерываемому лишь сном нижних чинов, и даже сами нередко угощались от солдатских щедрот, – да и то правда: как тут русскому человеку, будь он хоть обер благородных кровей, устоять – не отведать родимых щец или пшенной кашки на говяжьем сале с прожаренным луком! – но неделю спустя полковник все-таки распорядился в ротах запретить солдатам кухарничать.
А следом вышел новый приказ: в четверти версты от деревни начинать устраивать позиции, которые, по слухам, должны были служить фланговыми прикрытиями всей армии. И солдаты, словно истосковавшись в сытости и неге по военным занятиям, истово принялись за дело. Так 12-я рота под начальствованием своего командира штабс-капитана Тужилкина в какие-то дни воздвигла, опять жена удивление любопытным китайцам, совершенную твердыню. Это был окоп саженей пятьдесят в длину, с ходами сообщения для выноса раненых. Впереди окопа солдаты устроили еще треугольный ров, тоже с загнутыми фланками, и уложили на нем сильнейшую засеку. Когда все было готово, солдаты сами изумились от результата своих трудов. Они специально выходили подальше в поле, откуда предположительно могла быть атака японцев на них, разглядывали впечатляющие укрепления и только приговаривали: «Не дай господи, самим нарваться когда-нибудь на такую штуку!»
Как в роте и предполагали, их командир штабс-капитан Тужилкин представил к наградам очень многих, без выборов, а единственно по собственному своему произволению. И прежде всего, конечно, раненых, оставшихся в строю.
Награждал кавалеров сам начальник штаба корпуса. Прежде был отслужен молебен. К полудню из штаба главнокомандующего в расположение полка прибыла икона, которую генерал-адъютант Куропаткин привез с собой из Троице-Сергиевой лавры. Говорили, что икона эта в свое время была с Петром Великим и Александром Благословенным в их славных походах. Из этого как будто следовало, что и теперь русское войско ждет блестящая виктория, коли при нем этакая святыня.
Начальник штаба корпуса обходил строй кавалеров и сам прикалывал солдатам на грудь кресты, которые ему подавали щеголеватые и довольно равнодушные к происходящему ординарцы. Из 12-й роты, помимо прочих, Георгия получили Матвеич, Васька Григорьев, фельдфебель Стремоусов, имевший до того уже два креста. Дормидонт Архипов, кроме награды, был еще произведен в унтеры и назначен отделенным, вместо покойного Сумашедова. Включил в список штабс-капитан Тужилкин и обоих своих студентов. И, конечно, не за то, что они были как-то знакомы раньше с его дочерью. Мещерин с Самородовым действительно показали себя молодцами в последнем деле. К тому же первый получил ранение – неопасную царапину японским штыком. А второму раз в атаке удалось взять пленного. Но ни того, ни другого не наградили. Кто-то из вышестоящего командования все-таки припомнил, кто они такие и как именно попали на войну.
Раздав кресты, генерал вышел на середину, оглядел строй, разгладил усы. Требовалось что-то сказать солдатам, но кроме обычного «спасибо за службу», похоже, ничего больше в голову ему не приходило. И он сколько-то времени молча смотрел на солдат, нервно сжимая рукоятку сабли.
– Братцы! – наконец выкрикнул он. – О вашей доблестной службе донесено государю нашему императору Николаю Александровичу! – Он оборвался, сам не веря, что это сообщение теперь может вызвать у солдат прилив воодушевления. Конечно, служивые всему будут рады стараться прокричать «ура». Но впору ли было возжигать людей чувством верности государю, когда армия терпит лишь одни поражения и неизменно отступает под натиском неприятеля. Сколько уже командиры всякого ранга взывали к солдатам показать свою преданность верховной власти. Да только пользы от этого все не получалось. И в конце концов такие воззвания абсолютно утратили свое вдохновляющее значение. К счастью, у генерала были припасены по-настоящему желанные для солдат слова. – Хочу вас всех обрадовать: нам шлет свои поздравления и пожелание скорейшей победы государыня императрица Александра Федоровна! Но, кроме этого, государыня прислала всем подарки! Всем без исключения! – и кавалерам, и тем, у кого крест еще впереди!
Генерал хотел пошутить, но вышло это у него пугающе двусмысленно: какой именно крест ждал солдат впереди? – медный на груди или деревянный в ногах? Многие так и подумали. Поэтому радостная весть о подарках от царицы оказалась омраченною неуместным напоминанием о невеселой перспективе, ищущей кого-то.
Вечером солдаты в своих фанзах разбирали подарки. Каждому полагался матерчатый пакет, годный, сам по себе, на портянки или еще для какой надобности, в котором было уложено много всяких полезных вещей: смена белья, полфунта мыла, два платка, фунт сахару, полфунта плиточного чая, четверть фунта табаку, две книжечки папиросной бумаги, карандаш, финский нож, кисет с пуговицами, крючками, наперстком, иголками и нитками, бумага и конверты.
Бывалый солдат Матвеич все не мог нарадоваться, налюбоваться на царицыны подарки. Они ему были, пожалуй, подороже креста. Он несколько раз вынимал вещицы из пакета, разглядывал их внимательно, хмыкал, покачивал головой, будто диву дивился, и снова укладывал все аккуратно назад. Всем этим новым и чистым, право, и пользоваться-то было жаль.
– Видишь, Матвеич, как тебя царица одарила, – говорил Васька Григорьев. Он то и дело поглядывал на свой новенький крестик, поправлял его, протирал рукавом, чтобы прибавить ему блеску. Васька и сам весь сиял, как начищенная медь. – Ты бы взял да написал ей в Петербург письмецо благодарственное: так, мол, и так, подарки твои, матушка, получили, низкий тебе наш солдатский поклон за заботу, за доброту…
– Дурья ты голова, – серьезно отвечал Матвеич, – да разве досуг государыне читать всякого служилого письма. У ей скоко забот одних! Не нам чета.
– Да ей, поди-ка, и не прочитать по-русски, – отозвался Кондрат Тимонин, тоже с новеньким Георгием на груди.
– Это как же? – удивился Матвеич.
– Так она же самая, говорят, не русская вовсе – немка.
Матвеич оглянулся на друзей студентов, как бы ища у них ответа, – так ли это?
– Все верно, Матвеич, – подтвердил Мещерин. – Немка она прирожденная. Бывшая принцесса Дармштадтская Алиса.
Матвеич какое-то время молчал, нахмурившись и раздумывая над услышанным.
– Ну и ладно… – сказал он примирительно, будто поборов расстройство. – Немка… даром что датска… а понимат нужду солдатску. – И он бережно, с любовью погладил свой кулек.
– Да, они хорошо понимают солдатскую нужду, – вздохнул Тимонин.
– Ты это об чем? – спросил Васька Григорьев.
– Да все об тем же – об войне… будь она… Эти их подарки, как цигарка перед казнью: все одно жизнь у тебя отымают, да вроде как приятность делают напоследок. Нам еще и поблагодарить их за табачок! – Тимонин рванул облатку и высыпал горстку табаку на ладонь. – Так и есть, дрянной. Пересохший. Половина пыли будет. Верно, с турецкой на царевом складе лежит.
– Ох, Тимонин, не слышит тебя фельдфебель, – глухо отозвался Матвеич. – Берегись. Несдобровать бы.
– Да пусть хоть сам Куропаткин слушает. Что нам может быть хуже окопов? – с вызовом произнес Тимонин. – Нынче вон самых революционеров интеллигентных, – он кивнул на Мещерина с Самородовым, – ссылают на войну заместо каторги. Куда уж с нас-то больше взыскивать, с брехунов темных!
– Тебе можно еще назначить отстегать по хребту за крамольные речи, – ухмыльнулся Васька. – Вон казаки хлещут своих нагайками за что ни попадя.
– А вот интересно, братцы, – оживился Самородов, – если бы нас всех, всю роту, собрали вот так же, как у казаков заведено, в круг и спросили, достоин ли Тимонин наказания за свои взгляды, – как бы вы порешили? Вот ты, Вася, что ответил бы?
Васька хотел было в обычной своей манере как-то схохмить в адрес Тимонина, да вдруг посерьезнел почему-то, нахмурился и сказал:
– Верно он говорит, в сущности. За что мы здесь воюем? – за эту китайску мазанку? Мне, к примеру, она нужна, как летошний снег.
– Дормидонт, ну а ты что скажешь? – обратился Самородов к их новому отделенному.
– Его теперь галуны на погонах обязывают рассуждать не по совести, а так, как полагается по начальственному предписанию, – все-таки не удержался съехидничать Васька.
Архипов даже не оглянулся на потешника. Видно было, что вопрос Самородова и его заставил крепко задуматься.
– Нам, староверам, ваши императоры своими сроду не были, – начал он издалека. – Если они не выдумывали чего против нас, уже слава богу. А уж на пользу нам ни самой малости не делали ни в жизнь. Но вот, что я подумал теперь: они, оказывается, и своим никонианам, вот вам всем, не радетели, не заступники, а самые что ни на есть изводчики.
– Я бы Тимонина не выдал, нет, – продолжал Дормидонт Архипов. – Но всыпать плетей вам всем не мешало! За то, что вы вере русской изменили, а через это превратились в натуральное стадо – куда ни погонят вас ваши… немки с немцами, хоть на закланье, всё идете бездумно, безропотно.
– Так что же тебе твоя вера правильная не помогла, что тебя вместе с нами, грешными, на убой погнали? – спросил Васька.
– Полоротый! Я ж про то и говорю: нас изводить полагается, нас испокон веку изводили за веру. А вот вас-то как свои не жалуют?
– Ну ты, Дормидонт, это уж загнул! – возразил Мещерин. – Царь Иван Грозный был вашей веры, то есть дониконовских обрядов, а изводил он своих единоверцев дай бог! – и под Казанью, и в Ливонии, да и в самой Москве. Тысячами! И Малюта Скуратов, и самозванец Гришка Отрепьев – чудовский монах, – все крестились двумя перстами. Да что об этом! – давайте-ка послушаем мнение нашего уважаемого старейшины, – сказал он. – Что ты, Матвеич, думаешь о войне? И прав ли Тимонин? Как, по-твоему?
Старейшина, которому, впрочем, было едва за сорок, ответил не сразу. Он преяеде посопел в усы, разгладил бороду и наконец произнес неторопливо:
– Я вам вот чего скажу, ребятушки: праву или не праву войну ведет держава, лучше всех бабы знают. Оне умом хотя и дуры и в политическом вопросе толку вовсе не мыслят, но нутренностями верно все чуют. Вон Тимонин сейчас турецку припомнил. Так вот, когда матушка покойна провожала папашу на турецку, оно, конечно, бабы выли, но выли с понятием…
– Здорово как это ты говоришь: выли с понятием! – перебил Матвеича Самородов.
– Истинно так! – продолжал Матвеич. – И вот как они голосили тогда, послушайте:
Не на пир тебя позвали, не в забавушку, — Грозна служба сочинилась государева: Сволновался неприятель царства Русского, Посрамить решился веру христианскую, Попытать который раз расейску силушку. Так ступай, соколик, с миром в службу царскую, С миром, Господом самим, да со святым крестом, Ты оружьице возьми во праву рученьку, А во леву-то возьми ты востру сабельку, Да постой, да поборись за землю Русскую, Да не выдай православных наших братушек, — Из турецкой из неволи лютой вызволи…Матвеич продекламировал это причитание нараспев, подражая, верно, своим землячкам – сельским вопленицам. Солдаты, натурально, заслушались его.
– Прямо-таки былинный слог… – шепнул Самородов другу.
– А вот нынче, – говорил Матвеич, – когда меня и других мужичков наряжали в солдаты, пели совсем по-другому бабы. – И он затянул:
И почто Господь нас не помиловал? Богородица и та почто оставила? На лиху войну идут солдатушки, В путь-дорожку долгу, незнакомую, В сторону далеку да неведому, На врага коварна, на невидана, На свою погибель, нам на горюшко…Какое-то время все солдаты, удрученные, сидели молча. Наверное, им припомнились собственные безотрадные проводы на войну с такими же приблизительно бабьими причитаниями и плачами.
– А когда я уходил, – лукаво заблестев глазами, проговорил Васька Григорьев, – у нас в деревне пели так:
Наши девки, что снаряды! Снарядили б нас походам, Мы бы скинули наряды— Отъяпонили б всех с ходу!Оценили шутку только несемейные Мещерин, Самородов да самый молодой в роте, безбородый и безусый, солдат Филипп Королев. Они одобрительно усмехнулись. Все прочие солдаты, у которых в деревнях остались жены с детьми, сидели мрачные, задумавшись. Верно, пронял их Матвеич до самой глубины души.
В фанзу, шумно стуча сапогами, вошел фельфебель Стремоусов.
– А ну, полуночники! – загудел он сурово. – Спать всем живо! Распелись на ночь глядя! Я вот вас завтра подыму чем свет! Архипов, смотри у меня! Дисциплину не соблюдаешь в отделении! Взыщу в другой раз – будешь знать!
Назавтра штабс-капитан Тужилкин отправился по какому-то делу в Мукден. И он взял с собой сопровождающими Мещерина с Самородовым. После того как на днях на одного офицера, возвращавшегося из главной квартиры, на самой Мандаринской дороге напали китайские разбойники – хунхузы, вышел приказ в одиночку, без сопровождения, офицерам больше не передвигаться где-либо вне расположения войска.
Штабс-капитан Тужилкин прежде нередко ездил в Мукден совершенно один. И как-то раз тоже повстречался с хунхузами: они неожиданно выскочили на него из гаоляна, не более чем в версте от деревни, где стояла его рота. Но удалой штабс-капитан не растерялся. Он выхватил наган, одного разбойника подстрелил, а прочие тотчас бросились врассыпную. Тужилкин нисколько не страшился этих трусливых, в сущности, шаек, кстати, не только разбойничающих, но и, как русским было наверно известно, шпионивших в пользу японцев, но небречь приказом, как это все-таки делали иные бравые удальцы – его товарищи, ему не хотелось, потому что вовсе не интересно было безо всякой пользы для дела выставляться храбрецом.
Выехали они пораньше. Путь теперь предстоял довольно долгий. В одиночку-то ротный скоро доходил на рысях до Мукдена. Но кони у офицеров – и тех далеко не у всех имелись. Про солдат и говорить нечего. Для них приходилось в таких случаях брать у китайцев внаем ослов – низкорослых и тщедушных, под стать самим китайцам. Вот и теперь ослики под Мещериным и Самородовым едва семенили по дороге, слава богу, хотя бы окрепшей за последние дни без доящей. Так они и ехали потихоньку – посередине Туясилкин на рослой кобыле, как Дон Кихот, а по бокам, головами едва доставая ротному до пояса, его оруженосцы.
– Я вот для чего еще вас взял с собой, – сказал Тужилкин, когда они проехали с версту. – Мне стало известно, что вы ведете с солдатами всякие политические разговоры и, в частности, втолковываете им мысли о том, будто бы эта война для народа совершенно чуждая, не нужная и тому подобное. Вообще, как вы, наверное, знаете, за это полагается весьма суровое наказание. А здесь, на самой войне, вплоть до казни. Но, поверьте, мне бы очень не хотелось доходить до таких мер. Мы с вами земляки – москвичи. Вы, к тому же, друзья моей дочери. И поэтому я вас прошу, очень прошу, впредь никаких таких вольнодумных разговоров с солдатами не вести. Покровительствовать социалистической кружковщине я у себя в роте, во всяком случае, не намерен. Это вам мое первое и последнее дружеское предупреждение. В другой раз, обещаю, церемонничать не стану.
Мещерин с Самородовым стали еще ниже, – они, словно ошельмованные, совсем уж пригнулись к макушкам своих мохнатых осликов.
– А что касается войны… – помолчав, продолжал Тужилкин, – хотите – верьте, хотите – нет, но я, к примеру, безо всякой социалистической агитации понимаю, что это самая ненужная России война за всю ее историю. Здесь уже, в Маньчясурии, понял. Но вы вот в чем ошибаетесь, – по молодости-то своей, вы, возможно, этого не понимаете, – отдельные люди или даже целые правительства никогда не были вольны предотвратить войну. Не была вольна этого сделать теперь и наша верховная власть. Война всегда начинается, когда какой-либо народ переполняется энергией войны, и прекращается, когда эта энергия иссякает, когда она удовлетворена. В нынешней войне энергией переполнен наш неприятель. А у нас, у русских, как ее не было с самого начала, так все и нет. Но наше дело не думать об этом, наше дело военное – воевать. Насмерть, если потребуется.
– А может она еще появиться в нашей армии, – энергия-то? – робко спросил Самородов.
– Не думаю, – возразил Тужилкин. – Разве только выручит испытанное русское терпение. Если наше терпение превзойдет японскую энергию, может быть, только тогда не проиграем… Ну довольно об этом! Вам все ясно, что я сказал?
– Так точно, – покорно отозвались солдаты.
Постепенно дорога становилась все более людная. К полудню, когда Тужилкин и его спутники подъезжали уже к Мукдену, на дороге сделалось так просто тесно от людей. И в город, и обратно, обдавая их пылью, проносились вскачь офицеры и казаки, поодиночке и кавалькадой. Ехали телеги, двуколки и большеколесые китайские арбы, часто запряженные волами. Туда и обратно тянулись ослики, мулы, верблюды, груженные вьюками, иногда целыми караванами. Неторопливо шли русские солдаты. Проворно двигались китайцы, на которых порою нагружено было больше, чем на мулах, – с коромыслами на плечах, с саженными корзинами на спине, переполненными всякою кладью. Солдаты тащили из города кур, уток, гусей, какие-то кульки и узелки. Двигающиеся в сторону расположения русской армии телеги были загружены хлебом, зеленью, овощами. Казалось, все русское войско возвращается с гигантского базара. Или, напротив, самый базар едет в расположение русского войска.
Мукден, хотя и считался главным городом Маньчжурии, почти ничем не отличался от любого другого китайского города, разве более внушительными размерами. Снаружи – обычная грязно-желтая потрескавшаяся глинобитная стена с причудливыми башнями, внутри – лабиринт хижин, лавок, пагод. Единственное, что выделяло Мукден из ряда единообразных китайских городов, так это оставшийся от прежней его славы «священный город» маньчжурских правителей – квадратная крепость с дворцом и садами, со всех сторон окруженная «новым городом», превратившимся теперь в натуральный базар.
Тужилкин и его солдаты едва въехали в Мукден, так сразу и очутились в этом столпотворении, по сравнению с которым Сухаревка в базарный день может показаться почти безлюдной. От самых городских ворот уходила вдаль и пропадала в мареве подсвеченной солнцем золотой пыли прямая немощеная улица, без тротуаров, забитая людьми и животными, всадниками, повозками. Вдали улица напоминала пчелиный рой – гудящий и шевелящийся. Вопли людей и рев животных решительно не позволяли здесь никому относиться друг к другу, кроме как при помощи надрывного крика. По обе стороны улицы тянулись низкие фанзы, сплошь завешанные всякими товарами. Повсюду что-то жарилось, тушилось. Остро пахло чесноком, кипящим бобовым маслом. Почти перед каждой лавкой был вкопан столб с набитой на нем доской с иероглифами, обозначающими род торговли лавочника или ремесло живущего здесь мастера. На этих же столбах висели какие-то размалеванные деревянные рыбы и драконы, бумажные фонарики, обручи с лентами всех цветов. Изо всякой лавки проезжающим по улице русским пронзительно-истошно вопил китаец-хозяин: «Афисеря!», «Салдатя!», «Мая таваря харося!», причем он улыбался во всю ширь своего скуластого лица, так что глаза его совершенно исчезали в щелочках под бровями. Множество русских солдат, под предводительством своих фельдфебелей, здесь же закупали и грузили на телеги продовольствие – крупу, муку, зелень, сало – в мешках, в корзинах.
Обычно, если кто-то из офицеров ездил по делам в Мукден, другие офицеры сочиняли для него целый список всякого, чего он должен был им привезти. Также и сопровождающие его солдаты всегда исполняли уйму просьб своих товарищей.
Тужилкин и теперь запасся всякою снедью, – и для себя, и для других офицеров. Мещерин с Самородовым тоже довольно нагрузили своих ослов. Одного табаку они накупили с пуд. Ротный даже пошутил на это, что на отдыхе солдаты переводят табаку куда больше, чем на позициях. Покончив с продовольственным вопросом, Тужилкин направил свой караван к штабу армии: узнав, что он едет в Мукден, полковник поручил ему заодно передать в штаб какие-то бумаги.
Штаб главнокомандующего Маньчжурской армией генерала Куропаткина располагался в эшелоне и мог легко перемещаться с места на место. И сам Куропаткин, и его начальник штаба генерал Сахаров, и многие штабные жили в этом же эшелоне. Это было известно всей армии. И среди окопников – и солдат, и офицеров – постоянно шли разговоры о том, что-де главнокомандующий вместе со штабом в любой момент готов к бегству. Нет, говорили так, конечно, чаще всего в шутку, иронично. Но все-таки эта ирония подразумевала какое-то недоверие армии к главному командованию, выдавала некоторое сомнение людей в безусловной решимости штаба драться и побеждать. И, естественно, веру в победу такие разговоры у солдат отнюдь не укрепляли.
Чем ближе ротный и его солдаты подъезжали к железной дороге, тем чаще им встречались соотечественники. А уже у самых путей, там, где стояли военные эшелоны, слышалась единственно русская речь. Многолюдно здесь было почти так же, как и на мукденских улицах, только что крика меньше. Тужилкин разыскал штабной эшелон и, оставив своих провожатых возле постового, сам отправился в один из вагонов.
Хотя здесь, при главной квартире, и было довольно суетно, но все-таки на суету, царящую на улицах Мукдена, это массовое передвижение людей, коней, подвод, носилок с ранеными нисколько не походило. Здесь, очевидно, каждый знал свой маневр.
Должно быть, только что из очередного прибывшего из России эшелона разгрузилась казачья сотня: молодцы-донцы, по одному, по двое, друг за дружкой, выходили из этого многолюдья куда-то на простор, держа под уздцы своих лошадок.
Одеты казаки были во все новенькое, чистое, у каждого из-под лихо заломленной фуражки выглядывал роскошный чуб, свидетельствующий о том, что на войну прибыли новички, – бывалые маньчжурцы все уже были накоротко острижены. Казачки были веселы, задорны, какими обычно бывают люди, ступившие на твердую землю после многодневного путешествия на колесах. Для них все еще здесь было в диковину. Они с интересом рассматривали все вокруг, причем звонко перекликались между собой. Кто-то из них, увидев Мещерина с Самородовым с их навьюченными ослами, что-то сказал товарищам, и все они разом грохнули со смеху.
– Эй! землячки! – крикнул один из весельчаков. – Кони-то не слишком резвые для вас будут?
– Это местная горная порода! – отвечал Мещерин. – Вас теперь самих на таких пересадят!
– Да я скорей пешком, чем на такой породе!..
И снова все казаки дружно рассмеялись.
– Подождите, скоро не до смеху будет, когда с япошкой познакомитесь. Неискушенные, – потихоньку, будто самому себе, проговорил Самородов.
– А как с вошками познакомятся, так и кудри свои живо срежут. Красавцы, – отозвался Мещерин.
Едва прошли казаки, от станции к штабному эшелону направилась довольно большая группа офицеров. Мещерин с Самородовым вначале не придали им и значения, – идут и идут какие-то штабные, сверкают орденами и надраенными пуговицами: мало ли их тут ходит, – но заметив, как вытянулся, преобразился прямо весь вдруг постовой солдат, и они внимательнее вгляделись в этих людей.
– Слушай! да это ж сам Куропаткин со свитой, – прошептал Мещерин, вытягиваясь, как тот постовой, в сторону главнокомандующего. – Вот еще незадача. Додумался же ротный нас оставить у самого штаба с этими ослами.
– Ты про каких ослов? – не шевеля губами, насмешливо спросил Самородов.
– Про тех и других, – отозвался Мещерин, стараясь не улыбаться.
Куропаткин между тем обратил внимание на двух отдающих ему честь солдат, очевидно, прибывших с позиций. Все-таки глаз многоопытного военного безошибочно отличал окопников от вновь мобилизованных. Хотя на Мещерине с Самородовым и была надета новая форма. Главнокомандующий со свитой направился к ним.
– Здорово, молодцы, – шагов двенадцати еще не доходя до них, весело сказал Куропаткин. – Откуда будете? На всю роту запаслись, поди? – Он кивнул на их нагруженную потешную тройку, поникшую головами, – тоже, верно, почувствовавшую начальство.
Прокричать ответное приветствие солдаты не успели – в ту же секунду между ними и главнокомандующим вырос Тужилкин. Увидев издали, что к Мещерину и Самородову направляется сам Куропаткин со свитой, он со всех ног бросился к своим солдатам.
– Ваше высокопревосходительство! Командир двенадцатой роты Можайского полка штабс-капитан Тужилкин. Прибыл с донесением из штаба полка! – отрапортовал он.
Главнокомандующий на секунду задумался, припоминая, верно, где именно действует у него этот полк и кто там командир. И, вспомнив, совсем обрадовался:
– Как же! Наслышан! Генерал Зарубаев только о вас и говорит который день уже. Это ваши герои, штабс-капитан?
– Так точно! Из моей роты. Сопровождающие.
Куропаткин подошел поближе к Мещерину и Самородову и внимательно посмотрел на того и другого – в самые глаза им заглянул.
– Скажите-ка мне, бывалые воины, – спросил он их, – как вы думаете, почему мы японцев до сих пор не побили? Есть у солдат на этот счет какие-то свои соображения? – И, видя, что нижние чины не решаются ему отвечать, добавил: – Ну смелее. Ничего, кроме пользы, от вашего ответа не будет. Надо и главнокомандующему знать, а как же солдаты сами понимают, отчего все никак успех не дается. Генералы, поди, виноваты?..
Мещерин с Самородовым вопросительно оглянулись на своего ротного, и тот кивнул им головой, показывая, чтобы они отвечали.
– Никак нет, ваше высокопревосходительство, – заговорил Мещерин, – не так уж генералы и виноваты… хотя не без этого…
– Так, так… – заинтересовался солдатскими рассуждениями Куропаткин. – Спасибо и на том. Тогда в чем же дело?
– Но я вот что скажу, – совсем осмелел Мещерин, – у самих солдат нету никакого интереса в этой войне. Был бы интерес, мы бы и без генералов япошек разогнали. Виноват! – хватился он.
– Ничего, ничего, – успокоил его Куропаткин. – Ты разумно говоришь, братец. До войны-то чем занимался?
– Мы с другом были студентами…
– Это одни из лучших моих солдат, – похвалился Тужилкин. – Они и по-китайски могут, когда нужда. Научились уже.
Куропаткин нахмурился, услышав это.
– А вот это даже лишнее… Видите ли, в чем дело, – он обратился к Тужилкину и к обоим солдатам, – среди китайцев могут быть шпионы, собирающие для нашего противника сведения о русской армии. Поэтому лучше бы с ними со всеми вообще не разговаривать. Иное неосторожно оброненное слово может затем обернуться для нас бедствием, стоить кому-то жизни. Помните об этом.
И Куропаткин направился к своему вагону. Свита потянулась за ним. Ротный и его солдаты замерли, готовые стоять смирно и провожать главнокомандующего взглядом до тех пор, пока тот не скроется из виду. Но тут к ним обратился кто-то ИЗ СВИТСКИХ:
– Ну здравствуйте, друзья мои. Вот уж не чаял свидеться. Тесен мир, что и говорить…
Перед Мещериным и Самородовым собственною персоной стоял Александр Иосифович Казаринов. Он был одет в военную форму, только без погон и без каких-либо знаков на кителе и на фуражке.
– Александр Иосифович! Вы ли это? Какими судьбами? – Изумленные друзья бросились к Казаринову, обрадовавшись ему, как самому дорогому на свете человеку. Мещерин теперь и думать забыл о последнем их свидании – тогда, в Кунцеве, на даче у Дрягалова, – завершившемся, прямо сказать, не вполне дружески.
– Служу! – гордо отвечал Александр Иосифович. – Русский патриот, благородный человек не может оставаться в тылу, когда его страна сражается насмерть, когда его народ проливает обильно кровь. – И, видя, что собеседники так и не понимают, что именно за службу он здесь исправляет в своем полувоенном костюме, Казаринов добавил: – Я уполномоченный московского дамского комитета о раненых.
– Дамского? – переспросил Мещерин.
– Совершенно верно. Дамского. Но пусть вас это не смущает. Дамы остаются в тылу. На войну едут мужчины.
– Господа! – хватился Самородов. – Но позвольте же вас представить друг другу. Ваше благородие, – обратился он к Тужилкину, – это наш добрый московский знакомый Александр Иосифович Казаринов.
– Кстати, – подхватил Мещерин, – дочка Александра Иосифовича, Таня, была очень дружна с вашей Лизой.
– Штабс-капитан Тужилкин. – Ротный приложил ладонь к козырьку и подал Казаринову руку.
Александр Иосифович также представился.
– Я, признаться сказать, мало знал подруг своей дочери, – для чего-то немедленно заверил он Тужилкина. И тотчас сменил тему: – Но послушайте, господин штабс-капитан, у меня к вам вот какое дело имеется. Я теперь крайне нуждаюсь в людях. Сам главнокомандующий очень сочувственно относится к действующим здесь учреждениям Красного Креста и заинтересован в расширении нашей деятельности. И мне хотелось бы попросить вас, если, конечно, вы не возражаете, передать этих ваших двух молодцов в мое распоряжение. Скажите, где вы квартируетесь, и к вам завтра же доставят соответствующий приказ из штаба.
Тужилкину, очевидно, вначале эта просьба пришлась не по душе, – конечно, какому командиру охота по начальственному соизволению отдавать лучших своих людей – испытанных, обстрелянных, в которых он уверен, как в самом себе! Какова еще будет им замена? Да и будет ли вообще? Найдется ли во всей армии теперь хоть одна вполне укомплектованная рота? Едва ли. Какого ротного ни спроси, всякий только и жалуется на недокомплект.
– Мне, сказать по правде, жаль отдавать солдат, – отвечал Тужилкин. – Но должны же и мы как-то помогать Красному Кресту. Не все только от него ждать помощи. Не так ли? А ваша деятельность на войне важна не меньше нашей – ратной. Хорошо, присылайте приказ, и я сразу же отправлю их обоих к вам.
– Вот и славно, – обрадовался Александр Иосифович. – Как приятно иметь дело с разумным, решительным человеком. Итак, до скорой встречи, друзья мои. – И он по-военному откозырял Мещерину с Самородовым.
Глава 2
С начала войны и до августа месяца русская армия, не считая беспрерывных боев на Квантуне у Порт-Артура, дала несколько сражений: на Ялу, у Вафангоу, у Тишичао, у Симучена. Но все эти дела решительного значения для кампании иметь не могли, потому что участвовали в них лишь отдельные корпуса и дивизии – равно русские и японские, – разбросанные по Южной Маньчжурии. Увы, русские кругом уступали неприятелю поле боя. Но при этом разбиты ни в одном из этих сражений не были. Если понимать поражение как окончательную потерю одной из противоборствующих сторон способности к дальнейшим боевым действиям, как это было, например, под Аустерлицем или под Седаном, то, можно сказать, русские не потерпели ни одного поражения. Во всех случаях русские полки отходили, представляя для неприятеля не менее грозную силу, чем в начале сражения. И, что любопытно, практически всегда японцы позволяли противнику уйти беспрепятственно. Так в деле у Вафангоу они вполне имели возможность охватить русских фланговым движением. И даже начали было охватывать. Но действовали так медленно, так нерешительно, словно только изображали видимость маневра, нисколько не намереваясь осуществлять его вполне, а имея в виду лишь понудить барона Штакельберга отвести свой корпус от греха подальше. И уж само собою не преследовали его.
Маршал Ояма и его командующие армиями, считавшиеся учениками и последователями Мольтке и как будто всегда пытавшиеся, по подобию своего учителя, применить фланговый охват, вполне повторить Седан, кажется, сами же и страшились. Но, может быть, в этом-то и был их расчет, их военная мудрость: все верно, противник, доведенный до отчаяния, бьется исключительно жестоко, насмерть, и цена такой победы чаще всего несоизмеримо выше, нежели если бы он просто отступил подобру-поздорову.
Почти во всех этих невеликих сражениях потери русских несколько превосходили японские. Но они не шли ни в какое сравнение с теми, что терпели японцы у Порт-Артура. К концу августа потери армии генерала Ноги, осаждавшей Порт-Артур, составили двадцать тысяч убитыми и ранеными. В то время как потери защитников крепости за это же время не превысили шести тысяч. И, таким образом, в целом по потерям кампания пока складывалась в пользу России.
Это давало основание русскому главному командованию, в общем-то, оптимистически оценивать дальнейший ход войны. Отступление – это отнюдь еще не поражение. Кстати, переход Суворова через Альпы, который в российской военной истории неизменно почитается выдающимся подвигом, блестящим успехом русского оружия, равным Полтаве и Бородину, в сущности, был не чем иным, как отступлением. Нынешний же отход разрозненных русских корпусов к северу от побережья Желтого моря и сосредоточение их единою массой у города Ляояна не могло не напоминать генералам аналогию столетней давности – ретираду Барклая и Багратиона в 1812 году и соединение их в единую армию в Смоленске. Тогда этот маневр имел отменно положительное значение для всей кампании: он, возможно, сделался первым шагом на пути России к победе. Точно таким же образом можно было оценивать и действия русского войска в Маньчжурии: после нескольких локальных боев с более подготовленным противником, отступив и соединившись воедино, теперь наверно армия сможет успешно противостоять японцам.
У Ляояна генерал Куропаткин решился наконец дать японцам бой всеми имеющимися у него силами. По его замыслу это сражение должно было начаться как оборонительное. Но при благоприятных обстоятельствах не исключалось и наступление. В телеграмме главнокомандующему вооруженными силами на Дальнем Востоке адмиралу Алексееву накануне сражения генерал Куропаткин писал, что главною своею задачей он ставит « сосредоточение армии с прочно обеспеченными путями, стоя на которых спокойно выжидать подкреплений, пользуясь в то же время всеми случаями возможности для перехода в частные случаи наступления для поражения противника по частям».Разумеется, переписка военачальников между собой отнюдь не требует патетики, высокого стиля, как это делается обычно в обращении к войску перед битвой, имеющем целью воодушевить солдата, возжечь его пламенною страстью победить или, если придется, лечь костьми на пользу отечества, и все-таки намерение генерала Куропаткина «пользоваться в то же времявсеми случаями возможности для перехода в частные случаи наступления» сформулировано так убого, с такою очевидною неуверенностью, что, кажется, относительно его намерений действовать решительно не может быть никаких сомнений: Куропаткин меньше всего полагал наступать и вообще попытаться как-то завладеть инициативой. Нередко, впрочем, бывает, что и доблестная оборона, стойкое сидение в осаде, оборачивается победой. Так, Наполеон, не одолев сопротивления защитников Сен-Жан д'Акра и отступившись от этой крепости, по существу, проиграл свой египетский поход. Но, увы, как показало Ляоянское сражение, генерал Куропаткин, хотя у него и были прочно обеспеченные тыловые пути, не сумел и оборону удержать достойно. И в конце концов отступился перед меньшим по численности противником. А всего маршал Ояма выставил против него сто тридцать тысяч человек. В то время как русского войска под Ляояном собралось сто шестьдесят тысяч.
Маньчжурская армия генерала Куропаткина занимала позиции полукольцом вокруг Ляояна преимущественно на левом южном берегу реки Тай-цзы-хэ. Невеликая река эта, протекающая с востока на запад, большую часть года оставалась настолько мелководною, что практически не являлась препятствием для движения войск: едва ли не в любом месте она была проходима вброд. Но как раз в августе, в период доящей, вода в Тай-цзы-хэ поднималась, и река делалась довольно своенравною. К тому же вблизи Ляояна в нее впадали две небольшие речки: несколько выше города слева Тан-хэ, а чуть ниже справа – Ша-хэ.
Резонно полагая, что река теперь может служить ему естественным прикрытием, генерал Куропаткин располоясил армию таким образом, чтобы фланги русских позиций упирались в Тай-цзы-хэ. Кроме того, имея в виду, что выше речки Тан-хэ Тай-цзы-хэ все-таки не такая уж и непроходимая и при некоторых усилиях японцы могли бы ее преодолеть и таки зайти ему в тыл, Куропаткин удлинил свои позиции слева еще и на северном берегу: он поставил там 17-й армейский корпус барона Бильдерлинга.
Итак, русская армия выстроилась на битву в таком порядке. На правом фланге стоял 4-й Сибирский корпус, которым командовал генерал-лейтенант Зарубаев, за ним следовал 1-й Сибирский корпус генерал-лейтенанта барона Штакельберга, дальше шли позиции 2-го Сибирского корпуса генерал-лейтенанта Засулича. Эти три корпуса составляли Южную группу, или Южный фронт, Маньчясурской армии. Общее командование этою группой объединено было под начальством генерала Зарубаева. Далее шли корпуса Восточной группы, которою командовал генерал от кавалерии барон Бильдерлинг: 3-й Сибирский корпус генерал-лейтенанта Иванова, 10-й армейский корпус генерал-лейтенанта Случевского, и за рекой замыкал русские позиции упомянутый уже 17-й корпус. Из Мукдена в это же время к Куропаткину еще шел резервный 5-й Сибирский корпус. Русский фронт, как стороны обороняющейся, был выгнут наруясу. Вся его длина составляла семьдесят верст.
Фронт японский охватывал русские позиции и, соответственно, был длиннее: он простирался на все сто верст. Против Южной русской группы стояли 2-я армия генерала Оку и 3-я армия генерала Нодзу. А против 3-го и 10-го корпусов Восточной группы находилась 1-я армия генерала Куроки.
Решившись давать здесь сражение, Куропаткин сказал: от Ляояна не уйду! Эти его слова мигом облетели армию и очень всех воодушевили. Когда начальство настроено решительно, то и у подчиненных появляется уверенность. Куропаткину это хорошо было известно. И хотя сам он решительно настроен отнюдь не был, но, как человек, действительно очень неплохо знающий военное искусство, особенно теорию, имеющий большой опыт штабной службы и понимающий, какое значение в сражении имеет настроение солдата не уступить неприятелю, Куропаткин не мог не позаботиться как-то возбудить духом свою армию.
Главнокомандующий направил 10 августа генералу Зарубаеву следующее предписание: «Ввиду подходящих к нам подкреплений (5-го Сибирского, 1-го армейского и 6-го Сибирского армейского корпусов), предлагаю Вашему Превосходительству усиленно заняться разработкой соображений по переходу в наступление Южною группой корпусов. Общею целью действий армии ставится поражение противника на театре войны. Приступая к выполнению этой задачи, ближайшею целью действий является армия Куроки, которую, ввиду ее выдвинутого положения, для обеспечения левого фланга нашей южной операционной линии, необходимо разбить и отбросить, что ставится задачей войскам Восточного фронта и 5-му Сибирскому армейскому корпусу».
Сколько именно русский главнокомандующий намеревался разрабатывать соображения по поводу перехода в наступление целого фронта? По всей видимости, имелись в виду не часы. А скорее дни. Но неужели он полагал, что японцы так и будут ждать, пока противник разработает эти свои соображения?
Конечно, японцы ждать не стали. Куроки, который, по замыслу русского главнокомандующего, должен быть в ближайшее время разбит и отброшен, сам перешел в наступление. Уже в ночь на 11 августа гвардейская дивизия генерала Хасега-вы атаковала правый фланг 3-го Сибирского корпуса генерала Иванова. Ляоянское сражение началось.
И сразу наступательное предписание генерала Куропаткина потеряло всякий смысл: неприятель захватил инициативу, и теперь надо было думать не о нападении, а о том, как бы лучше от него отбиться.
Утром Куроки начал атаку и на центр 3-го Сибирского корпуса. Японская бригада легко преодолела линию русского сторожевого охранения, но самый корпус Иванова сдвинуть не смогла. В виду расположения русских японцы стали окапываться и подтягивать артиллерию.
Эти их действия были приняты русским главным командованием за подготовку к решительному наступлению. Куропаткин именно так и подумал. И поторопился направить в подкрепление генералу Иванову дивизию из резерва. На самом же деле на правом фланге и в центре 3-го Сибирского корпуса японцы лишь производили демонстрацию, отвлекая внимание от направления своего главного удара – на позиции 10-го корпуса генерала Случевского.
Вечером 12 августа две японские дивизии, состоящие каждая из двух бригад, начали наступление на 10-й корпус. Одной из японских бригад, подкрепленной резервным полком, удалось ночью пройти вдоль Тай-цзы-хэ и начать охватывать левый фланг Случевского. Довольно успешно действовали японцы и на правом фланге русского корпуса: там одна их бригада сбила русских с передовых позиций на очень важном по своему значению перевале, а другая оттеснила противника, атаковав его ночным штыковым ударом. В результате чего правый фланг русского корпуса оказался в совершенном замешательстве и утратил всякое управление. И введи здесь японцы в дело хоть какие-нибудь дополнительные силы, прорыв их мог бы стать весьма значительным, вплоть до катастрофы Маньчжурской армии.
Утром генерал Случевский обратился к барону Бильдерлингу с просьбой о немедленном подкреплении. Но, не получив такового от начальника Восточного отряда, начал отходить всем корпусом на тыловую позицию.
Не прекращалась одновременно с этим и атака японцев на корпус генерала Иванова. В ночь на 13 августа дивизия генерала Хасегавы возобновила наступление. Зная уже об успехе соседей справа, Хасегава решился развить его и на своем направлении. На рассвете японцы начали артиллерийский обстрел русских позиций. Но, встретив в ответ энергичный огонь русских батарей, японская артиллерия, неся значительные потери, умолкла. Невзирая на победу русских в артиллерийской дуэли, Хасегава бросил в атаку обе свои бригады. Одна из них пыталась обойти правый фланг корпуса Иванова. И опять же, получись у японцев этот маневр, сражение могло закончиться много раньше, и куда более печально для Маньчжурской армии, нежели оно закончилось в результате. Но японская бригада была отбита с огромными для нее потерями.
В это самое время от Ляояна в помощь генералу Иванову двигался 140-й Зарайский полк. Путь его лежал приблизительно к центру позиций 3-го Сибирского корпуса. Но, узнав о том, что японцы обходят фланг корпуса, командир полка полковник Мартынов, не раздумывая и не согласовывая свои действия ни с кем из начальства, переменил направление движения и всем полком ударил во фланг японской бригаде. Если бы Мартынов вздумал прежде испросить разрешения совершить этот дерзкий маневр, то, скорее всего, ему бы еще и не позволили этого делать. Но даже если бы и позволили, то, пока это позволение, пройдя все согласования в штабах корпуса, фронта, а то и самой армии, дошло бы до Мартынова, ему уже нужно было бы не наступать, а бежать, вместе со всею Восточною группой. К счастью, этот полковник оказался человеком решительным и инициативным, не боявшимся взять на себя ответственность. Зарайцы действовали так лихо и так неожиданно для неприятеля, что японская бригада, даже не пытаясь как-то организовать сопротивления, бежала в полном беспорядке, неся при этом значительные потери.
На этот раз уже у русских был верный случай наконец-таки разбить и отброситьармию Куроки. Но никто из русского командования не поторопился поддержать блестящий успех Зарайского пока. А сам Мартынов не стал продолжать наступления, потому что получил ложное донесение о скоплении впереди крупных неприятельских сил. Не получи Мартынов этих сведений, он бы и одним своим полком вполне мог добить расстроенную, понесшую большие потери японскую бригаду.
Не вышла атака и второй бригады Хасегавы по центру 3-го корпуса: она была отбита огнем русской артиллерии. Разразившийся вслед за этим затяжной ливень прервал бой русской Восточной группы с 1-ю японскою армией.
Итак, боевые действия к востоку от Ляояна не дали ощутимого перевеса ни одной из сторон. Если японцы вынудили генерала Случевского оставить исходные позиции и несколько отойти, то от корпуса генерала Иванова, напротив, они сами едва не потерпели поражения.
В этой трехдневной схватке не было победителя. Но был выигравший. В выигрыше оказался японский генерал Куроки. Он приобрел самое, может быть, важное, что может приобрести полководец, – бесценный военный опыт. Генерал Куроки в эти дни понял, что пытаться одолеть русских, имеющих превосходную артиллерию и перевес в штыках, лобовыми атаками – занятие абсолютно бессмысленное. Для достижения настоящего успеха ему необходим только какой-то экстраординарный маневр, хотя бы и явная авантюра, – но лишь так можно будет переломить сражение в свою пользу. Командующий 1-ю японскою армией не только приобрел опыт, но и сумел им распорядиться с наибольшею выгодой. Что для полководца еще важнее. И несколько дней спустя Куроки совершит этот свой довольно авантюрный маневр, в результате которого русские все-таки отдадут неприятелю ляоянское поле боя.
Сражение южнее и западнее Ляояна, где двум японским армиям противостояла Южная группа генерала Зарубаева, началось позже более чем на сутки – утром 12 августа. Естественно, боевые действия и той и другой стороной здесь велись с оглядкой на происходящее на востоке. И едва отступил Случевский, Куропаткин отдал приказ всей армии отходить на приготовленные прежде тыловые позиции вблизи Ляояна. Хотя на юге за два дня японцы нисколько не потеснили ни один из корпусов Зарубаева. Разве что согнали со своих мест авангарды и, приблизившись к русским позициям, изготовились для последующего удара.
Лило как из ведра. Такого бездорожья, что установилось в Маньчжурии, русские – народ, вовсе не избалованный удобопроходимыми путями, – дома не знали и в самую несносную распутицу. В какие-то часы поля кругом превратились в болота, проселки – в реки. Солдаты, вымокшие до нитки, отходили, по колено увязая в размокшей глине, и еще помогали артиллерии – несли каждый на себе по снаряду. Артиллеристам же, хоть и с помощью инфантерии, приходилось много труднее: лафеты с пушками уходили в грязь по ступицы, и от лошадей проку было мало – они сами-то едва выпрастывали ноги из глубокого месива, то и дело спотыкались, падали, – тогда брались сами бравы ребятушки – кто за гуж, кто лафет подхватывал, кто наваливался на колеса – и, иной раз только что с «Дубинушкой», вытягивали свою пушку. Мортиры, те вообще нечего было и думать выкатить, – их устанавливали на гигантские полозья и тянули по грязи не меньше чем целою ротой.
Но, как говорится, нет худа без добра. Если переход на новые позиции русским давался с неимоверными трудностями, то японцам нисколько не легче было преследовать противника. К тому же они и не преследовали. Они вообще не ожидали этой ретирады. Спустя ночь после отвода русских корпусов ближе к Ляояну японцы начали артиллерийский обстрел противной стороны, нимало не подозревая, что стреляют по оставленным позициям. И, только не встретив ответного огня, они потихоньку, крадучись приблизились к русским окопам. Там не было ни души. Маньчжурская армия отошла тихо и незаметно.
На некоторое время по всему фронту установилось затишье: русские устраивались на новых позициях, а японцы подтягивались и окапывались ближе к противнику.
Можайскому полку достались окопы, устроенные основательно, право же, на совесть – глубокие, просторные, с амбразурами в бруствере и, главное, с далеким обзором. Конечно, подработать чего, поправить где на свой лад, – солдату всегда дело отыщется. Не без этого. Но в целом позиции были добротные. Вроде прежних. Тех, что оставили давеча.
Но, едва уже обустроив новое место, молодцы тотчас попадали в окопах и заснули. Они которую ночь не спали. Ночью командиры обычно не позволяли своим солдатам хотя бы глаз сомкнуть. Но днем, если, очевидно, не ожидалась атака со стороны неприятеля, офицеры не возражали, если измученные вконец люди и поспят часок-другой.
Правее расположения Можайского полка была долина с разбросанными по ней, среди холмов и зарослей гаоляна, деревнями, белыми домиками своими издали напоминающими малороссийские. Слева к юго-западу тянулся горный хребет. В начале сражения по этим горам проходила линия обороны Восточной группы барона Бильдерлинга. Но теперь они перешли в руки японцев. И представляли собою удобные позиции для обстрела русских.
Не меньшая опасность угрожала русским и из долины, где стояли две японские армии: единственное для обороняющихся преимущество этого направления – простор наблюдения за неприятелем – служило на пользу лишь днем, ночью же долина была даже опаснее гор, – решись японцы ночью атаковать, а это был их излюбленный прием, они по ровной местности могли приблизиться к расположению противника куда стремительнее, чем даже если бы спускались под гору.
Пока нижние чины отдыхали, командир полка полковник Сорокоумовский собрал у себя в палатке всех своих батальонных и ротных и объявил, что, по сведениям из штаба корпуса, на их участке ожидается наступление крупных неприятельских сил. Чтобы проверить эти сведения корпусное начальство распорядилось Можайскому полку произвести ночью сколько возможно глубокие разведки в расположение японцев и представить в штаб сведения об их числе, а по возможности причинить им и всякие диверсии. Полковник приказал всем своим ротным для этой цели подобрать по двенадцати охотников от каждой роты, – разумеется, это должны быть самые ловкие, самые отчаянные солдаты. Из них надо было собрать три команды, которые, под предводительством лучших в полку офицеров, пробрались бы в места сосредоточения японцев, разведали о них разные сведения и произвели бы там переполох. Если японцы замыслили на эту ночь или на утро атаку, то такая мера должна ее если не предотвратить, то по крайней мере ослабить.
Охотников прогуляться «до япошки», как говорили солдаты, нашлось много больше, чем требовалось. И предводители отрядов уже среди них отбирали, кого они считали лучшими.
Один из таких отрядов командир 12-й роты штабс-капитан Тужилкин решился возглавить лично. Недавно прибывшему в полк и получившему роту, ему не терпелось проявить себя, а заодно поближе познакомиться с людьми, с которыми ему предстояло воевать. Пока о нем в полку никто толком ничего не знал. А близких знакомств он ни с кем заводить не спешил. Известно было лишь, что он из Москвы, что он довольно давно уже не на действительной, а призван из запаса. Крест на груди свидетельствовал о его прежней ревностной службе. Вот, пожалуй, и все, что можно было о нем сказать.
Тужилкин выбрал с собою в разведки одного офицера, необходимого, чтобы, если придется, заменить его, – взводного командира поручика Фон-Штейна, фельдфебеля Стремоусова, унтера Сумашедова, Мещерина с Самородовым, полагая, что земляки уж расстараются не подвести его, веселого удальца Ваську Григорьева, который хоть и молод был, но опыта имел побольше прочих в роте, потому что воевал еще с Тюренчена, великана Дормидонта Архипова, также воюющего с начала войны, взял своего ординарца Игошина, самого смекалистого и расторопного солдата в роте, и еще человек тридцать из разных взводов и из других рот.
Всем охотникам, кроме того что они были вооружены винтовками, раздали наганы. Штыки Тужилкин велел замотать тряпками, чтобы не дай бог не блеснули где-нибудь в неподходящий момент и не выдали их.
Чтобы иметь впотьмах ориентир, было придумано на линии расположения полка развести три костра – посередине, на правом фланге и между ними. Тогда группы даже издали могли бы легко сориентироваться, где именно они находятся относительно своих окопов.
Вышли команды около полуночи. Тужилкин повел своих людей к деревне, находящейся от русских позиций верстах в четырех. Выбрал он ее не случайно. Зоркий Игошин, безо всякого бинокля видевший дальше, чем его командир в свой «Hensoldt», докладывал ротному днем, что-де разглядел, как японцы туда подвозят батарею.
Японские позиции представляли собою три линии укреплений. Главная линия состояла из сплошного глубокого окопа, построенного зигзагами и приспособленного для ведения из него ярусного огня. Часто перед главной линией имелись проволочные заграждения и засеки, устроенные обычно там, где, по мнению японского командования, их позиции были наиболее уязвимы в случае атаки противника. Позади пехоты, саженях в трехстах – четырехстах, стояли батареи, как правило, замаскированные. А впереди расположения главных сил, на расстоянии полуверсты, находились отдельные сторожевые окопы. Между аванпостами пространство было таково, чтобы солдаты могли в случае чего докричаться до соседей.
Охотникам была поставлена цель по крайней мере пробраться к батареям неприятеля. А если случится, то и дальше. По плану, придуманному в штабе полка, группы должны были действовать в следующим порядке: пройдя тихо и незаметно первую линию японских сторож, к главному сплошному окопу подобраться уже исключительно ползком, прямо-таки, если выйдет, к самому гласису. И затем, положившись единственно на Божие благоволение, решительно преодолеть эту линию, не теряя ни единой секунды. Вряд ли здесь удастся обойтись без схватки. Но если эта схватка будет стоить русскому отряду хотя бы и до четверти людей, то можно считать переход через неприятельские позиции выполненным удачно. После чего остается только убежать от преследования. Для этого лучше всего, пользуясь темнотой, тотчас переменить направление движения и постараться укрыться где-нибудь в ближайших зарослях гаоляна. А уже дальше действовать по обстоятельствам.
Если на главных японских позициях команду встретят превосходные вражеские силы, которые без значительных потерь пройти не удастся, то тут уж остается только возвращаться назад. А случись, что прежде отряд выйдет прямо на японский дозор, тогда ничего не остается, как очень быстро и опять же бесшумно истребить его. Если же дозору паче всякого чаяния удастся поднять тревогу, то группе продолжать движение напрямик нельзя уже будет ни в коем случае, – тогда ей следует пройти между передовой и главной японскими линиями где-нибудь с версту, что очень опасно и, в сущности, безнадежно, и уже там пытаться преодолевать основной окоп.
Как стемнело, все три команды отправились в рейд в неприятельский тыл. Тужилкин построил свою группу в две колонны, на расстоянии шагов пятнадцати одна от другой. Впереди шел он сам и его верный Игошин.
Они благополучно миновали японские дозоры. То есть не повстречались с ними. Еще немного пройдя, Тужилкин приказал всем лечь на землю и дальше уже двигаться ползком. Так они приползли к проволочным заграждениям. До главной японской позиции, выходит, оставалось несколько десятков сажень.
– В обход бы надо, ваше благородие, – прошептал кто-то. – Не пройдем здесь.
Но у Тужилкина было иное мнение. Он решил именно здесь и идти. Потому что, где нет заграждений и засек, там окопы более неприступные – там больше людей, там может быть и пулемет. Сунуться туда – верная погибель. И он велел Игошину ползти первому и прокладывать путь остальным – перекусывать проволоку. Все прочие должны были двигаться за ним по одному, цепочкой.
Когда Игошин уже прошел под заграждениями, а последний из команды – это был фельдфебель Стремоусов – только пополз в проход, где-то справа, совсем близко, не более чем в полуверсте, ударил выстрел, за ним другой, третий, и там началась такая перепалка, будто сошлись два батальона. По всей видимости, одна из групп бросилась преодолевать главный окоп, да встретила там большие силы японцев. Стрельба продолжалась не более минуты. Скоро выстрелы зазвучали реже, а потом и вовсе прекратились. В лучшем случае русский отряд отступил. А то и вообще погиб весь. Но эта минута, прервавшая гробовую тишину, при которой боязно было сделать хотя бы одно движение, – так и казалось, что слышно будет на всю долину, – эта минута очень помогла отряду штабс-капитана Тужилкина. Его люди успели быстро, уже не опасаясь наделать шума, проползти под проволокой и приблизиться к японскому окопу для последнего броска.
Медлить было нельзя. Японцы могли догадаться о замысле русских и поднять тревогу по всей линии.
– Ребята, вперед! – вполголоса, отрывисто скомандовал он.
Все разом вскочили и бросились на гласис. Из окопа в их сторону раздалось три или четыре выстрела. Не больше. В следующее мгновение команда попрыгала в темный окоп штыками вперед, и все, кто там находился, были переколоты.
Но в окопе японцев было немного. Тужилкин знал, что если японцы в самое ближайшее время не наступают, то на ночь они оставляют на главных позициях незначительную часть состава, – в сущности, тех же дозорных. А главные их силы сидят в блиндажах, саженях в тридцати позади зигзага.
Само собою, в блиндажах уже все переполошились. Медлить Тужилкину нельзя было ни в коем случае. Сейчас из блиндажей, как растревоженные осы из земляных нор, посыплются японские взводы.
Тужилкин, уже не сдерживая голоса, крикнул:
– Вперед!
И первым устремился прочь из окопа. Солдаты бросились за ним. Несколько японцев, попавшиеся им на пути, тут же и легли, пронзенные русскими штыками.
В это время послышалась стрельба слева. Это, видимо, прорывалась третья группа охотников. И теперь уже японские окопы окончательно ожили. Выстрелы стали раздаваться повсюду. Забил поблизости пулемет. Слышались крики. На всякий случай где-то ухнула разок гаубица. Но для Тужилкина и его группы это все уже не имело значения – они прорвались.
Сориентировавшись по кострам на русских позициях, – а чтобы разглядеть их из гаоляна, дюжий Дормидонт Архипов, как в цирке, на плечах поднял Игошина поверх зарослей, – Тужилкин повел свою команду к деревне, которую он давеча приметил. Главною его задачей было разыскать японскую батарею. За этим и шли. Но разыскать ее впотьмах – нечего было и думать. Поэтому штабс-капитан решил прежде найти кого-нибудь провожатым, – если потребуется, силой его захватить.
Тужилкин верно рассчитал местоположенье деревни, и вскоре отряд вышел к невысокой глинобитной стене, какими в Китае обычно бывают опоясаны крестьянские фанзы. Хотя по пути они и не встретили ни одного человека, и вообще ничто не выдавало присутствия в деревне неприятеля, Тужилкин все-таки велел четырем своим молодцам – унтеру Сумашедову, Мещерину, Самородову и Григорьеву – разведать, свободны ли фанзы за стеной от постоя японцев.
Разведчики возвратились скоро. Они докладывали, что японцев в деревне как будто нет. Во всяком случае, они не видели перед фанзами ни одного поста. А японцы обычно на биваках не скупятся на постовых.
Отряд по команде Тужилкина разом перемахнул через стену. Расставив по стене и у ворот наблюдателей, штабс-капитан с несколькими охотниками подкрался к самой большой и богатой фанзе в деревне. Хотя богата она была весьма относительно: та же соломенная крыша, что и на прочих, разве повыше и поновее, те же широкие решетчатые окна, заклеенные бумагой, шест перед входом со свиными кишками на верхушке – оберег от сглазу, что ли? или жертва домашним духам? или еще какая китайская причуда?
Они потихоньку подошли к дверям. Тужилкин велел Игошину зажечь факел, а Архипову выломать двери, по возможности не производя шума. Но китайские двери и не могли наделать большого шума, – едва Дормидонт на них надавил, так обе створки, тоже чуть ли не бумажные, и ввалились внутрь.
Перед ворвавшимися в фанзу русскими предстала такая картина: на кане, проходящем вдоль трех стен, лежали цепочкою – голова к голове, ноги к ногам – китайцы, числом до дюжины. Пробудившись от топота незваных ночных гостей, они все как один – от малых до старых – вскочили и пронзительно запричитали, полагая, верно, что солдаты пришли по их душу.
– Самородов, скажи им, что мы их не тронем, – поскорее приказал Тужилкин.
Услыхав перевод, китайцы все разом успокоились.
Штабс-капитан внимательно их оглядел и остановил взгляд на главе, по всей видимости, семьи – тщедушном сгорбленном старце, почти лысом, с жидкою белою косичкой на затылке.
– Спроси у него, – сказал он Самородову, – где японские пушки? куда они поставили батарею?
В ответ китаец, сложив в лодочку свои маленькие ладошки и еще больше сгорбившись, стал божиться, что он ничего не знает и что они бедные крестьяне, и сами натерпелись от злых японцев, и очень любят русских, и рады бы им помочь, кабы знали как…
Тогда Тужилкин выхватил у Игошина из рук факел, поднес его к самому лицу старика и грозно произнес:
– Если сейчас же нам кто-нибудь не покажет, где японская батарея, я велю подпалить деревню! Всю! До последнего двора!
Китаец рухнул на колени и запричитал совсем уже жалобно.
– Он говорит, – перевел Самородов, – что никогда в жизни не видел ни одной японской пушки…
– Не видел?! – уже гневно воскликнул Тужилкин. – Игошин! ты видел давеча пушки у этой деревни?
– Так точно, ваше благородие! – выпалил ординарец.
– Самородов! скажи ему, – штабс-капитан кивнул на китайца, – я в последний раз спрашиваю: где стоит японская батарея?!
Старик и на этот раз не ответил. Он качался из стороны в сторону, хныкал, бил себя по щекам, надеясь, верно, разжалобить своих истязателей.
Больше не говоря ни слова, Тужилкин отступился от старика, – он огляделся кругом, выбирая, чего бы поджечь, и поднес факел к свесившийся с кана соломенной рогоже, служившей неприхотливым китайцам периною. Рогожа тотчас вспыхнула.
Вся семья дружно взвыла. Дети бросились спасаться, но не к двери и не к окнам, а почему-то по углам.
Тогда старик что-то пролепетал одному из домочадцев – молодому китайцу, может быть, своему сыну, – тот сразу же подбежал к Тужилкину и принялся взахлеб о чем-то ему говорить и куда-то показывать руками.
– Он говорит, что знает, где батарея, и может проводить нас, – перевел Самородов.
– Вперед! за мной! – крикнул Тужилкин и толкнул молодого китайца к двери. – Игошин! туши огонь!
Расторопный Игошин сорвал пылающую рогожу на пол, быстро затоптал пламя сапогами и кинулся догонять своих.
На улице Тужилкин скликал всю команду и велел солдатам хватать все, из чего можно будет сложить костер. Солдаты не стали церемонничать, – они похватали все, что под руку попадалось: кто доску отодрал где-то, кто прихватил охапку соломы, Дормидонт Архипов нашел за заднею стеной фанзы и разломал на доски два расписанных яркими узорами гроба, которыми предусмотрительные китайцы обычно запасаются заранее. Так что дровами отряд запасся вдоволь.
Проводник повел отряд вовсе не к японским позициям, а куда-то в сторону – параллельно их расположению. По дороге Тужилкин поинтересовался узнать у него, отчего старик китаец так долго отказывался помочь им разыскать японскую батарею.
– Если японцам станет известно, что эти крестьяне помогли хоть чем-то русским, они перебьют всю деревню, – перевел Самородов ответ китайца.
Они шли с полчаса. Крадучись. Ступая неслышно, как на охоте на самую чуткую дичину. Быстро двигаться было рискованно: неравно кто споткнется, загремит дровами и, чего доброго выдаст весь отряд. Но наконец китаец остановился и, показывая рукой дальше в темноту, что-то пролепетал Самородову.
– Батарея, ваше благородие, – тоже чуть слышно доложил Самородов.
Тужилкин сделал знак команде ложиться, и сам упал на землю. Но, как он ни вглядывался во мрак, так ничего и не разглядел впереди. К счастью, при нем всегда был всевидящий Игошин.
– Есть там что? – прошептал штабс-капитан.
– Кажись, стоят, – отвечал верный ординарец.
– А ну быстро доползи, разведай – что там? Винтовку оставь.
Игошин пополз шустро, так что и пешком не всякий ходит. И десяти минут не прошло, как он уже возвратился. Выяснилось, что проводник привел отряд к флангу японской батареи. Саженей за сто. Самые орудия едва выглядывали из укрытий. Из русских позиций батарею теперь разглядеть можно было разве что с воздушного шара. С земли – никогда. У крайней пушки Игошин видел японцев человек до дюжины. Наверное, и у других стояло так же. Скорее всего, услышав стрельбу на позициях или уже получив оттуда известие о переходе к ним в тыл русской диверсионной группы, артиллеристы изготовились отразить ночных визитеров, если те пожалуют.
Теперь Тужилкину нечего было и думать заявляться на самую батарею со своею малою силой. Но он недаром велел солдатам в деревне раздобыть всякого хлама, годного для костра.
В штабе полка был предусмотрен вариант действий на случай, если ни у одной из групп не получится подойти к неприятельским орудиям, а именно так, скорее всего, и случится, – бесшумно пройти японские окопы никак не выйдет, следовательно, на батареях будут тревоги. И в этом случае в штабе придумали для охотников, которые доберутся до батареи, развести перед ней, саженях в ста пятидесяти впереди, костер. Это будет прицелом для русских артиллеристов. Дальше уже их забота расправиться с японскою батареей.
Впереди батареи лежало довольно просторное поле, слегка всхолмленное, но без единого кустика. И пробираться в рост по этому пространству нечего было и думать. Даже темною ночью японцы охотников обнаружили бы. Есть же и у них глазастые молодцы вроде Игошина. Поэтому Тужилкин приказал отряду двигаться ползком. И не напрямик, а по лощинам. А этого пути выходило едва ли не до полуверсты. Так солдаты и поползли змейкою, друг за дружкой, по мокрой грязи – с винтовкой в одной руке и с какою-нибудь корягой или доской – в другой.
Наконец Тужилкин вывел их к одному пригорку, находящемуся приблизительно посередине расположения батареи и отстоящему от нее как раз приблизительно в ста пятидесяти саженях. Причем подобраться к этому пригорку отряду пришлось со стороны, противоположной от батареи. Это стоило людям дополнительного времени и еще больших сил.
На самой верхушке пригорка они сложили дрова и солому в кучу. И всё ползком, не поднимаясь. У нескольких солдат был припасен керосин во фляжках, они хорошенько полили дрова керосином.
Тут уже штабс-капитан дал команду всем быстро отходить. И не таясь, а бегом, со всех ног. Не японских пуль страшился Тужилкин. Но, как условились давеча в штабе, ровно через минуту, после того как за японской линией загорится костер, несколько русских батарей одновременно откроют огонь по местности, лежащей позади этого ориентира. И не отбежав сколько-нибудь отсюда, охотникам можно было угодить под свои же фугасные бомбы, которые будут для них куда страшнее японских пуль.
Последним отходил, как обычно, Игошин. Он дождался, пока товарищи скроются в темноте, чиркнул спичкой и кубарем скатился в лощину.
Пламя, казалось, взвилось до небес, так что поле осветилась далеко кругом. Тужилкину и его команде, отбежавшим уже на значительное расстояние и невидимым во мраке, так все и представлялось, будто они заметны для японцев, как при солнечном свете.
Но тут в воздухе пропел первый снаряд и ударил где-то за батареей. И дальше уже снаряды полетели без счету. Это забили русские скорострельные пушки. К ним присоединились осадные мортиры. Оглушительные взрывы от их чудовищных бомб сотрясли всю долину. На японской батарее все смешалось и перевернулось вверх дном. Там начался пожар, по сравнению с которым костер, подожженный Игошиным, мог показаться огоньком от лучины. Одна бомба угодила в самую яму с японским орудием, и оттуда со взрывною волной вылетели убитые номера, винтовки, колеса, лафет и самая пушка – всё по отдельности. От другой бомбы взорвался, наверное, боевой комплект при каком-то орудии. И вот тогда в долине действительно ненадолго, на какие-то секунды, сделалось светло, как днем. Вскоре место, где стояла японская батарея, превратилось в этакую глубоко разрытую пашню, на которой в беспорядке были разбросаны трупы, части человеческих тел, искореженные пушки, обломки артиллерийских принадлежностей, другого военного снаряжения.
Команду охотников, впрочем, все это уже не касалось. Они с лихвой исполнили все, что от них требовалось. И спешили теперь на свою сторону. Им еще предстояло преодолеть японскую линию, правда уже с тыла, а это, после всего преодоленного, переможенного, им казалось совершенным пустяком. Тужилкин решил переходить главный японский окоп где-нибудь подальше от уничтоженной батареи. Он провел свой отряд верст пять вдоль неприятельских позиций. И там они их довольно легко перешли.
Беда чуть не вышла, когда подходили к русской линии. Там не знали ничего об охотниках – это было уже расположение другой дивизии – и приняли их за японцев. Открыли стрельбу. Хорошо еще не пошли в штыки. А то впотьмах покололи бы всех до единого. Насилу голосистый Игошин докричался землякам, чтобы полюбезнее встречали своих.
Так и закончился рейд отряда штабс-капитана Тужилкина. Две другие команды охотников были не столь удачливы. Одна из них также пробралась во вражеский тыл, но повстречалась там с превосходными японскими силами и погибла полностью. Вторая же дошла только до главного неприятельского окопа, но преодолеть его не смогла и с потерями возвратилась назад.
С рассветом 17 августа японцы открыли огонь всею своею артиллерией по русской линии. На снаряды они не скупились.
Но противной стороне этот шквал огня вреда нанес немного: окопы русские были глубоки, а артиллеристы, вполне наученные прежним горьким опытом, стали надежно укрывать свои пушки. Яростный огонь японских батарей имел скорее ободряющее значение для самих же японцев: пехота с большим воодушевлением пойдет в атаку, когда кажется, будто противник уже основательно потрепан и обескуражен.
Одновременно с артиллерийским обстрелом японцы пошли в наступление по всему фронту. Маршал Ояма ввел в дело все свои резервы. И таким образом на линии соприкосновения противоборствующих сторон японцы даже теперь имели превосходство в численности. Потому что генерал Куропаткин значительную часть своих сил держал именно в резервах.
Две японские дивизии 2-й армии генерала Оку атаковали 1-й Сибирский корпус барона Штакельберга. Под прикрытием артиллерийского огня японская пехота двинулась на русские позиции. Но, встретившись с не менее интенсивным ответным огнем и решительными штыковыми контратаками, японцы, неся большие потери, остановились, а кое-где и вернулись на исходные рубежи.
Ожесточенное сопротивление и смелые контратаки русских заставили маршала Ояму предположить о подготовляемом противником прорыве со стороны его Южного фронта. К тому же, по данным разведки, сюда двигались русские резервы. И чтобы предупредить этот возможный прорыв, Ояма предпринял демонстрацию на правом фланге 1-го корпуса Штакельберга. Он приказал генералу Оку усилить на этом направлении наступательные действия и хотя бы занять там какие-то высоты, владея которыми можно было бы держать в напряжении всю Южную группу русских и таким образом предотвратить возможное наступление противника.
Вступившая в бой еще одна японская дивизия начала было охватывать правый фланг 1-го Сибирского корпуса, но под метким огнем русских пулеметов и она вынуждена была залечь и начать окапываться. А выдвинувшийся из резерва барона Штакельберга полк даже и потеснил несколько эту дивизию. И решись генерал Куропаткин в самом деле пойти в этом месте на прорыв, для чего требовалось бросить сюда хотя бы бригаду, все сражение могло бы принять совершенно иной оборот. Потому что обескураженные такою стойкостью русских в обороне и их готовностью самим при каждом удобном случае бросаться на врага, понеся к тому же немалые потери, японцы очень умерили свой наступательный порыв. По крайней мере, на фронте Южной группы. Надави на них русские здесь покрепче, японцы непременно были бы отброшены. Увы, главное командование Маньчжурской армии не воспользовалось этим верным шансом. Не первым уже за дни боев под Ляояном.
Нисколько не успешнее для японцев складывалось наступление на 3-й Сибирский корпус генерала Иванова. Этот корпус, входивший в состав Восточной группы и расположенный на самом юге ляоянской дуги, занимал позиции, казалось бы, довольно выгодные – по сопкам, на перевалах. Но дело в том, что стоящие напротив Иванова дивизии 1-й армии генерала Куроки занимали еще более выгодные позиции: они находились существенно выше русских – на более высоких сопках и перевалах, – почему могли легче доставать огнем своих батарей окопы и батареи противника. К тому же пересеченная местность и заросли гаоляна позволили японцам в некоторых местах без потерь довольно близко подойти к русским окопам и уже оттуда решительно броситься на противника.
В одном месте, правда, это их неожиданное появление вблизи русских позиций им же и сослужило дурную службу: сразу три японских батальона лицом к лицу столкнулись с единственным русским батальоном, находившимся в охранении в передней линии, – и русские, может быть, от отчаяния, подумав, что пришла их погибель от такой тьмы японцев, поднялись из окопов и так крепко ударили в штыки, что разогнали все три неприятельские батальона. Будь между сторонами большая дистанция, конечно, японцы, имея троекратное превосходство, постреляли бы противника прежде, чем сошлись с ним. Но они подкрались настолько близко и встретились с русским батальоном так неожиданно, что не успели даже причинить ему своим огнем какого-нибудь вреда.
Столь же неудачными были действия японских колонн и на других участках боевой линии 3-го корпуса: где-то их отбили артиллерийским огнем, где-то встретили пулеметами, заставив залечь и окопаться, а в иных местах и прогнали вовсе, контратаковав в штыки. Равно как и на Южную группу, наступление на Восточную группу русских лобовыми атаками, очевидно, у японцев не выходило. Везде они были остановлены или отбиты с большими для них потерями. К вечеру японцы вовсе прекратили атаки русских позиций и даже в некоторых местах подались назад.
Ободренный таким развитием событий, генерал Куропаткин разослал корпусам следующую директиву: «Завтра, 18 августа, продолжать отстаивать занятые позиции. При этом не ограничиваться пассивной обороной, а переходить в наступление по усмотрению командиров корпусов, где оно окажется полезным и возможным».
И опять русский главнокомандующий опоздал. Отдай он наступательную директиву хотя бы одному из корпусов – тому, у которого обстановка для наступательных действий была самая благоприятная, – на вечер 17 августа или даже на следующую ночь, как нередко действовали японцы, не произошло бы того, что привело в конечном счете к полному отступлению Маньчжурской армии от Ляояна. А произошло вот что: именно в эту ночь, с 17 на 18 августа, генерал Куроки, пользуясь уже привычною пассивностью русских, предпринял свой совершенно авантюрный маневр, который в итоге и решил исход сражения, – он неожиданно переправил на правый берег Тай-цзы-хэ дивизию, бригаду и два полка и начал этими сравнительно малыми силами обход левого фланга 17-го армейского корпуса барона Бильдерлинга, имея в виду зайти русским в тыл и создать угрозу сообщения Маньчжурской армии с Мукденом по единственной железной дороге.
Едва в штабе генерала Куропаткина стало известно об этом дерзком маневре, все последующие действия русского главного командования сделались подчиненными лишь одной задаче – как бы теперь поскорее и с наименьшими потерями увести всю армию за Тай-цзы-хэ и дальше к Мукдену.
Глава 3
Дожди все эти дни лили нещадно. В окопах стояла вода, и казалось – бери лодку и плыви по позициям, как по реке. Солдаты придумали по дну окопа, вдоль тыльной стенки, прорыть еще углубление специально для стока воды. Чтобы она собиралась хоть там, а не по всему дну разливалась. Ночью было нестерпимо холодно. Мокрые насквозь шинели нисколько не грели, как только окопники в них ни кутались. Еще с начала войны солдаты наловчились устраивать палатки из собственных винтовок: несколько человек, трое обычно, составляли свои винтовки пирамидой – штык к штыку, приклады врозь – и на этой конструкции закрепляли брезентовое полотно. Вроде бы ладная палатка выходила. Двое сидят внутри – сухариками похрустывают. А третий стоит в дозоре или еще какую службу исправляет. Потом меняются. Но, когда в конце лета в Маньчжурии начались проливные дожди с грозами, вышло с этими палатками натуральное бедствие: по торчащим вверх штыкам стали ударять молнии, сколько-то людей от этого убило, и командование армией решительно распорядилось по ротам впредь не позволять солдатам устраивать таких палаток. Конечно, можно было бы для этого нарезать жердей хоть из гаоляна или еще как-то исхитриться, чтобы укрыться от непогоды, но командиры, всякую секунду ожидая атаки неприятеля, не разрешали никому оставлять окопов и одновременно зорко следили за тем, чтобы нижние чины, не дай бог, не заснули. Офицеры всю ночь ходили по окопам – уговаривали солдат не спать, развлекали их, веселили по возможности, еще как-то тревожили. Находчивый штабс-капитан Тужилкин придумал раздавать солдатам на ночь вволю сухарей, чтобы хотя бы так отвлечь их ото сна: пусть грызут себе, – все занятие.
После рейда в тыл к японцам ни самому отчаянному ротному, никому из бывших с ним охотников не пришлось хотя бы выспаться хорошенько. Едва они возвратились, так сразу и разошлись по своим боевым местам. Полковник разве что пришел и всех их похвалил за храбрость.
Можайский полк стоял на очень неудобных с точки зрения единства действий всех входящих в него батальонов и рот позициях, переходящих от равнинных к горным: правый фланг располагался почти на равнине, а левый занимал участок по местности довольно рельефной. Позади линии расположения пехоты были вкопаны четыре батареи. Это именно они расстреляли давеча японскую батарею по наводке охотной команды. Но все эти замечательные скорострельные и дальнобойные русские пушки были полевыми и стояли справа. В то время как слева требовались горные орудия, а их не было вовсе.
Как справедливо оценивал эту необычную диспозицию полковник Сорокоумовский, наиболее уязвимым был левый фланг его полка. Если правый фланг, по мнению полковника, оставался для японцев практически неприступен, то слева неприятель был почти неограничен в своих действиях: он мог здесь причинить значительный урон русским огнем своей горной артиллерии, здесь ему было много проще подобраться и к самым окопам противника, здесь же, наконец, его не ждал огонь русской артиллерии. Разве только соседи помогут огоньком. У полка, находящегося слева от Сорокоумовского, действительно имелись две горные батареи. Но кто знает, хватит ли соседям артиллерии, чтобы самим-то отбиться, если их будут жестоко атаковать? Одним словом, положение рисовалось Сорокоумовскому довольно туманным. На всякий случай он поставил на левый фланг оба имеющихся в полку пулемета и усилил его людьми в ущерб правому флангу.
Получила приказание перейти налево и 12-я рота штабс-капитана Тужилкина. Позиции, на которых теперь оказалась рота, находились на отроге, спускающемся уступами к большой лощине, за ней уступами же поднимались несравненно более могучие горы, уходящие к юго-западу, и бывшие всего несколько дней тому назад русскими, но теперь занятые неприятелем. Саперы здесь не стали прорывать сплошного окопа, как на равнинной части линии, но лишь сделали для пехоты неглубокие ровики для стрельбы с колена. При некоторых ровиках были устроены также блиндажи для ротных и батальонных командиров. Чем, безусловно, выгодно отличались позиции на возвышенности от равнинных, так это прежде всего тем, что здесь не было столько воды.
Штабс-капитан Тужилкин в блиндаже отнюдь не сидел. Он все ходил от одного окопа к другому и следил за тем, как обустраиваются солдаты на новом месте. Тут же раздавал приказания, советовал что-то, помогал оценить расстояние и поставить прицелы, распорядился натаскать камней и расставить их по краю окопов, так, чтобы из-за них можно было стрелять, как из бойниц. Пока не было дождя, он велел всем вычистить и тщательно смазать винтовки. В полкудавно уже вышло ружейное масло, а нового все никак не подвозили. И винтовки на открытом воздухе, под многодневным дождем, начали ржаветь. Чтобы оружие у солдат в его роте окончательно не пришло в негодность, Тужилкин на свой счет купил пуд свиного сала у китайцев и раздал его по взводам, да велел взводным и фельдфебелю смотреть хорошенько, чтобы солдаты не поели его, а употребили именно для смазки винтовок.
Получил свою долю сала и взвод поручика Алышевского, в котором состояли Мещерин с Самородовым. Солдаты расположились на камнях позади окопа и принялись чистить свои трехлинеечки, которые действительно не знали у них уходу уже довольно давно.
Сам поручик, неизменно печальный, задумчивый, как будто всегда чем-то расстроенный, прогуливался поблизости. Он был человеком с юношески обостренным честолюбием. Ему вечно казалось, будто его недооценивают, не видят его выдающихся достоинств. Раним и обидчив Алышевский был в высшей степени болезненно. И, натурально, имел обиды на целый свет. Он обижался даже на солдат. Бывало, случалось ему взыскивать с кого-то из своих подчиненных, – он тогда близко подходил к провинившемуся, в строю ли тот стоял или находился где-то вне строя, заглядывал ему в самые глаза своими печальными глазами и трагически говорил: «Я недоволен тобой, братец! Как же ты так можешь! Ты!., ты!..» – резко обрывался, отворачивался и отходил прочь. Провинившийся солдат просто-таки места себе не находил после этого и готов был от отчаяния хоть принять муку смертную, лишь бы не доставлять таких страданий их благородию. И едва представлялся случай, немедленно бросался вымаливать прощения у взводного. Алышевский тогда, почти удовлетворенно, но по-прежнему с выражением обиды на лице, словно он все еще переживал случившееся, отвечал: «Ступай, братец. Больше так не делай». Но, в общем-то, солдаты его любили. Потому что, в сущности, Алышевский был человеком не злым и безвредным. К тому же неробким в бою. А солдаты это особенно хорошо подмечают. И уважают таких командиров.
Вот и теперь взводный, распорядившись солдатам чистить и смазывать винтовки, сам ходил поодаль, как отверженный всем миром, и полным страданий отрешенным взглядом блуждал по окрестным сопкам, не замечая их, скорее всего.
– Наш-то опять не в духе, – вздохнул Матвеич. – Все мается, болезный.
– Безрученко, ты, что ли, не угодил чем? – спросил Мещерин у денщика Алышевского – Безрученко, непроворного молодого солдата, но как раз очень подходящего меланхоличному поручику: он был абсолютно безответен, на редкость уважителен и терпелив, к тому же родом горожанин и немного умевший грамоте.
– Моя вина. Что скрывать… – признался Безрученко. – Сами посудите, они давеча мне говорят: чует мое сердце, Тихон, убьют меня нынче. А я им отвечаю: может, еще не убьют, ваше благородие, а только что ранят. Так они на меня сразу и осерчали. И дураком обозвали.
– Дурак ты и есть, – подхватил Васька Григорьев. – Надо было сказать: конечно, убьют, вашродь, непременно убьют, вас ждет геройская смерть – на японском штыке. Вот уж угодил бы ты ему. А ты – ранят! Это неинтересно. То ли дело – на штыке! Или снарядом накроет. Красотища! Одно удовольствие. Сейчас бы ходил наш взводный гоголем, нос кверху.
– Ну довольным, положим, он все равно б не был, – серьезно заметил Самородов. – Такая уж натура.
– Да-а, поди-ка угоди на него… – согласился Матвеич. – У нас в деревне вот тоже был один такой маетный. Сенькой Пробкиным звали. Все, бывало, не по нем. Мы, к примеру, вечерами давай песни петь всею деревней, а он сторонится. И плясать не выходит со всеми – не нравится. В церкви, и в той стоит где-нибудь особо. Вот так же, как теперь их благородие наше. Что за человек?! Как у нас говорят, ни с чем пирог. Только что и любил – охоту. Тут уж он первым мастером слыл. Ружьишко у него было. Плохонькое, правда, – одностволочка. Да куды ему лучше? Подстрелить, там, каку птицу лесну – перепелку, рябчика ли – и тако сгодится. Вот он возьмет обычно с собою краюшку, огурчиков тройку, да и ну в лес завьюжит со своим ружьишком. И ходит там целый день один, ходит. Так и жил. Ему к тридцати подвигалось, у однолеток дети уже отцам помощники, а у его ни жены, ни семьи. Только что мамаша-старушка. Да и откуда возьмется-то жена, скажем, или еще кто, когда он от девок прятался, что зверок пугливый. Матушка его сватала раз, другой, да ничего не вышло – отказывали им всегда. Мы, право дело, думали, так парню байбаком и оставаться всю жизнь. Но, представьте, влюбился-таки наш Сеня. Жила у нас на хуторе, возле леса, одна вдовая – бойкая, я вам доложу, бабешка. Маланьей звали. Мужу нее на зиму уезжал в город, как обычно, и кака-то хворь с ним там приключилась: с животом что-то вышло. Сделал ему операцию дохтур. Сперва разрезал живот, потом зашил. В точности, как здесь, на войне, раненым. Все, вроде, честь по чести. Он уже и поправляться начал было. Но вы же знаете: они, дохтуры эти, вечно в животе чего-нибудь позабудут – ножницы или еще что. Не доглядят – так и зашьют с ножницами. За ними же глаз да глаз нужен. Так и этому мужичку зашили по недосмотру ножницы. Он день лежит – ничего, второй – еще лучше. Ну, думает уже, наверное, вставать ему скоро на ноги. И надо же такому выйти: как-то ночью он неловко повернулся на койке и свалился на пол. Ножницы вонзились там у него в животе в самые нутренности, точно штык, из него и дух вон. Так Малаша и овдовела. Одна осталась с детями. Не помню, сколько их у ней было – трое или четверо? Да она баба-то больно сноровиста: одно дело делает – семь выходит. И собою пригожа: ядрена, крепка, как мыта репка. Так вот, хотите – верьте, хотите – нет, Сенька на ней женился.
– Не может быть! – воскликнул Самородов, чтобы подразнить Матвеича.
– Истинный крест. Верно говорю. А дело-то вот како вышло. Отправился, как обычно, наш Семен в лес пострелять какой дичины и встречает там Малашу. Она тоже пошла с дитем грибков набрать. Он ее увидел, оробел знамо, да и ну деру куда поглуше. Только что отошел, слышит – малый позади завопил вдруг не своим голосом, будто режут. Знать, случилось чего! Сенька бегом назад. И чего же видит только: стоят Малаша с дитем под елкой, а к ним медведь подступается, ростом в полторы сажени. Кинулся Сенька на выручку, встал между ними и медведем, да и выстрелил. В небо. Мишка испугался и убег. Малаша после спрашивает: ты чего же не в медведя-то стрелял? А ну как он не испугался бы?! Так Сеня говорит: да разве можно в мишку-то? Это ж все равно как в человека. Подивилась Маланья на чудного да и зазвала к себе погостить. Так на хуторе у ей он и остался. И – не поверите! – совершенно переменился человек с тех пор. Этаким степенным сделался. То от народа бежал. А теперь сам идет к людям со своего хутора, дельные разговоры заводит, советует что другим или сам совета у кого спрашиват. Вот чего семья с человеком может сделать. Это совсем не то, что одинокому по свету мыкаться.
– Может быть, ты предлагаешь, Матвеич, нам женить взводного? – спросил Васька Григорьев.
– Где ж тут женить, – как всегда серьезно стал объяснять Матвеич своему вечному насмешнику. – Женить не выйдет теперь. А вот помочь ему, например, подвиг совершить какой – вот было бы дело. Глядишь, и он бы остепенился, вроде нашего Сеньки Пробкина.
– Братцы! – воскликнул Самородов. – Давайте сделаем что-нибудь такое, за что его бы пожаловали крестом.
– Так давайте, ежели кто возьмет в плен японского офицера, ему и отдадим, – предложил молодой солдат Филипп Королев. – Дескать, это он взял.
– Офицеру за это может еще и не полагается креста, – заметил известный в роте скептик Кондрат Тимонин. – Это солдатам за пленного офицера дают Георгия.
– А я вообще что-то не слышал, чтобы офицеры брали в плен кого-нибудь, – отозвался унтер Сумашедов. – Солдаты обычно пленных берут. Офицеры не для того на войне.
– Да, тоже верно, – согласился Мещерин. – За что же они тогда кресты получают? Ведь не даром же?
– А вон ротный к нам идет, никак, – сказал Васька Григорьев. – Матвеич, спроси у него, будто невзначай: за что офицеру крест полагается?
– Да про Куроки спросить не забудь, – подсказал Матвеичу еще Самородов. Они переглянулись с Мещериным и тотчас опустили головы, чтобы не показывать своих улыбок.
Штабс-капитан Тужилкин делал обход роты: наставлял солдат и давал указания субалтернам перед боем. С ним шел верный Игошин с каким-то кульком в руке. Алышевский, отбросив свою гипохондрию, поспешил навстречу ротному командиру, отрапортовал ему, как полагается, и они вместе подошли к расположившимся на камнях солдатам.
– Смирно! – выкрикнул унтер Сумашедов.
Все разом вскочили на ноги, побросав разобранные винтовки.
– Отставить, – распорядился Тужилкин. – Продолжать чистить оружие. И побыстрее! На позициях, под самым носом у противника, этим вообще не полагается заниматься. Да уж делать нечего. Не с ржавыми же винтовками в бой идти. Сала всем хватило?
– Где там, вашродь! – ответил Васька. – Раздали-то – на один жевок. Проглотили – не заметили. Еще бы по кусочку добавили, что ли.
Тужилкин усмехнулся. Это его сало сделалось предметом солдатских шуток во всех взводах.
– Ну тебе, Григорьев, я знаю, винтовка вообще ни к чему, – сказал ротный. – Ты одним штыком или голыми руками разгонишь всех японцев.
– А что? мы можем! – задорно произнес Васька.
– Знаю, что можете. Вы все можете, когда захотите. Вот вам, как лучшему взводу, приз. – И Тужилкин кивнул Игошину.
– Держите, ребята. – Игошин протянул свой узелок унтеру Сумашедову. – Сальца вот осталось малость. Да это уж не на винтовки, кушайте на здоровье.
Солдаты все разом весело загомонили. У кого-то нашелся нож. Сало мигом разрезали на мелкие кусочки. И, не отлагая дела, весь взвод захрустел сухарями с салом вприкуску. Ротный стоял и любовался на эту картину – радовался от души за своих солдат.
Между тем Самородов заговорщицки подмигнул Матвеичу и слегка качнул головой, показывая ему на Тужилкина. Матвеич откашлялся и начал:
– Ваше благородие, дозвольте обратиться. У нас тут вот како недоумение: за что именно господам офицерам крест полагается? С солдатом-то, с ним все понятно – коли штыком шибче, вот тебе и крест будет. Или в плен захватить ихнего офицера – опять же награда. А вот у господ офицеров, как у них обстоит? Любопытно.
– Ну, видите ли, в чем дело… – Тужилкин переглянулся с Алышевским, и по лицу взводного, наконец, скользнула улыбка. – Офицер на войне не для того, чтобы самому брать пленных или колоть штыком. Но его задача организовать службу в своем подразделении таким образом, чтобы и то, и другое, и еще многое чего ловчее выходило у солдат. Проще сказать, если солдаты за свое усердие, за свои подвиги получают кресты, то это означает, что и командиры их заслуживают награды.
– Вон, видите, сопка, – продолжал Тужилкин, указывая рукой на японскую сторону. – Если мы получим приказ взять ее и ваш взвод окажется на ней первым, то, помимо наград солдатам, награжден будет и взводный. Ну а если вся наша рота не только поднимется на эту сопку, но и закрепится там, что позволит в результате перейти в наступление всему полку, тогда награда ждет и вашего ротного, – улыбнулся Тужилкин.
– Вон оно как… – произнес Матвеич.
– Да, вот так. Ну давайте-ка, ребята, заканчивайте поскорее с оружием и все по местам. Скоро стемнеет. Будьте тогда наготове. Не зевать уже никому. Японец любит ночные атаки. Да смотрите, – чтобы даром не геройствовать у меня! из окопов без нужды не высовываться, сидеть за камнями. Чтоб ни одного не было видно. Придет время – сам поставлю всех в рост! Ну, Господи, помилуй и благослови нас послужить государю. Я к вам еще подойду.
И Тужилкин было повернулся уходить.
– Матвеич! Ну что ж ты… – Самородов опять показал глазами на ротного.
– Ваше благородие, – хватился Матвеич, – еще дозвольте спросить. А вот скажите, к примеру, такой вопрос: правда ли, что Куроки – японский генерал – по-нашему по-русски, и есть самая фамилия – Куропаткин?
Тужилкин вначале замер, будто поставленный в тупик неожиданным солдатским вопросом. Но, заметив, как отвернулись немедленно, пряча улыбки, Самородов, Мещерин, Григорьев и еще несколько солдат, и сообразив, что простосердный Матвеич спрашивает по их наущению, ротный, стараясь оставаться совершенно серьезным, ответил:
– Нет, Куроки – это не Куропаткин. Это по-нашему – Бильдерлинг.
Весь взвод покатился со смеху. Тужилкин погрозил пальцем главным насмешникам, и они с Алышевским ушли.
В Маньчжурии темнеет рано и быстро. Весь промежуток между ясным днем и темной ночью составляет едва ли полчаса. И в августе в восемь вечера уже обычно темно.
Когда окончательно стемнело, на японской стороне в четырех-пяти верстах от русских позиций один за другим стали зажигаться костры. И скоро их горело так много, что зарево от них осветило ближайшие сопки. Даже в русских окопах сделалось светлее. По числу костров можно было предположить, что на той стороне располагался японский отряд силой до пяти – семи тысяч человек. Казалось бы, если неприятель разложил костры, то атаковать он не собирается, во всяком случае, до тех пор, пока горит огонь. Но начальник дивизии, в которую входил полк Сорокоумовского, разослал по всем полкам и батальонам приказы, в которых предостерегал господ офицеров не только не ослаблять готовности, но, напротив, быть этой ночью особенно внимательными, – совершенно не исключено, что японцы умышленно развели костры, имея в виду показать, будто они основательно устроились бивакировать и нападать теперь не намерены, но сами замышляют именно нападение.
Какое-то время солдаты смотрели из окопов на японские костры очень внимательно – кто с интересом, кто с тревогой. Но время шло, никакого движения на неприятельской стороне вроде бы не происходило, костры, вначале горевшие ярким белым пламенем, стали уменьшаться, меркнуть, краснеть и скоро сделались едва различимыми, и солдаты так же, как те угасающие костры, стали бессилеть, опускаться все ниже в окопы, кто-то поник головою, кто-то и вовсе задремал. И то правда, не у всякого уже хватало сил которую ночь бороться со сном. Тут уж офицерам нужен за солдатиками глаз да глаз: прозеваешь – уснет рота, – выйдет для всех погибель верная.
Унтер Сумашедов, Архипов, Тимонин, Мещерин, Самородов и Филипп Королев были назначены в секрет. Штабс-капитан Тужилкин сам отвел их в окопчик, расположенный шагах в трехстах впереди главных позиций, и строго наказал: «Ну, ребята, чтоб как мышки сидели. А если уснуть надумаете – сперва перекреститесь и пожелайте себе Царствия Небесного».
Секретам вменялось предупредить своих в окопах, когда японцы начнут атаку. Неприятель обычно подбирался тихо, насколько возможно, к русским окопам и с пронзительным, леденящим душу «банзаем» бросался в штыки. Если японская колонна проходила где-то вблизи секрета, дозорные стреляли, что и служило сигналом для своих, и устремлялись со всех ног прочь. Ну а когда вражеская колонна выходила прямо на секрет, то, как правило, никто из него живым уже не возвращался. Хорошо еще, если несчастные успевали предупредить о неприятельской атаке.
Наставления ротного были, конечно, не лишними, но солдаты и без того понимали, что им выпала доля худая, незавидная. При ночной атаке неприятеля из трех-четырех секретов едва ли одному удавалось избежать погибели. Поэтому, как ни хотелось дозорным закрыть глаза и забыться, но предчувствие, что сейчас из мрака выскочат вдруг желтые околыши и всех их переколют, так что они и выстрелить не успеют, это тяжкое, нагоняющее болезненный озноб предчувствие все-таки побеждало сон. И теперь вся маленькая команда унтера Сумашедова, как один, затаившись, страшась хотя бы прошептать единое слово между собою, вглядывалась в темноту и прислушивалась ко всяким малейшим звукам.
Так проходили часы. На той стороне уже почти все костры погасли. Сквозь рваные облака нет-нет да выглядывала луна, и тогда можно было вздохнуть чуть спокойнее, – солдаты видели, что никакой опасности для них вроде бы пока нет.
– Братцы, – прошептал вдруг испуганно Филипп Королев, – кажись, Япония на сопку лезет! – И он указал рукой куда-то налево.
Все впились взглядом в указанное направление. Действительно, на кромке уступа, саженях в двухстах от них, они разглядели темную и как будто шевелящуюся растянувшуюся массу, которую прежде вроде бы не замечали.
– А ну, Королев, бегом дуй, доложи их благородию, – приказал Сумашедов.
Пяти минут не прошло, как Королев уже возвратился вместе с ротным и его верным ординарцем Игошиным.
– Ну где? – нетерпеливо спросил Тужилкин.
– Вон они, вашродь, по кромке карабкаются, – показал Сумашедов штыком.
Но Тужилкин, сколько ни вглядывался, так ничего подозрительного и не рассмотрел.
– Игошин, – спросил он, – ты видишь чего-нибудь?
– Никак нет, вашродь. Не похоже на людей.
– А что же там?
– Так, может, кусты?..
– Кусты?.. А ну-ка, давай разведай. Быстро. Без винтовки.
Игошин сунул свою трехлинейку кому-то в руки и, согнувшись в три погибели, совершенно бесшумно, как кошка, побежал под горку в сторону этих кустов или людей, – что уж там такое было? – не известно.
– Не заплутал бы впотьмах, – произнес Тимонин.
– Этот разве заплутает когда… – отозвался Самородов.
– Отставить разговоры, – зашипел на них унтер. Ему хотелось показать ротному командиру, как он ревностно старается исправлять службу.
Скоро возвратился запыхавшийся Игошин, уже почти не таясь, в полный рост.
– Кусты и есть, вашродь, – доложил храбрый ординарец. – Самые кусты. Ветром их качает, вот и кажется, будто люди идут. Эх, ты, – пристыдил он Королева, – со страху, что ли, кусты принял за японца? Или как?
Молодой солдат виновато опустил голову, засопел. А унтер Сумашедов еще принялся строжиться над ним.
– Смотри у меня! – накинулся он на Королева. – «Япония лезет! Япония лезет!». Сам будешь теперь на разведки ходить!
– Отставить, – урезонил Тужилкин унтера, слишком усердствующего при начальстве. – Лучше кусты принять за японцев, чем японцев за кусты. Молодец, Королев. Хвалю тебя за бдительность.
– Рад стараться, ваше благородие. – Паренек, совсем было расстроившийся, воспрянул духом.
Тужилкин с Игошиным ушли. Дозорные же продолжили наблюдение. Но после героического обнаружения кустов, и к тому же ничуть перед ними не спасовав, они несколько успокоились, разомлели, тревожное ожидание внезапного появления японских штыков как-то отступилось, сменилось этаким предутренним умиротворением, когда кажется, что все страшное миновало и сегодня уже ничего такого чрезвычайного не произойдет, и когда сон особенно одолевает и устоять перед ним равносильно подвигу.
Не устоял перед напастью и секрет Сумашедова. Первым задремал сам бравый унтер. За ним засопел здоровяк Архипов. А потом забылись и остальные. Лишь к Королеву, воодушевленному и возбужденному от похвалы ротного, сон уже не приходил. Филипп сидел в окопчике и, блаженно улыбаясь, мечтал, как он попросит того же Алешу Самородова или хоть Володю Мещерина, которым, кстати, он тоже доводился земляком, – Филипп Королев был родом из Рузского уезда, из деревни, бывшей где-то верстах в девяноста от Москвы, – попросит написать письмо к нему в родную Макеиху, где он расскажет матушке Татьяне Ивановне, и братьям, и невесте Дарьюшке о доблестной своей военной службе на дальней чужбине, о любезных товарищах, о замечательном ротном командире, о другом. Так он мечтал.
До рассвета оставалось не более часа. Никаких костров на японской стороне давно уже и в помине не было. Тишина стояла такая, что, казалось, птица пролетит или змея проползет – и тех услышишь. Когда справа от их окопа раздалось невнятное глухое шуршание, будто и вправду какой гад полз, Филипп Королев, занятый приятными мечтаниями, поначалу не обратил на него внимания. Но, наконец, случайно оглянувшись в ту сторону, он увидел шагах всего в пятидесяти от их секрета какую-то белую шевелящуюся полосу. Он еще не тотчас и смекнул, что это именно такое. Но, сообразив, что едва заметная впотьмах белая полоса – это гамаши наступающих японских солдат, которые уже почти преодолели линию русских секретов и которых до главных позиций отделял разве короткий, секундный бросок, он юркнул в окоп и принялся расталкивать спящих товарищей.
– Японцы! – страшным голосом зашептал Филипп. – Японцы идут!
Первым слегка приоткрыл глаза Мещерин. Увидев перед собою наклоненное лицо Королева, он, едва ворочая языком, проговорил:
– Опять, что ли, кусты приметил… Филя…
– Да японцы же! Вам говорят!
Мещерин с трудом заставил себя обернуться в сторону, куда показывал Королев, и тотчас весь сон его исчез, развеялся, словно и не спал солдат. Он с силою ткнул в бок Архипова и уже не стал ждать, пока команда пробудится: передернул затвор и выстрелил в темную с белым низом движущуюся массу. Все разом очнулись и схватились за ружья. Нанести сколько-нибудь ощутимого ущерба неприятелю своим огнем шесть человек дозорных, разумеется, не могли. Их задача была лишь известить своих о наступлении врага.
Но одновременно, и даже прежде того, их стрельба стала сигналом к атаке для самих японцев. Они поняли, что их обнаружили. И тотчас вслед за мещеринским выстрелом где-то рядом раздался пронзительно-визжащий крик «банзай!» – его разом подхватили еще сотни глоток, и сразу вся лощина, все сопки вокруг ожили, содрогнулись, наполнились криками и выстрелами, мертвая тишина в единый миг сменилась грохотом, воем, гулом жестокого побоища.
Через несколько секунд после первого «банзая», вначале едва слышно за японскими воплями, но затем все нарастая и наконец превзойдя крик врага, по всей линии раздалось родимое «ура!», и русские роты, ощетинившись штыками, ринулись навстречу японским штыкам.
Едва они сошлись, голос боя совершенно переменился. Ни «банзая», ни «ура» больше не слышалось, стрельба вблизи почти утихла, лишь где-то дальше по фронту раздавались частые пачки, причем нарастая. Здесь же, где схватились насмерть противные, теперь, кроме вскриков – визгливых японских и русских – надсадных и хриплых, – доносились обычные звуки рукопашной потасовки: глухой треск ломающихся от ударов прикладами костей, стук ударяющихся друг о друга ружей, лязг металла.
Как были проинструктированы секреты, в случае, если они не успеют отступить перед неприятелем, а окажутся как-то у него в тылу или во фланге, им нужно немедленно отходить вдоль линии, и где-нибудь там, в стороне, выбираться на свои позиции. Команде Сумашедова это сделать было совсем не сложно: слева от них, там, где Королев давеча разглядел японскую колонну, оказавшуюся на самом деле кустами, так по-прежнему пока еще никого и не было. Но им следовало поторопиться. Потому что и там в любой момент могла начаться японская атака.
Когда в ста пятидесяти шагах от их окопа завязалась рукопашная, Сумашедов так и решил, что теперь им самое время отходить. Но в команде имелось и другое мнение.
– Куда?! – уже не таясь, воскликнул Мещерин. – Напрямик прорвемся! Подсобим нашим! – И он первым выпрыгнул из окопа.
Все нижние чины рванулись за ним. Сумашедов хотел было потребовать от своей своевольной команды не прекословить его командирским указаниям. Да куда там! Его никто уже не слушал. И, чтобы не остаться вообще одному в поле среди японцев, унтеру пришлось подчиниться большинству: он поспешил вдогонку за солдатами.
Бежать напрямик к окопам тоже было не так уж и безопасно. Свои же непременно их примут за японцев и раньше, чем разберутся, всех перебьют. Поэтому Мещерин, а за ним и остальные, побежали туда, где кричала, стонала, трещала, лязгала рукопашная схватка.
Но получилось совершенно непредвиденное: японцы недолго сопротивлялись отчаянному штыковому удару русских, – не устояли и попятились, а потом и побежали. И команда Сумашедова теперь очутилась как раз на пути отбитого неприятеля. Казалось, это была для них верная смерть. Но, к счастью, они столкнулись с небольшою группой японцев. Впрочем, не меньше взвода. Единственное бывшее у них преимущество заключалось в том, что японцы никак не ожидали появления со стороны лощины хоть одного русского. Поэтому, когда из мрака перед ними вырос бородатый гигант Архипов, за которым маячило еще несколько мохнатых шапок, японцы невольно расступились, полагая, что крупный русский отряд успел зайти им в тыл. Они и вообразить не могли, что это группа всего из шести человек. Архипов же, недолго думая, принялся колоть штыком и крушить прикладом так проворно, что даже его немногие товарищи остались было не у дел. Но, конечно, пришлось и им отведать лиха. Японцы быстро сообразили, что русских всего-то несколько человек, и набросились на них, полагая в отместку за свою отбитую атаку разделаться хотя бы с малым отрядом противника. Филипп Королев только успел со всей мочи прокричать в сторону русских окопов: «Выручай, братцы!» – и встал плечом к плечу с Архиповым. К нему тотчас пристроились Самородов, Мещерин, Тимонин и Сумашедов. И таким вот старинным боевым порядком – штыками вперед – они встретили натиск целого японского взвода.
Когда Тужилкин услыхал выстрелы от одного из своих секретов, а следом за ними истошные крики обнаруженного и потому сразу же бросившегося в атаку неприятеля, он с наганом в руке первым выбежал на гласис и прокричал: «Двенадцатая рота! за мной! Вперед, ребята!»
С солдат, бывших только что полусонными, мигом слетела вся дремота, и они вместе с другими ротами посыпались из окопов, будто только и ждали этой команды. Всех охватил неистовый душевный подъем. А грянувшее затем громогласное «ура!» привело солдат уже в совершенное исступление. Они, словно хмельные, устремились навстречу едва различимому впотьмах врагу, горя лишь одною целью – скорее вонзить в него штык. До начала резни русские по крайней мере перекричали противника, что уже давало им моральное превосходство. И они обрушились на японцев, подобно снеговой лавине.
Васька Григорьев отбил направленный на него похожий на саблю японский штык и, не делая лишнего движения, то есть не замахиваясь, а прямо по ходу – снизу вверх, – ребром приклада засадил японцу в самый висок. Досматривать, что сталось с его противником ему теперь было некогда: рядом с ним Матвеич с трудом отбивался сразу от двух вражеских солдат, и Васька, как кошка, прыгнул на помощь товарищу, – он плашмя прикладом ударил одного японца сзади под коленки и, когда тот упал, тотчас пригвоздил его штыком к земле. Он хотел было помочь Матвеичу и со вторым японцем, но, оглянувшись, увидел, что тот и сам управился и уже выдергивает штык из полумертвого врага.
Штабс-капитан Тужилкин расстрелял в упор в японцев весь барабан, подобрал чью-то винтовку и, на равных с нижними чинами, принялся работать штыком и прикладом. Он делал это сноровисто и изящно, будто показывал упражнения солдатам: ловко отражал удары врага или увертывался, бил наверняка прикладом, верно колол штыком. Игошин не отходил ни на шаг от своего командира. Несколько раз он отводил удары, направленные на Тужилкина. Да и сам действовал молодецки: несколько японцев так и остались лежать здесь у русских позиций, отведав его штыка и приклада.
Вся схватка длилась не больше двух-трех минут. Обе стороны бились исключительно жестоко. Но русские в этот раз все же были злее. Японцы дрогнули и стали пятиться назад. Тогда Тужилкин, преодолевая шум сражения, прокричал: «Наша берет! наддай, ребятушки!» Ободренные его криком русские еще поднажали, и враг наконец не выдержал этого бешеного натиска и побежал.
Русские начали было преследовать неприятеля, и, вероятно, потери отступающих были бы куда большими, но командирам пришлось остановить солдат, потому что впотьмах они непременно растянулись бы, и задние, приняв передних за японцев, чего доброго могли пострелять или поколоть своих же.
Но тут откуда-то слева раздался крик о помощи. Тужилкин понял, что это кричит кто-то из выставленных вперед дозорных: наверное, не сумели вовремя отойти и теперь угодили в лапы к неприятелю. «Все за мной! Не выдадим своих!» – взревел ротный на всю лощину. И побежал в сторону, откуда послышался звонкий голос Филиппа Королева.
Тужилкин подоспел вовремя. Промедли он со своими стрелками еще несколько секунд, и спасать было бы некого. А японцы, увидев, что к русским идет подмога, все разбежались.
Маленький отряд русских едва дождался выручки. Мещерин был ранен: он чуть замешкался отбить удар, и вражеский штык задел его и процарапал ему грудь до самых ребер. А унтер Сумашедов вообще неподвижно лежал на земле, и неизвестно, ранен ли он был или убит. Уж так ему не хотелось прорываться из секрета напрямик, – и вот, как чувствовал, несчастный, получил-таки штыком в живот. Несколько солдат, из тех, что прибыли с Тужилкиным, подхватили унтера и бегом понесли его к своим окопам. Там, неподалеку, за перевалом, располагался лазарет.
– Почему не отошли вовремя? – строго спросил ротный оставшихся дозорных.
– Своим подсобить решили… – пробубнил Дормидонт Архипов.
– Ну и как, подсобили?! Вы все едва не погибли!
Солдаты стояли, виновато опустив головы. Их абсолютно бесполезная в данном случае лихость, может быть, стоила жизни предводителю команды – унтеру Сумашедову.
– Это вы подняли тревогу? – Штабс-капитан вроде бы смягчился. – Ваша команда?
– Так точно! – радостно ответил Самородов, поняв, что взыскивать с них уже, скорее всего, не будут. – Мы самые!
– Королев первым заметил японцев, – каким-то глухим, не своим голосом добавил Мещерин.
– Молодец, Королев! – второй раз за ночь похвалил ротный солдата. – Ну теперь уже одной благодарности тебе будет мало. Будешь представлен к награде!
– Рад стараться, ваше благородие! – Филипп засиял весь так, что и кругом сделалось как будто светлее.
Тужилкин обошел всех своих удальцов, внимательно оглядел их – Королева, Архипова, Тимонина, Самородова, Мещерина. У Мещерина шинель на груди была прорвана, и даже в темноте заметно было, как она вся набухла от крови.
– Да ты ранен здорово, братец! – воскликнул Тужилкин.
Мещерин только теперь наконец почувствовал, как у него по животу, по ногам, в самые сапоги течет что-то горячее. Он сообразил, что истекает кровью. Хотел чего-нибудь ответить, да не смог уже вымолвить ни слова. В голове у него помутилось, в глазах поплыло, ноги подкосились, и, не подхвати его товарищи под руки, он бы прямо так и рухнул без чувств перед своим ротным командиром.
Глава 4
Японцы недаром атаковали этой ночью почти по всему фронту. К слову сказать, на Можайский полк атака была еще далеко не самая яростная. В некоторых других местах японцы действовали куда как ожесточеннее. Кое-где им даже получалось ворваться в русские окопы и выбить оттуда противника. И русским в этих случаях удавалось вернуть свои окопы лишь при помощи посланных в подкрепление резервов. Но, как бы то ни было, абсолютно никакого видимого успеха эти ночные лобовые атаки японцам не принесли. Нигде они не только не прорвали фронта, но даже и не оттеснили русских с позиций. Эти ожесточенные ночные атаки нужны им были, чтобы отвлечь внимание русского главного командования от их основного, решительного маневра – переправы части армии Куроки за Тай-цзы-хэ и выхода ее в тыл русским. И это японцам вполне удалось осуществить.
Всего японцы переправили на правый берег восемнадцать тысяч человек. Русская же правобережная группа, состоящая из 17-го корпуса, с приданной ему дополнительной бригадой, а затем усиленная и 1-м Сибирским корпусом барона Штакельберга, насчитывала свыше семидесяти тысяч штыков и сабель и, казалось, имела перед неприятелем безусловное преимущество. Но не во всем. В численности – бесспорно. В инициативе же, в стремлении первыми нанести удар, у русских преимуществ не было никаких. Японцы всегда своими действиями опережали возможные действия русских. И последним приходилось лишь как-то отвечать на удары и маневры врага.
Куроки решил обойти 17-й корпус и, может быть, прорваться к железной дороге, связывающей русскую армию с Мукденом и Харбином. В русском главном штабе от одной только мысли о таком маневре неприятеля всех пробирал озноб. Но если бы и в самом деле на дорогу вышел хоть один японский батальон, в армии, и прежде всего среди командования, могла бы начаться настоящая паника, и тогда уже непременно сражение закончилось бы для русских катастрофой. Знать бы русским генералам хотя бы приблизительно о численности противника на правом берегу, возможно, они тогда как-то более искусно распорядились бы на этом участке. Но оцепеневшие от энергичных и неожиданных действий Куроки русские генералы и предположить не могли, что против их семидесятитысячного левого фланга выступают вчетверо меньшие японские силы. Им казалось, что так не может быть ни в коем случае. Это же вопреки всем правилам военного искусства. Это противоречит здравому смыслу, наконец.
Утром 19 августа правобережная японская группа перешла в наступление. Передовые отряды японцев уже видели впереди железную дорогу с бегущими по ней поездами. Куроки ликовал. Он чувствовал себя победителем своего русского однофамильца, национальным героем Японии и бог знает кем еще. Ему остается лишь небольшое усилие, и русских ждет чистый Седан. Так размышлял японский генерал.
Но вместе с тем мудрый военачальник вполне осознавал, что он сам со своими малыми силами находится в положении в высшей степени рискованном. И стоит русским хоть немного проявить инициативу, сделать хоть какое-то решительное движение, участь его правобережной группы может оказаться весьма печальною.
И действительно, едва Куроки донесли, что на его правый фланг с севера движется русская колонна, он немедленно приостановил наступление и повернул часть своей правобережной группы навстречу приближающемуся отряду противника. Увы, скоро выяснилось, что донесение отнюдь не соответствует реальному положению дел. Никакой угрозы справа русские японцам так и не создали. И даже не пытались создать. Действовавший там отряд генерала Орлова вместо того, чтобы решительным ударом поразить неприятеля во фланг, стал для чего-то укреплять позиции, готовясь к обороне. Хотя на него никто не думал нападать. У Куроки просто не было сил наступать еще и на север.
Поняв, что его правому флангу ничего не угрожает, Куроки продолжил наступление на центр 17-го корпуса. Приблизительно в центре расположения корпуса барона Бильдерлинга находилась сопка, которую русские называли Нежинскою – по имени стоящего на ней Нежинского полка. Занимающая ключевое положение на правом берегу Тай-цзы-хэ, сопка эта позволяла всякому, кто ею владел, контролировать местность на много верст кругом. В частности, японцам владение сопкой давало возможность если не перерезать железную дорогу русских, то по крайней мере обстреливать ее и, таким образом, все равно причинять противнику значительные неудобства.
Вечером того же дня, одновременно с обстрелом сопки из тридцати орудий, японская бригада генерала Окасаки атаковала Нежинский полк. Интенсивный обстрел русских позиций продолжался с утра и почти до темноты. Находившийся правее нежинцев Волховский полк не выдержал артиллерийского огня и отступил, причем открыл фланг соседей. И когда на их оставленных позициях появились японцы, угрожая Нежинскому полку истреблением, среди нежинцев началась настоящая паника, передавшаяся вдобавок и соседям слева – Моршанскому полку, и оба этих полка поспешно отошли за сопку.
Однако нежинцы быстро оправились от досадной своей конфузии, бросились в атаку и выбили японцев с сопки штыками. Но не долго русские владели сопкой. Ночью, при свете луны, Окасаки вновь атаковал русские позиции всеми силами. Японская пехота подбиралась под прикрытием гаоляна. А в это время японская артиллерия, пристрелявшаяся за день, верно била по русским окопам. Подобравшись насколько возможно близко к противнику, японцы ударили в штыки и окончательно сбросили русских с сопки. Нежинский полк, все еще подавленный давешним своим паническим бегством, почти не оказывая сопротивления, отступил. Так Куроки силою одной только бригады опрокинул три русских полка и завладел важнейшею, доминирующею на местности позицией. При этом большая часть войск русской правобережной группы оставалась в стороне от этого боя. Имея возможность ввести в дело на Нежинской сопке значительные силы и решительно отбить неприятеля, барон Бильдерлинг предоставил японской бригаде пробивать фронт на участке, обороняемом, по существу, одним полком.
Потеря Нежинской сопки практически означала выход японцев в русский тыл и создание ими реальной угрозы поражения всей Маньчжурской армии.
Русское командование, в общем-то, сразу верно оценило, что переброска армии Куроки на правый берег Тай-цзы-хэ и потеря там доминирующей высоты делает правобережный фронт главным участком всего театра и именно здесь теперь будет решаться судьба сражения. Поэтому главнокомандующий генерал Куропаткин со своим штабом, чтобы спасти сражение, немедленно выдвинул план наступления на правом берегу.
По замыслу Куропаткина вся правобережная группа армии, усиленная, как уже говорилось, целым корпусом, должна была развернуться в единый, сплошной фронт от Тай-цзы-хэ до действовавшего верстах в восьми севернее отряда генерала Орлова. А затем, приняв правый край группы за ось, как писал в директиве Куропаткин, « произвести захождение армии левым плечом вперед, дабы взять во фланг позиции переправившихся у Канквантуня японских вешек армии генерала Куроки и прижать их к реке Тай-цзы-хэ, проходимой вброд лишь в немногих местах».
Руководить операцией Куропаткин вознамерился лично. Он распорядился передислоцироваться своему штабу на высоту, расположенную верстах в четырех позади 17-го корпуса, вблизи деревни Чжансутунь. А выше по течению Тай-цзы-хэ, в пяти-шести верстах позади бригады Окасаки, на сопке Ласточкино гнездо, расположился со своим штабом генерал Куроки. Итак, началась непосредственная дуэль двух генералов.
Русские начали наступление, как и было спланировано главнокомандующим: правый фланг лишь обозначает шаг на месте, но по мере удаления к левому флангу фронт все с большею интенсивностью производит движение, описывая сектор окружности. Подобным образом двигаются стрелки на часах. План этот имел один существенный недостаток: он мог быть успешно осуществлен только при условии, если и японские силы будут так же равномерно распределены по всему фронту. Но если хоть на каком-то участке неприятель будет иметь превосходство и не попятится под натиском русских, то встанет, словно споткнувшись, весь русский фронт. Именно так и вышло.
Сосредоточив сразу на нескольких участках фронта превосходные силы и нисколько не заботясь о слабости других своих участков, генерал Куроки начал встречное наступление. Две японские дивизии – одна на юге фронта, другая – на севере – двинулись навстречу противнику.
В это время русские снова подступились к потерянной давеча Нежинской сопке, на которой стояла бригада Окасаки. После сильнейшей двухчасовой артиллерийской подготовки Бильдерлинг перешел в наступление. Несколько японских рот, стоящих южнее Нежинской сопки, не выдержав натиска русских, оставили позиции и отошли. Но сама сопка устояла и так противнику и не далась. Во время русской артиллерийской подготовки японцы быстро перешли на обратную сторону высоты и там благополучно переждали обстрел. А когда пошла в атаку русская пехота и артиллерия естественным образом, чтобы не поразить своих, умолкла, японцы выскочили из-за сопки и встретили противника плотным ружейным огнем. Несколько раз русские ходили в атаку на сопку и всегда японцы их отбивали – когда огнем, когда в штыки.
Так на этой злополучной сопке споткнулся и встал весь русский правобережный фронт. Наступательный план генерала Куропаткина очевидно не удавался. Больше того, действовавший на левом фланге отряд Орлова, которому, по плану, вменялось двигаться к Тай-цзы-хэ по самому удаленному от центра радиусу, столкнувшись со значительно меньшими по численности японскими силами и угодив под неприятельский артиллерийский огонь, в панике бросился наутек, причем солдаты, заплутав в густом гаоляне, стали обстреливать друг друга. Отмахав двенадцать верст, совершенно расстроенные остатки отряда Орлова остановились только у самой железной дороги. Потери отряда составили свыше полутора тысяч человек. Сам Орлов был ранен. Нет, положительно не годится военному иметь птичью фамилию: не видать удачи ни ему самому, ни его подначальным. Примета верная.
Невзирая на полное фиаско, постигшее левый фланг группы, барон Бильдерлинг со своим 17-м корпусом, находящимся на правом фланге, все-таки чаял еще исполнить план главнокомандующего. И прежде всего он решился в который раз попытаться овладеть Нежинскою сопкой. Его атака началась довольно успешно. Действовавшая на крайнем правом фланге русская бригада вытеснила японцев из стратегически важной деревни Сыквантунь, находящейся несколько южнее сопки. Это позволило русским охватить сопку с трех сторон. Но это им же и сослужило дурную службу. Атака началась уже в темноте. И наступающие по скрещивающимся направлениям русские полки в суматохе приняли своих же за японцев и вступили в перестрелку друг с другом. А японцы им еще помогли – открыли сильный артиллерийский и ружейный огонь. В этом адище русские даже не слышали долго сигналов «отбой». Там все перемешалось – полки, роты, отдельные люди. Никто никем не командовал. Если какой-то командир и пытался привести людей в порядок, его в этом полном хаосе, в совершенном столпотворении, никто не слышал и никто ничего не слушал. Все бежали и стреляли в разные стороны, не выбирая ни дороги, ни мишени. Один из полков только от огня своих потерял там до трети состава.
Некоторый успех сопутствовал лишь Нежинскому полку. Нежинцы, наверное, очень рвались оправдаться за то, что они так малодушно отдали неприятелю важнейшую на всем фронте позицию, и горели во что бы то ни стало отбить ее назад. С большим трудом им удалось занять северный склон сопки. Но ни добиться чего-то большего, ни даже удержать занятое они не смогли: поздно ночью японцы их атаковали и окончательно очистили сопку от противника.
Этот ночной бой за Нежинскую сопку, предпринятый бароном Бильдерлингом во исполнение плана главнокомандующего, стоил русским потери трех с половиной тысяч штыков. Совершенно бездарной, не принесшей ни малейшей пользы потери.
Хотя главные действия второго этапа Ляоянского сражения разворачивались уже на правом берегу Тай-цзы-хэ, но и левобережная Южная группа, которою командовал генерал Зарубаев, в это время отнюдь не бездействовала. Имея приблизительно равные японским силы в штыках и существенно уступая неприятелю в саблях и по числу орудий, – а против 72 батальонов, 14 сотен и 184 орудий русской группы действовали две японские армии генералов Оку и Нодзу, насчитывающие в общей сложности 71 батальон, 23 эскадрона и 364 орудия, – Зарубаев, тем не менее, удачно отразил все атаки на него, и, в свою очередь, сам предпринял несколько довольно острых атак на вражеские позиции. Куропаткин требовал от него серьезной демонстрации, чтобы японский главнокомандующий Ояма, обеспокоенный возможным наступлением русских на левом берегу, не послал подкреплений на правый берег, где в эти часы решался исход сражения.
Можайский полк, входивший как раз в Южную группу, благодаря умелому командованию полковника Сорокоумовского и молодецким действиям всех его офицеров и солдат, потери понес за эти дни сравнительно невеликие. Поэтому, когда Зарубаев решился потревожить неприятеля своими демонстративными атаками, можайцы оказались в числе войск, назначенных к наступлению.
Ротные, батальонные и сам полковник Сорокоумовский обходили позиции и делали наставления солдатам. Штабс-капитан Тужилкин пришел во взвод к Алышевскому.
– Ну, братцы, нам приказ завтра чем свет идти к японцу в гости, – сказал он. – Желаю от доброго, чистого сердца, чтобы все вы остались невредимы и благополучны.
– Покорно благодарим, вашродь, – загудели солдаты.
– Желаю вам, братцы, и сам сегодня буду молиться, чтобы Господь вас помиловал и спас от смерти, – продолжал Тужилкин. – Но вовсе не желаю никому и не советую самим спасать себя. Вы знаете, о чем я говорю. Господу Богу не помогайте: Он Сам не выдаст того, к кому будет милостив. Третьего дня мы не спасали себя – дрались насмерть, жизни не щадили, – и что же? – нас Бог помиловал: потери наши незначительные. А враг, вон он лежит под горой! все поле усеяно. – Тужилкин показал в сторону лощины, где позапрошлой ночью рота жестоко схватилась с неприятелем. – Мой вам совет: помолитесь и с верою в Божью милость исполняйте свой солдатский долг перед царем и родиной. Я вам скрываться не стану: может, и у самого у меня на душе неладно, как подумаешь, что там ждет нас впереди. Но верьте, братцы, что бы там ни было, с упованием на Господа я с легким сердцем пойду, куда прикажут. Хотел бы, чтобы и рота от меня не отстала. – Тужилкин хорошо понимал, на каких именно чувствах можно сыграть, какие струны души следует затронуть, когда взываешь к крестьянским сыновьям – к этому традиционно богобоязненному и благочестивому сословию.
За час до рассвета, 20 августа, два левофланговых батальона Можайского полка, усиленные еще одним батальоном из резервов, с приданною им, наконец, горною артиллерией, абсолютно бесшумно, но не медля, слаженно, оставили позиции и выступили на врага.
Они быстро спустились в лощину, но уже оттуда стали подниматься на высоты, занятые японцами, не спеша, крадучись. Близкого рассвета русские командиры не опасались. Полковник Сорокоумовский со своим штабом рассчитал эту атаку таким образом, чтобы перед самым рассветом батальоны успели войти в заросли гаоляна, которым густо поросли склоны поднимающейся за лощиной гряды.
Так все по плану точно и вышло: батальоны перешли лощину и успели до рассвета укрыться в гаоляне. Чтобы самим не заблудиться в этих зарослях, солдаты несли с собою легкие деревянные вышки. Это приспособленье русские позаимствовали у японцев. Маньчжурский гаолян достигал иногда до двух саженей росту, и, кроме как встав на вышку, сориентироваться в этаких дебрях было невозможно.
Батальон, в который входила рота Тужилкина, должен был выйти к деревне, что стояла на склоне сопки где-то на полпути до вершины. Она, как обычно, была обнесена стеной. И напоминала небольшую крепостцу. Скорее всего, в ней были японцы. Батальону предстояло это выяснить и выбить их из деревни, если они там окажутся. Или лучше вообще уничтожить.
Сориентировавшись при помощи вышек, роты верно выбрались из зарослей – прямо к деревне. Но между гаоляновою плантацией и домами было расстояние около полуверсты. Саженей, может быть, двести. И хотя бы кустик какой рос. Но ведь ровно ничего. Никакого укрытия. Камни, правда, лежали. Да и то мелкие. Если теперь, когда уже рассвело, попытаться перейти этот участок, японские дозоры сразу же заметят противника.
Командир батальона подполковник Шлоттвиц распорядился сделать десятиминутный привал – тут же, в гаоляне. А сам тем временем собрал своих ротных, чтобы посоветоваться – как батальону теперь следует действовать? Кто-то из офицеров предложил не медлить, а одним рывком, как при атаке, перебежать открытое пространство. Но только по возможности тихо. Разумеется, без «ура». Другой ротный посоветовал прямо из гаоляна расстрелять деревню из пушек: с батальоном шла батарея, и стоило только ей дать два залпа прямою наводкой, от деревни осталась бы единственно глиняная крошка. Батальонный, не раздумывая, отверг это предложение, – а вдруг в деревне нет японцев? – да хотя бы они и были, китайцы-то – жители этой деревни – в чем провинились? Их-то за что?
Штабс-капитан Тужилкин, не любивший высказывать своего мнения, пока его не спросят, готов был исполнять любое решение командира. Но батальонный все-таки спросил лучшего ротного в полку: а что он думает? как им быть лучше?
– Здесь недолго и переползти, – ответил Тужилкин. – Если в деревне японцы, то потерь будет куда меньше…
– Что же, и офицерам тоже ползти?! – перебил Тужилкина командир девятой роты капитан Пулеревич. – Да я никогда еще не ползал! И рота моя, ни один солдат не знает, что такое пресмыкаться! Мы в атаку привыкли ходить вперед открытою грудью!
Тужилкин только пожал плечами. Доказывать свое мнение кому бы то ни было он отнюдь не собирался.
– Должен напомнить вам, Дмитрий Михайлович, – ответил Пулеревичу Шлоттвиц, – что ваша рота в последние дни потеряла до четверти штыков, в то время как штабс-капитан Тужилкин воюет почти без потерь. Итак, господа, приказываю: всему батальону подбираться к деревне ползком, насколько возможно близко. Если нас обнаружат раньше – атакуем в штыки. Если проползем незамеченными – значит, берем деревню вообще втихую, без атаки. Извольте, господа, отправляться к своим ротам.
Батальон действительно прополз незамеченным почти до самой деревни. Только уже саженей за пятьдесят до заветной стены вдруг поднялась в рост 9-я рота, разумеется, по приказанию своего командира, и бросилась в атаку. Очень уж хотелось Пулеревичу первому ворваться в деревню. Но едва его солдаты сделали несколько шагов, как со стены по ним в упор забил пулемет. Бежавшие впереди повалились замертво. Остальные скорее попадали за камни и затаились.
Деревня вся тотчас ожила: захлопали двери в домах, забегали люди, стали раздаваться отрывистые крики – очевидно, это офицеры отдавали приказания солдатам.
Сомнений быть не могло – в деревне японцы. И подобраться к ним незаметно батальону не удалось. Из-за самонадеянности одного своего же командира роты, из-за его дурного внешнего честолюбия, сорвался так удачно начавшийся маневр, а может быть, и все наступление.
Со стены по залегшему батальону открылась пачечная пальба. Насколько можно было судить по интенсивности огня, в деревне находилась рота японцев. Не больше.
К подполковнику Шлоттвицу подполз Тужилкин.
– Позвольте мне с ротой обойти деревню слева, – прокричал он батальонному, – и оттуда атаковать. Вряд ли у них еще и там есть пулемет.
– Давайте, Григорий Петрович, действуйте, – не раздумывая, ответил Шлоттвиц. – С богом. Мы вас поддержим огоньком.
Штабс-капитан Тужилкин использовал японский же прием охватывающего движения. Он со своею ротой, все так же ползком, зашел неприятелю в тыл и уже оттуда атаковал деревню. Там сопротивление японцев было куда меньшим. И огонь их был не столь плотным – всего несколько выстрелов встретили 12-ю роту. Как и предполагал Тужилкин, пулемета на той стороне не оказалось. Рота перемахнула через стену, и солдаты рассыпались в переулки междудомами. Кое-где их встречали в штыки японцы. Причем, осознавая свое безнадежное положение, они дрались с особенным остервенением. Тужилкин приказал Алышевскому со своим взводом пробиться к той стене, откуда давеча ударил по роте капитана Пулеревича пулемет, разыскать его и захватить.
Многие японцы попрятались по фанзам и обстреливали русских из окон, будто из редутов. Поэтому Алышевский решил не рваться напропалую к пулемету, – этак и полвзвода не дойдет, – а выбивать неприятеля из фанз и только так продвигаться к цели.
В первой же фанзе, куда Архипов проложил своим товарищам дорогу, выбив дверь вместе с косяком и частью стены, оказалось пятеро японцев. Они пытались сопротивляться, но русские с ними быстро разделались – двоих закололи, остальных взяли в плен.
Из расположенной по соседству небольшой, совсем бедной, покосившейся фанзы, из единственного ее окна, торчали сразу три дула и то и дело вздрагивали от выстрелов. Здесь уже подобраться к двери, не рискуя получить пулю, было невозможно, потому что дверь находилась рядом с окном. Тогда Дорми-донт Архипов подкрался к этой фанзе сбоку, разбежался и всею своею многопудовою массой ухнул в хлипкую стенку. Глиняная стена ввалилась внутрь, следом обрушилась крыша, и все, кто был внутри, остались погребенными под развалинами.
В это время Васька Григорьев пробрался еще к одной фанзе с затворившимися в ней японцами, прополз к самому окну, изловчился и зашвырнул туда ручную пироксилиновую гранату. Он едва успел отбежать, как раздался страшный взрыв, и фанза, вместе с бывшими там людьми, разлетелась во все стороны.
Еще в одну фанзу ворвался сам Алышевский с несколькими своими солдатами – Самородовым, Безрученко, Королевым, Тимониным, Матвеичем и другими. Они нашли там около дюжины японцев и среди них офицера. Офицер что-то отрывисто, истерично приказал солдатам, и те набросились на русских. В относительно небольшом помещении началась настоящая свалка. Это был просто единый пестрый клубок из вылинявших добела русских гимнастерок и синих японских мундиров. Все одновременно били, кололи, резали, кричали, стонали.
Офицеры схватились на саблях. Они красиво рубились. Алышевский, заложив левую руку за спину, ловко парировал удары своего противника, но сам как будто пока не спешил нажать на него. Но, наконец, ему надоело выполнять роль учителя фехтования, и он перешел в наступление, причем скоро сбил с противника фуражку, затем рассек ему плечо, а потом и вообще верным ударом выбил у него саблю из руки. Обезоруженный японец страшными, злыми глазами огляделся кругом, – несколько его солдат уже лежали бездыханными, – и вдруг руками вперед, как обычно ныряют в воду, он сиганул в окно. И так быстро, что казалось, будто он растворился как привидение. Сейчас стоял на месте и вмиг исчез. Даже Алышевский растерялся от такой его проворности. Но не растерялся нижний чин Самородов. Бросив винтовку, он тут же вслед за японцем, тем же манером – руками вперед, – выскочил в окно. Окно это, оказывается, выходило не на улицу, а на задний двор, окруженный изгородкой из связанных между собою стеблей гаоляна.
Когда туда вылетел кубарем Самородов, японец уже вскочил на ноги. Но убежать он не успел – Самородов метнулся ему в ноги, поймал за сапоги, и оба они, сцепившись, и рыча, и стараясь ударить друг друга, покатились по земле. Японец был ранен, и, как он ни извивался, все-таки Самородову удалось его скрутить.
В фанзе тоже все было покончено. Оставшиеся в живых японские солдаты сдались. С поднятыми руками и испуганные, как затравленные зверьки, они выходили на улицу.
Алышевский велел всех пленных собрать и посадить пока на землю и, оставив при них охрану, повел свой взвод дальше. Но когда они наконец добрались до вражеского пулемета, их ждало там горькое разочарование. Они опоздали. Первым дошел до цели и захватил пулемет взвод поручика Фон-Штейна. Был там уже и сам Тужилкин.
– Медленно действуете, поручик, – выговорил он Алышевскому. – Сколько потеряли?
– Трое убитых и восемь раненых, – доложил Алышевский.
– Много! – строго воскликнул Тужилкин.
– Пятеро из восьми раненых остаются в строю. Ранения их неопасные…
Но Тужилкин, по всей видимости, не был удовлетворен ответом субалтерна. Он недовольно отвернулся.
– У поручика Фон-Штейна потерь больше, – умерив голос, но не менее строго произнес Тужилкин. – Но он сделал то, что я поручал вам. Где вы были в это время, не понятно.
Эту сцену наблюдали несколько солдат из взвода Алышевского.
– Эх, беда, – вздохнул Филипп Королев. – Не успели мы первыми взять пулемет. Не наградят теперь нашего взводного.
– Погоди горевать, Филя, нам еще на сопку идти. Там пулеметов – тьма, – успокоил его Васька Григорьев.
Тем временем в деревню вступил весь батальон. Подошла и артиллерия. Подполковник Шлоттвиц нашел офицеров 12-й роты.
– Ну, молодцы! – еще издали закричал им довольный батальонный. – За весь батальон постояли! Кто отличился? – спросил он Тужилкина.
– Взвод поручика Фон-Штейна, ваше высокоблагородие, – ответил штабс-капитан.
– Молодец, поручик, – похвалил Фон-Штейна Шлоттвиц. – Будете особенно отмечены в рапорте.
Из-за ближайшей фанзы вышла нестройная колонна японцев. Всех дюжины две. Они, хотя и были пленены и обезоружены, вид имели довольно надменный: головы не опускали, смотрели вокруг злобно и презрительно. Впереди шел бледный молодой офицер с непокрытою головой. Он был ранен – левая рука его висела плетью, а на плече и по груди расплылось темное пятно. Офицер, наверное, сильно страдал, но изо всех сил старался показать, будто чувствует себя превосходно. Пленных вели четверо конвойных – Архипов, Самородов, Безрученко и Тимонин.
Русские солдаты, от которых теперь тесно было в деревне, расступались, внимательно их разглядывали, о чем-то переговаривались между собой, показывая друг другу на пленных.
Конвойные подвели японцев к офицерам.
– Откуда это их столько? – удивился Шлоттвиц. – Вы еще и в плен успели целый взвод взять? – весело спросил он у Тужилкина. – Да вы просто герои!
Командир 12-й роты, увидев, кто именно конвоирует пленных, сразу сообразил, что, оказывается, взвод Алышевского тоже даром времени не терял. И он был очень не прав, поторопившись взыскивать со взводного за нерасторопность.
– Это заслуга поручика Алышевского и его солдат, – ответил Тужилкин подполковнику. И тут же громко, так чтобы все кругом слышали, обратился к своему взводному:
– Господин поручик, прошу меня извинить за незаслуженное взыскание: я в суматохе не заметил ваших блестящих действий.
– Да! рота молодецкая, – сказал Шлоттвиц. – Один взвод другого лучше. А вас, поручик, – объявил он Алышевскому, – можно уже поздравить с наградой. Лично доложу о вашем отличии полковнику.
Тут Шлоттвиц заметил среди пленных офицера.
– Кто именно взял в плен офицера? – спросил он у Алышевского.
– Мой стрелок – рядовой Самородов, – ответил взводный, указывая на стоящего здесь же солдата.
– Никак нет! – поспешил отказаться Самородов, опередив подполковника, который было хотел сказать ему что-то одобрительное. – Виноват, ваше высокоблагородие, но события изложены не совсем верно: японского офицера взял с бою наш командир взвода поручик Алышевский. Я только, может быть, немного помог… – добавил он неуверенно.
Шлоттвиц переглянулся с Тужилкиным, и оба они, и все прочие присутствующие дружно расхохотались.
Подполковник приказал санитарной команде собрать раненых и, вместе с пленными, отходить за лощину к своим позициям. Батальон шел дальше в наступление, и оставаться здесь кому-нибудь было небезопасно. Кстати, в деревне не оказалось ни одного китайца. Едва в эти края подошел фронт, местное население побросало свои дома и попряталось все в горах.
На выходе из деревни солдаты стали свидетелями изуверского японского душевредства: тот самый офицер, которого взяли в плен Алышевский с Самородовым, уже получивший медицинскую помощь и, казалось, смирившийся со своею участью, вдруг вырвался из-под надзора и с разбегу бросился головой о камни, так что мозги брызнули в разные стороны. Среди русских солдат, довольно повидавших крови и прочих всяких ужасов войны, пронесся вздох внезапного страшного изумления. Они шли мимо распластавшегося в луже крови японца и не могли оторвать от него взгляда. Так и проходили, будто честь отдавали. Прежде все бодро переговаривались между собой, вдохновленные нетрудным успехом, подшучивали, а теперь разом примолкли, насторожились, настолько угнетающее впечатление произвело на всех происшествие. Со смущенною душой теперь шли в наступление солдаты. Хоть так победил русский батальон японский фанатик.
Когда из деревни все вышли – батальон в одну сторону, раненые и пленные – в другую, – откуда-то сверху забила неприятельская артиллерия. Наверное, кому-то из гарнизона удалось спастись и известить своих об этой потере.
Батальон в это время уже вошел в гаолян и рассредоточился по колоннам для атаки. Шлоттвиц собирался подвести людей поближе к вражеским позициям, но пришлось немедленно трубить атаку, потому что японцы теперь в любую секунду могли накрыть их в гаоляне артиллерийским огнем. К счастью, пока они били лишь по деревне, полагая, вероятно, что русские еще там.
Над батальоном с диким ревом, воем резали воздух 75-миллиметровые снаряды. От их отвратительного ноющего, скребущего по сердцу плача хотелось бежать все равно куда, хоть в атаку. А позади батальона, там, где он находился всего несколько минут назад, казалось, извергается вулкан: оттуда раздавался грохот взрывающихся одновременно десятков гранат и шрапнелей. Что там именно творилось, солдаты из гаоляна видеть не могли. Но всем было ясно – от деревни уже ничего не осталось. То, что русские не отважились сделать, опасаясь, как бы не навредить ни в чем не повинным китайцам, японцы исполнили без малейших колебаний. Раз того требовала военная целесообразность.
Подполковник Шлоттвиц решил 12-ю роту, в заслугу за ее давешние молодецкие действия, в бой не посылать, а иметь пока в резерве. И велел Тужилкину держаться позади, при орудиях. А другие три роты он с ходу бросил в атаку на сопку, – в направление на вершину. Хотя путь туда был долог и довольно труден, – приходилось подниматься на приличную кручу, к тому же тащить с собою артиллерию, – но батальонный командир совершенно справедливо рассудил, что эти их изрядные усилия окупятся при атаке, – оборонять вершину, которая сама по себе уже является значительным препятствием для нападающих, неприятель, естественным образом, выставит сил несравненно меньше, нежели на перевалах. Впрочем, и на этом пути русские роты встретил пулеметный огонь, заставивший их вначале залечь, а потом и отползти назад в гаолян.
Русским удалось приметить, откуда бил пулемет. И тогда Шлоттвиц приказал артиллеристам хорошенько обработать это место и вокруг него огоньком. Причем, не открываясь, а прямо из гаоляна.
Для японцев появление артиллерии противника на сопке в полуверсте от их позиций оказалось полною неожиданностью. Иначе бы они, по своему обыкновению, заранее оставили окопы и укрылись на время на противоположном склоне. Но они русский огонь встретили именно в окопах. Да так многие и остались в них, судя по всему. Потому что, когда роты, после третьего залпа батареи, пошли опять в атаку, ни пулеметным, ни даже ружейным огнем никто им уже не досаждал.
Когда русские поднялись почти на самую вершину, они обнаружили там развороченные своими снарядами неглубокие, как-то неосновательно устроенные окопы и несколько десятков убитых и раненых японцев в них. Большинство защитников сопки, конечно, разбежалось, когда по ним забили пушки. Но все равно, очевидно было, что здесь, на самой высоте, японцы наступления противника не ждали, почему и сильных укреплений не построили, и людей выставили совсем немного.
Зато сверху русские увидели, как надежно перекрыли японцы находящийся справа от сопки перевал. Там позиции были устроены в две линии – одна над другою. С артиллерией, – это оттуда, по всей видимости, японцы били по деревне. И солдат там кишело батальона два. Пробить такую позицию вряд ли смогла бы и целая бригада. Но сейчас Шлоттвицу ничего не стоило ее уничтожить. Если бы на этот перевал русское командование повело наступление, Шлоттвиц обеспечил бы проход любых русских сил практически без потерь. Он мог теперь одною своею батареей заставить замолчать всю находящуюся там японскую артиллерию и расчистить для своих путь вглубь японского расположения. Но, увы, наступление в планы командования не входило. Была запланирована лишь демонстрация, которая вполне удалась. Кто же мог знать, что эта демонстрация еще окажется способною привести к столь выдающемуся успеху.
Шлоттвиц расставил роты по склонам сопки и приказал укреплять позиции. Он справедливо полагал, что принес большую пользу для всей русской армии. И, разумеется, командование, узнав об этом, непременно должно позаботиться, как бы усугубить неожиданный успех одного из своих батальонов. Он немедленно отправил полковнику Сорокоумовскому донесение, в котором излагал действия батальона с начала наступления и высказывал соображения по поводу возможного прорыва русских войск, что ему вполне по силам было теперь обеспечить.
Но все эти же самые соображения одновременно пришли в голову и японскому командованию. Японцы очень обеспокоилось неожиданною потерей сопки и реальною перспективой прорыва русских на этом участке фронта. Им теперь требовалось срочно либо выбивать противника с высоты, либо самим отходить из седловины.
Естественно, прежде всего, они попытались вернуть сопку. Сколько там поблизости находилось японских войск, – может быть, полк, – все они были брошены на высоту. Но единственный русский батальон легко отбил эту отчаянную атаку. Особенно успешно действовала артиллерия. На той стороне сопки, где стояли русские пушки, атака неприятеля заглохла, едва начавшись. Японцы там, как рассказывали артиллеристы, прямо «сыпались рядами». В других местах враг был также отражен с большими для него потерями ружейным и пулеметным огнем. Причем в дело пошел их же японский пулемет, захваченный русскими утром в деревне.
Взять сопку малыми силами японцам не удалось. Пришлось командующему 4-й армии генералу Нодзу, убежденному, что здесь готовится крупное русское наступление, подтягивать резервы, собирать силы для более решительного штурма.
А тем временем Шлоттвиц, не дожидаясь каких-либо дальнейших указаний от командования, решился в полной мере использовать всю выгодность своего расположения сверху над неприятелем и наконец обстрелять его позиции на перевале, лежащие теперь перед ним как на ладони. Русским хорошо было видно, как, после первых же разрывов шрапнелей, забегали, засуетились внизу сотни крошечных солдатиков в синих мундирах, как снаряды попадали в самые окопы и оттуда с вывороченною взрывом землей и камнями вылетали и убитые люди.
Японцы, именно этого больше всего и боявшиеся, вначале пытались отвечать на убийственный обстрел. Они развернули свои батареи в сторону сопки и открыли огонь. Но поскольку русской батареи они не видели, то и вреда причинить ей не могли. И стреляли наугад – куда придется. Да и не долго японцы стреляли: не выдержав исключительно метких попаданий, они скоро очистили перевал.
Проход для наступления русской армии был свободен. Шлоттвиц послал в штаб новое донесение, в котором просто-таки умолял бросить сюда хотя бы бригаду. И результат для русских мог бы быть ошеломительный. Но шли часы, день подходил к концу, а русское командование так и не торопилось почему-то ни с ответом, ни с наступлением. Казалось, этот успех привел его в большую растерянность, нежели все предыдущие неудачи.
Уже во второй половине дня, ближе к вечеру, на японской стороне поднялся воздушный шар. Шлоттвицу стало ясно, что враг готовится – или даже уже готов – к решительному наступлению. Но прежде, чтобы избежать больших потерь, японцы хотят основательно обработать русские укрепления артиллерийским огнем. И для этого им потребовался шар, который они нередко применяли для наведения артиллерии.
А скоро, как и предполагал Шлоттвиц, начался обстрел. Где-то вдалеке, верстах в пяти-в шести от сопки, вдруг один за другим стали подниматься беленькие дымки. Так стреляли самые дальнобойные гаубицы. Они действительно находились так далеко, на таком недосягаемом для ответного огня расстоянии, что японцы могли не опасаться открыть их месторасположение. И потому в их снарядах применялся дешевый дымный порох. Ни самих выстрелов, ни полета снарядов пока еще слышно не было. Но, несколько секунд спустя, донесся и их басовитый голос, по сравнению с которым рев гранат и шрапнелей, выпущенных утром японцами по деревне, мог показаться комариным писком. И тут же сопка вздрогнула вся от чудовищного взрыва, качнулась под ногами находящихся на ней людей, как палуба угодившего на мину корабля. За первым взрывом последовал второй, третий, четвертый.
Не дожидаясь следующего залпа, русская рота, что стояла под обстрелом, перебежала на противоположный склон. Но гаубица бьет навесом. Она может достать и противоположный склон горы при необходимости. И Шлоттвиц не стал дожидаться, пока их достанут. Он приказал всем немедленно отходить. Если до сих пор русское командование не послало в наступление ни единого батальона, рассудил он, то дальнейшее их присутствие здесь, на сопке, под огнем к тому же, не имело никакого смысла. Если бы их гибель могла хоть чем-то послужить на пользу общего дела, Шлоттвиц, вне всякого сомнения, остался бы на занятых позициях. Но он понял, что сверх демонстрации ожидать здесь каких-либо действий русской армии надежды нет.
Его предположение вполне подтвердилось. Когда батальон уже миновал разрушенную до основания деревню, пришел наконец приказ от самого Зарубаева – срочно возвращаться!
Действия прочих батальонов, выступивших вместе со Шлоттвицем, были не столь впечатляющими, но с точки зрения плана командования вполне удачными. Они вышли к японским окопам, вступили в перестрелку, где-то и атаковали неприятеля, но, встретив упорное сопротивление или отбитые, отошли назад. Их действия русское командование нашло исключительно полезными. Потому что они вполне исполнили поставленную им задачу – продемонстрировать наступление. Ничего большего от них не требовалось. А то, что сделал Шлоттвиц со своим батальоном, было уже сверх необходимого, не по плану.
Демонстрации, предпринятые на южном фронте, имели для русской армии весьма важное значение. Они не только не позволили японскому командованию усилить группу Куроки на правом берегу Тай-цзы-хэ за счет 2-й и 4-й армий, но заставили обеспокоиться самого командующего 1-й армией, – каково ему придется здесь с его малыми силами, если русские добьются успеха на левом берегу? Кстати припомнить, что всех войск у Куроки на правом берегу было вчетверо меньше, чем у Куропаткина. Японский генерал и сам ведь вначале не знал, какие силы ему противостоят. Понятно, что превосходные. Но насколько? – ну, может быть, в полтора, ну, пусть даже, в два раза. Не больше же. Но когда Куроки узнал, что русские превосходят его в четыре раза, он, натурально, оторопел, растерялся: куда же я лезу? и почему я еще не раздавлен? – подумал смущенный генерал. И он теперь не мог не опасаться, что, если не умением, то числом, все равно рано или поздно русские свое возьмут.
К вечеру 20 августа общая обстановка и на южном и на правобережном фронтах сложилась для японской армии довольно неблагоприятно. На юге, на этом сплошном полукольце русских траншей, бастионов, фортов, проволочных заграждений, японцы всюду были отбиты. Генералы Оку и Нодзу не имели больше сил продолжать атаки. Они несли весьма значительные потери. У них уже ощущался и недостаток в боеприпасах. На правом берегу генерал Куроки, хотя и отразил все атаки русских и отстоял важнейший пункт фронта – Нежинскую сопку, – сам атаковать даже не пытался. Сил почти не оставалось. Почему и рискованно для него это было в высшей степени – все равно как моське атаковать слона: можно, конечно, куснуть, если повезет, но ведь можно и угодить под слоновью ногу, – придавит и сам не заметит. И генерал Куроки, понимая, что положение его почти безнадежное, решил завтра же на рассвете отходить за Тай-цзы-хэ. А это значит, вместе с правым берегом уступить противнику и все сражение.
В эти же часы русскому главнокомандующему генералу Куропаткину отовсюду стали поступать самые неутешительные сведения. Жаловался на отсутствие резервов и недостаток боеприпасов Зарубаев. Жаловался на неуспехи Бильдерлинг. Жаловался Штакельберг. А ведь Куропаткин имел полнейшее основание на все эти донесения заявить, как заявил Кутузов при Бородине: «Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Извольте ехать к генералу Барклаю (в данном случае – Зарубаеву или Бильдерлингу) и передать ему назавтра мое непременное намерение атаковать неприятеля. Отбиты везде, за что я благодарю Бога и наше храброе войско. Неприятель побежден, и завтра погоним его из…» И дальше у Толстого следовало – «…священной земли Русской». Но именно этих-то слов Куропаткин не мог произнести ни в коем случае. А невозможность произнести эти три коротких слова не позволяла ему сказать и всего остального.
Сообщения от генералов подействовали на главнокомандующего совершенно угнетающе. Но когда ему пришло еще известие, что какие-то японские силы движутся в обход на Мукден, то есть в дальний русский тыл, нервы его уже не выдержали, и он скорее отдал приказ об отступлении. Сообщение это было ложным, японцами же и сфабрикованным. Но для колеблющегося, потерявшего веру в себя и в свои войска Куропаткина этой фальшивки оказалось достаточным, чтобы покинуть поле сражения. Он приказал по всей армии отступать утром 21 августа.
Русские войска начали отходить всего на два часа раньше, чем собирался это сделать генерал Куроки. Если бы каким-то образом Куропаткин промедлил со своим приказом – занедужил вдруг, еще по какой причине, проспал бы, наконец! – победа под Ляояном досталась бы храброму русскому войску. И по праву досталась бы. Но, увы, главнокомандующий вовремя отдал приказ.
Глава 5
Александр Иосифович слово свое сдержал: действительно, на следующий же день, после нечаянной встречи с Мещериным и Самородовым в Мукдене, к Тужилкину прибыл курьер с приказом передать обоих его стрелков в подчинение уполномоченному Красного Креста Казаринову.
Под начало своего доброго московского знакомого друзья поступили с радостью несказанною. Но не потому, что новая служба избавляла их теперь от тяжкой и опасной военной солдатской доли, – с товарищами своими по роте они расставались очень неохотно; к тому же, по слухам, русское командование планировало в самое ближайшее время большое наступление, и вынужденное неучастие в нем Мещерин с Самородовым переживали как повторное лишение награды, – и все-таки перспектива новых впечатлений, открытий, интересных встреч была так заманчива, что, конечно, пересилила все прочие обстоятельства. К тому же они нисколько не сомневались, что еще возвратятся в родную роту и закончат войну вместе со всеми своими однополчанами.
Прежде всего, Александр Иосифович, показывая, как он доверительно относится к старым знакомым, обстоятельно изложил Мещерину и Самородову существо предприятия, порученного ему самим главноуполномоченным Российского общества Красного Креста и вполне сочувственно воспринятого командованием Маньчжурскою армией. Он сказал, что война, которая, как всем казалось, будет очень недолгой, скорее всего, еще продлится какое-то время – может быть, и весь год, а может, и больше. Поэтому главная квартира теперь весьма озабочена обустройством тыла и особенно развертыванием лазаретов неподалеку от театра военных действий. С дальним тылом, довольно обеспеченным госпитальными местами, Маньчжурская армия была связана единственною железною дорогой. Но эта дорога, даже и загруженная сверх всякой меры, не могла вполне удовлетворять армию ни в чем – ни в подвозе пополнений и боеприпасов, ни в эвакуации раненых.
И хотя главнокомандующий Алексей Николаевич Куропаткин, показывая всему миру пример бесподобного гуманизма, распорядился организовать движение по дороге так, чтобы никакие прочие эшелоны не имели преимуществ перед санитарными поездами, но не менять существующего положения, по мнению самого же главнокомандующего, было уже невозможно: это означало бы ставить под угрозу всю кампанию.
До самого последнего времени русская армия, изматывая неприятеля оборонительными боями, отходила в глубь Маньчжурии. Естественно, при такой тактике устраивать лазареты вблизи военного театра было невозможно. И почти всех раненых, даже тех, у кого ранение не вызывало опасений, кто нуждался лишь в кратковременной медицинской помощи и вполне способен был через неделю, две, много через три возвратиться в строй, и их тоже вывозили в дальний тыл – в Харбин, а иногда и дальше, вплоть до Читы и Иркутска.
Но теперь, рассказывал Александр Иосифович, когда русское командование решительно намерено перейти к наступательной тактике, нет никакого резона не оставлять легкораненых в лазаретах где-нибудь неподалеку от театра. Таким образом, число санитарных поездов, следующих по китайско-восточной железной дороге, существенно сократится, что, естественно, позволит увеличить число эшелонов с пополнением и другими необходимыми для армии военными грузами.
Но легко сказать – оставлять раненых где-нибудь неподалеку. А где именно? Развернуть несколько десятков лазаретов – проблема не такая уж и простая. Она требует и значительных издержек, и – что еще важнее – немалого времени. И тогда, заметил Александр Иосифович с гордостью, он сам предложил Главному управлению Красного Креста в Мукдене изумительно простое, быстро осуществимое и – главное! – почти не требующее расходов решение. Его идея состояла в том, чтобы размещать лазареты в китайских монастырях, которых кругом было множество. Военное командование вполне поддержало этот план. И теперь, имея на руках личное предписание главнокомандующего, Александр Иосифович должен был отправляться на поиск подходящих для устройства в них лазаретов монастырей. Вот что он рассказал Мещерину и Самородову.
Отряд, собранный Александром Иосифовичем, был невелик: кроме самого предводителя и его земляков, которых он назначил своими ближайшими помощниками, в путь с ними отправились еще два санитара из солдат, китаец-кули на арбе, груженною снаряжением и припасами, и с полдюжины казаков конвоя – угрюмых забайкальцев.
Предводитель не дал ни дня своим прибывшим из полка помощникам отдохнуть. Мещерин с Самородовым только что переночевали в Мукдене, а уже наутро, чуть свет, выступили вместе со всеми в поход. Александр Иосифович сказал: «Прохлаждаться нам, друзья, теперь некогда: война! каждая минута дорога!»
Вывел отряд Александр Иосифович к северу от Мукдена. Но, пройдя верст двенадцать – пятнадцать, он вдруг повернул на запад и больше уже маршрута не менял. На недоуменный же вопрос помощников: почему они идут искать места для лазаретов во фланг к неприятелю? – Александр Иосифович ответил, что это вполне в соответствии с планами главного командования: буквально на днях предстоит большое наступление, и то, что сейчас находится на фланге у японцев, скоро окажется в тылу Маньчжурской армии. Мещерину тогда пришло в голову: а что, если это предстоящее наступление, о котором почему-то уже решительно всем известно, скорее всего, и самим японцам, принесет нам тот же успех, что и выигранное дело под Ляояном? Что тогда будет с лазаретами, оставшимися не в русском, а в японском тылу? Но, привыкший уже на войне не задавать лишних вопросов, а полагаться единственно на разумение начальства, он промолчал.
За три дня они проехали не менее ста пятидесяти верст. Они могли бы двигаться и быстрее, но вынуждены были равняться по мере скорости арбы, запряженной мулами, которые, слава богу, бежали еще довольно проворно.
По дороге несколько раз – то справа, то слева – им встречались китайские разбойники – хунхузы. Но к отряду они не приближались – боялись русских ружей и держались поодаль. Мещерину, научившемуся за время службы в Маньчжурии непроизвольно, но всегда наверно замечать за людьми всякие приметы военного мастерства или его отсутствия, показалось, – именно, показалось! значения этому, как и многим мимолетным наблюдениям, он нисколько не придал, – ему показалось, что некоторые из этих всадников сидят в седлах как-то не по-азиатски. Такая посадка обычно вырабатывается регулярными экзерцициями в манеже. Но особенно акцентировать внимание на каком-то едва подмеченном пустяке, связанном к тому же с опротивевшим и приевшимся военным делом, ему было неинтересно. Скорее напротив, самый его инстинкт отторгал такие приметы.
Мещерину куда интереснее было, например, осмыслить самому и обсудить с Самородовым и Александром Иосифовичем забавность совершенно иного рода: на второй день пути, как-то утром, они повстречали двоих китайцев, которые… ползли по дороге! Причем первыми почувствовали неладное не сами путешественники, а кони под ними, – они начали вдруг фыркать, мотать головами, противиться идти вперед. Люди вначале подумали, что лошади учуяли какого-то зверя. А в Маньчжурии, кроме волков и диких собак, вполне можно повстречать и медведя, и даже тигра. Да что тигра! – лошади, привезенные из России, пугались в Маньчжурии и обезьяны. Они же, право дело, никогда прежде обезьяны не видели. Солдаты-то многие, и те, увидев ее впервые, крестились. Что уж с коней спрашивать?..
Так и теперь вышло: лошади, очевидно, чего-то перепугались. Поэтому и путники насторожились. И вскоре им предстала дивная картина: по дороге ползли два человека – один впереди, другой за ним следом. Несмотря на теплый, ясный день, на них были надеты просторные овчины, в которых сами людишки-то малые едва различались: казалось, будто овчина ползет сама по себе.
Проехать мимо такой невидальщины русские, естественно, не могли. Александр Иосифович распорядился отряду задержаться и принялся расспрашивать китайцев: что все это значит?
Оказалось, это были богомольцы-паломники. И исполняли они не такой уж редкостный для китайской веры подвиг: они ползли к какому-то священному, по их представлению, монастырю в Шаньдунскую провинцию. Какое именно расстояние преодолели эти подвижники, они сами толком не знали. Они рассказали только, что находятся в пути уже полгода. Проблем с питанием у них нет вовсе, потому что во всех селах и городах, где бы они ни проползали, все почитают за счастье удовлетворить любые их нужды. Жаркие овчины на них – это важная часть подвига: без овчины всякий проползет, а попробуйте в овчине!..
Но самым потрясающим оказалось то, что подвиг этот был ими… взят в аренду! Какой-то богатый их земляк за полученное хорошее место положил себе обет совершить паломничество в монастырь самого почитаемого в Китае пророка – Конфуция. Исполнить же этот обет ему потом оказалось недосуг. Но и не исполнять он теперь страшился: а ну как боги разгневаются и нашлют на него бед? И тогда он подрядил идти в монастырь двух добровольных охотников. Причем последние для сугубого подвижничества взялись не просто дойти, но доползти до самого монастыря! До Шаньдуня им оставалось еще верст пятьсот с лишним. Как рассчитал Александр Иосифович, если в день они будут проползать по полторы – по две версты, то оставшуюся часть пути они преодолеют за какой-нибудь год. А если к тому же принять во внимание, что в дороге они ни в чем не знают нужды, то это не такое уж и обременительное препровождение времени. А по китайскому разумению, может быть, даже выгодное. Кстати, выяснилось, что один из паломников, по сути, обеспечивал теперь благополучие семьи: богатый наниматель обязался за все время путешествия кормить его сродников. Второй же полз в счет погашения прежних своих долгов.
– И обратите внимание, – говорил Александр Иосифович, – имея возможность облегчить участь и хотя бы идти пешком, они все-таки ползут. Даже там, где их никто не видит. Такой уж народ.
– Наверное, это религиозный фанатизм, – предположил Самородов.
– В наименьшей степени, – ответил Александр Иосифович. – Во-первых, им выгодно не торопиться. Посудите сами: ползти они будут, допустим, всего где-то полтора года; значит, весь этот немалый срок у них не будет забот о хлебе насущном и о крыше над головой, – их всякий рад накормить и приютить на ночь. Так к чему же им спешить? Ползи и ползи себе. Этак можно и три года ползти, и пять. А во-вторых, совершенно исключить случайные встречи в пути никак не возможно. И если кто-нибудь заметит, что они ползут, предположим, только за полверсты перед деревней и полверсты после деревни, а все остальное время проводят на ногах, об их мошенничестве сразу же всем станет известно. И тогда им, конечно, не видать и сотой доли тех благ, которыми их осыпают теперь.
– Но позвольте… – Мещерин будто очнулся от раздумий. – Если для них это лишь форма существования или способ обеспечить семью, то не лучше ли никуда не ходить, то есть не ползать, а возделывать свой огород или там плотничать, сапожничать, еще какое-то достойное ремесло исправлять?
Александр Иосифович снисходительно улыбнулся:
– Я бы вам, Владимир, на это мог ответить просто: это и есть их ремесло – ползти. Но дело даже не в этом. Вы подходите к проблеме достойного существования с чисто европейскими категориями. Азиаты же рассуждают совершенно иначе: чем ни занимайся или вообще ничем не занимайся – жизнь идет, и ничего изменить в ней невозможно; ползешь ли ты в дальний монастырь, торгуешь в лавочке, заседаешь ли в судебном присутствии или просишь подаяния на улице у прохожих? – какая, в сущности, разница? – жизнь-то идет!
– А вы, Александр Иосифович, неплохо знаете китайцев и их порядки, – заметил Самородов.
– Что же удивительного, – самодовольно отвечал Казаринов. – В молодости мне пришлось служить в русском посольство в Пекине.
– Татьяна Александровна что-то рассказывала… – не стал скрывать Мещерин.
На удивление, имя дочери, прозвучавшее в устах человека, с которым Александр Иосифович прежде категорически и ни в коем случае не хотел его связывать, произвело на него весьма положительное впечатление. Он удовлетворенно усмехнулся.
– Владимир, я как раз хотел поговорить с вами о своей дочери.
Александр Иосифович попридержал коня, чтобы пропустить Самородова и других спутников вперед и остаться с Мещериным наедине.
– Видите ли, в чем дело, – начал он, убедившись, что их никто не слышит. – Я прекрасно помню, что вас связывали с Таней… особенные… дружеские отношения, – сказал Александр Иосифович, подчеркивая слово «дружеские». – И мне хотелось бы объясниться. Нашу с вами последнюю встречу в Кунцеве сердечной, увы, не назовешь…
– Прошу вас, Александр Иосифович… – Мещерину сделалось неловко. Та, последняя, их встреча действительно очень болезненно задела его. Но он давно пережил обиду. К тому же он теперь был тронут тем, что Казаринов оправдывается, извиняется, по сути. – К чему поминать всякие давности! Надеюсь, Татьяна Александровна счастлива. И это главное.
– Я никогда не сомневался в вашем благородстве, Владимир. И, хотите – верьте, хотите – нет, не мог бы и желать более достойного избранника для своей дочери, если бы… Ну вы понимаете, наверное, о чем я… Я человек консервативных воззрений. И это ваше юношеское бунтарство!., простите, но я его не разделяю и не одобряю.
– Возможно, вы правы, – отозвался Мещерин. – Я свой путь избрал осознанно. И вполне понимал, что, выбирая его, я отказываюсь от многого другого…
– Я счастлив, что мы понимаем друг друга, – почти радостно сказал Александр Иосифович. – И прошу вас, знайте: по-человечески я к вам очень благорасположен. – И он протянул Мещерину руку.
Тот энергично, от всей души, пожал руку Казаринову.
К вечеру третьего дня пути Александр Иосифович привел свой отряд к цели. Миновав невысокий перевал с неизменною кумирней на нем, путешественники очутились в просторной долине. Дорога, спустившись с гряды, раздваивалась: налево – к небольшому городку, и направо – к буддийскому монастырю, расположившемуся верстах в шести от перевала у подножия другой, более могучей гряды и поблескивающему в лучах заходящего солнца черепичными крышами.
Мещерин обратил внимание, как взволновался Александр Иосифович, увидев монастырь. Перевал еще не был преодолен, а он уже напряженно, нервно искал что-то глазами по горизонту. А когда наконец вдали блеснул монастырский глянец, Александр Иосифович вполне дал волю чувствам: он чаще вдруг задышал, – так, наверное, неистово заколотилось у него сердце в груди. Казалось, он забыл, что находится не один, – Александр Иосифович вначале машинально осадил коня, так, что тот от неожиданности закрутился на месте, потом пришпорил его, и конь, сразу взяв в карьер, понес наездника под гору. Отряд поспешил вдогонку за предводителем.
Едва русские ускакали, на седловину взобралась еще одна группа всадников. Это были преимущественно китайцы-хунхузы. Но среди них находилось и несколько европейцев. Они не поехали ни налево – к городу, ни вслед за Казариновым и его людьми. Они остановились на перевале и, пока отряд Александра Иосифовича, поднимая пыль, двигался к монастырю, всё смотрели ему вслед.
Смеркалось быстро. И когда Александр Иосифович со своею командой добрался до монастыря, ворота его были уже запертыми. На их стук никто не ответил. Но Александр Иосифович не собирался дожидаться утра. Он велел двум казакам перелезть через стену и отворить ворота изнутри.
На монастырском дворе, кроме сонного привратника, не оказалось ни души. Но вскоре, встревоженные шумом, появились насельники во главе с настоятелем, – все, как один, наголо бритые и в оранжевых подризниках без рукавов. Монахи, очевидно, были напуганы, – они стояли перед русскими в полупоклоне, прижав руки к груди. Тогда Александр Иосифович, не отлагая дела на утро, объявил настоятелю и братии, что их монастырь временно изымается для нужд русской армии. Он протянул настоятелю бумажку и объяснил, что это квитанция, подтверждающая обязательства Российской империи возместить монастырю издержки по окончании войны. Причем Александр Иосифович добавил, что сроку на то, чтобы собраться и удалиться, он может дать монахам лишь до утра. Как настоятель ни возражал, как ни просил он избавить его обитель от злой доли или хотя бы отсрочить их исход, Александр Иосифович оставался непреклонным: до утра! и ни часу более! К тому же он еще более ужесточил требования: он сказал, что монахам позволительно забрать с собой лишь предметы, непосредственно относящиеся к исправлению их обрядов. Все же прочее имущество также изымается для нужд русской армии, как и самые монастырские постройки.
А на следующее утро, выпроводив монахов и отправив Мещерина с Самородовым в город с поручением закупить там крупную партию чаю – для Красного Креста-де, – а также выяснить, далеко ли отсюда японцы, Александр Иосифович энергично приступил к обустройству лазарета в монастыре. Он велел санитарам готовить места для раненых по всем пригодным для этого помещениям: коек в монастыре, естественно, не было, и Александр Иосифович распорядился использовать вместо них, как принято у китайцев, каны.
А казакам он дал задание копать колодец. Хотя на монастырском дворе имелся уже один колодец, Александр Иосифович объяснил, что по современным медицинским правилам в госпитале или в лазарете должно быть не менее двух колодцев.
Прежде чем указать самое место, где требовалось копать, Александр Иосифович довольно долго его определял – рассчитывал что-то, вымерял. Он вышел за ограду. Там саженях в ста от монастыря возвышалась небольшая скала, напоминающая свиную голову с одним ухом. Александр Иосифович встал аккурат под самым каменным ухом и, определив по компасу запад, медленно двинулся по стрелке в этом направлении. Так он дошел до монастырской стены. Заметив, где именно он вынужден был остановиться, Александр Иосифович обогнул стену через ворота и продолжил свой путь уже внутри монастыря. Но там стрелка привела его к новому препятствию – он уперся в одну из пагод. Эту проблему Александр Иосифович решил точно так же, как и в первом случае: он заметил место, у которого остановился, вошел в пагоду и, определив линию своего движения, проследовал по стрелке дальше, опять уперся в стену и опять обошел ее и снова продолжил путь. Так он преодолел все занимаемое монастырем пространство. За ним шли двое казаков и отмечали маршрут Александра Иосифовича – через каждую сажень клали по камушку.
Затем Александр Иосифович проделал то же самое в другом направлении. И опять начал далеко за оградой. У подножия хребта, саженях в двухстах к северо-востоку от монастыря, находилась неглубокая, заросшая кустами пещера. От этой пещеры Александр Иосифович, все так же в сопровождении двух казаков, по компасу пошел на юго-запад. Опять минуя всякие препятствия, он наконец добрался до отмеченной камушками первой линии. Место их пересечения оказалось не где-нибудь, а в самой пагоде. Александра Иосифовича, впрочем, это нисколько не смутило. Но на всякий случай он повторил оба маршрута – и от свиного уха, и от пещеры – еще раз, чтобы удостовериться: а не ошибся ли прежде? не сбился ли где на полшага? – тогда место пересечения линий может оказаться в стороне. Но проверка показала, что и в первый раз его расчет был верен.
Установив же место пересечения линий, Александр Иосифович переменил приказание своим подначальным: теперь он велел им рыть колодец прямо в пагоде – именно там, где линии пересеклись. Причем он авторитетно заметил, что по современным медицинским правилам один, по крайней мере, колодец в госпитале или лазарете должен быть непременно устроен в самом лечебном помещении. Впрочем, казаков все эти обстоятельства нисколько не интересовали: что бы ни приказал им старший, они всё готовы были беспрекословно исполнять. За дело они взялись споро. И, когда Мещерин с Самородовым возвратились из города, лихие забайкальцы углубились в землю уже аршина на три.
Александр Иосифович еще издали увидел, что его посланцы вполне справились с поручением: Мещерин и Самородов гнали к монастырю трех верблюдов, груженных большими белыми тюками – по два на каждом. О японцах же они ничего определенного рассказать не могли. Сведения о неприятеле в городе распространялись самые противоречивые: кто-то говорил, будто японские разъезды рыскают совсем рядом, а кто-то рассказывал, что до ближайшего японца от них будет три дня пути верхами.
Но Александра Иосифовича, похоже, это все не особенно интересовало. Наскоро выслушав доклад своих помощников, он объявил им, что должен довести до их сведения одно исключительно важное сообщение. Настолько важное и секретное, что он не вправе рисковать говорить о нем даже в самом глухом и потаенном монастырском закоулке – а вдруг кто услышит? Поэтому он предложил Мещерину и Самородову проехаться с ним вокруг монастыря.
И вот что сказал Александр Иосифович, когда они оказались совершенно одни в чистом поле.
– Знайте, друзья мои, – произнес он торжественно, – мы приехали сюда вовсе не затем, чтобы устраивать лазарет. Вы верно давеча заметили: какой может быть лазарет под носом у японцев! Но тогда еще не время было открывать вам все подробности нашего похода. Теперь же я должен изложить вам все начистоту. – Кроме того, что я действительно сотрудничаю с Главным управлением Красного Креста, – продолжал Александр Иосифович, – я еще и выполняю здесь секретную миссию нашего Министерства иностранных дел. Дело в том, что министерство недавно получило из посольства в Вене удивительное, потрясающее известие. Суть его заключается вот в чем: какой-то наш посольский чин случайно познакомился там со старою полькой – эмигранткой из России. Неизвестно почему, но эта старуха открыла ему тайну, которую ей поведал перед смертью ее отец и которую она хранила не один десяток лет. Она рассказала, что отец ее в тысяча восемьсот шестидесятом году принимал участие – здесь, в Китае, – в Опиумной войне. В составе англо-французского корпуса. Не знаю уж каким образом, но поляк этот завладел тогда огромными ценностями: как мне рассказывали, в руки к нему как-то попали два ящика с золотом и самоцветами из дворца богдыхана. Спасти эти сокровища, сами понимаете, ему было очень непросто. Если он замышлял единолично завладеть ими, то ему нужно было оберегать их и от своих, и от чужих: и от англо-французов, и от китайцев. Он как-то выправил себе подложные документы и под видом торгового человека стал пробираться с бесценным грузом к русской границе. Путешествие было опасным в высшей степени. Идти в одиночку на Кяхту! через всю Монголию! – это и теперь чрезвычайно рискованно, а прежде – вообще верная смерть! Но лучшего варианта, как бы вывезти золото, у него не было. И вот что он придумал: он купил несколько штук чаю – вот как вы сегодня – и спрятал сокровища в чае – зашил их в тюки. Погрузил все на верблюдов и погнал караван на север. Но до Кяхты добраться так и не сумел. Едва он переехал стену, ему стали досаждать разбойники. Тогда их называли здесь мадзеями. Они всё вились вокруг него. Так же, как нас теперь, всю дорогу сопровождали хунхузы. Но у прежних разбойников все оружие было – сабля да лук со стрелами. А у этого поляка винтовка с револьвером. Поэтому первое время он легко отпугивал своих провожатых, – стрельнет хотя бы в воздух, они и отъедут подальше. Потом осмелеют и снова к нему подбираются. Так они ему досаждали несколько дней. А до Кяхты ему еще оставалось все две недели. И если где-то недалеко от стены он мог хотя бы ночевать в безопасности – там часто попадаются городки, всякие поселения, – то дальше ему предстоял путь по местности почти необитаемой. К тому же у него стали выходить патроны. И вот, дойдя до этой долины, он окончательно понял, что сокровищ до Кяхты ему не довести. Измором его возьмут злые мадзеи. Тогда поляк придумал вот что: он увидел здесь, в долине, вблизи подножия хребта, одинокий придорожный колодец. Он дал по преследователям последний оставшийся у него выстрел, и, когда те по обыкновению укрылись где-то за камнями, он быстро вспорол свои тюки и ссыпал все содержимое в колодец. Потом прикопал на самом краю ямы мешочек с порохом и взорвал его. От колодца не осталось и следа. Вместо него появилась лишь неглубокая воронка. Взрыв помог ему еще выиграть время, – опешившие мадзеи затаились, как никогда, надолго. Тогда поляк быстро снял план местности. Он определил по компасу, что ровно на востоке от колодца находится вот эта скала, похожая на голову одноухого поросенка. Видите? А в тридцати градусах севернее от нее вон та пещера под горой. Зная эти приметы, легко отыскать клад. Достаточно от свиного уха проложить линию на запад, а затем проследовать от пещеры на юго-запад под углом в тридцать градусов относительно установленной прежде оси, и искомая точка будет найдена, – она окажется в месте пересечения двух линий. Все очень просто. Не правда ли?
– Но на этом месте, как я понимаю, позже встал монастырь? – заметил Мещерин, и они с Самородовым переглянулись: что-то подобное им приходилось когда-то слышать.
– Совершенно верно, – продолжал Александр Иосифович. – Поляк не сумел уже воспользоваться своим кладом. Хорошо, хоть не убили его тогда мадзеи. Иначе бы о кладе вообще больше никто никогда не узнал. Разбойники, схватив его наконец, вначале жестоко избили, а потом продали в рабство в Монголию. Через несколько лет ему удалось сбежать и перейти русскую границу. Но в России за ним числилось какое-то давнее преступление. Политическое к тому же. Поэтому, когда личность его была установлена, он отправился еще на многие годы в тюрьму. И на волю вышел только после восемьдесят первого года. Это был уже немощный, больной старик. Ни о каком кладе думать ему разумеется, уже не приходилось. Он только сумел добраться домой – не то в Люблин, не то в Радом, – разыскал там свою дочь, которую не видел с самого ее младенчества и которая сама уже была немолода – на четвертом десятке где-то, подробно рассказал ей обо всем и… вскоре умер.
– Значит, это она открыла тайну своего отца нашему дипломату в Вене? – догадался Самородов. – Но зачем? Она что же, не попыталась сама завладеть сокровищами, на которые у нее прав больше, чем у кого бы то ни было?
– Алексей, ну что вы! как вы рассуждаете! – удивился Александр Иосифович. – Как, по-вашему дама может добыть этот клад, не рискуя быть обобранной до нитки?! Естественно, она позаботилась найти надежных помощников, с которыми если и придется делиться, то лишь частью сокровищ.
– Так она все-таки получит какую-то долю в результате? – для чего-то поинтересовался Мещерин.
– Вот этого я знать не могу, – ответил Александр Иосифович. – Мне поручено лишь добыть эти сокровища и вывезти их в Россию. А уж как там с ними распорядятся – не мое дело. Нам с вами сейчас нужно думать о другом: государство ведет тяжелую, исключительно дорогостоящую войну, и сейчас важен каждый рубль, поступающий в казну. Потому что каждый дополнительный рубль – это жизнь одного солдата. Вы можете себе представить, сколько под этим монастырем лежит пушек, винтовок, пулеметов?! Если все это нам удастся пустить на нужды армии, мы спасем жизни тысячам наших солдат. И скорее одержим победу.
Мещерину и Самородову очень понравился такой ответ. Они оба искренне-уважительно посмотрели на Казаринова. Мещерин только спросил:
– Простите, Александр Иосифович, а почему именно вы этим занимаетесь?
Неожиданным такой вопрос для Казаринова отнюдь не оказался.
– Министр граф Ламсдорф мне вполне доверяет: я когда-то уже имел честь служить под его началом. Давать же столь секретное поручение кому-то из военных – например, штабу Маньчжурской армии – очень рискованно. Я от всей души уважаю Алексея Николаевича – это добрейший человек, – но тайны его штаба самым непостижимым образом до японцев доходят раньше, чем до наших командиров полков. Вот почему Ламсдорф решил не связываться с военными, а поручить дело какому-нибудь надежному человеку со стороны, – ответил Казаринов. – Однако, друзья, поспешим к нашему колодцу. – Александр Иосифович закончил приватные их переговоры. – Чего доброго удальцы-забайкальцы без нас докопаются до клада.
Казаки и правда за это время значительно углубились в землю. Но тревожиться за сокровища, как казалось Александру Иосифовичу, было еще рано. Прежде чем начать копать колодец в пагоде, он велел измерить глубину имеющегося колодца на дворе монастыря. До его дна оказалось все три сажени. Следовательно, и старый, засыпанный, должен быть где-то такой же глубины. Уровень воды в соседних колодцах обычно приблизительно одинаковый. И если рыть в час по аршину, как это выходило у казаков, то до клада можно было добраться в лучшем случае где-нибудь к вечеру. Так рассчитал Александр Иосифович.
Но когда он с двумя своими помощниками въезжал в монастырские ворота, а навстречу ему бросился урядник с криком: «Ваше высокородие! Ваше высокородие! Нашли!.. Там нашли!..», начальник отряда едва чувств не лишился от ужаса. У него только промелькнуло: все пропало! проклятые казаки! надо было не отходить от них.
Но оказалось, что урядник совсем не то имел в виду.
– Ваше высокородие! – доложил он. – Там уже был колодец! Мои орлы до старой кладки докопались! Теперь быстрее пойдет!
Александр Иосифович взглядом человека, избавившегося от смертных мук, посмотрел на Мещерина с Самородовым и впервые на их памяти перекрестился. Он немедленно направился в пагоду.
Казаки, как выяснилось, прокопали уже не меньше шести аршин.
– Молодцы, ребята! – похвалил их Казаринов. – Ну будет вам копать. Дайте другим поработать. Ступайте отдохните.
Дважды казачков просить идти отдыхать не требовалось.
– Что ж, приступим, – распорядился Александр Иосифович, когда все посторонние удалились из кумирни.
Он посветил факелом в вырытую казаками яму. Там в глубине, ниже уровня пола пагоды аршина на три, была видна старинная колодезная кладка.
– Все верно, – как-то по-новому глухо, невнятно, верно, сильно волнуясь, проговорил Казаринов. – Выше кладки и не должно быть: она вся разрушена взрывом.
Александр Иосифович велел Мещерину лезть вниз и продолжать копать. А Самородов должен был вытягивать наверх на веревке кадушку с землей. Сам же предводитель только нервно крутился вокруг ямы, подсвечивая Мещерину факелом. Наверное, глухой стук из его груди доходил и до Мещерина. А уж Самородов вполне отчетливо слышал, как рвется наружу сердечко господина Казаринова.
Так они трудились часа два. Мещерин с Самородовым за это время несколько раз менялись местами. Рядом с ямой выросла приличная горка земли вперемешку с камнями, очевидно, налетевшими когда-то в колодец от разрушенной кладки. Когда снизу раздавался лязг ударившейся о камень лопаты, – а раздавался он то и дело, – Александр Иосифович вздрагивал, насколько возможно пригибался к яме, опускал еще ниже факел и срывающимся, неверным, будто лихорадочным голосом спрашивал: что там? или: что это?! Но всякий раз слышал в ответ, что камень-де попался.
Но вот однажды, после очередного удара лопаты обо что-то твердое, на вопрос Казаринова о природе произведенного звука ответа не последовало. Александр Иосифович как будто понял, отчего внизу примолкли. Он рухнул на пол и, свесившись в колодец, совсем уже не владея чувствами, истерически прокричал:
– Что там?!.
– Кажется, есть… – раздался со дна глухой, похожий на стон голос Мещерина.
Александр Иосифович больше не мог произнести ни звука. Он только показал знаком Самородову, чтобы тот скорее поднимал кадку наверх.
Когда же кадка показалось на поверхности, Александр Иосифович бросился к ней и запустил внутрь дрожащую руку. Пальцы его коснулись какого-то холодного предмета неопределенной формы. Он вынул этот напоминающий камень предмет и поднес к нему поближе факел. Это оказалась статуэтка мутно-зеленого цвета.
– Нефритовый император… – прошептал Александр Иосифович.
Он долго вглядывался в лицо китайскому божку. Казалось, он борется с чувствами – верить ему в случившееся или не верить? произошло чудо на самом деле или ему это только кажется? Наконец, по губам предводителя скользнула улыбка.
– Продолжим, – сказал он, засовывая статуэтку в карман. Голосу его вернулась прежняя уверенность.
Следующею находкой оказался кубок, заблестевший при освещении пламенем тусклым красным цветом. А потом уже находки – большие и малые – пошли без счету. Александр Иосифович велел помощникам вытряхивать теперь кадку в отдельную новую кучу. И скоро у его ног образовалась приличная гора земли, из которой во все стороны торчали всякие ценности: украшения – перстни, браслеты, какие-то нагрудные бляхи на цепях с изображением разных птиц и животных; богослужебная утварь – чаши, блюда, кадильницы, подсвечники, статуэтки. Александр Иосифович захватил из кучи горсть земли, растер ее в руках, и, когда земля ссыпалась на пол, у него в ладони остался камушек размером с орех. Даже в полумраке было отчетливо видно, как он прозрачен и чист. Зайчики побежали по стенам и потолку кумирни, когда на его грани упал свет факела. Александр Иосифович, будто испугавшись, что своим алмазным блеском камушек привлечет чье-то внимание, крепко сжал его в кулаке, а кулак засунул в карман.
На улице уже давно стемнело. Оставив ненадолго своих помощников, Александр Иосифович пошел сделать кое-какие распоряжения по отряду. Он приказал казакам выставить у ворот караульного, а всем прочим идти ложиться спать. Китайцу – погонщику мулов – Александр Иосифович вручил некую записку, – тот немедленно вскочил на коня и куда-то умчался.
Затем Александр Иосифович разыскал в одном из монастырских помещений вещевые мешки Мещерина и Самородова. Он сам им велел там оставить свои вещи, пока они будут копаться в кумирне. Убедившись, что его действия остаются никем не замеченными, Александр Иосифович быстро и аккуратно что-то положил в мешки своих помощников.
Когда он возвратился в пагоду, раскопки там уже закончились. Мещерин и Самородов сидели возле насыпанной ими кучи земли вперемешку с драгоценностями. У них уже не оставалось сил даже рассматривать замечательные находки. Но отпускать помощников отдыхать в планы Александра Иосифовича пока отнюдь не входило.
– Всё достали? – бодро спросил он их.
– До самого дна вычистили, – ответил Мещерин. – Хорошо, колодец давно пересох: вода не мешала.
– Превосходно. Теперь нам нужно сделать вот что: всю эту кучу тщательно просеять, чтобы отделить золото и камни от земли и затем драгоценности зашить в тюки с чаем.
На все это у них ушло еще часа три. Особенно много они провозились с драгоценными камнями. Чтобы все их отыскать, землю пришлось просеивать через обычное сито, которое Александр Иосифович раздобыл на монастырской кухне. Оттуда же он прихватил шесть мешков из-под муки. Он придумал камушки упрятывать в чай не россыпью, а прежде разделить их на части, каждую часть завязать в отдельный мешок и уже эти мешки зашивать в тюки вместе с золотыми предметами. Это было весьма разумное решение. Мало ли что может случиться в дороге! Неизвестно, какие неожиданности могут быть впереди! И если по какой-то причине не удастся вывезти сокровища целиком, то придется довольствоваться хотя бы их частью, хотя бы одним мешком камней, что тоже составляет баснословный капитал. А спасти мешки или один мешок много легче, нежели весь груз. Так рассудил Александр Иосифович.
Когда драгоценности были спрятаны в тюки, Александр Иосифович велел сложить эти тюки у стены под навесом, где стояли кони и верблюды. И лишь после этого он разрешил Мещерину с Самородовым идти спать.
Сам же Александр Иосифович, хотя и валился от усталости, отправился еще проверить, как там караульный исправляет свою службу. Он подошел к монастырским воротам. Там, опершись на винтовку, сидел молодой казак. И, на удивление, не спал. Разве дремал.
– Ну что, брат, небось поспать бы рад? – весело спросил его Александр Иосифович.
– Никак нет, ваше высокородие! – вскочил казак. – Вовсе не хочется.
– Знаю, знаю, как вам не хочется. Как звать?
– Прохором, ваше высокородие.
– Ну давай уж, Проша, ступай к своим. Я сам здесь покараулю. Мне что-то не спится. Если урядник спросит, зачем ты не на посту, скажи, что я так распорядился.
– Слушаю! – обрадовался казачок. И сию секунду исчез.
Однако до своих служивый не дошел. Помня первое отцово наставление, что от хозяйского глаза конь добреет, а коли конь не выдаст, то и враг не съест, он прежде заглянул проведать верного друга. Там под навесом Прохор обнаружил сложенные друг на дружку мягкие тюки, от которых так приятно пахло чаем. Казак подумал: а зачем ему идти спать на этой китайской каменке – несносном кане и еще слушать могучий храп земляков станичников, когда он может чудесно устроиться прямо здесь – на чае? Ночи к тому же стоят теплые. Опять же и конь рядом. Поэтому он решил далеко не ходить, а здесь же и заночевать. Прохор вскарабкался на тюки, нашел там уютную ложбинку, поудобнее устроился в ней, прикрылся шинелькой, да и заснул сладко.
Когда казак ушел, Александр Иосифович повязал на рукав повязку с красным крестом и присел неподалеку от ворот. Сон действительно к нему не шел. До сна ли, когда главные испытания еще впереди? Какие еще опасности его поджидают? Как ловчее избежать их? Все эти мысли только и занимали сейчас Александра Иосифовича. Поэтому он и не мог сомкнуть глаз.
Уже светало, когда в ворота легонько постучали. Александр Иосифович вскочил как ужаленный. Он ждал возвращения своего посыльного и все равно оказался застигнутым врасплох его стуком – в таком возбужденном состоянии теперь находился.
Александр Иосифович тихонько, страшась наделать малейшего шуму, отворил ворота. И в монастырь, совершенно беззвучно, как тени, проскользнули японские солдаты. Всего человек до сорока. Во главе с офицером. Кто-то из них встал на караул у ворот, кто-то залез на стену, а большинство быстро рассыпались по двору. Александр Иосифович не мог не оценить, как же четко каждый из них знает свой маневр. Русские бы солдаты держались скопом, ожидая, пока командир распорядится.
Офицер вначале смотрел на русского в полувоенном мундире очень строго, но, когда разглядел у него на рукаве красный крест, а особенно после того, как китаец-кули что-то рассказал ему, указывая на господина Казаринова руками, взгляд японца чуточку умягчился. Он откозырял Александру Иосифовичу. А тот, в свою очередь, многозначительно кивнул головой в сторону сооружения рядом с кумирней, в котором прежде жила братия, а теперь спал весь его отряд. Подробности военному человеку были не нужны. Он все прекрасно понял.
Офицер немедленно что-то приказал своим солдатам, и те по своему обыкновению бесшумно, по цепочке, вбежали в братский корпус.
Александр Иосифович невольно весь напружинился, ожидая перестрелки или штыковой резни. Но опасения его были напрасны. Из корпуса только что раздалось несколько вскриков, потом послышался удар, будто от обрушенья чего, но ни единого выстрела так и не прозвучало. Тотчас вслед за этим двери распахнулись, и под конвоем японцев во двор высыпали насмерть перепуганные русские казаки и солдаты, без шапок и шинелей, и все, как один, совершенно очумевшие со сна.
Они сбились в кучку посреди двора и, как затравленные зверьки, оглядывались по сторонам. Казалось, они еще не вполне понимали, что с ними произошло.
Некоторые японские солдаты выходили на улицу с вещевыми мешками русских и бросали их на землю, под ноги пленным.
Японский офицер что-то отрывисто прокричал своим солдатам, и те принялись обыскивать русских. Не обнаружив ничего особенного у пленных в карманах, японцы взялись за их мешки. Они вытряхивали их прямо на землю и довольно брезгливо перебирали незатейливые вещицы русских солдат.
Вдруг один из японцев выхватил из кучи барахла какой-то предмет и бросился с ним к офицеру. Пока тот внимательно рассматривал эту находку, что-то необычное среди вещей пленных нашел еще один японский солдат. И тоже поспешил со своей находкой к офицеру.
И тут с офицером произошла удивительная метаморфоза. Прежде подчеркнуто спокойный, невозмутимо строгий, он вдруг совершенно вышел из себя. Он впал в неистовство. Размахивая перед самым лицом Александра Иосифовича какими-то предметами, что нашли его солдаты в русских мешках, офицер вопил совершенно истерически.
Александр Иосифович, не понимая, в чем причина претензий японца, испуганным, просящим помощи взглядом посмотрел на слугу китайца, умевшего по-японски. И тот тоже испуганно и оттого быстро и сбивчиво перевел речь офицера. Оказывается, его солдаты нашли среди вещей русских пленных несколько предметов – часы, нож, еще что-то, – очевидно, принадлежащих прежде японцам. Об этом свидетельствовали японские надписи на них. Причем среди этих предметов был и небольшой кожаный альбом, до половины заполненный красивыми иероглифами. Офицер немедленно определил, что это поденные записки японского солдата, обрывающиеся в дни Ляояна. Как эти вещи могли попасть к русским? Японцы нисколько не сомневались, что все это было захвачено у убитых их товарищей. А с мародерами японцы не церемонились – расстреливали безо всяких проволочек.
Солдаты показали своему командиру, среди каких именно вещей они обнаружили взбесившие его до крайности находки. И тогда офицер, принявший уже прежний свой строгий и невозмутимый вид, велел китайцу узнать у пленных, кому принадлежат эти вещи.
Мещерин и Самородов, ни слова не знавшие по-японски, тем не менее, догадались, что причиной гнева японцев стало содержимое их мешков, а значит, и им самим угрожает какая-то неприятность. Впрочем, не чувствуя за собой ни малейшей вины, они готовы были оправдаться по любому обвинению. Поэтому не особенно и тревожились. Но когда китаец-кули объяснил, что их обвиняют в мародерстве, они просто-таки онемели от неожиданности и от абсурдности предъявленного обвинения. Оба солдата только с мольбою во взгляде обернулись на Александра Иосифовича.
Но предводитель, похоже, был обескуражен не меньше их. На своих ближайших помощников он смотрел с изумлением, какого они прежде никогда не видели в его глазах. На его лице было написано: как же вы могли?! мыслимое ли дело?!. И тем не менее из солидарности с ними Александр Иосифович бросился их защищать. При помощи китайца он принялся упрашивать офицера не судить строго его солдат, быть милосердным к их молодости, снисходительным к каким-то их необдуманным, мальчишеским поступкам. Обычно ревностно соблюдающий свое достоинство, Александр Иосифович теперь чуть ли не колени готов был обнимать заносчивому японцу. Для пущей, по его мнению, убедительности Александр Иосифович особенно ссылался на то, что они – санитарный отряд и пришли сюда с единственной целью – обустраивать лазарет. Но все было тщетно. Японец ничего даже не ответил господину Казаринову. Он что-то приказал своим солдатам, и двое из них, направив на Мещерина с Самородовым штыки, стали подталкивать их к воротам.
Осознав наконец, какая участь им выпала, Мещерин и Самородов поплелись понуро, куда указывали конвойные. Они больше ни на кого не смотрели. Не искали взглядом ничьего заступничества. Напротив, несчастные оклеветанные теперь отворачивались ото всех, прятали глаза, чтобы не показать своим, насколько они в отчаянии от случившегося, насколько потерянны и напуганны.
Японские солдаты отвели их за скалу, похожую на свиную голову. И через минуту оттуда один за другим раздались два выстрела.
Александр Иосифович и японский офицер переглянулись. Взгляд господина Казаринова был примирительным и льстивым. Японца – высокомерным и недобрым.
Офицер что-то сказал Александру Иосифовичу.
– Ваша просьба выполнена, – перевел его слова бывший тут же китаец.
– Да, благодарю, – отвечал Александр Иосифович. Он жестом пригласил японца отойти в сторону.
Они подошли к навесу, под которым были уложены огромные кубовидные тюки.
– Передайте в штаб о готовящемся двадцать второго числа наступлении русской армии, – понизив голос, сказал Александр Иосифович. – Главный удар генерал Куропаткин планирует нанести по вашему правому флангу. На левом же ожидается прежде лишь неопасная для вас демонстрация.
– Что еще? – строго, будто приказывая, спросил японец.
– Корпус генерала Штакельберга, который, по замыслу русского штаба, будет выполнять обходной маневр, насчитывает свыше семидесяти батальонов, тридцать эскадронов, полтораста орудий и тридцать пулеметов.
– Что еще? – так же строго спросил офицер.
– Численность всей русской армии в Маньчжурии составляет теперь почти двести тысяч штыков и двадцать тысяч сабель. Точных сведений по артиллерийским орудиям мне добыть не удалось. Но, кажется, всего где-то около семисот пушек…
Офицер поморщился.
– Очень плохо, – недовольно проговорил он. – Японцы любят во всем точность. А вы, русские, всегда говорите приблизительно.
Александр Иосифович развел руками, показывая, что-де уж какие есть…
– Что это? – спросил офицер, указав на тюки под навесом.
– Отличный китайский чай, – похлопал Александр Иосифович ладонью по тюку. – Вот везу с собой в Россию. У нас чай дорог. Хочу немного заработать. Вы же понимаете…
Японец почти брезгливо посмотрел на Александра Иосифовича, и с таким видом, будто достоинство не позволяет ему больше находиться в этой компании, он без единого слова удалился.
Когда под навесом не осталось ни души, откуда-то из тюков вылезла вихрастая голова. Воровато оглядевшись по сторонам и убедившись, что его никто не видит, молодой казак, заночевавший давеча на чае, спрыгнул на землю и, показывая вид, будто у него и не было других забот, принялся что-то хлопотать у лошадей. Никаких подозрений ни у кого это вызвать не могло: японцы пленных в неволе не держали, – все русские, хотя и безоружные, свободно ходили по монастырю и занимались чем-либо по своему усмотрению.
Глава 6
Когда Мещерина вели на расстрел и он уже смирился со своею участью и не думал искать спасения, ему припомнилось – из романов, из прочих литературных сочинений, – что перед казнью приговоренные обыкновенно очень эмоционально прощаются между собой, бросаются друг к другу в объятия, целуются, говорят какие-то трогательные последние слова. Но ему в эту минуту почему-то не то что целоваться – посмотреть на Самородова было стыдно, он прятал от него глаза: Владимиру казалось, что сейчас им предстоит пережить что-то такое слишком интимное, и пройти это таинство аутодафе было бы легче всего, имея в свидетелях лишь его исполнителей. Он, кстати, вспомнил, что в старину иногда вешали, обнажив жертву ниже пояса, – такой позор считался дополнительной карой. И Мещерину сделалось совсем невмочь от стыда. Он даже чуть прибавил шагу, чтобы поскорее покончить с экзекуцией и таким образом избавиться от невыносимых мыслей. Самородов, по всей видимости, испытывал те же чувства: во всяком случае, он не делал ни малейшей попытки хоть как-то отнестись к другу.
Японцы выбрали место казни подальше от монастыря не случайно: закапывать потом трупы они не собирались, – вот тоже дополнительная кара! – но и оставлять их где-то вблизи места своего постоя, пускай и непродолжительного, очевидно, не соответствовало их японскому представлению о комфорте. Они завели Мещерина с Самородовым за небольшую скалу, что находилась в четверти версты от монастыря, и показали им знаком вставать у отвесной стенки. Мнимые мародеры, все так же не глядя друг на друга, покорно встали, куда им было велено. Японские солдаты, не мешкая, вскинули винтовки, прицелились… и в следующее мгновение оба свалились замертво, сраженные чьими-то меткими выстрелами.
Друзья ничуть не испугались – дальше пугаться им было некуда; и нисколько не обрадовались – на это у них уже не оставалось ни сил, ни эмоций. Скорее они остались безразличными к происходящему. Они даже не удивились, когда увидели, как из кустов выскочили и побежали к ним старые их добрые знакомые, с кем встретиться в Китае, казалось, было совершенно немыслимо – Василий Никифорович Дрягалов, его сын Дмитрий, Паскаль Годар, еще какой-то бравый старик благообразного вида в мундире французского штаб-офицера, только что без погон, бывший, по-видимому, в этой команде начальствующим: все его беспрекословно слушались – даже Дрягалов! – причем ловили каждое его слово, каждый жест.
Василий Никифорович, Дима и Паскаль было кинулись обнимать Мещерина и Самородова, но благообразный старик немедленно пресек эти сантименты: он что-то коротко распорядился, указав на убитых, и все, будто разом забыв о своих любезных знакомцах, подхватили бездыханных японцев и потащили их к кустам. Мещерин с Самородовым вначале очумело смотрели на происходящее, но когда престарелый распорядитель, не церемонничая, крикнул им на прекрасном французском: «Какого дьявола стоите! помогайте!» – они наконец пришли в себя и бросились исполнять приказание.
Вшестером они быстро оттащили убитых повыше в горы и там спрятали в неприметной ложбинке, завалив камнями, – найти их было уже невозможно ни в коем случае, даже если свои и отправились бы на поиски пропавших.
А еще через четверть часа пути по крутым и извилистым горным тропкам маленький отряд вышел на небольшой, поросший кустами уступ. Оттуда монастырь был виден как на ладони. На монастырском дворе вполне можно было разглядеть не только синие мундиры японцев, но и Александра Иосифовича с его белою повязкой на рукаве. Господин Казаринов ходил по двору вместе с японским офицером и что-то ему рассказывал при помощи китайца-переводчика.
Здесь, на уступе, был устроен натуральный лагерь: посреди крошечной полянки чернело кострище, аккуратно обложенное камнями и прикрытое со стороны долины тремя шалашами, – это позволяло разводить в темноте костер, не опасаясь быть обнаруженными кем-то внизу. Мещерин, вполне научившийся замечать и должным образом оценивать всякое военное мастерство, сразу про себя отметил, что лагерь спланирован весьма искусным квартирмейстером. Вряд ли такая премудрость была по плечу Дрягалову, а тем более Диме или Паскалю. Скорее всего, это заслуга все того же бравого старца, что теперь так энергично командовал при их вызволении от смертной напасти. Так рассудил Мещерин.
Тут же на полянке, под скалой, переминались с ноги на ногу кони, привязанные к вбитым в землю кольям. А у шалашей копошились китайцы – человек с полдюжины, – в которых Мещерин с Самородовым безошибочно угадали разбойников-хунхузов.
Только теперь, оказавшись на этом укромном бивуаке, в безопасности, счастливые спасенные смогли наконец обняться со своими спасителями. Все им улыбались, старались сказать что-то ободряющее. Паскаль представил друзьям предводителя их боевого отряда – своего дедушку отставного подполковника Шарля Анри Годара.
В это время из шалаша вышла стройная девушка, на которой была надета удивительная смесь дамского платья и военного мундира: плотная до хруста юбка и гусарская епанечка, без погон, однако, но расшитая кутасами. Мещерин с Самородовым, как и полагается солдатам, во все глаза уставились на девушку.
– Неужели не узнаете? – со смехом сказала красавица.
Друзья действительно выглядели довольно смешно, настолько велико было их изумление, – перед ними собственной персоной стояла Лена Епанечникова! Но бывалые военные быстро пришли в себя. Мещерин хотел было припасть к руке чаровницы, но передумал и поцеловал Леночку в самые губы, раз уж такой случай вышел. Самородов последовал его примеру.
– Ай да кавалерист-девица! – закричал он, не выпуская Лену из объятий. – Сдавайся, Япония!
Леночка, вымученно улыбаясь, оглянулась на Диму Дрягалова.
– Пойдемте, я вам коней покажу, – позвал Дима слишком пылких дамских почитателей.
Пока пополнение осваивалось на новом месте, старший Дрягалов с Леной занялись приготовлением завтрака. Костер теперь разводить было никак невозможно – японцы в монастыре наверняка уже хватились своих и немедленно заявятся сюда, если только увидят дымок. Но у путешественников оставалось еще больше чем полтуши жареной дикой свиньи, которую вчера вечером подстрелил Паскаль. Василий Никифорович нарезал мяса ломтиками, Лена подала вина, и у них не завтрак вышел, а решительный обед. Не забыл он поделиться по-братски и с провожатыми китайцами: для хунхузов, привыкших, если случиться, питаться собаками и кошками, а то и белками с воронами, это вообще стало настоящим пиршеством.
За трапезой Мещерин с Самородовым рассказали наконец о том, за что их собирались казнить. Но оказалось, это не было здесь ни для кого новостью. Подполковник Годар, с самой зари не отводивший от монастыря бинокля, видел решительно все, что нынче утром там произошло: как Александр Иосифович отворил японцам ворота, как те захватили спящих русских, как обыскивали их и как, отделив двоих, у которых было найдено что-то, по всей видимости, компрометирующее, повели в укромное место… Зная, как великодушно обычно относятся в армии микадо к пленным, Годар понял, что эти двое уличены в мародерстве – чуть ли не единственном преступлении, за которое японцы немедленно расстреливают.
– Они действительно нашли у нас в мешках какие-то японские вещицы, – подтвердил Мещерин. – Но, честное слово, понятия не имею, как это могло у нас оказаться…
– Вы узнаете об этом в свое время, – ответил подполковник. – То, что приключилось с вами, это лишь эпизод очень давней истории. И, увы, не заключительный эпизод.
Старый Годар кивнул Паскалю, и тот развернул перед Мещериным и Самородовым целую эпопею. Начал он с самой старины глубокой, с того времени, когда его дедушка принимал участие здесь, в Китае, в Опиумной войне.
– Вы помните, – продолжал Паскаль, – что рассказывал нам Егорыч на вилле господина Дрягалова? Он служил когда-то в русском посольстве в Пекине и однажды под водительством некоего секретаря посольства отправился искать в один из отдаленных буддийских монастырей клад. Помните? Так вот взгляните, – Паскаль указал рукой в долину, – вот он этот монастырь. А клад вы, наверное, сами же теперь и нашли. Не так ли?
У друзей вытянулись лица. Они не могли произнести ни слова. Мещерин только согласно кивнул головой на последние слова Паскаля.
– Но вы, разумеется, догадываетесь, кто был тот секретарь русского посольства?
Мещерин просто-таки вздрогнул от пронзившей его догадки.
– Господин Казаринов! – выдохнул он. – Не может быть!..
– Может, мой друг, может, – улыбнулся Паскаль.
– Воспользовавшись тем, что в Маньчжурии началась большая война, – подхватил рассказ внука старый Годар, – он снова приехал попытаться завладеть сокровищами. План его был великолепен: захватить монастырь под видом устройства в нем госпиталя и тогда уже беспрепятственно докопаться до клада! Но одному человеку, даже такому ловкому, как этот ваш господин Казаринов, такая задача вряд ли по силам. Поэтому ему потребовались помощники. То есть вы. Когда же дело было сделано, от ненужных больше помощников и свидетелей он решил избавиться. И подстроил так, чтобы японцы заподозрили вас в мародерстве и казнили.
– Не может быть!.. – снова вымолвил Мещерин. – Он же так отчаянно заступался за нас перед японцами.
– Естественно, – усмехнулся подполковник. – Он перед вами до конца рисовался человеком чести. А интересно, как он вам объяснил, откуда ему стало известно о кладе?
– Он сказал, что ему дал поручение наш министр иностранных дел – давнишний его знакомый, – ответил Мещерин. – А в министерство поступила соответствующая информация от дипломата из Вены: тому-де стало известно о сокровищах от какой-то старой польки, эмигрировавшей прежде из России.
– Браво! – воскликнул подполковник. – Хочешь покрепче соврать – скажи, между прочим, и правду! А вот послушайте, как было на самом деле, – продолжал он. – Четверть века назад этот господин служил в вашей Польской провинции, и там он как-то инспектировал некий дом умалишенных. В этом заведении он случайно познакомился с дочерью того самого Мельцарека, что так коварно обманул меня когда-то. Эта дама, рассчитывая, верно, на благородство и альтруизм нового своего молодого знакомца, открыла ему тайну сокровищ китайских императоров, доставшихся некогда ее отцу и укрытых последним в месте, о котором теперь знала единственно она самая. Но господин Казаринов не только не имел в виду делиться добытыми ценностями, напротив, он сделал все возможное, чтобы навсегда обезопасить себя от претензий дольницы. Он добился, чтобы она была признана безнадежно невменяемой и, таким образом, никогда бы уже не покинула больничной палаты. Мошенник разыграл тогда целую комедию: он представил так, будто она набросилась на него в припадке безумия, причем для совершенной убедительности он сам себе в кровь разбил голову. Так эта несчастная полька теперь и доживает свои дни. Все в том же доме для умалишенных. По дороге сюда мы специально сделали остановку в Польше. Довольно легко разыскали ее – она не была никогда замужем и носит фамилию отца. К тому же, как мне показалось, она не такая уж и полоумная. Но, сами понимаете, когда человек постоянно твердит о каких-то сокровищах, его, безусловно, все принимают за безумца.
– Мы с дедушкой решили на обратном пути забрать эту польку с собой, – добавил Паскаль не без гордости. – Несправедливо совершенно обездолить ее, как это сделал бы господин Казаринов. Каким бы мерзавцем ни был ее отец, она-то не виновата ни в чем. Да и, в конце концов, в значительной степени именно благодаря ей мы нашли клад. Заслуга ее велика: не сохрани она тайну своего отца, господин Казаринов никогда бы не привел нас к этому монастырю.
– Паскаль, ты так говоришь, будто сокровища уже навьючены на ваших лошадей, – сказал Самородов. – Но, мне кажется, господин Казаринов отнюдь не собирается с кем бы то ни было делиться, – заметил он, обращаясь теперь к старшему Годару.
– Совершенно верно, – согласился подполковник. – Найти сокровища мало. Теперь нам еще предстоит завладеть ими, возвратить их. Каков вероятный план дальнейших действий этого Казаринова? Под охраной конвойных казаков, которые, разумеется, ничего не знают об истинном содержимом чайных тюков, он отправится на север, на Кяхту. Путь туда не ближний. За это время мы должны успеть управиться.
– Позвольте! – изумился Мещерин. – Вы хотите перебить конвой? – Он оглянулся на Дрягалова, будто ища поддержки у русского человека, когда речь зашла о жизни русских же.
– Советую вам быть повежливее, молодой человек, – притворно строго произнес старый Годар. – Франция с Россией в сердечном согласии. И каждый русский солдат дорог французам не меньше, чем свой собственный. Но у нас есть все основания считать, что этот ваш соотечественник служит японцам, то есть предает интересы России. Если это станет очевидным для его конвойных, то вряд ли они уже будут ему защитой. А лучше вас никто не сможет убедить их в этом.
– Спасибо, сударь, что вы так лестно оцениваете патриотические чувства русских солдат, – в свою очередь нарочито торжественно ответил Мещерин. – Но вы опасно заблуждаетесь. Если господин Казаринов подкупит конвой, даст, к примеру, каждому по золотой безделушке от своих щедрот, эти казаки не то что присягу позабудут – жену отдадут дяде!
Когда Дима перевел отцу последние слова Мещерина, Василий Никифорович, с уважением глядя на молодого знатока русской души, согласно покачал головой.
– Уверяю вас, этого не произойдет ни в коем случае! – решительно возразил подполковник. – Если он покажет своим конвойным хотя бы незначительную часть сокровищ, он рискует потерять их целиком. Я думаю, он не хуже вас знает натуру русского казака.
И опять Дрягалов молча подтвердил справедливость сказанного.
– Итак, – сказал подполковник Годар, когда стороны вполне обменялись сведеньями, – давайте пока, наверное, придерживаться такого плана действий: японцы непременно отпустят этого Казаринова, потому что он состоит с ними в связи; дальше он поведет свой караван на Кяхту; мы же всею нашею франко-русскою антантой, – усмехнулся он, – будем его тайком провожать, как провожали сюда от самого Мукдена, выжидая случая, когда можно будет объявиться и рассказать конвойным казакам, кто такой их предводитель. Важнейшая роль в этом отводится вам, господа. – Подполковник посмотрел на Мещерина с Самородовым.
Тем временем китайцы накипятили воды, – для костра они использовали исключительно сухой и оттого бездымный, как порох, хворост – и позвали Леночку готовить чай. За девушкой, позабыв тотчас, что он переводчик при отце, последовал Дима.
Дрягалов проводил сына насмешливым взглядом.
– Видать, сватов засылать скоро… – сказал он, обращаясь к Мещерину и Самородову.
Друзья удивленно переглянулись. Они вовсе даже не предполагали, что Лена Епанечникова и Дима Дрягалов приходятся друг другу кем-то ближе, нежели просто знакомые, настолько вроде бы разные люди, но теперь вдруг ясно все увидели: точно, это любовь! все приметы налицо! и как сразу не заметили!
– Коли так, вас можно поздравить, Василий Никифорович, – произнес Мещерин. – Кроме того, что Лена красавица, редкостной души девушка, бывшая к тому же в гимназии первою ученицей, она еще и чрезвычайно выгодная партия: вы же знаете, наверное, что у нее отец известнейший в Москве врач, владеющий немалым состоянием.
– Знаю, – как о чем-то само собою разумеющемся сказал Дрягалов. – Иначе б я молодца и близко к девице не подпустил.
Долго сидеть в засаде франко-русской антантене пришлось: не наступило еще и полудня, когда из ворот монастыря вышел караван – три навьюченных верблюда в сопровождении конного отряда.
Впереди ехал сам господин Казаринов. Хотя предводителю за прошедшую ночь не только глаз не случилось сомкнуть, но и пришлось изрядно потрудиться, он был по обыкновению бодр и энергичен: Александр Иосифович громко перекликался со своими спутниками, беспрестанно отпускал шутки по поводу меланхолически бредущих верблюдов, называя их караваном Синдбада и выездом китайского императора. Забайкальцы не особенно понимали его мудреные речи, но угодливо усмехались в ответ на реплики начальника.
Когда японцы в монастыре хватились двух своих солдат, не возвратившихся после расстрела русских мародеров, офицер, начальствующий в японском отряде, распорядился немедленно отправляться на поиски пропавших. Естественно, первым делом японцы заглянули за скалу, похожую на свиную голову, но там ни их соплеменников, ни приговоренных русских не оказалось. Не на шутку обеспокоившийся офицер хотел было со своими людьми основательно прочесать предгорье. Но Александр Иосифович отговорил его от этого: он сказал, что солдаты, по всей видимости, стали жертвами рыскающих тут хунхузов; если они живы, что, впрочем, маловероятно, то разбойники рано или поздно сами позаботятся известить о них японцев, не безвозмездно, разумеется; если же они мертвы, то тем более искать их нет смысла – на войне как на войне, и всех мертвых не соберешь. Так рассудил господин Казаринов. И офицер, как ни был ему лично неприятен этот русский, согласился с его доводами – слишком уж хлопотны были поиски.
Но, уговорив японского офицера особенно не тревожиться, сам Александр Иосифович встревожился не на шутку: он, как и все, отчетливо слышал два выстрела, а между тем пропало четыре человека. Значит, по крайней мере двое из них остались живы. Кто именно? Если действительно приговоренных к смерти и исполнителей приговора за скалой подкараулили хунхузы, то убивать русских, которых и без того уже взяли на мушку, им не имело никакого смысла. Следовательно, убиты были японцы. Мог быть и другой вариант, правда, очень маловероятный: японцы выстрелили в воздух, приговоренных отпустили, а сами дезертировали. В любом случае свидетели счастливой находки – Мещерин с Самородовым, – скорее всего, живы и представляют для него большую опасность.
Размышляя таким образом, господин Казаринов, однако, старался ни в коем случае не выглядеть озабоченным своими беспокойными думами, напротив, он казался абсолютно невозмутимым.
Маршрут, избранный Александром Иосифовичем, был для старого Годара довольно неожиданным: подполковник полагал, что господин Казаринов предпочтет путь хотя и долгий, но довольно спокойный, лежащий далеко в стороне от военных действий, веками к тому же хоженный – через Гоби, на Кяхту. Но непредсказуемый уполномоченный Дамского комитета о раненых повел свой караван назад к Мукдену. А это означало, что времени на раздумье, как бы ловчее завладеть сокровищами, практически не оставалось. Даже меланхоличным верблюдам и тем одолеть сто пятьдесят верст трех дней вполне достанет. А поди-ка успей управься за эти три дня! К тому же относительно людные места, по которым Александр Иосифович пошел в обратный путь, еще более усложняли задачу подполковнику Годару: если конвойных казаков еще как-то можно было убедить в измене начальника и таким образом лишить его их попеченья, то надеяться добиться того же от китайской императорской стражи, что встречалась на пути едва ли не в каждой деревне, было весьма отчаянно. Поэтому подполковник, совершенно не имея в виду какой-то комбинации, какого-либо плана действий, просто решил следовать пока тайком за караваном, полагаясь единственно на счастливый случай. Но ни в первый, ни во второй день случая так и не представилось.
К вечеру второго дня пути Александр Иосифович, будто бы издеваясь над своими преследователями, переправился со всеми верблюдами через реку и, не доходя нескольких верст до мандаринской дороги, остановился на ночлег в большом селе.
Больше подполковнику Годару надеяться было не на что: завтра, думал он, этот ловкач выведет свой караван на относительно приличную дорогу, на которой то и дело встречаются русские разъезды, и можно будет за ним уже не следить – от сокровищ придется окончательно отказаться.
И тогда старый военный решился просто довериться судьбе – будь что будет; если совершенно не находится приема, как бы подступиться к этому неуязвимому русскому, придется действовать единственно наудачу.
Верст еще за двенадцать до того места, где Александр Иосифович, а вслед за ним и подполковник Годар со спутниками переправились через реку, им повстречалась большая толпа китайцев. Это были обычные поселяне. Все они, в том числе и дети, тащили на себе какую-то поклажу – цветастые узлы, разной формы и размера корзины. Некоторые везли на верблюдах и мулах собственные гробы – самое ценное, что есть у многих китайцев. Издали слышны были протяжные крики: «Юей!..», «Юей!..» – так обычно кричат погонщики мулов.
О причине такого массового исхода подполковник Годар догадался сразу же: это спасались жители какого-то села, могущего быть захваченным театром военных действий. Как китайцы заранее об этом узнавали? – одному богу известно. Но почти всегда они безошибочно накануне сражений оставляли свои дома и прятались где-то в укромном месте.
Сомнений быть не могло – где-то поблизости скоро нужно было ожидать баталий. Предположение это подтверждалось еще и частыми, порой переходящими в непрерывный гул, будто отголоски дальней грозы, артиллерийскими выстрелами, доносящимися откуда-то с востока. Такой грозы не было слышно с самого Ляояна. Значит, месячному затишью на фронте русской и японской армий наступил конец.
Подполковник Годар сразу не стал входить в село, где остановился на ночлег господин Казаринов. Укрывшись неподалеку в гаоляне, он прежде послал на разведки одного из китайцев.
Разведчик доставил, впрочем, вполне ожидаемые известия: село было почти пусто, а русский офицер,как называл китаец Александра Иосифовича, вместе с конвоем расположился в одной из самых больших и благоустроенных фанз.
Дождавшись темноты и оставив коней с китайцами за стеной, охотники за сокровищами прокрались к фанзе, где почивал господин Казаринов со своими конвойными. У двери фанзы сидел караульный и, как полагается казаку, спал, обнявши винтовку. К нему, едва касаясь земли, подошли Мещерин с Самородовым. Мещерин слегка толкнул казака в плечо и выхватил у него из рук винтовку от греха подальше, а Самородов тотчас зажал ему ладонью рот. Пока казак мычал и пытался отбиться, Паскаль зажег факел и осветил лица истязателей нерадивого караульщика. Силы разом оставили несчастного служивого. Его отвалившаяся челюсть и вылезшие из орбит глаза вполне выдавали чувства казака: не иначе ему представилось, что призраки из преисподней явились по его душу. Пришлось одному из призраков как следует казачка встряхнуть. Лишь после этого он, кажется, признал в Мещерине с Самородовым не призраков, а настоящих, вполне живых и осязаемых, своих знакомцев.
– Тихо, Тимофей, – шепнул ему Мещерин. – Живые мы, как видишь. А ну пошли-ка в дом.
На всякий случай, по-прежнему не позволяя казаку ни вырваться, ни вскрикнуть, ночные гости бесшумно вошли в фанзу. Дрягалов и Леночка освещали путь факелами, а подполковник, Паскаль и Дима держали наготове наганы.
Внутри вповалку – кто на чем – лежал весь отряд Александра Иосифовича. Самого же предводителя видно не было. Старый Годар огляделся по сторонам – комната, если не считать спящих на полу и по канам людей, была по китайскому обыкновению совершенно пуста. И вдруг подполковник стремительным броском метнулся к отворенной двери, резко отдернул ее и сам отскочил в сторону. Не сделай он этого, вряд ли ему оставаться в живых. За дверью, выставив вперед револьвер, стоял Александр Иосифович. Грохнул выстрел. Пуля, беспрепятственно миновав место, сию секунду еще занятое человеком, впиявилась в глиняную стену. Второй раз нажать на курок господин Казаринов не успел – подполковник ловким, верным движением выбил у него из руки наган. А Паскаль, тотчас приставив холодное дуло к голове Александра Иосифовича, убедительно дал понять, что тому лучше оставить сопротивляться и подчиниться победителям.
Казаки, разбуженные выстрелом, похватались было за винтовки, но, опешившие от крика Мещерина «Отставь!», так и застыли в прежних позах.
– Здорово, ребятушки, – сказал им Мещерин уже вполголоса. – Узнали? Видите, не расстреляли нас японцы… как ни старались их благородие. – Он выразительно посмотрел на Александра Иосифовича.
– Все прекрасно помнят, как я старался спасти вашу жизнь! – с нарастающим звоном в голосе воскликнул Александр Иосифович, относясь больше к своим конвойным казакам, нежели к Мещерину с Самородовым. – Как отстаивал вас, рискуя на себя самого навлечь гнев неумолимого врага! Но теперь я скажу иначе: вас не расстреляли японцы, так вы непременно будете расстреляны русскими! Вы дезертиры! Вы разбойничаете! Вы против царской власти святой пошли! А я выполняю особое поручение! – Теперь он уже непосредственно обращался к казакам. – Моя миссия секретная! Меня уполномочил сам министр иностранных дел! Сам Куропаткин! Вот предписание главнокомандующего! – Он потянулся к нагрудному карману, будто хотел что-то достать оттуда, но не достал, однако. – Вы должны немедленно сложить оружие! Кто эти люди с вами? Тоже беглые?
– Неужто не признаете, господин Казаринов? – откликнулся Дрягалов. – Летом гостить у меня изволили с дочкой.
А вот и подружка дочкина. – Он по своему обыкновению махнул бородой в сторону Лены. – Ее-то, чай, помните? А сторожа моего, Егорыча, тоже забыть изволили?! – грозно пророкотал он.
Присутствие здесь еще каких-то московских знакомых было для Александра Иосифовича полною неожиданностью. Особенно задела, взволновала его последняя реплика Дрягалова. Он, очевидно, занервничал.
– Урядник! – закричал Александр Иосифович. – Вы кому служите? государю императору? или этой разбойничьей шайке? Арестовать их! Я приказываю арестовать их всех! – Александр Иосифович не сомневался, что применить оружия против своих, русских, Мещерин с Самородовым ни сами не посмеют, ни сообщникам не позволят этого сделать.
Урядник, не отрывая взгляда от наганов деда и внука Годаров, осторожно подобрал винтовку. Остальные казаки последовали его примеру. И действительно им никто не помешал вооружиться – ни русские, ни французы.
– Братцы! – попытался Мещерин убедить конвойных не подчиняться начальнику. – Не верьте! Мы не дезертиры! Он сам японский шпион!
Александр Иосифович усмехнулся.
– В штабе разберутся, кто чей шпион, – уверенно сказал он. – А пока я вас беру под арест. Урядник! Принять у них оружие!
Урядник, почувствовав уверенность в голосе начальника и сразу сделавшись, как и полагается ему, беспрекословным и бескомпромиссным служакой, двинулся исполнять приказание. Казаки также угрожающе зашевелились.
– Погоди, братцы! – вдруг подал голос молодой казак – тот самый, что давеча в монастыре заночевал на тюках с сокровищами. – Погоди, сказать дозвольте! Помните, когда вас взяли японцы, меня не было со всеми. Я ночью стоял на часах, а их благородие под утро отпустили меня спать. Но я не в келейку пошел, а прилег прямо возле лошадок. Там и схоронился, когда японцы пришли. И я все слышал, как их благородие с японским офицером разговаривали: они рассказывали тому о нашем скором наступлении и сколько всего войска будет у русских…
Какое-то время все стояли молча, изумленно глядя друг на друга.
Подполковник Годар, сделавшийся было от своего горького поражения ко всему безразличным, когда понял, что развязка складывается не в их пользу, теперь мигом ожил. Он что-то шепнул Диме.
– Господин подполковник предлагает обыскать шпиона, – громко произнес Дима.
– Очень разумно, – подтвердил Мещерин, обращаясь к казакам. – Мы не против, чтобы и нас обыскали. Пусть все будет по-честному. Вот тогда и посмотрим, кого придется брать под арест.
Урядник, совсем уже посуровевший, оглянулся на Александра Иосифовича. И тут уже нервы господина Казаринова не выдержали.
– Казаки! Братцы! Эти люди преследуют меня, чтобы завладеть сокровищами, что мы везем под видом чая! – закричал он истерически. – Поймите! Мы везем с вами несметные сокровища китайских императоров! Пойдите проверьте! В тюках зашито золото! Не дайте только им отнять его у нас! Не дайте этим аферистам завладеть им! Оно наше с вами! Любо, казаки?! – зазывно воскликнул Александр Иосифович.
Казаки нерешительно переглянулись. Подполковник Годар безнадежно опустил глаза, услышав перевод. Но опять спас дело Мещерин:
– А еще в тюках зашит сам китайский император, вместе со свитой и любимым верблюдом! – со смехом продолжил он в тон Казаринову. – Сам видел! Сдадим его в штаб и получим по фунту табаку в награду!
Шутка казакам понравилась – они дружно загоготали.
– Ну ладно, будет. – Урядник окончательно определился. – Давайте-ка выкладывайте все, что при себе имеется… Добром прошу, – сказал он, прежде всего, Казаринову.
Мещерину же с Самородовым угрожать не требовалось: друзья сами немедленно вывернули карманы. Но ничего такого компрометирующего или подозрительного у них не оказалось.
Настал черед Александру Иосифовичу показывать содержимое карманов. О том, что обыск для господина статского советника равносилен катастрофе, говорил весь его вид – от отчаяния и испуга на нем просто-таки не было лица.
– Вы не смеете ко мне прикоснуться! Ничтожества! – слезно пролепетал Александр Иосифович. – Я дворянин!
– А мы с Алексеем разве перестали быть дворянами? – спокойно ему заметил Мещерин. – Стало быть, наше прикосновение вам унизительным не покажется.
Но урядник уже даже не стал дожидаться, когда окончится их перепалка: он кивнул своим, и два казака немедленно принялись обыскивать господина Казаринова. В нагрудном кармане его кителя оказалась сложенная вчетверо бумага. Казаки подали ее уряднику. Но прочитать написанное на ней тот не мог ни в коем случае – на бумаге были начертаны иероглифы. Зная, что Самородов неплохо понимает по-китайски, урядник передал бумагу ему.
– Это не китайское письмо, – сразу же заключил Алексей. – Скорее всего, здесь написано по-японски.
По-японски в отряде вполне понимал один только проводник-китаец.
– Здесь написано, – прочитал китаец, – что всякий японский военный без различия чинов должен оказывать содействие господину подателю этого документа. И подпись – генерал Кодама.
– Это начальник японского главного штаба! – воскликнул Мещерин, выхватив из рук китайца бумагу. – Ах ты, мерзавец! – Он впервые в жизни отнесся к Александру Иосифовичу на «ты». – Сколько наших уже погибло на войне. Ты же повинен в их крови! Дворянин!
Казаринов, тем не менее, еще пытался оправдываться:
– Это не имеет ко мне отношения! Это грязный подлог! Провокация! – Обращался Александр Иосифович почему-то теперь только к подполковнику Годару. Видимо, понимал, что у соотечественников ему тщетно икать сочувствия. – Меня оклеветали враги. – Он оглянулся вокруг, словно ища этих врагов. – Я без вины опорочен!
Годар, глядя на эти кривляния, только головой покачал укоризненно.
– Ваше высокородие, – сказал урядник Казаринову, – я должен взять вас покамест под стражу. Не обессудьте. – И он жестом показал своим казакам увести Александра Иосифовича.
И тут все наконец обратили внимание на дверь, – до того всеобщее внимание было всецело поглощено постыдным поведением господина Казаринова, – в проеме стоял, и, может быть, уже довольно давно, стройный, с тонкими черными усиками и в пенсне, японский офицер.
И прежде чем люди в фанзе пришли в себя от неожиданности, японец на вполне приличном русском сказал:
– Прошу всех сохранять спокойствие. Деревня занята японскою армией. Сопротивляться бесполезно. Вы в плену.
В ту же секунду на всех окнах разом прорвалась бумага, и в фанзу заглянули стволы хорошо знакомых русским арисак. Не меньше дюжины всех. Это был весьма убедительный аргумент в пользу слов японского офицера.
– La fin de voyage… [29]– проговорил Мещерин.
Подполковник Годар первым демонстративно бросил свой наган на пол. За ним последовали все остальные, причем раздался грохот, будто фанза обвалилась.
Александр Иосифович тотчас смекнул, как ему теперь следует действовать. Он проворно выхватил у Мещерина свою бумагу и протянул ее японцу:
– Вот, господин офицер, мои документы. Пожалуйста, прочитайте.
Офицер внимательно изучил бумагу и ответил:
– Но только что, я слышал, вы убеждали всех, что это не имеет к вам отношения, что это подлог и провокация.
– Да нет же! Как вы не понимаете! – с мольбою в голосе принялся объяснять Александр Иосифович. – Я вынужден был отказываться от этой бумаги ввиду грозящей мне смертельной опасности. Это же настоящие изуверы! Социалисты! – Он указал на Мещерина с Самородовым. – Опаснейшие личности! На днях один ваш офицер приказал их расстрелять за мародерство: у них были найдены вещи убитых японских солдат, которые они украдкой присваивали. Но им удалось бежать прямо во время казни, причем их сообщники убили ваших солдат, что должны были привести приговор в исполнение. Вот они, эти люди. – Он вытянул палец в сторону Дрягалова, Димы, Леночки, подполковника Годара и Паскаля. – Их всех надо казнить. Немедленно! Расстрелять!
Японец смотрел на господина Казаринова со сфинксовою невозмутимостью. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Только в стеклах пенсне мерцало отраженное пламя факелов. И казалось, будто офицер гневно сверкает глазами. Он тогда обратился к Мещерину:
– Может быть, это ваша бумага?
– Нет, не моя, – поспешил ответить Мещерин. – Этот господин сейчас был вполне искренен: он действительно шпион японского главного штаба.
– Но когда я вошел, видел ее у вас в руке. Если все-таки бумага принадлежит вам, она могла бы спасти жизнь не только вашу, но и всех, за кого бы вы ни попросили. Так ваша она или нет? – допытывался для чего-то японец.
Мещерин ответил не сразу. Он незаметно покосился на своих друзей: как бы они подсказали ему поступать? Но все, кроме старого Годара, прятали глаза.
Лишь подполковник не отводил от молодого человека взгляда – сострадательного, но и восторженного одновременно. С тех пор как собравшиеся в фанзе осознали, что они нечаянно угодили в плен, Дима Дрягалов больше не переводил старому Годару слов переговаривающихся сторон, но подполковник прекрасно понимал и без перевода, о чем теперь шла речь. Догадавшись, перед каким выбором оказался этот молодой русский, он припомнил, что ему и самому когда-то очень давно пришлось решать подобную же проблему в похожей ситуации. Тогда он сделал выбор в пользу подначальных. Но он рисковал только жизнью. Теперь же, как можно понять, стоит вопрос чести. А это, пожалуй, подороже будет. И когда Мещерин, пробежав глазами по своим товарищам, встретился взглядом с Годаром, подполковник чуть заметно отрицательно покачал головой.
– Нет, бумага не моя, – твердо заявил Мещерин японцу.
– Молодец, Володя! – Эмоциональный Самородов бросился обнимать друга. – Я знал, что ты не сможешь поступить так же, как этот. – Он небрежно кивнул в сторону Казаринова.
Японский офицер почему-то заулыбался, оскалив два больших заячьих резца. Похоже было, что ему понравилось поведение Мещерина. По его приказанию солдаты собрали оружие пленников и, разделив последних на две группы, распределили их по арестантским. Вначале взяли под стражу казаков. Когда же уводили остальных, Леночка спросила у Казаринова:
– Александр Иосифович, помните, вы как-то сказали Тане, что наша подруга Лиза Тужилкина выдала полиции Владимира и Алексея? Вы это сами придумали? Этого же не было?
Поняв, что ему больше как будто ничего не грозит, а безотрадная участь его недругов, напротив, не вызывает уже никаких сомнений, господин Казаринов приободрился, приосанился, к нему вернулась обычная уверенность.
– Для достижения высокой цели все средства хороши, – самодовольно произнес Александр Иосифович. – И результат, которого я достиг, вполне оправдывает эти средства. Впрочем, вам, Лена, это должно быть уже все равно. Ваше путешествие на самом деле окончилось. Я расскажу Тане, как героически вы погибли за Россию.
– Негодяй! Как же можно девушке это говорить! – Мещерин было набросился на Казаринова, но японские солдаты штыками преградили ему путь и вытолкали за дверь.
В деревне действительно было полно японцев. Не меньше батальона. Они сновали по улицам, рыскали по фанзам. Причем вели себя исключительно тихо. Только офицеры иногда отдавали короткие, лающие приказания. Солдаты же были все немы как рыбы. Русские всегда находили такое поведение японских нижних чинов диковинным – в нашей армии солдаты не переговаривались между собой, разве когда спали.
Пленных заперли в сарае, пригодном для заключения арестантов не больше, чем плетеная из лозин изгородь: его глиняные растрескавшиеся стенки, казалось, вовсе не были помехой, чтобы запросто пройти их насквозь, будто через туманную пелену. Остальные сараи в деревне ничем не отличались от этого. Впрочем, японцы особенно и не заботились о прочности уз для своих пленников: убежать из деревни, занятой целым батальоном пехоты, было практически невозможно.
– Заметь, – сказал Самородов Мещерину, когда за ними закрылась дверь арестантской, – нас собираются расстреливать за последние три дня уже второй раз. Только на этот раз нас, кажется, некому больше выручать…
– Друзья! – обратился ко всем Мещерин. – Этот подонок Казаринов непременно станет убеждать японцев, что для пользы его шпионажа лучше будет нас всех расстрелять. Понятно, он в этом крайне заинтересован: мы все свидетели его измены, к тому же знаем, что за груз он везет под видом чая. Но не надо забывать о том, насколько милосердны японцы к пленным. Кроме, может быть, нас, мародеров, – не удержался он пошутить. – Более гуманного отношения нет нигде, ни в одной армии в мире! Прежде всего, Лена, ты должна знать – тебе ровно ничего не грозит. Ты – сестра милосердия и была с отрядом только с единственной целью – оказывать помощь раненым. К тому же, советую тебе, отвечать японцам, если спросят, что ты с Казариновым незнакома.
– Незнакома?! – вздрогнула Леночка. – Нет уж! Я с ним хорошо знакома! А сегодня окончательно познакомилась. Сказать кому-то, что я его не знаю, Володя, для меня то же самое, как тебе было признать японскую бумагу своей. И не говори мне ничего больше!
Мещерин только руками развел. А Дима Дрягалов, не отходивший ни на шаг от Леночки, незаметно нашел ладошку девушки и крепко сжал ее в своей ладони.
– Что касается вас, – продолжил Мещерин по-французски, обращаясь к деду и внуку Годарам, – то вы, подполковник, и ты, Паскаль, являетесь представителями невоюющей державы и в качестве военнопленных вообще ни в коем случае не можете рассматриваться.
Французы переглянулись.
– Мы не уйдем, – решительно ответил Паскаль.
– Вы уйдете для того, чтобы попытаться нас спасти! – повысил голос Мещерин. – У нас нет ни малейшей надежды на спасение. Но если кому-то удалось бы отсюда выбраться, у оставшихся такая надежда появилась бы.
Подполковник Годар только кивком головы подтвердил согласие с доводами Мещерина.
– Кстати, – заметил Самородов, – уходя, вы можете спасти по крайней мере одного еще человека. Дима прекрасно говорит по-французски. К тому же он по возрасту явно не военнослужащий. А главное – его не знает наш друг Казаринов. Поэтому вы, подполковник, вполне могли бы сказать японцам, что приехали в Маньчжурию с двумя внуками.
– Я не уйду! – Дима, не раздумывая, повторил ответ своих великодушных товарищей. Но у него, может быть, была самая весомая причина: в плену оставалась возлюбленная.
– Не дури, Димитрий! – зарычал на него Дрягалов. – Ступай отсель, коли случай. Я тебе говорю!
Но Дима, всегда покорный родительскому повелению, теперь решительно возразил отцу.
– Будет вам, папаша, – сказал он, старательно подпуская в голос баску. – Здесь вашей воли надо мною нету.
– Да ты… Да ты… Отцу перечить!.. – Дрягалов, очевидно, растерялся.
Но его поддержала Леночка. На правах невесты она могла уже выказывать некоторую требовательность к молодому человеку.
– Дима, если только появится возможность, ты уйдешь! – строго сказала Лена. – Володя говорит правильно: оттого что мы все здесь, нам больше пользы не будет.
Хотя Дима и был так воспитан, что вовсе не умел ни в чем покорствовать женщине, но на этот раз он нашел аргументы в пользу его попытки вырваться из плена слишком убедительные. И возражать не стал.
Мещерин тотчас окликнул часового и велел позвать офицера. Скоро пришел тот же самый японец, что так эффектно пленил их давеча. Он выслушал Мещерина, внимательно изучил документы подполковника Годара, которые подтверждали, что тот является штаб-офицером французской службы, прикомандированным в качестве наблюдателя к русскому главному командованию. После этого японец распорядился освободить подполковника, а также двух его соотечественников и помощников и препроводить всех троих в штаб для исполнения каких-то формальностей.
Глава 7
При японском батальоне, что занял деревню и взял в плен отважных путешественников с их бесценным грузом, находился какой-то крупный чин – полковник – из штаба армии генерала Оку. Освобожденных из-под стражи подполковника Годара, Паскаля и Диму немедленно представили этому офицеру. Иностранные наблюдатели были ему нисколько не в диковину – их немало находилось и при японской армии. Изредка случалось даже, что наблюдатели волею разных обстоятельств оказывались на противной стороне фронта. Ни русские, ни японцы в таких случаях их обычно не задерживали. Поэтому и теперь японский полковник, лишь удостоверившись в исправности бумаг французов, велел их отпустить. Единственное он попросил прежде Годара дать честное слово, что они не передадут никаких сведений о расположении и численности японских войск русскому командованию. Подполковник слово дал.
Получив от доброхотных японцев еще и лошадей на всех – конфискованных теми, впрочем, у китайских крестьян, – Годар повел своих подначальных к северу, к расположению русской армии. Никаких идей, как бы вызволить оставшихся в плену спутников, у него пока не было. Подполковник единственно рассчитывал, что если русские начали большое наступление, то появятся они и здесь. И тогда уже можно будет каким-то образом позаботиться о пленниках.
Где-то неподалеку на востоке, значительно ближе, чем вчера вечером, грохотали пушки и раздавались взрывы снарядов – там, судя по всему, кипело сражение.
Часа через два пути они вдруг встретили группу русских солдат – человек тридцать – сорок, – бредущих со стороны, откуда раздавался грохот боя. Причем люди все были до крайности растерянны, обескураженны: они боязливо озирались кругом, а завидев трех всадников, частью бросились наутек, частью приготовились к обороне, как-то неумело, неловко сгрудившись в кучу. Но, поняв, что это не вражеский разъезд и вообще не японцы, а скорее свои, странные солдаты несколько приободрились, осмелели.
Старшим в этой удивительной команде был молодой унтер по фамилии Овсяненко. Он рассказал, что их полк час назад был рассеян превосходными силами японцев. И теперь его остатки, те, что не были перебиты и не попали в плен – ротами, взводами, – разбрелись во все стороны.
Годар решительно объявил унтеру и всем нижним чинам, что они поступают под его команду. Хотя на подполковнике и был полувоенный мундир без знаков различия, выглядел он очень импозантно: его красные рейтузы и зеркальные голенища производили впечатление, как если бы на плечах блестели генеральские погоны. Прекословить или хотя бы усомниться в его полномочиях никто не посмел.
Велев солдатам ожидать их здесь и пока укрыться в гаоляне, Годар погнал коня в сторону, откуда, по словам унтера, отходили остатки русского полка.
Паскаль сразу понял, что задумал лихой старик, когда так безоговорочно объявил русским о своем начальствовании над ними.
– Дедушка, но ты же давал слово японцам!.. – весело, будто в предвкушении упоительного приключения, прокричал Паскаль, едва поспевая за предводителем.
– Я дал слово не доводить до русского командования никаких сведений о них! – также стараясь перекричать топот коней, отвечал подполковник Годар. – Но не воевать лично против японцев я никому не обещал!
– Ну тогда я горжусь тобою! – в полном восторге выкрикнул Паскаль.
Подполковник только рукой махнул в ответ, показывая, как сейчас ему не до комплиментов.
Скоро им повстречалась еще одна группа русских – даже более многочисленная, чем первая, – во главе с раненым офицером, представившимся поручиком Леденецким. Хотя он и был ранен легко, подполковник велел Паскалю отдать поручику коня, а самому пешком отправляться вести людей к месту сбора. Годар так позаботился об офицере, прежде всего, потому, что, по его замыслу, скоро от него потребуется быть насколько возможно бодрым и способным управляться в бою. Отправив пополнение, Годар вдвоем с Димой продолжил свой путь.
Не прошло и часа, как он собрал еще сотни полторы русских. Таким образом у подполковника под началом набралось налицо две роты. К тому же при одной из отступавших групп оказался пулемет. К сожалению, им не встретилось больше ни одного обер-офицера. Но продолжать поиски было уже некогда. Годар поспешил со своим отрядом к деревне, в которой, может быть, еще ждали помощи их товарищи.
Время подходило уже к вечеру. Но это было Годару как раз на руку: с его малыми силами предпринимать что-либо при свете дня не имело никакого смысла. Пока же не стемнело, он с Леденецким и с Димой произвел пешую рекогносцировку, распорядившись солдатам теперь отдыхать, а унтеру Овсяненке тем временем тщательно проверить у всех оружие.
Прежде всего, Годару нужно было осмыслить самую японскую диспозицию: для чего вообще здесь, на северном берегу реки, появился неприятель, в то время как, безусловно очевидно, русские начали большое наступление и сами восточнее перебираются на ту сторону? При таких условиях японцам разумно было бы не выдвигаться вперед, к тому же столь невеликими силами, а прочно держать на своем берегу линию обороны, причем соблюдать эту линию насколько возможно прямой, чтобы не позволить противнику взять в клещи какой-то выступ, а при удачном его охвате и получить возможность прорыва. Но не случайно же сюда забрел японский батальон? Рек случайно не преодолевают! Значит, ему была поставлена какая-то важная цель. Несомненно, японское командование имело в виду исполнить какие-то намерения при этом.
Подполковник вполне был осведомлен о стратегии японского главного штаба, позаимствованной у пруссаков, – решительный обход противника с фланга. Японцы за эту войну уже неоднократно показывали себя верными последователями своих европейских учителей. Скорее всего, рассудил Годар, и здесь подготавливается именно такой маневр.
Верстах в десяти восточнее японцы завязали крепкий встречный бой. До того крепкий, что разбили русский полк. Но преследовать его, как рассказал Леденецкий, они не стали. Таким образом, лишь демонстрируя контрнаступление, японцы, по всей видимости, хотят привлечь, насколько возможно, большие силы противника. И все выстраивается вполне логично: русские, обеспокоенные этой демонстрацией, бросят туда резервы, и тогда уже здесь, западнее, японцы обойдут их с фланга. Над русской армией нависнет угроза катастрофы, и ей не наступать будет впору, а поспешно ретироваться. Если еще японцы позволят это сделать. Выходит, батальон, занявший ночью деревню, является авангардом, имеющим целью подготовить плацдарм, на который затем легко переправятся значительные японские силы.
Годар с Леденецким и Димой подобрались к деревне, насколько позволяла густота кустарника – саженей за двести. Подполковник сразу обратил внимание, что деревня выглядит какой-то подозрительно неживой, словно вымершей. Во всяком случае, снаружи стены не было ни души, а над крышами фанз – ни дымка. Но это подполковника нисколько не смутило, потому что он хорошо знал манеру японцев всегда таиться, где бы они ни находились. А внимательно всмотревшись на стену в бинокль, он различил в некоторых бойницах маленькие японские фуражки, напоминающие шапочки парижских рассыльных. Значит, японцы не только не ушли из деревни, – они зорко наблюдали кругом, очевидно, опасаясь появления противника.
– Эх, полбатарейки бы, – прошептал Леденецкий. – Три минуты, и весь батальон у богини Аматэрасу.
– А наши друзья у Христа, – добавил Годар.
– Верно… – досадуя, согласился поручик. Он хоть и знал об этом, у него совсем вылетело из головы: в деревне же в плену находятся соотечественники!
Подполковнику, в общем-то, все уже было ясно. Он представил, что произойдет, если ночью они отважатся на штурм. Это будет резня вслепую, всех со всеми. Но японцев больше раза в полтора-два. Хотя ночью это незаметно. Зато у атакующей стороны бесспорное преимущество – неожиданность. Это уравнивает противников. К тому же подначальные его русские не знают, сколько именно японцев в деревне. Пусть думают, что немного. Неприятель же вполне может посчитать, что раз его атакуют на выгодных позициях, значит, непременно превосходными силами. Кто же будет бросаться на крепость меньшим числом? – эта здравая мысль не может не прийти в голову обороняющимся. И в этом, несомненно, большое преимущество атакующих.
До наступления темноты оставался разве час. Годар хотел до этого времени успеть еще взглянуть на деревню с обратной стороны – от реки. Поэтому разведчикам пришлось поторопиться. Чтобы остаться незамеченными, им нужно было забрать покруче, и крюк у них выходил версты в две.
Наконец Годар увидел японскую позицию сзади. От реки деревня отстояла, наверное, на целую версту. Но не деревня заинтересовала теперь старого военного: на той стороне реки что-то копошились японцы – несколько десятков. Очевидно, это была понтонная рота, Годар разглядел в бинокль – они строили переправу. Для малых сил переправы не строят. Значит, здесь ожидается переход крупных сил неприятеля. Все выходило в точности, как и предполагал подполковник.
Выбрав место, откуда переправу наиболее удобно было обстреливать и в то же время в наименьшей степени терпеть ответного огня, подполковник послал Диму скорее привести сюда пулеметную команду. А тем временем он изложил Леденецкому план их действий.
Пытаться совершенно овладеть деревней, уничтожив или изгнав при этом неприятеля – ночью! меньшими силами! – было, по мнению Годара, почти безнадежною авантюрой. Поэтому действовать он решился следующим образом: малыми силами демонстрируя приступ с севера и с востока, ворваться главным ударным отрядом в деревню с запада. Причем группе этой не только не должно быть вменено искать схваток с неприятелем, напротив – по возможности избегать их. У нее цель единственная – во что бы то ни стало добраться до арестантской, где содержатся пленные, освободить их и немедленно отходить. Этот отряд подполковник намерен был возглавлять лично. На юге, со стороны реки, Годар не планировал вообще неприятеля как-то тревожить, оставляя, таким образом, ему свободу отступать. Это было бы совершенным успехом дела. На что, впрочем, подполковник отнюдь не рассчитывал. Но если, паче всякого чаяния, такая неожиданность и случится – может быть, японцам покажется, что их атакует полк! – то особенной-то свободы они не найдут и в собственном тылу, – именно здесь, южнее деревни, их будет караулить русский пулемет. Пулеметчики же должны твердо знать, что кто бы ни появился в пространстве между деревней и рекой – это не свои, и по ним можно смело открывать огонь.
Вот такую диспозицию представил подполковник Годар своему молодому русскому товарищу по оружию. Леденецкий нашел ее блестящею и единственно возможною. Он только предостерег начальника лично участвовать в приступе и вызвался самостоятельно возглавить ударный отряд. Но подполковник категорически не согласился: он сказал, что возглавлять отряд должен только тот, кто точно знает, где именно содержатся пленные, иначе может возникнуть какая-либо заминка, и тогда предприятие неминуемо обернется гибелью всех – и отряда, и пленных.
Уже взошла луна, когда Дима привел пулеметчиков с их громоздким «максимом». Годар объяснил солдатам, что, в сущности, они совершенно вольны в своих действиях: если заметят людей справа, отходящих от деревни к реке, значит, это японцы, и патронов можно не жалеть; если же покажутся люди слева, от реки, то это, безусловно, японцы, и тут уже не то что патронов – себя не жалей! – бей в упор! до последнего!
Возвратившись на исходную, подполковник разделил все свое войско на три группы: он поручил Леденецкому и Овсяненке не более чем по взводу и велел им быстро и бесшумно занимать позиции с востока и с севера, насколько возможно близко к стене, но не предпринимать никаких действий, прежде чем деревня окончательно не переполошится; всех же остальных – а это набрался отряд в сто двадцать человек – Годар лично повел на западную сторону.
Стена вокруг деревни была невысока – чуть выше человеческого роста, – и перемахнуть ее солдатам ничего не стоило. Подполковник, Паскаль, Дима и весь отряд ползком подобрались к стене саженей за тридцать. Дальше ползти не было смысла: их бы уже и в темноте разглядел со стены часовой или, по крайней мере, услышал бы подозрительный шорох. Заранее узнав у Димы, как звучит по-русски команда «avant!», – а все время, сколько ползли, Годар про себя старательно повторял перевод, – он наконец крикнул: вперед! – первым вскочил и бросился к стене. Рота молча, без «ура», рванулась за командиром. Со стены почти сразу начали стрелять. Но совсем нечасто. Видимо, часовых японцы выставили немного.
Годаровский отряд мигом перемахнул через стену. С той стороны никого не оказалось, – часовые, подняв тревогу, естественно, разбежались. Но деревня разом ожила: отовсюду послышались похожие на лисий лай крики японских командиров, удары чего-то обо что-то, топот бегущих солдат, началась и стрельба, хотя противника японцы пока еще не видели и стреляли, очевидно, в смятении или чтобы еще более усилить тревогу. К тому же палили-то больше в воздух: японцы опасались в темноте стрелять по каким-то едва различимым движущимся целям – это могли быть и свои.
И тут-то блестяще сработал план подполковника Годара. Отряды Леденецкого и Овсяненки, демонстрируя атаку, открыли стрельбу, прицеливаясь по кромке стены. А нескольким их солдатам удалось прокрасться к самой деревне и зашвырнуть через стену гранаты. Японцы, натурально, решили, что их атакуют со всех сторон, и значительная часть из них бросилась к северной и восточной стенам. Таким образом ворвавшаяся в деревню рота Годара была избавлена от противостояния с превосходными силами неприятеля и относительно беспрепятственно могла теперь продвигаться к своей цели.
Годар запомнил давеча, что сарай, где они содержались под арестом и где, если ничего не случилось, так и томятся их товарищи, сарай этот находился вблизи ворот. Ворота же были в южной стене, и, естественно, именно туда, как к самому уязвимому при атаке месту, теперь устремилась большая часть японского гарнизона.
Но Годар со своею ротой опередил японцев. Он нашел сарай запертым и без охраны. Солдаты по его приказу мигом сбили замок, и подполковник первым ступил внутрь. За ним с зажженными факелами в сарай вошли Паскаль и Дима и тотчас едва не полетели с ног – на дорогих освободителей набросились с объятиями Мещерин и Самородов. Но Дима не столько обнимал друзей, сколько сопротивлялся их объятиям. Наконец, освободившись от них, он подскочил к стоящей чуть поодаль Леночке и, как вкопанный, остановился в трех вершках от нее, страстно дыша девушке в самое лицо и словно не зная, как бы теперь обойтись с ней.
– Ну уж поцелуй, чего там, – подсказал сыну Дрягалов.
Но исполнить отцово наставление Дима не успел, Годар в это время выкрикнул: уходим! – и все кинулись к двери.
– Подождите! – воскликнул Мещерин, выбежав на улицу. – А наш груз?! Все здесь! Казаринов еще не сбежал!
Подполковник Годар только теперь вспомнил о сокровищах. И даже растерялся как-то, что появилась вдруг еще и эта забота. За целые сутки ему ни разу не случилось о них подумать!
Но никто не знал, где именно господин Казаринов сложил тюки. Мещерин, однако, догадался, что, скорее всего, где-нибудь за той фанзой, в которой они прошлой ночью нашли самого уполномоченного дамского комитета о раненых.
– Скорее сюда! – закричал Мещерин. – Там за фанзой! во дворе!
Но немедленно проверить – что там во дворе? – у них не вышло. В это время из-за угла ближайшей фанзы выбежали японцы, с полроты всех.
Годар немедля скомандовал атаковать неприятеля. И единственно с наганом в руке первым бросился навстречу японцам.
– В штыки! – во весь голос перевел команду старшего Мещерин и поспешил вслед за подполковником.
Грянуло могучее «ура!», так что деревня вздрогнула. Русских было вдвое больше, и минуты не прошло, как японский отряд весь лежал переколотый.
И тут откуда-то снаружи, из-за стен, тоже раздалось «ура!», не такое, может быть, зычное, как в деревне, но не оставляющее сомнений – русские пошли на приступ со всех сторон! Верно, Леденецкий и Овсяненко услыхали боевой клич своих и решили поддержать их атакой. Годар поспешил выйти всем отрядом к противоположной северной стене, чтобы ударом неприятелю в тыл облегчить им наступление. Путь туда через всю деревню был не ближний. По дороге ему встречались разрозненные мелкие группы японцев, которые, если не успевали убежать или спрятаться от русских, тут же и истреблялись. Но когда подполковник вывел все-таки свою роту к цели, он обнаружил, что японцев там ни души, а через стену уже прыгают солдаты Овсяненки.
В это время где-то за деревней, со стороны реки, неистово, захлебываясь, забил пулемет.
Годару стало все ясно: японцы оставили деревню – они побежали и попали под огонь пулемета, выставленного им давеча со стороны реки; виктория была совершенная! – он меньшими силами разбил неприятельский батальон и взял большое и важное в стратегическом отношении село, сам же почти не понеся потерь! К тому же отряд его еще и пополнился: оказалось, что казаки из конвоя господина Казаринова, все живые и здоровые, благополучно пережили плен и разыгравшийся ночной бой в одном из сараев.
Ну уж теперь победителям ничего не мешало спокойно пойти проверить, на месте ли тюки с драгоценностями. Годар только распорядился Леденецкому и Овсяненке выставить посты по стенам и у ворот и тщательно осмотреть каждый закоулок в деревне – не затаились ли где японцы? – и вместе со старою своею командой осмотрел наконец фанзу, где прошлою ночью они захватили Казаринова, а потом и сами угодили в плен.
У китайцев за каждою фанзой непременно был устроен небольшой, исключительно ухоженный дворик, огороженный обычно плетеною изгородью и с аккуратным, крытым гаоляном, навесом. Точно таким же был и дворик, куда Мещерин привел Годара, Дрягалова и прочих. Он не ошибся. Прежде всего в дворике в свете факелов им блеснули три пары глаз знакомых верблюдов, – тех самых, что Мещерин с Самородовым по указанию Казаринова купили несколько дней назад, – они жались друг к дружке, напуганные недавним побоищем с перестрелкой. Тут же во дворе были привязаны еще два коня, оставленные, видимо, японцами. Самородов поспешил осветить навес, – все шесть тюков стояли на месте.
– Ты посмотри: не вспороты ли они? – подсказал Мещерин другу. – За целый-то день он мог успеть вынуть хотя бы мешки с камнями…
– Нет! Все цело! – ответил Самородов, внимательно осмотрев тюки. – При японцах ему этим заниматься было никак некстати. А увезти, как есть, вместе с чаем, не успел – так стремительно наш выдающийся полководец захватил село, – весело сказал он, оглядываясь на Годара. – Ну, давайте вспорем один, чтобы убедиться?..
Какое-то время все, как завороженные, смотрели на красные от света факелов тюки и думали, наверное, приблизительно одно и то же: неужели все закончилось?
Отрывистый женский вскрик заставил всех вздрогнуть, выйти из оцепенения. Все разом оглянулись на Леночку. И тут же на миг снова оцепенели от того, что предстало их взору: какой-то человек, обхватив девушку рукой сзади за плечи, волок ее в темный угол двора, туда, где стояли лошади. Человек этот приподнял голову, и все узнали господина Казаринова. Пока победители зачарованно взирали на выстраданную добычу, он подкрался к ним откуда-то из мрака.
Дима кинулся было к невесте, Самородов тоже сделал шаг вперед, но Казаринов приставил девушке наган к голове и крикнул:
– Всем стоять! Застрелю! Мне терять нечего!
Все замерли.
– Оружие на землю! – продолжал командовать Александр Иосифович. – Если посмеете загасить факелы, я сейчас стреляю!
Как и прошлою ночью в фанзе, все, у кого в руках было оружие, побросали его.
– Вы за сокровищами?! – воскликнул подполковник Годар, в сердцах швырнув свой наган к самым ногам Казаринова. – Так забирайте их! Отпустите только девушку. Я обещаю, мы не будем препятствовать вам забрать все, что пожелаете, и уехать прочь!
Но у Александра Иосифовича был свой расчет. Леночку он отпускать теперь не намеревался ни при каких обстоятельствах.
– Эй, вы! двое! – прикрикнул он на Мещерина с Самородовым. – Мародеры! Доставайте камни! Живо!
Мещерин оглянулся на Годара. Подполковник и без перевода понял, о чем идет речь, и утвердительно кивнул головой.
Друзьям хорошо было известно, где именно зашиты мешки с камнями, – сами же их туда только недавно упрятали. Они вспороли тюки – все камни оказались на месте.
Александр Иосифович велел им связать мешки попарно и навьючить на одну из лошадей. Когда это было исполнено, он, пятясь задом, подвел Леночку к коновязи, подхватил девушку и без труда закинул ее лошади на шею, так что она руками свесилась с одной стороны, ногами – с другой. И сам тотчас вскочил в седло.
Ускакал Казаринов не сразу. Он еще погарцевал какое-то время по двору на хорошо отдохнувшем и пока не почувствовавшем на себе немалый груз коне.
– Прощайте! Охотники за сокровищами! – насмешливо, с издевкой, произнес он. – Глупцы! Ничтожества! Дома сидели бы! Куда вам! Старички! – ехидно добавил Александр Иосифович, очевидно, с намерением уесть Годара и Дрягалова. – Впрочем, там в тюках еще полно золота! На миллионы франков! Оно ваше! Помните мое великодушие!
Все, как сговорившись, отвечали ему единственно презрительным молчанием.
Не дождавшись ни от кого ни полслова, Казаринов злобно пришпорил коня.
– Не вздумайте меня преследовать! – выкрикнул он напоследок. – Красавице тогда несдобровать! – И, выехав со двора, погнал коня к южным воротам.
Увидев, куда направился Александр Иосифович, подполковник Годар в ужасе схватился за голову и с отчаянием в голосе воскликнул:
– Мой бог! Там же пулемет! Солдаты ничего не знают! Они примут его за японца!
В тот же миг Дима бросился к оставшемуся во дворе коню и, подобрав по пути годаровский наган, вскочил верхом и припустил вслед за Казариновым.
– Дима! Там пулемет! Берегись! – крикнул ему Паскаль.
– Без девки не возвращайся! – гордясь удалью сына, добавил Дрягалов, не знавший ничего о пулемете и не понимавший по-французски.
Спустя какие-то секунды со стороны реки действительно ударила пулеметная очередь. Она была недолгой и больше не повторялась.
Когда Дима выскочил из ворот, он при лунном свете увидел саженях в ста впереди спину Александра Иосифовича. Тяжелый топот перегруженного коня господина Казаринова разносился, кажется, по всему пространству между деревней и рекой и еще отдавался эхом от стены. Догнать такого наездника ничего не стоило, но Дима опасался, что этот низкий человек причинит какой-то вред любимой Леночке, если он и правда его нагонит. Поэтому он решил пока ехать за ним следом, но не приближаться. Александр Иосифович держал путь не к реке – оказаться у японцев ему теперь, с четырьмя мешками драгоценных камней, было вовсе не интересно, – а левее, вдоль реки, видимо, там он рассчитывал выбраться как-то на мукденскую дорогу.
Но тут откуда-то спереди хлестанула пулеметная очередь, и тяжело скачущий конь господина Казаринова рухнул на землю. Дима не стал дожидаться, пока дадут очередь еще и по нему, – он спрыгнул с коня, взял его под уздцы и, пригнувшись, побежал вперед.
Через полторы сотни шагов он услышал страшный хрип умирающего животного и тотчас увидел бьющегося в агонии коня. Вблизи от него лежал, не подавая признаков жизни, и сам ловкий беглец. И тут же рядом, свернувшись клубочком, тонюсенько скулила Леночка.
Дима подхватил ее, как пушинку, и поставил на ноги. Но отпустить ее не решался – так и держал за талию, прижав к себе.
– Цела? – коротко спросил он.
– Кажется, все в порядке. – Леночка перестала плакать. – Ушиблась только немного.
– Это ничего… отпустит…
Дима не отводил взгляда от ее глаз и дышал девушке в самое лицо так страстно, что Леночка даже и оробела: ей так и представилось сразу, какими теперь мыслями одержим молодой человек. Она невольно уперлась ладонями ему в грудь, попыталась чуточку отстранить его от себя, но юный богатырь еще крепче прижал ее к себе, так что у девушки хрустнули косточки, и веско сказал ей:
– Не вырывайся… Все… кончилася твоя вольная…
Леночке показалось, что силы ее совершенно оставляют.
Она обмякла и сама прижалась лицом к груди молодого человека. Дима сбросил с плеч бекешу и бережно, будто какое хрупкое изделие, уложил на нее Леночку.
После того, как Александр Иосифович разбойничьи похитил и увез Леночку и Дима ускакал вслед за ними, а пулеметчики огнем подтвердили, что они добросовестно исполняют приказание командира, Годар отправил к ним Леденецкого с новым приказом: деревню на прицеле больше не держать, потому что японцев там нет, а русские не могут выйти из ворот, не рискуют быть обстрелянными своими, и сосредоточить наблюдение и огонь, если потребуется, на переправе через реку: японцы вполне могут еще попытаться возвратить деревню. Но довести быстро этот новый приказ до пулеметной команды Леденецкий не мог: напрямик к ним не подойдешь, а в обход идти – ничего себе крюк! – долго.
Все в деревне с нетерпением и беспокойством ждали возвращения Леденецкого. А тем временем за стеной вдруг раздалось этакое замедленное, ленивое топанье копыт. И через минуту в ворота спокойно, будто возвращался с прогулки, вошел Дима. Он вел под уздцы коня, – на нем сидела Леночка, и свисали по бокам шесть тугих мешков.
Дима помог Леночке спуститься на землю, подвел ее к отцу и сказал:
– Вот, батюшка… жена моя… Благословите нас.
Дрягалов усмехнулся в бороду, помедлил и перекрестил Диму и Леночку по-поповски – обоих одним знамением.
– Господи, благослови, – произнес он торжественно. И тут же с притворною строгостью выговорил сыну: – Епитимья тебе, проказник! До самой Москвы. До венца.
С Леночкой же старый дамский угодник был куда ласковее. Он взял ее за плечи, поцеловал в лобик и сказал:
– Милости прошу к нам в семью, красавица. Будь мне дочкой.
Все присутствующие – и Мещерин с Самородовым, и подполковник с внуком, и кое-кто из казаков и солдат – наблюдали эту сцену с умилением.
Едва рассвело, подполковник Годар отправился разведать, что там происходит на неприятельской стороне. Но прежде чем спуститься к реке, он в сопровождении Димы осмотрел место, где господин Казаринов попал под пулеметный огонь. Они нашли там издохшего коня Александра Иосифовича, но самого уполномоченного не было. Исчез! Дима тогда, ночью, даже не подумал, что Казаринов может быть только раненным или вовсе невредимым, – он нисколько не сомневался, что тот лежит убитый наповал! Впрочем, Годара это уже нисколько не волновало: жив Казаринов или нет? – даже малого значения не имело для него. Годара сейчас заботил единственно неприятель и его возможные действия.
Пулеметной команде он распорядился передислоцироваться – занять позицию ближе к реке и теперь держать на мушке противоположный берег. На удивление на том берегу сегодня не только не было видно пионеров, но и понтон, который они начали было вчера строить, исчез – его, очевидно, разобрали или, что вероятнее, сплавили в темноте.
Но то, что Годар разглядел в бинокль на той стороне, по-настоящему потрясло его: в двух-трех верстах от реки было довольно оживленное движение большой массы людей, может быть, и бригады. Трудно было сразу понять – что эти силы? – готовятся ли наступать или отходят? Но судя по тому, что японцы не продолжили строить и даже не сохранили недостроенной переправы, наступать они не собирались.
Непонятно, рассуждал Годар, почему они до сих пор деревню, из которой их выбили русские, не смели артиллерийским огнем? Неужели у такой-то силищи нет ни одной батареи? Скорее всего, они просто опасаются вступить в артиллерийскую дуэль, потому что обычно японцы такие дуэли не выигрывали. Но дуэли-то, собственно, никакой бы и не было! Потому что отсюда отвечать нечем. Разве винтовочными пачками двух неполных рот. Но в том-то и дело: японцы, видимо, считают, что сюда подошел, по меньшей мере, русский полк с приличною артиллерией. Вот и боятся раскрыть свои пушки.
Пока Годар рассуждал таким образом, к нему прискакал одвуконь Мещерин и доложил, что в версте к северо-востоку от деревни показалась группа всадников, – они рассматривают их в бинокль, но приближаться, по всей видимости, опасаются, полагая, что здесь японцы. Годар немедленно вскочил на коня.
Обогнув деревню, они действительно увидели в версте с дюжину людей верхами.
– Казаки! – определил Мещерин, когда они подъехали поближе.
Удивительный мундир Годара мог смутить гостей, но Мещерин еще издали стал размахивать своею мохнатою шапкой, и казаки поняли, что эти двое, во весь опор скачущие к ним, не враги.
Выяснилось, что это была разведка бригады Дембовского, стоящей на правом русском фланге. Годар велел им срочно скакать в штаб и передать, что противник у этой деревни попытался ночью совершить обход, но был отбит и, кажется, вообще отступает. Но, на всякий случай, сказал подполковник, хорошо бы сюда выдвинуть хотя бы два батальона пехоты, непременно с сильною артиллерией.
Подкрепление к Годару подошло только во второй половине дня, когда на той стороне реки неприятеля вообще уже не было видно. Оказывается, из штаба Дембовского сведения, сообщенные каким-то французским наблюдателем, поступили прежде в штаб Западного отряда генерала Бильдерлинга, а оттуда – в Мукден. И только уже сам Куропаткин распорядился послать в указанное место полк, два дивизиона кавалерии и две батареи. Он, по правде сказать, довольно скептически отнесся к полученному сообщению, резонно полагая, что, при общем и пока довольно неплохо развивающемся наступлении русских, японцы вряд ли начнут обходной маневр, тем более на таком значительном удалении от фронта, – им самим невыгодно так растягивать силы. Но поскольку русский главнокомандующий больше мора в своем стане страшился возможного обхода неприятелем его флангов, он не поскупился выделить целую бригаду из резервов прикрыть и это дальнее направление.
Но получилось, что марш этой бригады, которая, будь она брошена в наступление, могла бы значительно усилить натиск на фронте, получилось, что поспешный марш ее оказался холостым выстрелом, пустою растратой сил: передислоцировавшись, бригада теперь противостояла… пустоте, никому. Годар заметил, как полковник – командующий бригадой, – внимательно оглядев пространство за рекой, посмотрел на него с недоверием и даже с каким-то сожалением. И если бы не десятки убитых японцев, оставшихся в самой деревне и в поле за воротами, Годару было бы вообще никак не оправдаться за свое тревожное донесение.
Командующий держал себя со старым французским подполковником довольно надменно. Когда Годар докладывал преемнику о ночном деле, у полковника было такое выражение лица, будто бы все, что здесь происходило прежде, это так… прелюдия дилетантов, маневры новобранцев, а настоящее дело пойдет только теперь, с его появлением. Приняв же позиции и славный боевой годаровский отряд под свою команду, он приказал подполковнику немедленно отбыть в ставку, в Мукден, где и полагается находиться всем наблюдателям.
Верный воинской дисциплине, Годар беспрекословно подчинился старшему по чину и положению начальнику. Единственное, он попросил полковника позволить двум нижним чинам – Мещерину и Самородову – сопровождать его. Полковник изобразил крайнее свое недовольство такою просьбой и… согласился.
Собрались путешественники по-военному быстро: тюки, наскоро залатанные, были навьючены на верблюдов, мешки – на лошадей. А больше у них ничего и не было. Дрягалов по этому поводу пошутил: нищему собраться – только подпоясаться. Все, кроме французов, едва не попадали со смеху. Когда перевели и объяснили поговорку Годарам, и они смеялись от души.
До Мукдена им был менее чем дневной переход. Годар рассчитывал без долгих привалов к ночи добраться до места. Скоро караван вышел на людную мандаринскую дорогу, и можно было считать их путешествие счастливо окончившимся: больше никакие неожиданности им не грозили.
Подполковник Годар почти всю дорогу ехал молча – все о чем-то думал, что-то все вспоминал. На подъезде к Мукдену он, вдруг пробудившись от грез, обратился к спутникам:
– Русские друзья мои, я вот что хочу вам сказать: богатства мы везем с вами колоссальные! невиданные в свете! мне ни за что не вернуть бы их, если бы не вы, не ваша жертвенная помощь; но эти сокровища целиком моими никогда не были: мне принадлежит лишь половина, а другая половина, как вам известно, не моя, а моего дольника, который, впрочем, ничего наследовать не может, потому что его нет в живых. И вот что я предлагаю. То есть настаиваю! Я хочу, чтобы эта половина стала вашей. Возьмите ее и поделите между собой.
Годару никто ничего не ответил. Все будто онемели. Один Дима вполголоса переводил отцу слова подполковника.
– Господин Дрягалов, – сказал Годар, дождавшись, пока тот услышит весь перевод, – вы для нашей экспедиции сделали, может быть, как никто, много: мы вообще обязаны вам тем, что попали сюда. Вас никто не неволил подвергать себя смертельным порою опасностям. Но вы презрели все опасности. Вы, как истинный христианин, не остановились отдать жизнь, если потребуется, за ближних. И уверяю, я ни в коем случае не принимаю ваше бесподобное самопожертвование как возвращение мне долга за наши парижские похождения. Я убежден, вы человек, который никогда не станет считаться. Но вместе с тем вы человек деловой. Мудрый. Вы, как никто, сможете употребить богатства с пользой и для себя, и для общества.
Дрягалов помолчал, посопел, усмехнулся раз-другой. И ответил:
– Я, сударь, так богат, что, пожалуй, во всей России мне немного равных будет. Я одних домов по всей земле поставил больше, чем людей теперь здесь с вами. И если к моим миллионам добавить еще новых сколько-то миллионов, я этого, право дело, и не замечу. Плешивому и сотня волос – куафюра, а кудлатому хоть бы и вдвое сверху – одно и то ж. Не возьму я ваших бриллиантов. А то выходит, будто вы расплачиваетесь со мной. Коли так, то мне впору вам до самого креста нательного все отдать, – что вы для меня сделали! Спаси господи! – не возьму!
Подполковник незаметно улыбнулся. Он понял, как теперь ему будут отвечать и все прочие: вряд ли кто-то уступит Дрягалову в великодушии. И тем не менее он продолжил допытываться.
– Мой друг Дима, дорогая Лена, – обратился он к влюбленным, которые ехали, обнявшись, на одном коне – до такой степени были теперь неразлучны. – У вас начинается новая жизнь. Молодость обычно полна самых светлых, чистых амбиций, беспорочных замыслов. Возьмите свою долю, и ваши добрые амбиции и замыслы скорее осуществятся, скорее – я убежден! – осчастливят многих. Ну! мадемуазель Лена, подскажите же мудрое решение жениху!
Леночка с улыбкой заглянула в самые глаза Диме, ласково провела ладонью ему по щеке и, не отрывая от него влюбленного взгляда, со смехом ответила:
– А я теперь поступлю так, как решит Дмитрий Васильевич.
Настала очередь Диме держать ответ.
– Какая радость осчастливить кого-то чужим добром?.. – проговорил он. – Нет, господин Годар, не возьмем. Не обессудьте. У меня будет свой капитал! Побольше батюшкиного. Вот тогда мы полмира сделаем счастливым. Правда, Лена?
В ответ Леночка лишь поцеловала мудрого своего Дмитрия Васильевича.
Годар попридержал коня и поравнялся с ехавшими позади Мещериным, Самородовым и Паскалем.
– Ну, что ж, друзья мои, – сказал он первым двум, – остаетесь вы одни. Вся половина ваша. Вы, я знаю, люди радикальных взглядов, как часто бывает свойственно молодым. Но это скоро у вас должно пройти. И вы могли бы сделаться благонамеренными обеспеченными рантье и счастливыми отцами больших семейств. – Годар, очевидно, иронизировал. – Если же в ваши планы не входит оставлять якобинской романтики, опять же богатства не помешают. С их помощью вы скорее разрушите свое русское царство и поспособствуете установиться в России еще одному царству иудейскому, помимо уже существующих во Франции, Англии, Америке. Как думаете?
Мещерин поймал себя на мысли, что, хотя Годар и откровенно провоцирует их своим заявлением о возможном будущем России, отвечать как-то на это ему совсем не хочется, ничуть не интересно. Они с Самородовым за время, проведенное в Маньчжурии, вообще уже отвыкли от политических дискуссий. К своему удивлению, они теперь стали понимать, что есть вещи поважнее политики. Им открылось вдруг, что народа-то своего они, в сущности, прежде не знали и познакомились с ним только здесь, на войне. И народ этот оказался много интереснее всякой политики, мудрее любых революционных теорий. Замечательные их товарищи-однополчане – Матвеич, Васька, Дормидонт, Кондрат, Филя Королев – помогли это понять. Переглянувшись с Самородовым и увидев, что друг с ним вполне солидарен, Мещерин сказал:
– Господин Годар, вы помните, конечно, что ответил Атос кардиналу Ришелье, предложившему ему вписать свое имя в указ о производстве в лейтенантский чин: для Атоса это слишком много, для графа де Ла Фер слишком мало. Я вам могу ответить приблизительно так же: нижним чинам Мещерину и Самородову этих сокровищ слишком много, а якобинцам, как вы нас назвали, Самородову и Мещерину они вообще ни к чему. Должен заметить, революция не покупается, как какое-нибудь представление или зрелище. Нельзя же, к примеру, купить восход солнца и по своему желанию ускорить или отсрочить его, – оно непременно взойдет, когда наступит срок. Так и революция. Нет, господин Годар, – тоже перешел на ироничный тон Мещерин, – мы свою родину – русское царство – сумеем погубить и без китайских сокровищ.
Вечером путешественники прибыли в Мукден. Мещерин еще в пути посоветовал подполковнику Годару поскорее перепрятать драгоценности. Потому что надолго оставлять их в этих громоздких и уже порядочно драных тюках даже и среди своих было небезопасно: а ну как кто увидит, заинтересуется, начнет дознаваться, – в лучшем случае это доставит переживания и отнимет время, а в худшем – можно лишиться и самих драгоценностей. Поэтому, не въезжая еще и за городскую стену, в предместье они наняли сарай у первого попавшегося китайца и сложили там весь свой груз. Мещерин с Самородовым немедленно отправились в город и купили арбу с ослом и два крепких сундука с замками. Когда они возвратились, то увидели посреди сарая сияющую в свете факелов гору золота. Спутники их времени даром не теряли – они распотрошили тюки и вынули оттуда все драгоценности.
– Отличная работа! – похвалил их Мещерин.
Он откинул крышку сундука и начал складывать в него всякие золотые предметы из кучи.
– Подождите! – сказал Годар. – Вначале это. Золото сверху.
Подполковник схватил мешок с камнями, мигом разрезал ножом веревку и пересыпал содержимое в сундук. Камни застучали по деревянному дну и друг об дружку ни с чем не сравнимым, как всем показалось, бриллиантовым стуком.
Самородов посветил в сундук факелом, чтобы полюбоваться сказочною россыпью. Какое-то время все онемело смотрели на камни.
– Что это? – удивленно спросил Паскаль.
Старый Годар бросился к остальным мешкам, стал вспарывать их один за другим и вытряхивать содержимое прямо на утоптанный земляной пол. Через мгновенье перед ним возвышалась на полу кучка… придорожной гальки. Самоцветов не было ни единого!
Первым засмеялся Паскаль. Потом к нему присоединились и все прочие. И через мгновение ветхий сарайчик ходуном ходил от бурного, штормового хохота путешественников. Такого веселья во всей Маньчжурии не было, по крайней мере, с начала войны.
– А молодец этот ваш господин Казаринов! – утирая слезы, едва говорил сквозь смех старый подполковник. – Он мне чем-то нравится!
Больше в Маньчжурии путешественникам делать было нечего. Годар хотел еще побывать в Пекине, чтобы показать внуку свою могилу на старом португальском кладбище, да и вообще вспомнить былое, погрустить о делах давно минувших дней – заглянуть в императорскую резиденцию Юнг-минг-юн и в тот монастырь под Пекином, где он почти полвека назад прожил месяц, ожидая известий от китайского сановника. Но Дрягалов и другие отсоветовали ему это делать и убедили подполковника не искушать судьбу и поскорее уезжать из Китая. Годар покорился и стал собираться в дорогу. Ехать решено было самым безопасным в нынешних условиях путем – по железной дороге через всю Россию.
Буквально за день до отъезда к Годару неожиданно явился адъютант Куропаткина и от имени главнокомандующего пригласил вместе со всеми его спутниками явиться в штаб. Старый подполковник, верный смолоду усвоенному правилу являться начальству во всем блеске, старательно привел в порядок свой мундир устаревшего образца, приколол к нему вместо ленточки сам «Почетный Легион», начистил пуговицы, сапоги просто-таки отполировал, что хоть брейся, глядя в них, как говорят солдаты, и, демонстрируя старинную, неподражаемую выправку гвардейца эпохи империи, отправился к русскому главнокомандующему.
Накануне в русский главный штаб из штаба отряда Бильдерлинга был доставлен пленный японский офицер, рассказавший совершенно удивительные вещи. По его словам, несколько дней назад, как раз в разгар русского наступления, японцы в двенадцати верстах западнее правого фланга Бильдерлинга пытались совершить обход крупными силами. И маневр их начал развиваться довольно удачно: на русский берег переправился и закрепился в выгодно расположенном селе батальон. Под его прикрытием саперы стали наводить переправы, по которым уже готова была перейти целая дивизия. Но неожиданно русские этот батальон обнаружили и почти целиком уничтожили в жестоком ночном бою. Русских было, по мнению японцев, до полка. При таких обстоятельствах японское командование предпочло отказаться от намерения обойти противника.
Куропаткин вспомнил, что Бильдерлинг раньше доносил ему со ссылкой на какой-то, как он считал, совершенно не заслуживающий доверия источник, будто бы неприятель пытается – или уже не пытается? – обойти его справа. Главнокомандующий немедленно распорядился послать туда бригаду, но, как, спустя несколько часов, докладывал командующий этой бригады, тревога была напрасной: никто там переправляться не собирался, никаких переправ никто не строил, и вообще все было тихо.
Когда же Куропаткину стало из японского, теперь уже вполне заслуживающего доверия, источника известно об опасных планах неприятеля справа, он наконец решил основательно разобраться, что же все-таки там происходило или могло произойти. Главнокомандующий послал туда ординарца. Тот опросил всех, кого только было возможно, в том числе и Леденецкого с Овсяненкой. И картина как будто прояснилась.
Так в русском главном штабе стал известен подвиг подполковника Годара.
Куропаткин принимал Годара и его спутников исключительно торжественно и любезно. В вагоне главнокомандующего, кроме его свиты, собрался еще почти весь штаб во главе с генералом Сахаровым. Мещерин ждал, что Куропаткин сейчас узнает их с Алексеем: какие-то две недели всего прошло, как они с ним случайно встретились здесь же, возле его вагона, и вроде бы дружески разговаривали. Но главнокомандующий не узнал, – мало ли каждый день ему солдат попадалось на глаза!
Хотя Куропаткин уже неплохо был осведомлен о случившемся, он попросил Годара рассказать обо всем еще раз. Подполковник вполне понимал, что генерала, между прочим, интересует предыстория – как они там оказались? что делали так далеко от фронта, далеко от штаба? Объяснить это Годару было несложно: бумаги поставщиков русской армии, выданные им в Москве по ходатайству сыскного чина, по гроб теперь обязанного Дрягалову, узаконивали все их передвижения по районам Китая, не охваченным военными действиями. Кстати, эту их полезную деятельность подтверждала сданная ими третьего дня интендантству Маньчжурской армии партия высокосортного чая.
Но если Годар не мог открыть истинной причины, приведшей его самого в Китай, то уже поставить в известность Куропаткина о том, как именно в его отряде оказались Мещерин с Самородовым, он посчитал своим долгом, ибо являлся представителем союзной России державы. Подполковник предложил самим солдатам доложить об этом. И едва Мещерин заикнулся о том, что господин Казаринов шпион, Куропаткин сделал знак кому-то из штабных записывать сообщение. Мещерин напомнил главнокомандующему об экспедиции, организованной Казариновым, и рассказал, как под видом поиска мест для размещения госпиталей тот доставлял японцам сведения о планах русского командования и данные о самой Маньчжурской армии. Куропаткин остолбенел, побелел. Когда же Мещерин со ссылкой на свидетеля – казака из конвоя – рассказал, что Казаринов известил японцев о предстоящем русском наступлении и в общих чертах обрисовал действия наших войск, Куропаткин вынул платок и стал протирать лицо и шею. Видно было, что главнокомандующий страшно огорчен, уязвлен, расстроен.
Когда Мещерин закончил, Куропаткин взял все-таки себя в руки, – не мог же он оставаться мрачнее тучи, когда чествовал всем штабом героев! – и, стараясь выглядеть довольным, сказал Годару:
– Господин подполковник, возможно, вы спасли сражение. Я вас сердечно благодарю от имени всей армии, от имени всех русских солдат. И непременно доложу о вас государю. Но, увы, не могу вас наградить, хотя вы заслуживаете весьма высокой награды: это будет вселенский скандал – иностранный наблюдатель воюет за одну из сторон! Но вот позвольте… хотя бы сувенир на память… – Куропаткин достал из стола зеркальный роскошной работы браунинг и протянул его Годару.
Аудиенция, очевидно, окончилась. Куропаткин как будто ничего больше сказать не имел. И гостям следовало бы также дать понять, что они удовлетворены приемом и намерены откланяться. Но Годар поломал весь этикет русской главной квартиры. К ужасу всех присутствующих, он вдруг сказал Куропаткину:
– Господин генерал, я здесь, в Маньчжурии, нахожусь уже достаточное время, чтобы сделать кое-какие выводы о русско-японском военном противостоянии. Мои наблюдения и замечания могут быть вам полезны, тем более что я сам воевал когда-то в этих местах.
Куропаткину, видимо, было недосуг, наверное, его ждали дела. Само собою, и Сахарова, и прочих ждали дела. Но всем пришлось еще уделять внимание этому неуемному старику.
– Любопытно… – стараясь показать, как он заинтересовался, произнес Куропаткин.
– Видите ли, – продолжал Годар, – мне, стороннему наблюдателю, отчетливо бросается в глаза безынициативность русской армии. И равным образом отчетливо заметны активные действия противной стороны. Постоянно, при больших сражениях и при незначительных схватках, японцы стараются вас обойти. Даже если это им не удается, одна только попытка такого маневра действует на противника, то есть на вас, генерал, ошеломляюще и, значит, доставляет преимущества вашему врагу. Вот и вам надо бы попробовать действовать таким же образом.
Куропаткин с первых же слов Годара понял, о чем тот ведет речь. Все это было ему хорошо известно. Обо всем этом он уже много и не однажды думал.
– Но, может быть, вы также заметили, подполковник, что у меня недостаточно сил для движений такого рода, – ответил главнокомандующий.
– Дело не в этом, генерал. Вы бездействуете. А это не имеет ровно никакого значения, сколько человек будут заняты в бездействии – триста тысяч или всего триста. Результат выйдет тот же самый. Вам нужен какой-то быстрый, неожиданный маневр, который заставил бы неприятеля насторожиться, обеспокоиться. А это уже половина успеха. Неприятель, обеспокоенный за тыл или фланг, не будет и фронт держать крепко. В таких случаях часто бывает достаточным лишь артиллерийского обстрела, чтобы он отошел. Замечательно сказал древний китайский полководец Сунь-Цзы: хорошо воюет тот, кто управляет неприятелем и не дает неприятелю управлять собой, – отчеканил Годар.
– Благодарю вас, подполковник, – решился наконец прервать переговоры Куропаткин. – Ваши наблюдения чрезвычайно ценные. Но, прошу прощения, меня ждут служебные обязанности. Честь имею.
Он подал руку Годару первому, а затем распрощался и со всеми прочими гостям.
– Лекция в Академии Генерального штаба, – вздохнул Куропаткин, когда никого из посторонних в вагоне не осталось. – Французские военные в душе все Бонапарты. Только где были эти стратеги в дни Марс-ла-Тура и Седана? Верно: чужую беду руками разведу. Все свободны, господа, – сказал он офицерам. – Прошу вас приступить к своим занятиям…
Одному из ординарцев Куропаткин тут же приказал:
– Проверьте, пожалуйста, то, что сейчас рассказал солдат об этом Казаринове. Свяжитесь с Петербургом.
На другой день подполковник Годар, Паскаль, Дрягалов и Дима с Леночкой уехали в Россию. Мещерин с Самородовым проводить друзей уже не смогли: после приема у Куропаткина они сразу отправились в свой полк.
Глава 8
Провожая на вокзале в дальний путь свою боевую организацию,как Саломеев остроумно назвал Германа Гецевича и Лизу Тужилкину он в который раз настоятельно наказывал товарищам быть исключительно осторожными, беречь себя – ради него!– не рисковать понапрасну. Саломеев долго, будто не в силах расстаться, держал Гецевича за руку. А когда раздался второй звонок, не удержался и поцеловал его. Потом он заботливо помог отъезжающим взобраться в вагон: подсадил Гецевича, поддержал Лизу. Когда же поезд тронулся, Саломеев снял котелок и так стоял, высоко приподняв его над головой, пока не перестал различать дорогих лиц в окне вагона первого класса.
В путешествие Гецевич и Лиза отправились с документами, по которым выходило, будто они муж и жена – Эдуард Яковлевич и Матильда Дмитриевна Менделевич. Когда Саломеев накануне вручал им фальшивые паспорта, он вволю натешился над и без того смущенными молодыми людьми. Так у Лизы он строго допытывался: «Не обещалася ли иному мужу?» А Гецевича со смехом напутствовал: «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни».
На первый класс для боевой организации Саломеев раскошелился из побуждений исключительно конспиративных, и никаких более. Задавшись целью доставить двух своих кружковцев в Иркутск, Саломеев прежде всего озаботился, как бы исключить возможные происшествия в дороге. А Транссиб в эти месяцы просто-таки кишел шпионами и агентами – полицейскими и военными. Всякие сколько-нибудь подозрительные личности немедленно арестовывались. Вот и придумал Саломеев такой маневр, который, по его разумению, должен был отвлечь чье-либо нежелательное внимание прежде всего от экзотического семита Гецевича: вряд ли он вызовет какие-либо подозрения у соглядатаев, если, очевидно, у молодого счастливца нет теперь иных дум, кроме как о красавице жене. Саломеев отечески напутствовал Гецевича и Лизу стараться вести себя так, чтобы убедить всех вокруг, будто у них медовый месяц. А в дороге лучшее доказательство этому, конечно, двухместное купе в первом классе.
Правда, Гецевич мало подходил для роли новобрачного. Да и вообще мужа. Это Саломееву самому бы исполнить! То-то вышло бы на загляденье! А Гецевич, едва поезд пересек земскую границу, забился в купе и уткнулся в газеты. Со своею дамой в дороге он почти не разговаривал. Разве когда они с Лизой бывали в ресторане, ему приходилось что-то ей отвечать и даже улыбаться, иначе окружающим могло бы показаться, что в молодой семье уже размолвка или – того хуже! – что это вовсе и не семья. А такие подозрения, по наказу Саломеева, были категорически недопустимы.
Зато уж Лиза играла любящую жену охотно и изобретательно: на людях она лукаво заглядывала своему строгому и сдержанному супругу в глаза, и брала его под руку, и нежно клала голову на плечо. А за столом заботливо поправляла ему воротничок, стряхивала пальчиком крошку с бороды, то и дело дотрагивалась до его руки и просила подать ей то одно, то другое.
Но вместе с тем Лиза прекрасно понимала, как в тягость ее спутнику все эти вынужденные семейные нежности. За короткое время работы в кружке она с Гецевичем толком и не познакомилась. Да они и виделись-то всего несколько раз, и то мельком. Но этого Лизе хватило понять, что Гецевич одержим одной только страстью – революцией. Никаких больше интересов, а уж тем паче амурных, у него нет. И ради этой своей пламенной страсти он готов пойти на любую жертву. И прежде всего, конечно, пожертвовать собою.
Как бы искупая свое поведение на людях, наедине с Гецевичем Лиза вела себя в высшей степени сдержанно: всячески старалась не докучать ему, не быть в тягость. В купе она садилась на другой конец дивана и тоже читала чего-нибудь. Или вообще выходила в коридор и подолгу смотрела на бесконечные российские просторы.
Однажды, когда она задумчиво стояла у окна, к ней подошел средних лет господин в мундире горного инженера. Лиза прежде уже приметила его – он все едва заметно улыбался ей, когда они встречались в ресторане или в вагонных сенях.
– Позвольте представиться, мадам, Паламед Ферапонтович Баффа. Инженер, – отрекомендовался он.
– Матильда Дмитриевна, – глазом не моргнув, назвалась Лиза своим вымышленным именем.
– Я, признаюсь вам по секрету, давно наблюдаю за вами, – красивым бархатным баритоном проговорил инженер. – Какая же вы очаровательная пара. Какой у вас солидный немногословный муж. Он, наверное, учитель?..
– Да! – Лиза посмотрела на него с удивлением. – Учитель.
Называться им учителями, направляющимися к месту назначения, придумал Саломеев. Впрочем, Гецевич со своим невеликим и самодеятельным преимущественно образованием, – его недюжинные познания в области теории социализма в расчет, разумеется, не шли, – не очень годился в учителя. Но изображать специалиста в какой-либо другой области он мог с еще меньшим успехом.
– Так-так-так! – заинтересованно проговорил Паламед Ферапонтович. – А позвольте, я угадаю, что именно он преподает: мне кажется, он учитель греческого языка. Верно? Угадал? Он похож на учителя греческого.
– Нет, – улыбнулась Лиза, – на этот раз не угадали. Он учитель географии.
– А вы? – живо поинтересовался инженер.
– А я – словесница.
И то и другое для них опять же придумал Саломеев.
– Знаете что, Матильда Дмитриевна! – воскликнул Паламед Ферапонтович, как от пришедшей в голову счастливой идеи. – Давайте сегодня же отпразднуем наше знакомство. Я прошу вас с мужем вечером быть у меня в купе. Запросто. Посидим, поговорим. Интеллигентным людям всегда найдется о чем поговорить…
Лиза, прежде всего, ответила, что ей необходимо посоветоваться с мужем. Но тут же пообещала непременно уговорить его сделать дружеский визит к доброму попутчику и соседу.
Узнав новость, Гецевич вначале посерьезнел, нахмурился, но затем безразлично пожал плечами и покачал головой, показывая, что не против исполнить и этот каприз мнимой своей супруги, как уже три дня вынужден исполнять все прочие ее капризы.
Паламед Ферапонтович один занимал купе целиком. При встрече с Гецевичем он гостю слегка поклонился, наспех представился и восхищенно, будто знакомится с какой-то выдающейся особой, выслушал ответную рекомендацию. Затем долго заверял супругов в совершеннейшем своем удовольствии принимать их, хотя и в условиях, по его выражению, мало пригодных для гостеприимства, зато истинно сердечно, от всей души. Он разместил гостей поближе к столику, на котором стоял коньяк с пирожными, а сам довольствовался местом возле двери.
– Ах, господа! – исполненный счастья, блаженно вздохнул Паламед Ферапонтович, когда все выпили за состоявшееся их приятное знакомство. – Какая же прелесть русская дорога. Так вот едешь, едешь… И нет ей конца. И кажется, что самой жизни нет конца. Вот чем мы отличаемся от Европы. У них же за день можно переехать немалую, по их разумению, страну вдоль, а поперек – за полдня. Поэтому у них во всем чувство границы, меры. Поэтому они и меру жизни знают. И стараются поскорее устроить ее. Приукрасить. А мы не торопимся обустраивать свою жизнь. А почему? – потому что наша жизнь беспредельна. Вот как эта равнина за окном.
– И каков результат? – скептически заметил Гецевич.
– Вы правы! Конечно! – со смехом отвечал инженер, довольный резонным замечанием гостя. – Результат, мягко говоря, неутешительный. Нет у нас порядка.
– Порядка нет, пока у власти находятся люди, которым выгоднее иметь как раз беспорядок, – резко ответил Гецевич.
– Господа! – поспешила прервать его Лиза. Она, наконец, сообразила, как же опрометчиво поступила, пойдя на поводу у этого хитрого грека и предъявив ему Гецевича, который, конечно, не удержится – она должна была это предвидеть! – при случае изложить свои радикальные политические взгляды, какие исповедовать учителю географии как будто не вполне уместно. – Господа! Позвольте тост!
– Так-так! – заинтересованно воскликнул Паламед Ферапонтович и поспешил наполнить рюмки. – Желание дамы – закон!
– Я хочу выпить за своего любимого мужа, – объявила вдруг Лиза. – Самого великодушного, самого милосердного человека на свете. Спасибо вам, Эдуард Яковлевич, за мое счастье! – Она залпом осушила рюмку. И неожиданно, обхватив рукой Гецевича за шею, с силою припала к его губам.
– Вот это правильно! Вот так по-нашему! – восторженно подбадривал молодых инженер. – Горько!
– Счастливые вы, – опять принялся философствовать Паламед Ферапонтович. – Сколько у вас впереди всякого. Сколько великих дел вас ждет. Каких высот еще достигнете.
– Думаю, вряд ли нам достигнуть ваших высот, – ответно польстила ему Лиза.
– Ошибаетесь! Ваше главное богатство – годы, которых у вас впереди еще очень много. Как распорядитесь этим богатством, таких высот и достигнете. У меня же большая и лучшая часть жизни, увы, позади. Поверьте человеку пожившему и, смею уверять, кое-что повидавшему: самая большая в жизни высота всегда впереди. Все, что было прежде, это только подготовка к чему-то главному. Разбег перед прыжком.
– Вы настоящий мудрец, Паламед Ферапонтович, – в восхищении проговорила Лиза. – У вас и имя такое… античное… Паламед. Кажется, был такой философ?..
– Имя, действительно, древнегреческое. Вы правы. Считается, что некий Паламед – мифический персонаж – придумал буквы и цифры. Но наибольшая его заслуга, – посерьезнел вдруг инженер, – это разоблачение хитроумного Одиссея и его жены Пенелопы, когда те придумали притвориться царю Итаки безумными, дабы избежать участвовать в Троянской войне.
Дальше разговор у них не клеился. Даже у Паламеда Ферапонтовича прежний восторг чувств поубавился. Поэтому Гецевич и Лиза, посидев приличия ради еще несколько минут, откланялись.
– Нам надо с вами серьезно поговорить, – сказала Лиза Гецевичу, когда они затворились в своем купе.
Гецевич только пожал плечами, показывая, что он не против.
– Эдуард Яковлевич, – Лиза, как наказывал им Саломеев, и наедине с Гецевичем называла его вымышленным именем, – вы не находите этого типа подозрительным? Инженеры ездят обычно во втором классе. И уж никак не занимают целиком купе в первом.
– Вы думаете?.. – Впервые за время их знакомства Гецевич посмотрел на Лизу внимательно. – Для чего же вы тогда завели с ним короткие отношения? К чему этот фуршет с элементами свадебной пирушки? Кстати, обязывающий нас теперь пригласить его с ответным визитом.
Это были крайне неудобные для Лизы вопросы. Она и так уже извелась от осознания своей оплошности.
– Если он шпик, надо подумать, как нам подстраховаться, – сказала она.
– А не все ли теперь равно? – резонно заметил Гецевич. – Вот что я вам скажу: революция это не игра в прятки с полицией, шпиками и прочими. Это сражение. Поймите! Стенка на стенку, как у вас говорят. И если нам суждено будет пасть в этом побоище, то все равно мы окажемся победителями. Потому что пролитая кровь – лучшая агитация за революцию, – говорил он с подъемом. – Никакие листовки, никакие брошюры не призовут столько новых бойцов, сколько призовет кровь хотя бы одного павшего. Я не знаю, – умерил Гецевич тон, – сможем ли мы исполнить то, для чего нас послали. А я отнюдь не специалист по терактам. Но уж умереть-то достойно, если потребуется, мы точно сможем. Должны, во всяком случае. Наша смерть и будет терактом. Бомбой, брошенною во власть толстосумов за счастье обездоленных.
Лиза была потрясена. Ничего подобного она никогда не слышала. Революция Саломеева, как теперь ей представлялось, до смешного напоминала ее собственное непослушание родителям. То ли дело революция Гецевича! Какой уж тут смех. Но на удивление ей совсем не было страшно. Лиза вдруг поняла, что с Гецевичем ей вообще нечего бояться.
Она положила ладошку ему на руку. От неожиданности Гецевич вздрогнул.
– Герман, – впервые обращаясь к Гецевичу по настоящему его имени, решительно сказала Лиза, – я хочу, чтобы вы знали: то, что я говорила о вас у этого Паламеда, – все правда!
«Сейчас он высвободит руку, – думала Лиза. – Но мне нисколько не стыдно. Я не лукавлю. За что же мне должно быть стыдно?»
Но Гецевич не высвободил руки. Больше того, он свободною рукой накрыл девичью ладошку, крепко ее сжал и потянул к себе. Лиза шумно вздохнула и уткнулась лицом ему в шею, будто спряталась за его густою бородой. Гецевич губами нашел ее губы. И, не глядя, нащупал замок на двери и защелкнул его.
На следующее утро, когда они вместе появились в вагоне-ресторане, всякому сколько-нибудь внимательному наблюдателю непременно должно было бы броситься в глаза, что эта парочка из первого класса вступила в какой-то новый этап отношений: супруги стали обмениваться взглядами, красноречиво говорящими о некой существующей между ними и известной только им двоим тайне.
Но вряд ли кто-нибудь обратил на это внимание. Разве Паламед Ферапонтович. Он, едва увидев своих знакомцев и заметив перемену в их поведении, поскорее опустил голову чтобы скрыть безудержную лукавую улыбочку все понимающего хитреца. Только справившись с чувствами, он снова нашел взглядом Гецевича с Лизой и, на этот раз с обычною своею приветливою улыбкой, помахал им рукой из дальнего угла ресторана.
В оставшиеся дни их путешествия Паламед Ферапонтович не был столь навязчив со своею дружбой. К тому же новобрачные, как им и полагается, теперь почти не показывались из своего купе. Разумеется, он раскланивался со знакомцами, говорил им при мимолетных встречах, как обычно, что-то шуточное и лестное, но о том, чтобы снова пригласить к себе в купе или еще как-то продолжить с ними сближаться, он, казалось, и сам больше не помышлял.
Даже уже на иркутском вокзале, расставаясь с добрыми попутчиками – симпатичною четой, – Паламед Ферапонтович не предложил главе семьи и своей визитной карточки, что делается по обыкновению во всяком случае. Он только сердечно с ними распрощался, высказав дежурные пожелания, вроде всяческого благополучия, и тому подобное.
Когда Гецевич и Лиза отошли от него на несколько шагов, Паламед Ферапонтович кивком указал на них какому-то бравому усачу, прохаживающемуся по перрону, который немедленно последовал за московскими гостями.
Иркутск встретил гостей из России, как и полагается Сибири, не по-ноябрьски крепким морозцем, тысячью белых дымов и военною суетой: на улицах сплошь черные меховые шапки, чем ближе к вокзалу, тем гуще, а на самом вокзале так просто столпотворение – казаки, пехотинцы, командами, поодиночке.
Гецевич с Лизой устроились в гостинице, в целях конспирации, подальше от железной дороги. В первый день они очень разумно решили не искать связи с местным стачечным комитетом, а просто выйти прогуляться по городу, оглядеться, оценить обстановку. Они побывали на замерзшей Ангаре, дошли до Вознесенского монастыря, заглянули, как приличествует учителям, в музей. Лиза заметила, что за всем этим беспокойным многолюдьем чувствуется какое-то стороннее присутствие. За время недолгой прогулки ей не однажды случилось столкнуться с чьим-то внимательным, колючим ВЗГЛЯДОМ: то дворник посмотрит сурово, то извозчик покосится, то еще какой-нибудь тип сверкнет глазами из щели между нахлобученной ниже бровей шапкой и поднятым воротником. Лиза обратила на это внимание Гецевича. Но тот отвечал, что это не имеет для них ровно никакого значения: если здесь много шпионов, значит, где-то их меньше, а следовательно, там честным людям легче бороться за народное счастье; пусть даже нам не удастся совершить того, зачем мы сюда приехали, учил Гецевич, но наша заслуга будет хотя бы в том, что мы привлечем к себе значительное внимание полиции и ее агентуры и таким образом облегчим участь каких-нибудь наших товарищей, которым в другом месте будет сподручнее исполнить подобную же или другую акцию возмездия против преступной тирании…
На следующий же день, пораньше утром, Лиза отправилась в депо. По пути она зашла в модный магазин и купила там картонку. Она действовала в точности по указаниям Саломеева. А тот в свое время настрого наказывал ей в само депо даже не пытаться войти, – скорее всего, в военное время оно усиленно охраняется, и всякий старающийся для чего-то туда проникнуть, в лучшем случае, окажется под пристальным наблюдением жандармерии, – а попросить на улице любого рабочего вызвать к ней Кузьму Братчикова – это и будет товарищ Трофим. При этом Лизе нужно было держать в руке картонку, можно даже пустую.
Неподалеку от депо находилась булочная. Лиза заметила, как туда прошмыгнул молодой парень в грязном фартуке и в старом промасленном треухе – очевидно, деповский рабочий. Дождавшись его у дверей, Лиза попросила передать мастеру Братчикову выйти к визитерше. Парень пробурчал что-то, по всей видимости, обнадеживающее – он на ходу жевал сайку, – и убежал в депо.
Минут через двадцать из депо вышел пожилой человек с красивыми седыми усами, бывший, верно, каким-то невеликим начальствующим, судя по его строгому взгляду поверх очков и вообще по довольно опрятной внешности. Он зорко оглядел все кругом и направился к булочной. Лизу с ее картонкой он приметил сразу. Но когда они поравнялись и Лиза подалась к нему навстречу, готовая что-то сказать, усач отвернулся и как ни в чем не бывало прошел мимо. И лишь когда, спустя недолгое время, он выходил из булочной, то, не глядя на девушку, пробормотал себе под нос: «Сегодня, в шесть, в трактире Побережникова».
Гецевич, слушая рассказ Лизы об ее похождениях, особенно о поведении товарища Трофима – Кузьмы Братчикова, только усмехался на всю эту провинциальную конспирацию. «Они боятся собственной тени, – говорил он. – Подпольные революционеры! Это все равно как путешествовать, не вставая с дивана – глазами по географической карте!»
В единственный в Иркутске ювелирный магазин на главной улице вошел странный тип: в монгольской меховой шапке, в черной шинели, видно, с чужого и куда более могучего плеча, с короткой, торчащей клочьями в разные стороны бородой и с беспокойным, мечущимся взглядом. Он вошел, едва хозяин открыл дверь, – наверное, караулил где-нибудь поблизости, чтобы оказаться в магазине без посторонних.
Хозяин насторожился при виде такого посетителя и на всякий случай полез рукой под прилавок, верно, ища оружие.
– Вы ювелир? – спросил его незнакомец.
– А в чем, собственно, дело?
Ничего не ответив, странный посетитель протянул к ювелиру ладонь, на которой поблескивал гранями прозрачный камушек величиной с небольшой орех.
Ювелир сколько-то времени завороженно смотрел на диковину, но наконец совладал с чувствами и протянул к камушку тонкие прямые пальцы.
Вначале он его покрутил в руках, наслаждаясь весом и выделкой бриллианта. То, что это бриллиант, опытному специалисту стало ясно сразу. Но он, повинуясь заведенному правилу, еще внимательно рассмотрел камень на свет через лупу.
– Что вы за это просите? – строго произнес ювелир, показывая, что здесь он всему хозяин, в том числе и ценам на товар.
– Тысячу, – ответил посетитель.
– Триста, – так же коротко назначил свою цену ювелир.
В ответ посетитель молча взял у него из руки свой камень.
– Вы думаете где-нибудь еще его продать? – иронично произнес ювелир. – Ближайший ювелирный магазин – в Красноярске.
– А что, в Иркутске не отыщется ни одного почтенного папаши, кто бы не пожелал за пятьсот рублей приобрести для своей дочки целое состояние в приданое? – так же иронично возразил посетитель.
– С вами приятно иметь дело, – улыбнулся ювелир.
Он крутанул ручку кассы и вынул из выдвинувшегося железного ящика пять радужных бумажек.
Посетитель тщательно запрятал куда-то далеко под одежду выручку, но уходить не спешил.
– Вот что, любезный, – выторговав у скупца-ювелира хотя бы половину цены, странный гость перешел теперь на более решительный тон, – мне нужны документы. Паспорт. Вы понимаете, о чем я?
– Здесь документов не выписывают, – прикидываясь, что не понимает, ответил ювелир. – За этим вам следует обращаться в полицию.
– Не выписывают, когда не платят, – возразил посетитель. – За наличные же выписывают хоть княжеское достоинство.
Ювелир какое-то время молчал, оценивающе и испытующе разглядывая собеседника, и тоном человека, принявшего верное решение, спросил:
– И сколько вы готовы заплатить комиссионных?
– Вы знаете, какими средствами я располагаю.
– Хорошо. – Ювелир понял, что бразды в его руках. – Мне – сто.
– Но… не слишком ли за комиссию? Хватит ли мне средств, чтобы расплатиться с непосредственными исполнителями?
– С этими, думаю, хватит.
– С какими этими? – Посетитель насторожился.
– Местные социалисты. Я знаком кое с кем из этой публики. По фабрикации документов они первые мастера, уверяю вас.
Раздумывать или искать какие-то еще варианты странному посетителю, видно, было некогда. Он сразу согласился.
– Деньги прошу заплатить вперед, – предупредил ювелир.
Спрятав обратно в кассу радужную бумажку, он очень тихо произнес:
– Сегодня к семи часам вечера будьте в трактире Побережникова. Найдете? Это…
– Я знаю, – перебил его посетитель.
Вечером Гецевич с Лизой явились в назначенное Братчиковым место. Едва они вошли, к ним навстречу поспешил сам владелец заведения – в зеркально надраенных сапогах и в подшитой мехом безрукавке поверх обычной сибирки, этакий упитанный немолодой купчик с сальною улыбочкой, свидетельствующей о его непережитой смолоду страсти к амурным приключениям. Наверное, интеллигентные посетители были великою редкостью в трактире, поэтому угодливый трактирщик лично почел расстелиться перед ними. Но позаботиться о них он не успел – из-за дальнего стола, за которым сидела большая компания, поднялся Лизин исключительно законспирированный знакомец, мастер Братчиков, и жестом пригласил вошедших присоединяться к ним.
За столом сидело не меньше дюжины всех людей: как выяснилось, рабочие из депо собрались по случаю именин какого-то своего товарища. Они все громко разговаривали, кто-то из них еще брал нестройные аккорды на гармошке. И вообще в трактире было довольно шумно. Голоса здесь никто не сдерживал. Как объяснил товарищ Трофим, именно поэтому он гостей сюда и пригласил: только в этом гвалте они и могли поговорить, не рискуя быть услышанными, кем не следует. Гецевич, выслушав такое объяснение, только усмехнулся в очередной раз.
Прежде всего, Гецевич поинтересовался, что вообще местные социалисты делают для поражения царизма в войне. По словам Братчикова выходило, что самыми значительными их достижениями были случаи, когда удавалось на некоторое время задержать отправление военных эшелонов. А так в основном листовки, агитация… Гецевич теперь даже и не усмехнулся. Ему все стало ясно: в сущности, здесь не делается ничего.
– Ну вот что, – перешел он к делу. – Эта ваша агитация… пустое времяпрепровождение. Сейчас идет война. Вы понимаете это? Война! У царизма – с японцами. У нас – с царизмом. Поэтому листовки – не оружие настоящего момента. Настало время заговорить с ними языком взрывов и катастроф. У вас есть динамит?
– Найдется, – буркнул Братчиков, недовольный тем, что московский гость так уничижительно отозвался об их деятельности.
– Прекрасно, – продолжал Гецевич. – Нам с вами необходимо как можно скорее исполнить такую диверсию, устроить им такую катастрофу, которая откликнулась бы громким эхом по всей России. Мы должны по меньшей мере уничтожить эшелон, причем на продолжительное время повредить железную дорогу и, таким образом, ослабить армию в Маньчжурии. Какие у вас есть на этот счет предложения?
Братчиков потерялся: он, очевидно, не ожидал услышать от собеседника столь радикальных намерений.
– Надо бы подумать… – неопределенно проговорил мастер.
– Только не выходя из-за этого стола, пожалуйста. – Гецевич дал ему понять, что переливать из пустого в порожнее он этим безвольным расклейщикам листовок не позволит. – Мы должны сейчас принять решение.
Братчиков щелкнул пальцами половому – тот бегом схватил со стола полупустой и подостывший самовар и через секунду принес огненный, кипящий новый.
– Кое-какие мыслишки у нас есть… – начал издалека мастер. – Вы слышали, наверное, что по льду Байкала они придумали проложить рельсовый путь, чтобы эшелоны шли прямиком?
Гецевич согласно кивнул головой.
– Если где-нибудь там положить взрывчатку – продолжал Братчиков, – и взорвать ее перед самым эшелоном, то… понимаете, спасения не будет никому: поезд не просто с рельсов сойдет, а погрузится в воду… в байкальскую бездну… – закончил он… шепотом и торжественно.
– Но этого пути еще нет! – возразил Гецевич. – О чем же тогда разговор?!
– Да, пути еще нет! – будто только теперь вспомнил Братчиков. – Но скоро, на днях, его должны будут начать строить.
– И мы что, будем дожидаться, пока построят эту дорогу?! – вскипел Гецевич. – Вы подумайте только: мы будем сидеть и ждать, когда власть возведет объект, который мы должны уничтожить? Ничего абсурднее и придумать невозможно. Надо действовать немедленно! Если так, то тогда надо как-то помешать строительству этой дороги.
– Там на берегу устроены склады, – рассуждал Братчиков. – Там же приготовлена целая гора шпал. Может быть, попробовать это все поджечь? Для начала? – пояснил он, опасаясь, что его предложение покажется московскому террористу слишком незначительным.
– Не попробовать – а именно поджечь! И немедленно! – ответил Гецевич. – Нынче же ночью. Где мы встречаемся? Во сколько?
– Нынче-то никак не выйдет, – отвечал Братчиков виновато, будто оправдываясь. – Тут надо приготовиться. Завтра вот керосину припасем. Тогда уж можно и того… А тем временем наши товарищи, – он кивнул головой на кого-то из соседей по столу, – съездят туда на разведки и выяснят: как там обстоят дела? где самые шпалы? как охраняются?..
Лиза сидела рядом и слышала все, но, чтобы не смущать Братчикова тем, как она молча вникает в их разговор, делала вид, что вовсе и не слушает собеседников. Она блуждала взглядом по сторонам, будто интересовалась всею этою провинциальною трактирною эстетикой: аляповатыми расписными блюдами и примитивными картинами в тяжеловесных рамах, развешанными по стенам, какими-то глиняными горшками на полках, медвежьим чучелом у входа.
Но вдруг она наткнулась на чей-то взгляд, заставивший ее смешаться, потеряться, – так бывает, когда сталкиваешься с лицом вроде бы знакомым, но не сразу припоминаешь, кто это именно. Лиза опустила голову, напряженно перебирая в памяти всякие близкие и не очень лица, будто листая альбом с фотографиями. И… вспомнила.
Заговорщики тем временим всё, что следовало, оговорили и распрощались. Гецевич встал и помог подняться своей даме.
Когда они пробирались между столами к выходу, Лиза еще раз, будто невзначай, поглядела в сторону знакомца: да, несомненно, это был он! Но что это значит? Почему он здесь и в таком виде? Ничего не понятно!
Наученная за месяцы подпольной работы тому, что всем замеченным подозрительным, странным надо немедленно делиться с товарищами, чтобы вовремя и сообща предупредить последствия, Лиза рассказала об этом случае Гецевичу, едва они отошли на некоторое расстояние от трактира.
– Это отец моей подруги по гимназии – господин Казаринов. Но он какой-то крупный чиновник, чуть ли не статский генерал. Я наверно знаю. Почему же он в таком виде… как извозчик?! в этом захолустном трактире?!. И главное, почему он вообще здесь – в Иркутске? Это все очень странно… – говорила Лиза.
– Ты не ошиблась? – заинтересовался новостью Гецевич. – Так и он тоже тебя узнал?
– Ничуть не ошиблась. Он сколько раз приходил к нам в гимназию. Да и Таня – дочка его – вылитая папа. Но едва ли он меня узнал. Потому что, кажется, не было случая, чтобы я могла ему запомниться. Руку разве целовал мне как-то. Так он многим девушкам целовал ручки, когда бывал в гимназии… Любезный такой был с ученицами. Очаровательный. Но мы в классах все были одинаковые, как инокини: черные фартуки, платья до паркета, и на голове ни единого вольного локонка.
– Уж случайно не за тем же самым он здесь, зачем и мы?.. – отозвался Гецевич скорее в шутку, нежели всерьез. Но он вспомнил содержателя их кружка – Старика. И подумал: если крупный капиталист – революционер, почему бы таковым не быть генералу? Кто их разберет этих чудных…
Через четверть часа они уже были в гостинице. Когда Гецевич с Лизой скрылись за дверьми, к подъезду неторопливо подъехали санки с седоком в меховой шапке и в безразмерной шинели с поднятым воротником. Выглянув одним глазом из-за воротника, седок прошептал:
– А бог-то есть! Есть! – И тут же приказал извозчику: – Давай назад в трактир. Пошел, пошел.
В назначенном ювелиром месте встречи – трактире Побережникова – Александр Иосифович появился намного раньше установленного срока. Человек по природе осмотрительный, теперь, пробираясь тайком из Маньчжурии в Россию, он вообще стал осторожный и чуткий, как лесной зверок. Прежде чем где-либо появиться, куда-то войти, он некоторое время наблюдал за этим местом, оценивал, примечал, как перед визитом к ювелиру: нет ли там или поблизости чего подозрительного? Вот и в трактир он пришел заблаговременно, чтобы осмотреться, а заодно отведать омулька да попить чаю с бубликами. Кстати, за время странствий ему пришлось и поголодать. И только теперь, когда у него завелись кое-какие средства, он мог позволить себе этакую мужицкую – из соображений конспирации! – пирушку.
Александр Иосифович сидел, сгорбившись над столом, старательно чавкал и поминутно облизывал пальцы. До встречи с ювелиром оставался еще целый час. В это время в трактир вошли двое – интеллигентного типа брюнет и с ним девушка в красивой каракулевой шапочке. Такого рода посетителей в трактире больше не было. Присмотревшись к девушке, Александр Иосифович едва не поперхнулся: лицо ее показалось ему знакомым. Ему не много потребовалось времени, чтобы вспомнить, кто это такая, – память на лица, как и вообще на всё, у господина Казаринова была отменная! Он вспомнил, что это одна из Таниных подруг, – он не однажды видел ее в гимназии, да и домой к ним она как-то заходила, – а именно та самая Тужилкина, из-за которой тогда весь сыр-бор и разгорелся.
Сделав это важное открытие, Александр Иосифович задумался: что еще за сюрприз преподносит судьба? какова может быть польза от такой встречи? нужна ли ему вообще эта бывшая дочкина товарка? И если не нужна, то для него нет никакой надобности быть узнанным. Но, может быть, после всех пережитых неприятностей ему наконец выпадает некий счастливый случай? награда за прежние страдания? Тогда, наоборот, следует как-то объявиться ей. На всякий случай до окончательного принятия решения он отвернулся и еще больше сгорбился над столом.
Ее зовут Лиза, вспомнил Александр Иосифович, Лиза Тужилкина. Это она тогда весной подвернулась ему под руку и сделалась в глазах Татьяны презренною доносительницей, когда пришлось на ходу придумывать, как бы предотвратить беду, могущую произойти по дочкиному легкомыслию. А заодно и самому оправдаться за свою подозрительную осведомленность в случившемся.
Еще Александр Иосифович припомнил, – вроде был такой разговор? – что с этой мадемуазель вышло какое-то приключение: не то ее арестовали? не то сама ушла из дома? Одним словом, пропала. И вот она самая встречается ему в далекой Сибири в компании типичного еврея. Что бы это могло значить? Во всяком случае, они здесь не в свадебном путешествии. Какие-то непраздные, очевидно, мотивы вынудили странную парочку приехать в прифронтовой, по сути, Иркутск, где в теперешнюю пору еврейская наружность столь же подозрительна, как наружность японская.
Александр Иосифович искоса подглядел, как Лиза с Гецевичем прошли через весь зал и сели за стол к подгулявшим рабочим, что уже само по себе вызывало недоумение. Но еще большее недоумение у наблюдательного очевидца должно было вызвать поведение Лизиного кавалера: тотчас оставив вниманием свою даму, он, будто со старым знакомым, увлекся беседой с одним из бывших за столом посетителей – пожилым усачом, – причем, даже не слыша их слов, но по одной только манере разговора, Александру Иосифовичу отчетливо бросилось в глаза, как начальственно Лизин спутник держит себя по отношению к старшему собеседнику – будто взыскивает с него.
Мгновенно прокрутив в голове возможные причины такого поведения московской знакомицы и ее сопровождателя, а также самого их чудесного явления здесь, Александр Иосифович пришел к определенному выводу, каковой не только не препятствовал ему быть узнанным Лизою, но даже, напротив, побуждал теперь открыться ей, суля какие-то небезынтересные последствия.
Улучив момент, Александр Иосифович обернулся в сторону Лизы, будто его привлекла чья-то не слишком сдержанная реплика. Хотя взглядом с ней он и не встретился, ему было ясно, – Александр Иосифович отчетливо это почувствовал, – девушка обратила на него внимание. И, когда вскоре Лиза с Гецевичем поднялись и направились к выходу, Александр Иосифович, будто невзначай, но вполне откровенно, показал выходившим свой профиль.
Но мало того, он придумал, пока у него до назначенного часа свидания остается сколько-то времени, проследить: где именно в Иркутске устроились московские гости? Многоопытный Александр Иосифович верно знал, что преимущество всегда у того, кто располагает большими сведениями о ком-то и, насколько возможно, оставляет в безвестности кого-то о себе самом.
Он посидел еще полминутки и вышел на улицу. Лиза и Гецевич не успели далеко уйти, – Александр Иосифович в тусклом свете рожка увидел их удаляющиеся спины шагах в тридцати от трактира. Забравшись в стоящие тут же санки, он, ссылаясь на нездоровье, велел извозчику не гнать.
– Не зябко ль будет, вашродь? – удивленно спросил возничий, кивая на шинельку господина Казаринова.
– Давай, давай, чалдон, не рассуждай, – сквозь зубы проговорил Александр Иосифович, меньше всего в этот момент думая о собеседнике. – Пошел.
Проводив таким манером Лизу и ее спутника до самой гостиницы, где они жили, Александр Иосифович поспешил назад в трактир.
Там он застал уже своего знакомого – ювелира. Тот без лишних слов кивнул головой Александру Иосифовичу, приглашая его следовать за ним, и… подвел к столу, за которым несколько минут назад сидели Лиза с Гецевичем.
– А бог-то есть, – не сдержался произнести вслух Александр Иосифович. Впрочем, его никто не услышал в трактирном гаме.
Все, что он предполагал относительно Лизы, вполне подтверждалось. А это теперь открывало перед Александром Иосифовичем самые невообразимые перспективы. После всех пережитых бедствий – катастрофы в безвестном китайском селе на Ша-хэ, едва не стоившей ему жизни, невозможности вывезти сокровища, кроме нескольких камушков, голодных странствий по Монголии и Сибири – после бесчисленных больших и малых неприятностей, выпавших на его долю в последние месяцы, судьба как будто снова благоволила Александру Иосифовичу. «Определенно, судьба улыбается, – подумал он. – Счастлив мой бог».
Ювелир что-то сказал на ухо предводительствующему в обществе за столом – тому самому седому усачу, с которым прежде разговаривал Лизин спутник. Тот оглядел Александра Иосифовича с головы до ног и довольно небрежно указал ему рукой садиться с ним рядом. Провожатый же, исполнив свои обязательства, немедленно откланялся.
– Деньги при тебе? – с ходу приступил к делу мастер Братчиков.
Александр Иосифович в последнее время уже свыкся с тем, что ему всякий тыкает: странно было бы теперь его – на вид натурального бродягу, беглого – величать как-то иначе. При замечательно редком умении управлять чувствами господину Казаринову и теперь ничего не стоило изобразить из себя забитого жизнью простака и покорно перетерпеть новые помыкания, даже и со стороны никчемного пролетария. Но на этот раз он не стал сдерживать своего праведного возмущения от столь неуважительного к нему отношения.
– Денег дашь мне ты. Сумму я назову в свое время, – веско ответил Александр Иосифович. – А сейчас не дергайся и спокойно слушай. Можешь жевать, старец мудрый.
Это было своевременное предупреждение. Потому что после первых слов Александра Иосифовича мастер Братчиков забеспокоился и стал нервно озираться на сотрапезников. Но не в поисках подмоги, а, скорее, из опасения показаться униженным в глазах своих подначальных.
– Только что ты разговаривал с товарищами из Москвы, – не давая собеседнику опомниться от потрясения, огорошил его Александр Иосифович новою неожиданностью. – Они со мной. Я подтверждаю их полномочия. Но, наверное, резонно спросить о доказательствах моих собственных полномочий. Не так ли?
– Да! – только и сумел вымолвить совсем очумевший Братчиков.
– Об этом также в свое время я сообщу. А теперь слушай внимательно: я прибыл сюда по решению самого центрального комитета, чтобы проконтролировать исполнение задания нашими товарищами. Принять, если потребуется, руководство операцией. Возглавить… Но я теперь не из Москвы. Я налаживал работу там… – Александр Иосифович кивнул головой куда-то в сторону, полагая, что собеседник догадается, о чем идет речь. Но, видя, что Братчиков смотрит на него по-прежнему испуганно и недоуменно, он придвинулся к нему ближе и прошептал: – В самой Маньчжурии.
Несколько мгновений Александр Иосифович молча и с едва заметною улыбкой на устах смотрел в глаза старику, любуясь, какое впечатление произвели его слова.
– Но все ж таки… – опомнился наконец Братчиков.
Александр Иосифович приподнял руку, показывая, что продолжать не нужно и сейчас он развеет всякие сомнения на свой счет.
– Там, – господин Казаринов опять кивнул в сторону головой, – я проделал, уверяю, немалую работу, причем едва не погиб. Теперь меня преследует полиция. Благодаря моей революционной деятельности ненавистный царизм потерпел позорное поражение. Откроюсь вам: я лично сорвал наступление на Ша-хэ. Вот, товарищ, какой документ я имею за это от царской власти. – С этими словами Александр Иосифович вынул из кармана сложенную несколько раз бумагу, развернул ее и поднес к самому лицу Братчикова так, чтобы, кроме него, никто больше не увидел, что там было изображено.
А на бумаге красовался портрет самого Александра Иосифовича анфас с надписью аршинными буквами под ним:
РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ОПАСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК
Казаринов Александр Иосифович Сообщившему о нем какие-либо сведения в полицию будет вознаграждение
– Это мой паспорт революционера, – самодовольно произнес Александр Иосифович, убирая бумагу. – Но жить с ним в кровавой романовской деспотии довольно непросто, – невесело пошутил он. – Если и этого мало, – Александр Иосифович словно от обиды за недоверие к нему повысил голос, – сами мои московские товарищи могут удостоверить мою личность! Они меня знают. Хотя я им и не открывал еще своего присутствия здесь. – Ссылка на Гецевича и Лизу была, безусловно, рискованным доводом. Но Александр Иосифович не без основания надеялся, что дочкина одноклассница из добрых чувств к своей подруге детства вряд ли не будет поспешествовать хоть в чем-либо ее отцу. Почему бы нет? Не поступить таким образом у нее нет ни малейших оснований.
На Братчикова все увиденное и услышанное произвело весьма выгодное для господина Казаринова впечатление.
– Да мы вам… – мастер перешел на самый почтительный тон, – мы сделаем вам такой паспорт… такой, что никто… ни ухом ни рылом…
– Надеюсь. Документы мне нужны на два лица: на меня и на девушку двадцати лет. Причем фамилии в паспортах должны совпадать, а отчество у девушки соответствовать моему будущему имени, – какое вы там подберете, мне все равно. Кроме того, я говорил, мне необходимы деньги. Пятьсот рублей. Завтра же. Вместе с паспортами.
– Пятьсот рублей?.. – виновато повторил Братчиков. – Вряд ли столько найдем. Прежде знать бы…
– Хорошо, – смиловался Александр Иосифович. – Сколько у вас есть?
– Ну, рублей… сто пятьдесят будет…
Такой суммой организация отнюдь не располагала. В наличии имелось от силы рублей восемьдесят. Но Братчикову совестно было крупному столичному революционеру, объявленному во всероссийский розыск и преследуемому по пятам полицией, предложить такие невеликие деньги. Поэтому он назвал сумму более солидную – сто пятьдесят рублей, – имея в виду как-нибудь до завтра наскрести недостающее.
– Ладно. Обернусь. Может быть… – Александр Иосифович нахмурился, крепко сжал зубы, показывая, как же тяжело теперь ему придется, имея при себе только сто пятьдесят рублей. Но, героически, усилием воли, справившись с тягостными, безотрадными чувствами, он сердечно добавил: – Я доволен вашей работой. Прошу передать мою благодарность всем иркутским товарищам. Я буду рассказывать о вас в Москве. И непременно позабочусь, чтобы вам были переданы некоторые значительные средства для развития деятельности.
– Благодарствуйте, – ожил совсем было сникший Братчиков. – Все сделаем в лучшем виде.
– Хорошо. С этим, будем считать, разобрались, – подытожил господин Казаринов. – Теперь мне необходимо знать все подробности ваших совместных с московскими товарищами действий. Что вы решили?
– Поджечь склад шпал. Чтобы сорвать строительство железной дороги по льду Байкала, – не без гордости доложил Братчиков.
– Очень одобряю. Когда намерены осуществить?
– Завтра ночью.
Условившись встретиться с Братчиковым следующим вечером в Спасской церкви, Александр Иосифович распрощался с ним и вышел. Из трактира он отправился на городской почтамт. Там он купил конверт и пол-листа писчей бумаги.
Александр Иосифович выбрал в зале поукромнее уголок, оглянулся кругом: не наблюдает ли кто за ним? – и склонился над бумагой. Вот что он написал:
«Его Высокоблагородию господину полицеймейстеру Иркутска.
Ваше Высокоблагородие.
Долг русского патриота и верного подданного Государя Императора не позволяет мне оставаться безучастным посторонним при наличии у меня доподлинных свидетельств готовящегося тяжкого преступления против государственной власти.
Неисповедимою волею судьбы мне случилось оказаться посвященным в изуверские намерения преступной шайки местных социалистов. Эти негодяи придумали следующей ночью поджечь заготовленные на берегу Байкала шпалы, имея в виду навредить строительству железной дороги через замерзшее озеро. Таковым дерзким выступлением своим они полагают ослабить нашу доблестную армию в Маньчжурии, а именно: поставить последнюю в затруднительное положение, при котором она испытывала бы губительный для нее недостаток в снабжении и подкреплениях. И в итоге терпела бы неудачи на полях сражений!
Какое русское благородное сердце не страждет ныне от временных неудач, преследуемых наше веками несокрушимое героическое оружие! Какая православная душа не скорбит, видя, как на Святую Русскую землю пала зловещая тень черных крыл князя бесовского! Но пусть его расползшееся по России иудейское воинство трепещет от мысли, что русский старый богатырь не почивает на постели, что вот-вот поднимется, сверкая стальною щетиной, богоспасаемая Русь, когда переполнится чаша терпения народного и сметет всех врагов и внутри отечества, и за его пределами! Мы русские, и с нами Бог! Мы не позволим подлым инородцам и их немногим неразумным нашим соплеменным приспешникам злодействовать против любезного отечества и дражайшего Государя Императора! Всех врагов Великой России ждет бесславная погибель! Иль русский от побед отвык?!
Спешу также сообщить вам приметы злоумышленников. Главарь приехал из самой Москвы. Видом натуральный еврей. Росту едва ли шести вершков. Волосы черные, глаза карие навыкат, рот большой, имеет бороду не белее вершка. Ближайший его споспешник местный иркутский, пожилой, лет шестидесяти, очевидно, рабочий или мастеровой, волосы густые седые, носит усы того же цвета, что и волосы. С ними могут быть и прочие сотоварищи, но о них мне доподлинно не известно.
Преданный отечеству и престолу русский гражданин».
На конверте Александр Иосифович написал единственное: «Лично господину иркутскому полицмейстеру».
На улице, старательно пряча в воротник лицо, он сговорился с извозчиком за пятиалтынный отвезти его к полицмейстерскому дому. Но, не проехав и квартала, Александр Иосифович ткнул мужика в спину:
– Хочешь, братец, заработать целую полтину?
Разумеется, извозчик заинтересовался. Александр Иосифович объяснил ему, что для этого требуется исполнить сущий пустяк: отдать дежурившему возле дома полицмейстера постовому единственную записку. Но прежде, естественно, высадить его – седока. В том-то и весь трюк.
Извозчик вначале было заартачился: что за записка? да не противозаконное ли чего? да не будет ли ему за это какого взыскания? – но, услышав в ответ предложение седока вознаградить его за услугу вдвое сверх предложенного прежде, согласился.
Не доехав сколько-то до цели, Александр Иосифович велел человеку остановиться, выдал ему обещанный целковый и отпустил. Укрывшись за афишной тумбой, он стал наблюдать за действиями своего посланца.
Вышло все, можно сказать, гладко. Мужик доехал до прогуливающегося под фонарем полицейского, выбрался из санок и, почтительно кланяясь на ходу, поднес постовому бумагу. О чем они говорили, Александр Иосифович, естественно, не мог слышать. Но, взяв пакет, постовой указал извозчику идти в дом. Мужик, как можно было понять, принялся отнекиваться, показывать обеими руками в сторону, откуда он только что приехал и где высадил господина, передавшего ему эту бумагу, объясняя, верно, что он лишь исполнитель его случайного поручения. Однако тщетно. Полицейский так и не отпустил его. Но Александра Иосифовича все это уже не могло беспокоить. Главное, записка его попала, куда следует.
Следующим вечером, едва передав господину Казаринову документы и деньги, Братчиков поторопился явиться в условленное с Гецевичем и другими товарищами место их встречи на южной окраине Иркутска. Там для них были снаряжены двое розвальней, с двумя флягами керосина и с мешком овса в каждых.
Путь до Байкала им предстоял очень неблизкий – всех шестьдесят верст. По расчетам Братчикова, добраться туда по наезженному тракту они должны были где-то к полуночи. Разумеется, не в один дух, а перегона за два-три. Хотя у них была еще и третья лошадь на привязи на перемену в дороге, – почему Братчиков в шутку назвал их поезд из двух санок запряженный «ополутораконь», – но привал-другой, чтобы покормить лошадей и дать им передохнуть, по разумению старого мастера, делать все равно придется.
В дороге заговорщики больше молчали, – на крепком ночном сибирском морозе боязно было хоть на миг отнять мохнатый воротник от лица. Но, по общему мнению, лучшей погоды для исполнения их замысла не могло и быть. Как бы ни было им самим несподручно в стужу, но там – на складах – охранным постовым и того плоше: или вообще теперь попрятались служивые по теплушкам, или, укутавшись в долгополые тулупы, стоят где-нибудь в укромных местах, недвижные, как снеговики.
Гецевич, завернувшись в овчину, полулежал на сене позади Братчикова и, за неимением других предметов, достойных внимания, смотрел в самую морду бегущей на привязи за санками лошади. Ему подумалось: я вот лежу на сене и даже почти не мерзну в тулупе и валенках, едва ли не блаженствую, но считается, что нахожусь при деле, и не каком-нибудь, а смертельно опасном деле, а лошадь бежит следом, сопит, мордой заиндевела от пара, и это считается ее отдыхом. Впрочем, вряд ли она понимает, что такое отдых и что такое работа. Чудно устроена природа.
– Эдуард Яковлевич! – прервал вдруг его размышления Братчиков. – Тут вот какое недоумение. Третьего дня объявился у нас один человек. Говорит, он большой революционер – из самой якобы Москвы, из центрального комитета.
– Вы с ним встречались в трактире? Когда мы ушли? – отозвался Гецевич, мигом сообразив, о ком идет речь.
– Точно так! – Искренне обрадовался Братчиков, уже догадываясь, что сейчас услышит известие, окончательно развеивающее его сомнения насчет странного знакомца. – Он сказал, что выполнял важное поручение центрального комитета в Маньчжурии. И что теперь разыскивается полицией. При нем даже имеется объявление о его розыске. Написано: опасный государственный преступник! Сам видел. А теперь здесь он наблюдает за вами. Ну вроде как контролирует, что ли… И еще он говорит, что вы и ваша супруга знаете его.
Гецевичу удивительно было узнать, что, оказывается, кто-то их еще и контролирует. Хотя, почему бы и нет, подумал он, Саломеев не обязан посвящать его во все тонкости большой игры, – часто полезнее и безопаснее меньше знать. Он хотел было уточнить в ответ, что сам лично никогда этого субъекта – ни в Москве, ни здесь – даже не видел, но, вспомнив заслуживающую доверия лестную его рекомендацию Лизы, ответил коротко:
– Да, все верно.
– Уф-ф, – громко выдохнул Братчиков. – Семь пудов с плеч свалилось. А то я сомневался. Он попросил давеча сделать для него новые документы и денег дать. Мы все исполнили. – Мастер оглянулся на Гецевича, как бы спрашивая его мнения: правильно он поступил или нет? Однако признаться, что под напором этого гостя он малодушно открыл ему весь их план с поджогом, Братчиков не смог.
– Хорошо, – еще короче ответил Гецевич. Ему хотелось поскорее прекратить этот малополезный, с его точки зрения, обмен словами и спрятать лицо в воротник.
Тракт был совершенно пуст. Лишь однажды где-то на полпути розвальни обогнала заложенная парою белых жеребцов и поставленная на полозья коляска с поднятым верхом. Лихой кучер в полушубке и в солдатской черной шапке, поравнявшись с попутчиками, звонко хлопнул бичом над самыми ушами своих лошадок, и те припустили еще резвее, обдав тихоходную команду снежною пылью. В коляске кто-то сидел. Но, кроме прикрытых меховою накидкой коленок, седоки в розвальнях, как ни вглядывались, ничего больше там не рассмотрели.
До Байкала поджигатели добрались уже за полночь. Перед ними возвышалась запорошенная снегом гора обычных необтесанных кругляков. Выделывать из них собственно шпалы было некогда – дорога требовалась немедленно. Справа от горы в полуверсте светился единственный фонарь, свидетельствующий, что железнодорожный тупик все-таки не безлюдный.
В группе помимо Гецевича и Братчикова были еще двое молодых рабочих из депо – товарищи Игнат и Прокофий. Прошлой ночью они сюда приезжали, чтобы заранее выяснить, где именно заготовлены шпалы, как к ним проще и безопаснее подъехать, как охраняются и прочее.
По их заверению, склад шпал практически не охранялся. Но для несомненного успеха молодые люди предлагали сделать еще довольно большой круг и, обогнув склад слева – с противоположной от светившегося фонаря стороны, – подобраться к шпалам от Байкала. Теряя при этом часа два, они много выигрывали: таковой маневр гарантировал почти полную безопасность.
Но предводитель отверг это предложение, не утруждаясь хотя бы его обсуждением. Гецевич заметил только, что революционеры – не японские генералы и обходные маневры не их метод, – они должны всегда действовать напрямик, благородством своей манеры подавая пример массам, дабы вовлечь в борьбу как можно больше новых честных, готовых для всеобщего блага принести себя в жертву бойцов. Единственное, заговорщики решили больше не разговаривать между собой, чтобы таким образом не привлечь случайно внимания караульных, – на морозе же голоса далеко разносятся.
Они подъехали почти к самым шпалам. О своих действиях заговорщики условились заранее: товарищи Игнат и Прокофий хватают фляги с керосином и, насколько возможно проворно, поливают шпалы, Гецевич же с Братчиковым тотчас поджигают.
Но едва молодые подручные плеснули на кругляки керосину, где-то вблизи раздался выстрел, и с разных сторон, громко хрустя по снегу, к ним бросились какие-то люди – и пешие, и конные. Они, верно, затаились до поры где-нибудь в закоулках среди шпал.
– Засада! – закричал Прокофий. – Все назад! – Он отшвырнул флягу, выхватил наган и выстрелил в ближайшего облавщика. В ответ прогрохотало сразу несколько выстрелов, и Прокофий свалился замертво.
Гецевич, однако, бросился не назад, а вперед – к шпалам, чтобы успеть поджечь их до того, как подбегут солдаты. Но не успел. Он замешкался со спичками: чиркнуть все никак не получалось окоченевшие руки не слушались, спички рассыпались. Наконец, в пальцах у теоретика социализма вспыхнул огонек, но поднести его к политому керосином дереву не получилось, – на Гецевича налетел всадник, и поджигатель, сбитый с ног могучим конем, кубарем полетел в снег.
Не успел Гецевич опомниться, как в него вцепились сразу с полдюжины рук – обшарили карманы, подняли, поставили на ноги, встряхнули. Поблизости стояли поникшие головами его товарищи – Братчиков и Игнат. В них уже тоже накрепко вцепились караульщики.
– Ну, пошли! – прокричал конный, верно, унтер. – Живей! Будет вам ужо! – злобно пригрозил он незадачливым поджигателям.
Злоумышленников привели к пакгаузу и поставили под фонарем. Гецевич обратил внимание, что в стороне от пакгауза стоял экипаж, запряженный парой белых, который давеча обогнал их по тракту.
Откуда-то из мрака к фонарю вышел господин в полковничьих погонах на жандармской шинели.
– Вот, Эдуард Яковлевич, мы и встретились, – дружески обратился жандарм к Гецевичу. – Увы, не могу сказать вам «здравствуйте». Это звучало бы бесчестно и, что самое недопустимое, издевательски: здравствовать вам уже не придется. Нам уместнее теперь, не здороваясь, сразу и попрощаться. Так-то.
– A-а, это вы… – Гецевич узнал в незнакомце давешнего их с Лизой попутчика Паламеда Ферапонтовича. – В самом деле, Паламедом вы называетесь недаром…
– Паламед я только для вас, Эдуард Яковлевич, – старательно выговаривая имя-отчество Гецевича и показывая, таким образом, что иронизирует по этому поводу, произнес полковник. – Впрочем, и для очаровательной Матильды Дмитриевны тоже, – уточнил он. – Сейчас, после вас, как раз поедем к ней в гости.
Гецевич гневно сверкнул глазами.
– Девушка ни в чем не виновата! – отчеканил он. – Она ничего не знает!
– Превосходно, коли так! Значит, ей ничего и не грозит. Допросим и отпустим. Было бы жаль, если бы такая умница и красавица разделила вашу участь. Никогда не забуду, как она самоотверженно и изобретательно спасала вас в поезде. Прощайте же… как вас там, не знаю…
Полковник кивнул головой стоявшему поблизости офицеру и пошел к своей коляске. Но, пройдя несколько шагов, он оглянулся.
– Да, чуть не забыл, – громко произнес жандарм, обращаясь не только к разоблаченным поджигателям, но и так, чтобы его слышали солдаты. – Извольте выслушать приговор. По законам военного времени, лица, нанесшие или пытающиеся нанести ущерб государству, с целью ослабить его военную силу, подлежат немедленному расстрелянию. Приговор привести в исполнение! – И он продолжил свой путь к коляске.
Очевидно, ждавший этой команды офицер тотчас прокричал скрючившимся от холода солдатам: «Становись!» Нижние чины, казалось, только рады были пошевелиться, – они быстро выстроились в шеренгу, шагах в пятнадцати от приговоренных. «Готовьсь!» – скомандовал офицер. Солдаты передернули затворы и взяли ружья наизготовку.
Когда Гецевичу стало безусловно ясно, с какою целью их поставили у стены пакгауза, он, наконец, оглянулся на своих товарищей. Ему хотелось сказать им напоследок что-то ободряющее, отблагодарить как-то за совершенный ими подвиг, пусть и безуспешный, но не ставший от этого менее геройским.
Но тут под фонарем вышел чистый переполох. Молодой рабочий из депо Игнат, верно, не сумел сдержать чувств: с ним случилась натуральная истерика. Он вдруг заблажил по чем свет.
– Братцы, – закричал Игнат, обращаясь к солдатам, – не казните, братцы! Пощадите! У меня матушка одна! Вдовая! Это все они! – Он обеими руками указал на Гецевича и Братчикова. – Они все мутят нас! – жиды! нехристи! Не казните, братцы! Не думал я так! Они всё! – Игнат упал на колени и, закрыв ладонями лицо, затрясся в рыданиях.
Первой реакцией Гецевича на поведение недавнего его товарища был лютый гнев, затем брезгливая ненависть и, наконец, сострадание к малодушному. Быстро справившись с чувствами, он закричал удаляющемуся полковнику:
– Сударь! Этот человек ни в чем не виновен! Он случайно здесь! Велите освободить его!
Жандарм даже не оглянулся.
– Пли! – прокричал офицер.
Раздался залп, так что кони шарахнулись. Сильнейший удар в грудь отшвырнул Гецевича на бревна пакгауза. Он не сразу упал и еще успел подумать: что это такое с ним? отчего? Но, поняв в тот же миг, что это его уже расстреляли, безжизненно свалился под стеной.
К гостинице, в которой остановились Лиза с Гецевичем, Александр Иосифович подъехал почти ночью – задолго до рассвета. Узнать, в каком именно номере жили молодые люди из Москвы, труда ему не составило: за полтину серебром портье – заспанный старик в засаленной стеганой душегрейке – вызвался проводить ночного гостя хоть до самой их двери, но Александр Иосифович попросил не утруждаться, а только назвать ему самый номер.
В длинном узком коридоре во втором этаже горела единственная керосиновая лампа на стене. Александр Иосифович в полумраке с трудом разобрал искомую цифру на двери и потихоньку постучал. Потом постучал посильнее. Потом еще сильнее.
Наконец, из-за двери раздался тревожный девичий голосок:
– Эдуард Яковлевич, это вы? – Так справляться о случайных визитерах они условились с Гецевичем.
– Елизавета! Откройте! Скорее! – стараясь говорить сдержанно, чтобы не напугать девушку еще сильнее, прошептал Александр Иосифович.
Несколько секунд из-за двери не доносилось ни звука – понятно, Лиза пыталась лихорадочно сообразить: что это значит? кто ее здесь может называть по настоящему имени?
– Откройте, Елизавета! Вы меня знаете. Я – Александр Иосифович Казаринов, отец Тани – вашей подруги по гимназии!
Прошло еще сколько-то секунд настороженного безмолвия, прежде чем скрипнул запор и дверь отворилась.
Не дожидаясь приглашения войти, Александр Иосифович так порывисто прошмыгнул в номер, что едва не загасил ветром свечу в руке у совсем потерявшейся Лизы.
– Собирайтесь! – зашипел он. – Немедленно! Сейчас здесь будет полиция!
– Но где Эдуард Яковлевич? Мой муж?.. – не совсем кстати вымолвила Лиза, что вполне оправдывалось ее потрясением от происходящего.
Александр Иосифович хотел было сразу Лизе и объявить, что, по полученным им только что от надежных людей сведениям, муж – или кем там ей приходится этот Эдуард Яковлевич? – схвачен полицией при попытке совершить тяжкое преступление и, скорее всего, казнен. Но удержался, подумав, как бы девушке не стало худо, и тогда убедить ее поскорее собраться и проследовать с ним будет еще более непросто, нежели теперь.
– Там, там все узнаете!.. – нетерпеливо проговорил Александр Иосифович, кивая головой куда-то в сторону.
Однако, видя, что девушка так все и не может решиться довериться ему, Александр Иосифович вынул из кармана главный свой козырь – объявление о его розыске. Он выхватил у Лизы подсвечник и поднес огонь поближе к напечатанному.
– Вот, смотрите, кто я теперь. Государство зла и насилия объявляет меня преступником, своим недругом. За то, что я посмел выступить против существующих на родине драконовских порядков! Вы и после этого мне не доверяете, Елизавета? – тоном оскорбленного произнес господин Казаринов.
И, увидев, что его довод как будто произвел на девушку ожидаемое положительное впечатление, он снова призвал ее скорее последовать за ним:
– Поторопитесь же, Елизавета! Мы должны опередить их. Я жду вас за дверью.
Лиза наконец поняла, что, во-первых, Александру Иосифовичу можно доверять, а во-вторых, он действительно явился, чтобы предостеречь ее от какой-то близкой опасности, и, следовательно, ей нужно послушаться его и поторопиться.
– Прежде всего, проверьте документы и деньги, – участливо посоветовал Александр Иосифович. – Это самое важное! – И он вежливо удалился из помещения, предоставляя девушке собраться в одиночестве.
Спустя еще несколько минут Александр Иосифович с Лизой вышли из гостиницы, сели в санки и уехали.
Глава 9
Древняя столица маньчжурских императоров Мукден – крупнейший в Китае город к северу от стены, – недавно еще шумный и голосистый, затих, насторожился, будто почувствовал приближение грозы, великой, невиданной бури. Китайцы заметили, что мукденские собаки, прежде стаями носившиеся по улицам, не обращая внимания на многолюдье, и смело лаявшие по всякому случаю, теперь куда-то попрятались, затаились. Многие лавочники закрыли свои заведения вовсе, другие, у которых страсть к наживе превосходила страх перед грядущею опасностью, уже не вопили во все горло, зазывая русских купить у них чего-нибудь, а выглядывали из лавок молча, лишь улыбаясь угодливо. Но дела их шли неважно: против давешнего народу в городе куда как поубавилось. Да и у тех черных мохнатых шапок, что мелькали по улицам Мукдена, теперь, верно, имелись заботы поважнее, нежели торговать товары у китайцев.
Под Мукденом собралась военная сила, какой прежде не видывал свет – шестьсот тысяч человек сошлись, чтобы стрелять, колоть и рубить друг друга, бить друг по другу из двух с половиной тысяч пушек. Ровно через год после начала войны противоборствующие стороны изготовились каждая дать противнику генеральное сражение.
За время, прошедшее после Ляояна, русская армия дважды переходила в наступление – на реке Ша-хэ и у селения Сандепу. И в том и в другом случае над японцами нависала реальная угроза полного поражения. Увы, нерешительность русского верховного командования не позволила добиться победного результата. Оба этих дела, а также рейд конного отряда генерала Мищенко в дальний японский тыл, в сущности, пользы принесли немного. Но, во всяком случае, показали той и другой стороне, что русские могут не только отходить под натиском неприятеля, но и сами в состоянии его теснить.
Ко времени Мукденской битвы в русской армии произошли важные перемены. Прежде всего – с большим опозданием! но хоть так! – управление войсками было сосредоточено в одних руках: вместо отозванного в столицу наместника адмирала Алексеева главнокомандующим всеми вооруженными силами на Дальнем Востоке стал генерал Куропаткин.
Начал свою деятельность в новой должности главнокомандующий, как и полагается бывалому штабисту и бывшему военному министру, с реорганизации вверенных ему войск: получив значительные подкрепления из России, Куропаткин распорядился переформировать единую Маньчжурскую армию в три самостоятельные армии. Это была исключительно разумная и тоже, к сожалению, несколько запоздалая мера: в отличие от командующих корпусами, командующие армиями оставались менее зависимыми от главного штаба начальниками, а следовательно, и более вольные в принятии решений. Кстати, японская армия подразделялась таким образом с самого начала войны. И опыт прошедших месяцев показывал, что это было весьма рациональное построение вооруженных сил.
Значительные перемены после Ляояна произошли и в японской армии. Не сумев сломить оборону Порт-Артура в открытом бою, японцы взяли героических защитников крепости измором, обрушив на них ливень снарядов. После многодневной бомбардировки Порт-Артур пал. В результате осадная 3-я армия генерала Ноги была переброшена под Мукден. Кроме того, у японцев появилась еще вновь сформированная 5-я армия генерала Кавамуры.
Под Мукденом собрались пять японских армий: на правом, восточном, фланге – новая армия Кавамуры, левее от нее занимала позиции 1-я армия главного виновника ляоянского успеха японцев генерала Куроки, западнее стояла 4-я армия Нодзу, за ним – 2-я армия Оку. Армия генерала Ноги занимала довольно двусмысленное положение: вроде бы она стояла на крайнем левом фланге японцев, но ее позиции не являлись продолжением позиций армии Оку, а были смещены уступом на несколько верст южнее. Не зная об этом, русское командование оставалось в совершенной уверенности, что левый фланг армии Оку – это край всего расположения японских войск, а прибывшая из-под Порт-Артура армия Ноги находится где-то в тылу и, являясь резервом маршала Оямы, готова в любой момент быть переброшена на тот участок фронта, где сложатся благоприятные для японцев условия наступления, чтобы создать там значительный численный перевес и таким образом добиться верного успеха. Сам стараясь воевать по наполеоновским схемам, Куропаткин и от противника ожидал подобных же действий, всякий раз словно забывая о существовании других схем, но – главное! – совершенно упуская из виду, что, кроме знания многих схем, военачальник к каждому новому сражению должен подходить творчески, будто к созданию оригинального художественного произведения, должен неизменно импровизировать в бою, действовать по вдохновению.
К счастью, для русского главнокомандующего его соперник – маршал Ояма – был точно таким же догматиком, лишенным способности творчески импровизировать. Если бы не это спасительное равновесие сил, русская армия могла бы быть разбита наголову где-нибудь еще до Ляояна.
Ояма однажды и навсегда усвоил «седановскую» схему Мольтке – обходной маневр. И, казалось, русское командование должно было бы ожидать, что ничего, кроме этого накрепко усвоенного приема, японцы не предпримут. Но сколько шла война, сколько состоялось сражений, каждый раз русские наступали на одни и те же грабли: вечно упускали один и тот же маневр неприятеля – обход. И только поистине куропаткинская нерешительность Оямы всегда спасала русскую армию от совершенной катастрофы.
Убежденного, что армия Ноги теперь составляет резерв Оямы и в подходящий момент может быть брошена в наступление где-то по фронту, Куропаткина не насторожило ее положение на отшибе от главных неприятельских сил, благодаря чему армия, очевидно, легко могла двинуться на север в обход русского правого фланга. А ведь русского главнокомандующего, как сон неотступный и грозный, беспрестанно преследовало видение вероятного флангового охвата его сил. Стараясь сделать такой маневр неприятеля насколько возможно затруднительным, Куропаткин растянул позиции своих трех армий на восемьдесят пять верст! Мало того, на флангах еще были выставлены особые охранные отряды.
Куропаткин построил свои войска в следующем порядке: слева – 1-ю армию под командованием генерала Линевича, в центре – 3-ю армию барона Бильдерлинга, справа – 2-ю армию барона Каульбарса. Левый фланг русских позиций охранял отряд генерала Ренненкамфа, а правый – конница генерала Грекова.
По распоряжению главнокомандующего по всему фронту заранее была обустроена исключительно мощная линия обороны: находящиеся на линии деревни превращены в крепости, между ними сооружены редуты и люнеты, перед всеми этими укреплениями протянуты в несколько рядов проволочные заграждения, устроены волчьи ямы, засеки. Столь тщательное обустройство позиций свидетельствует, что в планы русского командования, прежде всего, входило именно отражение атак неприятеля, а не собственные активные действия. Но кроме этого, ближе к Мукдену проходила еще одна линия – тыловая, на случай отхода. Значит, и такой маневр тоже предусматривался. Вторая линия была много короче – всего тринадцать верст, – но представляла собой уже просто единую твердыню, состоящую из сплошных, чуть ли не сливающихся друг с другом, фортов и редутов. Проволочные заграждения здесь были натянуты так густо, что издали казались сплошною стальною стеной, – едва увидишь где просвет!
По своему обыкновению Куропаткин не стал брать инициативу начинать дело, – как человек истинно благородный, он опять предоставил это право противнику.
После Ляояна Можайский полк в бою еще ни разу не был. Во время наступления на Ша-хэ полк стоял в резервах, – слишком уж был измотан в предыдущем сражении. А в деле у Сандепу из трех русских армий участвовала лишь одна – Вторая. Можайский же полк входил в Первую.
Впрочем, на Ша-хэ двум можайцам – нижним чинам Мещерину и Самородову – в сражении случилось участвовать, причем они даже отличились: в составе невеликого отряда одержали верх над значительно большими неприятельскими силами. Узнав об этом, их командир штабс-капитан Тужилкин в очередной раз представил своих удальцов-земляков к награде. Но опять сомнительное прошлое помешало солдатам получить заслуженные кресты.
Зато уж боевые товарищи оценили их подвиг исключительно высоко. Слух о том, как они с каким-то французским офицером играючи, одною левой, отразили где-то японское наступление, разнесся по полку мгновенно. И за долгий срок стояния на Ша-хэ Мещерин с Самородовым по просьбе любознательных однополчан, в глазах которых они были настоящими героями, не посрамившими чести полка, десятки раз, то вместе, то порознь, живописали свои беспримерные подвиги, причем то и дело подпуская всяких небылиц. В конце концов, они просто стали откровенно врать. Эти их нескончаемые батальные байки сделались любимейшим развлечением в роте. И то правда! Куда забавнее сидеть этак вечерком в фанзе на горячем кане, покуривать и ждать, что еще придумают рассказать забавники, помимо того, как давеча они едва не вынудили маршала Ояму сдаться им на милость со всем своим японским войском. Больше всех любил слушать непревзойденных мастеров устного повествования добродушный Матвеич, – он усмехался и говорил: «Так расскажите уж заодно, как самого императора японского в плен брали!»
Конечно, солдаты проводили затишья между сражениями отнюдь не только на горячем кане. Невиданные в истории войн мукденские позиции были возведены их руками. Проклиная черствую, почти каменную, маньчжурскую землю, солдаты перелопатили ее тысячи пудов, вкопали тысячи столбов и набили на них неисчислимые версты проволоки. Мещерин придумал назвать эти позиции китайскою стеной. Меткое определение скоро распространилось по всей армии. Однако этот могучий оборонительный вал самих его создателей не только не воодушевлял, а, напротив, приводил в уныние: солдаты понимали, что у командования нет иных намерений, как только защищаться, а следовательно, в лучшем случае грядущее сражение для русских окончится так же безрезультатно, как под Ляояном или на Ша-хэ.
Где-то к зиме Мещерин с Самородовым стали с удивлением замечать, что среди солдат все более распространяется мнение о «вредности» войны. От иных можно было услышать речи совсем как от социалистических агитаторов: война-де буржуазная и носит грабительский характер. И тому подобное. Ну а когда на фронт просочились известия о 9 января и последующих за этим в России событиях, тут уж вся армия зароптала. Свято соблюдая данное Тужилкину слово ни в коем случае не заводить ни с кем агитационных разговоров, друзья избегали участвовать в подобных беседах. Хотя, если бы и участвовали, теперь это им, пожалуй, сошло бы с рук. Потому что – самое-то поразительное! – офицеры и те были, по-видимому, близки к такому же настроению. Прямо они ничего такого несогласного с официальною политикой не высказывали, во всяком случае публично, но по некоторым признакам, как то: возросшее среди них пьянство, можно было судить, что и у офицеров наступило душевное переутомление от бездарной кампании. Но главное, командиры будто бы не замечали солдатского ропота, – по крайней мере, случаев взыскания за социалистическую крамолу в армии было крайне мало, до такой степени тема «вредности» войны теперь была у всех, без различия чинов, либо на языке, либо на уме.
В еще большей мере, нежели недовольство людей затянувшейся войной с ее бездарно проигранными сражениями и вечными отходами, бросалась в глаза наступившая в армии апатия: в ротах не осталось и следа того задора, что был еще даже после Ляояна. Солдаты перестали смеяться! Взрывов хохота, прежде раздававшихся по всякому поводу из окопов и из фанз, больше не стало слышно. И веселиться у служивых охоты не было, и острословить охотников не находилось. Все пали духом. В роте у штабс-капитана Тужилкина уж на что был балагур и забавник Васька Григорьев, но и того будто подменили: он сделался каким-то сосредоточенным, малоразговорчивым и даже над своим приятелем Матвеичем почти перестал подтрунивать. А сам Матвеич теперь все только вздыхал тяжело. Мещерин как-то спросил у него: «Наверное, сражение будет крепкое. Как мыслишь, Матвеич?» Старый солдат, не поднимая глаз, отозвался невпопад, будто сам с собой разговаривал: «Отпустили бы домой… На что я им… старый».
С таким-то настроением русская армия вступила в генеральное сражение.
В ночь на 6 февраля 5-я японская армия генерала Кавамуры атаковала противостоящий ей русский левофланговый отряд. И хотя командующий 1-й армией генерал Линевич направил на подмогу Ренненкампфу значительные подкрепления, отряд, тем не менее, отошел к северу – к Далинскому перевалу, где у русских были приготовлены крепкие позиции.
В составе 5-й армии находилась дивизия из армии генерала Ноги. Об этом русским стало скоро известно от японских пленных – солдаты рассказывали, что их сюда перебросили из-под Порт-Артура. Когда эти сведения дошли до русского главного штаба, там сложилось безоговорочное представление о роли, возложенной на генерала Ноги: его бывшая в резерве армия целиком брошена в поддержку Кавамуры на обход левого фланга Линевича и на дальнейший прорыв к Мукдену с юго-востока.
Убежденный в том, что он блистательно разгадал планы противника, Куропаткин приказал усилить армию Линевича и отряд Ренненкампфа не только имеющимися в его распоряжении резервами, но снять и отправить на левый фланг значительные силы из правофланговой 2-й армии, которая, по представлению главнокомандующего, в этом сражении должна будет, видимо, остаться не удел и лишь с завистью наблюдать, как соседи слева восстанавливают пошатнувшуюся славу русского оружия.
Но в то самое время, как все внимание русского верховного командования было приковано к левому флангу, армия генерала Ноги, стоявшая на противоположном конце фронта, двинулась в дальний поход на Мукден, обходя по дуге правый фланг русской армии. Ноги начал свой маневр 13 февраля. Его армия четырьмя колоннами устремилась в двадцатипятиверстный промежуток между краем русских позиций и рекой Ляо-хэ. Прикрывающая этот промежуток конница генерала Грекова обнаружила японцев, когда те, пройдя за короткий срок тридцать верст, поравнялись уже с линией фронта. Греков поспешил донести в штаб 2-й армии: противник безостановочно двигается на север! Не встречая сколько-нибудь организованного сопротивления, Ноги захватил стратегически важную деревню Сыфантай, находящуюся на фланге 2-й русской армии, и, пройдя еще десять верст к северу, оказался в тылу расположения войск барона Каульбарса! Над русской армией нависла угроза полной погибели. А в главной квартире все еще не знали, что армия Ноги действует на западе! С ней так и сражались на отстоящем от Сыфантая за сто верст Далинском перевале.
Генерал Греков первым понял, что через несколько часов может произойти такое, по сравнению с чем Ляоян покажется самым восхитительным военным успехом России за всю ее историю. Но что он сам, своими силами, мог предпринять? Его отряд разбросан на колоссальном пространстве. К тому же бросать конницу на пехоту равносильно как пытаться преградить путь неприятелю, завалив его трупами. Но необходимо было во что бы то ни стало задержать японцев хотя бы на три-четыре часа, – несколько батальонов, собранных бароном Каульбарсом с миру по нитке, уже спешили к Сыфантаю.
Под рукой у Грекова был единственный полк из вновь прибывшей донской дивизии. Генерал даже посовестился приказывать командиру полка идти на смерть. Он только сказал, что если сейчас эта неприятельская колонна не будет задержана, то русскую армию под Мукденом ждет второй Порт-Артур. Лихой донец все понял, что от него требуется. Он тут же развернул свои сотни к атаке и лавиной обрушился на врага. До цели долетела лишь половина полка, – японцы успели дать по атакующим в упор несколько пачек, – но эта оставшаяся половина свой долг выполнила: порубив сотни пехотинцев, донцы разогнали неприятельскую колонну. Наступление армии Ноги у Сыфантая приостановилось. А скоро к деревне подошли восемь батальонов, посланных Каульбарсом. Они заняли позиции перпендикулярно расположению русских армий, загнув, таким образом, фронт к северу.
Но если ближняя к фронту колонна Ноги была задержана, то остальные колонны так и продолжали двигаться к Мукдену, описывая дугу по дальним радиусам. Время, чтобы их отразить без ущерба для общей диспозиции, еще было. Но главнокомандующий, даже получив известия о движении японцев в обход его правого фланга, не спешил перебросить туда сколько-нибудь существенные силы. Так и оставаясь в уверенности, что армия Ноги действует на востоке фронта, а вдоль Ляо-хэ японцы, наверное, демонстрируют несколькими батальонами, Куропаткин послал им навстречу одну бригаду.
Лишь к вечеру 16-го числа в русской главной квартире разгадали план маршала Оямы: японский главнокомандующий не преподнес ничего нового, – оставаясь верным излюбленной схеме, он опять зашел противнику в тыл. И не несколькими батальонами, а целой 3-й армией, – это тоже наконец поняли в ставке.
Лихорадочно спасая положение, Куропаткин бросил против армии Ноги усиленный двумя бригадами корпус генерала Топорнина. Обычно такие наспех сформированные соединения не бывают единым слаженным крепким организмом. Восковая часть не может быть надежна, пока, по выражению маршала Бюжо, люди долгое время не поедят из одного котла. Но тут уже некогда было братать народ общими трапезами, – счет шел на часы! На удивление сводный корпус Топорнина, с ходу вступив в бой, действовал так молодецки, что, по сути, свел на нет успех генерала Ноги.
Топорнин решил, что если он растянет свои невеликие силы в линию фронта по примеру трех русских армий, то неприятель, создав где-нибудь перевес в численности, легко прорвет его неплотную и неэшелонированную оборону. Поэтому генерал с большею частью корпуса появился вдруг перед одной из колонн Ноги и встречным ударом заставил ее остановиться. Расчет Топорнина полностью оправдался: генерал Ноги, увидев, что одна из его колонн отбита сильнейшим противником, приостановил движение всей армии. И теперь уже не русские, а сами японцы рассредоточились фронтом. Они растянули позиции на тридцать с лишним верст от Сыфантая на северо-запад к деревне Чжаншитай на Ляо-хэ. Впрочем, и русским пришлось выстроиться против неприятеля аналогичным образом. Но, во всяком случае, маршевое движение армии Ноги было приторможено.
На всем фронте как будто установилось равновесие. Теперь в русском главном штабе отчетливо представляли себе картину расположения неприятельских войск. Правый фланг был по-прежнему опасен: против отрядов Топорнина и Грекова действовали превосходные силы 3-й армии генерала Ноги. Зато на левом фланге, куда Куропаткин давеча перебросил по недоразумению значительные подкрепления, русские имели подавляющее преимущество над неприятелем: армия Линевича и отряд Ренненкампфа теперь вдвое превосходили противостоящие им армии Куроки и Кавамуры.
Что, казалось, в этом случае должен подсказывать здравый смысл? – пока на правом фланге наступило относительное затишье, немедленно обрушиться всеми силами на вдвое слабейшего противника слева, разбить или оттеснить его и, таким образом, возместить неуспех справа. И не беда, что у Ноги сил больше, чем у Топорнина с Грековым, – вряд ли он будет предпринимать активные действия, зная, что японская армия терпит крупное поражение на своем восточном фланге.
Но вместо приказа Линевичу о переходе всеми силами в решительное наступление Куропаткин велит командующему 1-й армией вернуть уже развернутые к бою подкрепления и отправляет их в стоверстный поход на запад сдерживать Ноги. Сколько людской энергии уходит на бессмысленные перемещения с фланга на фланг! Русскому главнокомандующему пришло в голову создать против 3-й японской армии могучий заслон, для чего он решил использовать не только все имеющиеся у него резервы, но и позаимствовать целый корпус у Каульбарса. Только что командующий 2-й армией едва наскреб восемь батальонов для отражения прорыва Ноги у Сыфантая. Теперь у него изымается целый корпус! А ведь против Каульбарса еще стоит сильная армия генерала Оку. Видимо, Куропаткин считал, что выстроенную им китайскую стену неприятель в лоб не прошибет ни в коем случае.
Но Оку и не собирался идти напролом через куропаткинский вал. Японский генерал понимал, что такие его действия были бы только на руку противнику. Он стал методично уничтожать артиллерией проволочные заграждения русских и одновременно демонстрировать атаку, вовсе даже не ставя задачи своим подчиненным потеснить противника или, тем более, прорвать его линию. Эти действия Оку результат дали отменно успешный: обеспокоенный его наступлением, русский главнокомандующий опять погнал отнятые было у Каульбарса батальоны назад в расположение 2-й армии. И тогда снова пошел вперед Ноги. Заступи беде дверь, а она в окно! Где тонко, там и рвется! Это напоминало избиение здоровяка-увальня ловким бойцом-спортсменом. Так два японских генерала, Ноги и Оку, и теснили русский правый фланг – то один поднажмет, то другой продвинется.
Изначально избрав тактику обороны, Куропаткин предоставил неприятелю волю первым атаковать его то здесь, то там. Сам же он лишь отбивался. Но всегда неудачно. Потому что, непомерно растянув свои позиции, русский главнокомандующий не успевал вовремя парировать удары японцев.
Смекнув наконец, что длинная линия фронта для русских второй противник, а для японцев – союзник, Куропаткин приказал левому флангу – 2-й армии и отряду Топорнина – отойти к Мукдену на более короткую позицию. Фронт на карте стал напоминать кочергу – с загнутым вверх почти под прямым углом западным флангом.
Тем временем ужесточились схватки и на восточном фланге. Хотя русские повсеместно там отбивали японцев, последние упорно продолжали бросаться в яростные атаки. Армия Линевича и отряд Ренненкампфа имели практически неприступные позиции по горным хребтам. Центром этих позиций был Гаотулинский перевал, удерживаемый войсками из корпуса генерала Иванова. Основательно укрепленный, перевал тем не менее оставался для японцев самым коротким путем пробиться сквозь русский фронт. Его штурмовали две дивизии и бригада. Они рвались на укрепленную кручу, не считаясь с потерями. Верно, японский солдат хорошо проникся приказом Оямы, отданным маршалом своим войскам перед сражением: «Секрет победы кроется в храбрости, энергии и выносливости, проявленных при достижении намеченной цели. Начальники всех степеней обязаны внушить людям, что замедление и нерасторопность ведут к увеличению потерь, в то время как наличность порыва при атаке, смелость и храброе движение вперед способствует их уменьшению. Вот почему мы обязаны, не боясь опасностей и трудностей, смело двигаться вперед, пока не достигнем цели». Крепко усвоившие военную мудрость своего главнокомандующего японцы захватили на Гаотулине два русских редута, вскарабкавшись на стены буквально по трупам товарищей. Ночью они пошли на приступ третьего редута, владение которым, по сути, открывало им выход в долину за седловиной и роковое для противника дальнейшее движение в его тыл.
Русский же солдат, вместо вдохновенных, возжигающих кровь решимостью победить призывов отца-предводителя, напичканный социалистическою агитацией о вредности войны, казалось, должен был плюнуть на этот третий редут: дави тебя, леший, как давил! – он вдруг осатанел, этот солдат, вскипел лютою ненавистью на весь свет: а вот вы как?! сукины дети! мы ж не воевали с вами еще! так, всё баловались! ну так отведайте ж, почем фунт русского лиха!
Такого «ура» Маньчжурия еще не знала. Это было «ура» батареи Раевского и Малахова кургана. Тут бы японцам резон отойти, переждать, пока у защитников Гаотулина приступ ярости поостынет, а уж тогда снова бросаться на приступ – вернее получится. Но они тоже завизжали свой «банзай» и устремились навстречу бурному потоку. Схватка длилась всего несколько минут. Перевал остался за русскими. Когда рассвело, победители нашли на месте потасовки две тысячи бездыханных японцев.
Больше неприятель в атаку на Гаотулин не ходил. Но русским пришлось скоро самим оставить эту и другие позиции, где японцы сломали зубы, и отойти на тот последний тыловой мукденский рубеж, что был приготовлен заранее по приказу главнокомандующего.
Почти в самом центре русских позиций, в каких-то верстах друг от друга, находились две сопки. Во время осеннего сражения на Ша-хэ за эти две сопки произошла жаркая схватка. Они несколько раз переходили из рук в руки. Но, в конце концов, остались за русскими. Одна из них стала называться по имени командира занявшей ее бригады – генерал-майора Путилова – Путиловскою. А другая – Новгородскою – по названию сбившего с нее японцев полка.
На фоне в целом довольно неудачного и безрезультатно окончившегося наступления захват этих сопок выглядел пусть невеликим, но все-таки успехом, несколько ободрившим армию: не всё японец у нас сопки отнимает, – можем и мы! К тому же обе эти высоты располагались на единственном не занятом японцами клочке южного, левого, берега Ша-хэ, почему представляли для неприятеля значительную угрозу. Естественно, все – от главнокомандующего до рядовых окопников – прекрасно понимали, что японцы опасные для них сопки в покое не оставят: так и жди всякую минуту – и днем, и ночью – обстрела и атаки!
Входивший в 4-й Сибирский корпус Можайский полк занимал позиции чуть восточнее Новгородской сопки, но уже на правом берегу Ша-хэ. В ночь на 17-е число Мещерин проснулся от потрясшего землянку взрыва. На солдат посыпался песок с потолка. Все вскочили и бросились к оружию. За первым взрывом ухнул другой, третий, еще, еще… Это не было похоже на обычный обстрел шимозами. Да и вообще обстреливались явно не позиции можайцев. Солдаты опасливо выглянули из землянки. Ближайшая к ним Новгородская сопка казалась извергающимся вулканом: на ее склонах то и дело появлялись вспышки пламени, отдавая зарницами по небу. Страшные раскаты грома, отражаясь еще где-то эхом, сливались в единый басовитый гул.
– Одиннадцатидюймовыми кроют! – прокричал Васька Григорьев.
– А ну в окопы все! Живо! – скомандовал Дормидонт Архипов.
Солдаты были научены, что обстрел – самих ли их или соседей, как в данном случае, – это сигнал изготавливаться к бою. Поэтому, когда из соседнего блиндажа выскочил Тужилкин с другими офицерами, вся его рота уже бежала на позиции.
Обстреливали сопки японцы недолго. Русская артиллерия, как обычно, скоро заставила их угомониться. Но ожидаемой ночной атаки неприятеля так и не последовало, – японцы, скорее всего, остерегались сулящих им бессмысленные потери волчьих ям и проволочных заграждений, в темноте особенно опасных.
– Будет он наступать или нет? – проговорил Матвеич, вглядываясь во мрак за рекой.
– Конечно нет, – ответил Васька.
– Ты почем знашь?
– Так они ж разведали, что здесь оборону держит сам Михаил Матвеич Дудкин, – заговорщицки зашептал Васька. – Куда ж им наступать-то? Кому ж на верную погибель идти охота?
– Тьфу! неугомонный! – В сердцах плюнул Матвеич. – Людям тын да помеха, ему – смех да потеха!
Хотя и морозило слегка, по землянкам солдаты в эту ночь не расходились. Так все и ждали: не появится ли где он? Но ночь прошла спокойно.
Наступивший день был сумрачный, хмурый, небо едва не касалось сопок. Где-то к полудню в долине показались густые колонны японцев – не меньше дивизии всех. Наступали они, очевидно, не на расположение 4-го корпуса. А шли к северо-западу в сторону сопок. Можайцы видели лишь две левые колонны в желто-серых шинелях – каждая не меньше чем в батальон числом, – остальные, двигавшиеся западнее, были скрыты за уступом. Развернутые цепями, они подошли к заграждениям совсем близко. Но почему-то с позиций, опоясывавших Новгородскую сопку, огонь по ним не открывали. И с Путиловской тоже не доносилось выстрелов.
Солдаты Можайского полка, увидев такое дело, забеспокоились.
– Чего ж артиллерия-то молчит? – несдержанно громко произнес Самородов. – Уж давно бы в поле всех их перемолотили!
– Братцы! – хватился вдруг Королев испуганно. – А что, если на сопках никого не осталось! Их же так разделали ночью!
– А ведь верно! – отозвался Матвеич. – Недаром он и идет, как на параде. Поди знат, что отпору не будет.
– Да не может быть, – желая подбодрить товарищей, но довольно неуверенно произнес Мещерин, – давно бы подошли подкрепления!
Японцы же тем временем подобрались к самым ограждениям. Колонна приостановилась, ожидая, верно, пока саперы перекусят проволоку.
И тут в самую их гущу в упор ударила пачка, выпущенная, как можно было судить по силе звука, не менее чем тремя ротами. За ней грохнула вторая пачка, третья… К левофланговым тотчас присоединились и другие роты: стрельба теперь слышалась по всей линии обороны Путиловской и Новгородской сопок.
Можайцам было видно, как сразу смешалась японская колонна. А потом в беспорядке покатилась назад, оставляя десятки убитых и раненых. Вслед ей продолжал нестись убийственный огонь.
Японцы отходили к юго-западу и были доступны теперь для поражения и с позиций Можайского полка. Но никто не отдавал почему-то можайцам приказа ни атаковать отступающего неприятеля, ни хотя бы обстрелять его. Солдаты 12-й роты то с недоумением оглядывались на Тужилкина, то впивались глазами в бегущих мимо них японцев, от которых их всего-то отделяла замерзшая речка по колено глубиной и сто саженей за речкой.
– Ваше благородие! – не в силах сдержаться, выкрикнул Мещерин. – Ну что же мы! Сейчас добьем их! Возьмем на штык!
– Дело верное! – закричали еще какие-то солдаты.
– Отставить! – злобно рявкнул Тужилкин. – Рота, слушай мою команду: готовсь!
Вся рота загремела ружейными затворами.
– Огонь!
Две сотни ружей грохнули одновременно. Один разве какой-то солдатик испортил картину: припозднился – послал свою пулю чуть позже прочих.
– Кто там зевает?! – притворно грозно крикнул Тужилкин. – Готовсь! Огонь!
В этот раз рота выстрелила безупречно. В единый дух.
Японцы, попав под перекрестный огонь и получая то в спину то во фланг убийственные залпы, бросились врассыпную. Батальон их поредел, пожалуй, вдвое. Судя по раскатам выстрелов и взрывов, доносившихся из-за уступа, и у Путиловской сопки неприятелю пришлось сполна отведать русских гостинцев.
Когда японцы скрылись на своих позициях и стрельба на линии прекратилась, Тужилкин обошел расположение своей роты и распорядился солдатам пока отдыхать, но к вечеру быть, как никогда, начеку.
– В лоб сопки не взять, – говорил ротный. – Поэтому неприятель будет пытаться прорваться где-нибудь в обход. Скорее всего, пойдет через нас. Тогда уж держись, ребята!
И, видимо, понимая недоумение солдат – почему они теперь не атаковали и не уничтожили отбитого и ошеломленного врага? – Тужилкин добавил, будто оправдываясь:
– Самим нам приказано атак не производить. У нас слишком растянуты силы. И резервов позади никаких. Наша задача крепко держать оборону на позициях.
День прошел спокойно. И даже тихо. Где-то, впрочем, стреляли. Но очень далеко по фронту. Сорокоумовский распорядился разделить солдат по полуротам и дать им по очереди поспать. К вечеру же всем быть в полном составе наготове в окопах.
Ночью Реомюр упал ниже нуля. Но ненамного. И это даже было неплохо: и не замерзнешь в овчинных полушубках и шапках, и спать на легком морозце не заснешь.
Солдаты 4-го корпуса, уже было привыкшие к тому, что неприятель забыл об их существовании, теперь, видя, как вдруг обеспокоились офицеры, тоже насторожились: всё вглядывались вдаль за речку и между собой почти не разговаривали, даже сухари не грызли, как обычно.
Когда совсем стемнело, на Новгородской сопке вспыхнул гигантский прожектор. Яркий луч прорезал долину и осветил неприятельские позиции. Через несколько минут японцы открыли по прожектору артиллерийский огонь, и свет погас, – то ли прожектор был разбит, то ли прислуга отключила его от греха подальше. Но этого времени хватило, чтобы разглядеть двинувшиеся в атаку японские цепи. Дозорные принялись стрелять, оповещая своих о наступлении неприятеля, хотя в этот раз их сигнал уже не имел значения.
– Рота! к бою! – прокричал Тужилкин.
Солдаты мертвою хваткой впились пальцами в ружья и напружинились, готовые по команде либо стрелять, либо выскочить из окопов и броситься навстречу врагу.
Японцы добежали до речки. Они уже не таились – завизжали свой обычный боевой клич. Ледок на Ша-хэ, конечно, их не выдержал – поломался, – но эту речку и перепрыгнуть можно было в некоторых местах, а уж колен и в самом глубоком месте не замочишь, поэтому она не стала для наступавших препятствием. Заминка у японцев вышла перед проволочными заграждениями: похоже было, кто-то из них угодил в волчьи ямы, другие замешкались, борясь с проволокой. В это время по проволоке хлестанул пулемет, а стрелки из окопов дали ружейный залп. Но это не много повредило неприятелю: русские стреляли, едва различая в темноте атакующих, а японцы, естественно, спасаясь от обстрела, тут же попадали на землю.
Тужилкин отчетливо представлял себе все действия японцев, как если бы он сам ими командовал: сейчас они залегли и перекусывают проволоку; как только наделают проходов, бросятся на русских, до которых им от ограждений промчаться не больше восьмидесяти – ста шагов. И тут уж его задача не прозевать момент – поднять своих молодцов до того, как японцы успеют спрыгнуть к ним в окопы. А иначе и отступать будет некому: неприятель атакует превосходными силами, и в резне в тесном пространстве мелкий шустрый японец непременно выйдет победителем. Отбить его можно только на просторе, – там уж, как говорится, чей штык острее!
К счастью, японцы, снова завопив свой «банзай!», сами предупредили русских, что заграждения они преодолели и бросились на окопы. Тут уж стрелки дали залп наверняка, в упор, – густую пачку японцы получили в самую грудь. И вслед за этим рота Тужилкина, вместе с другими ротами, выскочила навстречу неприятелю.
Замешкавшись у проволоки и понеся потери еще до вступления в рукопашную, японцы в значительной степени утратили первоначальный боевой пыл. Но против трех правофланговых рот Можайского полка их было, пожалуй что, вдвое больше. И они могли бы и без пыла прорвать здесь русскую оборону. Но Сорокоумовский, верно чувствовавший, где на его позициях складывается наиболее угрожающее положение, вовремя бросил на правый фланг еще две роты, – они лихо атаковали неприятельский батальон с фланга, и японцы бежали, оставив перед русскими позициями до двух сотен переколотых и пострелянных.
Но едва можайцы управились на своем правом фланге, неприятель навалился еще большими силами на левый фланг Сорокоумовского. Теперь уже 12-я рота получила приказ мчаться налево – помогать товарищам отбивать противника. Не остались не у дел в эту ночь и соседние полки, – назавтра выяснилось, что 4-й Сибирский корпус пыталась пробить японская гвардия. Но все безуспешно, – выстояли войска генерала Зарубаева! – неприятель был отбит повсюду с огромными для него потерями.
Под утро японцы, взбешенные неудачами на всей своей восточной половине фронта, еще раз попытались пробить оборону можайцев: они подступились силами даже большими, чем в первый раз, причем действовали особенно яростно, ожесточенно, злобно.
Японцы подобрались к заграждениям, поврежденным ими давеча во многих местах и уже не являющимися препятствием, но не бросились сразу в атаку, а выждали, пока их охотники подползут поближе к русским окопам и побросают туда гранаты.
Но Тужилкин-то отнюдь не собирался дожидаться полного истребления своей роты, и без того уже потерявшей за эту ночь до четверти состава. Счастливый случай помог ему совершенно избежать потерь от японских гранат. Первый японец, пытавшийся зашвырнуть в расположение его роты смертоносный снаряд, взорвался сам: когда он размахнулся, граната зацепилась ремешком за его же ружье на спине. Тужилкин мгновенно смекнул, что теперь уготовил неприятель русским, и прокричал отходить. Солдаты кинулись в тыловые ходы сообщения. И очень вовремя, – через несколько секунд их окоп был разворочен взрывами. Командиры соседних рот оказались не столь расторопными, и они отвели своих людей, лишь когда отведали японских гранат и понесли потери.
Вслед за этим бомбардированием японцы пошли в атаку. Не встречая сопротивления, они ворвались в русские окопы, найдя там только нескольких убитых.
Убежденные, что они заставили русских бросить эти позиции и отойти на следующую линию, японские офицеры скорее погнали солдат преследовать выбитого противника, чтобы на плечах отступающих так же ворваться и в следующую линию. Но тут произошло нечто невообразимое: в окопах, оставленных только что 12-й ротой, а теперь битком забитых японцами, все начало взрываться и крушиться, изо всех из них стали вырываться огненные вспышки с землей и дымом. Это уже русские солдаты, затаившиеся в нескольких аршинах позади своих позиций, забросали неприятеля гранатами. В следующее мгновение молодцы Тужилкина по команде своего ротного вскочили, бросились в штыки и добили в родной траншее всех, кто там еще не побросал оружия и не поднял руки.
Управившись со своими японцами, Тужилкин поспешил на выручку к соседям, – слева от него кипел крепкий штыковой бой.
Когда рассвело, взору стрелков Можайского полка предстала потрясающая картина: на самых их позициях и на всем пространстве между окопами и проволочными заграждениями лежали сотни убитых японцев. Особенно густо их было в расположении 12-й роты. Можайцы за год войны не видели еще такого числа разом набитого неприятеля. Немало, впрочем, лежало и русских. Но все-таки не столько.
Солдаты молча выглядывали из окопа. Они будто не верили своим глазам: неужто такое возможно? неужто это они навалили столько душ? да тут же только против их трех крайних рот батальон японцев полег!
– После побоища… – проговорил Самородов.
– Апофеоз войны… – добавил Мещерин.
Тут вдруг Ваську Григорьева прорвало.
– Ну что, взяли? – закричал он срывающимся голосом, да так пронзительно, будто старался, чтобы его за Ша-хэ услыхали. – И не возьмете сроду! Рылом не вышли! Косым своим! Подите к нам еще! подите! Хоть втрое! И втрое больше набьем!..
Он бессильно опустился на задницу на дно окопа и, упершись головой в ружье, затрясся весь в рыданиях. Стремоусов хотел что-то ему сказать, но Тужилкин приложил палец к губам, показывая фельдфебелю, чтобы тот не трогал теперь солдата.
Над Васькой склонился Матвеич и принялся гладить его по спине.
– Ну ты, парнейчик… Ты, того… будет… – уговаривал Матвеич молодого своего приятеля. – На вот, жалкий, возьми сухарик. – Он вынул из кармана черный засохший хлебец и стал совать его Ваське в руку. – Возьми…
– Братцы! – поднял Васька мокрое от слез лицо, – и чего ж мы все отступаем-то?! А?! Да мы же сильнее! братцы! Наша рота одна, как… «Варяг»! Что же это делается, братцы?! Ваше благородие?! – оглянулся он на Тужилкина.
Ротный сообразил, что после ночной резни, какой за всю войну у них еще не было, у солдат сдали нервы, и если они всею ротой не голосят, как Григорьев, то лишь потому, что из последних сил борются с чувствами, закусив, наверное, губы до крови. Требовалось сказать им что-то похвальное, сердечное, как-то признать их подвиг, – простое слово, сказанное от души, часто бывает дороже, милее любой награды.
– Ребята! – Тужилкин снял папаху. – Мы воюем год. Если наша армия терпит неудачи, то меньше всего в этом виноват солдат. Войны проигрывают полководцы. Солдаты – никогда! Вы это нынче доказали. Вон, вашим доказательством все поле усеяно. – Он показал папахой на груды тел перед окопом. – Вы победили сильнейшего врага! Вы – победители! Спасибо вам! От всей России – спасибо!
Понеся в нескольких схватках с войсками генерала Зарубаева огромные потери, на 4-й корпус японцы атак больше не предпринимали. Но попытаться пробиться где-нибудь на других участках расположения русской 1-й армии они не отказались.
На следующий день генерал Куроки лучшими своими силами – императорскою гвардией – навалился на соседей Зарубаева – на 2-й Сибирский корпус генерала Засулича. Вечером 18 февраля японцы заняли находящуюся перед позициями 2-го корпуса деревню Баньяпуза, выбив оттуда немногочисленных охотников Читинского полка. И, дождавшись опять темноты, они густыми цепями устремились на русские укрепления – перерезывали заграждения, подползали к окопам и, закидав их сперва гранатами, бросались затем с истошными криками в штыки. Но всякий раз будто натыкались на каменную стену. И с разбитым в кровь лицом откатывались восвояси.
По-военному лаконичное, четкое донесение генерала Засулича командующему, сделанное под утро 19-го числа, красноречиво свидетельствует о бесподобной жестокости схваток сторон: «В 1 час ночи отбита самая энергичная, бешеная, девятая атака, доходившая до ручных гранат со стороны японцев; отбита молодецким 17-м полком. Груды тел навалены у наших редутов». А всего за ночь на корпус Засулича было произведено тринадцать атак! И все они окончились для японцев тяжелейшими потерями и бегством с русских позиций.
В одну из последних вражеских атак русские не только отбили атакующих, но и сами контратаковали: несколько рот сибиряков так лихо рванулись за отступающим неприятелем, что неожиданно оказались в тылу большой группы японцев, верно, более упорных, нежели их соседи. Но в данном случае упорство сослужило им дурную службу: промедлив попятиться вместе с соседями, они оказались окруженными. Японцы, числом где-то с батальон, конечно, пытались вырваться из этих устроенных им стрелками Засулича Канн, да все безуспешно. На предложение сложить оружие гвардейцы ответили гордым самурайским отказом. И были все перестреляны.
Ободренный успехом своих подначальных, командующий 1-й армией генерал Линевич сам решился атаковать неприятеля, в том числе и силами 4-го корпуса. Этому его еще обязывала отданная 20-го числа директива главнокомандующего: «..Предписываю завтра войскам 1-й и 3-й армий удерживаться на своих позициях. При каждой малейшей возможности переходить в частичное наступление, дабы не дать противнику подтянуть свои резервы к намеченным им пунктам атаки на фронте этих армий или же оттянуть их на крайний свой фланг. 2-й армии выполнить с возможно большею энергией возложенную на нее задачу, помятуя, что чем скорее ста будет выполнена, тем меньшее сопротивление противник в состоянии ей будет оказать. В течение ночи прошу энергично тревожить противника охотниками и отдельными ротами, помня, что он утомлен и потрясен потерями более нас».
В 4-м корпусе был составлен небольшой отряд из пяти рот и двух охотничьих команд под началом подполковника Кусачева, на который возлагалась задача попробовать прорвать японскую оборону хотя бы на самом узком отрезке и, таким образом, открыть путь для наступления более крупных сил. Была включена в отряд и 12-я рота Можайского полка.
Кусачев разделил отряд на две колонны: левую возглавил сам, а правой поручил командовать Тужилкину.
Отряд выступил ночью. Обе колонны благополучно миновали свои заградительные линии, незамеченными перебрались через Ша-хэ и бесшумно устремились к неприятельским позициям. Японская заградительная линия не была столь основательной, как русская. Это естественно: японцы предполагали лишь наступать, невзирая ни на что рваться вперед, почему и не устраивали могучего оборонительного вала.
Убедившись, что по проволоке не пропущено электричество, русские легко перервали ее в нескольких местах. Но в это время по ним забил пулемет – отряд был обнаружен. Большого вреда, однако, атакующим пулемет не доставил: впотьмах он бьет почти наугад. Рассыпавшись по полю и согнувшись в три погибели, русские бросились к японским окопам. Разрозненные ружейные выстрелы также не могли их остановить. Обе колонны почти без потерь добрались до неприятеля.
Группа подполковника Кусачева действовала молодецки: яростно набросившись на японцев, дюжие тобольцы многих из них перекололи, а остальных обратили в бегство. Но затем случилось непредвиденное: кто-то из бегущих прочь японцев швырнул в преследующих их русских гранату, и та угодила аккурат под ноги Кусачеву. Грохнул взрыв. И лихой подполковник рухнул замертво. Оставшиеся без командира роты смешалась и остановилась. Японцы же, оправившись от потрясения, атаковали эту обезглавленную группу и отогнали ее за заграждения.
Наступление правой колонны, бывшей чуть ли не вдвое меньше левой, вышло не намного успешнее. Выбив неприятеля из окопов, Тужилкин не стал его преследовать, а приказал укреплять занятую позицию, обращая теперь ее фронтом в обратную сторону. Но тут и тужилкинскую группу постигло бедствие: японцы, оказывается, успели заложить мощную мину в один из окопов, – может быть, потому они так легко и уступили русским свои передовые позиции, чтобы предоставить им отведать этого сюрприза. Через короткое время, после их отхода, в окопе, занятом одной из охотничьих команд, прогремел страшный взрыв. Русский невеликий отряд в один миг потерял свыше пятидесяти человек. И из них почти половину убитыми.
Тотчас вслед за этим японцы бросились в штыки – отбивать утерянные позиции. Но русские, взбешенные таким коварством врага, ожесточились и лихим встречным ударом не только отбросили японцев, но преследовали их до второй линии укреплений, ворвались туда на плечах неприятеля и захватили пулемет. Но задерживаться там Тужилкин не рискнул – это было уже слишком далеко от своих.
Отряд возвратился на передовую японскую линию. Прежде всего, Тужилкин распорядился двум взводам перенести в тыл всех выбывших из строя – не только раненых, но и убитых. А затем все-таки продолжил укреплять занятые позиции. По его приказанию солдаты устроили бруствер, выложив вдоль неглубоких японских окопов камни, мешки с землей и даже трупы самих японцев. Особенно штабс-капитан позаботился укрепить фланги, устроив там из названных материалов подобие флешей.
Таким образом, на русском фронте, на участке, занимаемом Можайским полком, образовался выступ, способный служить удобным плацдармом для дальнейшего наступления.
Остаток ночи прошел спокойно, – отряд Тужилкина даже не обстреливался, – может быть, японцы собирались с силами, чтобы затем наверняка выбить противника из бывших своих позиций или вовсе уничтожить его там. Но и русские даром времени не теряли: отряд еще до рассвета получил подкрепления – Сорокоумовский послал в распоряжение Тужилкина три роты и пулемет. И велел держаться, покуда не подойдут значительные силы, предназначенные для наступления.
Но никакие силы за весь следующий день так и не подошли. Командование 1-й русской армии, похоже, находилось в нерешительности: то ли наращивать достигнутый на линии 4-го Сибирского корпуса частный успех, то ли отвести вклинившиеся в японское расположение роты, пока неприятель их не уничтожил.
Но что самое потрясающее! – японцы также не предпринимали никаких действий. Тужилкин и весь его отряд до боли в глазах вглядывались в расположение врага, всякую минуту ожидая атаки, но японцы даже шимозами не тревожили противника.
Так прошел день. Тужилкин нисколько не сомневался, что ночью на его отряд навалится по крайней мере бригада, – не могут японцы оставить такой опасный клин в своем расположении! Штабс-капитан предупредил всех бывших у него в подчинении офицеров: в случае атаки на них боя не принимать, а, дав по неприятелю залп, немедленно отходить. Так действовать распорядился Сорокоумовский – многоопытный командир полка, по истечении суток после наступления отряда Кусачева и Тужилкина, суток, прошедших в странном, необъяснимом бездействии русского командования, понял, что занятый его ротами выступ за Ша-хэ, очевидно, не рассматривается начальством в качестве плацдарма для дальнейшего наступления, почему и удерживать его, рискуя бездарно потерять там полбатальона, нет никакого смысла. Поэтому полковник переменил свой первоначальный приказ и теперь предоставил Тужилкину право самому решать, когда оставить позиции за Ша-хэ.
Но ночь проходила час за часом, а ожидаемого «банзая» так что-то все и не слышалось.
Уж рассвет забрезжил. А днем японцы не очень-то теперь лезли на рожон – поняли, что в светлое время один русский «максим» стоит целого полка.
– Братцы! – Мещерин, потрясенный пришедшей ему в голову догадкой, нарушил долгое всеобщее молчание. – А ведь он не будет больше наступать!
– Верно дело! – скурвился японец! – подтвердил Матвеич.
– А кому там наступать-то? Некому! – отозвались из соседнего взвода. – Уж мы ложим его, ложим! Он же не двужильный, право дело! Поди, силы-то начисто вышли!
– Так, что же, братцы! наша взяла что ли?! – воскликнул Васька Григорьев. – Конец баталии?!
Наверное, их услыхали дальше по линии, – кто-то, кажется, уже из другой роты, не сдержался и завопил: «Ура!». В этом крике слились все накопленные солдатами за время многодневной битвы душевные переживания – и отчаяние, и усталость, и плач, и восторг, и великая радость от счастливо завершенного дела. И тотчас следом всех будто прорвало: весь тужилкинский отряд, весь отбитый у японцев выступ, взорвался победным криком, воем, ревом. Солдаты бросились обниматься. Многие утирали слезы.
Офицеры всё оглядывались на Тужилкина: что он скажет? – не распорядится ли запретить беспорядок? Но, к их неописуемому изумлению, командир отряда кричал и обнимался вместе со своими солдатами. Никто в отряде третьи сутки не смыкал глаз. Но теперь все вообще позабыли про сон и усталость – ликовали, будто Япония запросила мира!
Весь день на позициях отряда штабс-капитана Тужилкина царило радостное оживление: роты гудели, как растревоженный пчелиный рой. Все шумно обсуждали предстоящее наступление, приказ о котором последует, разумеется, вот-вот. В окопах то и дело слышалось: «Скурвился!», «Надорвался!», «Не выдюжил!», «Не на тех напал!» Такого возбуждения, такого душевного подъема в войсках еще не было за всю войну. Солдаты уверенно говорили, что кампании теперь конец и что к Егорию, верно, все дома будут. Офицеры тоже держались кучками и тоже обсуждали очевидную победу и непременное скорое наступление.
На японской же стороне царило мертвенное молчание. Там словно не было ни души. И только доносившиеся откуда-то издалека раскаты пушечных выстрелов и взрывов снарядов свидетельствовали о том, что сражение продолжается. Причем казалось, будто раскаты доносятся с тыла. Но, наверное, это эхо отражалось от сопок.
Под вечер в отряд прибыл вестовой из самого штаба корпуса и вручил Тужилкину пакет. Штабс-капитан немедленно распечатал его и потемнел, прочитав написанное, сделался лицом страшнее, чем был давеча в лютой штыковой резне.
Совладав, однако, с собой, Тужилкин созвал своих подчиненных командиров и каким-то сразу осипшим, почему казавшимся особенно грозным, голосом объявил ИМ:
– Господа, нам приказано отходить. Снимаемся с позиций с наступлением темноты.
Он помедлил, борясь, видимо, с какими-то болезненными чувствами, и добавил:
– Прошу пока нижним чинам этого не сообщать…
Позволить людям как можно дольше чувствовать себя победителями – это все, чем мог теперь Тужилкин вознаградить своих храбрецов. Он знал, что большей награды у них, скорее всего, уже не будет.
Ночью отряд оставил отбитые у японцев третьего дня позиции за Ша-хэ. Тужилкин категорически наказал офицерам и фельдфебелям не допускать во время марша между солдатами никаких разговоров.
Глава 10
К вечеру 23 февраля весь южный русский фронт, не сдвинутый нигде японцами ни на версту, сам переместился на двадцать пять – тридцать верст к северу и занял позиции за Хунь-хэ. Выставленные арьергарды могли бы, кажется, и не отходить вслед за основными частями войск, – их одних вполне хватило бы, чтобы удерживать старую линию обороны. Японцы так уже обессилели, что не могли хотя бы для видимости побеспокоить отходящего противника. Потери у них были невиданные: в ротах в строю оставалось по сорока – по пятидесяти человек. Им не то что наступать! – отступать некому было! Когда стрелки Линевича и Бильдерлинга добрались до новых позиций, они увидели вдоль всей линии прежнего своего расположения поднимающиеся к небу черные дымы, – это японцы сжигали своих погибших. Одновременно столько погребальных костров на неприятельской стороне русские никогда еще не видели, – это была стена дыма! завеса, уходящая на восток за горизонт!
К моменту отхода русских на запасные позиции у японцев, на некоторых участках, плотность личного состава была такова, что эти участки, по существу, представляли собою бреши, через которые маньчжурцы, получи они приказ наступать, могли бы пройти насквозь, почти не расходуя патронов и не тупя штыков. Но после того как японцы вслед за отступающим противником подошли к Хунь-хэ и расположились на линии впятеро короче прежней, плотность их рассредоточения теперь превышала даже ту, что была в начале сражения. А это позволяло японскому командованию, сконцентрировав где-нибудь превосходные против русских силы, опять атаковать. Не отлагая дела вдаль, японцы собрали такие силы у деревни Киузань.
Отход непобежденного русского южного фронта был мерой – как это ни странно покажется на первый взгляд! – вынужденною, оправданною и очень своевременною: на фронте к западу от Мукдена, где оборону держал барон Каульбарс, события развивались крайне неблагоприятно. И промедли главнокомандующий своим приказом, тогда уже не одна 2-я армия, а все русское войско оказалось бы на грани катастрофы.
Когда в главной квартире наконец вполне уяснили, какое положение сложилось на фронте после обхода правого фланга крупными силами японцев, все внимание русского командования сосредоточилось на 2-й армии. Верно рассудив, что судьба сражения будет теперь решаться на линии, занимаемой войсками генерала Каульбарса, главнокомандующий усилил барона всеми имеющимися у него резервами, а также частями, взятыми из 1-й и 3-й армий, и рекомендовал тому попытаться перехватить инициативу у неприятеля и самому предпринять наступательные действия.
Барон попытался действовать инициативно. Но вышло это у него хуже не бывает! – инициативы Каульбарса стоили его армии почти полного окружения и последующего бегства с поля боя.
Напротив центра 2-й армии находилась занятая японцами деревня Салинпу. Главная квартира посчитала, что овладение этою деревней будет прологом ко всеобщему наступлению 2-й армии и последующему поражению противника на правом фланге. Исполняя директиву главнокомандующего, генерал Каульбарс собрал у Салинпу значительные силы, в том числе и отличившийся давеча отряд Топорнина, и поручил последнему занять деревню.
Топорнин, в свою очередь, решил действовать против неприятеля его же излюбленным оружием – охватом. Обстреляв Салинпу картечью, он распорядился двум бригадам одновременно атаковать деревню с севера и юга. Впрочем, атака правой колонны сразу же сорвалась: не дойдя до цели полверсты, бригада вначале остановилась, повстречав подходящие к засевшим в Салинпу японцам подкрепления, а затем и отступила, подгоняемая перекрестным огнем.
Атака левой колонны началась довольно успешно: бригада выдвинулась к деревне беспрепятственно и, имея значительную артиллерию, вероятно, могла бы самостоятельно овладеть Салинпу. Но результат вышел тот же, что и у соратников: левая колонна отошла, даже не потревожив неприятеля. Таковым было распоряжение генерала Каульбарса. Командующий прибыл к Топорнину, чтобы лично руководить боем. Но, получив донесение о движении на правом фланге его армии большой японской колонны, барон отдал приказ атаку на деревню прекратить и всем войскам отходить к Мукдену.
Когда же приказ был исполнен, выяснилось, что по недоразумению за японскую колонну какие-то подслеповатые наблюдатели приняли русскую дивизию. К тому же эта дивизия, под командованием генерала Биргера, двигалась к Мукдену по приказу самого Каульбарса, – страшась за свой правый фланг, командующий не придумал ничего лучшего, как последовательно загибать его все дальше к Мукдену, а потом и за Мукден. И вот теперь вышло, что генерал Биргер своим движением испугал начальника, отдавшего приказ об этом самом движении! Это равносильно, как испугаться собственного отражения или эха своего же крика! Но таков уж рок выходил русским на этой войне.
Ровно на половине пути между Салинпу и Мукденом находилось большое село Юхуантунь. Здесь закрепился генерал Топорнин со своим отрядом.
Этот отход, по замыслу главной квартиры, был «последним» передвижением 2-й армии на удобные, выгодные позиции перед решительным наступлением барона Каульбарса.
Главнокомандующий рассчитывал собрать на западном фронте свыше ста двадцати батальонов и три с половиной сотни орудий и всею этою силой навалиться на противника. Но, наверное, всякому кадету младшего класса известно, что в сражении больше пользы бывает от удара, пусть и невеликим числом, но неожиданного, решительного, отчаянного, чем от замедленного, осторожного наступления даже и войсками, значительно неприятеля превосходными.
Куропаткин же и Каульбарс собирались с силами целых три дня! В сражении, где три часа потерять – непростительная, подчас роковая оплошность, – генералы потеряли три дня! Да так всех сил и не собрали.
Наконец барон Каульбарс начал наступление. Главный свой удар он нацелил на левый японский фланг, имея в виду предотвратить захождение армии Ноги в русский тыл. Этот удар, будь он произведен решительно, сулил русским значительный успех. Но наступление, едва начавшись, было приостановлено.
В то время как Каульбарс начал наступать своим правым флангом, японцы крупными силами – тремя дивизиями – атаковали его левый фланг и центр – деревню Юхуантунь. Обеспокоенный событиями слева, Каульбарс перебросил туда в подкрепление бригаду, которую за неимением резервов ему пришлось взять из наступающей правофланговой колонны. Понятное дело, потеряв целую бригаду, и так-то невеликая колонна утратила способность к активным наступательным действиям.
Этим немедленно воспользовался генерал Ноги. Увидев, что у русских с их наступлением выходит заминка, японский генерал отдал приказ одной из своих дивизий продолжить обходной маневр. И пока Каульбарс отбивался на левом фланге, значительные силы японцев, двигаясь в обход его армии справа, зашли за Мукден с севера. Таким образом, город оказался окруженным с трех сторон.
На следующий день генерал Каульбарс возобновил наступление, не имея определенного представления, как далеко зашел Ноги и вообще какие силы ему противостоят. Он решил обойти левый фланг противника, нимало не догадываясь, что противник своим левым флангом уже обошел его самого.
Но даже несмотря на это, у барона еще оставалась надежда на успех: произведи он удар решительно, значительными силами, прорвись Каульбарс сквозь неплотную японскую линию, далеко зашедшее левое крыло армии Ноги было бы отрезано от своих основных сил и само могло бы оказаться в окружении. Но из всех подчиненных ему немалых сил барон использовал в наступлении лишь четвертую часть! Это все равно как тыкать в противника пальцем вместо того, чтобы крепко задвинуть кулаком.
Ранним утром 21 февраля правофланговый отряд генерала Гернгросса в составе тридцати трех батальонов начал наступление на единственную японскую дивизию. Тремя колоннами он атаковал неприятеля, но нигде успеха не имел: японцы дрались отчаянно и удерживались на своих позициях, пока к ним на выручку не подошла еще одна дивизия. И теперь об успехе на правом фланге Каульбарсу нечего было и думать.
На противоположном фланге 2-й армии тем же утром завязалась сильнейшая артиллерийская перестрелка. Японцы, обычно уступающие в подобных дуэлях русским, на этот раз превзошли противника силой огня. На этом участке оборону держал отряд генерала Церпицкого, насчитывающий двадцать тысяч штыков. Ураганный обстрел, обрушившийся на отряд, однако, большого вреда глубоко закопавшейся русской пехоте не причинил. И когда после обстрела японцы пошли в атаку, русские не удостоили их даже штыкового боя – отбили одним только ружейным огнем. Несколько раз японцы ходили в атаку на расположение Церпицкого, но всякий раз, неся большие потери, откатывались.
Солдаты Церпицкого, чувствуя себя такими же победителями, как и их товарищи из 1-й армии, готовы были смести неприятеля, разорвать его хоть голыми руками, прикажи им только начальство наступать. Но, увы, командир победителей – генерал Церпицкий – странным образом не разделял настроения своего войска. Он не только опасался сам предпринять какое-либо движение, но еще и лишил таковой возможности соседей. Генерал просто-таки забросал донесениями о своем бедственном положении и командующего, и главнокомандующего. В то время как против него стояло не более двадцати батальонов противника, Церпицкий докладывал об атаке на него трех японских дивизий. Имея потери весьма незначительные, генерал рапортовал о совершенном истощении своих сил. И неизменно просил подкреплений, помощи, поддержки его. Вот как он отписывал барону Каульбарсу: «Войска дерутся отлично, настроение великолепное, дух молодецкий. Но ввиду того, что они несколько ночей не спали, прошу прислать подкрепление, дабы можно было дать хотя бы некоторой части отдых. Потери значительны, особенно в офицерском составе». В конце концов, Церпицкому удалось убедить и штаб армии, и главную квартиру в том, что положение его бедственное. Командующий, сам человек столь же осторожный, привыкший во всяком случае дуть на воду, не только усилил Церпицкого за счет соседей, но и принял решение в связи со сложившимся положением на левом фланге перейти к обороне по всему фронту армии. Так и окончилась наступательная операция барона Каульбарса.
Японцы же, убедившись, что русское наступление выдохлось, едва начавшись, сами пошли вперед, движимые одним лишь отчаянием, – сил у них не оставалось вовсе. Но японцам во что бы то ни стало нужно было атаковать, чтобы отвлечь внимание противника от обходного движения генерала Ноги за Мукден. Армия генерала Оку к исходу сражения уменьшилась почти наполовину, его артиллеристы считали оставшиеся снаряды, стрелкам было приказано беречь патроны. Но даже если бы Оку пришлось положить у русских траншей и остатки своего войска, он, не раздумывая, сделал бы это. Потому что ожидаемый японскою армией результат от обходного маневра Ноги окупал все потери, все жертвы.
В тот же самый день, когда 1-я и 3-я русские армии оставили свои неприступные позиции на Ша-хэ и отошли на короткую линию за Хунь-хэ, японцы атаковали армию генерала Каульбарса по всему ее расположению. Это было следствием безынициативности, нерешительности барона, упущенных им и его корпусными возможностей: не атакуешь сам, будешь атакован неприятелем – вечная, многажды проверенная истина войны!
Утром, после сильнейшего артиллерийского обстрела отряда генерала Гернгросса, японцы перешли в наступление. Им удалось в некоторых местах потеснить русские полки и занять три деревни. Был атакован и корпус Церпицкого. Но главный удар японцы нанесли по отряду Топорнина, занимавшему позиции в центре русской 2-й армии у деревни Юхуантунь. Здесь у Топорнина стояла дивизия, за исключением одного полка. А атаковала Юхуантунь гвардейская бригада генерала Намбу, значительно усиленная артиллерией. Поэтому, можно считать, силы противников были равные.
Наступление Намбу начал ночью. Невзирая на огонь русской артиллерии, его солдаты ворвались в деревню и сошлись там со стрелками Топорнина в жестокой рукопашной схватке. Ценой больших потерь японцам удалось занять южную часть Юхуантуня. Но всею деревней они овладеть не сумели – сил не хватило.
В главной квартире удержанию Юхуантуня придавалось первостепенное значение. Куропаткин назвал деревню ключом позиций и приказал во что бы то ни стало отбить ее. Как и в недавнем бое за Салинпу, к Юхуантуню прибыл генерал Каульбарс, чтобы непосредственно руководить боем. Соседи Топорнина, понимая, что в центре расположения армии завязывается нешуточное дело, помогли сводному корпусу, – кто чем мог, – даже Церпицкий отрядил к Юхуантуню сколько-то людей.
На рассвете русские бросились на приступ занятой противником части Юхуантуня. Но были отбиты. Каульбарс с Топорниным несколько раз посылали войска в атаку, но все безрезультатно, причем потери русские несли значительные, – японцы обстреливали из окон и забрасывали с крыш фанз гранатами атакующих.
Тогда решено было истребить неприятеля артиллерийским огнем. Несколько батарей принялись в упор расстреливать фанзы с засевшим там японцами. Ветхие строения рассыпались от шрапнелей в глиняную крошку. Но крепким фанзам, а таких в деревне имелось немало, шрапнель большого вреда не наносила – отскакивала от стен, будто горох. Перед фугасными снарядами они, конечно, не устояли бы. Но как на грех, таких боеприпасов не оказалось во всем отряде Топорнина. Командующий распорядился срочно подвезти фугасы из Мукдена.
Наконец снаряды были доставлены. Деревню артиллеристы еще раз хорошенько обстреляли, причем большую часть строений превратили в руины. Тогда снова пошла в атаку пехота. И все-таки японцы как-то держались, цепляясь за каждую нерухнувшую стену, отбивались яростно, бесстрашно, будто эта безвестная маньчжурская деревня была им любезною родиной. Только с наступлением темноты они мелкими группами или поодиночке стали уходить из Юхуантуня.
Но рано еще русским было радоваться успеху. Довольно большая группа японцев засела в самой крепкой в деревне фанзе – не глиняной, а сложенной из камня, – которую не смогли разбить даже фугасы, – они прошибали стены насквозь, не разрушая их. Стрелки Топорнина два раза бросались на эту фанзу на ура, но оба раза неудачно, – японцы отчаянно отстреливались и отбивались ручными бомбами, нанося атакующим значительный урон. Артиллеристы докладывали, что разрушить этот донжон можно только пироксилиновыми снарядами. Но таковых опять не оказалось на передовой! Снова послали в Мукден.
Впрочем, пироксилин не пригодился: под утро японцы взорвали себя сами. Когда вслед за взрывом на развалины фанзы ворвались русские, они обнаружили там более ста трупов и еще почти пятьдесят человек живых, из которых лишь единицы не были ранены и искалечены.
Юхуантунь остался за русскими. Это стоило Топорнину пяти с половиной тысяч человек. Японцы потеряли немногим меньше: бригада Намбу была почти целиком уничтожена, – из десяти человек в строю у генерала оставался лишь один боец.
Удивительное, неожиданное упорство русских обескуражило японцев: давно прекратив атаки на южном фронте, они вынуждены были перейти к обороне и на западном участке. Теперь бы барону Каульбарсу самое время было взять инициативу в свои руки, надавить на обессилевшего, скурвившегося, по солдатскому определению, неприятеля, приказать наступать Церпицкому с его хорошо сохранившимся и вдобавок усиленным корпусом, превосходящим любую из японских армий. Но командующий не предпринял ни самой малой попытки атаковать где-нибудь обескровленного противника. А ведь у Каульбарса появился самый дорогой, самый надежный союзник, какой только может быть у полководца, – основательные сомнения врага в победе.
Как ни стойко держались в Юхуантуне японцы, но все-таки поле боя осталось не за ними. Как ни велика была цена, заплаченная русскими за этот ключ позиций, но, тем не менее, они его отстояли. Да, бой у Юхуантуня не принес русским значительного военного перевеса, равно как и не оказался опасным поражением для японцев. Но для последних этот неуспех стал настоящею моральною катастрофой: страшась второго такого Юхуантуня, японцы отказались от наступательных действий. Они все – от генералов до рядовых стрелков – ждали теперь только вестей с севера: что там получится у Ноги? Если русские его отобьют так же, как отбили все прочие японские армии, значит, не только сражение – вся кампания проиграна! Отойти, скажем, назад к Ляояну и дать второе такое побоище у японцев сил решительно больше не было.
Но Каульбарс промедлил с атакой, сулящей всей русской армии несомненный успех, не использовал верную возможность вырвать победу.
А тем временем головные дивизии генерала Ноги вышли к железной дороге севернее Мукдена. За все время, сколько шла война, у русского командования не было заботы важнее, чем обеспечение безопасной связи с тылом по единственному пути. Куропаткин об этом заботился так же ревностно, как, наверное, только кривой заботится о единственном глазе.
Главнокомандующий срочно собрал новый отряд во главе с генералом Лауницем и бросил его отгонять «артурцев» от железной дороги. Предполагалось довести отряд Лауница до девяноста батальонов, – по мнению главной квартиры, это возможно было сделать за счет войск Линевича и Бильдерлинга, отошедших на короткие позиции за Хунь-хэ. Но всех батальонов Куропаткин собрать на севере не успел, – на южном фронте события вдруг так повернулись, что пришлось, как скаламбурил кто-то в главной квартире, Ноги уже не сдерживать, а уносить.
А Лауниц – как ни удивительно! – очень неплохо действовал и малым отрядом. Это было тем более неожиданно, если иметь в виду, что его войска изнемогли в многодневном сражении, в то время как японцы, которым Лауниц противостоял, не знали сколько-нибудь серьезных боев с самого Порт-Артура. Вряд ли марш в сто двадцать верст, которые солдаты Ноги преодолели, по правде сказать, не особенно-то торопясь, соизмерим по затратам сил с двумя неделями окоп под ураганным огнем из всех видов оружия, затихающим лишь на время штыковых схваток сторон. Возможно, Лауниц, получив еще подкрепления, переломил бы ход сражения, но случилось невероятное: южный русский фронт, выдержавший все атаки неприятеля на прежних растянутых позициях, отодвинувшись на новые позиции, короткие и более крепкие, был прорван!
Линевич и Бильдерлинг отводили свои войска за Хунь-хэ, даже не заботясь о маскировке, настолько не опасались преследования: солдаты, оставляя окопы, сжигали все лишнее, способное послужить на пользу врагу, – сотни костров по русской линии оповестили японцев об отходе противника.
Командующие армиями в общем-то верно оценивали обстановку: у японцев действительно не оставалось уже сил докучать арьергардам противника. Но и вовсе не преследовать отступающих японские догматики-генералы, видимо, считали не по правилам войны. Поэтому они, собрав с миру по нитке, усилили остатки противостоящей 4-му Сибирскому корпусу гвардии и бросили это войско вдогонку отходящим полкам генерала Зарубаева.
Почему же японцы выбрали именно этот участок для последнего фанатичного натиска? Элементарный здравый смысл должен был подсказывать Ояме и его командующим армиями преследовать любой русский корпус, только не тот, что менее прочих пострадал в ходе долгого сражения. Вряд ли японцы, последовав за сильнейшим противником, рассчитывали на какой-либо успех. Скорее всего, они имели целью лишь показать, что еще не разбиты, не уничтожены, но способны идти вперед. И тут уже не имеет значения, какому именно отходящему корпусу противника наступать на пятки – понесшему невеликие потери в предшествующих боях или почти обескровленному.
Но если бы японцы избрали для удовлетворения своих амбиций любой другой корпус! Если бы их единственная способная наступать колонна пристроилась в хвост сильно потрепанным войскам генерала Засулича или каким-то еще, Мукден мог бы стать одной из славных страниц российской истории! Но все та же злая судьба, что неизменно выпадала русским с самого начала войны, не пощадила их и в этот раз.
От старых позиций, занимаемых 4-м корпусом на Ша-хэ, до назначенного им нового расположения по Хунь-хэ войскам Зарубаева предстояло пройти около тридцати верст. Солдатам, измученным до крайности, который день не смыкавшим глаз, чтобы преодолеть это расстояние, потребовались почти сутки. Причем батальоны тронулись под ночь и долгое время двигались практически вслепую. В результате один из полков – Омский – сбился с пути и не вышел на отведенные ему позиции. Целую ночь в русском фронте у деревни Киузань была довольно широкая брешь. И знай об этом японцы, они могли бы пройти к Мукдену вообще без единого выстрела. Только утром 24 февраля командир Можайского полка полковник Сорокоумовский с изумлением обнаружил, что за его левым флангом тянутся пустые траншеи. И это в виду наступающего неприятеля! Не дожидаясь, пока штаб армии направит к Киузаню резервы, Сорокоумовский распорядился десяти своим ротам занять позиции отсутствующего полка и держаться во что бы то ни стало до подхода подкреплений. Среди этих рот оказалась и 12-я штабс-капитана Тужилкина.
В последний день Мукденского сражения – 24 февраля – над Маньчжурией завьюжил буран. Сильнейший ветер поднял тучи песка и погнал их к северу хлеща русских стрелков по глазам и засыпая пылью. Казалось, сама природа встала на сторону японцев.
Получив участок позиций, по меньшей мере втрое превосходящий по протяженности обычное расположение роты по фронту, Тужилкин понимал, что, если неприятель пойдет здесь в наступление, вряд ли его молодцы и соседние роты смогут оказать значительное сопротивление. Но капитану казалось, что японцы атаковать больше не будут. После кровопролитных многодневных боев у противника не должно оставаться никаких сил.
Однако около полудня японцы открыли сильный шрапнельный и шимозный огонь по расположению 4-го корпуса. А затем, почти невидимые в пыльной бури, пошли в атаку, наметив главный свой удар на деревню Киузань. Почему именно здесь? Почему не в любом другом месте? Даже если бы и в самом штабе Линевича был японский шпион, он бы не только не успел сообщить Ояме о почти не защищенном участке на фронте русской 1-й армии, он бы сам об этом еще не знал! К тому же японцы начали собирать против 4-го корпуса силы за день до того, как русские добрались до новых позиций, и, разумеется, ведать не ведали, что какой-то полк противника заблудится и откроет им простор для наступления. Значит, опять – в который уже раз! – русским выпадет злой рок. А японцев ведет счастливая звезда.
У рот, занявших оборону у Киузаня, в сущности, не было никаких шансов удержать многократно превосходного неприятеля. Единственное, что им оставалось в случае атаки на них, так это достойно, с честью, погибнуть на своих позициях. Стрелки даже не могли вести прицельный огонь – тучи пыли неслись им прямо в глаза. К тому же, забившись песком, стали плохо действовать винтовочные затворы, и винтовка у большинства солдат превратилась теперь в рукоятку для штыка. Артиллеристы также были лишены возможности помочь окопникам: врага они не видели, а бить наугад опасались – могли угодить по своим.
Не особенно пострадав от шимоз, – японские артиллеристы тоже цели почти не видели, – русские изготовились встречать неприятеля.
Тужилкин распорядился солдатам действовать так: если японцы сразу бросятся напролом всею массой, то подпустить их до самых окопов и встретить ручными гранатами; если же они сами вышлют вперед гренадеров, то, как и давеча на Ша-хэ, оставить окопы, а затем охотникам дождаться, пока туда попрыгают японцы, и тогда опять же забросать их гранатами.
Но японцы никаких хитростей использовать не стали, – у них, наверное, уже все терпение вышло, чтобы еще как-то хитрить, – они пошли именно напролом, как только ходят в последний бой.
Поняв, что неприятель не демонстрирует, а по настоящему, крупными силами атакует его, Тужилкин отправил к Сорокоу-мовскому с донесением Филиппа Королева, в котором срочно просил подкреплений.
Японцы тем временем перебрались через мелкую Хунь-хэ, несколько задержались у ограждений, но преодолели скоро и их и устремились к русским окопам. Стрелки 12-й роты действовали, как научил командир: когда японцам оставалось пробежать тридцать – сорок шагов до русской линии, из окопов им под ноги полетели гранаты.
Японцы никак не отвечали, – естественно, на бегу и не выстрелишь, и гранаты не бросишь, – они были одержимы лишь одной целью – скорее донести до противника штык, который, несомненно, принесет им победу в этом последнем бою.
Понеся значительные потери от русских гранат, японцы не только не умерили боевого пыла, напротив, еще более осатанели. На потери они нисколько не обращали внимания. К тому же и поредев, они все равно числом многократно превосходили русских.
Атака была, как никогда, страшною, бешеною. Русские по крикам японцев, по выражениям их лиц поняли, что те в этот раз явились перед ними, чтобы или умереть всем до единого, или победить. Без компромиссов.
Тужилкин выскочил из окопа.
– Двенадцатая рота! вперед! – прокричал штабс-капитан обычный свой боевой клич.
Солдаты поднялись в рост. Кое-где раздалось «ура», едва слышное, впрочем, за японскими воплями, и тут же оборвалось: на редкую русскую цепь как лавина обрушилась серожелтая масса.
Рыская в общей свалке и стреляя из нагана направо и налево, Тужилкин старался как-то организовать сопротивление, при этом прекрасно понимая, что рота его обречена. Верный Игошин держался рядом. Он получил уже несколько ранений, но, и истекая кровью, продолжал отбивать штыки, нацеленные в ротного. В очередной раз спасая жизнь командиру, ординарец не успел отразить удар, направленный на него самого: вражеский штык пришелся ему в самую грудь. Игошин еще оглянулся удивленно, недоуменно на убившего его японца и в следующее мгновение упал замертво. Недолго продержался и Тужилкин, оставшись без попечителя. Штабс-капитан отчаянно прокричал: «Стоять, ребята! Стоя-а-ать!» – и, получив следом удар штыком, свалился рядом с убитым ординарцем.
Дормидонт Архипов один бился как целый взвод. Выскочив из окопа, он отстегнул штык и отбросил его прочь, – штык ему был только помехой. Унтер схватил винтовку за дуло и, действуя ею, будто палицей, принялся неистово крушить японцев. Он разбивал маленьким солдатикам головы, как пустые орехи. Японцы шарахались в стороны от его увесистого приклада. Ни один из них штыком не мог достать русского гиганта. Наконец кто-то сообразил выстрелить в него. Получив пулю в грудь, Дормидонт на секунду замешкался, словно хотел понять – что это его ужалило? И тут же сразу два штыка вонзились ему в спину. Унтер рухнул, так что земля вздрогнула. Те двое зарезавших его японцев подошли поближе и, забыв о побоище, стали для чего-то заглядывать в лицо поверженному колоссу. И вдруг Дормидонт схватил одного из них пятерней за ногу, дернул, повалил на землю, тут же подтянул к себе и вцепился в горло. Японец жалобно запищал. Второй солдат вначале отпрянул от неожиданности, но, быстро овладев собой, размахнулся и всадил в русского унтера штык по самое дуло, так что и выдернуть его сразу не смог. Дормидонт же, не обращая на это внимания, душил врага, пока не убедился, что в руках у него бездыханный покойник, а тогда и сам испустил дух.
У Васьки Григорьева сломался штык, и он, по примеру Архипова, крушил кругом себя прикладом, как молотобоец. При этом он все старался не терять из виду Матвеича. Васька сам вьюном вертелся, осыпая японцев ударами, да еще всякую секунду успевал приходить на помощь товарищу. Однажды он так от души огрел подвернувшуюся под руку шапку со звездочкой, что винтовка разлетелась на куски – куда приклад, куда затвор. Бесполезное теперь дуло Васька сам отшвырнул в строну. Он огляделся, ища чье-нибудь ружье: не валяется ли где под ногами? Но тут увидел, как один японец замахнулся ударить Матвеича штыком. Васька вскрикнул: «Матвеич!» – и, метнувшись к нему, встал на пути у японца. И в следующий миг штык, нацеленный в Матвеича, поразил наповал его самого.
Матвеич обернулся на крик и увидел, что Васька, схватившись обеими руками за грудь, вначале упал на колени, а потом и завалился на бок, скрючившись. Уронив винтовку, старый солдат кинулся помочь Ваське, поддержать его, но тот уже смотрел стеклянными глазами.
– Ай! парнейчик! – запричитал Матвеич. – Ты это чаво? Ты не это! Не таво! – Он тормошил, тискал Ваську, да все бесполезно.
Поняв наконец вполне, что произошло, Матвеич поднялся, выпрямился и, сжав кулаки, двинулся на врага, собираясь, верно, люто мстить за любезного друга. Да и трех шагов не прошел – какой-то пробегавший мимо японец ткнул на ходу безоружного русского штыком и побежал дальше.
Когда завязалась рукопашная, несколько русских солдат – дюжины две всех, – в том числе и Мещерин с Самородовым, догадались сбиться в кучу: сообща легче было держаться. Во главе этой группы оказался фельдфебель Стремоусов. Он сам бился отчаянно, да еще криком подбадривал солдат.
– Не дадимся, братцы! – гремел басом фельдфебель. – Все здесь ляжем! Законно! Я сказал!
– Кингстоны отворим! – лихо откликнулся Самородов.
Островок русских быстро уменьшался, будто и вправду погружался в пучину. Один за другим падали солдаты: кто замертво, кто раненным. Уже и сам фельдфебель, Тимонин, Безрученко – большинство из стремоусовской команды лежало на земле. Мещерин хватился, что из своих почти никого не осталось, когда упал, зажав рану на правом боку, его друг Самородов. На какое-то лишнее мгновение задержав взгляд на Алексее, Мещерин не успел отвернуться от удара: получив прикладом в самое лицо, он кувырком без памяти полетел на тела товарищей.
Очнулся Мещерин от чьих-то голосов над самым ухом. Ему показалось, что он спит в землянке: темно, хоть глаз коли, верно, ночь. Кто-то толкнул его в плечо. Мещерин хотел приподнять голову и чуть снова не лишился чувств от невыносимой боли в шее, в затылке. Лицо все было почему-то мокрое. Тут он сообразил, что находится не в землянке и не спит, а лежит на поле боя и, по всей видимости, ранен: мокрое лицо от крови. А чей-то невразумительный разговор у самого уха – это голоса японцев. Он все-таки нашел силы приподняться. Один глаз у него не видел вовсе. Вторым, тоже как сквозь плотную дымку, он разглядел копошащегося рядом, а значит, живого, Самородова и узкоглазых желтолицых солдат стоящих вокруг них.
– Плен, русский! Плен иди! – прокричал ему кто-то из японцев.
Русский фронт был прорван. В обход Мукдена с востока на соединение с армией генерала Ноги, обошедшего маньчжурскую столицу с запада, устремилась дивизия из армии Куроки. А за ней и другие японские части. Когда в штабе Куропаткина стало известно о прорыве японцев у деревни Киузань, кто-то из офицеров в сердцах воскликнул: «Ваше превосходительство! Это катастрофа!» На что Куропаткин спокойно ответил: «Катастрофа была при Бородине – тогда погибла половина армии и была сдана Москва. Наши же потери невелики, и сдаем мы всего какой-то Мукден».
Не считая больше возможным продолжать сопротивляться, русский главнокомандующий отдал приказ об общем отступлении.
В этот раз русские армии отступали далеко не в таком порядке, как после Ляояна. Они хотя и не бежали, и ни одна рота не оставила позиций без распоряжения начальства, но это было не прежним достойным отходом непобежденных, а именно поспешным отступлением изнемогшего, упавшего духом, войска, бросающего на позициях и дорогах обозы, снаряжение, амуницию, а подчас и оружие. За всю войну не оставившие неприятелю ни одного раненого, – тут уж нельзя не отдать должное генералу Куропаткину, который считал скорейшую эвакуацию раненых делом первостепенной важности и личной чести, – в этот раз русские даже иные лазареты не успели вовремя отвести в тыл.
Это поспешное отступление не стало для русских погибелью только потому, что японцы, как обычно, не особенно-то мешали им отходить. Кое-где они, правда, обстреляли из орудий колонны двигающегося на север противника, причем нанесли последнему значительные потери, но предпринимать какие-либо активные действия у японского командования после многодневного кровопролитного сражения, очевидно, не было уже ни возможностей, ни желания.
К тому же, именно отступая, русские показали, как они умеют биться, оказавшись в самом безнадежном вроде бы положении, как отчаяние удесятеряет их силы.
Несколько русских полков все-таки попали в окружение. На пути у них находилась целая семидесятитысячная армия генерала Ноги – самодовольных победителей-«артурцев». А теперь еще и главных героев Мукдена. Силы были столь же неравные, как в том последнем бою у Киузаня, где против японской дивизии стояло десять русских рот. И все-таки окруженные полки ринулись на прорыв. Командир одного из них – Мокшанского – поставил впереди полка не ударную команду из самых ловких, молодых и сильных охотников, а… полковой оркестр. И приказал музыкантам играть марш.
Когда среди маньчжурских сопок разнеслись выворачивающие наизнанку душу звуки старого русского боевого марша, все чины до единого, до самого великовозрастного запасника, сделались вдруг ловкими, молодыми и сильными. На солдат это подействовало так, будто вострубил седьмой ангел и им на помощь пришли все силы небесные. Усталость мгновенно исчезла. Кто прежде был недостаточно смел, тот стал храбрецом. У кого не оставалось, казалось, мочи и ногами шевелить, тот почувствовал в членах такую силушку, что хоть подковы давай ломать. Полки бросились в штыки и отшвырнули вставших у них на пути японцев прочь. И сколько раз японцы пытались им преградить путь, столько раз русские вынуждали их уступить дорогу. Так все полки и вышли из окружения.
Куропаткин вначале было развернул армию на речке Чай-хэ неподалеку от Мукдена. Но, не считая эти позиции достаточно крепкими, повел затем войска дальше к северу – к станции Сыпингай, находящейся приблизительно на полпути между Порт-Артуром и Харбином.
Это был самый значительный отход русских за всю войну. Но главнокомандующий отнюдь не придавал ему значения неудачи. Чтобы взбодрить подчиненных ему людей, поднять их дух, Куропаткин напомнил всем, как он еще в России, когда только получил назначение возглавить Маньчжурскую армию, говорил, что, возможно, придется отходить до Харбина, а может быть, и до самой русской границы, причем изматывать неприятеля боями и контратаками и накапливать силы для решительного наступления. Поэтому отход на сыпингайские позиции после нескольких сражений, в которых русская армия не была разгромлена, но лишь приобрела ценнейший опыт, выглядел вполне в соответствии с избранною главнокомандующим тактикой.
Но Куропаткинууже не было суждено исполнить своих тактических приемов. Армия еще не вышла на эти сыпингайские позиции, когда в главную квартиру пришел именной приказ из Петербурга о смещении главнокомандующего вооруженными силами на Дальнем Востоке с должности и о назначении нового главнокомандующего.
На сыпингайских позициях русская армия стояла еще полгода. Все это время из России в Маньчжурию потоком шли эшелоны с войсками, вооружением и боеприпасами. И к концу лета армия насчитывала свыше семисот тысяч человек. И ни разу за все это время, до самого мира, японцы не попытались атаковать русских. Это было прямым следствием Мукдена: японцы понимали, что второго такого или еще более масштабного и жестокого сражения им не вынести.
Новый главнокомандующий оказался, однако, еще менее решительным, нежели прежний: имея значительное превосходство над неприятелем, он совершенно отказался от активных боевых действий, ограничившись разве единственным конным рейдом во вражеский тыл. Исключительно мудро все-таки заметил древний китайский философ Конфуций: легче набрать тысячу солдат, чем найти одного полководца. Прямо будто адресовано России начала XX века.
Но русская армия теперь могла одержать победу, даже не атакуя противника. Одна угроза быть раздавленными этой невиданною доселе мощью действовала на японцев угнетающе: с каждым днем боевой дух неприятельской армии все более падал. И, видимо, русские могли так же перестоять японцев, как когда-то Иоанн Третий перестоял орду на Угре, и орда навеки отступилась. Отступились бы, вне всякого сомнения, рано или поздно и японцы. Но события внутри России вынудили Петербург начать искать мира с Японией. Бесчисленные жертвы Ляояна, Порт-Артура, Мукдена оказались напрасными. Бездарно потерянными.
Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны…
Четвертая часть По обе стороны баррикад
Глава 1
Не прошло и года с тех пор, как Таня распрощалась с девичьего вольницей, а она так уже свыклась со своим положением замужней дамы, что порой сама удивлялась: неужели у нее была прежде какая-то другая жизнь? Вначале довольно болезненно переживая папин и мамин наказ не стремиться даже просто погостить часок в родительском доме, разве в исключительных случаях и непременно с мужем, теперь она не могла и времени выбрать, чтобы хоть раз в месяц заглянуть на родной Арбат: все дела, заботы – то одно, то другое.
Капитолина Антоновна, не на шутку взявшаяся воевать с Японией, поставила и весь дом под ружье, за исключением, может быть, одного Антона Николаевича. Нисколько не сокращая, а, напротив, постоянно наращивая производство солдатского белья, неуемная Танина свекровь придумала еще и собирать посылки для маньчжурцев, для чего часть домочадцев по ее соизволению была обособлена в отдельный цех. Под руководством самой Капитолины Антоновны эти работники стали изготавливать тряпичные кульки и зашивать в них всякое полезное на войне имущество.
Квартира сделалась натуральною фабрикой. Стрекот «Зингеров» не умолкал день-деньской. Кучер Сергей только и успевал доставлять на дом полотно целыми кусками и мешки со всякою мелочовкой для посылок и отвозить на военные склады готовые изделия.
Но всего этого Капитолине Антоновне показалось недостаточным. Она вознамерилась еще более увеличить их вклад в благородное дело помощи сражающемуся отечеству.
Как-то раз утром она позвала к себе Таню и Наташу и объявила им, что рукодельничать они сегодня не будут. А поедут вместе с ней в Лефортово навестить раненых солдат. И, может быть, помочь чем-нибудь персоналу, если потребуется.
Девушки вначале обрадовались и, чуть не визжа от счастья, бросились обниматься: понятное дело, перемена работы – это лучший отдых. А уж поездку к солдатам они вообще принимали как развлечение, что-то вроде выезда на бал.
Но увиденное в Лефортове быстро переменило их настроение. Уже на улице возле госпиталя им предстала жуткая картина: у ворот стояло несколько подвод, из которых санитары выгружали на носилки изможденных людей с восковыми лицами. Все они были перевязаны – у кого голова, у кого руки, у кого ноги, а у кого-то и все вместе. Причем у большинства сквозь бинты проступала кровь. Некоторые из них стонали. Но в основном несчастные были безмолвны, как неживые.
В те дни в столицу один за другим прибывали военносанитарные поезда с участниками сражения на Ша-хэ. Они останавливались на товарной станции «Москва» Московско-Казанской железной дороги. И уже оттуда раненых развозили по всему городу – по больницам и госпиталям. Кроме того, иные патриоты москвичи – кому позволяло состояние, естественно, – устраивали небольшие госпитали, коек на пять – десять, прямо у себя в домах. И сами же ухаживали за ранеными. И все равно мест для всех нуждающихся в лечении маньчжурцев не хватало даже в огромной Москве.
Так, еще не переступив порога госпиталя, девушки поняли, что о развлечениях им здесь придется забыть. В самом же госпитале, когда они шли по коридорам мимо коек, на которых метались в горячке, стонали от боли или, напротив, отрешенно смотрели потухшими глазами солдаты, Таня и Наташа боязливо жались к Капитолине Антоновне.
Таня с ужасом думала: а что именно им здесь придется исполнять? а ну как поручат перевязывать солдатам раны с культями или помогать при операции? Но к новичкам отнеслись с пониманием: для начала им было доверено всего лишь сидеть при раненых.
Но даже такое щадящее задание для новоявленных медичек на первых порах оказалось довольно-таки непростым: раненые иногда просили помочь им перевернуться со спины на бок или просто подушку поправить, а Таня с Наташей не знали, как и подступиться к ним, страшились дотронуться до несчастных страдальцев, – а ну как солдату будет больно и он вскрикнет? или, того хуже, лишится чувств? Но скоро наловчились и стали управляться не хуже бывалых сестер.
Капитолина Антоновна, увидев, как быстро невестка и внучка освоились на новом поприще, решила, что большую пользу они принесут отечеству именно здесь – в госпитале. У самой-то старой барыни вообще не возникло никаких затруднений – она управлялась со служивыми сноровисто, будто всю жизнь пользовала болящих. Так они и решили: предоставив заниматься шитьем и сбором посылок домашним, сами отныне, пока идет война, будут при раненых.
В Лефортово Капитолина Антоновна, Таня и Наташа ездили всю зиму. Девушки быстро освоили сестринское мастерство и уже через две-три недели могли исполнять любую службу – перевязывать, промывать раны, делать уколы. Таня – отчаянная натура, – так та стала иногда и в операционной помогать.
Юные чаровницы сделались любимицами всего госпиталя. Кроме основных своих сестринских обязанностей, которые Таня с Наташей исполняли безупречно, они еще старались чем-то развлечь солдат: учили играть в шахматы, постоянно им что-то рассказывали – о Москве, о загранице, из гимназической программы. А когда в госпитале стало известно, что новые сестры прекрасно музицируют и поют, начальник распорядился прикатить в самую большую палату рояль, и Таня с Наташей дали настоящий концерт. В основном из русских песен. Особенный восторг у солдат вызвала «Помню, я еще молодушкой была». Таня по требованию публики исполнила эту песню за вечер не меньше чем с дюжину раз.
А сколько писем написали девушки! Солдаты, узнав, что новые сиделки – девицы благородные и образованные, стали наперебой просить помочь отписать письмецо на родину. Причем желающих было столько, что им пришлось вскоре устанавливать очередь. А «помочь» – это означало целиком написать послание. Потому что сами солдаты, кроме приветствия родителям: «Здравствуйте, маманя и папаша, кланяется вам сын ваш…», – больше не могли придумать ни слова, о чем бы сообщить. И Тане с Наташей не без труда приходилось выведывать у них чего-нибудь интересного, достойного внимания. Зато если уж им удавалось иногда служивых разговорить, то в результате выходили целые повести. Девушки за короткое время службы в госпитале узнали о войне в Маньчжурии больше, чем за целый прошедший год вычитали во всех московских газетах.
Однажды, где-то еще перед Рождеством, старшая сестра велела Тане захватить бумагу, перо с чернилами и пойти помочь написать письмо одному раненому офицеру. Таня вначале удивилась: обычно офицеры писали письма без чьей-либо помощи, – они все были людьми просвещенными. Но недоумение ее разрешилось, едва она вошла в палату: у приветливо ей улыбающегося молодого человека оказалась перебинтована правая рука. Он был родом из Киева. Но написать хотел не домой, а, как ни странно, назад, в Маньчжурию, – какому-то своему товарищу по полку, с которым ему не получилось встретиться сразу после ранения.
Офицер устроился поудобнее на подушках и начал свое повествование. Вот что Таня записала под его диктовку:
«Друг мой Валерий! Пишу тебе из Москвы, из госпиталя. Как жаль, что мы разминулись в Мукдене. Столько всякого занятного хотелось тебе рассказать. Ты не поверишь, какое приключенье вышло со мною на Ша-хэ! В романах такого не бывает! Помнишь, сразу после наступления наш полк был рассеян встречным ударом неприятеля. Мне тогда прострелили руку. Ну да это пустяк. Я собрал где-то с полсотни солдат и решил с этою малою командой пробираться к мукденской линии не напрямик, а в обход с севера – там было тихо и к тому же полно гаоляна. И вот, когда мы перебегали из одной гаоляновой плантации в другую, к нам вдруг подскакали двое всадников. На одном из них был старинный французский мундир, хотя и без погон. Как потом выяснилось, этот господин оказался подполковником французской армии в отставке. Оказалось, что к северо-западу, на Ша-хэ, в большом селе, на нашем, восточном, берегу реки, японцы держали в плену несколько русских солдат и казаков – сопровождающих этого француза. И еще троих статских, в том числе очаровательную мадемуазель из Москвы. Узнав об этом, я принял решение вызволить всех пленных, взяв село с бою. Ничего другого не оставалось. Но легко сказать: взять с бою! Как это сделать? В селе японцев – целый батальон. А у меня – неполные две роты из разбитого полка. И тогда я решил атаковать японцев ночью, в кромешной тьме, – неожиданно для них. Причем разделил свои силы на две группы – меньшую и большую. Меньшей, которой отводилась, прямо сказать, участь незавидная – атаковать первой, может быть, погибнуть целиком, но отвлечь на себя все внимание японцев, – я взялся командовать сам. А большей частью людей я доверил командовать этому отставному подполковнику – французу. Моя стратагема удалась исключительно. Я атаковал село молодецки, с обычною своею лихостью. Я приказал нижним чинам тайком подобраться к самому селу и зашвырнуть за стену гранаты. Когда вслед за этим я повел солдат на приступ, моему взору предстала страшная картина: десятки изуродованных, изувеченных трупов японцев беспорядочно валялись за стеной. Сломив сопротивление оставшихся, я захватил все село. А тогда подоспела и основная группа во главе с французом. Победа была совершенная. Вот так я разбил целый неприятельский батальон и освободил большое село, едва ли не город. Ты, Василий, верно, уже знаешь, что за этот блестящий победный бой я был произведен в штабс-капитаны и награжден Георгием. Об этом написано во всех московских и петербургских газетах.
Но мои приключения на этом не окончились. Вот что было дальше. В этом селе, кроме наших пленных, находился еще один русский – уполномоченный Красного Креста, а на самом деле японский шпион. Этот субъект, как я узнал, делая вид, якобы хлопочет об обязанностях по службе, на самом деле каким-то образом передавал японцам секретные сведения о нашей армии. И вообрази себе, я чуть было не захватил и его! Он почему-то не успел убежать с немногими оставшимися в живых после моего яростного штурма японцами. А когда я взял село, оттуда и муха уже не вылетела бы. И что он тогда придумал! Я упомянул, что среди пленных была одна барышня. Ему как-то удалось, пользуясь темнотой, схватить ее. И под угрозой убийства он потребовал, чтобы ему никто не препятствовал скрыться. Все спутники этой девушки, в том числе и ее жених, и сам подполковник француз, растерялись и позволили было исполнить ему свой план. Что было бы с этой несчастной, не могу даже представить! Но я ее спас. Еще перед тем как штурмовать село, я распорядился против ворот со стороны реки поставить пулемет, чтобы отступающие, – а я не сомневался, что японцы побегут, не выдержав нашей атаки, – чтобы все, кто устремится к реке, попали бы под убийственный пулеметный огонь. И получилось именно так, как я рассчитал. Едва злодей проскакал несколько десятков саженей, ударил пулемет, конь под ним пал, и барышня была спасена. Я, рискуя получить пулю от своих же, погнался за ним. По мне был открыт яростный огонь. Пули так и свистели кругом. Но я летел во весь опор, не обращая ни на что внимания. И вот вижу картину: лежит убитый конь, тут же этот негодяй, как мне тогда показалось, безжизненный, а рядом плачет девушка – подняться не может. Я спрыгнул с коня, подхватил ее на руки и отнес жениху. Покойно прижавшись к моей груди, она благодарила меня одними только глазами, полными слез. Я был убежден, что злодей убит, но, когда мы подошли к этому месту на рассвете, его там не оказалось. Наверное, был жив, а потом потихоньку перебрался за реку к японцам. Каково, Валерий? Да ты о нем, может быть, слышал. Я еще когда в Мукдене лежал в лазарете, там все говорили о шпионе из Красного Креста. Не помнишь? – его фамилия Казаринов…»
Таня едва не выронила перо. Она лихорадочно мысленно пробежалась по всему услышанному в надежде отыскать хоть какую-то обмолвку, свидетельствующую, что этот упомянутый Казаринов и ее отец не одно и то же лицо.
– А как звали ту девушку, что вы спасли, не помните? – робко спросила она, не найдя лучшей зацепки.
Офицер удивленно посмотрел на нее: почему это сестрица перестала записывать его слова и задает какие-то вопросы?
– Кажется… Лена, – безынтересно ответил он и продолжил диктовать: – Если бы я, Валерий, захватил еще и этого мерзкого изменника, честью клянусь, повышение мое одним чином не ограничилось бы…
Таня отшвырнула от себя бумагу с пером и опрометью выбежала из палаты. Она влетела в сестринскую комнату, чуть не сбив с ног старшую сестру. Не отвечая на ее недоуменные вопросы, Таня переоделась, раскидав по сторонам халат, платок, туфельки. И, схватив шубку, застучала на весь госпиталь каблучками по коридору. Хорошо, что ей на пути нигде не повстречались ни Капитолина Антоновна, ни Наташа, а то Таня сгоряча еще чего-нибудь надерзила бы им.
Она выбежала на Яузу. Морозец скоро помог ей справиться с чувствами, остудил ее пыл. Таня наконец заставила себя трезво вдуматься в только что услышанное. В сущности, это выглядело такой же нелепостью, как возможные слухи о том, что Витте тайком поспешествует лондонскому кабинету, а обер-прокурор Синода – магометанин. Может быть, офицер все это насочинял, чтобы похвастаться перед другом. Ведь он же говорит, что вынес девушку на руках из-под обстрела, а сам между тем прежде был ранен – именно в руку. Таня еще вспомнила, что офицер упомянул какого-то жениха спасенной им девушки. Она, как за соломинку, ухватилась за это обнадеживающее известие: у ее подруги Лены никакого жениха нет, следовательно, раненый говорил о какой-то другой девушке, а значит, весьма вероятно, что и упомянутый им Казаринов совершенно чужой, случайный человек. Таня вполне отдавала себе отчет, что такое умозаключение довольно зыбкое: они не виделись с Леной уже почти полгода, а за столь немалый срок у подруги мог появиться не только жених, но и муж. И все-таки эти сомнительные обстоятельства давали какую-то надежду, что все сегодня услышанное она на свой счет приняла по недоразумению, на самом же деле это к ней отношения не имеет. Так Таня утешала себя. И надо сказать, небезрезультатно. Но чтобы окончательно убедиться в своей неблагоразумной мнительности, ей захотелось немедленно услышать от кого-то, кому она всецело доверяет, мнение, подтверждающее невозможность подобным слухам о ее папе быть достоверными.
В нерешительности Таня замедлила шаг: к кому пойти? – выбор у нее был небогат – или к Антону Николаевичу, или к маме. После секундного раздумья она все-таки решила идти к маме. Явиться к мужу и спрашивать у него опровержений каких-то основанных на сомнительных слухах ее нелепых фантазий по отношению к отцу, Тане и совестно было, и казалось неумно.
Сколько Таня не появлялась на Арбате, она уже и сама не помнила: что-то месяца три или больше. Все недосуг было в бесчисленных заботах. Да и по правде сказать, – она поймала себя на мысли, – не так уж все это время ее и тянуло навестить родной дом. Кроме бесконечных – бесспорно, полезных, нужных – маминых назиданий, возможные визиты туда ничего больше ей не сулили.
Таня поднималась на свой этаж, с умилением разглядывая ступеньки, по которым она, бывало, проносилась сломя голову, причем вверх не менее резво, чем вниз. Теперь она шла степенно, деловито, как и подобает солидной, замужней даме. Вот сейчас, не доходя немного до третьего этажа, вспомнила Таня, на ступеньке будет витиеватая трещинка, напоминающая воробья, а перед их четвертым этажом должна быть выщербина, похожая на профиль самого Александра Иосифовича. Сколько лет они с папой и мамой смеялись над этим самопроизвольным силуэтом на камне, когда проходили мимо! Но теперь разве до смеха, до веселья?!
Открыла дверь ей, как обычно, Поля. Девушка так обрадовалась Тане, что, казалось, готова была броситься к ней на шею. Но этикет позволял прислужнице приветствовать молодую госпожу лишь сдержанным книксеном. Поняв ее чувства, Таня, не снимая перчатки, сама великодушно дотронулась кончиками пальцев до ладошки доброй девушки.
На Танин вопрос – дома ли мама? – Поля, сразу посерьезнев, ответила:
– У Екатерины Францевны гости… Они, барышня… – видно было, что девушке с трудом дается сформулировать ответ, – ну вы знаете… с мертвыми разговаривают…
Мамино увлечение спиритизмом было для Тани такой же болью, таким же унижением в глазах окружающих, как для Лены страсть ее простоватой матушки Наталии Кирилловны к показной роскоши, особенно к модным туалетам. Таня относилась к этому как к чему-то постыдному, порочному, вроде визитов к гадалке. Велев девушке позвать ее, когда гости разойдутся, она прошла в свою комнату.
Бывший ее уютный, обжитой уголок поразил теперь Таню безжизненностью, неодушевленностью, даже большею, чем это в целом всегда было в квартире Казариновых. Паркет в комнате так блестел, что боязно было ступить на него – казалось, ноги разъедутся. Запах и тот изменился – здесь не пахло живым человеком. На бюро, за которым Таня прочитала сотни книг и исписала десятки тетрадей, не лежало ни единого предмета, – чернильного прибора с ее любимою карандашницей, вырезанной из ствола пальмы, и их не было. С особенно неприятным сожалением Таня отметила, что с бюро исчез ее портрет в овальной рамке, которую ей когда-то подарил папа ко дню ангела. Чувствовалось, что в родительском доме она уже членом семьи не считается.
Тане даже не захотелось присесть в этой теперь совершенно чужой для нее комнате. Она прошла к окну и тотчас грустно усмехнулась: пейзаж по ту сторону стекол практически не изменился, – на окнах в доме напротив висели те же занавески, стояла та же магнолия в кадке, на карнизе по-прежнему топталась стайка голубей, высматривая, не покрошит ли кто внизу хлебушка.
Через час к ней постучалась девушка и пригласила к Екатерине Францевне, – сеанс окончился, спириты разошлись.
Екатерина Францева была удивлена неожиданному визиту дочки. Она начала расспрашивать ее: что случилось? почему без предварительного телефонного звонка? знает ли Антон Николаевич о самостоятельном выходе жены в гости? Это были для Тани вопросы очень неудобные и несвоевременные. Поэтому, быстро, коротко и невразумительно что-то на них ответив, она перешла к делу.
– Мама, послушай, что мне сегодня рассказали, – начала она, старательно придавая голосу веселый тон. – Мы же помогаем в госпитале с Капитолиной Антоновной и Наташей, я тебе говорила. Один раненый офицер – он в правую руку ранен – попросил меня помочь ему написать письмо. И, вообрази, что он поведал! CoincidencecTamusant! [30]Я так смеялась потом! Во время боя с японцами в какой-то деревне он чуть было не захватил в плен шпиона. Это русский человек, но он помогал японцам. Выдавал им там всякие наши военные секреты. И, представь себе, фамилия его – Казаринов!
Таня умолкла, улыбкой приглашая маму присоединяться к ее восторгу от этого анекдота. Но, увидев, что Екатерина Францевна остается в недоумении – для чего ей это было сообщено? и каков ответ от нее требуется? – Таня сама подсказала маме, как надо понимать ее рассказ.
– Ну это же не папа, – произнесла она уже не с восторгом, а скорее с надеждой. – Это какой-то другой господин по фамилии Казаринов…
Недоумение во взгляде Екатерины Францевны сменилось укоризненно-мученическим выражением: казалось, все услышанное от дочки было для нее тягостною, ненужною мелочью, лишними, обременительными сведениями. Она наконец ответила:
– Что бы папа ни делал, он все делает правильно. Не думай об этом, Таня!
– Да нет же, мама! – Таня просто-таки взмолилась от отчаяния, что ее не хотят внимательно выслушать, не желают вникнуть в смысл сказанного. – Ты не поняла: это совсем другой какой-то человек! Однофамилец! Не папа!
– Прошу тебя, не надо об этом думать, Таня! – тоже с мольбой в голосе проговорила Екатерина Францевна. – Ступай к мужу. Тебе нужно быть при муже. Не думай о пустом.
Визит к маме нисколько не успокоил Таню. Напротив, еще более усилил ее сомнения. Она теперь была совсем сбита с толку: что же имела в виду сказать мама? – она своим обычным бескомпромиссным мужепочитанием опровергла дочкину скрытую тревогу или подтвердила ее? Понимать можно было и так и так. Или вообще никак.
Таня с большою неохотой, с досадой поймала себя на мысли, что, пересказывая маме услышанную утром от раненого офицера историю, она не только откровенно лукаво преподнесла ее как забавное недоразумение, но еще и не упомянула о Красном Кресте, сотрудником которого был тот Казаринов – герой ее повествования. А ведь это обстоятельство, по правде сказать, почти исключало какие бы то ни было щадящие толкования, – сколько всех Казариновых может служить в Маньчжурии в Красном Кресте? Расскажи она все как есть, не опуская неудобных подробностей, вряд ли мама стала бы обманываться на счет этого человека, как пытается обманываться сейчас сама Таня. Впрочем, мама в любом случае ответит: что бы папа ни делал, он все делает правильно.
Не добившись от визита к маме желаемого утешения, Тане ничего не оставалось, как действительно идти к мужу и все ему рассказать, спросить его мнения.
Поехать теперь домой и дожидаться возвращения Антона Николаевича из службы у Тани не было терпения. Поэтому сразу с Арбата она отправилась на соседнюю с Таганкой Николоямскую – в Рогожский полицейский дом, где служил муж. Она была там прежде только однажды: вскоре после их женитьбы Антон Николаевич сам привел ее к себе в должность, чтобы показать, где именно он проводит свое урочное время, но, прежде всего, как догадалась Таня, имея в виду предъявить молодую супругу сотрудникам – тем, кто не присутствовал у них на свадьбе. Тогда же Антон Николаевич деликатно заметил, что вообще-то полицейский дом не место для праздных визитов посторонних лиц, в том числе и родственников сотрудников. Таня правильно поняла его слова, как предостережение о нежелательности возможных ее визитов на службу к мужу. Но сегодняшний случай был особенный.
Когда Антону Николаевичу доложили, что явилась его супруга, он немедленно сообразил, что причина, побудившая Таню к такому сюрпризу, чрезвычайная. А опыт в построении логических умозаключений мгновенно подсказал бывалому сыщику, какова же именно может быть эта причина. Значит, то, во что он в свое время не посвятил Таню, заботясь, как бы не нанести ей душевного потрясения, каким-то образом все-таки до нее дошло. И теперь ему придется объясняться.
Антон Николаевич распознал Танины намерения исключительно верно. И врасплох застигнут не был.
В этот раз Таня не стала мудрить, обманывать самое себя, и изложила услышанное случайно в госпитале слово в слово, акцентируя внимание именно на том, что упомянутый офицером преступник – сотрудник Красного Креста Казаринов, – очевидно, ее отец Александр Иосифович.
Антон Николаевич не столько слушал взволнованную речь растерянной и потому еще более очаровательной жены, сколько обдумывал свой ответ ей. Он ничуть не собирался оправдывать Казаринова или хотя бы как-то смягчить известные ему злодеяния своего бывшего друга. Но и огорошить жену – ровесницу его дочки – убийственным приговором ее отцу, а значит, и ей самой он тоже не собирался.
– Таня, прошу, выслушай меня, – уверенно, веско начал Антон Николаевич. – Ты не маленькая. И должна понимать, что жизнь – это отнюдь не сплошное благоденствие. То тут, то там нас подстерегают всякие превратности, всякие удары судьбы. Это неизбежно. Я, когда еще был младше тебя, потерял отца. Потом похоронил жену. За годы службы в полиции я не однажды мог погибнуть. В меня стреляли. Как-то раз здорово ранили. Но такова жизнь. У каждого свой путь. Свои беды и удачи, трагедии и радости. Пока ты была ребенком, родители тебя, естественно, оберегали от всяких роковых случайностей. Если таковые и происходили, то о них, скорее всего, даже не доводилось до твоего сведения. Это были беды твоих родителей, но никак не твои. Теперь же ты сама взрослый, самостоятельный человек. И теперь тебе пришла пора принимать на себя неприятности, противостоять им и преодолевать их. Выходить победительницей из этой вечной схватки человека с обстоятельствами. Умение не покоряться напастям, а достойно преодолевать их как раз и характеризует солидного, сильного душой человека.
Это Антон Николаевич умышленно добавил, чтобы понудить Таню не показаться малодушной, несолидной отроковицей, когда она услышит последующее известие.
Подготовив ее таким образом, Антон Николаевич перешел непосредственно к делу:
– С твоим отцом в Маньчжурии действительно произошла большая неприятность. Это факт. Возможно, он сам стал жертвой каких-то роковых случайностей, о которых я только что тебе говорил. Но доподлинно известно, что он пособствовал неприятелю. Причем даже не ввиду угрозы для жизни, а вполне добровольно, безо всякого принуждения. Об этом свидетельствуют сразу многие.
Антон Николаевич замолчал, чтобы дать Тане осмыслить услышанное. Он прекрасно знал, что его юная жена не неврастеничка и не плакса. И был очень горд тем, какая она выдержанная, волевая, крепкая духом натура. Но сейчас он предпочел бы, чтобы Таня изменила обыкновению. Если бы она теперь не сдержала чувств и со слезами выплеснула всю свою горесть, все свалившееся на нее потрясение, самому Антону Николаевичу было бы много легче. Он бы сейчас принялся ее утешать: подал бы ей воды, обнял, приголубил. И можно было бы считать кризис преодоленным. Но Таня оставалась монументально-спокойною. Она только плотно сжала губы и отвернула лицо в сторону. Это ее спокойствие, а вернее, возможные его непредсказуемые последствия очень беспокоили Антона Николаевича. Он хотел еще ей что-то сказать:
– Таня…
Но она перебила мужа:
– Где он теперь? – Голос у нее был на удивление покорным, без намека злобы или отчаяния.
Антон Николаевич отметил про себя, что Таня впервые, кажется, говоря об отце, не называет его папой.
– Я этого не знаю. После того происшествия в деревне, о котором тебе известно, его никто нигде больше не видел.
– Что это может значить? Он жив?
– Ты прости меня, Таня… но лучше было бы… если бы он… не был жив… – с трудом проговорил Антон Николаевич.
Таня с минуту испытующе смотрела в самые глаза мужу. Казалось, с ней происходит жестокая борьба чувств: неистовое противление услышанному и покорность судьбе. Наконец она определилась.
– Я поеду домой, – устало произнесла Таня.
Антон Николаевич подошел к ней и, обняв за плечи, поцеловал в лоб.
– Прошу тебя!.. – зашептал он ей в самое лицо. – Будь умницей, Таня! Это наше общее с тобой несчастье. Но не оно нас одолеет, а мы его. Нас двое. Мы сильнее. Я тебя очень люблю!
Он позвонил дежурному в приемную и велел отвезти Таню домой.
Оставшись один в кабинете, Антон Николаевич долго не мог успокоиться: ходил вдоль своего гигантского стола, садился то в одно кресло, то в другое, снова вскакивал и снова звенел шпорами по кабинету. Насколько было бы легче, думал он, если бы пусть вдвое большая беда свалилась на него одного – не юношу, но многоопытного мужа! Но каково это юной особе, вчера еще беззаботно скакавшей через веревочку позади гимназии, пережить личную катастрофу, способную привести в помешательство иных людей, вполне умудренных и закаленных жизненным опытом?!
Антон Николаевич не посмел рассказать Тане еще и о кунцевской проделке ее родителя. Он рассудил, что довольно с нее будет и маньчжурских его подвигов. А если действительно Казаринова нет в живых, то Тане вообще никогда не надо знать о нем ничего сверх того, что ей случайно стало известно.
Вечером Антон Николаевич попросил Капитолину Антоновну и Наташу не беспокоить какое-то время Таню, объяснив это именно тем, что, скорее всего, у нее при странных, загадочных обстоятельствах погиб отец. Об известных ему подробностях он, разумеется, ни матери, ни дочке, ни кому другому рассказывать не стал.
Полагая, что Тане теперь хорошо будет побыть одной, где-нибудь вне их многолюдного дома, а еще лучше, и в стороне от московской суеты, вдали от шума, как говорится, городского, Антон Николаевич предложил ей пожить недельку-другую на даче: или с единственною прислужницей, или, если угодно, с ее старою компаньонкой m-lle Rochelle. Но Таня отказалась где бы то ни было прятаться от своего горя. На следующий же день она, как обычно, вместе со всеми отправилась в госпиталь. Но, конечно, пережитое потрясение не могло не оставить раны в ее душе: Наташе сразу же бросилось в глаза, насколько сдержаннее, серьезнее стала Таня, насколько, казалось, она повзрослела за какие-то часы.
А спустя несколько дней Екатерина Францевна получила по почте некий сверток из Китая. В нем оказались некоторые личные вещи ее дражайшего супруга и его предсмертное письмо к ней. Письмо было написано не самим Александров Иосифовичем – смертельное ранение не позволяло ему этого сделать, – а каким-то случайным человеком под его диктовку. Александр Иосифович извещал жену и дочь, что он погибает незаслуженно опороченный врагами, но всем прощает и просит его самого всем простить. Гордая за своего героического, благороднейшего супруга, Екатерина Францевна немедленно надела на себя траур с решительным намерением отныне его не снимать – ни через два года, ни когда-либо вообще.
Перед Рождеством, в самый сочельник, Тане позвонила Наталья Кирилловна Епанечникова. Она сообщила сразу две новости, из которых от одной, по крайней мере, Таня в другое время, наверное, возликовала бы. Но теперь известие о возвращении любимой подруги Лены в Москву никаких восторженных эмоций у нее не вызвало, – Таня сдержанно поздравила Наталью Кирилловну с радостным событием и пообещала, может быть, даже завтра навестить их. Кроме того, Леночкина мама сообщила и то, о чем Таня ее просила прежде: вернулся из Китая и Дрягалов. Наталья Кирилловна, не в силах, верно, утерпеть до Таниного визита, принялась торопливо сыпать подробностями к сказанному. Таня узнала, что Лена и Дрягалов как-то встретились в Маньчжурии и в Москву вернулись вместе. К тому же Лена скоро выходит замуж за сына Дрягалова.
Действительно, новости оказались более чем интересными. Особенно последняя. И как ни была Таня удручена свалившимися на нее тяготами, на следующий день, прямо из церкви, она поехала к Епанечниковым.
Уж на что в новом ее доме, благодаря неуемной престарелой свекрови, жизнь бурлила, но в знакомой Тане с детства квартире в Мерзляковском переулке стоял уже совершенный переполох. Звонкий голос Натальи Кирилловны, делающей распоряжения прислуге, был слышен даже за дверью. Таня усмехнулась, подумав, что если Леночкина энергичная мама перед свадьбой дочкиной подруги развила изумительно бурную деятельность, то уж, выдавая замуж саму дочь, она, наверное, вообще перевернула дом вверх дном.
Дверь гостье отворил Леночкин младший брат Кирилл. Он был в белой рубашке с бабочкой и в бархатной черной жилетке. Мальчик, казалось, хотел броситься с криком к старой знакомой, которую они с братом любили все свои сознательные годы самозабвенно, до беспамятства, прижаться к ней, как они обычно поступали еще менее года назад, но вдруг, будто что-то вспомнив, он посерьезнел, отступил, как полагается, шаг налево, по-детски неловко шаркнул ножкой и приветствовал гостью кивком головы. Таня догадалась, что ей сейчас был продемонстрирован результат экзерциций Натальи Кирилловны.
– Позвольте поздравить вас с праздником, мадам, и засвидетельствовать вам мое совершенное почтение, – отчеканил Кирилл.
На что у нее было тяжело на душе, но Таня все-таки не выдержала и рассмеялась. Она нежно обняла мальчика.
– Я польщена вашей учтивостью, Кирилл Сергеевич, – старательно риторствуя, произнесла мадам Потиевская. – И в свою очередь прошу вас принять мои сердечные поздравления по случаю сегодняшнего знаменательного события.
Кирилл захлопал глазами, опешив от Таниного торжественного стиля, – он не знал, как ему следует вести себя дальше. Таня опять рассмеялась и дотронулась ему пальчиком до кончика носа.
В это время в передней появилась Лена. Девушки с минуту смотрели друг на друга. Потом порывисто сошлись и обнялись. Так они стояли, не отпуская одна другую и не в силах вымолвить ни слова, пока навстречу гостье не вышел Сергей Константинович. Вежливый Леночкин папа еще сколько-то повременил беспокоить подруг, но, исполнив приличие, прервал наконец их немую сцену.
– Ну, девушки, полно нежничать! – притворно строго сказал он. – Прошу в столовую.
Он поцеловал Тане руку и сам помог ей раздеться.
Лене не терпелось увести подругу к себе и поговорить с ней наедине прежде обеда. Но Сергей Константинович решительно этому воспротивился: узнав, что Таня пришла к ним тоже после литургии, он безоговорочно настоял всем им отобедать раньше всего прочего.
Распоряжалась за столом сама Наталья Кирилловна. Таня про себя усмехнулась, отметив, насколько ее действия соответствовали написанному в книгах хорошего тона. Рассадив всех по своему разумению, хозяйка сама взялась разливать суп по тарелкам, причем объявляла, кому именно прислужница должна эту тарелку поднести: прежде всего, Татьяне Александровне, потом Сергею Константиновичу, после него Елене Сергеевне и, наконец, Сергею с Кириллом. Последней она наливала себе. То же самое было затем проделано с рыбой, гусем, филеем. Хозяин же прилежно надзирал за тем, чтобы у участников трапезы не пустовали бокалы.
Таня очень опасалась, как бы за этим церемониальным обедом не зашел разговор об ее отце. Впрочем, она сразу решила, что не станет ничего скрывать, изворачиваться, запираться, – если спросят, так и ответит, как есть. И тогда уже пусть собеседники решают – продолжать им очевидно болезненный для гостьи разговор или прекратить его? Но она напрасно беспокоилась. У Натальи Кирилловны не было теперь иных забот, кроме предстоящего замужества дочки. Она, казалось, даже не помнила, что сегодня Рождество. И все без умолку рассказывала, сколько добра они уже припасли для Лены и что намерены еще приобрести сверх того, кого пригласят на свадьбу, у какой портнихи будут шить наряды, у какого кондитера закажут десерты. Она хотела, чтобы венчание проходило в каком-нибудь кремлевском соборе или хотя бы в храме Христа. Лена, переводя в смех обычные мамины амбиции, которых она, кстати, уже и не стеснялась, заметила, что ни там, ни там венчаний не бывает, но если мама непременно желает показной пышности, то тогда уж лучше всего им устроить брачение в соборе Парижской Богоматери. «Или в Вестминстерском аббатстве!» – поддержал, как обычно, дочку Сергей Константинович. Так они вдвоем противостояли буйным фантазиям Натальи Кирилловны.
Одним словом, обед проходил в спасительном для Тани многословии и веселье. Наталья Кирилловна – та даже и не догадывалась о чем-то ее расспрашивать. А когда Сергей Константинович однажды задал Тане какой-то неудобный вопрос, Лена тотчас перебила отца и перевела разговор на другое. Этого мудрому доктору достало, чтобы больше гостью не беспокоить.
Часа через полтора, убедившись, что ни одно из ее блюд не осталось не отведанным, Наталья Кирилловна позволила собравшимся сделать в трапезе прогул, как в старину говорили, то есть перерыв. Но затем непременно собраться за десертом.
Наконец Лена могла увести Таню к себе. Уединившись, подруги опять бросились обниматься. Уж так они соскучились, так истосковались! Они, казалось, все еще не могли поверить, что видят друг друга воочию. И поэтому каждой хотелось дотронуться до другой, словно удостовериться, что зрение ее не обманывает. Так и держась за руки, они опустились на козетку.
– Таня…
– Лена…
Сколько вопросов было у каждой к подруге! Но от волнения все, как на грех, вылетело из головы.
– Наталья Кирилловна рассказала по телефону, что твой жених – сын Дрягалова, – вспомнила Таня о еще не выясненном чрезвычайно интересном обстоятельстве. – Это младший?..
– Ну не старший же! – улыбнулась Леночка. – Дмитрий Васильевич.
– Но когда?.. Каким образом он стал твоим женихом?.. – изумленно спрашивала Таня.
– Ты разве не помнишь? Познакомились мы с ним летом на даче. Он мне тогда уже показался симпатичным, остроумным юношей. А окончательно, надеюсь, нас свела судьба в Маньчжурии. Там мне случилось убедиться, что он еще и надежный, ответственный, не по годам взрослый человек. Хотя и младше нас с тобой на целый год.
– Но расскажи, как вы там с ним повстречались? Это же немыслимо! Он-то как туда попал? – Таня забросала вопросами подругу. – Что было дальше?
Лена помрачнела, подумав, что ей теперь придется рассказывать не только о своем Дмитрии Васильевиче и о невероятных приключениях в Китае, но и о прочих соотечественниках, с которыми их пути на дальней чужбине пересекались, в том числе и об Александре Иосифовиче и о его проделках.
Заметив, как подруга переменилась в лице, Таня легко поняла, что Лене, верно, сейчас пришел на память тот эпизод в китайской деревне, о котором давеча упоминал раненый офицер. А вспомнив его и другое, она, естественно, смешалась: как об этом теперь сказать Тане?
– Можешь рассказывать, не таясь, – вздохнула Таня. – Я знаю уже обо всем, что имеет отношение ко мне.
– Хорошо, – решительно произнесла Лена. Она догадалась, что о самом трудном в ее рассказе – об Александре Иосифовиче – Тане откуда-то известно. – В таком случае я начну вот с чего: Лиза ни в чем не виновата! Это Александр Иосифович придумал, будто она рассказала полиции о кружке. – И, хотя Таня не спрашивала у нее никаких подтверждений сказанному Леночка добавила: – Мне об этом сказал сам Александр Иосифович.
Таня покорно опустила голову показывая, что услышанное она переживает смиренно.
– Я ничего не выдумываю, – с такого предуведомления Лена начала свой рассказ. – Мы с тобой виделись последний раз в начале сентября: помнишь? – я тогда прошла сестринские курсы и поехала с госпиталем на войну. Таня, какой же там кошмар! К нам в госпиталь, в Мукдене, привозили просто настоящие человеческие обрубки! Живые обрубки! Представь! – у него нет рук или ног, а то и того и другого, и вот это оставшееся на тебя смотрит! Живыми глазами! Я первое время не могла спать. Усну на час-полтора, потом просыпаюсь: ноги холодные как лед, сама вся в каком-то противном ознобе – не от холода, а от страха. А снилось только все что-то красное на белом, – так уже примелькались кровавые пятна на бинтах и простынях. Аппетит пропал полностью: как вспомню все эти клочья человеческого мяса, ни на что съестное смотреть не могу! Но, представь, потом привыкла.
Таня не стала перебивать подругу и рассказывать, что все это ей хорошо знакомо, что подобных же кошмаров она вволю насмотрелась в Москве, и тоже плохо спала первое время после дежурств в госпитале, и тоже вначале ничего не могла есть.
– И вот так прошло где-то месяца два, – продолжала Лена. – Однажды, когда я дежурила в палате, мне сказали, что кто-то спрашивает меня на входе. Представь же мое изумление, когда я увидела московских знакомых: Василия Никифоровича, его сына Диму, Паскаля Годара, – ты помнишь француза, что гостил летом, вместе с Володей и Алешей, у Василия Никифоровича на даче? – и еще одного пожилого военного, подполковника, оказавшегося дедушкой Паскаля. И вот, Таня, послушай, что я узнала, – ты этого не можешь знать! – оказывается, Александр Иосифович приехал в Китай, чтобы искать сокровища китайских императоров!
Таня не удержалась усмехнуться. Сколько уже всякого она узнала об отце, но, оказывается, он был еще и искателем каких-то таинственных сокровищ.
– Зря смеешься, – заметила Лена. – Это давняя история. Когда-то Александр Иосифович служил в Польше – ты же знаешь, – и одна старая полька рассказала ему о кладе своего отца, спрятанном в двухстах верстах к северу от Пекина. Этот поляк, вместе с подполковником Годаром, принимал участие в войне в Китае. Очень давно – лет пятьдесят тому назад. И там они вдвоем как-то завладели несметными сокровищами. Но пока подполковник Годар ездил по делам во Францию, поляк обманул его – он перепрятал драгоценности, а сам уехал домой. Конечно, он рассчитывал когда-нибудь вернуться и забрать свой клад. Но не сумел. Единственное, он успел рассказать обо всем дочери. А уже та, много лет спустя, передала эту тайну Ал ександру Иосифовичу.
Таня хотела возразить, что это все слишком уж неправдоподобно, надуманно звучит, будто позаимствовано из приключенческой повести. Но, вспомнив о прочих, вменяемых геройски погибшему папе провинностях, промолчала. Однако тень сомнения, промелькнувшая у нее на лице, не ускользнула от внимания подруги.
– Ты, наверное, думаешь, что такого не может быть? Так вот, Таня, хочешь – верь, хочешь – нет, – Лена даже понизила голос, показывая всю торжественность наступившего момента, – но я сама видела часть этих сокровищ. Своими глазами. Гору золота пудов в двенадцать! – И полюбовавшись минуту изумлением подруги, продолжила: – Этот француз – подполковник Годар – ни в коем случае не мог найти клад самостоятельно: он же не знал, куда его поляк спрятал! И что тогда ему оставалось? – следить за единственным человеком, который знает, где клад. То есть за твоим отцом. Рано ли поздно он приведет к нему. И вот оба Годара – Паскаль с дедом – еще где-то летом приехали в Москву и тайно следили за Александром Иосифовичем – когда тот поедет в Китай?
– Но подожди, – Таня все-таки нашлась, что возразить, – а откуда же этим французам стало известно, что папа знает, где спрятан клад?
Лена вначале, как ни в чем не бывало, хотела изложить все ей об этом известное – историю дрягаловского сторожа Егорыча, статью Паскаля во «France-matin», догадку подполковника Годара, – но в последний миг одумалась: значит, придется рассказывать и об убийстве сторожа, и о роли в этом злодеянии Александра Иосифовича?
– Не знаю, Таня, они мне об этом не сказали, – так ответила Лена. – Но их замысел вполне удался: вместе с Василием Никифоровичем они долго не выпускали твоего отца из виду – вначале здесь, в Москве, а после того как он уехал в Мукден, отправились следом и продолжили за ним наблюдать уже в Мукдене, – и дождались, когда он выступил в экспедицию вглубь Китая, якобы для устройства солдатских лазаретов, а на самом деле на поиск клада. Вместе с ним пошли – кто бы ты думала? – наши друзья: Володя Мещерин и Алеша Самородов. Он как-то их там нашел и добился у начальства, чтобы им позволили сопровождать его в походе. А следом за ними вышли и мы. И я тоже – Василий Никифорович раньше попросил в госпитале, чтобы меня отпустили. Но вообще, конечно, это Дима придумал взять меня с собой, – улыбнулась Леночка. – Нас всех было пять человек: подполковник Годар, Паскаль, Василий Никифорович, Дима и я. Возглавлял нашу команду этот удивительный подполковник. Ты не представляешь, как он знает Китай! – будто всю жизнь там прожил. Сколько всего интересного он рассказывал в дороге: о китайцах, об их обычаях, об их вере, о природе, о всяких достодивностях. В пути мы встретили китайских разбойников – хунхузов. Обычно они нападают и грабят странников. Но подполковнику как-то удалось убедить их – он блестяще знает по-китайски! – не только не грабить нас, но наоборот – помогать! Так мы шли за Александром Иосифовичем несколько дней. Наконец он привел свою экспедицию в какой-то отдаленный монастырь, на территории которого и был закопан клад. А мы расположились на уступе ближайшей горы, откуда монастырь был виден как на ладони. И нам оставалось теперь только караулить, когда Александр Иосифович найдет клад и куда-то повезет его.
Тут Лена прервала свой рассказ. Дальше в повествовании следовали события, связанные с преступною деятельностью Александра Иосифовича. И она не знала, как бы это преподнести Тане, по возможности, щадя ее чувства.
– Таня, теперь тебе придется услышать нечто очень неприятное о твоем отце… – предупредила подругу Леночка.
– Все неприятное о нем мне уже рассказал муж, – исключительно спокойно, без малейшего раздражения в голосе, ответила Таня. – Поэтому, наверное, довольно.
Но Лене-то хорошо было известно, что за этим спокойствием скрывается буря, гроза, готовая в любой момент прорваться, разразиться! И, чтобы не рассориться на этот раз с дорогою подругой окончательно, Тане про отца – покойного к тому же! – говорить больше ничего не следует.
– Не стало ли известно чего-нибудь про Лизу? – переменила Лена тему.
Таня рассказала, что опять же, по сведениям от ее мужа Антона Николаевича, Лиза стала участницей революционного кружка – того самого, в который они как-то случайно попали за компанию с Володей и Алешей. Рассказала также и о своей попытке найти ее: не придумав для этого лучшего средства, она пришла к Дрягалову, но не застала его – он как раз был в Китае.
– Вряд ли он смог бы чем-то помочь, – отвечала Лена. – Он мне рассказывал, что не хочет больше иметь дел с этими социалистами и уже порвал с ними. Вышел интерес – это его слова. Но он, безусловно, может посодействовать найти кого-то из главных в этом кружке, а то и самого руководителя. Только, Таня, – улыбнулась Леночка, – компанию я тебе теперь составить не смогу. Теперь до свадьбы мне там появляться никак некстати. Но я позвоню Василию Никифоровичу, попрошу тебя встретить по-родственному и сделать все возможное.
Глава 2
Год 1905-й начался в России с событий, предвещавших стране беды еще большие, нежели принес год прошлый.
Начались предзнаменования с самого Крещения. В столице в этот день, как обычно, проходило торжественное водосвятие на Неве. В присутствии самого императора, его семьи, других знатных особ и тысяч простого люда обряд совершал петербургский митрополит. Когда высокопреосвященный погрузил в иордань крест, батареи, расположенные на той стороне Невы, у биржи, салютовали дружным могучим залпом. Понятное дело, пушки заряжались всегда холостыми снарядами. Но в этот раз одно из орудий самым непостижимым образом оказалось заряженным картечью. По деревянному помосту у иордани, где стояли самые почетные лица, застучал смертоносный град. Полицейский, находившийся там, упал замертво – одна из пуль угодила ему прямо в лицо. Раздался звон разбитого стекла – часть заряда хлестанула по фасаду Зимнего дворца. Послышались крики. Толпа смешалась. Многие не стали и воды святой дожидаться – поспешили уйти подобру-поздорову, пока чего хуже не вышло: времена-то наступили беспокойные, лихие!
Известие о случившемся мигом разнеслось по Петербургу, а затем и по всей России. В народе пошли толки, что, знать, чего-то нехорошо будет, коли вот так из пушки угадали по самому царю да по его палатам: может, как в восемьдесят первом выйдет, а может, чего и похлеще, – вон и так вся страна уже смутилась.
В России действительно поднималась смута невиданная. По городам нарастало стачечное движение. В деревне было неспокойно – того гляди за топор мужик примется. Почти поголовно безграмотная деревня вдруг наполнилась социалистическими прокламациями и разными вредными брошюрками. Как они туда попадали, неизвестно, но злое дело свое выполняли верно – смуту множили. В Тверской губернии вышел случай, можно было бы сказать, забавный, когда бы не несчастный результат: у какого-то крестьянина пропал пес – бегал кобель где-то несколько дней, а возвратился с прибытком: на шее у него был привязан сверток прокламаций; крестьянин сам грамоте не умел, а когда сынок прочитал ему по написанному, что, оказывается, нет ни Бога, ни царя, очумевший от изумления мужик раздал прочие прокламации по всей волости – подивитесь, землячки, этакой невидали! – в результате через несколько дней вся округа бунтовала.
Пользуясь волнениями в собственно русских землях, забеспокоились окраины. Поляки, даже не скрывая своих намерений, готовились повторить 1863 год. Прежде невозмутимые финны, и те начали, по их собственному определению, «пассивное сопротивление», выражающееся, однако, в шумных уличных манифестациях с призывами: «Долой Россию!» Евреи организовались в революционное сообщество «Бунд», стали формировать боевые отряды и угрожать соседнему христианскому населению. В Минской губернии одна такая еврейская шайка напала на православного священника: местечковые якобинцы срезали батюшке бороду, остригли волосы и, избив его, бросили возле церкви. Русские, оскорбленные такой бесстыдной дерзостью инородцев, не замедлили ответить им: по черте оседлости пошли погромы. Но самую экстравагантную форму бунт на окраинах принял в Закавказье: местные народности стали по очереди вырезывать друг друга – то татары армян, то армяне татар.
Через три дня после крещенского происшествия в охваченном стачками Петербурге состоялась многотысячная демонстрация. Некий самодеятельный защитник рабочих – священник одной петербургской тюрьмы – придумал отправиться всем миром, с иконами и хоругвями, к царскому дворцу и передать батюшке государю прошение заступиться за православный народ, доведенный мироедами фабрикантами и чиновниками до полного изнеможения.
Вся столица с утра 9 января была запружена войсками, казаками, полицией. Куда ни глянь, всюду штыки, сабли, нагайки. Иные осмотрительные участники шествия засомневались: а не опасное ли предприятие они затеяли? – а ну как все это оружие против них обращено будет! А они с детьми идут! Старики немощные опять здесь же! На что другие, тоже очень неглупые, люди им резонно возражали: у нас же не бунт, не восстание, а, по сути, крестный ход; а что касается солдат, то они стоят для порядка, и у них, во-первых, ружья без патронов, а, главное, в том-то и фокус, что идут между прочими немощные старики и дети: увидят их служивые и усовестятся хотя бы нагайку поднять, не то что выстрелить.
Перед дворцом этот крестный ход с детьми встречала цепь солдат в две шеренги с ружьями наизготовку. Собственно, некому даже было передать прошения – к непрошеным визитерам из дворца никто и не думал выходить. Люди в растерянности остановились: что же дальше? ну вот пришли… Целый час недоумевающие питерские пролетарии топтались на снегу на площади, детей переморозили. Кто-то стал выкрикивать что-то солдатам, может, для согреву, к нему присоединились другие голоса. И вдруг офицер взмахнул саблей, и раздался залп, отдавший оглушительным эхом в колодце Дворцовой площади. Хотя многие впереди стоящие попадали, большинство в толпе не сразу сообразили: что же произошло? – ведь у солдат же нет патронов! И лишь второй залп все всем объяснил – люди поняли, что их расстреливают! Раздался разом тысячный вопль. Народ бросился врассыпную. Портреты царя и иконы за ненадобностью полетели на снег: не до них – детей бы спасти да самим ноги унести. Только беда, бежать-то некуда – стены со всех сторон! Всех укрытий на площади – один столп посередине. Но за ним спасаться от пуль – все равно как под бороной от дождя прятаться. А тут еще залп вдогонку! – гвардейцы быстро перезаряжают ружья, – еще один!.. Пехоту поддержала кавалерия. Нагайки довершили дело, начатое трехлинейками, – над толпой петербургской черни была одержана полная победа!
Это побоище в Петербурге, прозванное в народе Кровавым воскресеньем, просто-таки вздыбило Россию. Стачки хотя и умножились, но не они уже были главным ответом рабочих на жестокость власти. Призыв – «К оружию!» – сделался теперь основным лозунгом. Не ограничиваясь одним только призывом, народ действительно стал вооружаться: группы революционеров захватывали оружейные магазины, где-то на заводах умельцы тайком мастерили разной степени совершенства огнестрельные средства – от довольно приличных револьверов до примитивных пищалей; на квартирах устраивались лаборатории, где террористы изготавливали главное оружие революционной борьбы – бомбы.
И ответ режиму не заставил себя долго ждать. Газеты зачастили выходить с сообщениями в траурных рамочках об убийстве то полицейского, то градоначальника, а то и губернатора. И так по всей России. Но самое значительное убийство случилось в феврале в Москве. Четверть века страна не знала покушения более громкого во всяком смысле.
Все эти события, и прежде всего московская драма, трагическое значение которых умножалось неуспехами в Маньчжурии, понудили верховную власть обратиться к подданным с увещевательным и одновременно угрожающим манифестом:
Божию милостью МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ,
Император и Самодержец Всероссийский,
Царь Польский, Великий Князь Финляндский и проч., и проч., и проч.
Объявляем всем нашим подданным.
Неисповедимому Промыслу Божию благоугодно было посетить Отечество Наше тяжкими испытаниями.
Кровопролитная война на Дальнем Востоке за честь и достоинство России и за господство на водах Тихого океана, столь существенно необходимое для упрочения в долготу веков мирного преуспеяния не только Нашего, но и иных христианских народов, потребовала от народа русского значительного напряжения его сил и поглотила многие дорогие, родные сердцу Нашему жертвы.
В то время, когда доблестнейшие сыны России с беззаветною храбростью, сражаясь самоотверженно, полагают жизнь свою за Веру, Царя и Отечество, в самом Отечестве Нашем поднялась смута, на радость врагам Нашим и к великой сердечной Нашей скорби. Ослепленные гордынею, злоумышленные вожди мятежного движения дерзновенно посягают на освященные Православной Церковью и утвержденные законами основные устои Государства Российского, полагая, разорвав естественную связь с прошлым, разрушить существующий Государственный строй и, вместо оного, учредить новое управление страной, на началах, Отечеству Нашему не свойственных.
Злодейское покушение на жизнь Великого Князя, горячо любившего Первопрестольную Столицу и безвременно погибшего лютою смертью среди священных памятников Московского Кремля, глубоко оскорбляет народные чувства каждого, кому дороги честь русского имени и добрая слава Нашей родины.
Со смирением принимая все сии ниспосланные Правосудием Божиим испытания, Мы почерпаем силы и утешение в твердом уповании на милосердие Господа, от века державе Российской являемое и в известной Нам исконной преданности Престолу верного народа Нашего. Молитвами святой православной Церкви, под стягом Самодержавной Царской власти и в неразрывном единении с нею земля Русская не раз переживала великие войны и смуты, всегда выходя из бед и затруднений с новой силой несокрушимой; но внутренние настроения последнего времени и шатания мысли, способствовавшие распространению крамолы и беспорядков, обязывают Нас напомнить правительственным учреждениям и властям всех ведомств и степеней долг службы и веления присяги и призвать к усугублению бдительности по охране закона, порядка и безопасности в строгом сознании нравственной и служебной ответственности перед Престолом и Отечеством.
Непрестанно помышляя о благе народном и твердо веруя, что Господь Бог, испытав Наше терпение, благословит оружие Наше успехом, мы призываем благомыслящих людей всех сословий и состояний каждого в своем звании и на своем месте соединиться в дружном содействии Нам словом и делом в святом и великом подвиге одоления упорного врага внешнего, в искоренении в земле Нашей крамолы и в разумном противодействии смуте внутренней, памятуя, что лишь при спокойном и бодром состоянии духа всего населения страны возможно достигнуть успешного осуществления предначертаний Наших, направленных к обновлению духовной жизни народа, упрочению его благосостояния и усовершенствованию государственного порядка. Да станут же крепко вокруг Престола Нашего все русские люди верные заветам родной старины, радея честно и совестливо о всяком Государевом деле в единомыслии с Нами.
И да подаст Господь в державе Российском Пастырям – святыню, Правителям – суд и правду, народу – мир и тишину, законам – силу и вере – преуспеяние к вящему укреплению истинного Самодержавия на благо всем Нашим верным подданным.
Дан в Царском Селе, в 18 день февраля, лето от Рождества Христова 1905, царствования же Нашего в одиннадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою начертано:
НИКОЛАЙ.
Высочайший манифест вышел в самый разгар сражения под Мукденом. Через несколько дней вся Россия узнала, что Господь Бог и на этот раз не благословил русское оружие успехом. Битва под Мукденом была самым бесславным делом всей кампании. Если из-под Ляояна русские спокойно отошли непобежденные, не оставив неприятелю ни хотя бы фуража, если Порт-Артур был сдан после многомесячной героической обороны, причем доставив японцам урон, в два с лишним раза превосходящий русские потери, включая потери пленными, то из-под Мукдена разбитая армия отступила, побросав не только обозы, не только значительную часть оружия, но даже раненые не все были вовремя эвакуированы, чего не случалось за всю войну!
Теперь, за исключением отдельных одержимых безумным патриотическим угаром личностей, вроде редактора «Московских Ведомостей», всякий сколько-нибудь здравомыслящий человек понимал, что война проиграна. А такие настроения при сложившихся условиях лишь умножали смуту. Революция набирала силу.
Что же наконец так встревожило верховную власть? Что побудило ее в пространном манифесте призвать «верных заветам родной старины» подпереть зашатавшийся престол? Нет, не Кровавое воскресенье, и не стачки, и уж тем более не взаимная резня кавказских народов. Хотя отчасти, конечно, и все это. Но прежде всего – потрясение от покушения на собственную августейшую фамилию в лице упомянутого великого князя.
Дядя императора – Сергей Александрович – был московским генерал-губернатором с 1891 года. Справедливости ради нужно заметить, что сделал он для Первопрестольной немало доброго. Но слава великого князя среди москвичей, как главного виновника Ходынки, затмевала все прочие его деяния. Власть вообще никогда не бывает любима. Но Сергей Александрович был особенно нелюбим. Причем не только среди простого народа и интеллигенции, но и в своем высоком кругу. По мнению многих, он был человеком черствым, заносчивым и холодным, к тому же неумным и чрезвычайно высокомерным. Замечательно, как о великом князе отозвался производивший расследование Ходынской катастрофы статс-секретарь граф Панин: не следует назначать на ответственные должности безответственных лиц!
Тринадцать лет великий князь управлял древнею столицей. И, наверное, так и остался бы в памяти москвичей единственно как виновник Ходынки, если бы не его мученический венец. Исключительно трагическая кончина Сергея Александровича искупала все прочие, заслуженные или незаслуженные, обвинения в его адрес.
В тот роковой день великий князь в третьем часу пополудни выехал из кремлевского Николаевского дворца. Он направлялся к себе в генерал-губернаторский дом на Тверскую. Обогнув Чудов монастырь, великокняжеская карета помчалась по просторной Сенатской площади к Никольским воротам. Но, не доезжая чуть до узких ворот, кучер, естественно, попридержал лошадей. В этот момент к карете метнулся один из прохожих – по виду рабочий, лет тридцати, – и швырнул под нее некий сверток. Раздался страшный взрыв. Сила его была такова, что эхо, будто от грома небесного, донеслось до самых дальних московских окраин. Карета разлетелась на мелкие щепки. Взбесившиеся кони помчались с передним ходом колес и с запутавшимся в упряжи бесчувственным кучером в ворота и были там остановлены какими-то смельчаками. Террорист попытался бежать, но его схватил дежуривший у здания судебных установлений городовой.
После минутной растерянности находящиеся на Сенатской площади очевидцы подошли поближе к месту взрыва, с многолюдной Красной площади в Кремль тоже потянулись испуганные любопытные, из казарм выбежали солдаты. И скоро у Никольских ворот собралась изрядная толпа. Взору людей зрелище предстало потрясающее: тело великого князя было растерзано – голова совершенно разбита, внутренности вырваны силой взрыва и отброшены в сторону. Вокруг валялись куски мяса. Офицер велел кому-то из нижних чинов снять шинель и накрыть изуродованные останки великого князя. Получилась картина, наглядно иллюстрирующая бренность бытия: еще несколько минут назад этот всесильный великий князь, импозантный красавец, блестящий военный, не признающий иных туалетов, кроме шитых золотом парадных генеральских мундиров, теперь, разорванный на куски, лежал на снегу под солдатскою шинелью.
Так на Россию посыпались удары – и снаружи, и изнутри: и военные поражения, и внутренние потрясения. Причем последние безусловно являлись эхом первых: когда из Маньчжурии доходили известия об очередной катастрофе, в России смута поднималась с новою силой.
Чтобы удержать страну в повиновении, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию, государственной власти немедленно, как воздух, нужен был какой-нибудь военный успех, хотя бы частный. Надежду на такой успех власть связывала с отправленным на Дальний Восток в октябре 1904-го Балтийским флотом. Двумя эскадрами – под командованием адмиралов Рожественского и Небогатова – флот отправился, по сути, в кругосветное плавание: Рожественский вокруг Африки, а Небогатов – через Суэц. В России этот поход вызывал новый прилив оптимизма. «Московские Ведомости» и подобные верноподданнические издания писали, что Японии теперь не позавидуешь, – участь ее, очевидно, предрешена. Когда же пришло известие о соединении эскадр Рожественского и Небогатова в Аннаме, восторг сервильной патриотической печати превзошел ликование по случаю взятия Плевны: такая сила сметет и сильнейшего неприятеля! теперь роли меняются, и инициатива полностью переходит в наши руки! Японию можно уже считать поверженною!
Догадайся Рожественский затем занять Формозу и отсюда угрожать японскому флоту, даже вовсе не выходя в море, Россия действительно имела бы шанс переломить кампанию, – одно только известие о захвате немалой части неприятельской территории значительно подняло бы боевой дух русской армии в Маньчжурии и равным образом угнетающе сказалось бы на настроении и без того вконец изнемогших от войны японцев. Но адмирал провел свою армаду мимо этой легкой, прямо-таки просящейся в руки добычи – Формозы. И самым коротким путем – через Корейский пролив – направился во Владивосток.
Итог был невиданно несчастным, сокрушительным: в Корейском проливе, у острова Цусима, русский флот, атакованный японцами, почти целиком погиб; а несколько оставшихся непотонувших кораблей сдались неприятелю, подняв при этом… японские флаги. Такого еще не знала история морских войн.
После Цусимы говорить о непременном продолжении войны до победы могли позволить себе либо только безответственные газетчики, либо какие-нибудь допотопные ветераны-отставники, давно составившие карьеру и больше не заботящиеся, как бы им не прослыть безумцами. Основная же часть русского общества, научившаяся здравомыслию на прежних ошибках, теперь, безусловно, понимала, что война проиграна и надо искать мира, пока страна не оказалась в еще худшем положении, пока не наступила окончательная погибель всей империи.
Вскоре после Цусимской катастрофы в Царском Селе состоялось совещание первых лиц государства во главе с самим императором, на котором практически без возражений было решено искать с Японией мира. Узнав о таковом намерении России, президент САСШ Рузвельт решился выступить посредником между воюющими сторонами, – нет, президент отнюдь не был блаженным миротворцем, но он опасался, что японцы, если они в войне с русскими добьются еще больших успехов, станут владельцами всего Дальнего Востока и Тихого океана, и таким образом будет нанесен существенный ущерб американским интересам.
По предложению Рузвельта в американском Портсмуте состоялась встреча русского председателя комитета министров Витте с японским министром иностранных дел. И несчастной войне был положен конец. Витте на этих переговорах показал такие чудеса дипломатического искусства, что в результате могло показаться, будто Россия войну, по крайней мере, не проиграла. Категорически отказавшись даже обсуждать вопрос о контрибуции, русская делегация согласилась уступить Японии… свое право аренды Квантуна. То есть побежденная сторона – если только Россию можно таковой считать! – отделывалась тем, что передавала победителю клочок чужой земли. Более того, по условиям мира, японцы, захватившие целиком Сахалин, еще и возвращали России половину острова.
Не случайно, после подписания мира, японская делегация довольно долго не смела показаться на родине: когда известия об условиях мира достигли Японии, там начались беспорядки, превосходящие даже беспощадный русский бунт, и делегация, рискуя быть разорванною толпой за свое небрежение национальными интересами, повременила возвращаться домой.
Итак, война окончилась, и русская власть могла наконец целиком сосредоточить свое внимание на набиравшей силу смуте. А беспорядки действительно уже приняли размах и формы, угрожающие самому существованию самодержавия. Такими умеренными средствами борьбы за свои интересы, вроде шествий с иконами, как 9 января, народ больше власть не баловал. В ход пошли аргументы более убедительные. По всей России стали раздаваться уже не только одиночные выстрелы революционеров-террористов, а канонады перестрелок рабочих боевых дружин с полицией или войсками. На юге же – в портовых черноморских городах – власти пришлось испытать на себе мощь снарядов, выпущенных из орудий поднявшего красный флаг броненосца «Князь Потемкин Таврический». Городские баталии поддержало своими средствами – топором да вилами – и село: крестьяне начали громить дворянские усадьбы и захватывать помещичьи земли. А в октябре по всей России разразилась невиданная стачка, в результате которой жизнь в стране натурально остановилась: замерли железные дороги, встали заводы, прекратили выходить газеты, закрылись магазины и пекарни.
Все эти невиданные, опасные для самого существования государства события вынудили верховную власть искать выхода из положения. Таким выходом, по мнению либеральной части окружения государя, могло бы стать известное ограничение самодержавия. Самые смелые из этих либералов прямо говорили: пришло время дать стране конституцию.
В самый разгар октябрьской всеобщей стачки вышел царский манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», допускающий отныне такие отношения между государством, властью и народом, которые еще вчера почитались преступным вольнодумством. Между прочим, власть обязывалась теперь «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», а также учредить Государственную думу – первый в истории России парламент. Эти обещания, особенно последнее, имели весьма положительное значение, – многие вчерашние забастовщики и бунтари теперь призывали кончать мутить и приниматься за работу: государь дал нам все, что мы просили! долой забастовку! – слышалось то тут, то там. Правда, не меньше говорили, что это все обман, подвох: от них доброго не жди! это они что-то придумали, как объегорить, по обыкновению, народ! Но все-таки этим своим ходом власть добилась немалого. В целом настроение людей противостоять, идти стенкой на стенку, уступило место любопытству: а что же это за штука такая, как ее некоторые называют… конституция? Вот, к примеру, написано – свобода слова и собраний. Так пойдем завтра на улицу и будем горланить, не таясь, все, что в голову взбредет, так, что ли?!
И, возможно, смута пошла бы на убыль и вообще закончилась вскоре, но ровно в тот же день, когда был обнародован царский манифест, в Москве среди бела дня, при всем народе, черносотенец убил одного из революционных вожаков – ветеринарного врача Баумана. Это убийство стало искрой в пороховом погребе. Оно вызвало в народе такую же бурю негодования, как петербургское Кровавое воскресенье: похороны Баумана вылились в многотысячную манифестацию – на улицу вышла вся Москва. И снова, как после 9 января, уже никто не вел речи о какой-либо покорности властям, о соглашениях, о компромиссах. О манифесте и о том улица больше не говорила – его разом забыли, как пустую бумажку. Снова главным лозунгом толпы стал клич – «К оружию!». В Москве собиралась большая гроза.
Глава 3
Невиданные, уму непостижимые события, вздыбившие, перевернувшие вверх дном страну и приведшие многих неслабой натуры людей в полную растерянность, в совершенное недоумение, Василия Никифоровича Дрягалова не смутили и уж тем более не стали причиной, чтобы ему оставить свои предприятия или хотя бы умерить усердствовать в них.
Когда в разгар забастовок стачечники под угрозой насильственного принуждения требовали от всех торговцев закрывать свои заведения, и многие из них в результате несли значительные убытки, Дрягалов тоже подчинился и магазины закрыл, но не встал за конторку подсчитывать недостачу, а начал рассылать товары по губернии: нагрузит чем свет подводы, назначит старших из самых знающих дело приказчиков и разошлет их во все концы – по селам, по уездам. Так его доходы в это разорительное для многих время почти не сократились. Конечно, это был не тот оборот, что давали магазины на московских фешенебельных улицах. Но потери Дрягалова были очень незначительными, – в глубинке товары, что привозили его люди, раскупались подчистую! Назад он тоже не велел работникам возвращаться порожними: они брали по дешевке у мужиков какой-нибудь продукции впрок, – окончится буза, рассуждал Василий Никифорович, народ хлынет в магазины, и тогда уж только косточками щелкай успевай!
Но все эти обстоятельства были теперь мелкими для него, малозначительными, по сравнению с тою заботой, которую Дрягалов исполнял, – он женил сына.
Возвратившись из заграницы к Рождеству, Дрягалов рассчитал было, что со свадьбой спешить не следует. Он хотел повременить до Пасхи, – пусть их, поживут врозь до весны, а там на Фоминой аккурат можно и повенчаться, коли у малого охота не пройдет. Но Дима настоял поторопиться: а ну что с невестой случилось после их китайских баталий?! так как ее гостям тогда показывать, с ношею? Не согласиться с таким доводом было невозможно, и пришлось отцу делать перерасчет: теперь выходило свадьбе быть не позже недели о Блудном сыне. Дрягалов только усмехнулся тогда такой символической случайности. Бог шельмеца метит! – подумал он.
Выходило, что времени оставалось в обрез. Поэтому Дрягалов поторопился исполнить все приличествующие правила: перед Крещением заслал сватов к Епанечниковым, а погодя и сам отправился на рукобитье.
На Епанечниковых Дрягалов произвел неотразимое впечатление. С Натальей Кирилловной Василий Никифорович как-то мельком прежде уже встречался – летом на даче в Кунцеве, – но с доктором они виделись впервые. Сергей Константинович – солидный, уважаемый, состоятельный человек, известный и популярный в Москве врач – в присутствии гостя на первых порах испытал то же чувство, которое он переживал в студенческие годы, бывая в обществе каких-нибудь светил профессоров. Но скоро он понял, что Дрягалов – почетный гражданин, владелец крупного состояния, вершитель многих судеб – вовсе не заносчивый тип, вышедший из грязи в князи сноб, а вполне доступный, лишенный высокомерия, какой-либо напыщенности человек, к тому же с чувством юмора, что Сергей Константинович особенно ценил.
А Наталья Кирилловна, уже подзабыв Дрягалова после их прошлого мимолетного знакомства, теперь просто оробела, увидев едва тронутую серебром черную бороду и горящие базальтовым блеском глаза будущего свата. Но, преодолев эту минутную растерянность, затем уже не могла нарадоваться на него, – она, как потом рассказывала мужу, «узнала в Дрягалове копию своего отца: такой же Садко – варяжский гость». Вначале же, когда Дрягалов вошел и, перекрестившись двумя перстами на нового письма Николу в восточном углу прихожей, произнес: «Пришли мы, гости, хоша и виданные, да незваные, а обычные дела совершати, просим вас принимати – не брезговати», Наталья Кирилловна от изумления в ответ перекрестилась на него, как на икону, и неловко поклонилась. Провожая же Василия Никифоровича в комнаты, она повторяла единственное: «Милости просим, бонжур, милости просим…»
Сговориться сватьям было несложно: коли у молодых уже все решено, остальное своим чередом пойдет – свадьба, гости, приданое – все честь по чести, как полагается. Довольно непросто для Дрягалова было определиться с венчанием. У него в роду все до единого неизменно держались старой веры. Но он вполне понимал, что, если теперь венчать детей на Рогожке, такой брак государством не будет почитаться действительным и доставит потом его никонианке-невестке, а следовательно, и сыну уйму неприятностей. Но Дрягалов сам же и придумал, как разрешить незадачу: он предложил венчаться молодым у единоверцев, – они, конечно, те же никониане, но хоть не против солнца ходят! – к примеру, в Троицкой церкви за Яузой.
Вслед за этим начались предсвадебные хлопоты. Тут уж Наталья Кирилловна принялась за дело истинно отлично-усердно, так что ей спать некогда стало. Прежде всего, она сочинила объявление и сама отвезла его в контору «Московского листка». Назавтра газета сообщила всей Москве с первой страницы: «Сергей Константинович и Наталья Кирилловна Епанечниковы извещают о вступлении их дочери Елены Сергеевны в брак с потомственным почетным гражданином Дмитрием Васильевичем Дрягаловым. Венчание состоится 13 февраля, в воскресенье, в церкви Св. Живоначальной Троицы, что у Салтыкова моста».Потом она составила целый список статей, назначенных ею к немедленному исполнению. Помимо пунктов о посещениях магазинов, литографической мастерской, визите к модистке, о подарке жениху, в списке Наталии Кирилловны значились еще и такие важные мероприятия, как «приглашение оркестра гармонистов и балалаечников маэстро Кошкодавленко» и «заказ поздравительного стихотворения у мадам Каталонской». И уже с этим списком Наталья Кириллова бросилась в бой. Она утром пораньше, как в должность, отправлялась по делам, к обеду возвращалась с горой покупок, потом снова уезжала и вечером привозила новый ворох всяких ценных приобретений. По телефону она радостно кричала знакомым, что «вся с ног сбилась!», но советы Сергея Константиновича пожалеть себя и отдохнуть от тяжких забот, в крайнем случае, поручив их исполнение хотя бы вон прислуге, Наталья Кирилловна решительно отвергала – «кому можно поручить что-нибудь ответственное?! что они умеют?! нет, это мой крест!» – и с еще большим усердием принималась за предсвадебные приготовления.
Накануне венчания Дима Дрягалов прислал Леночке огромную корзину цветов и вместо обычной «свадебной корзинки» сундучок дорогого дерева, весь в замысловатом арабском орнаменте. В сундучке Наталья Кирилловна с дочкой нашли увесистый кисет, набитый империалами. В свою очередь невеста послала жениху золотые запонки, а ее родители присовокупили от себя будущему зятю еще полуфунтовый брегет, исполняющий «Боже, храни королеву».
Итак, приличествующий этикет сторонами был вполне соблюден, все необходимые приготовления сделаны. Настал срок венчания.
В предпоследнее воскресенье перед Великим постом многие спешили повенчаться – не соберешься теперь, ждать придется два с лишним месяца. Вот и 13 февраля 1905 года редко у какой московской церкви не стоял свадебный поезд. Но, наверное, самое пышное, самое многолюдное браковенчание в этот воскресный день в первопрестольной было в новоблагословенной лефортовской Троицкой церкви. Здесь, казалось, съехалась половина всех московских экипажей. А в самом храме – просторном, с двумя приделами – набилось столько публики, что уж – верно! – никакому городничему было не взойти. И что за публика собралась! – сплошь бороды, бороды: всякого фасона, цвета и длины. На многих бородачах сюртуки. А у иных старцев так даже кафтаны виднелись под соболями. И то тут, то там тускло отсвечивают медали на шеях – «За полезное», «За усердие», «За усердную службу». Это были приглашенные со стороны жениха – цвет московского капитала. В таком многолюдном собрании старообрядцев группка никониан – гостей со стороны невесты: выбритых досиня мужчин в заграничном платье и их жен в шляпках – выделялась так же, как бывают заметны европейцы среди аборигенов какой-нибудь экзотической страны. Между этими европеизированными гостями стояла и Таня со своими близкими – Капитолиной Антоновной, Наташей и m-lle Рашель. А вот глава их семьи Антон Николаевич на свадьбе лучшей подруги жены присутствовать не смог: в связи с последними событиями он теперь был занят по службе даже по воскресеньям. Также по известным причинам отсутствовала и Танина мама Екатерина Францевна. Незадолго перед этим Екатерина Францевна поведала дочке, что она недавно разговаривала с духом Александра Иосифовича и тот объявил о своем намерении в будущем явиться им.
Взоры всех присутствующих были устремлены в центр храма, где у аналоя стояли сами врачующиеся. Не бывает, наверное, таких жениха с невестой, которые под венцами не казались бы прекрасными. Но восхищенные взгляды гостей красноречиво говорили, что более очаровательной пары еще никому видеть не приходилось, – Леночка с Димой превосходили всякий возможный восторг! От них невозможно было отвести глаз. Обряд показался всем необыкновенно короток, так людям хотелось еще смотреть на безупречного жениха и на несравненную невесту в венке из померанцевых цветов.
Выход новобрачных был царски торжественен: толпа как-то сумела расступиться, и в узкий проход полетели цветы. Дима помог Леночке взобраться в белую кибитку, запряженную тройкой орловских, и изумительный экипаж во главе бесконечного поезда помчался на другой конец Москвы – на Малую Никитскую.
Дома молодых и их званых гостей ждал грандиозный обед. Самая большая зала жарко протопленного дрягаловского особняка была до тесноты заставлена столами. До мясопуста оставались считаные дни, и, верно, чтобы гости насытились впрок тем, чего за долгий пост им отведать уже не придется, столы прямо-таки ломились от скоромного: поросята лежали ненамного реже того, когда они в лучшие свои дни сосут матку, филеи и копченые окорока занимали целиком аршинные тарелки, сортов колбасы нельзя было и перечислить. Гораздо реже, чем поросята, стояли бутылки. И в основном, по обычаю старообрядцев, это были домашние настойки. В соседнем помещении поменьше разместились певчие и приглашенный Натальей Кирилловной оркестр гармонистов – эта зала была отведена для танцев.
Когда головной экипаж поезда остановился у дома Дрягалова, из дверей вышел сам почетный гражданин. Василий Никифорович, несмотря на мороз, был в одном костюме, в руках он держал образ. Трижды перекрестив сына с невесткой Спасом и дав им поочередно приложиться к нему, Дрягалов пригласил всех откушать хлеба-соли и не заходил сам в дом до тех пор, пока не прошли все до единого гости.
Когда все приглашенные расселись, причем молодых посадили по-старинному – напротив друг друга: Диму вместе с тещей Натальей Кирилловной с одной стороны стола, а Леночку, с отцом и свекром, – с другой; итак, когда все заняли отведенные им места, шафер объявил торжество начавшимся и предложил слово старейшему из гостей – известному фабриканту мануфактурных изделий.
Старик долго поднимался, позвякивая медалями, – его поддерживали под локти соседи, – кряхтел, кахикал. И, наконец, высоким дребезжащим голосом произнес:
– Господа! Позвольте мне предложить тост за новобрачных… – Он запнулся, очевидно, забыв, как зовут виновников торжества.
Ему кто-то из соседей зашептал: «Дмитрия», «Елену». Но престарелый мануфактур-советник, так и не вспомнив, закончил:
– …за новобрачных… князя и княгиню!
– Ура! Ура! Ура!!! – грянули молодые раскатистые голоса со всех сторон.
Старичок, услыхав крики, очень довольный произведенным впечатлением, обвел всех высоко поверх голов улыбающимися мутными глазами и опять с помощью соседей опустился на место.
После первого тоста несколько минут в зале не раздавалось других звуков, кроме позвякивания приборов о тарелки. Потом гости, то со стороны жениха, то со стороны невесты, стали поочередно подниматься и говорить речи и тосты. Коротко и красиво высказался по случаю Сергей Константинович. Он назвал замужество дочери перевернувшейся страницей его собственной жизни. «И, увы, – философски грустно добавил он, – конец этой интереснейшей книги теперь еще на одну страницу стал ближе».
Взяла в свое время слово и Капитолина Антоновна. Старая барыня вполне понимала, что, в сущности, находится в обществе своих бывших крепостных. Но такое общество ей было, пожалуй, самым знакомым, близким, может быть, и самым дорогим. Поднявшись с места, она оглядела всех так по-матерински снисходительно и одновременно так торжественно, что умолкли даже те неугомонные старички-говоруны, которые вечно на застольях, чуть пригубив вина, начинают без умолку что-то рассказывать соседям, не заботясь нисколько о том, слушает ли их вообще кто-нибудь и не мешают ли они прочим.
– Я на своем веку повидала свадеб, может быть, немногим меньше, чем здесь нынче всех людей собралось, – вздохнула Капитолина Антоновна. – Но, право, не припомню другого такого добра молодца жениха и лучшую красну девицу невесту. Разве только моя любезная невестка не уступит. – Она оглянулась на сидевшую от нее слева Таню. – Вот я вошла впервые в этот дом. Увидела хозяина – кормильца-батюшку. – Капитолина Антоновна слегка поклонилась Дрягалову. – Его людей. Устройство. И что же мне, многоопытной престарелой, сразу ясно стало? А стало ясно, что этот дом не будет для молодой той чужою стороной, на которую девица отправляется, будто в каторгу, со слезами горючими и причитаниями. Я увидела здесь людей правильных и основательных, роду честного, богатого. И родители невесты, то есть теперь уж мужниной жены, могут быть покойны – в новой семье дочка ваша не будет падчерицей. Истинно говорю. Но и тебе, лебедь, – сказала Капитолина Антоновна Леночке, – нужно теперь прилежать вдвое против прежнего. Не забывай: добрая жена дом сбережет, плохая рукавом растрясет! А ты, князь, – обернулась она к Диме, – помни наверно: не заботиться о жене – все равно как глаза своего не беречь. Хочется кривым ходить? Или вовсе слепым? Никогда! Вот так и жену береги, как глаз.
Гости натурально заслушались мудрую старицу. Дрягалов, лукаво прищурившись, что обычно у него являлось выражением восторга, смотрел на Капитолину Антоновну, но не забывал поглядывать и на сидевшую с ней рядом Таню, которую он и так уже сегодня иссверлил всю глазами, хоть и старался делать это незаметно. Слова барыни были для Василия Никифоровича в высшей степени лестными. А поучений, высказанных ею молодым, он сам испокон держался.
Когда все неплохо закусили и тосты стали менее связными, шафер объявил первую кадриль, которую молодые танцуют по отдельности, vis-a-vis друг с другом, как это называется по-заграничному: невеста с самым почетным гостем, а жених – с первою дамой на торжестве. С дамой все обстояло просто: таковою, безусловно, являлась Капитолина Антоновна. Старая барыня великодушно приняла ангажемент жениха и показала такое умение, что гости устроили ей потом овацию. А вот самый почетный гость, – а это был, по мнению преобладающей купеческой половины собрания, все тот же мануфактур-советник с медалями, – уже не то что танцевать, с места подняться не мог, а на все реплики в свой адрес отвечал единственно улыбкой и согласным покачиванием головой. Тогда менее многочисленная интеллигентская часть торжества в лице Сергея Константиновича выдвинула своего самого почетного гостя – старинного друга доктора Епанечникова, профессора медицинского факультета. С этим-то профессором Леночка и встала в пару.
После первой кадрили, дождавшись, когда утихнет восторг публики от мастерства Капитолины Антоновны, шафер объявил вторую кадриль, в которой теперь уже жених и невеста участвуют в паре. Тут уж все с удвоенным интересом вытянули шеи, – как же! молодые танцуют вместе! Грянула музыка. И пары закружились.
Тане очень важно было поговорить с Дрягаловым. После его возвращения она так и не выбралась повидаться с ним. А когда Леночка ей сказала, что скоро у них с Димой будет свадьба, Таня решила до этой поры и не торопиться встречаться с Василием Никифоровичем – на свадьбе заодно она все и выяснит, что необходимо.
Взяв под руку царицу бала Капитолину Антоновну, Таня подошла к Дрягалову.
– Василий Никифорович, – на правах старой знакомой, без вступлений и околичностей, сказала она, – позвольте вам представить мою свекровь Капитолину Антоновну.
Дрягалов задержал дольше необходимого свой лукавый взгляд на Тане и затем старательно, но отнюдь не совершенно копируя светские манеры, поцеловал старой барыне руку.
– Безмерно счастлив, сударыня, видеть вас в своем доме, – подавляя чрезмерное веселье в голосе, вежливо произнес он. – Рад также нашему знакомству.
– Ты, батюшка, не чинись со мною, – запросто ответила ему Капитолина Антоновна. – Я всю жизнь в деревне прожила. С мужиками. И салонных разговоров говорить не умею. Давай по-простому.
– Ну, значит, мы совсем свои люди! – обрадовался Дрягалов. – Уговоримся.
– Поздравляю с чудесною невесткой. Право, повезло. Уж я-то кое-что понимаю в этом.
– Так и я, Капитолина Антоновна, маленько разумею. Пожил, небось. Не была бы чудесной, вышел бы моему жениху не венец, а кнутец, – ответил Василий Никифорович вроде бы со смехом, но так убедительно, что обеим его собеседницам стало ясно – они разговаривают с гением места, власть которого в этом доме еще долго не будет никем оспариваться.
Но Таня тут же про себя отметила, что для Леночки с ее покладистою, жертвенною натурой это идеальный свекор. Он, скорее всего, будет за ней ходить, как за дитем.
– Василий Никифорович, – прервала, наконец, Таня собеседников, – мне с вами нужно поговорить.
Дрягалов опять сколько-то смотрел ей пристально в самые глаза и, только выждав немалую паузу, ответил:
– Ну что ж, пойдемте в буфетную. – И он указал рукой на неприметную дверь, ведущую из столовой.
– Слушаю вас, Татьяна… Александровна, кажется, – сказал Дрягалов, когда они уединились.
Таня без лишних слов перешла к делу. Она напомнила Василию Никифоровичу об их первой встрече у него дома почти год назад.
– Вы помните, может быть, мы пришли тогда втроем: я, Лена и еще одна наша подруга – Лиза?
Дрягалов молча кивнул головой.
И тогда Таня изложила ему всю эту эпопею с Лизой, не посчитав, впрочем, необходимым распространяться о своей роли в ее исчезновении – этакое бесконечное самобичевание было бы уже родом гордыни.
– Не так давно мне стало известно, – продолжала она, – что Лиза вошла в тот самый кружок, что собирался здесь у вас. Не могли бы вы помочь: выяснить – где именно она? что с ней? можем ли мы ее, наконец, увидеть?
– Узнаю, – коротко ответил Дрягалов.
– Только у меня к вам просьба, Василий Никифорович, напрямую со мной не связываться. Вы же знаете, мой муж полицейский. Ну и… вы должны понимать… – Таня замялась, – он, прежде всего, человек чести и долга, а потом уже близкий кому бы то ни было. Поэтому, разыскивая подругу, я бы не хотела доставить ей еще какую-то неприятность.
За все время разговора Дрягалов ни на миг не отвел от Тани взгляда, улыбаясь при этом одними только глазами. Теперь же он вполне откровенно усмехнулся.
– Какие могут быть теперь трудности, Татьяна Александровна! У нас же с вами имеется самая надежная посредница – моя невестка. Как что узнаю, расскажу ей. А она уже вас навестит по-дружески. Все выйдет, как у социалистов говорится, конспиративно. Согласны?
Наконец, и Таня от души улыбнулась ему.
– С вами невозможно не согласиться, – ответила она.
– Мы давайте вот что сделаем, – теперь уже Дрягалов не мог остановиться балагурить, – давайте организуем свое тайное общество – заговор троих! – вы, Лена и я. Как смотрите?
Таня не удержалась рассмеяться:
– Почему бы нет! Не вижу никаких препятствий для этого.
Она поднялась, показывая, что больше ей сказать нечего и просит аудиенцию считать оконченной.
Встал со стула и Дрягалов. Но так скоро прекращать приватное свидание с красавицей в уютной буфетной Василий Никифорович, очевидно, не спешил. Старательно напуская на себя серьезный вид, он произнес:
– Нам надо вот что с вами сделать: чтобы заговор не раскрылся, не дай бог, его полагается скрепить общею чаркою вина. Законно! Мы – купечество – люди простые. У нас порядки такие. – Он умолк, испытующе глядя на девушку.
Таня с каким-то новым любопытством смотрела минуту на Дрягалова, потом вдруг в сердцах махнула рукой и сказала:
– А давайте! И мы не гордецы!
Дрягалов достал из буфета бутылку и широкий фунтовый фужер. Он налил в него доверху вина и протянул Тане:
– Из одной чаши…
– За наш заговор! – с иронией произнесла Таня и отпила несколько глотков.
– И за самую прекрасную в свете заговорщицу, – ответил Дрягалов и допил остальное.
Гулянье тем временем продолжалось. Дом ходил ходуном. В танцевальной зале благочестивые и великовозрастные старообрядцы, обычно относящиеся к шумным забавам молодежи предосудительно – «бесовство!», – теперь, раздобрев от обильного дрягаловского угощения, особенно от наливок, с удовлетворением любовались на то, как кружатся с пропащими никонианами их не крепко держащиеся веры внуки, а иные из дедов и сами выходили тряхнуть стариной – пристукнуть каблуками по полу. Оркестр маэстро Кошкодавленко было слышно, наверное, у самых Никитских ворот, – Дрягалов потихоньку наказал музыкантам врезать им так, чтобы четыре части кругом знали – он сына женит!
Между тем, пока малые и старые, объединенные общими интересами, проводили время весело и шумно, Дрягалов собрал в буфетной часть гостей среднего поколения – всех с полторы дюжины. Это были известнейшие московские капиталисты – промышленники и торговцы, – которые, пользуясь случаем, решили обсудить некоторые свои заботы.
В центре внимания этого собрания был, как ни странно, самый молодой из присутствующих – лет тридцати пяти, худощавый, элегантный господин, единственный среди всех чисто выбритый. Несмотря на невеликий возраст, держался он и говорил уверенно, веско, показывая не только значительное образование, но и недюжинные задатки вожака. Не случайно многие, и даже бывшие старше, величали его почтительно по имени-отчеству – Павлом Павловичем.
– Господа! – сказал он. – Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить уважаемого Василия Никифоровича за его радушие и гостеприимство и еще раз поздравить с женитьбой сына.
Дрягалов молча кивнул ему в ответ.
– Но настало время, господа, – продолжал Павел Павлович, – когда за нашими вселенскими разудалыми празднествами, за показным увлечением искусствами, всякими модными веяньями, – он скользнул взглядом по плотному, коротко стриженному, круглоголовому господину, сидевшему в кресле в углу буфетной справа от него, – одним словом, за всем этим вычурным сибаритством, какого не позволяли себе наши отцы и о каком даже не догадывались деды, мы рискуем проглядеть катастрофу, грозящую не только нам лично, – что, в конце концов, такое мы?! – но, главное, гибельную для России! для самого нашего тысячелетнего государственного строя!
– Ты, Павел, это о чем? – строго спросил его Дрягалов. – О какой погибели толкуешь?
– Это, Василий, нас тобой на чистую воду выводят, – отозвался круглоголовый господин. – Так ведь, Пал Палыч?
– Ты сказал, Савва Тимофеевич! – ответил Павел Павлович. – Всем известно, что вы с Василием Никифоровичем водитесь с социалистами. Водитесь! – это ваше дело. Хоть детей их крестите! Но не помогайте им устраивать партии, уже открыто сражающиеся с существующим строем правления! Вы своими капиталами взращиваете силу, которая вас же потом и пустит по миру, когда окрепнет.
– А я, что же, уже не хозяин своему капиталу? – усмехнулся Савва Тимофеевич.
– Разумеется, хозяин, – продолжал Павел Павлович. – Можешь им хоть печку топить. Или съесть с хлебом, как в старину куражились. Но если ваши капиталы будут служить злодеям, восстающим против государства, и, в первую очередь, против сословия капиталистов-эксплуататоров, как они нас называют, мы вынуждены будем позаботиться, как бы защититься от вскормленных вами наших могильщиков. Но прежде от вас самих с вашими капиталами!
Савва Тимофеевич потемнел.
– Ты, никак, угрожаешь мне? – проговорил он страшным голосом сквозь зубы.
– Я предупреждаю, что своими забавами вы наносите ущерб моим интересам, – тоже едва сдерживая гнев, произнес Павел Павлович. – И я намерен любыми средствами, если потребуется, отстаивать свои интересы.
– Господа! Господа! – всполошились кругом. – Пал Палыч! Савва Тимофеевич! Будет вам. Здесь собрались друзья! Разве не так?
– Василий Никифорович, – взяв себя в руки, сказал Павел Павлович, – прости, ради Христа, что приходится говорить неприятности в столь счастливый для тебя день. Но события, происходящие в стране, не позволяют больше бездействовать, не замечать, как на глазах раздувают великий пожар враги, и не обращать внимания на то, как играют с огнем друзья.
Поймите же, господа, – он обвел взглядом всех вокруг, – происходящее теперь в России, это уже не бунт, не мятеж, как пишут в газетах. Это начало революции! Так давайте же действовать согласно, чтобы избежать краха – и личного, и государственного. Для начала нам нужно четко определиться, что всякого рода бунтовщикам мы непримиримые противники. И не то что не поможем им ничем никогда, – напротив, употребим все наши силы и средства на борьбу с ними. Что скажешь, Василий Никифорович? – спросил Павел Павлович без малейшей угодливости в голосе. – Ты с обществом или против?
Дрягалова еще никто так настоятельно не ставил перед выбором и не требовал давать ответа, – посмел бы кто-нибудь у него что-то требовать! Но перед напористостью этого Павла Павловича, перед его могучею волей сроду никому не покорный Дрягалов вынужден был смириться.
– Опоздал ты меня школить, Павел, – старательно маскируя шутливым тоном свое огорчение, произнес Василий Никифорович, – я уж полгода с лишком, как выдал им полную отставку. Верно говорю.
Павел Павлович в ответ только удовлетворенно кивнул головой.
– Твое слово, Савва Тимофеевич, – по-прежнему требовательно, без какой-нибудь нотки заискиванья, сказал он.
Савва Тимофеевич все это время не отрывал от выступающего недружелюбного, уничижительного взгляда, всем своим видом показывая, что этот дерзкий Павел Павлович, осмелившийся ему что-то указывать, покорности от него никогда не дождется.
– Мое слово впереди, – вызывающе иронично ответил он. – И надзору за моим словом никогда не было и не будет.
Павел Павлович помрачнел и отвернулся.
– Ну что ж, – проговорил он, – каждый сделал свой выбор. Каждому за свое и отвечать.
– Да ты, Пал Палыч, погоди ершиться на Савву Тимофеевича, – решился примирить стороны добродушного вида господин в сюртуке английского покроя. – Я хотя сам социалистов этих в глаза не видел, но мне сын рассказывал, – он-то у меня образованный, вроде тебя, – так вот он говорит, что, подталкивая их бунтовать, капиталисты, как бы сказать, слагают с себя заботы о своих фабричных – пусть-де у власти теперь голова болит, как бы управиться с бунтовщиками. Скажем так, они забастуют, как обычно, будут просить надбавок – и ничего не поделаешь, придется мириться – накидывать им. А если при помощи этих лукавцев-социалистов направить их бунтовать, требовать не только надбавок к жалованью, а еще и призывать к свержению самодержавной власти, вот как теперь, к примеру, выходит, то им одна только прибавка будет – нагайка от царя. А наш брат хозяин в результате ничего не потеряет. Вот так.
Павел Павлович едва заметно поморщился.
– Известная теория, Афанасий Васильевич, – ответил он. – Мне она хорошо знакома. Но это не более чем иллюзия. Опасное заблуждение! – Павел Павлович, несомненно, говорил это, прежде всего, своему непримиримому оппоненту, хотя после их последнего обмена репликами он ни разу даже не посмотрел на Савву Тимофеевича. – Такой прием был бы хорош в прежнее царствование, когда государственная власть находилась действительно в надежных, могучих руках. Но нынешний, с позволения сказать, самодержец в своей собственной семье не хозяин, не то что в целом государстве. У него все валится из рук. Решительно! Войну он, вне всякого сомнения, проиграл. Потеряет и самую Россию рано или поздно. Потому что безвольный и бездарный, – вместо него державой правят всякие временщики-авантюристы, вроде Безобразовых! да немки – жена и свояченица! Настало время, господа, когда нам, представителям крупного капитала, нужно брать судьбу России в свои руки. Выродившееся дворянство, все эти опереточные князья и графы, уже не в состоянии исполнять позитивную государственную роль. Сама жизнь возлагает ответственность за судьбу отечества на нас – русских капиталистов. И мы не должны – не имеем права! – промедлить принять на себя эту ответственность! Мы к ней готовы!
Павел Павлович сделал секундную паузу и, вдохновенно оглядев присутствующих, продолжил:
– Господа! Я уполномочен своими единомышленниками, – он слегка кивнул головой кому-то из присутствующих, видимо, тем лицам, о ком шла речь, – уполномочен заявить, что в самое ближайшее время нами будет учреждена торгово-промышленная партия, представляющая интересы крупного русского капитала. То есть наши с вами интересы. Если существуют партии, имеющие цель разрушить Российское государство, то нелепо не появиться организации, добивающейся прямо обратного – укрепления державы. Нисколько не сомневаюсь, господа, что мы найдем в вашем лице полное понимание и всемерную поддержку. Сейчас, как никогда, важно нам всем выступить сообща.
Едва Павел Павлович закончил свою речь, буфетная ожила, загудела, будто растревоженный улей. Все разом заговорили, принялись высказываться и обсуждать услышанное. Со своего места поднялся, чтобы привлечь к себе внимание, самый немолодой – лет шестидесяти – из собравшихся здесь гостей. Присутствующие притихли, когда он начал громко говорить:
– Ты, Павел, скажи прямо: сколько нам платить придется?..
Его прервал раскатистый хохот Саввы Тимофеевича.
– Браво! Павел Григорьевич! – давясь от смеха и утирая слезы, с трудом выговорил он. – Ну ты, как всегда, в самый корень зришь!
– А я жизнь прожил! – продолжал греметь Павел Григорьевич. – И не знаю такого, чтобы у нашего брата не спрашивали денег хоть на какое учрежденье: собрание открывать хотят – плати! клуб новый строить – плати! биржу в тот раз расширяли – опять плати! Теперь вот партия! – неужто бесплатно нам ее дадут? – нате пользуйтесь! Я сроду еще даром ни от кого ничего не видел! Говори, Павел, как на духу!
Павла Павловича, видно было, все это очень задело – и неудобные вопросы старого мануфактурщика, и – особенно! – явно издевательский смех Саввы Тимофеевича. Звеня металлом в голосе, он отчеканил:
– Вам, Павел Григорьевич, человеку заслуженному и уважаемому, я, так и быть, скажу, как на духу: не захотите помогать партии, отстаивающей ваши интересы, сделаетесь добычей других партий, люто ненавидящих и вас, и самую Россию! Они-то церемониться не будут! – возьмут все подчистую! до самых сережек ваших внучек! Эти господа на днях в Кремле продемонстрировали, на что способны! Нравится так? Воля ваша – выбирайте!
Напоминание о недавнем страшном убийстве московского главнокомандующего – великого князя – произвело на присутствующих гнетущее впечатление. Павел Павлович угадал – его аргумент прозвучал в высшей степени убедительно. Возражать никто больше ему не спешил. И даже между собой гости теперь не переговаривались. Немую сцену прервал Дрягалов. Он по-хозяйски откашлялся и сказал:
– Ну вот что, братцы-капиталисты, послушайте тоже не юнца. Кажись, и вправду нам надо эту партию учреждать. Павел вот напомнил о моей прежней дружбе с социалистами. И, скажу вам, добра от них не будет! Пройдохи что надо! Верно знаю! – они больше инородцы всё и Россию самую ни во что не ставят! Она, матушка, для них чужая. А когда чужое кому было дорого? Так что, если мы можем как-то помочь их унять, надо помогать! Не то будет поздно. Вот вам мое слово.
Павел Павлович одобрительно кивнул Дрягалову.
– Итак, господа, – ободренный поддержкой, уверенно произнес он, – дело это исключительно добровольное. Никто никого неволить не собирается. Как порешите, так и будет.
– Что ж там решать… – за всех ответил Афанасий Васильевич. – Кто пойдет против своих интересов? Никто. Если эта партия будет нам на пользу, то, ясное дело, все за нее.
Следом оживились и прочие. Заговорили. Причем несогласных реплик слышно не было.
Прямодушный Павел Григорьевич опять по своему обыкновению спросил без околичностей:
– Ты уж говори, Павел, сразу: что от нас-то требуется, кроме согласия?
– Требуется очень многое. Но, прежде всего, нам необходимо решительно, бескомпромиссно стоять на своем! Нужно показать власти, что мы реальная могучая сила и главная для нее теперь опора. А выступить со своими идеями нам придется, видимо, в самое ближайшее время. Господа! – торжественно произнес Павел Павлович. – По вполне достоверным сведениям из Петербурга, сейчас на самом высоком правительственном уровне обсуждается вопрос об учреждении Государственной думы. Это парламент, господа! Как повсюду в Европе буржуазия при помощи парламента влияет на политику – и внутреннюю, и внешнюю, – так и мы, получив представительство, сможем в своих интересах определять русскую политику. Осенью, по всей видимости, уже состоятся выборы в Думу, и нам нужно сделать все возможное, чтобы наша партия там была самою влиятельною. А вот для этого, – Павел Григорьевич, я отвечаю на ваш вопрос, – для этого действительно нам придется понести известные расходы, которые – уверяю вас! – вернутся сторицею. Когда вы нанимаете сторожа для своего имущества и кладете ему жалованье, вы, естественно, терпите издержки. Но если вы сэкономите на стороже, потери ваши в результате будут куда как большими. Вы должны понимать, партия – это тот же сторож наших интересов, нашего благополучия.
– Да я не против, – отозвался Павел Григорьевич. – Я разве что! Разобраться хотел. Только и всего. Надо – заплатим.
Павел Павлович рассказал о предстоящем съезде их торгово-промышленной партии и пригласил всех принять в нем участие.
– Как ты, Савва Тимофеевич? – с иронией спросил он, таким образом, уже не призывая своего возражателя к согласию, а, напротив, не позволяя ему присоединиться к большинству. – Со всеми или опять сам по себе?
– Я со всеми сам по себе, – отозвался Савва Тимофеевич. – Увы, господа, не смогу принять участия в вашей партии: я скоро выезжаю на лечение за границу. Когда вернусь, не знаю…
– Что ж, пожелаем здоровья Савве Тимофеевичу, – как-то загадочно-многозначительно произнес Павел Павлович.
* * *
Таня оказалась совершенно права, подумав, как, наверное, старший Дрягалов полюбит кроткую, трудолюбивую свою невестку, как будет заботиться о ней, опекать ее. Только Таня несколько опоздала с таким выводом: позволив сыну жениться, Василий Никифорович уже вполне составил представление, кто такая Леночка, уже разглядел ее всю насквозь и полюбил всею душой. Времени, проведенного вместе с ней в путешествии, ему для этого более чем достало.
Вполне осознавая, что его образованная невестка сидеть безвыходно дома в светлице за бесконечною пряжей – этим символом женской доли в патриархальном семействе – не будет, Дрягалов вскоре после свадьбы предложил Лене достойное занятие – быть главною счетоводкой над всеми его магазинами. Он планировал к осени наконец отстроить новый, самый большой из всех, магазин на Мясницкой со счетоводческою конторой при нем и посадить туда Лену начальницей. Но Лена попросила Василия Никифоровича никакими властными полномочиями ее не наделять и начальственных должностей не предлагать. У нее были другие планы. Она еще в Китае, насмотревшись на раненых, на их муки, решила, что, возвратившись в Москву, непременно пойдет учиться на медицинские курсы и станет, как папа, докторицей. А пока, чтобы не сидеть дома, – она и дня не выдержала бы в затворе! – Лена поступила сестрой милосердия в госпиталь, где служила ее подруга Таня.
Но если Лена все-таки предпочла бы оставаться дома, неприятности от такого ее замкнутого времяпрепровождения отчасти искупались бы приличным комфортом существования. Старший Дрягалов об этом позаботился исключительно добросовестно. Прежде всего, он полностью выделил молодым их половину – весь второй этаж. Василий Никифорович сразу объявил Диме и Лене, что в этих покоях отныне они полные владельцы. Узнав, что невестка обучена музыке, он попросил Лену непременно перевезти от родителей ее «Беккер». А сам еще поставил им в гостиную музыкальную машину Патэ.
Сам Дрягалов не держал никаких иных книг, кроме религиозных. Но, зная об обычае благородных семейств иметь библиотеки, Василий Никифорович подсказал Диме завести им с Леной сочинителей: может быть, невестка почитать чего захочет на досуге. Дима не замедлил исполнить дельный родительский совет: он в ближайшее воскресенье взял батюшкины санки и поехал на Сухаревку. Возвратился Дима довольный, счастливый с целым чемоданом добротно переплетенных, с кожаными тиснеными корешками, книг. Как Лена смеялась, когда вечером разбирала покупки мужа: самыми ценными экземплярами в этой их благоприобретенной семейной библиотеке были Боборыкин, Пазухин, Потапенко и Жорж Занд, остальное – вообще что-то на уровне милорда глупого.
Зато у Леночки с тех пор появилась новая интереснейшая забота: она очень тактично, чтобы не дай бог не уязвить Диминого самолюбия, стала просвещать его во всяких эстетических отраслях, в чем бывший реалист, конечно, существенно уступал бывшей гимназистке. Едва прошел пост, она стала водить Диму по театрам. Но, прежде всего, Лена взялась за литературу. Так, вечерами она брала книгу, – не из тех, разумеется, что принес Дима, а что-то из своего собрания, – и, найдя там какой-то полезный, с ее точки зрения, фрагмент, принималась читать вслух. Дима очень уважительно относился к забавам любимой, – он слушал ее внимательно, никогда не перебивая, и лишь по окончании чтения иногда задавал какие-то вопросы. Так уже за первые недели супружества, наставляемый отменно образованною и изумительно учтивою женой, Дима познакомился с лучшими образцами творчества самых знаменитых русских авторов.
Скоро слух о литературных занятиях во втором этаже главного дома распространился по всей дрягаловской усадьбе. Сам владелец заинтересовался узнать: что за представления устраиваются у молодых? И как-то Василий Никифорович попросился у Леночки позволить ему тоже послушать их чтения. Разумеется, Лена не возражала. В тот вечер она читала последнюю пьесу ее любимого недавно умершего Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Дрягалов не просто заслушался, – он натурально участвовал в пьесе, так велик был его интерес. После иных монологов или реплик Василий Никифорович восклицал: «Законно!», – если был согласен с персонажем; или чаще: «Ну уж!», «Как не так!», «Вот что делают!», – если ему что-то приходилось не по нраву. Единственное, на слова Лопахина он никак не отзывался, но только хитро щурился, иногда усмехался и скептически покачивал головой.
Так у них эти семейные вечера с книгой вошли в обычай. Причем вскоре к ним присоединился и еще один участник, – Мартимьян Васильевич также пожелал быть слушателем своей новой родственницы и почти всякий раз теперь велел слугам поднимать его с коляской в апартаменты к брату.
От души приветствуя Леночкины планы учиться на курсах и прямо восторгаясь ее подвижническою службой в госпитале, Василий Никифорович, тем не менее, не оставил идею и как-то занять невестку по дому. Нет, он вовсе не заботился, как бы недюжинные способности и добродетели его невестки, находящие применение в основном где-то в общественной сфере, использовать, прежде всего, именно в их семейных интересах, – Лену никто ни в чем не неволил. Но Дрягалов пекся о том, чтобы иные, пускай и чрезвычайно важные, заботы не помешали ей стать настоящею хозяйкой в доме: а то если сразу не привыкнет, потом и подавно не захочет хозяйствовать. А тогда и самой туго придется, и сына Дмитрия ничего хорошего не ждет, – на что ж тогда было жениться?
Дрягалов, разумеется, и в мыслях не имел обязать Лену исполнять черную работу: там, скажем, надзирать за кухарками, руководить горничными, а то и самой взять часть их забот. Он придумал для нее должность достойную и почетную – быть распорядительницей на всех домашних торжествах. Тут уж без дела не останешься! – в доме постоянно какие-то званые: то на праздник, то на чьи-нибудь именины, то по поводу заключения сделки. Только успевай принимать. Причем, если прежде у Дрягалова гости бывали в валяных сапогах и поддевках на крючках, имевшие всего ученья – от отца лозою и довольствующиеся угоститься единственною чаркой водки, то теперь его навещали почти сплошь господа с университетским образованием, в накрахмаленных пластронах под фраками, тонкие ценители заграничных вин и из отечественной кухни предпочитающие только resturgeon и caviar grenu [31], как они заучили по парижским меню. Понятно, для таких визитеров и прием должен быть соответствующий. Таких встречать в сенях рюмкой на блюдце не будешь.
Убежденный, что Леночка обучена всяким культурным манерам, как первая царская фрейлина, Василий Никифорович и попросил ее завести у них в доме приличествующие особе почетного гражданина церемонии. Чтобы, говорил Дрягалов, ему не показаться в глазах разных высоких господ каким-нибудь захудалым купчишкой из безуездного городишки.
Леночка, выслушав эту просьбу, едва не рассмеялась, но, вовремя сообразив, что Василий Никифорович отнюдь не шутит, обязалась быть полезной, насколько возможно. Она было рьяно принялась за дело – составила целый список для свекра и мужа: что им требуется переменить в интерьерах, что купить, кого из слуг еще нанять и прочее. Но появление одного довольно пикантного обстоятельства заставило Дрягалова решительно переменить виды на невестку.
Дима, хотя и узнал об этом обстоятельстве почти сразу после свадьбы, но только на Светлое воскресение, очевидно, в виде дорогого пасхального подарка рассказал отцу, что те его предположения относительно Леночки совершенно подтвердились: она в интересном положении уже все пять месяцев и вот-вот ноша ее будет заметною. Услыхав новость, Дрягалов опрометью, стуча башмаками, как на пожаре, кинулся во второй этаж. Он ворвался в комнату к Лене, схватил ее, оторопевшую, и поцеловал в самые губы, да так яростно и страстно, что девушка пошла вся красными пятнами от смущения и молящими о пощаде глазами поискала кругом: где же Дима? Но Дима лишь улыбался, радуясь, верно, за отца так же, как и за них самих с Леной.
После этого Дрягалов окружил невестку заботой истинно отеческою. Он стал ходить за ней, как за малым дитем. Прежде всего, он Лене настрого наказал госпиталь теперь оставить. Затем он отменил до известного срока свое же недавнее пожелание быть ей отныне распорядительницей всех их домашних торжеств. Да и все торжества до рождения внука Дрягалов тоже отменил. А если кто и приходил к нему в эти дни по делу или праздно, то Леночка, по велению батюшки, гостям даже не показывалась, – Василий Никифорович боялся чьего-нибудь дурного глазу. Он посадил невестку в комнаты под надзор двух нянек, да велел им, чтобы отнимали от нее кота – не дай бог погладит! И сам с тех пор ежедневно наведывался справиться: каково ей чувствуется? Лишь одна Таня не знала никаких ограничений в посещениях подруги и заглядывала теперь к ней едва ли не каждый день.
Установленный в свое время с Таней договор Дрягалов исполнил добросовестно: еще задолго до заключения Лены в затвор, он, что сумел, выяснил об их подруге Лизе. Но сведения, увы, он раздобыл самые неутешительные.
Для Василия Никифоровича не составило труда связаться с Саломеевым и по старой их дружбе обо всем расспросить, что интересовало Таню с Леной. Саломеев – многоопытный подпольщик-конспиратор, – разумеется, прекрасно знал, о чем ему можно рассказывать кому бы то ни было, а что нужно даже из собственной памяти вычеркнуть, чтобы оно как-нибудь ненароком не обнаружилось. Поэтому он открыл Дрягалову лишь то, что не представляло опасности ни лично для него, ни для возглавляемой им революционной организации, ни для его начальствующего из охранки. Прежде всего, Саломеев подтвердил, что действительно девушка, которой интересуется Василий Никифорович, недолгое время состояла в организации. Но с тех пор как еще осенью она, вместе с одним их товарищем, уехала в Иркутск, ему – Саломееву – о них ничего не известно.
Все это Дрягалов пересказал Тане с Леной. После чего подруги решили больше времени впустую не тратить и вообще отказаться разыскивать Лизу. Никаких средств для этого они больше не видели.
Глава 4
Взявшись однажды служить двум господам – двум взаимопротивным силам, – Саломеев накрепко, до самой глубины души, усвоил правило дуть заранее на воду, пока еще не обжегся на молоке, и, прежде всего, быть осторожным в своих речах: говорить с кем бы то ни было по возможности или совсем о пустом, или если уж приходится обсуждать с какими-то более или менее близкими лицами нечто небезопасное для тайного его двоедушия, то, по крайней мере, поменьше открываться, недоговаривать, стараться увиливать выдавать сведения.
Так и Дрягалову он на всякий случай не стал рассказывать о своих посланцах все, что знал сам, – о случившейся не без его участия катастрофе с Гецевичем и его спутницей Саломеев, естественно, умолчал. Самому же ему было известно об этом сразу из двух источников: от иркутских товарищей, пославших в Москву по эстафете весть о происшествии, и еще раньше от шефа из охранки, скупо обмолвившегося при очередной встрече, что их комбинация с подставными террористами реализована.
Но, принеся в жертву соратников, Саломеев вдруг хватился, что возглавляемая им организация вступала в новый, сулящий большие сражения 1905 год до предела поредевшей и практически бессильной: один ренегат сбежал за границу и, как рассказывают, плохо там кончил, двое самых отчаянных и перспективных участников оказались в солдатах, и вернутся ли вообще – не известно, двое других, в том числе первый в кружке мыслитель, погибли, еще несколько незначительных случайных людей под разными предлогами устранились от дел после того, как организации отказал и покинул ее кредитор – Старик, – на котором, оказывается, в значительной степени все и держалось. Так что же у него осталось? – он сам, Хая Гиндина и еще этот гнусный подсадной Попонов. Хороша компания! – невесело усмехнулся он про себя.
Саломееву было очевидно, что охранке известны все его кружковцы наперечет, будто их назначали к нему прямо из Гнездниковского переулка. И продолжать с этим мириться для него означало решительно превратить свою организацию в филиал Московского охранного отделения или в некое странное совместное владение охранки и сыска, вроде англоегипетского Судана. Ни то ни другое в его планы отнюдь не входило. Он отчетливо представлял, что интересен полиции до тех пор, пока является в социалистическом движении фигурой, от которой что-то зависит. Поэтому с ним считаются, им дорожат, не скупятся на вознаграждение и, может быть, даже – кто знает? – уважают. Но если под его контролем не останется ничего недоступного для государственной власти, то ее интерес к нему попросту пропадет. Какую ценность он тогда будет из себя представлять? Кто и за что ему станет платить?
Придя к такому выводу, Саломеев решил предпринять меры по укреплению своей организации и по активизации ее деятельности. Но только так, чтобы результат этих усилий теперь безраздельно принадлежал ему одному. А если его партнеры из охранки и сыска захотят поучаствовать в этом предприятии, им придется, безусловно, принимать выставленный счет. И пусть не надеются на скидки! Счет будет таков, что по сравнению с ним отступные, полученные прежде Саломеевым за Мещерина с Самородовым от старых партнеров и за Гецевича с Гимназисткой от новых, будут выглядеть просто нищенским подаянием. Но это и справедливо: надвигается большая смута, следовательно, и цена его сотрудничества не может оставаться той же, что в прежние, относительно спокойные времена.
За зиму Саломееву удалось привлечь к участию в кружке троих молодых людей, причем каждый из новичков был на редкость ценным приобретением. Один из них, по фамилии Мордер – изгнанный за неблагонадежность из технического училища студент, – жил теперь в Москве нелегально и грезил, как бы только, по его словам, отворить этой стране кровь.Саломеев сразу смекнул, что этот Мордер будет очень полезен в обоих направлениях его деятельности: во-первых, он беспрекословно исполнит любое задание, и чем более дерзкое, чем более «революционное», тем охотнее; а во-вторых, если Саломееву потребуется в очередной раз доказывать полиции, что он не даром кормится от ее щедрот, то лучшего доказательства, как предъявление головой этого инородца – озлобленного ненавистника власти и самого государства, – невозможно и придумать.
Еще одним новым участником стал прапорщик расквартированного в Крутицких казармах Ростовского полка Фердоусенко. Его порекомендовали привлечь к работе товарищи из комитета. При встрече, рисуясь чуть ли не главнокомандующим, этот прапорщик заговорщицки и гневно шипел Саломееву в самое лицо: «Пора распрямлять спину! Время отсиживаться в барсучьих норах прошло! Надо действовать! Действовать! Я подниму солдатские массы! Я приведу под наши знамена тысячи штыков! Мы сметем кучку лакеев денежного мешка!» Это все были штампы из социалистических брошюрок, может быть, и из того же Гецевича, которых Фердоусенко, очевидно, вдоволь начитался. Саломеев понял, что этот офицерик, несомненно, мечтающий о бесподобной наполеоновской карьере, составленной на революционной волне, редкостный пустослов, натуральный долдон, и вряд ли от него вообще следует ожидать сколько-нибудь значительной пользы. Хорошо еще, если вреда не будет. Но наступившее безрыбье вынуждало не отказываться теперь даже от такого балласта.
Впрочем, Саломееву не нужно было мучительно выдумывать, для чего может ему пригодиться такой субъект, – уж его-то я надолго при себе не задержу, решил он.
По-настоящему ценным приобретением был для Саломеева третий новичок – Тихон Клецкин. На первый взгляд могло бы показаться, что если студент и офицер являлись сомнительно полезными участниками организации, то уж какой там пользы ждать от… малограмотного извозчика. Но Саломеев верно рассчитал, кто и каким образом ему сможет послужить. И если первых двух новых товарищей он заранее записал в кредит, приготовив их, как на убой, для расчета по обязательствам перед полицией, то Клецкина Саломеев ставил в самую высокую строку дебета, поскольку отводил ему важнейшую роль в своей антиправительственной деятельности, которую он собирался втайне от охранки и сыска развить с новою силой. Такое значение этому, казалось, незначительному простолюдину Саломеев придавал по ряду причин. Прежде всего, потому, что Клецкин, как Саломеев знал доподлинно, был абсолютно не запятнан какими-либо связями. Какие могут быть связи у двадцатипятилетнего деревенского парня из калужской глуши? Кроме того, Клецкин имел зуб на власть, обошедшуюся, по его мнению, не по-божески сего фамилией: местный земский начальник – сущий мироед!– посадил в тюрьму отца Клецкина за то, что тот всего-то посмел перечить как-то ему.
Познакомился с Клецкиным Саломеев случайно. Осенью он ездил по делам в Калугу и, прогуливаясь по городу, заглянул, между прочим, на базар, чтобы послушать, о чем народ толкует. Здесь он и встретил Клецкина, – тот продавал лошадь.
Разговорившись с ним, Саломеев узнал, что на вырученные деньги малый собирается поехать в Москву и пристроиться к какому-нибудь делу, – он умел по столярной работе и был уверен, что в огромном городе вполне прокормится своим мастерством, вот только бы инструмент хороший справить!Саломеев посоветовал ему лошади не продавать, а ехать на ней в Москву и поступить там в извозчики. Пока еще Саломеев отнюдь не думал вербовать этого парня. Но судьбе угодно было сделать их товарищами.
В последний день, когда он уже собирался распрощаться с тишайшею Калугой, Саломеев неподалеку от вокзала встретил своего знакомца. Клецкин ехал куда-то в нагруженной доверху сеном телеге. Оказалось, он внял случайному совету и теперь держал путь в самую Первопрестольную. Он даже предложил Саломееву не тратиться на билет, а ехать вместе с ним. Саломеев подумал, а почему бы ему действительно не провести несколько дней на душистом сене среди живописных пейзажей, – погода чудесная, дни стоят солнечные, да и опять же полезное общение с простым народом в лице этого калужанина… Одним словом, через минуту Саломеев, свесив ноги, покачивался в крестьянской телеге.
И вот в долгой дороге парень признался, что на самом-то деле планы у него совсем не те, что он поведал давеча на базаре. Он рассказал попутчику в сердцах, что жизни ему нету никакой, хоть в омут сигай: отца посадили, мать померла, невеста его обманула и теперь замужем за другим. Куда ни кинь, всюду клин. И инструмент он хотел заиметь вовсе не столярный. Наслушавшись всяких сплетен-толков, что нынче в России какие-то бедовые люди – революционеры – повсюду стреляют и взрывают начальство, он вздумал как-то разыскать этих удальцов, приобрести у них адскую машину, и ни много ни мало взорвать к ядреной матери земскую управу вместе с ненавистным начальником.
Саломеев просто-таки подскочил на сене, как ужаленный. Вот это случай! Вот это находка! Этот простак из захолустья может стать ему ценнейшим, незаменимым соратником!
Открытие было сделано где-то на полпути между Калугой и Малоярославцем. А в сам Малоярославец спустя несколько часов Тихон Клецкин въезжал уже довольно подкованным социалистом. Он узнал, что в его бедствиях виноват не какой-то мелкий самодур – никчемный земский начальник, а существующий государственный строй. И адские машины подкладывать нужно не под отдельных исполнителей законов, а вернее беззаконий, на которых покоится государственная система, но необходимо решительно взрывать самую эту систему, самое государство, и тогда вместе с ним провалятся в преисподнюю и все беззакония, и все – большие и малые – исполнители, и, разумеется, этот обидевший Тихона чиновник. Вот тогда и наступит настоящее царство добра и справедливости.
Просветив крестьянина таким образом, Саломеев осторожно, будто бы ничего такого конкретного не имея в виду, поинтересовался: а не согласился бы он, когда бы вышел случай, поучаствовать в благородной борьбе со злобными силами, гнетущими простой трудовой люд? На удивление, парень тут же показал недюжинный ум, спросив: неужели от него, темного крестьянина, может быть какая-то польза в этой благородной борьбе? на что еще годен их брат мужик, кроме как урядника поддеть на вилы? Но Саломеев, предусмотрительно и скромно не раскрывая своей роли в революционном движении, заметил, что значение каждого участника борьбы зависит от его руководителя: иногда самый, казалось бы, невеликий, забитый, задавленный жизнью человек может принести огромную пользу, если его действия будет направлять опытный, мудрый и образованный старший товарищ. Понятно, так щедро лестно Саломеев характеризовал самого себя. Тут уж Клецкин без колебаний попросился принять его в революционеры-.да я ж их!., мы ж их!.. – и не в силах выразить охвативших его чувств, он хлестанул кнутом лошаденку, будто вкладывая в удар всю накопившуюся ненависть к несправедливому мироустройству или демонстрируя, как он будет немилосерден ко всем народным захребетникам. Так Саломеевым был завербован новый участник.
И вот как Саломеев придумал его использовать. Посоветовав Клецкину заняться извозом, он предполагать не мог, какой находкой это окажется для него самого. Лучшего помощника он не нашел бы и среди многоопытных, прошедших тюрьму и каторгу, заговорщиков. Самым ценным было то, что Клецкин нисколько не мнил себя, как почти все революционеры, ницшеанским героем – сверхчеловеком, явившимся в мир для исполнения миссии планетарного масштаба, и никак не меньше. Будучи очень неглупым человеком, Саломеев видел, что лучшие его товарищи-кружковцы относятся к нему, может быть, как к первому среди равных, но в душе зачастую почитают за этакого старшину клуба, задача которого служить посредником, связным между ними – просвещенными высоколобыми борцами за идею, – быть неким стрелочником в их революционном движении и еще добытчиком для них средств к существованию. Другое дело этот Клецкин: никаких честолюбивых претензий он, очевидно, не имеет – он четко знает свое невеликое место, свою скромную роль в деле, и с подобострастным почтением, с патриархальною покорностью будет относиться к ученому руководителю. К тому же он убежден, что своим, на первый взгляд незаметным участием рассчитывается с обидчиком – земским начальником. Так внушил ему Саломеев.
А уж ремесло Клецкина вообще оказалось для Саломеева золотою жилой: столько сведений, сколько стал доставлять ему Извозчик, – такой клички от него удостоился Клецкин, – он не получал от всех прочих кружковцев, вместе взятых. Изумительно удобно, безопасно, а главное, практически недоступно для соглядатаев Саломееву теперь стало сообщаться со всякими товарищами – и из своей организации, и из других. К примеру, ему нужно было передать кому-то связку листовок или брошюр, отпечатанных в поднадзорной типографии. Раньше такую пустячную задачу было решительно невозможно исполнить так, чтобы об этом тотчас не стало известно охранке. И, встречаясь с кем-то в условленном месте, Саломеев знал, что сейчас за ним наблюдает кто-нибудь из медниковских филеров, почему чувствовал себя в такие минуты подопытною букашкой, которую разглядывают под микроскопом, или куклой-марионеткой, приводимой в движение невидимыми прочными нитями.
Теперь же всех возможных соглядатаев он легко оставлял с носом. Отправляясь на встречу с кем-то, Саломеев вскакивал, как могло бы показаться, на первого подвернувшегося извозчика. Но отнюдь не для того, чтобы ускользнуть от горохового пальто, – в данном случае такого приема и не требовалось. Трюк, придуманный Саломеевым, заключался в том, что он, сколько-то проехав на извозчике, расплачивался и, как ни в чем не бывало, шел дальше по своим делам. А извозчик затем, через два-три квартала, подбирал нового седока, который благополучно находил под сиденьем некий сверток или послание от руководителя.
Так Саломеев стал управлять своим кружком. Он ни с кем вроде бы не встречался – об общих собраниях вообще уже не было речи, – но со всеми умудрялся поддерживать связь, и все своевременно получали от него указания к действиям.
После введения Саломеевым такого метода работы не прошло и месяца, как в Гнездниковском переулке почувствовали, что отлаженная вроде бы система контроля над одной из социалистических организаций, а через нее и над всем социалистическим движением в Москве, дает сбой.
Чиновник московского охранного отделения разработал хитроумную схему надзора над социалистами и их ликвидации: при помощи переданной Саломееву в пользование типографии он, как бы сказать, метил либо отдельных лиц, либо даже целую цепочку, по которой распространялись запрещенные печатные произведения. Это происходило следующим образом: выследив, кому Саломеев передавал те же листовки, а бескомпромиссный гений революции прежде умышленно не таился, филер провожал затем того человека, куда бы он ни направился. И если он относил листовки домой, к нему этой же ночью приходили с обыском и брали заговорщика с поличным – с запрещенной литературой. Или устанавливали за квартирой наблюдение – кто-нибудь да придет к нему вскоре за листовками, – и тогда полиция арестовывала обоих – хозяина и гостя. Или позволяли ему отнести листовки куда-то – например, на фабрику – и там хватали и его самого, и всех, к кому эти черные метки попали в руки. Всего за относительно непродолжительное время действия бесподобной по простоте комбинации охранному отделению удалось арестовать по Москве не один десяток социалистов и множество их случайных последователей. Изумительно результативная работа московской охранки не могла остаться не замеченной в Петербурге: на Гнездниковский просто-таки посыпались разного рода начальственные благодарности – от орденов и чинов до денежного вознаграждения.
И вот Викентий Викентиевич стал замечать, что он все менее контролирует деятельность социалистов. Произведения его типографии появляются то тут, то там, а каким путем, через кого именно они доходят до адресата, охранке не известно. Одно проницательному чиновнику было безусловно ясно, что сотрудник – самый дорогой по издержанным на него средствам! – что этот сотрудник повел свою собственную игру, нисколько не считаясь с их прежним договором.
Догадавшись об этом, Викентий Викентиевич назначил немедленно свидание Саломееву. Встретились они, как обычно, в трактире на Зацепе. Держать ответ Саломеев был вполне готов, – он ожидал переполоха в охранке от своих произвольных действий. Самый взгляд Викентия Викентиевича не предвещал ничего доброго. Было видно, что он негодует на ослушника, но пока сдерживает гнев. На его процеженные сквозь зубы вопросы – в чем дело?! как это понимать?! – Саломеев резонно заметил, что, если он будет работать только на охранку, его скоро разоблачат товарищи-социалисты. Потому что все аресты и провалы последних месяцев так или иначе ведут к нему – к Саломееву. Если охранное отделение заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с ним, ему необходимо в равной степени показывать товарищам свою полезную, заметную антиправительственную деятельность. Если же, продолжал Саломеев, охранное отделение им не дорожит и готово принести его в жертву своим сиюминутным интересам, тогда, конечно, оно может требовать от него прежнего беспрекословного послушания и полной отчетности. Викентий Викентиевич отмяк, – он нашел рассуждения сотрудника не лишенными здравого смысла. Действительно, нельзя же все время стричь, не позволяя шерсти отрасти заново! Нельзя же только требовать от сотрудника исполнения службы, не интересуясь, как он уладит свои обязательства перед противною стороной! Коня и того на зиму расковывают – дают выгуляться! Одним словом, чиновник нашел претензии Саломеева справедливыми.
Тогда же сотрудники заключили новое соглашение. Саломеев обязался продолжать обеспечивать охранное отделение сведениями в прежнем объеме, но при условии, что охранное отделение одновременно предоставит ему волю бесконтрольно и неограниченно участвовать в революционном движении. Согласившись с претензиями Саломеева, Викентий Викентиевич признавал его отныне равным партнером, целиком полагаясь на добрую волю сотрудника в доставлении сведений. Причем обязывался по-прежнему выплачивать ему вознаграждение за сотрудничество. И даже повысить таковое.
Так прошло несколько месяцев. По тому, что за это время охранка не арестовала никого из круга общения Саломеева, кроме Фердоусенки и еще двух таких же бесполезных людей, выданных по его же наводке, он понял, что в Гнездниковском переулке договор с ним соблюдается.
Однажды, где-то уже весной, чиновник охранного отделения в очередной раз назначил Саломееву встречу.
Когда Саломеев подсел к ожидавшему его за чашечкой кофею Викентию Викентиевичу, к ним тотчас подбежал половой, – вне всякого сомнения, тоже не чужое для охранного отделения лицо. Не удостоив человека хотя бы взгляда, чиновник небрежно и слегка раздраженно махнул рукой, показывая, чтобы тот их оставил. Вообще Саломееву в последние их встречи стало казаться, что Викентий Викентиевич досадует, а может быть, и старается не показывать брезгливости, оттого что ему теперь приходится признавать ровней того, с кем он совсем недавно держался барственно-высокомерно и с кого спрашивал едва ли не как с прислуги, не церемонясь. Очевидно, Викентию Викентиевичу чувствовалось с Саломеевым теперь так же некомфортно, как Ивану Карамазову со Смердяковым, когда выяснилось, что последний доводится ему родней.
Не поинтересовавшись даже для приличия, не желает ли Саломеев чего-нибудь заказать, чиновник сразу перешел к делу:
– Нам известно, что в последнее время вы значительно укрепили и пополнили вашу организацию…
Он оборвался, потому что Саломеев в этот момент ловко щелкнул пальцами и, когда перед ним вырос половой, нарочито громко и требовательно произнес:
– Двойной мокко!
Викентий Викентиевич, слегка прищурившись, оценивающе посмотрел на собеседника и продолжил:
– Посему нам хотелось бы знать: какими возможностями вы теперь располагаете?
Саломеев, будто уязвленный вероломным покушением на самое его святое и неприкосновенное, раздраженно и от волнения нескладно проговорил:
– Но мы же договаривались передавать друг другу сведения, только которые сочтутся для нас достаточно приемлемыми!
– Сочтутся достаточно приемлемыми? – Удивленно повторил Викентий Викентиевич. – Нет, я не то имел в виду, что вы подумали. На вашу вольность никто не покушается. Наоборот, обстоятельства складываются таким образом, что мы крайне заинтересованы теперь в усилении вашей организации и в увеличении вашего личного влияния в революционной среде. Вот это я вас и пригласил обсудить.
Изумление Саломеева было столь велико, что некоторое время он ничего не мог вымолвить в ответ. Половой поставил перед ним чашечку с дымящимся кофеем, но Саломеев, казалось, даже не заметил этого.
Чиновник между тем продолжал:
– Беспорядки, или, как вы говорите, революционные выступления, нарастают. А теперь, после катастрофы у Цусимы, верно, вообще превратятся в новую пугачевщину, только еще более широкую и разудалую. Не кажется ли вам, что наше с вами участие в событиях должно быть ближайшим. Хотя бы для того, чтобы не дать этим событиям на самом деле увенчаться революцией. Согласитесь, для вас это будет не меньшей неприятностью, чем для меня. У нас же с вами единственный смысл существования – насколько возможно приближать революцию, но ни в коем случае не доводить до нее.
Саломеев ухмыльнулся. Но он еще не понимал, к чему собеседник клонит.
– Поэтому предстоящие события, – говорил дальше Викентий Викентиевич, – нам надо использовать с наилучшею для себя выгодой. А выгода наша, как вы понимаете, пропорциональна величине беспорядков. Вот я и пригласил вас с тем, чтобы обсудить, как мы можем повлиять на их величину, но при этом, естественно, не допустить безудержного революционного обвала.
Наконец Саломееву стал ясен замысел компаньона. Он сразу приосанился, приободрился от осознания свой значимости.
– И что же вы мне предлагаете? – деловито спросил он.
– Я, собственно, с того и начал: сейчас нам с вами интересно укрепить и увеличить вашу золотую роту, чтобы она не просто во всеоружии приняла участие в грядущих баталиях, но и сама, может быть, выступила застрельщиком. Кроме того, необходимо и вас лично продвинуть на более высокую ступень в революционной иерархии. Каково ваше мнение?
– Мне нужны дополнительные средства!.. – сразу же выпалил Саломеев. – Много!..
– Я так и думал, – ответил Викентий Викентиевич.
Он вынул из кармана перевязанный веревкой белый сверток и пододвинул его к Саломееву. Тот, верно, изумившись непривычной толщине свертка или словно опасаясь, что компаньон передумает, резко накрыл свой гонорар ладонью, будто прихлопнул прусака, и поспешно засунул его за пазуху.
– Продано! – вырвалось у чиновника, как после удара молотком на аукционе. – Вот что от вас требуется, – уверенно, как человек, с лихвою оплативший услугу, произнес он затем. – Первое: запускайте теперь типографию на полную мощность. Чтобы Москву и губернию наводнили листовки. Чтобы они дошли до последней кухарки. И день ото дня наращивайте радикализм требований, так чтобы вскоре начать призывать… – Викентий Викентиевич понизил голос, – к вооруженному восстанию.
Несмотря на то, что произнесено это было чуть ли не шепотом, Саломеев испуганно покосился по сторонам. У него промелькнуло: а не дурачат ли его? Такие слова он сам еще не рискует произносить вслух! Разве в уме держит. Но это же говорит даже не какой-нибудь его партийный товарищ! Мыслимо ли такое услышать от высокопоставленного государственного чиновника, который и жалованье, и награды, и самые чины получает именно за то, чтобы не то что восстания никогда не произошло, – но чтобы разговоров таких нигде не велось! мысли крамольной не допускалось!
– Да, именно так, – подтвердил Викентий Викентиевич, видя, какое потрясающее впечатление произвели его слова на собеседника. – Надеюсь, вам не надо помогать составлять тексты прокламаций? В сочинителях у вас, кажется, недостатка никогда не было.
Саломеев молча покачал головой, подтверждая, что с этим у него проблем не возникнет.
– Второе, – продолжал чиновник, – необходимо срочно наметить, кто именно из сочувствующего вам московского охлоса в роковую минуту может по первому вашему призыву ополчиться, то есть буквально взяться за оружие. Я имею в виду весь этот фабричный люд, который вы именуете главною движущею силой революции. В наших с вами интересах поторопиться заранее определить круг лиц, которые составят, по крайней мере, костяк будущих боевых дружин. Что касается командиров…
– Должен предупредить вас, – перебил его Саломеев, – я человек невоенный и вряд ли смогу возглавить эти дружины, а уж тем более непосредственно принимать участие в перестрелках… И вообще, по-моему, еще слишком рано говорить о вооруженном восстании, – добавил он шепотом. – Партия пока даже не рассматривает такого тезиса.
– Ничего… рассмотрит… ваша партия. Вот вы и будете первым провозвестником революционной инициативы. Кстати, это непременно вам послужит в восхождении по партийной лестнице. Что касается вашего непосредственного участия, у нас и мысли не было посылать вас в пекло сражений, – успокоил его Викентий Викентиевич. – Вы приносите огромную пользу в мирной жизни. Вами надо дорожить, как национальным богатством. Вы будете над схваткой. Но вот к чему вам действительно нужно быть готовым, так это к серьезной политической государственной деятельности. Третье, что я хотел вам сказать: наша верховная власть, поняв наконец всю бездарность своей политики последних лет, решилась осчастливить Россию парламентом. Вообразите! И это уже не просто разговоры – весенние мечтания. Сейчас в Петербурге разрабатывается проект будущей Государственной думы – представительства выборных от всех сословий. Надеюсь, вы не будете возражать, если мы вам поможем занять место в Думе, стать депутатом?
В который раз уже сегодня Саломеев потерялся от невообразимых слов Викентия Викентиевича. Стать депутатом парламента?! Вот так штука! Вот так фортель! Этак можно самого Каутского за пояс заткнуть! Но не на смех ли его поднимает этот жандарм?! Может, он еще предложит ему запросто место в госсовете?!
– Кто же меня допустит в представительство?! После моей-то многолетней незаконной деятельности?! – старательно придавая голосу насмешливую интонацию, спросил он, хотя в душе трепетал от услышанного и горел безудержным желанием поскорее получить в ответ опровержение своим сомнениям.
– Вы нас недооцениваете, – рисуясь обиженным за такое недоверие, отвечал чиновник. – Мы в состоянии поставить человека как угодно высоко. Если только он по-настоящему достойная личность. Вы же именно достойный. Вы человек интеллигентный. Честный. Совестливый. Пламенный трибун. К тому же состоятельный. Кому, как не вам, место в парламенте? Лучшего народного представителя трудно отыскать. А то, что вы называете незаконною деятельностью, в парламентских странах именуется политическою борьбой. То, о чем вы прежде говорили в узком кругу, тайком, где-нибудь в трущобах на задних антресолях, вы сможете вещать во всеуслышание с парламентской кафедры. И ваши речи будут цитировать ведущие газеты. И знаменитые политики Европы станут соизмерять свои мысли с вашими заявлениями.
Саломеев заслушался. В его голове как вихрь пронеслись дивные картины блестящей политической карьеры: цилиндр и трость, роскошный экипаж, кабинет с телефоном и пальмой, секретарь, говорящий на трех языках, высочайшие приемы, рауты в посольствах, интервью газетчикам.
– Так вы принимаете должность? – лукаво блестя глазами, спросил Викентий Викентиевич.
Счастливый парламентарий не сразу спустился с небес. Он еще сколько-то смотрел на собеседника, не слыша его вопроса.
Наконец Саломеев заставил себя сосредоточиться. Он пожал плечами и скромно ответил:
– Ну что ж… я право… если вы находите возможным… я взялся бы… – Но тут же хватился: – Впрочем, понимаю, от меня потребуется известная благодарность…
– Не более обременительная, чем теперь. Надеюсь, достижение вами политических высот не помешает нашему сотрудничеству быть по-прежнему добрым и взаимополезным?
– Разумеется, нет! – поспешил заверить чиновника обрадованный легкими условиями сделки Саломеев.
– Но только вот что… – посерьезнел Викентий Викентиевич. – Видите ли… У меня к вам сразу просьба.
– Да?.. – насторожился Саломеев.
– Надеюсь, не особенно трудоемкая для вас. Это как раз в счет вашей благодарности. – Викентий Викентиевич улыбнулся. – Известно, что в революционной среде существует довольно жестокий, но истинно справедливый порядок: с предателями, провокаторами, если таковые обнаруживаются, у вас не церемонятся – не делают иначе мировой, как снявши шкуру с них долой. Не так ли?
– Случается иногда, – согласился Саломеев с тревогой в голосе: ему пришло в голову, что речь идет о нем самом.
– Прекрасно, – удовлетворенно сказал чиновник, будто они говорили о полезности поощрения сладким хорошо успевающих гимназистов. – Нам известно, что у вас в организации состоял участник под кличкой Старик.
Саломеев согласно кивнул головой.
– Также нам известно, что этот Старик устранился от участия, то есть, можно сказать, предал революцию. Это правда?
– Я бы не сказал, что предал, – отвечал Саломеев, не понимая, к чему клонит Викентий Викентиевич. – Он, в сущности, ничего о нас не знал. Да мы никогда и не принимали его за надежного, равного нам… Ни в какие важные секреты не посвящали. Вот другая наша бывшая соратница, ныне покойная, та, пожалуй, да… можно сказать, предала, когда стала со Стариком сожительствовать и прекратила участвовать в кружке. Но мы не были к ней в претензиях: это же дело семейное, любовное…
– Да вы либерал! Гуманист! Я окончательно убеждаюсь, что вам самое место быть народным представителем. Считайте, вы уже в Думе. Но только вот что вам необходимо прежде сделать, – безапелляционным тоном произнес Викентий Викентиевич, – этот Старик должен понести предельно жестокую кару, какую у вас принято применять к самым злостным провокаторам и изменникам. Вы понимаете меня? Итак, условимся: Старик у праотцев, вы – в парламенте.
Саломеев опять не сразу сообразил, что ему отвечать. Он сколько-то вглядывался в собеседника: ну уж теперь, верно, потешается этот Викентий Викентиевич? Но нет, чиновник и не думал шутить. Он пристально глядел на Саломеева, ожидая от него ответа.
– Хорошо, мы подумаем, – неопределенно вымолвил Саломеев.
– Думайте, – улыбнулся Викентий Викентиевич. – Ваша судьба в ваших же руках.
Однако Саломеев не поспешил немедленно исполнять наказ. Он довольно долго и тщательно взвешивал: что за хитроумный маневр затеял его компаньон? не скажется ли это роковым образом на нем самом – на Саломееве? И решил пока не торопиться: если Викентию Викентиевичу для чего-то потребовалась жизнь Дрягалова, то он сам станет искать расположения Саломеева, сам поклонится ему. А уж тогда с ним можно будет снова поторговаться и выиграть для себя еще какие-то преимущества. Исполнить-то душегубство несложно в любой момент: указать только этому озлобленному на весь свет Мордеру, и он счастлив будет выместить свою родовую и классовую ненависть на любом указанном ему провокаторе, тем более что тот русский буржуа. Об учреждении Думы официально пока еще ничего не говорится. Так куда торопиться? Вот когда пойдет верный разговор, тогда и можно будет уважить Викентия Викентиевича, потребовав от него затем ответного исполнения обязательств. Пусть еще поживет Старик. Так рассуждал Саломеев.
Но за исполнение прочих договоренностей с охранкой Саломеев принялся бесподобно усердно. Он распорядился типографии печатать листовки теперь безостановочно. А подручные его только успевали распространять тиражи. Такого вала прокламаций Москва прежде еще не знала: кроме того, что эти запрещенные бумажки лежали теперь в кармане у каждого третьего москвича, а среди фабричных так и у двоих из трех, они появлялись в самых, казалось, недоступных для революционной агитации местах – в присутственных учреждениях, гимназиях, в церквах, в салонах, в модных домах, в театральных залах на сиденьях, будто разложенные там заботливыми капельдинерами. Извозчики скручивали из них цигарки, торговки заворачивали в них семечки, а полиция теперь даже не особенно интересовалась, откуда они у людей появляются, – что уж взыскивать, когда листовки повсюду, как тополиный пух в июне! По той же причине дворники и городовые не всегда их уже срывали, где и видели, – этак рука отнимется поднимать ее у каждого столба, у всякой афишной тумбы!
К осени в Москве, как и по всей России, установилось этакое восторженно-оживленное настроение ожидания грядущей свободы. Никто толком не понимал, что это за свобода такая будет? что вообще оно такое есть из себя? – это как вроде, когда на Пасху городовые милостивее обходятся с подвыпившими гуляками? или как студентам в Татьянин день спускается всякое их сумасбродство? Так, что ли? или еще как?.. Тем не менее говорили о свободе теперь решительно все – от профессоров до прачек. Уже и недавний мир с Японией перестал быть первой темой для обсуждений. И над графом Полу-сахалинским быстро прошел интерес потешаться. Персидский шах! сам персидский шах, проезжавший через Москву и в другое время вызвавший бы бурю пересудов, особенно в Замоскворечье да в Заяузье, теперь занимал обывателей меньше, чем прежде какой-нибудь заезжий статс-секретарь! А уж когда в начале сентября в газетах было опубликовано положение о выборах в Государственную думу, тут все просто с ума посходили. Кофейня Филиппова превратилась в натуральный якобинский клуб. Там только и говорилось теперь что о выборах, о парламенте, о конституции, о политической ориентации. Стало вдруг возможным запросто объявлять себя немонархистом. То и дело от какого-нибудь котелка теперь можно было услышать: а я не сторонник монархии! да-с! Причем говорил вольнодумец нарочито громко, с расчетом быть услышанным многими, а если случится еще и полицией, то и вовсе прекрасно: пусть знает и полиция, каковые мы есть либералы! Вчерашние обыкновенные люди – отцы семейств, должностные или работные, достаточные или не очень, – не имевшие прежде никаких политических прав и даже подчас не знавшие, что это такое, и те, и другие, и третьи одинаково сделались… избирателями! Копошащийся доселе в мелких своих делишках, маленький, самый заурядный человечек вдруг исполнился сознанием, что он призван к чему-то важному, что он гражданин,и у него есть голос,и этот его голосбудет иметь какое-то значение в государственной жизни.
Это был удивительный период междувластия, когда старая действующая власть сама толком не знала, каково будут устроены общественные порядки с появлением новой власти в лице Государственной думы, почему и находилась в растерянности: чего уже можно попускать? а чего не станет дозволенным никогда ни при каких обстоятельствах?
Саломеев верно приметил эту небывалую растерянность власти. И постарался поскорее выгадать из нее сколько возможно пользы. Одержимый мечтаниями об обещанном ему охранкой депутатстве, он бросился завоевывать массы: ему важно было широко заявить о себе как о непримиримом борце за интересы низов, как о настоящем друге народа – этаком новом Марате. Участвуя в революционном движении довольно для того, чтобы почитаться ветераном, Саломеев вместе с тем оставался фигурой совершенно безвестной, потому что всегда ревностно и мастерски соблюдал нелегальное существование, долженствующее, прежде всего, исключить какие-либо подозрения на его счет со стороны товарищей. И в этом он превосходно преуспел. Но новые заманчивые политические перспективы требовали от него теперь легализоваться и предстать перед народом, перед будущими избирателями мудрым, смелым, неподкупным, отечески заботливым радетелем с высокими идеями и добрыми чувствами.
Всякого рода публичные собрания – митинги, сходки, шествия – стали в Москве повседневным явлением. Выступали все – интеллигенция, студенты, фабричные. Каждый, находивший себя достойным быть услышанным, а таковых было, пожалуй, девять из десяти, протискивался сквозь толпу, бойко забирался на возвышенность и говорил, говорил… Причем многие ораторы тут же упражнялись в парламентских приемах: огласив что-нибудь, они призывали собравшихся за это проголосовать. И толпа немедленно – кто вперед! – тянула вверх руки. Голосовали люди за всё, что бы ни было предложено!
Влился в процесс и Саломеев. Его день был теперь расписан, как у важного должностного лица: утром речь на фабрике, потом выступление перед студентами на Моховой – в одной аудитории, в другой, в третьей! – университет был открыт для сходок самим ректором, в полдень участие в собрании в Техническом училище, затем там же опять выступление перед студентами, вечером дискуссия в каком-нибудь салоне. И так каждый день, и еще более интенсивно!
Вскоре Саломеев стал фигурой заметною, желанною персоной во всех революционных собраниях. Его узнавали на фабриках, ждали на митингах. Ему жадно внимали. Студенческие аудитории встречали его бурными рукоплесканиями, едва он показывался в дверях. Не осталось незамеченным его усердие и в самой партии: в сентябре Саломеев был введен в комитет. Там он сразу решительно заявил о себе, вызвавшись организовывать боевые дружины. Это был самый ответственный, самый сложный и опасный участок партийной работы, вести который охотников находилось немного. Саломеев же, со ссылкой на свои наработанные за годы революционной деятельности возможности, предложил комитету воспользоваться его услугами. И, получив одобрение товарищей, истово принялся за дело.
Прежде всего, он доложил о своем революционном карьерном росте и об оказанном ему комитетом доверии в Гнездниковский переулок. Там очень положительно оценили успехи сотрудника. Причем Саломееву тут же было дано указание его заботливым попечителем отправляться на Неглинную и получить в оружейном магазине Рогена пятьдесят маузеров, оплаченных уже охранным отделением. На непременно ожидающий Саломеева вопрос комитетчиков – откуда у него средства на покупку такого арсенала? – чиновник научил отвечать, что-де ему в свое время пожертвовал крупную сумму на революциюодин известный и чрезвычайно состоятельный писатель.
Когда Саломеев привез целую телегу оружия в Техническое училище, там случился настоящий переполох, как если бы в распоряжение комитета подошел пехотный полк. Кто-то из комитетчиков в восторге чувств придумал Саломееву называться отныне Дантоном. Польщенный такою высокою оценкой – хоть не Марат, но все же! – и пообещав с честью нести имя славного своего предшественника, Саломеев заверил товарищей, что это только первый его скромный шаг по организации боевых дружин. Дальше он намерен развернуть деятельность куда более впечатляющую.
И он с удвоенною энергией принялся за дело. Со своим верным Клецкиным Саломеев объезжал Москву из конца в конец. Он по-прежнему выступал перед собраниями, агитировал во всеуслышание, но помимо того вел теперь еще и приватные переговоры с отдельными надежными товарищами об организации ополчения. Так, менее чем за месяц Саломеев поставил под ружье по всей Москве до двухсот человек. Вооружил этих бойцов он опять же при щедром вспомоществовании Гнездниковского. Не было недостатка теперь и в командирах отдельных боевых групп, – их не составляло труда найти среди возвращавшихся с Дальнего Востока демобилизованных маньчжурцев, почти поголовно бывших в претензиях к власти и за бездарно проведенную кампанию, и еще более за несвоевременный малодушный мир.
А где-то в начале октября судьба, и без того к Саломееву более чем благосклонная, преподнесла ему настоящий ценный сюрприз: в Москву возвратились старые его кружковцы – Мещерин и Самородов. Едва они встретились в Техническом училище, Саломеев, даже не интересуясь их дальнейшими планами, немедленно назначил того и другого командовать отрядами дружинников.
Друзья не виделись с Саломеевым почти полтора года. И они, прошедшие огни и воды и, казалось, приобретшие невозмутимость записных бывальцев, теперь просто-таки потерялись от разительной перемены, произошедшей с их товарищем: это был уже не тот прежний малозначительный руководитель безвестного социалистического кружка, благоговеющий перед пустыми прожектерами, вроде Гецевича, а настоящий безупречный вождь революции, влиятельный, авторитетный предводитель масс.
Не успел Саломеев переступить порога училища, его тотчас окружили тужурки и, перебивая друг друга, стали что-то ему говорить, о чем-то расспрашивать… Но задерживаться с ними Саломееву было недосуг. Увидев стоящих в сторонке бывших своих кружковцев, он махнул им рукой, приглашая следовать за ним, и поспешил в верхний этаж. По дороге, наскоро справившись об их военной службе и не дослушивая ответа, он и объявил Мещерину и Самородову о своих видах на них.
Саломеев быстро и уверенно шел по коридорам училища, кивком отвечая на бесчисленные приветствия, раздававшиеся в его адрес со всех сторон, и на ходу, громко, так, чтобы это слышали все кругом, наставлял своих старых соратников: «Игра в социалистические кружки окончилась! Мы вступили в новый этап борьбы! От спячки – к стачке! От стачки – к вооруженному восстанию! Таков наш сегодняшний лозунг! Мы всерьез беремся за оружие! Мы готовы сражаться! На вызов преступного самодержавия мы отвечаем праведным пролетарским гневом! яростной борьбой не на жизнь, а на смерть! Час искупленья пробил!»
На втором этаже к Саломееву подскочил студент и выкрикнул: «Товарищ Дантон, скорее! вас ждет комитет! Без вас не начинают заседания». Обалдевшие Мещерин с Самородовым только переглянулись в который раз.
В комнате, куда Саломеев втолкнул впереди себя Мещерина с Самородовым, за длинным столом тесно сидели люди – дюжины две всех, – они все разом оглянулись на вошедших. Председательствующий – бородатый брюнет в очках – впился пронзительным взглядом в незнакомцев – кто такие? как сюда попали? Но, увидев позади них Саломеева, успокоился.
Опережая возможные вопросы к нему, Саломеев громко отчеканил:
– Товарищи! Поздравляю вас с еще одним успехом! Железнодорожники сформировали дружину в сорок с лишним человек! И обещались ее еще усилить. Сегодня я им передал двенадцать браунингов. Но они просят больше их не баловать: фабричное оружие предоставлять тем, кто по-настоящему в нем нуждается. Сами же они в состоянии изготовить для себя все, что необходимо. Чего им действительно недоставало, так это толковых командиров. Но и эта задача только что неожиданно счастливо разрешилась. Вот, позвольте вам представить, – он оглянулся на своих спутников, – Алексей Самородов и Владимир Мещерин – давнишние, еще довоенные, участники моего кружка. Исключительно надежные товарищи! Ручаюсь, как за самого себя. Они только что из Маньчжурии, из самого военного пекла. Лучших командиров невозможно и придумать!
Мещерин хотел объяснить присутствующим, и прежде всего Саломееву, что они не только что из Маньчжурии и о военном пекле, по правде сказать, уже порядком подзабыли, потому что последние полгода провели с Алексеем в плену на Ниппоне, но комитету, и без того заждавшемуся важнейшего своего члена, некогда было их выслушивать. Саломеев, похлопывая ладонями одновременно того и другого по спине, этак непринужденно направил их в дверь, шепнув единственное, чтобы они его дождались.
Глава 5
В то время, когда вся Москва ходила ходуном от невиданных событий, бурлила, вздыбленная бунтарским вихрем, и революционное лихо бесцеремонно ворвалось в жизнь тысячей обывателей, в покойном особняке на Малой Никитской тоже все перевернулось вверх дном, но только от счастливого переполоха: у коммерции советника Дрягалова родился внук!
В первые по рояедении младенца дни Дрягалов не допускал к Лене решительно никого. Хотя доктор Епанечников, лично принимавший роды у дочери, и заверил свата, что Лена вполне здорова и ей только на пользу будет как можно скорее приступить к обычным повседневным заботам, Дрягалов поначалу так бдительно оберегал родильницу, что даже самую привилегированную их гостью Татьяну Александровну попросил до крестин повременить беспокоить подругу.
Лишь выждав положенный срок, Дрягалов вывез свою фамилию в полном составе в свет. Крестить внука он пожелал там же, где венчались Дима с Леной, – у единоверцев, в Лефортове. К этому времени уже решилось, какое имя будет носить новорожденный: аккурат на восьмой день по разрешении выходил праздник Иоанна Крестителя, и Дрягалов, посоветовавшись, естественно, с сыном и невесткой, придумал называться отныне его потомку Иваном Дмитриевичем. В восприемницы, по единодушному мнению счастливого семейства, приглашена была Таня.
Счастье любимой подруги и для Тани стало личным знаменательным событием. Выдержав установленный Дрягаловым для Леночки карантин, Таня решительно поселилась в Малой Никитской. Часто даже на ночь не возвращалась домой. А уж дни так все напролет теперь проводила у подруги. Госпиталь Таня давно оставила: еще летом, до подписания мира, когда боевые действия в Маньчжурии прекратились и поток раненых почти иссяк, почему в госпиталях персоналу стало вполне по силам управляться без помощников, Капитолина Антоновна объявила всем своим домашним и домочадцам демобилизацию. Жизнь в доме полицмейстера Потиевского вернулась в привычную колею.
Но только не для Тани. Вместо прежних забот, у нее появились не менее важные новые, за которые она принялась истинно самозабвенно. Они вдвоем с Леной не могли надышаться на Ванечку, хотя этому здоровяку с отменным аппетитом не требовалось и десятой доли их хлопот. Но верно говорится: первый ребенок – последняя кукла. В каком-то смысле новорожденный и для самой юной мамы, и для ее не более искушенной подруги был забавною живою игрушкой. Таня с Леной порой часами просто так сидели возле мирно посапывающего в колыбельке Ванечки и все шептались о нем.
– Кем, интересно, он будет? – рассуждала Таня. – Тебе бы хотелось, чтобы кем он был?
– Ну не знаю… – серьезно, будто это было теперь вопросом первостепенной важности, отвечала Лена. – Может быть, как папа, врачом. Или профессором. Ученым…
– А может быть, владельцем магазинов? – улыбалась Таня. – Вроде дедушки?
– Магазины – это само собою. Они никуда не денутся. Это его наследство, – принималась объяснять рассудительная Леночка. – Но ему вовсе не обязательно самому, как дедушке, сидеть над счетными книгами. Для этого есть управляющие, – говорила она со знанием дела. – Можно и магазинами владеть, и быть при этом хоть… генерал-адъютантом. Сейчас многие крупные промышленники и торговцы, особенно младшее поколение, занимаются науками, искусством. Я с некоторыми из них знакома. Такие интересные люди!
– Лена, ты стала купчихой! – потихоньку засмеялась Таня. – Признайся, ты в купеческой среде чувствуешь себя в своей тарелке?
Леночка, показывая, насколько она безразлична к такого рода условностям, пожала плечами и покачала головой.
– По барыне говядина, – ответила она. – А то уж мы такие родовитые, что нам с купечеством водиться зазорно! Папино дворянство, ты сама знаешь, восходит к славной эпохе императора Николая Александровича, да с папой вместе и пресечется, скорее всего. Ну а мама… – Лена с улыбкой заглянула Тане в глаза, приглашая ее веселиться вместе с ней. – После маминой школы я в своей тарелке в любой смоленской лавке.
– А скажи, Лена… хотела тебя спросить… как тебе с Димой? Интересно? Он же такой молоденький.
– Боюсь, как бы ему со мной не стало неинтересно. Он по-французски не хуже нас с тобой знает. А сейчас все читает каких-то экономов, о которых я даже не слышала: английских, германских. Они собираются с отцом открывать магазин в Париже: русскими дивностями там торговать – стерлядью, икрой, сибирским маслом. Василий Никифорович хочет заткнуть, как он говорит, Европу за пояс.
– Не сомневаюсь, что заткнет, – усмехнулась Таня. – Ну а как с самим-то с ним, с главой семейства, у тебя складывается? Ладите?
– Лучше не бывает. Не представляю даже, как с ним можно не поладить. Это же такая натура… Это… стихия! страсть! порыв! Дима хотя тоже далеко не тихоня, но против отца кроткий агнец. И при всем этом Василий Никифорович изумительно добрый, великодушный человек. Сколько раз я уже была свидетельницей, как грозно он может взыскивать с кого-нибудь и как безмерно щедр бывает на милость. А помнишь, как мы его испугались, когда в первый раз увидели здесь, в этом доме, в соседней комнате? – прямо натуральный Стенька Разин сверкает глазами! Таня! – взволнованно и восторженно зашептала Леночка подруге на самое ухо, – что я тебе скажу! Василий Никифорович несколько раз на правах свекра целовал меня по разным случаям. И ты знаешь, я чувствовала, что он целует меня не как жену сына! А так, что мурашки бегут по спине и ноги холодеют. Тут ошибиться невозможно! Но – боже упаси! – ничего такого сверх этого он себе не позволяет. Только поцелует, посмотрит лукаво мне в самые глаза – и оставит в покое.
– Ой, Лена, смотри, этак он однажды не оставит тебя в покое…
– Нет, нет, Таня, что ты! Ты не представляешь, как он уважает Диму! Как дорожит его честью! То, о чем ты говоришь, категорически невозможно.
К осени Дрягалов, как и собирался, открыл большой магазин на Мясницкой. Собственно, это был новый его доходный дом, весь первый этаж которого занимало торговое заведение. Еще не завершилось строительство, а Дрягалова засыпали предложениями иностранные агенты и свои перекупщики, готовые поставлять ему самые изысканные европейские яства: от швейцарского сыра и корсиканских маслин до рейнского и бордоского. Василий Никифорович с некоторыми из них заключил сделку. Но тогда же и подумал: если он по России торгует заграничными дивностями, то почему бы ему точно так же в Европе или в самой Америке не открыть собственные магазины и не начать продавать там всякую русскую невидаль?
Начать Дрягалов решил с Парижа. Город, рассуждал он, ему не чужой, хоженый-перехоженый весь вдоль и поперек. Там первому его заграничному магазину и быть.
Дима списался с Годарами и изложил друзьям суть их с отцом намерений. Причем попросил Паскаля подыскать им где-нибудь в центре Парижа небольшой magasin de comestibles [32]. Через несколько дней в Малую Никитскую была доставлена длинная, каким не всякое письмо бывает, telegramme-express из французской столицы. Паскаль сообщал, что подходящий магазин он нашел, и не где-нибудь, а на самом boulevard de Sebastopol [33], – русское заведение на русской улице, по его мнению, обещало принести владельцу сугубую выгоду. И затем Паскаль извещал, что его дедушка – подполковник Годар – имеет намерение выкупить этот магазин на boulevard de Sebastopol на свой счет и подарить его Дрягалову, как искупление, если угодно, за участие подполковника в свое время в Восточной войне в Крыму против русских. Дрягалов немедленно велел Диме отписать в Париж, что согласится на это только в том случае, если подполковник не откажет в свою очередь принять от него в дар имение в Смоленской губернии, в котором император Наполеон, по преданию, во время своего бегства из России съел кота. Подполковник Годар вполне оценил шутку русского друга, посмеялся от души и зарекся впредь показывать Дрягалову свою щедрость.
Не отлагая дела вдаль, Дрягалов отправил Диму в Париж. Он бы с удовольствием поехал и сам туда, и вовсе не потому, что опасался за неопытность молодого своего компаньона и наследника, – их китайские баталии, и особенно молодецкое завоевание Димой сердца красавицы, исключали всякие сомнения отца насчет способностей сына, – но, когда зашла речь о поездке в Париж, Дрягалов неожиданно для самого себя обнаружил, что он тоскует по этому городу мансард, что душа его рвется к речке Сене, на берегах которой в прошлом году у них с незабвенною Марьей Лексевной вышла, как поначалу представлялось, натуральная беда, обернувшаяся в конце концов, по нынешнему его разумению, забавным, чудным приключением. Однако Дрягалов должен был умерить свои сантименты: время наступило смутное, лихое, и ему никак не годилось оставлять огромное московское хозяйство без пригляду хотя бы на несколько дней. Какие уж тут теперь Парижи!
Вскоре после отъезда Димы Василий Никифорович преподнес своим соратницам по заговору троих, позабывшим у колыбели с новорожденным о каких бы то ни было развлечениях, как ему казалось, сюрприз: однажды он возвратился домой в сопровождении давнишних их знакомцев – Владимира Мещерина и Алексея Самородова, – с которыми Таня и Лена не виделись полтора года.
На удивление, встреча старых друзей была довольно сдержанная, – слишком многое их теперь разделяло, слишком давно разошлись их пути-дороги. Если с Леночкой Мещерин с Самородовым еще могли на правах сотоварищей по маньчжурской кампании позволить себе братски расцеловаться, то приветствовать Таню таким же образом нечего было и думать: маньчжурцы осмелились разве едва-едва приложиться к царственно поданной им госпожой Потиевской руке.
Едва оказавшись в Москве, Самородов, а с ним за компанию и Мещерин, сразу же заявились на Тверскую в магазин к Дрягалову, оказавшемуся теперь для Алексея единственным близким человеком. Так вышло: у Самородова, после смерти покровительствующей ему кузины, вообще никого не осталось. Но, будучи родственником, именно дядей, дочке Мани и Дрягалова – Людочке, – Самородов теперь приходился родней и самому Василию Никифоровичу. Так распорядился сам Дрягалов. Еще позапрошлым летом, похоронив Маню, он немедленно отписал Самородову в полк, что отныне Алексей – член его семьи. А уж в Маньчжурии, где их чудесным образом свела судьба, Дрягалов объявил воочию Самородову и Мещерину о своем непременном намерении быть отныне для них отцом, старшим братом или кем угодно, по их усмотрению.
Если бы Дрягалов придумал настоять на том, чтобы друзья, которых он, по сути, принял в семью, отныне забыли свои прежние юношеские, не согласные с государственным законом, искания земного рая, несбыточные мечтания о устройстве мира по справедливости, то, скорее всего, Мещерин с Самородовым, а уж последний так непременно, покорствовали бы воле благодетельствующего им старшего товарища, с которым их теперь связывали крепчайшие из уз – братство по оружию. Но Дрягалов, верно, не посчитал для себя достойным поведением неволить близких – людей взрослых и солидных, – к тому же своих боевых товарищей, какими-либо обязательствами. Поэтому Мещерину с Самородовым ничто не помешало через несколько дней после возвращения в Москву разыскать Саломеева и приняться за исполнение его скорого и безоговорочного решения на их счет.
Мещерину с Таней решительно не о чем было поговорить. Когда-то Таня могла часами слушать своего многоумного друга, лишь изредка перемежая его монологи вопросами или репликами одобрения. Теперь у них не оставалось ни самых малых общих интересов, разве какие-то, как ей казалось, воспоминания детства, совершенно, впрочем, не подходящие для того, чтобы когда-либо служить предметом беседы.
От внимания Мещерина также не могли утаиться разительные перемены, произошедшие с Таней: два года тому назад это была восторженная отроковица, жадно внимающая его пламенным радикальным речам, а сейчас перед ним сидела светская дама, повзрослевшая не на два, а на все двенадцать лет, и, очевидно, далекая от радикальных воззрений на жизнь. Мещерин даже поймал себя на том, что ему боязно заводить с Таней беседу хотя бы об отвлеченных предметах, а тем более предаваться воспоминаниям об их прежних дружеских связях, – он верно уловил Танино настроение. Но что ж удивительного? – они и прежде, в общем-то, близкими людьми не были, но теперь жизнь их окончательно развела. Так думал Мещерин.
Видя, как, несмотря на все старания Леночки, не клеится их общий разговор, и понимая, что подруга и ее гости при ней деликатно избегают вспоминать о важнейшем, что их связывает – о маньчжурских похождениях, – потому что в этих воспоминаниях непременно будет возникать образ ее отца, Таня скоро распрощалась, сославшись на занятость. Она отказалась даже принять участие в праздничном обеде, устроенном Дрягаловым в честь Самородова и Мещерина.
За столом Дрягалов, хоть и был раздосадован Таниным, как он подумал, неглижированием их невеликого купеческого торжества, старался выглядеть жизнерадостным. А обыкновенному своему радушию Василий Никифорович не изменял ни при каких обстоятельствах. Тут уже разговор пошел совсем по-семейному, без недомолвок. Тут уже никто не мешал им припомнить и Китай, и императорские сокровища, и любые случайности, связанные с их поиском.
– А что! – со смехом говорил Дрягалов. – Давайте соберемся как-нибудь, да и вернемся за камушками. Они же так и лежат себе в той самой деревеньке, ждут своего часа. Войне конец. Доехать туда теперь – один пустяк. Шапку в охапку, и мы на месте. Как думаете?
– Василий Никифорович, – так же весело отвечал Мещерин, – не забыли ли вы, что в упомянутой вами деревеньке китайцев живет с полтыщи душ? Вы собираетесь у них под ногами перекопать полдюжины десятин? Причем так, чтобы они не заметили этого?
– Или попросить прежде их вон, как один уполномоченный Красного Креста попросил когда-то монахов из известного нам монастыря? – добавил Самородов.
– Да нет же! – продолжал веселиться Дрягалов. – Мы можем купить всю эту деревню и спокойно перерыть ее. А китайцам предложим перебраться на другое место – в лучшие избы. Они только рады будут! Верно говорю.
– Что же вы тогда под Мукденом отказались от сокровищ? – спросил Мещерин. – Вам же подполковник Годар предлагал долю?
– А это другое дело! Взять у кого-то что-то – значит быть в долгу перед ним. А теперь эти камушки ничьи. Возьмем, и никому должны не будем!
– Василий Никифорович, – вмешалась Леночка. – Мы и так владеем этими сокровищами! Они наши! О них никто больше не знает, следовательно, они принадлежат только нам! Согласитесь, намного интереснее жить с великою тайной, хранить ее, беречь, никому не открывать, нежели поехать, откопать клад и лишиться удовольствия обладать некими таинственными, сокровенными сведениями. Разве не так?!
– Молодец, Елена Сергеевна! – поддержал ее Мещерин. – Вот истинная романтическая натура! Что касается меня, – он вздохнул, опустив голову, – то я в этот край больше никогда ни ногой. Там лежат куда более дорогие сокровища – наши боевые товарищи, верные друзья. И мне кажется, я предам их, если явлюсь на еще не поросшие травой поля сражений откапывать какие-то камни, какие-то… бирюльки. Которые, хотя и стоят баснословных денег, но, по сути, копеечные. Если сравнивать их с памятью наших павших однополчан, соотечественников…
– Да я ж в шутку… – проговорил Дрягалов. – Неужель буду связываться…
– К тому же мы с Владимиром в ближайшее время будем очень заняты, – многозначительно произнес Самородов, – и неизвестно, получится ли у нас вообще когда-нибудь куда-то поехать.
Дрягалов нахмурился и пристально вгляделся в него.
А после обеда он зазвал друзей в буфетную, где обычно вел с гостями самые важные разговоры.
– Я так мыслю, вы опять хотите приняться за старое? – сразу, без предисловий, начал Дрягалов. – С Сережей-то небось уже виделись? – Он испытующе вгляделся в Самородова.
Понятное дело, с родственником Василий Никифорович мог быть менее церемонным, нежели с его товарищем.
Алексей, стараясь показаться независимым, подчеркивая, что с него взыскивать, будто с малолетнего, не годится, этак снисходительно ответил:
– Видишь ли, Василий Никифорович, у любого могут быть свои убеждения. И изменять убеждениям, согласись, неблагородно, подло… Вчера мы одних взглядов придерживались, сегодня других, завтра будем третьих. Каково это, по-твоему?..
– А я, выходит, подлый, неблагородный лавочник, – усмехнулся Дрягалов. – Я же изменил этим вашим… убеждениям.
– При чем здесь ты?! – Самородов хватился, что слишком увлекся. – Ведь, говоря по совести, ты и не был никогда нашим идейным сторонником… – Он хотел что-то добавить об уважительных, чисто познавательных, мотивах участия Дрягалова в кружке, но, вспомнив о кузине Машеньке и ее роли в увлечении Василием Никифоровичем социализмом, неловко оборвался.
Но Дрягалов, судя по его лукаво блеснувшим глазам, понял ход мыслей молодого человека.
– Одним словом, порешим так давайте: я вам в вашем бунтарстве больше не пособник, – произнес он. – Верно говорю.
– Мы все понимаем, Василий Никифорович, – вмешался наконец Мещерин. – Но Алексей прав: мы себе не принадлежим. У нас есть цель, и мы остаемся ей верны.
– Себе не принадлежите – верно, – вздохнул Дрягалов. – Вы Сереже принадлежите. Что он теперь-то придумал с вами? Небось самый бунт поднимать нарядил?
– От вас ничего не утаишь. – Мещерин не мог не оценить дрягаловской прозорливости. – Вы все насквозь видите.
– Дело не в том, – отмахнулся Дрягалов. – Ты, Володя, вот так сердечно сказал о наших солдатиках, что по полям по маньчжурским полегли, – меня аж до нутренностей пробрало. А они не бунтовали. Не бузили. Они пошли, куда царь повелел, и сложили там головушки. За здорово живешь. Во славу Божию, как говорится. Но их пример вам не наука. Конечно. Коли вы против них теперь идете. Так я вас опять не осуждаю. Ваша воля.
– Василий Никифорович! – в сердцах воскликнул Мещерин. – Ну не также всё! Вы всё неправильно понимаете!
– Где уж нам! Мы неученые. Наше дело купецкое. Барышное. Но верно говорю вам: я в чужом глазу сучка не ищу. Мое дело маленькое. Только вот что, хотел предупредить вас: мои собратья-мироеды – торговцы да фабриканты – наряжают на свой счет против вас, социалистов, ополчение – черную сотню. Может, слышали?
Мещерин пожал плечами, показывая, что это ему известно и что такие пустяки его не особенно заботят.
– Так вот, – продолжал Дрягалов, – эти молодцы не чета полиции: они с вами не будут чикаться, у них разговор один – пуля, финка или кистень. К тому же полиция им еще и пособствует: доставляет ваши портреты и приметы. И вот так попадетесь им под руку где-нибудь – враз отправят ко святым угодникам. И охнуть не успеете.
– Довольно об этом, Василий Никифорович, – поморщившись, прервал его Мещерин. – Мы не гимназисты, чтобы пугаться воровских финок…
Глава 6
С утра 20 октября со всех концов Москвы к Техническому училищу в Лефортове потянулся народ – рабочие, студенты, интеллигентного вида господа, женщины с детьми. Некоторые шли с венками, в которые были вплетены алые ленты. Многие, не таясь, несли красные флаги. Все были хмуры, сосредоточенны, говорили между собой мало, приглушенно, отрывисто.
У подъезда Технического училища толпа стала собираться еще задолго до рассвета. Люди стояли молча и, почти не отрывая взгляда, смотрели на могучие дубовые двери училища.
Наконец часов в девять двери отворились, и на крыльцо во главе с коренастым смуглым бородачом вышли несколько человек, среди которых был и Сергей Саломеев, – все с непокрытыми головами. Собравшиеся у подъезда, как по команде, также поспешно сняли шапки. Бородач поднял руку, как это обычно делается, когда оратору необходимо призвать публику к вниманию, хотя на площади и так никто не дышал, и произнес:
– Товарищи! – В мертвенной тишине его голос казался пронзительно звонким. – Только что российская верховная власть осчастливила подданных манифестом, в котором нам милостиво даруется свобода! Мы свободны! Свободны вкалывать от зари до зари и получать за это лишь взыскания и штрафы. Свободны жить впроголодь в грязных казармах! Свободны бессильно наблюдать, как умирают от истощения и болезней наши дети! Свободны бездарно погибать в чужой земле за чуждые нам интересы! Но если только мы заикнемся о своем недовольстве такою свободой, по нам можно совершенно свободно стрелять, свободно рубить нас шашками, стегать нагайками, бросать в застенки. Такова она царская свобода! Мы сегодня хороним нашего товарища, предательски убитого третьего дня здесь, рядом, на соседней улице. Всего лишь за день до того он вышел из тюрьмы… на эту их… свободу. Он был полон самых восторженных замыслов. Он был смел, умен, талантлив, благороден. Он любил жизнь и хотел всего себя отдать своему народу, хотел принести свой ум и талант служению добру, справедливости, счастью людей. Но царская свобода не позволила ему этого сделать. Царской свободе не нужны благородные, совестливые и честные граждане. Ей нужны только безропотные рабы, бездумные опричники и угодливые, трусливые холуи. Но им не заставить нас быть таковыми! Мы будем достойными нашего благородного покойного товарища! Мы продолжим его борьбу! И добьемся, чтобы его дело, его правда восторжествовали! – Он опять поднял руку, верно, предупреждая возможные, но отнюдь не уместные в эту минуту аплодисменты, и продолжил: – Товарищи! Сейчас мы на своих руках понесем нашего друга и соратника к месту его упокоения. Мы поднимем его гроб как знамя! как ковчег завета! И горе тем, кто встанет на нашем пути! Мы решительно заявляем: сегодня у нас не смиренные похороны с плачем и стенаниями! Сегодня мы выходим на бой! Мы идем в наступление на преступное самодержавие! на варварскую черносотенную Русь! Пусть же последний путь нашего товарища станет началом неудержимого и победоносного народного шествия к настоящей свободе! – Закончив речь, бородач в третий раз поднял руку, призывая собравшихся не давать и теперь волю чувствам.
Затем он сделал кому-то знак, двери раскрылись, и несколько человек вынесли на плечах покрытый красным полотном гроб. На полотне черными буквами была вышита надпись – «Слава борцу за свободу».
Сразу дюжины две крепких молодых людей – рабочих, судя по их скромнейшим поношенным пиджакам и косовороткам, – взявшись за руки, образовали вокруг гроба цепь, и это траурное шествие двинулось к Немецкой улице.
По мере продвижения число участников процессии нарастало, – тысячи людей, вышедших встречать гроб на тротуары, затем присоединялись к шествию. Так что, когда голова колонны показалась на Земляном валу, вся процессия представляла собой весьма внушительную силу – невиданное никогда прежде на Москве массовое собрание.
Впереди этой колонны шел отряд дружинников, меяеду прочим, и Мещерин с Самородовым. Они следили, чтобы на пути шествия полицейские, агенты охранки или черносотенцы не устроили бы какой-нибудь провокации.
Этот кордон был выставлен очень не напрасно. Потому что действительно среди толп москвичей, ожидающих процессию на тротуарах, а то даже и в самой процессии шастали какие-то подозрительные типы – или с очевидными повадками медниковских шпионов, или с типичными охотнорядскими мордами. Поэтому дружинникам, охранявшим шествие, нужно было быть начеку.
По договоренности с организаторами манифестации московская власть распорядилась убрать с улиц полицию и войска. И правда, ни полицейских, ни военных по пути следования колоны как будто не было видно. Но когда показались Красные Ворота, дружинники заметили, что там, среди зевак, похаживает невысокого росточка городовой.
Увидев авангард процессии, городовой быстро подошел к неторопливо бредущему извозчику, залез в пролетку и вдруг достал револьвер и несколько раз выстрелил в сторону дружинников. Те также выхватили пистолеты и открыли ответный огонь. Впрочем, ни полицейский, ни дружинники в цель не попали – слишком далеко они были друг от друга. И, кроме секундного переполоха, этот инцидент никаких последствий не имел.
Рядом с Мещериным шла Хая Гиндина. За те полтора года, что Мещерин ее не видел, Хая сильно переменилась: вместо прежней картинной декадентки, надменной и дерзкой, бравирующей радикальными взглядами, она теперь своею сдержанностью и немногословностью производила впечатление многоопытной мудрой дамы. Взгляд ее, прежде неизменно презрительный, стал скорее снисходительным и немного уставшим, впрочем, не изменившим своего обычного несколько высокомерного выражения.
Еще в давешнее их свидание у Саломеева в комитете Мещерин отметил, что Хая сделалась несравненно более привлекательною. А прямо сказать, похорошела. И собою слегка округлилась, и губки у нее очаровательно припухли, а брови, напротив, сделались изящнее, круче, а руки благороднее, а смоляные волосы, прежде обычно неубранные, теперь уложены со вкусом. Мещерин вдруг с удивлением на самого себя увидел в ней женщину, чего раньше странным образом не замечал. И ему было лестно, что Хая здесь, в группе дружинников, не сама по себе, как все прочие, и уж тем более не с кем-то, а именно с ним. А он с ней. От внимания молодого человека не ускользнуло, как многие дружинники, показывая вид, будто они озираются кругом в поисках провокаторов, поглядывали на его спутницу: так всё и бегали глазами то по груди, то по бедрам девушки. Да и сам Мещерин то и дело удостаивался завистливых взглядов товарищей, отчего он розовел и, чтобы не выдать своего удовольствия, пониже опускал голову.
Разговор у них как-то не выходил. Они если и обменивались репликами, то лишь такими, которые не могли касаться лично их, а только служили средством избежать неловкого молчания. И дело было даже не в посторонних, что шли от них в двух шагах и слышали каждое их слово. Если бы они на улице были и совсем одни, вряд ли бы у них теперь получилась более живая беседа.
Мещерин определенно знал, что Хая была к нему неравнодушна, и, судя по всему, чувствам за это время не только не изменила, а даже, похоже, умножила их. Да и сам он с удивлением обнаружил, что теперь как будто чего-то в ней находит. Она же, оказывается, недурна собой. К тому же очень неглупа. А уж об ее отваге, самоотверженности, верности избранным принципам и других замечательных свойствах натуры вообще говорить не приходится. Все эти неожиданные наблюдения и раздумья странным образом волновали бывалого служивого, вызывали у него смущение, какового он не испытывал очень давно, – пожалуй, с тех пор, когда, еще гимназистом, впервые оказался наедине с дамой в укромной комнатке.
Стесняясь выдать свои чувства, Мещерин старался казаться сосредоточенным, озабоченным единственно безопасностью их шествия. Но при этом он не мог удержаться, чтобы тоже не скользнуть глазами по груди своей спутницы, по ее бедрам, не задержать взгляда на ее маленьких остроносых, звонко отстукивающих по мостовой, башмачках.
Шедший поодаль Самородов лишь улыбался незаметно, наблюдая, как смущается его друг. Он, как и все в саломеевском кружке, знал о потаенных и, очевидно, не утраченных чувствах Хаи к Мещерину. Но, оказывается, теперь и сам Мещерин, судя по его поведению, неравнодушен к девушке. Арес поражен Купидоном, подумал Самородов и в очередной раз пригнул голову, пряча улыбку. Однако же, как посчитал Алексей, оставаться безучастным наблюдателем в этаком недоумении, случившемся с другом, с его стороны было бы не по-товарищески. Почему решил помочь Владимиру. Он начал издалека.
– Хая, – заговорщицки произнес Алексей. – Многолюднее похороны мы не встречали даже в Китае. Но попробуй отгадай, где мы видели самое великое столпотворение? Что это было за событие?
– Бой под Мукденом, видимо… – Хая посмотрела на Самородова с благодарностью за то, что тот нарушил затянувшееся неловкое молчание.
Воодушевленный этим ее одобрительным взглядом, Алексей продолжил:
– Представь себе, что почти столько же народу, сколько участвовало под Мукденом, праздновало день рождения в Японии, на который мы с Володей как-то летом попали. Нас не строго содержали в плену, – пояснил он. – У японцев принято справлять дни рождения. Но только не по отдельности, а всей страной заодно: вначале празднуется день рождения всех японских мальчиков, а через два месяца – всех девочек. И вот на таком празднике девочек мы случайно и оказались. За городом, на берегу моря. Народу, как я уже говорил, не счесть. Тьма. Все девочки и их мамаши закутаны в шелковые полотна самых разных цветов. Мужчин же почти не было. Разве старики. Понятное дело – война. Поэтому мы с Володей, да еще несколько таких праздношатающихся русских пленных привлекали к себе всеобщее внимание. На удивление, японцы относились к нам вполне дружелюбно: улыбались, даже угощали чем-то, чего есть не будешь, по правде сказать. И вот, внимание, Хая, – Самородов с улыбкой поглядел на друга, как бы давая тому понять, что сейчас он расскажет о нем нечто сокровенное. – Какая-то девочка лет двенадцати, шалунья, верно, записная, забралась на большой камень, выступающий в море вроде полуострова, да запуталась там наверху в своих шелках, оступилась и полетела в воду. Все это женское многоцветье разом заголосило, заметалось. А как помочь несчастной, никто не знает. И тогда Владимир бегом взлетел на этот самый камень и прыгнул в воду. Да вовремя успел: девчонка как раз уже перестала барахтаться и пошла на дно. Когда он вынес ее на руках из воды и она отдышалась, японцы, кажется, готовы были провозгласить его своим вторым микадо. Их восторгу не было предела.
– Ну довольно. Предисловие затянулось, – перебил его Мещерин. – Ты уж давай приступай к тому, ради чего завел эпопею. А то до самого кладбища не уложишься. – Он понял замысел друга.
– Так вот, – продолжил ободренный Самородов, – матушка этой девочки – изумительной красоты японка: этакая фарфоровая ваза, спелый ананас, стройный бамбук…
– Ветка сакуры в пору цветенья, – подсказал Мещерин.
– Да, ветка сакуры! – подхватил Самородов. – Как я забыл?! Одним словом, Хая, мало чем тебе уступает. Превосходит разве только летами. Впрочем, самую малость.
Хая, не в силах сдержать улыбки, энергично покачала головой, показывая, что у нее нет слов на эти юношеские необузданные фантазии.
– Эта японка овдовела еще в начале войны, – рассказывал Самородов, – муж ее взорвался на броненосце возле Порт-Артура. И вот, представь, она влюбилась в нашего Владимира до беспамятства. Ну, конечно, она была потрясена его героизмом, доблестью, к тому же безмерно благодарна за спасение утопающей дочери. Сама понимаешь. Так принялась нам чуть ли не каждый день носить передачи. В гости приглашает на чайные журфиксы. И вот однажды за чаем она прямо спросила Владимира, не желает ли он насовсем переселиться в их с дочкой бумажный павильончик и, крестившись в синтоизм, стать японцем и ее главою?
– И что же? – заинтересованно спросила Хая. – Неужели он отказался от такого лестного предложения?
– Представь себе – да. Он, как настоящий джентльмен, поблагодарил даму за оказанную ему честь и сказал, что он не свободен, что у него на родине, именно – в Москве, есть возлюбленная.
Хая наконец догадалась, к чему подводит Самородов.
– Так прямо и сказал? – спросила она, оглянувшись не на рассказчика, а на его повесившего голову друга.
Самородов деликатно промолчал, предоставив теперь разоблаченному влюбленному отдуваться самому.
– Так прямо… – глухо отозвался Мещерин.
– В таком случае этому джентльмену следовало бы не оставлять нас в неведении, а открыть предмет своей пламенной страсти, – продолжила пытать его Хая. – Кто же эта избранная счастливица?
Мещерин отвернулся.
– Ну, Володя, – призвал его к ответу Самородов. – Сказав «а», надо говорить и «бэ». Давай уж, сознавайся во всем. Просим, просим… Здесь все свои…
Мещерин, стараясь делать это незаметно, покосился глазами направо и налево: не услышит ли его кто посторонний?
– Хая… – выдавил он наконец. – Я говорил о тебе… Это ты… Я прошу твоей руки, – произнес он совсем уже тихо.
Девушка ничего не ответила. Она сосредоточенно смотрела под ноги.
Тогда Самородов, который шел все это время между ними, отстал на полшага, взял Хаю за левую руку, Мещерина – за правую и соединил их руки.
– Объявляю вас женихом и невестой, – прошептал он. – И будета два в плоть едину.
До Ваганьковского кладбища процессия добралась спокойно, без происшествий. Так же спокойно колонны от Ваганькова разошлись по районам. Однако уже этим вечером стало известно, что одна колонна, человек около ста, состоящая преимущественно из студентов университета, попала в полицейско-черносотенную засаду на самой Моховой. Когда манифестанты, воодушевленные успехом дня, осознанием своей силы, перед которой власть вместе со своими опричниками-казаками и охотнорядскими прихвостнями натурально спасовала, и строившие уже самые смелые планы дальнейшего наступления, когда они подошли к родным университетским стенам, которые по поговорке помогают, с противоположной стороны Моховой, из слуховых окон в крыше Манежа, из других зданий, по ним был открыта ружейная стрельба. Несколько человек свалилось замертво. Десятки получили ранения. Это была коварная, предательская месть власти за испытанное ею в этот день унижение, – хоть так возместить! хоть так отыграться!
Глава 7
Ровно в полдень 7 декабря над притихшей Москвой раздался протяжный и тревожный, будто предвещавший неладное, гудок. Это был призыв к всеобщей политической стачке. Тотчас тысячи мастеровых, рабочих, служащих, студентов, бывших наготове, напряженно ожидавших зова этого сигнала, побросали свои мастерские, цеха, конторы, аудитории и, подняв красные флаги, вышли на улицу. На иных флагах аршинными буквами прямо указывалась цель стачки: «Да здравствует вооруженное восстание!»
В Леонтьевском переулке собралась толпа не менее чем в тысячу человек – в основном рабочие типографии Мамонтова. Настроены все были решительно: сейчас в бой! на штурм! В двух шагах от Леонтьевского находились важнейшие московские властные резиденции: пойдешь налево, как говорится, – дом обер-полицмейстера, направо, за углом Тверской, – генерал-губернаторовы апартаменты. Типографские решили не мелочиться – что там какой-то полицмейстер? – а сразу идти на Тверскую и занимать главноначальствующую московскую квартиру. В успехе никто не сомневался: свергнем могучей рукою! час искупления пробил! Знамя только повыше да шаг потверже! Но едва колонна подошла к Тверской, ее атаковали драгуны. Побоище у Манежа 20 октября ничему повстанцев не научило – они точно так же снова угодили в засаду. С этой крови в Леонтьевском началась московская декабрьская драма.
Тем же вечером Мещерин с Самородовым и еще с несколькими своими дружинниками завладели целым арсеналом. Двумя группами, насколько возможно незаметно, они пробрались на Большую Лубянку, и, разоружив прежде городового, выломали дверь в расположенном там оружейном магазине. Выбрали именно этот магазин они не случайно – им указал на него Саломеев: по его сведениям, там их должна была ожидать богатая добыча. И правда, от обилия оружия у дружинников глаза разбежались: десятки пистолетов и винтовок, будто специально для них кем-то приготовленных, были развешаны по стенам, разложены по прилавку, на полу возле двери стояло несколько ящиков с патронами. Всего захваченного дружинниками хватило бы, чтобы вооружить по меньшей мере полуроту. Правда, пользы повстанцам это оружие так и не принесло.
Опять же по указанию Саломеева захваченный арсенал Мещерин доставил на Чистые пруды, в реальное училище, где находился штаб боевых дружин. В этом училище Мещерин, Самородов и еще несколько служивых начальников дружин обучали не нюхавших пороха новичков основам военного искусства.
Через два дня после взятия налетом оружейного магазина Мещерин с Самородовым опять показывали дружинникам приемы обращения с оружием, учили стрелять по мишеням. В этот раз в училище собралось, как никогда, много народу. Распоряжался над всеми Саломеев – после недавнего ареста почти всего Федеративного совета, которого он счастливо избежал, товарищ Дантон теперь являлся одним из руководителей восстания.
Вечером в полуподвал, где Мещерин и другие начальники дружин занимались с новобранцами, вбежал, громко стуча сапогами, расхристанный рабочий и закричал:
– Полиция! Полиция! Нас окружили!
От этого истерического крика чуть было не вышла паника. Все, как по команде, куда-то рванулись бежать, сталкиваясь и мешая друг другу, кто-то упал, кое-то даже бросил на пол оружие.
– К оружию! – прокричал Мещерин на все училище. – У кого винтовки – занять оборону на лестнице! С пистолетами – марш по этажам, встать на позицию к окнам! Македонцы, ко мне!
Македонцами именовались дружинники, обученные управляться с самодельными бомбами-македонками.
Все снова рванулись бежать, но на этот раз уже каждый боец знал свой маневр.
Когда Мещерин с Самородовым выбрались из подвала, входную дверь снаружи крушили солдаты, видимо, прикладами.
– Готовьсь! – приказал Мещерин своим дружинникам, расположившимся на лестнице, и поднял уже руку, чтобы, едва неприятель ворвется внутрь, скомандовать дать по нему залп.
Но в это время с верхнего этажа сбежал полотняно-белый Саломеев.
– Товарищи! Товарищи! – выкрикнул он высоким дрожащим голосом. – Не стрелять!
Мещерин от такого явления замешался и опустил руку. Дружинники в недоумении смотрели то на того, то на другого.
Тут двери с треском распахнулись, и в вестибюль, предводительствуемые офицером в чине ротмистра, с винтовками наперевес, осторожно, будто не желая спровоцировать дружинников сгоряча спустить курок, вошли солдаты, с дюжину всех, и выстроились в шеренгу.
Саломеев, наконец взяв себя в руки, уверенно подошел к офицеру, предводительствующему этою командой.
– Мы складываем оружие! – отчеканил он.
Никто из повстанцев ему не возразил, однако и винтовок никто не побросал. Больше того, некоторые дружинники стали медленно пятиться вверх по лестнице, предполагая, видимо, затем обороняться на верхних этажах.
– Выходите на улицу по одному без оружия! – громко произнес офицер, так, чтобы это было слышно всем в вестибюле и на лестнице.
– Нам требуется обсудить наше положение! – ответил Саломеев.
Офицер только молча кивнул, показывая, что он не возражает.
– Товарищи! – Саломеев снова почувствовал себя хозяином положения. – Призываю всех сохранять спокойствие! Начальников дружин прошу сейчас подняться в канцелярию!
Менее чем через минуту в канцелярии во втором этаже собрались все бывшие в доме ответственные лица.
– Штаб дружин пал! – Саломеев сразу же поставил точку в возможной дискуссии по поводу случившегося. – И теперь самое полезное, что мы можем сделать для восстания, вообще для революции, – патетически уточнил он, – это сохранить жизни всех, кто сейчас здесь находится. Оружием придется пожертвовать. Но это пустяки. Все эти железки не стоят жизни и одного дружинника. Уверяю вас, тот, кто выйдет на улицу без оружия, отделается в худшем случае несколькими месяцами тюрьмы.
– Это позор! – воскликнул молодой человек в студенческой шинели нараспашку. – Лучше сложить голову, чем так бесславно сдаться!
– Прекрасно! – вскипел Саломеев. – Я принимаю весь позор, все бесчестие на себя! Вы никто не опозорены! Вы – истинные храбрецы, готовые костьми лечь, но не выкинуть белого флага! Вам рукоплещет весь прогрессивный мир! А меня, разумеется, ждет всеобщее презрение за трусость! Замечательно! Но я спасу сотню людей. И они – эти люди – рано или поздно станут могильщиками самодержавия! Может быть, они тогда вспомнят с благодарностью того труса, что в декабре пятого года спас их от бездарной погибели!
Молодой человек что-то хотел возразить, но в это время в комнату вбежал тот самый расхристанный рабочий и взахлеб принялся докладывать Саломееву, что подошел местный пристав, который просит допустить его поговорить с руководством штаба. Саломеев, не раздумывая, велел проводить пристава в канцелярию.
– Ну вот, – удовлетворенно произнес он, – у нас еще есть сколько-то времени, чтобы сделать наше поражение как можно менее вредным для восстания. Мещерин, под черной лестницей отодвигаются половицы, и под ними находится железный люк. Спрячь туда хотя бы пистолеты, которые вы давеча захватили. И непременно патроны. В патронах у нас крайняя нужда. Идем, я дам тебе ключ от этого люка, – он в сейфе в соседней комнате.
Когда они зашли в соседнюю комнату, Саломеев вынул ключ из кармана и протянул его удивленному Мещерину.
– Мы пришли сюда не за ключом, – почти шепотом произнес он. – Я вот что тебе должен сообщить: после ареста Федеративного совета, чтобы нам вообще не остаться обезглавленными, исполнительною комиссией разработан план по спасению руководства восстания. В каком-то непредвиденном случае, вроде нынешнего, достаточно только успеть позвонить особому связному, назвать пароль и адрес, и… арестованные не доедут до тюрьмы – они будут отбиты по пути хорошо подготовленною, уверяю тебя, боевою организацией. Я уже позвонил куда следует. Так что камера сегодня нам, скорее всего, не грозит.
Мещерин совершенно спокойно, как что-то само собою разумеющееся, выслушал новость.
– Но для наивернейшего успеха необходимо, – рассказывал Саломеев, – чтобы полиция и военные больше были озабочены еще сражающимися в осаде повстанцами, нежели охраной уже безвредных сдавшихся. Понимаешь, о чем я?
– Разумеется, – немедленно ответил Мещерин. – Мы будем держаться, сколько возможно.
– Спасибо. Я знал, как ты ответишь. Но не подумай, что я оставляю вас на погибель. У тебя в кармане ключ, который откроет вам путь к спасению. Вы, как только посчитаете нужным, спуститесь через люк в подземелье и выйдете на поверхность в двух кварталах отсюда. Там вас встретит свой человек. Имей в виду, Владимир, мне крайне важно, чтобы вы с Алексеем сегодня к ночи, живые и невредимые, были на свободе. Возможно, вы мне нынче же понадобитесь. На всякий случай ждите меня в Старомонетном.
– Все сделаем как необходимо, – заверил Мещерин.
Они вернулись в канцелярию. Там их уже ожидал пристав, явившийся для переговоров о сдаче. Его сопровождал тот самый ротмистр, что без единого выстрела захватил вестибюль.
Оказывается, пока отсутствовал Саломеев, начальники дружин заявили парламентерам, что они готовы оставить занимаемую позицию, но выйдут только с оружием в руках и арестовывать себя не позволят. Для осаждающих училище это было равносильно признанию своего поражения. Естественно, ни пристав, ни тем более военный начальник не могли согласиться с такими требованиями.
– Свяжитесь с вашим начальством, – заявил им Саломеев. – Передайте наши условия.
Пока пристав крутил рукоятку аппарата, Саломеев кивком головы указал Мещерину и Самородову на дверь, предлагая им приступать к оговоренным прежде действиям. И тот и другой немедленно вышли.
Пристав связался с самим генерал-губернатором. Когда он изложил адмиралу Дубасову суть требований повстанцев, из телефона раздался негодующий крик, дошедший до слуха всех находящихся в комнате: «Стрелять!» Пристав как-то испуганносочувственно оглянулся на Саломеева, на других присутствующих и беспомощно развел руками.
– Слышали? – со страхом в голосе спросил он.
Поскольку Саломеев молчал, лишь испытующе поглядывая то на одного из начальников дружин, то на другого, от имени всего штаба ответил агрессивный студент в шинели:
– Да, слышали! Но наше решение непоколебимо: мы не сдаемся! мы будем сражаться!
Ни слова больше не говоря, единственно взглядом прося ротмистра быть мягче к этим заблудшим неразумным, пристав снова развел руками. Ноу представителя военных властей было совсем другое настроение.
Офицер заявил, что, если через пятнадцать минут все находящиеся в здании лица не выйдут на улицу без оружия, он прикажет открыть по ним артиллерийский огонь.
– В таком случае, – студент в шинели решительно встал в дверях, – мы имеем полное моральное право принудить вас, господа, разделить с нами этот варварский расстрел. Вы будете командовать своими подручными, лежа с жертвами на одной плахе! – издевательски улыбаясь, добавил он.
Офицер остался совершенно невозмутимым. Пристав же заметно занервничал, – он испуганно смотрел на Саломеева, его взгляд прямо-таки кричал, вопил: как же так? такого никак не может быть!
– Товарищи! – вмешался наконец Саломеев. – Революционная честь не позволяет нам уподобиться нашим врагам! Не позволяет поступать непорядочно! Это они без зазрения совести стреляют по мирным гражданам, это они рубят шашками безоружных, это они секут нагайками женщин и стариков. Но мы им покажем пример настоящего человеческого благородства: действительно, имея возможность теперь прикрыться этими царскими сатрапами, как щитом, мы не сделаем этого, мы не опорочим революцию подлыми деяниями, которые лягут на нас и на наше великое дело несмываемым позорным пятном. Отпустить их! Путь уходят и помнят наше великодушие!
Все, натурально, заслушались Саломеева. А агрессивный студент, устыдившись своего непорядочного поступка, опустил голову и отошел подальше от двери, освободив парламентерам выход.
Пристав, из последних сил стараясь сдерживать шаг, чтобы его уход не выглядел бегством, выбрался на улицу и на всякий случай отошел подальше от злосчастного училища. Ротмистр же, напротив, пока не спешил покидать здание. Он неторопливо спустился в вестибюль к своим солдатам. Там он оставался ровно пятнадцать минут, которые сам же установил повстанцам на раздумье. Но едва условленный срок истек, офицер приказал нижним чинам покинуть помещение и сам вышел вслед за ними.
Ротмистр собрался уже дать знак трубачу сигналить к бою, но тут в дверях училища показался Саломеев, – он шел с гордо поднятою головой, показывая, что вынужден уступить силе, но, несмотря ни на что, остается верен своим идеям. За Саломеевым потянулись цепочкой сдающиеся повстанцы. Их было довольно много – человек до ста. Драгуны хватали их и запихивали в арестантские кареты, которые тотчас, под охраной эскорта, разъезжались по тюрьмам.
Саломеева посадили в отдельную карету, – так распорядился пристав, – и тоже немедленно увезли. Напоследок Саломеев еще успел крикнуть ротмистру:
– Прошу вас проявить милосердие к тем, кто был милосерден с вами! – Он рассчитывал, очевидно, быть услышанным многими.
Офицер отвернулся, ничего ему не ответив.
Сдались, однако, далеко не все из повстанцев. Самые непримиримые, в том числе и все начальники дружин, остались в училище, намереваясь стоять там насмерть.
Наконец ротмистр скомандовал трубачу подавать сигнал. И когда в третий раз протяжно и как-то не по-боевому заунывно, будто скорбя по обреченным, пропел рожок, грянул пушечный выстрел. Здание училища вздрогнуло. Послышался звон разбившегося стекла, грохот от падающих на тротуар кирпичей. За первым выстрелом последовал второй, третий…
Но и осажденные не оставались в долгу. После первого же выстрела из окон вылетело несколько македонок. Причем один бросок оказался исключительно успешным: граната долетела до стоявшей неподалеку группы солдат во главе с офицером и взорвалась у них в ногах. Несколько человек, в том числе и офицер, свалились замертво, остальные разбежались. Из окон и с крыши училища затрещали ружейные выстрелы.
Но против пушки ружья и македонки были слабым аргументом. После двенадцатого выстрела, когда уже фасад погрузившегося во мрак училища зиял страшными черными пробоями, обстрел прекратился, и осажденным вновь было предложено сдаться.
Шатающийся от легкой контузии Мещерин в одной из комнат в третьем этаже нашел Самородова, – пользуясь затишьем, Алексей перезаряжал винтовку готовясь продолжать бой.
– Уходим! – крикнул ему Мещерин. – Сейчас здесь будет груда кирпичей!
Самородов, верно, опьяненный от сражения, как это нередко бывало у бойцов на войне, особенно при артиллерийском обстреле, смотрел сквозь друга, никак не реагируя на его слова.
– Алексей! – Мещерин схватил его за плечи и энергично потряс. – Фронт прорван! Мукден сдан! Отходим! Если не хочешь снова в плен! – Он вырвал у Самородова из рук винтовку и бросил ее на пол.
Ему удалось вывести Самородова на лестницу. Только там Алексей вроде бы пришел в себя.
Навтором этаже они столкнулись с девушкой, видимо, одной из тех гимназисток, которым удалось прорваться в училище перед самой осадой, – они в наиболее безопасном крыле здания устроили перевязочный пункт и подавали там помощь раненым дружинникам.
– Кто здесь старший? – требовательно спросила незнакомка.
– А в чем, собственно, дело? – авторитетно пробасил Мещерин, показывая, таким образом, что старший в разгромленном штабе теперь, пожалуй, он самый.
– Дело в том, что раненых надо немедленно поручить милости полиции! – ничуть не стушевавшись, заявила девушка. – Иначе они погибнут! Некоторые из них при смерти.
– Считайте, уже поручены, – отрезал Мещерин. – Через минуту здесь будет милостивая полиция и сердечные солдаты. – И он поспешил дальше вниз. – Кстати, – оглянулся Мещерин, добежав до середины марша, – если хотите избежать ареста, пойдемте с нами.
– Я останусь с ранеными! – последовал решительный и довольно суровый ответ.
– Как знаете, – раздраженно произнес Мещерин. – Только помощи от вас раненым теперь ровно никакой… – Более не собираясь задерживаться, он застучал каблуками по лестнице.
Но вдруг Самородов взлетел через полдюжины ступенек на площадку, где стояла девушка, схватил ее за руку и потащил за собой вниз.
– Что вы делаете? Оставьте меня! – кричала она, пытаясь вырваться. – Это неблагородно покидать раненых!
– С вашими понятиями о благородстве надо не в революции участвовать, а в благотворительной распродаже! – внушал ей Самородов, не позволяя высвободить руку. – Революционное благородство – это вырваться во всяком случае из петли, чтобы затем яростно мстить за всех наших раненых, погибших и арестованных товарищей, а не делить их участь, на радость врагу! По-вашему, мадемуазель, вы где больше пользы принесете революции: на свободе или в Каменщиках?
Ответить девушке было некогда, да ее никто и не слушал, – все были поглощены своими заботами.
В вестибюле находилось несколько дружинников, державших на прицеле заваленную партами и стульями дверь.
– Товарищи! – крикнул Мещерин. – Приказываю прекратить сопротивление! Штаб сдан! Есть возможность уйти!..
В это мгновение где-то наверху раздался оглушительный взрыв, – обстрел училища возобновился, – похоже, снаряд влетел во второй этаж, посыпалась штукатурка, здание страшно затрещало… Мещерин и Самородов с девушкой, руки которой он так и не выпускал, едва успели отпрыгнуть в коридор левого крыла, и… обвалившийся потолок завалил весь вестибюль и остававшихся там людей.
По длинному коридору, задыхаясь и едва разбирая дорогу в густой пыли, они втроем добежали до черной лестницы. Там Мещерин исполнил все, как наказывал ему Саломеев: поднял половицы и отомкнул ключом железный люк в полу. Из пугающей колодезной темноты на них дохнуло сыростью и холодом.
– Давай! – коротко и ясно сказал Мещерин другу.
Самородов свесился в колодец вниз ногами, нащупал ступеньки и быстро скрылся во мраке. Колодец, впрочем, оказался не таким и глубоким – сажени в полторы.
– Держи! – также понятно произнес Мещерин, схватил девушку и бережно опустил ее на руки Самородову. После чего спустился и сам.
Вспыхнувшая спичка на мгновение освятила сводчатый, выложенный кирпичом уходящий неведомо куда туннель. Но горели спички в этом затхлом пространстве хуже некуда скверно. Поэтому беглецы двинулись вперед, больше различая путь руками, нежели глазами. Первым пробирался Самородов, за ним Мещерин, замыкала шествие их случайная попутчица.
– Зачем ты прихватил эту обузу? – бурчал Мещерин в затылок другу. – Пользы от нее… Ей всего взыскания причиталось бы – ночь в участке…
Туннель был не длинный: едва ли сорок саженей. И скоро путники уперлись в глухую стенку. Они еще не сразу заметили, что внизу стенки имеется оббитая железом дверца вышиною чуть более аршина. Мещерин подергал ее вперед-назад. Дверца со скрипом стала поддаваться. В туннель проник тусклый желтый свет.
– Товарищи, товарищи, проходите, – раздался из-за дверцы сильно окающий глухой голос. – Родимые, заждались вас.
Помещение, куда пробрались беглецы, было, очевидно, дворницкой в подвале одного из ближайших домов. Сам дворник – в фартуке и с бляхой, – бывший, по выражению Саломеева, своим человеком, щурясь и осклабившись, встречал гостей с керосиновою лампой в руках.
– Все или еще есть кто? – спросил дворник, бегая глазами с визитеров на черную дыру в стене и обратно.
– Все, – ответил Мещерин.
– Вот и ладно, – громко произнес дворник.
Тут завеса из дырявой мешковины, разделяющая комнату надвое, распахнулась, и из-за нее, направив на повстанцев длинные револьверы, вышли двое полицейских. Одновременно через дверь в дворницкую вошел третий полицейский, возможно, околоточный, бывший старшим в засаде.
– Вот они самые, ваше благородие, – угодливо сразу отнесся к нему дворник. – Попалися.
По знаку старшего двое полицейских подошли к Мещерину с Самородовым и вытащили у того и другого из карманов наганы.
Околоточный, неторопливо, как подобает истинному хозяину положения, вышел на середину дворницкой.
– Тэ-э-эк… – протянул он, брезгливо кривя рот. – Бунтуете? Против власти царской идете? Жиды небось? А вот я, прежде чем отправить в крепость, сейчас велю вам, обрезанным, спустить штаны, да и всыпать нагаек по сто. Подыхать до-о-олго будете! В му-у-уках! – с издевательскою улыбкой добавил он. – Так что пуля, от которой вы трусливо сбежали, покажется вам ровно как награда, как божья милость. А ну-ка, ребята…
Он не договорил. Один за другим в комнате грохнули три выстрела. И все трое полицейских свалились на грязный пол.
Мещерин с Самородовым не сразу поняли, что произошло. Они еще огляделись испуганно по сторонам: кто стрелял? И тут увидели в руке у своей незнакомки-спутницы наган, который она еще даже не успела опустить.
– М-молодец, – заикаясь от изумления, произнес Мещерин.
Заметив, что околоточный еще жив, хотя и явно агонизирует, Мещерин наклонился к нему.
– Мы не такие жестокие, господин верноподданный, – участливо заметил он умирающему. – Вам мучиться долго не придется. Что значит повезло с арестованными!
Тут он вспомнил о хозяине комнаты. Очумевший до столбняка дворник так и стоял возле лаза в туннель. Мещерин бережно взял у него из рук лампу и поставил ее на ящик возле стенки.
– Заждался ты нас, родимый, говоришь? – спросил он дворника. И вдруг изо всех сил, с разворота задвинул ему кулаком снизу в челюсть. Дворник кубарем полетел в дальний угол на кучу какого-то хлама и замер там, задрав вверх заплатанные сапоги.
Подобрав оружие – и свое, и трофейное, – беглецы через черный ход выбрались на улицу. Вокруг все было как будто спокойно. Обыватели давно попрятались по домам. Полиция и солдаты, конечно, не могли занять каждый проходной двор, дежурить у каждой черной двери. Бой за училище тоже, наверное, прекратился. Об этом можно было судить по наступившей тишине.
– Вас как зовут, мадемуазель? – наконец-то поинтересовался Мещерин.
– Лиза, – скромно ответила девушка, будто ничего такого героического она не совершила.
– Спасибо, Лиза. Мы вам обязаны своим спасением. Но где же вы так научились стрелять?
– Папа – офицер. Показывал когда-то.
– Ну спасибо и папе…
Тут Мещерин хватился:
– Как вы сказали вас зовут? Лиза?! Тужилкина?!
– Да… – растерянно ответила девушка.
Мещерин и Самородов изумленно переглянулись.
– А вы не узнаете нас? Года полтора назад мы с вами встречались. – Наконец-то Мещерин улыбнулся Лизе. – Да и не однажды вроде бы…
– У купца Дрягалова, помнится, сидели чай пили в замечательной компании, – подсказал Самородов.
– Ах да! – вспомнила наконец и Лиза своих спутников. – Неужели это было когда-то?..
– Самим не верится… – вздохнул Мещерин.
У Мясницких ворот они вскочили в извозчика. И вскоре были в полной безопасности – в установленном Саломеевым для их встречи месте.
Арестантская карета с единственным узником внутри, в сопровождении полудюжины драгун, плавно скользила по чистому утоптанному снегу по Лялиному переулку. Но, повернув на Воронцово поле, возничему пришлось придержать лошадей: поперек дороги стояли длинные сани, нагруженные сеном. И тут произошел совершенный переполох. Откуда-то из дверей, из подворотен выскочили вооруженные люди. Человек двадцать всех. Они подняли такую пальбу, что заглушили начавшийся бой за штаб дружинников у Чистых прудов. Впрочем, великим потрясением это ни для кого не стало: в последние дни стрельба в Москве сделалась почти обычным явлением. Стреляли в ответ и драгуны. Но – удивительно! – ни с той, ни с другой стороны не было ни убитых, ни раненых. Сделав по два-по три выстрела, драгуны ускакали. Тогда кто-то из нападавших подошел к карете, сбил прикладом замок, распахнул дверь и с пафосом прокричал:
– Именем революции вы свободны, товарищ!
Из кареты выглянул Саломеев.
– Скорее! Вас ждет экипаж! – поторопил его освободитель, показывая на стоящую шагах в тридцати от перекрестка кибитку, запряженную парою.
Саломеев не стал дожидаться повторного приглашения выходить на свободу. Прекрасно зная, кто именно его освобождает, он, тем не менее, опасливо огляделся по сторонам и только затем выбрался из кареты. В кибитку он вскочил с разбегу.
Через минуту экипаж уже несся по Садовой.
– Поздравляю вас с блестяще проделанною работой, – сказал Саломееву сидевший в кибитке чиновник охранного отделения. – Вы гений провокации.
Саломееву, очевидно, не понравилась такая характеристика. По искреннему же убеждению чиновника, любому его сотруднику это должно было бы казаться в высшей степени лестным определением.
– Я уже доложил кому следует, – рассказал Викентий Викентиевич, – что украденное бунтовщиками позавчера на Лубянке оружие возвращено и завтра будет предъявлено для описи. Думаю, ваш штаб не долго продержится. Начальство в восторге. Вот ваше вознаграждение. – Он сунул Саломееву в руку продолговатый сверток. – Но беспорядки, или революция, кому как больше нравится, – поправился он, – продолжаются. И было бы несправедливо, чтобы терпела только одна сторона. Так не бывает. Должны же и ваши инсургенты знать успех. Не правда ли? Я не случайно просил вас иметь сегодня наготове двух надежных людей. У вас есть таковые?
– Имеются, – самодовольно ответил Саломеев. Он отлично понимал свою уникальность, свою незаменимость в их совместном с охранкой деле. А полученный гонорар вообще привел его в превосходное настроение.
– Прекрасно. Обратите внимание: у нас в ногах, под сиденьем, стоит ящик. Это динамит. Сегодня же ночью ваши надежные люди должны будут этим динамитом взорвать охранное отделение.
Саломеев порывисто оглянулся на собеседника.
– Что-что взорвать? – изумился он.
– Охранное отделение в Гнездниковском переулке, – как ни в чем не бывало, пояснил Викентий Викентиевич. – Сейчас вас отвезут, куда скажете. Там вы передадите своим людям взрывчатку, – надеюсь, они умеют ею пользоваться, – и пускай немедленно едут в Гнездниковский. Вам что-нибудь не ясно?
– Нет, все ясно, – заверил Саломеев. – Считайте, охранного отделения в Москве уже нет. Но простите, могу поинтересоваться, почему вы избрали для теракта собственное место службы?
– Ну, видите, для меня это в некотором смысле отличие, выслуга. Как рана для военного. За чужие раны военный не получает же награды. Правильно? Вот так и здесь. Мы можем, конечно, избрать в качестве вашего ответного удара, скажем, дом обер-полицмейстера. Но значит, это обер-полицмейстеру и зачтется в заслугу, как пострадавшему. Правда, если жив останется. Вы согласны?
– С вами невозможно не согласиться, ваше высокоблагородие, – льстиво ответил Саломеев.
– Ну что ж, господин Саломеев… Дантон! – улыбаясь, отчеканил Викентий Викентиевич. – Вам идет эта кличка. Все, кажется, складно выходит. Не так ли? Кстати, пора бы вам подумать о вашем изменнике – Дрягалове. Вы помните, надеюсь, наш уговор?
На Таганке чиновник пересел в извозчика, а своему возничему велел отвезти Саломеева, куда тот укажет.
Саломеев приехал в Старомонетный переулок, где он нанимал квартиру во втором этаже углового дома. Впрочем, он здесь почти не появлялся. Эта квартира ему нужна была для редких встреч с кем-нибудь из товарищей. Мещерин же с Самородовым, как ближайшие его сподвижники, вообще имели от нее свои ключи.
Квартира была необыкновенно удобная. Кроме того, что из нее открывался вид на две стороны, и в случае появления какой-либо опасности в переулке, скажем, полицейской облавы, этого невозможно было бы вовремя не заметить. Но главное, из нее имелся выход на чердак и на крышу. А так как к дому примыкали другие дома, а к ним, в свою очередь, третьи и так далее, то по их крышам, в случае чего, можно было уйти довольно далеко. Да на самый худой конец со второго этажа можно было просто спрыгнуть на тротуар или во двор и сбежать.
Едва Саломеев въехал в переулок, он и в темноте разглядел возле дома санки верного Тихона Клецкина, а в них и самого извозчика – тот истово исполнил повеление своего старшого дожидаться его сегодня в Старомонетном. Узнав от Клецкина, что пока еще никого – ни своих, ни чужих – здесь не было, Саломеев поднялся в квартиру. Он понимал, что Мещерин с Самородовым вряд ли скоро выпутаются и уж во всяком случае не опередят его.
Действительно, только часа через полтора – уже за полночь – к дому подкатил извозчик, и Саломеев, притаив лампу, разглядел из-за занавески обоих своих соратных товарищей и с ними еще какую-то незнакомую даму. Саломеев поморщился – он категорически запретил Мещерину с Самородовым кому бы то ни было показывать эту квартиру. Хотя он тут же подумал, что вряд ли опытные революционеры и подпольщики поведут в такое место какого-то чужого, ненадежного человека.
– Ну рассказывайте, как вы? Удачно выбрались? Погибших много? Оружие удалось спасти хоть сколько-нибудь? – засыпал их вопросами Саломеев, едва пропахшие порохом бойцы ступили на порог.
Мещерин только устало и грустно оглянулся на друга и повесил голову.
– Оружие – у неприятеля, – ответил Самородов.
– Ну не беда, – бодро улыбаясь, успокоил его Саломеев. – Завтра же добудем новое. У нас уже имеется на примете один магазинчик. Почище прежнего.
– Погибшие есть, раненых немало, но большинство арестовано, – продолжал Самородов. – А выбрались мы, можно сказать, удачно… Если не считать, что на другом конце подземного хода нас ждала засада. А этот твой «свой человек» оказался полицейским пособником.
– Что?! – воскликнул Саломеев. – Этот отходной путь приготовили товарищи из комитета. Мне о нем сообщили самые надежные люди. Невообразимо! Это… это чья-то провокация! Измена! Сколько же предателей кругом!
– Наплевать, – подал наконец голос Мещерин. – Засада им же и вышла боком.
– Но как же вы выпутались? – заинтересованно спросил Саломеев. – Нет, это просто невообразимо! – Он все никак не мог унять переполнявшего его возмущения.
– Если бы не эта мадемуазель, – Самородов взял под локоток девушку и вывел ее на середину комнаты, – мы бы сейчас были в Бутырках или даже в убогом доме. Жизнью ей обязаны.
Все это время Лиза оставалась в полумраке на заднем плане и, не отрываясь, исподлобья недобрым взглядом глядела на Саломеева.
– Неужели вы не узнали меня, Сергей Юрьевич? – спросила она его.
Саломеев сколько-то тревожно вглядывался в гостью. И, узнав наконец ее, вовсе не стушевался, – он был слишком искушенным игроком, слишком готовым к перипетиям, которые то и дело встречались на его жизненном пути, чтобы не потеряться от каких-либо новых неожиданностей. Ему мгновения хватило, чтобы оценить положение и принять решение по дальнейшим действиям. Он резко и шумно вдохнул, будто от нечаянного расплоха, и было подался к Лизе, очевидно, намереваясь обнять ее, но удержался от этого, не без труда, впрочем, не скрывая сожаления от того, что не может отечески прижать девушку к груди, ибо такие нежные порывы его души не согласуются с роковым моментом, с самым его положением не ведающего жалости и сантиментов предводителя революционных масс.
– Не может быть!.. – произнес Саломеев трагично. – Я же отправил вас на верную смерть, – сокрушенно прошептал он, будто казнясь за свое жестокое, но вынужденное право распоряжаться судьбой ближних. – Иркутские товарищи сообщили мне, что вы погибли… Еще тогда… зимой… Товарищи! – решительно проговорил Саломеев, показывая, что взял наконец себя в руки, не без труда преодолев потрясение. – Не знаю, насколько вы успели познакомиться с товарищем Лизой, но должен объявить вам, что это настоящая героиня революции!
– Да уж имели счастье убедиться… – усмехнулся Самородов.
Лиза хотела что-то сказать, но Саломеев опередил ее:
– Однако чествовать героев сейчас не время. Битва не окончена! Алексей! Владимир! Товарищи мои! Вы не меньшие герои! И я понимаю, что после всего приключившегося с вами нынче вам надо трое суток отсыпаться. Беспробудным сном! Но!., я не приказываю – прошу: сейчас же исполнить еще одно важнейшее революционное поручение. Это будет нашим возмездием за сегодняшнюю их дикую расправу над почти безоружными студентами. – Он замолчал. Его просящий взгляд приглашал Мещерина с Самородовым дать какой-то ответ.
– Мы готовы, – ответил Мещерин.
– Спасибо, друзья мои, – дрогнувшим голосом произнес Саломеев. – Вы видели: внизу стоит наш Извозчик. У него в санках – динамит. Вам нужно немедленно поехать в Гнездниковский переулок… – Саломеев помедлил и, заранее любуясь тем, какое впечатление произведет его финальная реплика, добавил: – И взорвать охранку…
У друзей, впрочем, после всего пережитого уже не оставалось эмоций, чтобы изумиться сказанному.
– Пошли. – Мещерин кивком головы показал Самородову следовать за ним и, понурившись, потопал к двери.
– Завтра приходите к вечеру в штаб, – сказал им вслед Саломеев. – День отдыхайте.
Глава 8
После того как японцы отпустили подполковника Годара, его внука Паскаля и Диму Дрягалова на волю, для Александра Иосифовича стало очевидным, что те как-нибудь теперь да позаботятся вызволить своих оставшихся в плену товарищей. Поэтому, предвидя возможное неблагоприятное для него развитие событий, господин Казаринов предусмотрел, как бы ему в таком случае сохранить сокровища, чтобы воспользоваться ими если не в ближайшее время, то, по крайней мере, когда-нибудь в будущем. Он купил у китайцев шесть мешков, набил их мелкой галькой и зашил в тюки с чаем вместо самоцветов. Сами же драгоценности закопал здесь же под навесом, где лежал чай. Землю Александр Иосифович тщательно утрамбовал и еще присыпал сеном. Таким образом, тайной императорских сокровищ теперь владел единственно он самый. Оставшиеся в тюках золотые изделия Александр Иосифович в расчет не принимал – они по стоимости составляли незначительную часть от того, что было укрыто в земле.
Когда начался ночной штурм, Александр Иосифович не успел убежать, – повсюду слышалось «ура!», и он, страшась угодить в руки к соотечественникам, вынужден был прятаться где-то здесь же – в самой деревне: не раздумывая, он пролез ползком в щель между задней стенкой навеса и плетнем и затаился там, – заметить его, в темноте к тому же, было решительно невозможно.
Александр Иосифович видел из своего укрытия, как во двор вошли люди с факелами и по голосам узнал: это были именно те, встречи с кем он более всего опасался, – выданные им японцам московские знакомцы и их освободители-французы. Полагая, что сейчас они заберут тюки с зашитой в них придорожной галькой и удалятся, господин Казаринов еще более вжался в землю. Но, услыхав из своего укрытия, как кто-то предложил распороть один из тюков, чтобы убедиться – на месте ли сокровища? – Александр Иосифович вынужден был решительно переменить тактику поведения. Он мгновенно сообразил, что если сейчас обнаружится подмена, то весь его хитроумный план может рухнуть: а ну как конкуренты вздумают искать спрятанное – и, чего доброго, найдут! И вот, чтобы предотвратить их намерение, а главное, доказать, что в зашитых в тюки мешках лежат именно драгоценности, господин Казаринов предпринял весьма рискованную выходку. Он незаметно выполз из своего укрытия, схватил находящуюся здесь же девушку и, угрожая ей наганом, потребовал от прочих подчиниться его требованиям.
Трюк его вполне удался. И даже случившаяся в финале неприятность, – впрочем, едва не стоившая Александру Иосифовичу жизни, – не сказалась роковым образом ни на собственном его положении, ни на судьбе сокровищ. Попав в поле под обстрел и полетев кубарем с убитого коня, он мастерски изобразил из себя бездыханного мертвеца, чем ввел в заблуждение и бывшую при нем заложницу и подоспевшего тотчас преследователя. Александр Иосифович терпеливо выждал, пока соотечественники выяснят отношения, сопя и стеная прямо ему на ухо, и удалятся. Затем он поднялся и – где ползком, где бегом, скрючившись в три погибели, – стал пробираться вдоль реки к западу от деревни. Господин Казаринов справедливо рассудил, что в Мукден ему теперь дороги нет, – за все совершенное им, о чем, разумеется, не преминут донести свидетели, его там по законам военного времени ждет шеренга стрелков. Идти к японцам, даже имея при себе спасительную бумагу, выписанную ему японским главным штабом, также не было никакого резона: если он теперь имел целью откопать спрятанные в китайской деревне драгоценности и вывезти их, то японцы являлись в этом помехой не намного меньшей, чем русские. Значит, требовалось где-то на время затаиться и переждать, пока театр военных действий не переместится подальше от клада в ту или другую сторону.
Пройдя верст пять вдоль Хунь-хэ, причем нигде не хрустнув ни сучком, как заправский охотник ничем себя не выдав, Александр Иосифович вышел к небольшому городку. Уже светало. Некоторое время он из кустов наблюдал: не промелькнет ли где – у ворот ли, на стене – высокий японский картуз или, того хуже, русская мохнатая папаха? Но, убедившись, что военных как будто не видно – ни японцев, ни русских, – он направился к городу.
Затаиться на время, отсидеться, ненадолго хотя бы затерявшись среди китайцев, было теперь для Александра Иосифовича самым благоразумным поведением. Для осуществления такового у него имелись все средства: он неплохо знал по-китайски, располагал приличной суммой денег и имел к тому же на крайний случай несколько драгоценных камушков, которые положил в карман еще в монастыре. Но главное – у господина Казаринова был при себе пропускной лист, сфабрикованный уже в русском главном штабе и удостоверяющий его полномочия сотрудника бельгийского миссионерского общества. Бумага эта была заверена китайскими властями. Китайцы, подобострастно относящиеся к любой начальственной подписи, подобные документы с обычною своею витиеватостью именовали охранительным сиянием. Так что Александр Иосифович, довольно обеспеченный материально и имеющий надежные бумаги на всякий случай, мог чувствовать себя вполне уверенно.
Устроившись в гостинице, Александр Иосифович мог наконец перевести дыхание, как говорится, и тщательно обдумать свое положение и дальнейшие действия.
Что, собственно, с ним произошло? Во всяком случае, не самое худшее. Главное, что он теперь был владельцем несметных, невиданных в мире богатств. Сокровища китайских императоров принадлежат только ему, и больше никому! Двадцать с лишним лет пути к ним, терпения, переживаний, смертельных опасностей увенчались совершенным успехом! Я поставил на «зеро», восторгался сам собою Александр Иосифович, и выиграл! выиграл невообразимое – мечту! любовь! Фаворский свет! А то, что сокровища не при нем в данный момент, так это даже и неплохо: при тех обстоятельствах, которые теперь сложились, иметь при себе шесть пудов бриллиантов было бы чрезвычайно опасно. Если бы о них прознали – все равно кто: китайцы, японцы, русские, – то спасти сокровища Александру Иосифовичу не помогли бы уже никакие охранительные сияния. А так камушки укрыты в надежном, известном только ему месте, из которого при необходимости их будет совсем не сложно и забрать. Александр Иосифович живо представил себе, как именно он обретет в свое время клад: он приедет в эту деревню, – видимо, после войны, не век же она будет продолжаться, – и попросту купит у хозяев ту самую фанзу с задним двориком, где под навесом закопаны мешки.
Довольно смутно господин Казаринов представлял дальнейшие свои отношения с отечеством: как они теперь будут строиться? – ведь он на родине, верно, почитается порядочным злодеем, изменником. Но это не особенно заботило Александра Иосифовича. Владея крупнейшим в мире состоянием, он мог отныне не особенно беспокоиться о репутации. Если потребуется, несметные богатства прославят его имя среди соотечественников на века! сделают его одним из самых замечательных, выдающихся граждан России! помогут прослыть хоть… спасителем отечества! хоть отцом народа! Впрочем, этакий триумф его ждет еще очень не скоро. Пока он почитается на родине далеко не замечательным гражданином, и ему следует задуматься, как бы избежать возможных претензий со стороны русской государственной власти.
Тут Александру Иосифовичу в голову пришла простая и гениальная мысль: преследуемым по закону может быть только живой, – мертвый же какому-либо преследованию не подлежит! Это ясно как день! Если Александра Иосифовича Казаринова нет в живых, то все возможные претензии к нему естественным образом снимаются! Придя к такому выводу, Александр Иосифович облегченно вздохнул: теперь наконец он отчетливо представлял, каковыми должны быть все его дальнейшие действия. Чаша гнева Господня как будто отступилась.
Собственно, последние русские, которые его видели и которые, очевидно, будут свидетельствовать против него, должны полагать, что он скорее мертв, нежели жив. Нагнав давеча Александра Иосифовича в поле, преследователь, судя по его поведению, нимало не усомнился в том, что жертва его уже никогда не подаст признаков жизни. И даже если наутро кто-нибудь еще приходил на то место и не обнаружил там трупа, то это едва ли убедительно свидетельствует в пользу того, что господин Казаринов все-таки остался в живых: в конце концов, тело могли утащить и какие-нибудь звери или собаки, которые в китайских селениях и вокруг них всегда бродят бесчисленными и вечно голодными стаями.
Одним словом, Александру Иосифовичу крайне важно было подтвердить среди заинтересованных лиц предположение о его кончине. Ему жизненно необходимо было теперь почитаться неживым, усмехнулся он на пришедший в голову каламбур.
Какие средства у него для этого имелись? Самое простое, что Александр Иосифович мог сделать, это как-то сообщить о своей смерти семье. А уже затем известие распространится само собою и дойдет до тех, у кого к Александру Иосифовичу имеются какие-то претензии. Для начала он решил исполнить хотя бы это.
Александр Иосифович нашел в гостинице клочок рисовой бумаги. Левою рукой, коверкая слова и делая самые нелепые ошибки, – якобы это с его слов пишет душеприказчик-китаец, – он изложил дражайшей супруге последние мгновения своего жития. Екатерине Францевне надлежало узнать, что супруг ее умирал безвинно опороченным, оклеветанным, превратно понятым начальством и подначальными. Он рассказывал, что был смертельно ранен и предательски брошен малодушными соотечественниками в поле, – если бы они подали ему помощь, он выжил бы! – истекающему кровью ему удалось доползти до какого-то безвестного китайского городка, где он и обрел вскоре вечный покой. Перед смертью Александр Иосифович всех прощал и просил его самого также не поминать лихом. Вместе с письмом Александр Иосифович отправлял близким на память о нем кое-что из личных вещей: во-первых, все свои русские документы, – они ему больше не были нужны, ибо отныне он Александром Иосифовичем Казариновым не являлся, – а также Евангелие, нательный крестик, платок, пропитанный собственной его кровью, и прядь волос. Все это, по его представлению, должно было убедительно свидетельствовать о том, что в живых его более нет. Платок он пропитал кровью на кухне, велев повару для этого зарезать петуха.
Но и отправив на родину подтвержденное соответствующими доказательствами известие о своей смерти, полного спокойствия, совершенного удовлетворения Александр Иосифович испытывать не мог. Положение его оставалось неопределенным. В общем-то, среди китайцев он выглядел личностью довольно подозрительною. Эта солидная на первый взгляд бумага, удостоверяющая миссионерскую деятельность Александра Иосифовича, была, конечно, документом полезным, способным на первых порах произвести надлежащее впечатление, но оставаться долго надежным прикрытием она не могла. Хотя Александру Иосифовичу и не составляло труда изобразить из себя бельгийского миссионера, – он прекрасно знал по-французски и свободно ориентировался в богословии и традициях латинской церкви, – но все-таки долго рекомендоваться таковым было небезопасно. Естественно, возникали вопросы: почему он один? где его миссия? почему не проводит занятий с населением? где четки, всякие картинки и прочие сувениры, которыми миссионеры вечно щедро одаривали туземцев? и тому подобное. Но как еще ему было легализовать свое присутствие в китайской глубинке? Он даже за коммивояжера не мог себя выдать – для этого требовался хотя бы паспорт.
Александр Иосифович понимал, что в китайском захолустье он выделяется, как белая ворона, и что каждый новый день пребывания здесь грозит ему крушением предприятия и всей его жизни. Если русская жандармерия действительно его разыскивает, то, несомненно, и до сведения китайской полиции будут доведены предъявляемые ему обвинения. А лукавые мандарины, хотя и не сочувствуют русским в этой войне и всеми доступными им средствами вспомоществуют японцам, наверно не преминут воспользоваться случаем показать, что они солидарны не только с одной из сторон в ущерб другой. Поэтому Александру Иосифовичу теперь следовало позаботиться о более безопасном месте, в котором он мог бы благополучно отсидеться до конца войны.
Таким местом, решил Александр Иосифович, при сложившихся обстоятельствах, может быть только родная сторона, любезная отчизна. Мало того, что среди соотечественников затеряться не в пример легче, нежели среди чужеземцев, монгольской расы к тому же, но нигде, кроме как в России, ему не выправить достойных документов, удостоверяющих его личность, без каковых жить уже положительно невозможно. А что касается сокровищ, то не все ли равно, где именно в ближайшее время не иметь возможности ими завладеть – в пяти верстах от них или в пяти тысячах? Да и потом он ими владеет! Они – его, ибо ничьи больше! Он на сегодняшний день все равно самый богатый человек в мире! Так рассудил Александр Иосифович.
Путешествие его до русской границы сложилось исключительно удачно. Александр Иосифович предполагал, что, по крайней мере, до Хингана он будет красться по гаоляну, как лазутчик по неприятельской территории. Но, перейдя Ляо-хэ, он в одном из ближайших сел встретил русский купеческий караван. Известное дело – кому война, кому мать родна. Чем дольше длилась кампания, тем выше поднимались цены на товары из Китая. Почему воспользоваться этим находилось охотников едва ли не больше, чем в мирное время.
Александр Иосифович знал, что будет самым желанным спутником для всякого купца из России: он прекрасно разбирался в китайских порядках, мог дать уйму полезных советов, в том числе коммерческих и юридических, но главное, превосходно умел по-китайски. Любой, кто воспользуется его услугами, много выиграет. И действительно, торговый человек – природный волгарь с животом, как двадцативедерная кадка, и с хитрыми поросячьими глазками, – к которому Александр Иосифович обратился со своим предложением, нанял его, не вдаваясь в подробности. Он не мог не прельститься условиями нанимающегося в службу: тот, не спрашивая никакой платы, просил единственно доставить его до русской границы.
Но полностью полагаться на благонадежность и дружеское расположение этого на редкость не тороватого барышника Александр Иосифович отнюдь не собирался. На предпоследней перед Кяхтой ночевке он сбежал от своего нанимателя, прихватив к тому же собственного его коня, – Александр Иосифович рассудил, что он таким образом восстанавливает справедливость, ибо возмещает неправедно удержанное жалованье за свою почти месячную отлично-усердную службу.
Появляться вместе со всем караваном на самой границе Александр Иосифович отнюдь не собирался. Он справедливо опасался, что наниматель, которому больше от него ничего не требуется, ничтоже сумняшеся выдаст его пограничной страже. Да и к тому же Александр Иосифович все равно не смог бы перейти границу законным манером: мало того что он был без каких-либо документов, так еще и в розыске, скорее всего, – и где, как не на заставе, в таком случае могли быть об этом сведения?
Три дня затем Александр Иосифович пробирался вдоль реки к западу. Любой монгольский пастух за копеечную плату был счастлив пустить его в свою юрту на ночлег. Когда от тракта он удалился, по его представлению, верст на двести, Александр Иосифович решил наконец повернуть на север. Он знал, что в этих краях границы между Китаем и Россией как таковой нет: монголы гоняют здесь своих коней, совершенно не разбирая, к какой именно стране относятся пастбища. И тем не менее переходить границу самостоятельно Александр Иосифович не рискнул. На последнем своем постое он спросил у старого монгола, похожего на засохшую корягу не мог бы ему кто помочь тайно перебраться в Россию, потому что-де он заблудился и вдобавок потерял документы, а без них у него могут быть большие неприятности, если случайно встретится с разъездом пограничной стражи. За это Александр Иосифович обещался щедро отблагодарить проводника. Старик только заулыбался беззубым ртом и согласно, как о чем-то само собою разумеющемся, закивал головой.
Через границу Александра Иосифовича повел молодой монгол – сын старика. Выехали они под вечер. Монгол, верно, понял, что этому русскому встречаться с казаками – погибель. И потому на всякий случай повел его впотьмах. Ехали они небыстро, но верст сорок за ночь преодолели. Когда уже забрезжил рассвет, монгол остановился и показал рукой на сельцо на пригорке. Александр Иосифович разглядел на фоне серого неба черную луковку с крестиком. «Россия», – широко улыбнулся монгол.
Александр Иосифович осчастливил своего провожатого полуимпериалом, распрощался с ним и пришпорил коня. Ему было хорошо известно, что в приграничных поселениях случайному гостю остаться незамеченным невозможно. Любая кривая старуха, заметив его, бегом оповестит сотского, что появился чужак. Поэтому Александр Иосифович даже не стал заглядывать в село, а, миновав его, направился дальше.
Он ехал, наверное, часа три. И преодолел никак не меньше тридцати верст. Через каждый час, чтобы не загнать коня, делал привал. По его подсчетам, до Байкала-то уже оставалось верст не более пятидесяти, каковые можно было преодолеть и засветло.
Александр Иосифович совсем уже смирился с тем, что он так и доберется до тракта, как бы ни было опасно там появляться одинокому путнику – казачьи разъезды могли проверить бумаги у любого подозрительного, – но ему опять невообразимо повезло.
Когда он в очередной раз спешился, чтобы дать отдохнуть коню, позволить ему пощипать хоть жухлой осенней травки, да и самому подкрепиться сушеною кониной, что дали ему с собой сердечные монголы, он увидел идущий со стороны границы маленький обоз: четыре телеги, запряженные низкорослыми лошадками. Оказалось, что это монголы – теперь уже русские подданные – везли в Иркутск кожу. Александру Иосифовичу не составило ни малейшего труда уговорить их взять его с собой, за что он пообещал монголам отдать коня, бывшего ему теперь скорее обузой, нежели помощником, – верховой привлекал к себе куда большее внимание, чем пеший, а тем более обозный седок.
Там же в обозе Александр Иосифович обзавелся меховой монгольской шапкой и, надев ее, вообще перестал напоминать русского человека: лицо его к тому же за месяцы странствий по маньчжурским и монгольским степям потемнело и обветрилось, а некогда холеный клинышек, многие дни не знавший ухода, напоминал теперь скудную клочковатую азиатскую бородку. Когда они выехали на тракт, несколько раз им действительно встречались разъезды. Но всякий раз казаки, едва разглядев узкоглазых чумазых обозников и их зловонный груз, проезжали мимо.
Обоз двигался довольно медленно. Только через три дня путешественники вышли к самой западной оконечности Байкала – к станции Култук. До Иркутска оставалось не более семидесяти верст. Но в Култуке Александр Иосифович расстался со своими обозниками. Накануне выпал снег, – они едва дотащились до станции, – но ехать на телегах еще и до Иркутска было положительно невозможно. На постоялом дворе, где они остановились, монголы принялись шумно и долго спорить, стоит ли им нанимать в Култуке санки и ехать дальше или уж продать свой груз по дешевке здесь перекупщикам и возвращаться налегке домой. Спорили они день, а может быть, и больше – Александр Иосифович уже не стал дожидаться окончания этого диспута, – на другой день, чуть свет, он нанял возчика и выехал в Иркутск.
В тот день, когда они приехали в Култук, Александр Иосифович сделал важное для себя открытие, подтвердившее худшие его опасения. Устроившись на постоялом дворе, он решил сходить на базар, купить какую-нибудь теплую одежину, – зима пришла в прямом и в переносном смысле, как снег на голову, а он был одет совсем не по-сибирски. Когда Александр Иосифович уже выходил с базара, кутаясь в огромную теплую шинель горного инженера, он заметил на заборе бумагу, на которой был изображен некто анфас с подписью под ним. Не в силах изменить обычной своей любознательности, Александр Иосифович подошел ближе и вгляделся в бумагу. От увиденного у него едва не подкосились ноги: это был его собственный портрет, а надпись под ним гласила, что изображенный является опаснейшим государственным преступником и находится в розыске. Но он быстро совладал собою, незаметно огляделся по сторонам и, не встретив ни одного обращенного к нему взгляда, мгновенно, одним движением руки, сорвал бумагу, скомкал ее в кулаке и сунул в карман.
До Иркутска Александр Иосифович добрался без приключений. На тракте было такое оживленное движение, что могло показаться, будто идут два бесконечных обоза: один из Иркутска, другой – в Иркутск. И здесь легко затерялась бы рота японцев, не то что единственный объявленный в розыск русский. Самый же город напоминал огромный военный лагерь: всюду шли строем солдаты, ехали сотнями по четверо в ряд казаки, артиллеристы везли куда-то свои пушки, все улицы были забиты санками и телегами. Все это скрипело, гудело, визжало, грохотало, сливалось в единый шум столпотворения.
Перебившись кое-как ночь, Александр Иосифович решил наконец заняться главным, за чем он проделал колоссальный и опасный путь, – узаконением своего существования, то есть позаботиться об удостоверяющих его личность документах. Почти за полтора месяца путешествия от Ша-хэ до Иркутска он порядочно издержался. Но у него оставались в запасе камушки, продавая которые Александр Иосифович мог довольно долго обеспечивать себе сносную жизнь. Без денег о документах и думать было нечего, поэтому прежде всего ему требовалось найти покупателя на один хотя бы бриллиант. Он узнал у трактирщика, у которого ночевал, есть ли в городе ювелир, и, получив утвердительный ответ, отправился по указанному адресу.
И опять Александру Иосифовичу повезло: ювелир не только купил у него камушек, но еще и пообещал помочь с документами. Но уж как господину Казаринову посчастливилось, когда он дожидался в назначенном ювелиром месте свидания с непосредственным исполнителем дела, – такого подарка судьбы он и вообразить не мог! В трактире, где была назначена встреча, он увидел московскую свою знакомую – дочкину подругу по гимназии!
Александр Иосифович мгновенно смекнул, какую выгоду может извлечь из этой чудесной встречи. Кто он теперь? – странный, одинокий, а потому подозрительный тип. Но если при нем будет очаровательная благородная барышня – или лучше он при ней! – то его положение куда как упрочится: почтенный отец взрослой интеллигентной дочери практически застрахован от подозрений. Она будет привлекать внимание к себе и равным образом избавлять от внимания окружающих его самого. Поэтому, когда Александр Иосифович излагал иркутскому социалисту свои требования, он обязал последнего изготовить паспорт также и для девушки – его мнимой дочери. Затем он позаботился навсегда разлучить девушку и ее спутника, для чего написал донос полицмейстеру о готовящейся террористической акции. Александр Иосифович не мог знать, что полиции это было известно и без него, – незадачливые террористы, буквально проданные своим же предводителем, обреченные им на заклание, попали под самый пристальный надзор соглядатаев еще до того, как сели в поезд в Москве.
Полагая, что судьбу Лизиного спутника он вполне устроил, Александр Иосифович явился за ней в гостиницу. Он легко убедил девушку в том, что, помимо некоторого знакомства, их связывает отныне классовое и идейное единство: оба они теперь – революционеры, а значит, во всем должны быть солидарны. В доказательство он показал ей сорванное в Култуке объявление о его розыске. Своей цели Александр Иосифович достиг: Лиза ему целиком доверилась.
Оставаться в Иркутске им было очень опасно. Арестовывать девушку, рассудил Александр Иосифович, должны будут прийти этой же ночью. А не застав в гостинице, полиция примется усердно ее искать по всему городу, по крайней мере, в ближайшие дни. Поэтому Александр Иосифович явился за Лизой, уже подрядив возчика на тройке, чтобы им сразу же, не мешкая, уехать из города. Он исключил возможность выбираться из Иркутска по железной дороге: Транссиб был забит военными эшелонами, и вся магистраль, все вокзалы, станции, поезда буквально кишели жандармскими и полицейскими шпионами. Александр Иосифович придумал им ехать по Сибирскому тракту, почти утратившему свое значение после появления железной дороги, а потому малолюдному и относительно безопасному.
Размышляя, где бы ему переждать лихую пору, отсидеться незаметно, Александр Иосифович вспомнил о городке Томске. Он был в нем очень давно, четверть века тому назад, причем дважды: когда ехал в должность в русское посольство в Пекине, – несколько дней отдыхал там от невыносимой летней езды по Сибирскому тракту, – и на обратном пути из Китая также провел там почти неделю, спасаясь от скуки сочинительством путевых заметок. Преимущество этого Томска заключалось, в первую очередь, в том, что он стоял в стороне от Транссиба, а следовательно, не был столь насыщен шпионами, как прочие сибирские города.
До городка они добрались всего за неделю – от дружка к дружку, как говорят в Сибири: один возчик везет своих седоков верст тридцать и передает земляку со свежими лошадьми, тот мчит путешественников еще столько же и в каком-нибудь селе передает их третьему возчику, и так дальше до самой цели.
На первой же станции, где они ночевали, Александр Иосифович наконец поделился с Лизой соображениями о том, каким ему видится дальнейшее их будущее. Прежде всего он сообщил ей о том, что ее соратник, с которым она приехала в Иркутск, скорее всего, погиб. Так ему якобы сказали иркутские товарищи. Затем он красочно поведал о своих маньчжурских подвигах. По словам Александра Иосифовича, выходило, что неудачное наступление русской армии на Ша-хэ – целиком его заслуга, его вклад в крушение царизма. Как заправский штабист, он развернул перед девушкой всю панораму кампании: подробно расписал диспозиции русской и японской армий в начале войны и в настоящий момент, рассказал, как он несколько раз мастерски надоумил главнокомандующего распорядиться таким образом, что это распоряжение оказывалось губительным для царской армии.Ну а уж свою роль в неуспехе операции на Ша-хэ он представил так, что Мольтке по сравнению с ним мог бы показаться плохо успевающим юнкером. Затем Александр Иосифович горько посетовал, что был предан людьми, которым доверился, полагаясь на их благородство, почему ему пришлось спешно бежать с военного театра, тайком переходить границу и теперь скрываться по Сибири.
Александр Иосифович заявил, что при сложившихся обстоятельствах у него нет иного выхода, кроме как затаиться на время в какой-нибудь глубинке, медвежьем углу, иначе его ждет разговор короткий – пуля, а то и петля. Но для наиболее успешного осуществления его замысла было бы полезно, если бы Лиза все это время оставалась при нем. Естественно, девушка тотчас согласилась исполнить все, что в ее силах.
Лиза, единственное, попросила Александра Иосифовича позаботиться как-то сообщить товарищам в Москву о том, что вышло с ней и с ее спутником. Александр Иосифович мог бы пообещать, но ничего такого не делать, нисколько даже не рискуя когда-нибудь держать ответ за неисполнение обещанного, но он сразу честно сказал Лизе, что делать этого не станет, потому что для них теперь всякая попытка установить связь с товарищамиможет иметь весьма печальные последствия. Их задача, по словам Александра Иосифовича, заключалась в том, чтобы непременно сохранить себя для революции. А на нынешнем этапе борьбы им прежде всего требовалось уберечься от ареста, почему и не следовало искушать судьбу и устанавливать какие-либо опасные связи.
Однако на Лизу такие аргументы многоопытного старшего товарища и к тому же теперь руководителя в их общей борьбе особенного впечатления не произвели. Она слишком находилась под влиянием самоотверженного учения Гецевича, подтвержденного личным его подвигом: приносить себя в жертву и не думать – какая от этого будет польза? – польза будет хотя бы в том, что их жертва отзовется в сердцах других бойцов и пополнит ряды ниспровергателей человеконенавистнической власти. Поэтому Лиза заявила Александру Иосифовичу, что долго она таиться не намерена. Конечно, она готова переждать какое-то время, но затем непременно продолжит дело своего геройски погибшего товарища. Услышав такое, Александр Иосифович понял, что эта фанатичная якобинка для него не менее опасна, нежели полиция. Он не стал возражать или чего-то доказывать девушке, только попросил поставить его в известность, если она решится возобновить свою деятельность.
Средства, которыми располагал Александр Иосифович, позволяли ему и Лизе жить вполне достаточно продолжительное время. Но Александр Иосифович подумал, что этакое их барское существование, обычное для Москвы или Петербурга, здесь – среди лесов, в глуши далекой – могло бы привлечь к себе нежелательное для них внимание. Поэтому он решил каким-то образом слиться с мещанским провинциальным сословием. Ему пришло в голову вообще поступить в должность в местный потешный университет: преподавать гражданское право или, на худой конец, читать лекции по литературе. Александра Иосифовича нисколько не смущало, что при нем не было ни диплома, ни других свидетельств, подтверждающих образование: если потребуется подтвердить его высокую просвещенность, он выдержит любые испытания! Льва узнают по когтям, усмехнулся он про себя. А отсутствие бумаг можно объяснить несчастным случаем: украли-де… И все-таки от такого варианта Александру Иосифовичу пришлось отказаться – в случае успеха предприятия он был бы слишком на виду, а ему требовалось быть вроде бы при деле, но так, чтобы поменьше привлекать к себе внимание.
И тогда он предложил свои услуги одному местному купцу, державшему на главной улице довольно порядочный для такого городка магазин. Александр Иосифович не стал даже искать где-то приличный костюм для визита к торговцу. Он не сомневался, что произведет на того впечатление одною своею высокою риторикой, – не верь своим очам – верь моим речам! – так и заявился к купцу в горной, широкой ему в плечах, как кавказская бурка, шинели.
Торговец показался Александру Иосифовичу будто бы знакомым. Или на кого-то очень похожим. Мгновенно прокрутив в памяти лица, встретившиеся ему при различных обстоятельствах, он сообразил, что этот томский купец – вылитый его кунцевский сосед Дрягалов: такой же костистый, кряжистый, с черною бородой по грудь, тот же пронизывающий взгляд…
Понятное дело, торговец вначале отнесся к подозрительному визитеру с недоверием: пристально разглядывал его и так и этак, щурился, прикидывал что-то, кумекал. Но выгодное и убедительно изложенное предложение Александра Иосифовича быть его консультантом по юридическим вопросам, подкрепленное к тому же дюжиной латинских высказываний, оказалось сильнее сомнений купца – он заинтересовался. И тут же устроил Александру Иосифовичу экзамен. Он сказал, что ему по целому ряду соображений необходимо вступить в первую гильдию, но нынешний его ценз не позволяет пока этого сделать. А первая гильдия, как известно, открывает возможность вести торговлю и заключать сделки за границей. Да и вообще поднимает достоинство, придает обладателю таковой степени вес, упрочивает его положение сама по себе, как таковая, помимо преимуществ, доставляемых ему собственно состоянием. Так можно ли, спросил торговец, ему как-то получить желаемую гильдию, учитывая нынешнее его недостаточное состояние? Причем заверил собеседника, что более высокая гильдейская подать его не пугает, потому что, имея заграничную торговлю, он легко и все подати заплатит, да еще и сторицею обогатится.
Купец и речи своей скупой не успел закончить, а Александр Иосифович уже сообразил, как именно можно разрешить такую задачу. Он поинтересовался прежде всего у торговца, а есть у него надежные знакомцы, которые хотели бы того же – первой гильдии. И получив утвердительный ответ, посоветовал им в складчину на четверых, скажем, или сколько их там, купить какую-то собственность – небольшую фабрику, например, или пароход, или факторию по заготовке пушнины, или еще что-то. Но оформить эту собственность во владение только одного из них. Таким образом, у этого владельца будет достаточно капитала, чтобы, объявив его, получить право быть записанным в первую гильдию. Спустя какое-то время этот купец первой уже гильдии продаст ту самую общую для всех компаньонов собственность следующему по очереди претенденту, естественно, не получая от последнего ни копейки, а только согласно купчей крепости. В результате и он самый, как будто выручив от продажи известную сумму, остается владельцем соответствующего первой гильдии состояния, и компаньоны, все по очереди, оформляя лишь эту перепродажу, якобы достигают необходимого для высшей гильдии ценза.
От плана Александра Иосифовича торговец пришел в совершенный восторг и немедленно нанял его к себе в службу.
Занятия Александру Иосифовичу были назначены, по его разумению, совсем не обременительные: он вел всякие бумаги, дела, составлял договоры, писал к поставщикам и перекупщикам. Он же самый и занялся производством своего нанимателя в первую гильдию, чего тот так страстно желал. И где-то к весне этот торговец смог наконец прикрепить вывеску над своим магазином – «ТОРГОВЫЙ ДОМ. 1-й гильдии купец А. И. Рвотов».
Роль провинциального делопроизводителя и стряпчего, конечно, не могла удовлетворять жизненных запросов Александра Иосифовича. Он все-таки, по собственному разумению, рожден был для чего-то более значительного. Но вместе с тем, благодаря своим недюжинным способностям и подчиняясь судьбе, он и к новому месту быстро приноровился и чувствовал себя если не вполне комфортно, то, во всяком случае, уверенно и вне опасности. Чтобы добиться последнего в наибольшей степени, Александр Иосифович позаботился переменить самый свой образ: и то правда, рассудил он, не может же у какого-то сибирского Рвотова в услужении быть московский статский советник и кавалер. Прежде всего, вместо своей эспаньолки a la Louis Napoleon,он отпустил мужицкую – от уха до уха – бороду. Также он завел сапоги с ровными, правда, голенищами, пиджак, лисью шапку, а к лету – картуз. Одним словом, совершенно слился с обычным провинциальным людом. Узнать в нем прежнего московского барина было уже решительно невозможно.
Так Александр Иосифович рассчитывал продержаться до конца войны, а лучше и дольше на всякий случай, и уже затем, когда и он самый, и его маньчжурские проделки позабудутся – не век же его портретом будут украшать заборы по Транссибу! – можно отправиться в Китай и спокойно забрать то единственное вожделенное, что составляло весь смысл его жизни и ради чего он и перенес столько опасностей, испытаний, страданий душевных и телесных.
И все бы ничего, так бы все и шло своим чередом к намеченной цели, если бы не революционная ревность его спутницы и мнимой дочки. Где-то до Рождества Лиза еще смирялась с их полулегальным положением, с их существованием незаметных добропорядочных мещан. Но в новом году она напомнила Александру Иосифовичу, что долго таиться и бездействовать она не обещалась. А уж когда до городка дошло известие о девятом января и о последующих затем народных волнениях в России, Лиза решительно заявила, что если Александр Иосифович будет продолжать бездействовать, то она сама начнет искать связей с местными социалистами, а если не найдет таковых, самостоятельно поедет в Москву, чтобы продолжить работу в своей организации.
Александр Иосифович решил, что если уж он теперь и правда почитается крупным социалистическим предводителем, то у него имеется полное моральное право действовать именно по-социалистически, то есть хитростью. Впрочем, вряд ли Александр Иосифович рассудил бы иначе, даже если бы был генерал-прокурором. Предложив как-то Лизе прогуляться, – дома о таком говорить небезопасно! – Александр Иосифович доверительно рассказал ей, что они уже исполняют очень важную революционную работу. Оказывается, все это время Александр Иосифович не только служил у купца Рвотова, но и руководил всем социалистическим движением в Сибири. По его словам, выходило, что они с Лизой за это короткое время принесли столько пользы, сколько за годы не приносили все сибирские социалистические организации, вместе взятые. Весь саботаж на Транссибе, замедляющий движение эшелонов в Маньчжурию, Александр Иосифович целиком поставил себе в заслугу, причем скромно заметил, что он даже не стал бы этого никогда рассказывать, но вынужден так делать, уступая вредным для их дела Лизиным настойчивости и своеволию.
И вот таким образом устыдив девушку, он предложил ей начать готовиться свергать царизм в России при помощи… японских штыков. Александр Иосифович авторитетно заявил, что после своей порт-артурской победы японцы не только разобьют русских в Маньчжурии, но и, очевидно, двинутся вглубь России. Тогда они, естественно, превратятся в союзников российских революционеров, ибо у тех и других будет один враг – царизм с его оружием. Поэтому, продолжал Александр Иосифович, у российских революционеров теперь важнейшая задача – готовиться к японскому вторжению и, насколько возможно, способствовать этому. В частности, Лизина роль, по его словам, заключалась в том, чтобы быть готовой служить на пользу скорейшего продвижения по России любезных освободителей от тирании, для чего теперь ей следовало основательно изучить японский язык.
Когда Александр Иосифович размышлял, как бы управиться с беспокойною, неуемною, но вынужденною его обузой, ему пришло в голову: а не отправить ли Лизу вообще от себя куда-нибудь за тридевять земель? – в самый Якутск, например! – якобы устанавливать связь с местными социалистами, – и не беда, что их там нет и в помине, разве каторжные, зато путешествие туда и обратно продлится не менее полугода! Если вообще вернется, бедовая! Но тогда он останется здесь в одиночестве, что для него отнюдь не безопасно по причинам, о которых уже говорилось прежде. И Александр Иосифович придумал решение по сути вздорное, но самое подходящее для одержимой жаждой подвига, рвущейся принести себя в жертву молодой особы: учить ей японский язык с тем, чтобы им было ловчее споспешествовать затем японской армии, когда та войдет в Россию.
Лиза действительно начала изучать японский. Она раздобыла в библиотеке учебник и днями напролет сидела над ним. Александр Иосифович даже забеспокоился, как бы она не выучила язык слишком быстро. Он знал несколько слов по-японски и мог бы на первых порах ей помогать, но не стал этого делать, чтобы не убыстрять развязку.
А события, между тем, развивались таким образом, что Александру Иосифовичу и самому его фантазии стали уже казаться способными быть вскоре исполненными. В феврале русская армия потерпела поражение у Мукдена и отошла далеко вглубь Маньчжурии. Ровно настолько же продвинулась дальше и армия японская. Отряды японской кавалерии стали появляться в монгольских степях. А когда летом русские сдали неприятелю Сахалин, тут уж Александр Иосифович и сам поверил, что этак японцы скоро появятся у Байкала, а может, пойдут и дальше. Все это он добросовестно разъяснял Лизе, подтверждая, таким образом, свой план борьбы.
Но в конце лета стратегические построения Александра Иосифовича рассыпались, когда до городка дошло известие о Портсмуте и об окончании войны. На Лизин недоуменный вопрос – а к чему же ее японский теперь? – Александр Иосифович только развел руками: что ж поделаешь… пути Господни неисповедимы… кто же знал, что так выйдет…
О том, чтобы и далее удерживать при себе Лизу, Александру Иосифовичу нечего было и думать. Ему теперь следовало прежде всего позаботиться, как бы сгладить, смягчить последствия своего положения – одинокого бессемейного. Люди-то, кто уже их с Лизой знает, спрашивать будут: куда дочка делась? Александр Иосифович придумал говорить всем, кто поинтересуется, что-де отправил ее в Петербург учиться в курсах. Сам же он решил наконец приступать к исполнению важнейшей, да и единственной, своей цели – обретению клада. Он же не случайно в свое время занялся беззаконным производством своего нанимателя Рвотова в первую гильдию. Он еще тогда рассчитал, что сумеет надоумить торговца отправиться с какими-то негоциями в Китай. Рвотов, правда, не промышлял чаем, да и вообще ничем съестным, – но, кроме прочих фабричных изделий, он торговал текстилем и посудой, в том числе и поставленными ему тканями и фарфором из Китая. Теперь же он мог, минуя посредников-поставщиков, отправиться за границу и самостоятельно закупить все необходимое, что было для него несоизмеримо более выгодно. А выгода Александра Иосифовича заключалась в том, чтобы отправиться в Китай не в одиночестве, привлекая к себе всеобщее внимание, а в составе торговой партии, в которой он будет одним из подначальных предводителя, почему и не столь заметною фигурой.
И вот, поняв, что Лиза теперь при нем надолго не задержится, Александр Иосифович стал аккуратно, ненавязчиво, так, чтобы торговец не заподозрил его личного интереса, советовать Рвотову снаряжать партию в Китай, обещая ему при этом всяческое свое вспомоществование. Купец слушал, согласно кивал головой, но следовать немедленно советам работника не спешил.
Одновременно Александр Иосифович всеми правдами и неправдами старался отсрочить отъезд Лизы. Дело в том, что все это время Лиза находилась на полном его иждивении. У самой у нее не имелось средств хотя бы на гребешок. И вот, когда Лиза объявила, что уезжает в Москву, Александр Иосифович выставил ей довольно крупный счет по статьям, на которые он якобы издержался. Естественно, сумму он существенно завысил, ибо проверить предъявленные им цифры не было никакой возможности. Больше того, Александр Иосифович сказал, что непомерные расходы вынудили его обращаться к заимодавцам и теперь он обременен долгами, расплатиться по которым у него решительно нет возможности. Поэтому, если Лиза намерена куда-то уезжать, ей прежде необходимо позаботиться погасить выданные Александром Иосифовичем векселя. Лиза, натурально, потерялась от такого оборота. Действительно, Александр Иосифович оплачивал все это время их стол и, по всей видимости, квартиру, – Лиза это прекрасно понимала, – но ей казалось, что поскольку они исполняют здесь задание организации, то организация и несет расходы по их содержанию. Во всяком случае, к такому порядку она привыкла в Москве. И для нее немалым потрясением было узнать, что, оказывается, здесь – в Сибири – они живут и борются за народное счастье на свой счет. Хотя почему должно быть по-другому? – подумала Лиза. Если приносить себя в жертву революции, то до конца, целиком! и не годится ждать, пока кто-то оплатит твою работу.
Лиза заверила Александра Иосифовича, что вышлет немедленно ему требуемую сумму, едва приедет в Москву. Но Александр Иосифович не согласился с таким вариантом. Он объяснил Лизе, что при нынешних его обстоятельствах деньги до него могут и не дойти, и вообще ему очень опасно теперь получать денежные переводы – это может кому-то показаться подозрительным. Александр Иосифович предложил Лизе остаться с ним и, коли на то пошло, самой здесь же как-то попытаться возместить все, что он на нее издержал. В конце концов, он вправе на этом настаивать, так как содержит Лизу без малого год!
Возражать на такой довод Лиза не могла. Разубеждать собеседника, оспаривать его правоту и доказывать свою неповинность, по ее мнению, было в данном случае поведением в высшей степени неблагородным. Лиза заверила Александра Иосифовича, что непременно рассчитается с ним в ближайшее время. Она, кстати, спросила у него: не мог бы он исхлопотать для нее какое-нибудь место у своего Рвотова? Александр Иосифович ответил отказом, объясняя это тем, что-де их совместная служба в одном месте может иметь для них неблагоприятные последствия, вплоть до разоблачения.
Лиза опять же ничего не стала возражать, выяснять: почему такое может быть? По газетным объявлениям она нашла место учительницы в доме торговца пушниной Сваровского. Случай был, прямо сказать, нелегкий. Купцу втемяшилось выучить дочку Нюру, чтобы хоть не стыдно ее было вывезти в собрание! – там уж иные купчики и по-французски знают, а этой, кроме тропарей и матерных частушек, не известно больше ни одной песни порядочной! Так рассказывал коннозаводчик Лизе.
Отроковице шел четырнадцатый год. Она была рослою девицей с крепкими руками и с длинными широкими стопами выслужившего срок пехотинца. Лиза заверила родителя, что его дочка через три месяца будет говорить по-французски так же свободно, как на родном языке. Но для этого ее надлежало изолировать. То есть выделить в доме какое-то особенное помещение, где будет содержаться девочка и куда, кроме самой Лизы, никто более не станет заходить. Прислуге же, подававшей на стол, категорически вменялось безмолвствовать. За это Лиза назначила вознаграждение, достаточное, чтобы расплатиться с Александром Иосифовичем и купить плацкарту до Москвы.
Первый месяц Лиза вообще не оставляла своей подопечной, – они жили в одной комнате. Причем Лиза за все это время не произнесла ни слова по-русски – все только по-французски. Вначале Нюра ровно ничего не понимала и потому противилась: она блажила и колотилась в дверь, чтобы ее выпустили к маменьке, и даже в отчаянии швырялась в Лизу книгами. Но к концу месяца как будто пообвыклась, заинтересовалась происходящим и потому присмирела: стала улавливать смысл сказанного ей, сама начала что-то бубнить в ответ, неумело грассируя.
А к концу ноября Лиза вывела ученицу из затвора, и Нюра Сваровская, сияющая, как именинница, предстала перед родителями. Она не бросилась к ним на руки, хотя те и изготовились заключить дочку в объятия, а приветствовала их довольно недурным книксеном и словами: бонжур, папа! бонжур, мама! Но одним этим успехи Нюры не ограничивались – они с Лизой, демонстрируя умение, поговорили о чем-то по-французски, а затем Нюра спела на этом же языке песенку и прочитала стихотворение.
Потрясению торговца не было предела. Он не знал, как благодарить Лизу. Казалось, он готов был отдать ей половину состояния. Но между тем не добавил ни целкового сверх договоренного.
Лиза немедленно купила билет и выехала в Москву. Провожала ее на вокзале единственно до беспамятства влюбившаяся в свою учительницу Нюра Сваровская. Казалось, первым провожатым должен быть Александр Иосифович, – как же! – он отправляет дочку за тридевять земель! Но он не мог проводить Лизу при всем своем желании и по-отечески сердечно распрощаться с ней на перроне – его самого уже не было в городке.
События стали развиваться совсем не так, как планировал Александр Иосифович. А переменить их ход он никак не сумел. Впрочем, особенно и не старался, потому что больших неприятностей, по его разумению, новые обстоятельства ему не доставляли. Александр Иосифович все подбивал своего Рвотова отправиться с негоциями в Китай, но купец первой гильдии слушал его, слушал, да взял и объявил как-то, что для начала намерен поехать в Петербург! Большую часть заграничных товаров он получал именно из Петербурга от всяких заграничных торговых домов. Но доходили они до него обычно через посредников. И выигрывал в результате не столько Рвотов, сколько какой-нибудь нижегородский или екатеринбургский посредник, вся заслуга которого порой заключалась лишь в двух подписях, свидетельствующих о том, что он купил этот товар у поставщика и тут же продал его Рвотову, но уже с немалою наценкой.
И вот Рвотов получил наконец возможность, минуя посредников, поехать в Петербург, встретиться со своими заграничными поставщиками лично и закупить у них все, что ему было необходимо, ни с кем при этом более не делясь барышом.
Александр Иосифович рад был бы не ездить в противоположную от его цели сторону – ему вот и дочку скоро провожать в курсы! – но, во-первых, Рвотов очень настаивал на этом – без сноровистого, говорящего к тому же на всяких языках работника ему бы пришлось туго и накладно, – а, во-вторых, Александр Иосифович не хотел навлекать на себя подозрения того же Рвотова странным своим нежеланием ехать куда бы то ни было, кроме Китая. Поэтому он и отправился в эту поездку, надеясь, что продлится она не более полутора-двух месяцев.
Незадолго до отъезда Александра Иосифовича Лиза решилась попросить у своего торговца пушниной аванс, чтобы расплатиться по долгам. Но Александр Иосифович вдруг… отказался принять от нее что-либо! Он объяснил Лизе, что за это время ему удалось покрыть все их долговые обязательства и более у него претензий к ней нет. Александр Иосифович в предвкушении обладания крупнейшим состоянием в мире не хотел мелочиться и спрашивать с девушки какие-то копейки. К тому же сам он нисколько не нуждался. А то, чего добивался – отсрочки Лизиного отъезда, – ему вполне удалось выполнить. Поэтому, когда наступил срок расчета со Сваровским, Лиза получила от последнего вполне приличную сумму, существенно превосходящую стоимость билета до Москвы.
До Москвы Лиза добралась без приключений и довольно быстро – менее чем за неделю, – что еще недавно, в военное время, по дороге, забитой воинскими и санитарными эшелонами, было немыслимо. Но Лиза уже в поезде от попутчиков узнала, что теперь добраться до Москвы стало даже сложнее, нежели в войну: по всей России вспыхивали, затухали, разгорались с новой силой забастовки, дороги работали с перебоями и больше стояли, чем действовали, и это счастливое чудо, что они проскочили в недолгий и редкий период, когда поезда шли более или менее сносно.
Лиза отсутствовала в Москве ровно год. Она не узнала родного города! – казалось, Москва принадлежит целиком революции: на улицах то и дело встречались какие-то группки, колонны, а то и целые шествия с красными флагами, то и дело слышалось «Смело, товарищи, в ногу!» или «Вихри враждебные веют над нами». Но по теснящимся в подворотнях тулупам с поднятыми воротниками, из-под которых злобно посверкивали на происходящее глазки-щелочки, по лихим маньчжурским шапкам, вызывающе хрустевшим по снегу и бросающим на забастовщиков не предвещающие ничего доброго взгляды, по казачьем разъездам, хотя и избегающим столкновений с красными флагами, но самоуверенным, в любой момент готовым засвистеть нагайками, по дощатым щитам на витринах, по всему этому было понятно, что главные события, неминуемые столкновения, развязка происходящего еще впереди.
Еще в дороге Лиза решила дать наконец знать о себе родителям. С тех пор как она их покинула, Лиза так не посылала домой никакой весточки о себе. Но продолжать таиться от своих домашних, по теперешнему ее разумению, было поведением несолидным, детским: будто она какая-то избалованная капризница-барышня, не умеющая прощать обиды и поэтому еще более обозленная на весь мир и всем мстящая! Тем более родители-то ее ровно ни в чем не виноваты, – им-то за что она доставила страдания? Впрочем, так вот запросто взять и как ни в чем не бывало заявиться домой, после полуторагодичного отсутствия, Лиза все-таки не осмелилась. Она придумала вначале как-нибудь известить папу с мамой о себе, о том, что с ней все в порядке и что она в Москве, а уж тогда можно будет и объявиться.
Но, как революционерка, приобретшая уже немалый опыт конспирации, Лиза понимала, что ей не следует объявляться даже родителям, не согласовав этого прежде с товарищами. Поэтому, едва приехав в Москву, Лиза отправилась искать своих кружковцев. Где именно жил их предводитель Саломеев, она никогда не знала. Вообще из всех кружковцев Лиза более всего хотела увидеть свою подругу Хаю Гиндину, с которой они в последнее время совместно квартировали. Лиза прекрасно помнила тот их двухэтажный дом за тесовым забором в Теплом переулке. Поэтому с вокзала она немедленно поехала в Хамовники. Но хозяйка, которую Лиза сразу узнала, а та ее ничуть, отвечала ей, что комнат теперь не сдает вовсе.
У Лизы оставалась последняя возможность как-то выйти на своих товарищей – это опять обратиться к тому купцу, с которого и началась вся ее революционная эпопея. Она пришла в магазин на Тверскую, – туда, где в прошлом году случайно встретила Саломеева. Магазин не работал. Но приказчик ей прокричал через стекло, что господина Дрягалова здесь нет, – он теперь проводит время по большей части в новом своем магазине на Мясницкой.
Лиза пришла на Мясницкую. Там тоже магазин не работал. К тому же витрины были старательно забиты. Но здесь Лизе повезло – сам хозяин оказался на месте.
Дрягалов также Лизу не узнал. Но когда та напомнила об их прежних встречах, он сообразил, что это, верно, та самая девушка – подруга его невестки, – которая потерялась позапрошлым еще летом: Лена и Таня до сих пор переживают об этом. Василий Никифорович пригласил Лизу войти. Он прямо при ней позвонил по телефону домой. Лиза, конечно, не могла ничего знать о семейных обстоятельствах Дрягалова. Но по его речи, обращенной даже не столько к собеседнику на проводе, сколько к ней самой, Лизе несложно было догадаться, что Дрягалов разговаривает с Леной Епанечниковой. Вначале она подумала: может быть, их связывает товарищество, зародившееся еще при той памятной первой встрече? Но по тому, как Дрягалов называл Лену и «родимою», и «любушкою», и «матушкою», Лиза поняла, что у них отношения отнюдь не товарищей по революционной борьбе. А какие-то совершенно иные.
Дав отбой, Дрягалов какое-то время, хитро щурясь, смотрел на Лизу. Ему подумалось: глупые девчонки! убеждены ведь, что они – взрослые, солидные дамы; окончили гимназию – и, значит, всеми премудростями жизни овладели! а за самими глаз да глаз еще нужен, – того гляди, нашалят чего, себе же на беду.
Он спросил у Лизы, готова ли она немедленно встретиться с Леной, которая приходится ему теперь родственницей – именно невесткой! И, получив утвердительный ответ, кликнул работника и велел отвезти ее в Малую Е[икитскую.
В дороге Лиза засомневалась, не унизительно ли ей теперь ехать на поклон к Лене, которая в свое время не поверила в ее невиновность и, по сути, предала. Но она тотчас отбросила эти мысли. После всего пережитого ею то, давнишнее уже, поведение подруг могло бы показаться почти невинною, вздорною девичьею размолвкой. Да и потом, даже если Лена с Таней в чем-то и виноваты, не век же ей дуться на них. К тому же она так обязана Таниному папе – Александру Иосифовичу: он спас ее в Иркутске, затем целый год опекал ее, как родную дочку, издержался на нее и не стал взыскивать. Он показал ей пример настоящего великодушия! Как же она может поступить по-другому!
Леночка встречала подругу в обычной своей манере – бросилась обнимать и целовать ее. Она заранее решила вообще не объясняться с Лизой по поводу их прошлогодней размолвки. Лена хорошо помнила, чем закончилась прежняя ее попытка объясниться. Да и вообще, сколько можно об этом думать! Все это дела давно минувших дней. Истинный виновник случившегося известен. И, может быть, когда-нибудь Лиза узнает всю правду. Но теперь никак некстати ворошить неприятное, да и – слава богу! – пережитое, прошлое.
Немедленно усадив дорогую гостью за по-купечески обильный стол, Лена, прежде всего, поинтересовалась: а была ли Лиза дома, встречалась ли с родителями? Но, как ни удивительно, эти естественные вопросы были для Лизы совсем не простыми. Конечно, она рвалась всею душой расцеловать родителей и обнять братьев, но, появись только она дома, об этом сейчас станет известно всей улице, дойдет и до полиции. А поскольку она в розыске, то это чревато большими неприятностями и для нее самой, и – что важнее! – для ее товарищей-кружковцев. Лиза ответила, что просто так взять и заявиться домой ей и неловко, и боязно: каково это родителям будет увидеть ее нежданно-негаданно? Но она попросила Леночку сходить к ним, как можно быстрее, и рассказать, что с ней все в порядке, что она только-только вернулась в Москву из дальнего путешествия и что вскоре сама навестит их. Кроме того, Лиза настрого наказала предупредить родителей никому не говорить о ее возвращении.
Итак, уладив личное, Лиза попросила Леночку помочь ей – наверное, через своего свекра – связаться с тем социалистическим кружком, в котором она участвовала год назад и к которому Дрягалов, по ее словам, имел некоторое отношение.
По этим Лизиным словам Лена поняла, что подруга действительно скрывалась все это время где-то очень далеко, почему отстала от жизни и не знает всех событий, случившихся в Москве и, в частности, с ее знакомыми. Лена отвечала, что Василий Никифорович с социалистами больше никак не связан. И, право, как помочь подруге она не знает… Но, задумавшись на мгновенье, Лена вспомнила, что ей буквально третьего дня рассказывала Таня: несколько ее знакомых по госпиталю сестриц организовали санитарный отряд – они подают помощь всем пострадавшим от полиции и черносотенцев. И, конечно, попав в этот отряд, Лиза легко сможет установить связь со своими товарищами. Так рассудила Лена.
Затем она принялась живописать московские новости. Чего они тут только не натерпелись в последнее время! Убийство Баумана вызвало натуральное извержение вулкана! прорыв плотины! Многие тысячи рабочих вышли на улицу, и власть не воспротивилась – покорилась, смирилась перед этим буйным разливом! А рабочий народ с тех пор окреп духом, почувствовал собственную силу: теперь по Москве то и дело забастовки, митинги, шествия, а то и перестрелки случаются. Революция! Некоторые сочувствующие восставшим врачи и сестры милосердия составляют санитарные отряды и пользуют раненых. А на днях – это когда Лиза была в дороге – в Москве восстал целый пехотный полк. Вслед за этим перестрелки на улицах стали вообще почти обычным явлением. По словам Леночки, выходило, что Таня завтра же непременно поможет Лизе поступить в один такой санитарный отряд, а уже тогда ей несложно будет разыскать своих товарищей.
Глава 9
Известие, облетевшее Москву десятого декабря, потрясло всех – и повстанцев, и благонамеренных обывателей, и власть с ее штыками и саблями, – потрясло не столько даже масштабом свершившегося, сколько своей невероятностью, неимоверностью, невозможностью, казалось, быть исполненным: ночью было взорвано охранное отделение! Газеты несколько дней как не выходили. Но новость распространилась мгновенно – и не только из уст в уста, – но уже с утра Москва была обклеена и забросана листовками с сообщением о происшествии. Листовки появились и разошлись по всем городским частям так скоро, что могло показаться, будто они были отпечатаны под грохот обрушившегося здания, а гранки набраны еще прежде.
Восставших это необыкновенно воодушевило. Еще бы! – после вчерашнего, несчастного для них побоища в училище на Чистых прудах взрыв в Гнездниковском был несомненным успехом, достойным ответом, возмездием власти и ее подручным – полиции, казакам, черносотенцам. С ночи началось строительство баррикад. И к утру Москвы было не узнать: многие улицы, включая Садовые, оказались перегороженными баррикадами – иногда потешными, но иной раз и натуральными твердынями, которые и из пушки не сразу разрушишь.
Саломеев велел Мещерину с Самородовым явиться в штаб лишь к вечеру, а до этого отдыхать. Да где там! После Гнездниковского друзья поспешили к своим дружинам. Все их подначальные были на ногах – вместе с женами и детьми строили баррикады. Узнав о приключениях своих командиров, дружинники спровадили их отсыпаться. Долго спать, впрочем, друзьям не пришлось – до сна ли, когда такое тут! – и рассвет не наступил, как они были уже на ногах и включились в общую работу.
Дружина Мещерина занимала баррикаду на Тверской, неподалеку от Страстного монастыря. Как только Мещерин появился там, он немедленно распорядился усилить эту груду хлама, вполне осознавая, что, как ее ни укрепляй, от артиллерийских снарядов она спасением для дружинников не будет. Поблизости уже не оставалось ни досок, ни санок, ни кадок, ни даже телефонных столбов – их попилили и также уложили в баррикаду. Мещерин велел снимать ворота, где только возможно, и ставить их с внешней стороны, причем вдобавок присыпать снегом. Но даже и усиленная, по разумению командира, баррикада служила не столько укрытием для повстанцев, сколько помехой для передвижения войска и полиции. И действительно, когда утром на Тверской показались драгуны – не такой уж и малый отряд, – они вынуждены были свернуть на бульвар, увидев перед собой значительное препятствие.
Увидев такой маневр неприятеля, дружинники победно заголосили. На баррикаде установилось бодрое настроение. Едва ли не ликование. Но Мещерин понимал, что пока судьба их просто милует. Если войска вздумают основательно приняться за дело, повстанцам, обосновавшимся на этой груде хлама, придется очень туго. Стоять против артиллерии – и думать нечего! Мещерин решил немедленно увести своих людей, как только против баррикады выкатят пушку. Но даже если их начнут штурмовать в пешем строю – что маловероятно, впрочем, – и в этом случае удержаться на позиции надежды почти не было. Большинство людей в отряде не имели никакого оружия вовсе. У самого Мещерина и еще у одного дружинника было по нагану. Кроме того, в отряде имелось четыре охотничьих ружья и шесть самодельных пищалей, из которых, по совести сказать, страшно было стрелять – того и гляди взорвутся в руках!
Имея военный опыт, достаточный хоть полком командовать, Мещерин понимал, что в сложившихся условиях сидеть в обороне им равносильно погибели: неприятель, разумеется, наращивает силы, а повстанцы, изначально избравшие тактику защиты, ограничив свои действия собственными баррикадами, такой возможности лишены.
Мещерин предполагал, как именно ему следует организовать действия своего отряда, чтобы причинить наибольший урон неприятелю и насколько возможно самому избежать бездарных потерь. Но баррикада не позволяла начать исполнять этот план. А самовольно оставить ее Мещерин не мог – таково было приказание штаба.
Днем стало известно, что кое-где по Москве войска обстреляли баррикады из пушек, причем дружинники понесли значительные потери и, естественно, позиции не удержали. Тогда наконец из штаба последовало распоряжение, которое Мещерин предлагал еще третьего дня на заседании комитета. Он тогда попросил Саломеева позволить ему выступить перед товарищами, чтобы поделиться своим военным опытом.
Мещерин заявил, что в их положении самою разумною тактикой может быть только действие малыми отрядами, рассыпанными по всей Москве: три-четыре человека, более или менее неплохо вооруженные, неожиданно обстреливают неприятеля откуда-нибудь из подворотни и немедленно скрываются. Баррикады при этом продолжать строить нужно, но их назначение должно сводиться единственно к препятствию для передвижения войск. И вот, судя по всему, в штабе решили последовать его предложению.
Приказ из штаба Мещерину передала Хая Гиндина, – ее, Лизу, а также еще нескольких девушек Саломеев назначил курьерами, обязанными доставлять распоряжения из штаба в отряды дружинников.
– Теперь мы повоюем! – весело и громко, так, чтобы это слышали все на баррикаде, сказал Мещерин.
Он оглянулся на Хаю, намереваясь распрощаться, но, поймав ее взгляд, сообразил, что девушка ждет: а не предложит ли он ей остаться? – просить этого Хая не стала бы ни в коем случае, ибо она никогда ничего не просила.
– Хая! – Мещерин поспешил вслед за девушкой, которая уже повернулась уходить, и взял ее за руку. – В штабе ты теперь меньше нужна, чем нам. Останься. Прошу тебя.
– Мне еще надо предупредить наших в Никитской, – ответила Хая, но руки не поспешила освободить, словно ожидая от Мещерина, что он ее все-таки не отпустит.
– Подожди, сейчас вместе пойдем.
Мещерин велел своему вооруженному наганом помощнику взять двух дружинников, у которых были охотничьи ружья, и попытаться пробраться дворами до Воскресенской, причем обстреливать полицейских, казаков и солдат, где бы они им ни повстречались. Но наказал в долгую перестрелку не вступать, а лишь дать залп и тотчас скрываться. Одновременно Мещерин велел им безжалостно стрелять любого дворника, у которого окажутся закрытыми ворота. Еще двоих дружинников с ружьями он оставил при себе. А остальным – невооруженным практически людям – Мещерин приказал пока оставаться на баррикаде, но немедленно уходить, если только их попытаются штурмовать.
Сам он намеревался со своим отрядом дойти до Ленивки, также насколько возможно досаждая неприятелю. Он понимал, что Хая в этом его рейде будет, пожалуй, обузой – если что, с ней и не убежишь, и через забор не перепрыгнешь, – и тем не менее ему очень хотелось, чтобы девушка была с ним: может быть, она станет свидетельницей какого-нибудь его подвига или даже случится спасти ее.
На Никитской они нашли баррикаду, на которой стоял отряд Самородова. Узнав о новой тактике штаба, он, как и Мещерин, молодецки воскликнул:
– Ну, версальцы, держись! Переходим в наступление!
Мещерин распорядился отряду Самородова двигаться параллельно его группе. И если кто-нибудь из них вступит в бой, второй отряд должен будет поддержать товарищей, атакуя неприятеля с тыла и причиняя, таким образом, последнему сугубый урон.
Они вышли в Калашный. Отряд Мещерина, прижавшись к самым домам, двинулся по тротуару. А Самородов со своими людьми пробирался по противоположной стороне, причем не по тротуару, а дворами, позади домов, то и дело, впрочем, выглядывая на улицу, чтобы не выпускать из виду товарищей. На Арбатской промелькнули всадники. Не меньше дюжины всех. Они, возможно, и не собирались сворачивать в переулок, но, заметив там подозрительных людей, все-таки направили коней в Калашный.
Когда между всадниками и дружинниками оставалось шагов тридцать, Мещерин и его люди вскочили в первый попавшийся подъезд и тотчас открыли стрельбу по драгунам. Те смешались, засуетились. Раздались крики. Кто-то упал на снег. Но замешательство их было недолгим: служивые мигом овладели собой, вскинули винтовки и открыли огонь по подъезду. Отвечать на обстрел дружинники не могли, – драгуны им просто не давали выглянуть из дверей. И тогда на помощь Мещерину пришел Самородов со своими людьми.
Разгоряченные стрельбой и опьяненные успехом, драгуны совершенно оставили вниманием тыл. Кто-то из них уже спешился, чтобы ворваться в подъезд и добить, если потребуется, мятежников. И тут им в самые спины грохнули три выстрела. Самородов и его бойцы, наверное, тщательно прицелились, прежде чем стрелять, – у них была такая возможность, – потому что один драгун тотчас свалился замертво, а еще двое вскрикнули, получив ранения.
Сообразив, что они попали в засаду, драгуны поспешно ускакали к Арбатской.
Дружинники немедленно выбрались из своих укрытий.
– Забрать оружие! – распорядился Мещерин, кивнув на валяющиеся винтовки.
Дружинники кинулись исполнять, – армейские винтовки для повстанцев были дороже пушек!
– Володя! – воскликнул Самородов. – А один жив! Ранен! – Он показал рукой на одного из лежавших на снегу драгун. – Что делать?
Мещерин, ни слова не говоря, подошел к драгуну, который с мольбой в глазах смотрел на победителей, и направил на него наган. Но выстрелить не успел. К нему одним прыжком подскочил Самородов и ногой выбил у друга наган из руки.
– Ты что?! Ты что?! – заикаясь, приговаривал Самородов, не находя, видимо, более слов. – Ты что?!.
– Дурак! – зло выругался Мещерин. – Здесь не действуют законы войны! Пойми ты! Он для нас не комбатант! А предатель и палач своего народа. А таких безжалостно убивают! Или добивают, если надо! Как мародеров! Как!.. – Мещерин оборвался. – Все за мной! – глухо приказал он.
И, подобрав наган, пошел в сторону Арбатской.
– Вы поняли, как надо с ними бороться? – отрывисто поучал своих людей Мещерин, ни на кого не глядя. – Вот чего они боятся! Нам бы сотен пять таких отрядов, и Москва – наша. Всю нечисть перебили бы! И никакой жалости к ним! Никакой жалости! Пожалеем – проиграем!
На Хаю слова Мещерина и особенно его намерение добить раненого драгуна произвели потрясающее впечатление. Она, сама девушка бесстрашная и жертвенная, потерялась от такого его революционного неистовства, от такой святой жестокости, одновременно испугалась и пришла в восхищение. Хая шла следом за Мещериным и с удивлением смотрела на него, будто сделав какое-то важное неожиданное открытие. Такого Мещерина она прежде не знала! Вместо мечтательного юноши, упивающегося при каждом случае своим красноречием, почтительного со всеми, как гимназист младшего класса, а в обхождении с женским полом еще и бесподобно галантного, перед ней предстал теперь хладнокровный, бескомпромиссный борец за идею, не стесненный никакими этическими правилами.
Дружинники вышли на Арбатскую. Уже смеркалось. Но Мещерин и в полумраке разглядел у Александровского училища на Знаменке большую группу военных – не менее роты. Что именно собирались предпринять александровцы, Мещерин не стал дожидаться выяснить и поскорее увел своих людей в противоположную от училища сторону – юркнул в Филипповский переулок. Естественно! – глупо было им лезть на рожон при столь очевидном превосходстве неприятеля.
– Видали: целое войско стоит! – продолжал учить Мещерин подчиненных. – Но мы им не по зубам! Им нужен простор. А в городских трущобах они бессильны. Ну завтра мы им дадим сражение! Сегодня только маневры были…
– Да! – хватился Мещерин. – Мы же оружие захватили! Значит, можем еще один отряд вооружить. Хая, у тебя – наган, останешься во главе моего отряда! – Он приказал как отрезал. – С винтовками вы завтра набьете их, как белок! А я заберу у вас ружья и передам другим бойцам. Благо людей хватает.
– Ты, верно, считаешь меня полководцем, за плечами которого не одна выигранная кампания? – спросила Хая безо всякой иронии, ибо она уже поняла, что шутками Мещерина теперь, пожалуй, можно только прогневить.
Строгий командир и в самом деле нахмурился, собираясь, очевидно, ответить жестко, сообразно обстоятельствам, но его предупредил Самородов:
– Ты что, не понимаешь? – девушка хочет с тобой быть!
Мещерин, будто вспомнив о чем-то, внимательно посмотрел на Хаю. Казалось, он что-то понял наконец. Но, ни слова не сказав, отвернулся и пошел дальше.
По Пречистенскому бульвару они дошли до самого храма Христа. После Арбатской они нигде больше не встретили ни городового, ни казака, ни солдата. Казалось, все они попрятались, не в силах противостоять набирающему силу восстанию. Во всяком случае, вооруженные дружинники могли чувствовать себя почти хозяевами города.
Мещерин распустил своих бойцов, велев всем завтра до рассвета быть у Смоленского рынка. Все поспешили оставить своего командира наедине с невестой.
Только что бывший до безрассудства, до жестокости решительным, оставшись наедине с Хаей, Мещерин сник, потерялся. Он стоял столбом и не находил, что бы сказать девушке: прощаться с Хаей ему теперь не хотелось, – напротив, у него теплилась надежда сегодня с ней не расстаться, – но и заполнить хоть какою репликой мучительную паузу у него никак не получалось – все казалось пустым, пошлым…
– Это вы с кузеном давеча взорвали охранку? – спросила Хая. Она так и называла Самородова с тех пор, как ее покойная подруга Маша привела в кружок своего двоюродного братца.
– Мы… – промычал Мещерин.
– И ты еще не свалился без чувств? У вас же прежде был бой на Чистых прудах!
Мещерин пожал плечами, показывая, как это для него несущественно.
– Пойдем, богатырь. – Хая взяла его под руку. – Я тут неподалеку обосновалась. Успеешь и отоспаться…
От неистового бойца не осталось и следа, – он покорно поплелся, куда влекла его девичья ладошка.
Бои, перестрелки шли по всей Москве. Верные своей новой тактике, повстанцы, как правило, баррикад не защищали. Но эти нагромождения всякого хлама поперек улиц служили своего рода приманкой для неприятеля: солдаты давали по ним ружейный залп, другой, третий, но, когда они устремлялись на приступ уже оставленных дружинниками позиций, по ним вдруг отовсюду – из переулков, подворотен, из окон – открывалась стрельба, причем атакующие несли потери, а повстанцы оставались практически неуязвимыми – их не было видно!
Но сами повстанцы отнюдь не отсиживались в обороне, не ждали, пока солдаты явятся под их пули. Они верно усвоили, что лучшая оборона – это нападение, почему развернули по всему городу натуральную партизанскую войну: охотились за городовыми и разоружали их, устраивали засады солдатам и полицейским, захватили даже несколько участков, неоднократно пытались штурмовать Николаевский вокзал – единственный из московских вокзалов, оставшийся в руках правительственных войск и позволявший им беспрепятственно получать подкрепления, – но всё безуспешно. Чтобы осложнить неприятелю его действия, повстанцы по всей Москве порушили телефонную связь – повалили столбы, порезали провода. Причем результат это возымело отменно положительный: губернатор и его подручные подчас не знали, что происходит в соседнем квартале, не говоря уже об отдаленных частях города, – им приходилось довольствоваться сведениями, полученными от курьеров, но последние если и миновали благополучно встречи с дружинниками и доносили известия, то чаще всего таковые оказывались несвоевременными, почему принятые властью по донесению меры редко когда доставляли повстанцам ощутимый урон.
Поняв, что избранная ими неудобная для неприятеля тактика позволяет им практически на равных противостоять правительственным войскам, дружинники осмелели настолько, что стали атаковать даже и довольно крупные силы противника. Так, однажды ночью две сотни повстанцев, из которых, по крайней мере, половина вообще не была вооружена, а остальные имели оружие, едва ли пригодное для того, чтобы ходить с ним в атаку на регулярные войска, подошли к заводу Гивартовского, где был расквартирован полуэскадрон драгун, и обстреливали его до утра. Что любопытно! – драгуны, хотя и отвечали на огонь нападавших, на вылазку все-таки не отважились, предпочитая оставаться за надежными каменными стенами.
Еще более эффектное нападение повстанцы совершили на драгун, расквартированных на фабрике Абрикосова. Там стоял целый эскадрон. Дружинники заняли позиции вокруг цехов – на чердаках, в подъездах, а то и в домах у самих обывателей – и обстреливали всех, кто пытался выйти из фабрики. И сколько драгуны ни прорывались, они так и не смогли выбраться из осады, – целое крупное подразделение правительственных войск на продолжительное время оказалось запертым на квартире и лишенным возможности участвовать в уличных боях! Отступились дружинники, лишь когда драгунам на выручку пришла пехота с артиллерией.
Со стороны Проточного переулка Москву-реку переходил отряд солдат. Служивые были наряжены зайти в тыл повстанцам, сосредоточившимся на Пресне. Они рассчитывали это сделать незаметно – впотьмах. Но пресненские дозорные их вовремя выследили. И едва солдаты ступили на левый берег, их окружили дружинники. Кто-то из солдат сразу сдался, побросав винтовки, но кто-то попытался сопротивляться, отстреливаться, – таких дружинники безжалостно расстреляли в упор. Трофей, доставшийся победителям, составил несколько десятков бесценных трехлинеек.
Схватка сторон достигла ожесточения невиданного, по своему безжалостному, беспощадному отношению к противнику равного только, может быть, пугачевщине. Если повстанцам в руки попадался полицейский или военный чин, они обычно не щадили таких пленных – умерщвляли немедленно. Однажды два десятка дружинников явились на дом к чиновнику сыскной полиции Войлошникову. Дверь им отворил сам хозяин, догадавшийся, верно, по требовательным звонкам, стукам и крикам визитеров, что те пожаловали по его душу. Невзирая на присутствующих тут же близких Войлошникова, в том числе и малолетних, дружинники велели ему распрощаться с семьей и выходить во двор на смертную казнь. Полицейский поцеловал опешившую от невероятности, от непостижимости происходящего жену, благословил детей и безропотно последовал, куда ему было указано. Во дворе дружинники немедленно вынули наганы и буквально изрешетили несчастного Войлошникова, – в его теле позже было обнаружено двадцать пять пуль!
Но и верные правительству силы поступали со своими противниками не менее жестоко. Всякий взятый в плен дружинник, – если при нем оказывалось оружие, – как правило, расстреливался. Войска нисколько не гнушались отвечать артиллерийским огнем на стрельбу по ним из охотничьих одностволок. Казачья шашка чаще всего не разбирала, на чью голову ей опуститься – вооруженного ли повстанца, старика ли, женщины или ребенка. Окружив типографию Сытина на Серпуховской площади, в которой забаррикадировались дружинники, драгуны и казаки открыли по ней ружейный огонь. Когда затем войска бросились на штурм здания, там в первом этаже вспыхнул пожар, – очевидно, у осажденных не осталось уже иного средства остановить нападавших на них. Действительно, это им помогло, – войска отступились. Но каково пришлось засевшим в типографии повстанцам! Огонь разрастался, поднимался выше, пожирая этаж за этажом, помещение за помещением. На Серпуховку съехались команды из ближайших частей. Но начальство запретило пожарным исполнять их обязанности. Потому что огонь теперь был союзником осаждавших типографию войск, – он делал то, что должны были бы исполнять солдаты, расплачиваясь за каждый свой шаг вперед кровью и жизнями. А так служивые лишь смотрели с недосягаемого для револьверной пули расстояния, как погибает их противник, лишенный возможности даже хоть как-то возмещать неприятелю за свою погибель. Типография с засевшими там людьми горела всю ночь. Под утро войска наконец вступили в выжженное здание. Поразительно! – но в некоторых закоулках солдаты еще имели стычки с последними немногими повстанцами, которые, как отроки в вавилонской печи, каким-то чудом не сгорели в огне и не задохнулись в дыму.
В разгуле убийственной стихии, в пылу беспощадных кровавых баталий, в которых сам он, впрочем, участия не принимал, но руководил действиями подначальных из штаба, Саломеев не забыл и о своем обещании, данном партнеру по политической борьбе и компаньону по извлечению прибыли – чиновнику охранного отделения, а именно принести в жертву его прихоти Дрягалова. Для чего именно компаньону и партнеру потребовалась жизнь Старика, Саломеев не понимал. Да это его особенно и не интересовало. Хотя лично у него самого никаких претензий к бывшему товарищу не имелось, но, с другой стороны, и ждать от Дрягалова еще каких-то благодеяний, подобных прежним, уже не приходилось. Поэтому Саломеев без сожаления смирился с участью Дрягалова, уготованной ему чином из охранки. К тому же у самого Саломеева была личная заинтересованность в исполнения этого задания, поскольку в результате его ожидали весьма заманчивые перспективы, как ему было обещано.
Саломеев велел Клецкину найти и привезти к нему студента Мордера, которого он завербовал где-то год назад, после того, как его кружок понес по известным причинам значительные потери.
До самого декабря этот Мордер никаких особенных революционных доблестей не выказывал. Саломеев как-то попросил его перевезти с Клецкиным «бостонку» на новое место, потому что долго оставаться работать по одному адресу типографии было небезопасно, так Мордер отказался исполнять поручение, сославшись на немощь – тяжела-де машина, не по силам ему. Саломееву тогда пришлось самому пыхтеть – тащить упрятанное для конспирации в комод многопудовое устройство, – подряжать еще кого-то он не стал опять же по соображениям безопасности.
Но когда началось восстание, тут уж Мордер себя проявил в полной мере. Его революционное неистовство изумляло подчас и бывалых бойцов. Нет, он не сражался на баррикадах, ни даже в боевых группах, нападавших на неприятеля из засады, не участвовал. Мордер придумал собственную форму борьбы. Он собрал с дюжину подобных ему молодцов, добился у Саломеева, чтобы им всем выдали по нагану и патронов вдоволь, и с этим отрядом стал натуральным образом разбойничать, ночами чаще всего. Он заранее узнавал адрес какого-нибудь полицейского чина и заявлялся к нему на дом со всею своею вольницей. Если хозяин оказывался человеком решительным, удальцом и, вдобавок, если среди его чад и домочадцев находился еще кто-то, кто мог держать в руках оружие, непрошеные гости обычно отступались, едва из-за двери или из окна им в ответ раздавался выстрел. Но часто жертва бывала покорной, безвольной, будто замагнетизированной, вроде того Войлошникова. Чем для нее оборачивалась такая покорность, известно из примера упомянутого чиновника сыскной полиции.
Оправдывая свои действия местью черносотенцам, Мордер стал чаще даже, чем к полицейским, наведываться в купеческие дома. Он называл по-научному такие налеты экспроприациями, а в шутку, среди своих, – золотыми рейдами. Мало того что такие рейды были для налетчиков куда безопаснее визитов к полицейским, они еще и приносили революционерам весомый прибыток: расправившись с душителем народной свободы, а то еще и с кем-то из его домашних заодно, Мордер никогда не забывал прихватить какие-либо ценности, принадлежавшие жертве, – деньги, золото. Одеждой и той не гнушались борцы за счастье народа. Когда об этом стало известно Саломееву, он действия Мордера одобрил, – конечно, к черносотенцам нужно быть равно беспощадными, как они, мироеды и убийцы, к трудовому народу! – но велел большую часть экспроприированногоотдавать лично ему – Саломееву – на нужды революции!
Похвалив Мордера за его полезную деятельность, за беспощадный революционный пыл, Саломеев перешел к делу. Он коротко рассказал историю своих отношений с Дрягаловым. Особенно подчеркнул, как он был радушен и добросердечен по отношению к простоватому, малообразованному торговцу – учил его, просвещал, подсказывал что-либо, никогда не отказывал ему в своем покровительстве, в бескорыстной своей помощи. Но неблагодарный купец отплатил ему за добро самым лютым коварством – он предал его, оказался провокатором. И лично у него – Саломеева – нет к предателю претензий: он выше мелочных обид! Но измена святому делу, в которое Дрягалов – увы! – был посвящен, предательство доверившихся ему людей не может быть прощено, ибо и для этих людей, и для самого их дела небезопасно оставлять изменника здравствующим, – секреты, которые товарищи ему опрометчиво доверили, должны быть похоронены вместе с ним! К тому же, добавил Саломеев, ему доподлинно известно, что Дрягалов теперь поддерживает черносотенцев, почему является не только предателем революции, но и непосредственным ее врагом.
Мордер заверил Саломеева в безусловной своей готовности исполнить все, что требуется. Он готов был совершить революционное возмездие безотлагательно, этой же ночью.
Но Саломеев велел ему не торопиться. По его словам, выходило, что обычный ночной налет в данном случае не годился: купец сам вооружен, и многочисленная его челядь, несомненно, также ополчится, чтобы дать отпор незваным гостям. Нет, Саломеев отнюдь не беспокоился за шайку Мордера, а уж тем более не переживал за самого ее главаря, почитая в душе последнего редкостным подлецом. Но он справедливо полагал, что лихой налет нахрапом мало того что будет отбит и не принесет желаемого результата, так еще и спугнет Дрягалова, насторожит его, заставит его принять какие-то меры по обеспечению своей безопасности, а значит, сделает его недосягаемым, по крайней мере, на ближайшее время. Кроме того, Саломееву было известно о счастливых переменах в семье Дрягалова: о женитьбе сына и о недавнем рождении наследника дрягаловских миллионов. И устраивать погром со смертоубийством в доме, где теперь находится молодая родильница с новорожденным, Саломееву показалось предприятием неоправданно жестоким. Он предложил Мордеру иной план действий.
После того как на Мясницкой у него открылся новый шикарный магазин, Дрягалов перенес туда главную свою контору и сам проводил там значительное время. Даже и теперь, когда все магазины по Москве не работали, а иные бережливые хозяева так вообще забили витрины досками, Дрягалов, тем не менее, исправно почти каждый день бывал на Мясницкой и работал в конторе с бумагами. Там Саломеев и предложил Мордеру его выследить. Он подробно описал, какой из себя Дрягалов: на вид – под пятьдесят, крепкий, плечистый, сухопарый, карие глаза, густые черные волосы, борода по грудь. Тип яркий. Такого трудно не заметить и не узнать. Саломеев еще посоветовал Мордеру для большей верности нарядиться охотнорядцем – надеть овчинный полушубок да папаху. И уж ни в коем случае не заявляться туда в студенческой шинели, – Мясницкие, как и другие центральные части, к этому времени были почти целиком во власти полиции и черносотенцев, и Мордер своим отнюдь не верноподданническим облачением неминуемо выдал бы себя.
Заверив патрона, что задание непременно и немедленно будет выполнено, Мордер отправился в Мясницкую по указанному адресу. Он без труда нашел новый дрягаловский магазин: надпись аршинными буквами «Торговля Дрягалова и сына» над входом бросалась в глаза даже в декабрьских сумерках. Тщательно забитые окна магазина по улице были безжизненно темны. Но из боковых, также забитых, окон, сквозь щели между досками, брезжил слабый свет, свидетельствующий, что заведение хотя и не работает, но вовсе не пустует. Мордер зашел в подъезд в доме на противоположной стороне улицы и через мутное стекло стал наблюдать за дверью магазина.
В подъезде было холодно, почти как на улице. Но Мордер не только не оставил своего поста, чтобы, скажем, взбежать по лестнице на верхние этажи и хоть так немного погреться, но даже не закурил ни разу в своей засаде – огнем и дымом он мог привлечь к себе чье-нибудь внимание, а значит, и поставить свое предприятие под угрозу срыва. Он, как ревностный, безукоризненно исправляющий службу постовой, ничем не нарушил своего долга.
Сколько Мордер так простоял, неизвестно – он времени не наблюдал и готов был караулить жертву сколько угодно долго. Но вот мрачные двери дрягаловского магазина наконец дрогнули и отворились. На улицу вышли два человека, распознать которых впотьмах было решительно невозможно. Разве что один из них даже во мраке выделялся своею осанистостью и дородностью. Таким именно и описывал Дрягалова Саломеев. Если кто-то из них и есть приговоренный, смекнул Мордер, то, конечно, это именно осанистый, а не второй – невзрачный и тщедушный.
Мордер решительно толкнул дверь. Он направился прямо на людей, бывших от него на противоположной стороне улицы аршинах в тридцати. Когда до цели ему оставалось несколько шагов, пешеходы, поняв, что к ним кто-то целенаправленно приближается, тревожно оглянулись, причем осанистый потянулся рукой в карман. Но вынуть оружие не успел. Мордер раньше выхватил наган, – он еще сумел разглядеть, что жертва его по всем приметам в точности совпадает с описанием – крепкий, плечистый, черная борода по грудь длиной, – и трижды выстрелил в него в упор. Бородач вздрогнул, качнулся, неловко взмахнул руками, словно искал, обо что бы ему опереться, и рухнул на снег. Невзрачный его спутник только очумело смотрел на убийцу, не в силах даже пошевелиться от ужаса произошедшего. Направив на него наган, Мордер стал уже сгибать лежащий на курке замерзший палец, но в последний миг сообразил, что, застрелив заодно с приговоренным неприговоренного, он дискредитирует идею возмездия, сводя ее к банальному разбойному смертоубийству. Не опуская нагана и не отворачиваясь, он отступил на несколько шагов назад и затем поспешно скрылся во мраке между домами.
Глава 10
Из Петербурга Александр Иосифович Казаринов и его патрон, сибирский купец Рвотов, нечаянно приехали в Москву прямо к самому началу восстания. Прибыли-то они в город свободно, а выбраться уже не смогли: повстанцы захватили вокзалы, и в результате все, кто был в столице проездом, будто в ловушку попались.
Путешествие их в Петербург вышло исключительно успешным. С помощью своего толкового и расторопного помощника, оказавшегося на все руки докой – и дипломатом, и переводчиком, и делопроизводителем, – Рвотов без труда заключил несколько выгодных договоров, сулящих ему значительную прибыль. Отправляясь впервые в такие дали дальние, Рвотов, натурально, переживал, тревожился: как там ему придется? не объегорят ли православного латиняне с лютеранами? а то пойдет по шерсть и ну вернется стриженным?! Но, в значительной степени благодаря Александру Иосифовичу, все сложилось удачно и счастливо.
Устроив дела, Рвотов решил еще погостить в Петербурге – пройтись по знаменитым церквам да монастырям. В результате эти три вполне праздных дня, что они провели в столице, единственно прогуливаясь по диковинному городу оказались для купца судьбоносными: именно поэтому они с Александром Иосифовичем не успели вовремя проехать через Москву.
Здесь Рвотов намеревался задержаться не более чем на день-два, разве поклониться святыням в Кремле да в Лавре, – заботы подгоняли его скорее возвращаться домой, – но вынужден был по известным причинам остаться на неопределенный срок. Чтобы время у него даром не пропало, он придумал и в Москве завести еще какие-нибудь выгодные дела, – уж если в Петербурге с иноземцами наладил, то в старушке Белокаменной со своими русскими сам бог велел.
Никаких знакомых Рвотов в Москве не имел. А биржа в эти дни не работала, как и все прочие учреждения. Как же ему было встретиться с кем-нибудь из собратьев-торговцев? Помог ему, естественно, его искусник-делопроизводитель. Александр Иосифович прежде никогда с торговыми и прочими людьми неблагородных званий знакомств не водил, – считал это ниже своего достоинства, – лишь по великой нужде, по превратности судьбы он временно оказался в услужении у купца! Узнав о ближайших намерениях Рвотова, Александр Иосифович подумал: а не порекомендовать ли патрону того самого Дрягалова – купца, его соседа по даче, с которым он случайно познакомился полтора года тому назад, благодаря, кстати, дочке, ее опасным связям, и с которым прошлой осенью его так иронично свела судьба в Маньчжурии. Почему бы нет? Если мир настолько тесен, усмехнулся Александр Иосифович, то от этой тесноты все равно никуда не денешься.
В планы Александра Иосифовича никак не входило быть в Москве кем-то узнанным. А уж тем более встретиться со свидетелями его маньчжурских похождений! Ведь для всех знакомых его более нет в живых! Поэтому он отнюдь не собирался представлять патрона Дрягалову лично. Он объяснил своему простоватому работодателю, что в культурном обществе, прежде чем наносить визит, у незнакомых пока между собою людей принято посылать визитную карточку. А уже получив положительный ответ, можно являться и собственною персоной.
В Петербурге Рвотов впервые в жизни заказал изготовить для него визитные карточки. Ему это посоветовал Александр Иосифович, объяснив, что в столице работу исполняют с несоизмеримо большим мастерством, нежели где-либо еще в России. И правда, карточки у Рвотова вышли чудо как хороши: цвета белого мрамора с розовыми прожилками. Когда ему принесли в гостиницу пахнущую свежею типографскою выделкой пачку, он немедленно разорвал облатку и стал перебирать карточки одну за одной, вчитываясь почти в каждую, как будто они не были все одинаковыми и на какой-нибудь могло быть написано что-то отличное от прочих. Рвотов сразу положил две дюжины карточек в портмоне, огромное, каким не всякий ридикюль бывает, и затем, когда они прогуливались по Петербургу, купец иногда подавал кому-нибудь свою карточку, там, где этого совершенно не требовалось – в гостинице, в ресторане, в кассах, – небрежно протягивая ее двумя пальцами – указательным и средним. На карточках было написано: «1-й гильдии купец Афанасий Игнатьевич Рвотов».
Александр Иосифович посоветовал Рвотову познакомиться с крупнейшим в Москве торговцем Дрягаловым, о котором-де он как-то краем уха слышал. Причем научил патрона не заявляться сразу самому, а отправить прежде записку – естественно! – с визитною карточкой. По словам Александра Иосифовича это и было настоящим поведением comm. И faut, – именно так подобает вести себя просвещенным, культурным, состоятельным гражданам! Лучшего аргумента для Ротова не требовалось. Узнав от своего ученого помощника, как приличествует поступать культурному, состоятельному гражданину, как это заведено в столице, он ровно так и сделал: отписал и послал все, что следовало. В тот же день к ним в гостиницу посыльный доставил ответ: Дрягалов просил сибирского гостя пожаловать к нему в главный магазин на Мясницкую.
Отправив Рвотова по делам, Александр Иосифович, оставшийся наконец без пригляда своего потешного начальствующего, решил использовать появившуюся свободную минуту с пользой для себя. Ему равно важно и интересно было узнать: помнят ли его еще в Москве? и если помнят, то насколько опасна для него эта память людская?
Но каким образом это можно было ему осуществить? Он не мог рискнуть даже домой заглянуть! даже хотя бы позвонить по телефону Екатерине Францевне! Показаться лично чревато быть узнанным швейцаром и прислугой. А телефонировать супруге, убежденной, что его нет в живых, – это значит произвести дома натуральный переполох и все равно, таким образом, выдать себя. Если ему и объявляться кому-то в Москве, подумал Александр Иосифович, то это должен быть человек не менее, нежели он самый, заинтересованный в сохранении его инкогнито.
Таким человеком, по мнению Александра Иосифовича, являлся старший сын купца Дрягалова – тот убогий калечный, бывший у него в некоторой зависимости, ловко самим господином Казариновым и надуманной. Мартимьяном, кажется, его величали, припомнил Александр Иосифович, имя-то какое! я б лакея с таким именем не нанял! Но как с ним свидеться, с этим Мартимьяном? заявиться домой? – московский адрес Дрягаловых Александр Иосифович узнал не далее как нынче утром, когда они с Рвотовым выясняли, куда именно им посылать человека с запиской и визитною карточкой, – но нет! вариант совершенно неподходящий! а вдруг там окажется младший сын Дрягалова – еще один участник манчьжурских событий и непосредственный свидетель деяний Александра Иосифовича! – и тогда, как говорится… лучше было бы ему не родиться!..
Размышления о старшем болящем сыне Дрягалова навели Александра Иосифовича на еще один незабываемый образ – Мартимьянова знакомца Сысоя, сослужившего ему прошлым летом одну деликатную службу. Этот-то уж совсем никак не может быть заинтересованным в моем разоблачении, ибо это и его разоблачение с каторгой одновременно, подумал Александр Иосифович и усмехнулся: неужели он дожил до того, что самым надежным в сложившихся обстоятельствах, единственным, кому он может довериться, человеком является убийца, душегуб, cave furem [34], как в Древнем Риме написали бы ему на самом лбу?!
Мешкать было некогда – Александр Иосифович поспешил на Зацепу. Он забыл уже, как звали домовладельца, у которого квартировал Сысой, но, прекрасно зная Москву, мог найти любой дом, где когда-то бывал, и с закрытыми глазами.
По дороге, закутавшись чуть ни с головой в шубу, Александр Иосифович с любопытством разглядывал город, в котором не был уже больше года. От Большой Московской, где пожелал остановиться Рвотов, до Зацепы по прямой пути было не так много. Но через Москворецкий мост извозчик не поехал, сказав, что-де все одно солдаты не пропустят, а повез Александра Иосифовича до самого Новоспасского и уже там переехал в Замоскворечье по замерзшей и запорошенной Москве-реке.
По дороге никаких особых примет восстания Александр Иосифович не заметил: хотя откуда-то и доносились отдельные выстрелы, Гончары с Таганкой казались вообще не охваченными беспорядками, равно как и Кожевники, в которых кое-где попадались какие-то жалкие подобия баррикад, а вернее, просто раскиданный хлам, но повстанцев при этом хламе как будто не было. Впрочем, не было видно и полицейских, – а вот это свидетельствовало о чем-то происходящем, необыкновенном! Зато сама Зацепа оказалась перегороженною довольно основательно. И Александру Иосифовичу пришлось отпустить извозчика, не доезжая вокзала, и дальше идти самостоятельно. Здесь ему наконец впервые пришлось свидеться с повстанцами. Он смело направился к низкорослой баррикаде, составленной из кадок и досок, и на вопрос – кто такой и куда? – Александр Иосифович, изображая муки зубной боли, ответил, что идет к дантисту Зильбельтруду – такой действительно принимал на Зацепе. На шпиона господин Казаринов вроде бы похож не был, на черносотенца тоже. Его вообще по внешнему виду теперь нельзя было отнести ни к какому сословию, ни к какому состоянию, или, вернее, при желании, если подойти предвзято, в нем можно было разглядеть любое состояние и сословие – от дворянина до крестьянина, от интеллигента до приказчика. Но, расчувствовавшись немощью одинокого прохожего, повстанцы не стали особо доискиваться до него.
Александр Иосифович без труда разыскал дом, куда он приходил полтора года тому назад. Обыватели в доме, как пуганые вороны – куста, боялись всякого визитера, всякого стука в дверь, всякого шума под окнами. И Александру Иосифовичу не без труда удалось расположить к себе их и добиться, чтобы ему отворили и выслушали.
Узнав, что незваный гость ищет сапожника Сысоя, жильцы насторожились: тревожно переглянувшись, они с недоверием и опаской стали всматриваться в визитера. Но у Александра Иосифовича на такой случай был припасен ловкий прием: он с глуповатою улыбкой простака объявил, что еще в прошлом году одолжился у сапожника четырьмя целковыми с полтиною и вот теперь пришел возвратить долг. Обычно такие намерения принимаются противною стороной очень даже положительно. Напротив же, если заявить, что пришел получить с кого-то по долгам, то можно навлечь на себя недовольство не только должника – это само собою! – но и его окружения, предположим, соседей, как в данном случае. Узнав, с какими именно интересами явился незнакомец, обыватели в доме действительно отмякли.
Прежде всего, они посоветовали Александру Иосифовичу передать деньги им самим, потому что-де Сысоя нет и, скорее всего, никогда не будет уже здесь, а если появится его бывшая сожительница – жильцы побожились, – они все до последней копейки вернут ей. Пришлось Александру Иосифовичу отсчитать попечительным домовладельцам четыре с полтиною. Но то, что он узнал затем от них, с лихвой окупало его затраты. Он бы за такие сведения не пожалел и большего вознаграждения.
Получив деньги, домовладельцы стали наперебой рассказывать Александру Иосифовичу, как прошлой осенью к ним нагрянула полиция во главе с крупным чином, и их квартирант-сапожник был арестован. Его обвинили ни много ни мало, как в смертоубийстве! Оказывается, он еще летом убил сторожа на даче у известного миллионщика Дрягалова, – ограбить, верно, хотел! И после этого почти полгода спокойно жил здесь бок о бок с порядочными людьми, которые ни ухом ни рылом, как говорится, о том, что у них под крышей квартирует душегуб и головорез! Он так и остался бы нераспознанным, если бы не этот ухватистый, дотошный полицейский начальник – подумал, как все дело было, прикинул, смекнул да и взял молодца под цугундер.
Александру Иосифовичу самому смекалки было не занимать. Да и юридическое его образование кое-чего стоило. Он знал, что преступления, раскрытые спустя столь продолжительное время, раскрываются, как правило, случайно, а вернее сказать, попутно с еще каким-нибудь расследованием. Этот ухватистый полицейский чин, наверное, что-то распутывал, потрошил какое-то, может быть, смежное дело и вышел на сапожника. И хорошо еще, если только на него одного! – какая-то смутная догадка промелькнула в голове у Александра Иосифовича, нечто этакое невразумительное…
Изобразив неописуемый восторг от услышанного, он поинтересовался: а что же это за гений сыска такой? что за гроза, за бич божий для всех преступников и злодеев объявился, на наше счастье?
Домовладелец наморщил лоб, силясь, верно, что-то вспомнить. Затем, показывая, что ему пришла счастливая догадка, восторженно поднял вверх палец. И быстро зашлепал своими обрезанными сапогами куда-то в комнаты. Через минуту он вышел с бумажкой, поднес ее к самым очкам и торжественно прочитал: Рогожской части пристав Потиевский!
На обратном пути Александр Иосифович все прокручивал в уме обнаружившиеся сведения – и так и этак – и сопоставлял их с прежними, известными ему обстоятельствами. Зять его – пристав городской части – расследует преступление, совершенное аж в земстве! То есть действует никак не по долгу службы! А тогда из каких соображений? А соображение его очевидное: он самый – Александр Иосифович! Докопался-таки! Правда что: с зятем бранись – за скобу держись!
Но насколько, рассуждал Александр Иосифович, для него может быть опасным это разоблачение Сысоя и раскрытие совершенного проходимцем-сапожником убийства? Ведь тот о нем ровно ничего не знал – ни как зовут, ни где живет и служит. Разве что мог описать его внешность. Но все это не имеет ровно никакого значения, хотя бы он и близко знал Александра Иосифовича и описал бы его с мастерством Достоевского! – потому что сам Потиевский никогда не станет обнародовать факт участия своего тестя в этой истории: он слишком дорожит честью и покоем супруги, чтобы на весь свет выставить ее отца уголовным преступником! Совсем другое дело – маньчжурские происшествия! – о них не может не быть известно, помимо официальных лиц, еще и всем, кто знал Александра Иосифовича лично. Но в свете наступившей новой морали, когда пособничество неприятелю прогрессивной частью общества почитается вовсе не изменой родине, не преступлением, а формой борьбы с тиранией, то есть заслугой, а то и подвигом, при таких условиях Александру Иосифовичу не следует страшиться, по крайней мере, нравственной оценки своих действий. Нравственность – понятие отнюдь не абсолютное: то, что безнравственно у одних, другими может считаться вполне нравственным.
В гостиницу Александр Иосифович возвратился довольно поздно. Он думал, что купец в ожидании своего делопроизводителя там уже вконец извелся. Но, к совершенному его удивлению, оказалось, что Рвотов даже и не приходил еще – так рассказал коридорный.
По Москве, между тем, по-прежнему стреляли. К полуночи Александр Иосифович не на шутку встревожился, – о том, чтобы ему лечь спать, не было и речи! Самое, казалось, простое – телефонировать, хоть в магазин, хоть на дом к Дрягалову, – так телефон, как на грех, не работал! – повстанцы порвали по всей Москве провода, и телефонная связь в городе прекратилась.
На следующий день стало ясно, что Рвотова не оставили и ночевать в гостях, на что Александр Иосифович возлагал последнюю свою надежду, не возвратился купец ни к завтраку ни к обеду ни весточки никакой не прислал!
Еще бессонною ночью Александр Иосифович на всякий случай обдумал, как ему быть, если своего купца он больше никогда не увидит, что чрезвычайно осложнит исполнение самого смысла его существования – поездки в безвестное сельцо на Ша-хэ. Служба при Рвотове была для него надежным убежищем, прикрытием до поры до времени! Вот почему он и вынужден был держаться за этого неотесанного, едва грамотного мужика из медвежьего угла. И теперь ему нужно будет озаботиться поиском подобного же прикрытия и убежища, если, конечно, он – не дай бог! – такового лишится.
Александр Иосифович перебирал, кто именно может стать хотя бы на короткое время его сообщником, пособником. И не находил никого.
Вначале лишь усмешку у Александра Иосифовича вызвала мысль, что единственное на сегодняшний день сообщество, не являющееся для него неприятельским, – это те лица, для которых бумага с его портретом анфас, что так до сих пор и лежит у него в кармане, все равно как именной указ для государственных служащих, – случайный иркутский опыт это вполне подтвердил. И если в Иркутске он без особого труда сумел добиться от этих товарищей быть ему полезными, почему бы – при крайней необходимости – ему не воспользоваться таким опытом и здесь – в Москве? Кстати сказать, с их помощью, размышлял Александр Иосифович, ему будет проще всего выбраться за границу: эмигрировать, предположим, в ту же Германию, а там спокойно сесть на пароход и добраться до Циндао. Только на днях ему удалось незаметно подвести Рвотова к идее отправиться в ближайшее время в Китай. Он уже ликовал в душе оттого, что все вроде бы устраивается наилучшим образом. И вот теперь, кажется, выходит новая беда, и все его прежние замыслы рушатся.
Разумеется, Александр Иосифович не строил иллюзий по поводу возможной победы восстания: любой сколько-нибудь здравомыслящий человек не может не понимать, что бунт, при очевидном неравенстве сил, будет подавлен. Но самые бунтовщики-то никуда не денутся – они будут всегда! На баррикадах ли или в каких потайных, укромных убежищах, но всегда и неизменно эта активная, энергичная корпорация будет существовать и действовать! И, пожалуй, было бы неразумно, имея возможность выгадать какую-то пользу, находясь с детьми семьи трудовойв той или иной связи, не воспользоваться этим. Во всяком случае, в противоположную сторону ему хода нет категорически, ибо для той стороны Александр Иосифович государственный преступник. Да он и не желает туда возвращаться! Как бы ни было высоко прежнее его положение – и табельное, и в обществе, – но, по сути, он являлся слугой каких-то более высокопоставленных господ – сановников и генералов, – он был у них таким же нанятым работником, каковым теперь подвизался у Рвотова. А вот когда он доберется всеми правдами и, если потребуется, неправдами до принадлежащей ему мечты – Фаворского света, вот тогда он перестанет быть холопом, пусть и привилегированным! Тогда уж он сам свысока посмотрит на любых сановников! Он уж тогда покажет им, кого не оценила и потеряла Россия! Он еще напишет во всех главных английских газетах на первой странице аршинными буквами: князь Александр Казаринов дает раут в своем дворце в Лондоне! для всех русских вход без приглашений!..
Не возвратился Рвотов в этот день и к ужину. Александру Иосифовичу стало ясно, что больше он своего купца, скорее всего, уже не увидит. А значит, ему надо как-то приспосабливаться к новым обстоятельствам.
Должно быть, в Москву из Сибири уже возвратилась его соратница поневоле и мнимая дочка Елизавета, подумал Александр Иосифович, вот кого ему следует разыскать прежде всего! Но каким образом это сделать? Ходить по баррикадам и спрашивать: кто знает ее? Однако Александр Иосифович не забыл, что вся эта история с революционерками-гимназистками началась при участии того же торговца Дрягалова: вроде бы они впервые у него собрались на свою сходку. Но двоих тогда удалось отвести от опасного пути, а вот третья, кажется, с тех пор так по нему и пошла.
К самому Дрягалову Александр Иосифович обратиться, естественно, не мог – это было бы для него равносильно самоубийству. А вот встретиться с его старшим сыном, хотя это и опасно, все-таки возможно. К тому же этот Мартимьян в неоплатном долгу перед ним: угрожал ему, запугивал расправой с дочерью и так далее!
Невзирая на поздний час, Александр Иосифович немедленно отправился по известному ему адресу. Ехать в сторону Пресни извозчики, как один, отказывались: и не спрашивай! – отвечали, – хошь в Сукино болото, токмо не к Пресне! животная не пойдет – боится до смерти! Александру Иосифовичу едва удалось найти смельчака, согласившегося отвезти его к Кудринской за тройную плату. Извозчик пробирался по каким-то известным ему закоулкам, подворотням, – благо ворот теперь почти нигде не было – все пошло в баррикады, – в каком-то месте им все-таки не вышло миновать заграждения поперек улицы и пришлось уговаривать повстанцев пропустить их, – тут Александр Иосифович опять прикинулся болящим и произвел на дружинников должное впечатление, огласив адрес и фамилию известного доктора, который-де принимает в трех кварталах у них за спиной.
В пути Александр Иосифович велел извозчику привезти его в ближайший к Малой Никитской трактир. Почти все трактиры по Москве были закрыты. Но извозчик знал какой-то подвальчик вблизи Кудринской, продолжавший невзирая ни на что работать, – там, как оказалось, у него земляк половым служил. Туда он Александра Иосифовича и привез.
Вызвать Мартимьяна Александру Иосифовичу было несложно. Он послал к нему в Малую Никитскую того самого полового – земляка извозчика – с запиской. А записку он написал таким образом, чтобы, если она и попадет в руки к кому-то, кроме Мартимьяна, никто не сумел бы понять, от кого она пришла. Александр Иосифович верно рассудил, что вряд ли Мартимьян кому-то станет рассказывать об их разговоре позапрошлым летом на даче, – это никак не в его интересах, ибо, в результате, он, хотя и косвенно, оказывается замешанным в убийстве их кунцевского сторожа. Кстати, Александр Иосифович в своей записке намекнул на это обстоятельство, имея в виду дополнительно заинтересовать Мартимьяна явиться на встречу к нему.
Где-то час с небольшим спустя Мартимьян Дрягалов действительно появился. В сенях что-то загремело, загрохотало, и из-за грязной ситцевой занавески в залу въехал на коляске немощный посетитель. Коляску сзади толкал бывший с ним неразлучным его целитель – похожий на языческого кудесника старец.
Мартимьян растерянно огляделся. Пришлось Александру Иосифовичу сделать ему знак рукой, потому что и вправду узнать прежнего господина Казаринова в нынешнем его обличии было крайне сложно.
– Сколько лет, сколько зим… – с улыбкой произнес Александр Иосифович и этаким широким хозяйским жестом, подсмотренным им у Рвотова, пригласил Мартимьяна придвигаться к столу.
Мартимьян в обычной своей манере помрачнел, набычился. Он знал, что ничего доброго улыбка этого пройдохи ему не сулит.
– Викулыч, посиди поди где… – оглянулся он на кудесника.
Прежде всего Александр Иосифович справился о Рвотове: куда-де исчез сибирский купец, который третьего дня был приглашен старшим Дрягаловым в свой магазин на Мясницкую?
Мартимьян смутился. Было видно, как он растерянно выбирает, отвечать ему или нет, правду говорить или придумать чего на ходу. Но, верно, сообразив, что такому собеседнику не соврешь, – мигом раскусит! – решился все-таки говорить все, как на духу.
– Богу душу отдал купец этот… – проговорил Мартимьян и, поискав глазами по углам, перекрестился.
Как ни был готов Александр Иосифович к такой новости, но, услыхав ее подтверждение, потерялся. На мгновение, впрочем. Выслушав подробности, он спросил, где теперь покойный.
– Кажется, в Мясницком полицейском доме у Хитровки. В часовне, – ответил Мартимьян. – Теперь ведь не разберешь ничего, куда что…
Александр Иосифович подумал, что надо будет как-то отправить несчастного Рвотова сродникам, когда страсти в Москве поулягутся. Все-таки он купцу кое-чем обязан!
– Ну, хорошо, – перешел Александр Иосифович к делу, – вы, наверное, не забыли, что в прошлом году в вашем доме на собрании тайного общества присутствовали три молодые особы? Вы, помнится, были очень обеспокоены их появлением у вас.
Мартимьян утвердительно кивнул головой.
– Так вот, – продолжал Александр Иосифович, – для двух из них тот визит оказался, к счастью, всего лишь случайным развлечением. А третья с тех пор так и втянулась в эту противозаконную деятельность. Как ее звали-то… забыл… дочкина одноклассница по гимназии… Лиза?.. Да, Елизавета вроде бы…
Ответом ему был опять же утвердительный кивок.
– У меня к вам следующая просьба: помогите мне разыскать эту мадемуазель. Это мне крайне важно в связи с нашими с вами совместными обстоятельствами, – веско добавил Александр Иосифович. – Вы понимаете, о чем я говорю.
По совести сказать, Мартимьян не понял, о каких совместных их обстоятельствах идет речь, но уточнять не стал, ибо знал, что собеседник непременно приведет, если потребуется, соответствующие обстоятельства. Так не все ли равно…
– Так разыскать… – замялся Мартимьян, – оно ж вам сподручнее поди… Дочка-то нетто не знает?..
– Я с дочкой теперь в связи не состою… – тоже не без усилия ответил Александр Иосифович. – Она сама по себе. И потом, если бы была возможность как-то иначе найти эту… одноклассницу… – раздраженно произнес он, – я бы, поверьте, не стал вас беспокоить.
– Да я ничего… я это так… – принялся оправдываться Мартимьян. – Тут вот какое… обстоятельство, – старательно выговорил он словцо Александра Иосифовича, – другая-то подруга вашей дочки… Елена… она теперь невестка мне… Супружница братца моего Димитрия. Знаете? нет?
– Слышал, – на всякий случай соврал Александр Иосифович, борясь с чувствами: как бы ему не выдать чем удивления!
– Так эта третья… одноклассница, что вы спрашиваете, к нам заходила давеча… ну, с подружкой, значит, повидаться в смысле…
У Александра Иосифовича в голове уже лихорадочно прокручивались неожиданные новости, непредвиденные события, открывшиеся случайности и варианты их наилучшего использования или осуществления.
Они договорились, что Мартимьян, едва возвратится, немедленно узнает у невестки, как разыскать ее подругу Лизу, и сегодня же пошлет Александру Иосифовичу в Большую Московскую записку с человеком.
По мнению Александра Иосифовича, Лена не могла знать, где живет Лиза: у них же – социалистов – все законспирировано! они всё тщательно скрывают! Поэтому он научил Мартимьяна сказать невестке, будто ее подругу разыскивает купец из Сибири, у которого она в последнее время служила в учительницах, – он-де следом за ней приехал по делам в Москву и желает дополнительно Лизу отблагодарить за выдающиеся успехи, выказанные бывшею ее подопечной. Что-то в таком духе. Александр Иосифович полагал, что в итоге Лена как-то поспособствует найти подругу. Но вечером он получил от Мартимьяна записку, содержащую сведения, превосходящие самые оптимистичные его ожидания, – там был указан самый адрес, где теперь жила Лиза! Она снова, как и до отъезда в Сибирь, поселилась у Хаи Гиндиной. Но дело в том, что Хая-то с нынешнего лета числилась слушательницей женских курсов и вполне легально квартировала на Остоженке. Более того, она не избегала принимать у себя гостей, подчеркивая, таким образом, открытость своего существования. Поэтому, как только Лиза устроилась у Хаи, она немедленно сообщила Лене свой адрес.
На другой день ранним утром Александр Иосифович был у Зачатьевского монастыря. Он подгадал пораньше, чтобы не упустить Лизу. Подумал: лучше разбудить девушку, как бы ни было это невежливо, нежели вовсе прозевать ее и явиться, когда она уже отправится грудью прокладывать дорогу в царство свободы.
Лиза жила в доме, смотрящем окнами прямо на монастырскую стену. Весь дом спал беспробудным сном. Не открывали Александру Иосифовичу очень долго. Наконец к двери пришаркала какая-то старуха – может быть, владелица, – она сглуху все переспрашивала: как? как? как? – будто ворона каркала. Насилу сообразив, что спрашивают жильцов, она размеренно ушаркала восвояси. Через некоторое время, судя по относительно бодрой и легкой поступи, к двери подошел кто-то более молодой и восприимчивый. Александр Иосифович объяснил через створку, что он сибирский знакомый Елизаветы, которая, по его сведениям, должна здесь жить. Лизину фамилию он называть на всякий случай не стал – приобретенный революционный опыт подсказал Александру Иосифовичу, что в его же интересах этого делать при данных обстоятельствах не следует.
Заскрипели, зазвенели засовы и крючки, и дверь приоткрылась. Перед Александром Иосифовичем предстала красивая брюнетка в долгополом мягком халате. Мерцающий свет лампы в ее руке, играя по лицу и прегустым всклокоченным волосам красавицы и отсвечиваясь в огромных черных глазах, придавал ей дьявольскую соблазнительность, подчеркнутую и усиленную к тому же всею неубранною наружностью экзотичной чаровницы, свидетельствующей, что она сию секунду с постели. Прелестница пригласила Александра Иосифовича следовать за ней.
По каким-то темным закоулкам, протискиваясь среди шкапов и сундуков, они прошли в некий чулан или, скорее, кухню, отгороженную занавеской от более просторного помещения, бывшего, как можно было понять, спальней квартиранток. Девушка попросила Александра Иосифовича подождать здесь и скрылась за занавеской. Слышно было, как там она громким шепотом будила Лизу: «Вставай же! Лиза! К тебе пришли!» Вначале в ответ доносился лишь жалобный стон, свидетельствующий о том, что проснуться и подняться для кого-то теперь было лютою пыткой. Потом все-таки эта несчастная жертва раннего пробуждения зашевелилась, закопошилась и, на ощупь, не в силах открыть глаз, поплелась в прихожую к гостю.
Лиза сколько-то вглядывалась в раннего визитера, растирая ладошками то левый, то правый глаз, и… наконец узнала его! Весь сон ее мигом исчез!
– Александр Иосифович! Вы?! – вскрикнула она и подалась к нему.
Кажется, девушка готова была броситься в объятия к своему добрейшему знакомцу и спасителю, но удержалась в самый последний момент и лишь, как принято у социалисток, пожала Александру Иосифовичу руку.
– Ну как вы? Александр Иосифович! Вы были в Петербурге? – засыпала Лиза его вопросами. – Теперь вы куда?
Из-за занавески в это время послышалась какая-то возня. Можно было понять, что там кто-то поспешно одевается. Затем раздался несдержанный стук сапог по доскам, занавеска отлетела в сторону, и… перед Александром Иосифовичем предстал Владимир Мещерин!
Похоже, что и сам Мещерин потерялся. Он услышал, как Лиза назвала визитера по имени-отчеству, и, будто ужаленный, вскочил с постели. Но все-таки он до самого последнего мгновения, пока не увидел гостя воочию, не верил, что такое может быть. А увидев, остолбенел и онемел!
Александр Иосифович хоть и сам опешил, но сообразил все-таки отступить на полшага за Лизу, воспользовавшись заминкой Мещерина.
Этот ретирадный маневр Александра Иосифовича вывел Мещерина из секундного оцепенения. Он рванулся вперед. И невзирая на то, что Лиза оказалась между ним и господином Казариновым, обеими руками схватил Александра Иосифовича за воротник и принялся душить его.
– Убью! – хрипел Мещерин. – Подлец! Подонок!
Лиза так испугалась, что, наверное, села бы на пол, если бы не была намертво зажата между двумя борющимися. Хая, хоть и испугалась не менее Лизы, нашла в себе мужество прыгнуть на Мещерина сзади, чтобы отцепить его от жертвы. Но это нисколько не помогло: Мещерин будто и не заметил каких-то лишних трех пудов на своих плечах, – он продолжал наступать на Александра Иосифовича и рвать на нем шубу.
– Нечисть! Выродок! Жив! – пыхтел Мещерин, борясь, в сущности, с тремя людьми сразу. – Сколько загубил душ! Проходимец! Ее отец, – он показал страшными глазами на Лизу, – по твоей вине сложил голову! Негодяй!
Мещерин знал, что Лизе не было известно о гибели отца, но он так еще и не отважился за эти дни рассказать ей об этом. Да и зачем? – рассудил Мещерин, когда-нибудь она все равно узнает, а теперь уж никак не своевременно преподносить ей столь бедственное известие. Но явление Александра Иосифовича совершенно затмило Мещерину разум, почему у него непроизвольно и вырвалось о гибели штабс-капитана Тужилкина.
Потрясающая новость умножила у Лизы силы. Она ладонями уперлась Мещерину в подбородок и со всей мочи надавила. Только так его удалось оторвать от Александра Иосифовича.
Тяжело и часто дыша, Лиза испытующе смотрела на Мещерина, который только теперь сообразил, что выпалил в сердцах что-то лишнее. А осознание вины сразу охладило весь его пыл.
– Лиза… – виновато начал Мещерин, намереваясь, видимо, объясниться.
– Не надо! – оборвала его Лиза. – Мне все понятно.
Смекнув, как все обернулось, Александр Иосифович приободрился. Он поправил воротник, отряхнулся и, стараясь говорить как можно трагичнее, со слезами в голосе, – одышка и дрожь были ему очень кстати, – произнес:
– Лиза! я даже не знал, что твой отец погиб! Но если бы знал, – он повысил голос до плачущего фальцета, – поверь, мне достало бы элементарного человеколюбия преподнести это известие более осторожно и гуманно!
Александр Иосифович вдруг схватил Лизу за плечи и прижал к себе. Девушка же, ощутив себя наконец в объятиях близкого, дорогого человека, дала волю чувствам: она спрятала лицо в шубу своего проверенного, надежного доброжелателя и покровителя и разрыдалась.
– Ничего, ничего, милая Лиза, мы с тобой не такое пережили! – приговаривал Александр Иосифович, поглаживая девушку по голове. – Целый год ты была мне дочерью! И не для конспирации, а самою настоящею дочерью: доброю, нежною, любящею!
Увидев, что поведение Лизы и особенно их отношения между собой повергли Мещерина в изумление, Александр Иосифович окончательно взял себя в руки, даже почувствовал хозяином положения.
– Глупец! – укоризненно и одновременно насмешливо сказал он Мещерину. – Каким был, таким и остался! Жизнь ничему не учит…
– Ты лучше со мной не говори вовсе, – угрожающе прорычал Мещерин, – не буди лихо!
– Рад бы не говорить никогда ничего! – строго возразил ему Александр Иосифович. – Да теперь придется! По иронии судьбы мы с тобой теперь на одной баррикаде! товарищи по оружию! Кто бы мог подумать? Но мы и раньше таковыми были. Только ты по своему скудоумию ничего этого не понял! Не догадался!
– Товарищи?! Ты мне не товарищ! Мои товарищи от твоих проделок в земле лежат!
– Ах, вот ты о чем… Это правда! Кое-кто лежит. Я там здорово поработал. Потому что был и остаюсь солдатом революции! – с пафосом произнес Александр Иосифович. – Но что же ты теперь-то против этих своих товарищей сражаешься? Если царское войско тебе товарищи, так почему ты не с ними? Да небось успел уже и пострелять по ним? А может, и убил кого? А?
– Там мы сражались против иноземного врага! Там действовали другие законы!
Тут уж Александр Иосифович откровенно усмехнулся, причем посмотрел на Лизу и Хаю, будто приглашая их потешаться над простаком вместе с ним.
– Ты уж об этом больше никому не рассказывай, – снисходительно посоветовал он Мещерину. – Ладно? Если бы ты внимательнее читал сочинения вождей революции, ты бы знал, что внешний враг нам союзник. Вот она, – Александр Иосифович указал на Лизу, – сирота… так сказать, по отцовской линии, в отличие от тебя, знает, что настоящий убийца ее отца – царизм, развязавший войну. Вот кому мы должны мстить! И мы будем мстить! – возвысил он голос.
Про себя Александр Иосифович с удовлетворением отметил, что Мещерин ни полусловом не упоминает о сокровищах, ни даже не намекает о них хотя бы. И не заикнется никогда, усмехнулся в душе Александр Иосифович, ни он, ни его дружок: это выглядело бы бредовыми фантазиями безнадежных умалишенных.
Разобравшись вполне, как он рассудил, с Мещериным, Александр Иосифович перешел к делу.
– Итак, друзья мои, – деловито начал он, – я вчера прибыл в Москву, чтобы лично принять участие в событиях. Возглавить, если потребуется! Мне необходимо срочно встретиться с руководителями восстания.
– Погибло восстание… – тихо проговорил Мещерин.
– Восстание, может быть, и погибло, – бодро ответил Александр Иосифович. – Революция – начинается! Вперед!
Сибирского гостя и собрата Дрягалов встречал по чести: велел приказчику накрыть для них приличный стол в его огромном кабинете и подать бутылку шустовского. Дрягалову любопытно было посмотреть на провинциального купца, не столь состоятельного, но такого же, верно, оборотистого, как и он самый: не сидит в лавке своей, копейки жалкие подсчитывает, а вот разъезжает по всей державе, сугубую выгоду ищет. Этот свое возьмет, подумал Дрягалов, видно, молодец толковый, ухватистый, с таким можно иметь дело.
В магазине в тот день находился при отце Дмитрий Васильевич – помогал разбираться с бумагами, – так Дрягалов велел поставить прибор и для него, чтобы тот на равных с ним участвовал в переговорах с купцом Рвотовым, но предупредил сына говорить немного, а больше на ус наматывать, как такие дела ведутся. Впрочем, и старшие купцы говорили немного, – они друг друга понимали с полуслова, а то и с единственного взгляда. Но еще больше опасались сказать лишнего. По этой причине они и шустовского едва пригубили: при заключении сделок или еще при каких коммерциях винный дурман – плохой советчик. Это истина.
Переговоры их, можно сказать, удались: Дрягалов обещался Рвотову помочь с поставками от своих агентов, – не даром, разумеется, но и не втридорога.
Провожая гостя, Дрягалов заверил его, что, едва уймется бунт в Москве, он немедленно исполнит все обязательства. Василий Никифорович велел приказчику отвести Рвотова к собственным его санкам, что стояли в укромном месте позади магазина, и передать кучеру Егорке доставить купца к самой гостинице.
Но едва Рвотов вышел, где-то поблизости от входа прогремели один за другим три выстрела. Почти сразу вслед за этим в дверь забарабанил приказчик. Дрягалов немедленно отворил. На приказчике, как говорится, лица не было. Он и вымолвить ничего толком не мог – только показал ходуном ходившею рукой на тротуар. Там на снегу лежало недвижное тело. Дрягалов, не вглядываясь даже особо в убитого, понял, что это его гость.
Вместе с Дмитрием и прибежавшим на выстрел Егоркой – от приказчика пользы было не более, чем от убитого, – они втащили тяжеленного сибирского купца в магазин. Признаков жизни Рвотов уже не подавал. На всякий случай Дрягалов приложил ко рту ему зеркальце – поверхность его осталась нисколько не замутненной.
Дрягалов поднялся на ноги, перекрестился и вымолвил:
– Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе… Пошли за мной все, – низким, тяжелым голосом произнес он и направился в комнату, где пять минут назад они с покойным пировали и строили планы их дальнейшего сотрудничества.
Там Дрягалов разлил по стаканам коньяк, выдохнул:
– Упокой, Господи, душу усопшего новопреставленного раба Твоего Афанасия. – И жахнул коньяку залпом.
Наступило долгое молчание. Кучер и приказчик пили коньяк и постепенно приходили в чувство. Дима едва сделал полглоточка – казалось, он был потрясен, помимо прочего, еще и какою-то страшною догадкой, почему не отводил испуганного взгляда от отца.
– Делать-то что будем, папаша? – спросил наконец он.
– Ну теперь уж поздно, – рассудил Дрягалов. – Утром надо отвезти в мертвецкую.
– Папаша! – проговорил Дима приглушенно. – А ведь это в вас стреляли!
Дрягалов не сразу ответил. Он помрачнел.
– А ну-ка, молодцы, ступайте в зал, – сказал он слугам. – Будет пьянствовать. Да накройте там покойного чем.
Коньяк как будто и не брал его нисколько – что пил, что не пил. Василий Никифорович еще налил полстакана.
– Думаешь, я этого раньше не понял? Купец-то сибирский чуть не на одно лицо со мной. И осанка ровно та же.
– Так значит, кто-то вас хотел… – начал Дима и оборвался.
– Я, кажись, знаю кто. Есть один человечек… Затаил на меня злобу… – Дрягалов понимающе покачал головой. – Это, значит, он меня придумал извести… Как Савву извели… Помнишь, у тебя на свадьбе гулял товарищ мой Савва Тимофеевич? Так его же тоже того… Летом, помнится, что ли… За границей где-то…
– В Ницце, – напомнил Дима.
Они замолчали и какое-то время напряженно осмысливали потрясающее открытие.
– Так, папаша, подождите! – Дима просто-таки встрепенулся весь от пришедшей ему догадки. – Если стреляли в вас и убийца, или кто там его подослал, убежден, что дело сделано, может быть, вам этим и воспользоваться? – спрятаться куда на время, и пусть его думают все, будто вас на свете больше нету!
Дрягалов сколько-то изумленно смотрел на сына.
– Это, что ли, как в тот раз французский парнейчик – этот Паскаль – придумал в газетах пропечатать, что-де нету больше купца Дрягалова в живых? – обрадованно спросил он.
– Да, наподобие. Только в газетах-то теперь не выйдет: газеты все закрыты.
– Что за беда! Земля слухом полнится! Только пусти слух, – и до кого надо он дойдет скоро! Ты знаешь что! – мигом смекнул Дрягалов. – Нужно, чтобы Алена подругам своим об этом скорее передала: Татьяне Александровне в первую голову, – у ней муж полицейский – он донесет, кому следует, – и другой их третьей… как ее забыл…
– Лиза, – подсказал Дима.
– Да, и Лизавете этой тоже, – у ней Лексей в женихах теперь, – он среди своих бунтовщиков расскажет. Так и дойдет, до кого следует.
– Тогда вам, папаша, теперь никак нельзя в Москве оставаться. Спрятаться надо. Вон хоть в Кунцеве. Сейчас там на дачах никого. Пусть Егор вас нынче же свезет. Кого-нибудь из слуг я вам завтра пошлю. Да! – хватился Дима. – Если не возражаете, отправлю к вам и Лену с Ваней. И им там спокойнее будет. И для любопытных понятно станет, почему по даче слуги шастают: при господах-де. Можно еще и Мартимьяна с Викулычем поселить. А вы из дома и не выглядывайте! Затаитесь…
– Алену с внуком не возражаю, – улыбнулся Василий Никифорович. – А Мартимьяна не надо. Куда ему зимой! Пусть в Москве сидит. В дому-то тоже должен кто-то оставаться.
Наказав Диме завтра чем свет свести покойного Рвотова в полицейский дом, а магазин открывать и без него, если беспорядки в Москве вдруг прекратятся, Дрягалов этим же вечером уехал из города.
Глава 11
На Пресню Мещерин, Хая, Лиза и Александр Иосифович добирались путем окольным, дальним, но при сложившихся условиях самым недолгим: по Москве-реке – вокруг Лужников, далее вокруг Дорогомилова до Прохоровской мануфактуры. Хотя и Мещерин, и обе его храбрые дружинницы знали сегодняшний пароль, но пробраться до цели городом им было крайне затруднительно, почти невозможно. И менее всего из-за опасности встретиться с солдатами или полицией – эти, и без того напуганные размахом восстания, в такой ранний час еще прятались по казармам и участкам. Но к этому времени Москва, особенно в западных ее частях, была настолько перегорожена баррикадами, что какое-либо передвижение там, а тем более в экипаже, практически не представлялось возможным. Да и найти кого-нибудь из оставшихся в Москве при деле смельчаков извозчиков, кто поехал бы к Пресне через город, было делом почти безнадежным.
Пресня напоминала хорошо укрепленный лагерь или даже прямо крепость. Баррикады здесь были не то что в других частях – жидкие завалы из всякого хлама, – на Пресне стояли настоящие могучие стены поперек улиц: высокие, громоздкие, иные представляли собой натуральные ледяные горы – повстанцы поливали их водой, и они превращались в монолит, который и из пушки-то не очень прошибешь.
Несмотря на ранний час, на улицах здесь уже было оживленно: одни дружинники, отстояв ночь на баррикадах, отправлялись отдыхать, на смену им приходили свежие силы. Нередко вместе с баррикадой дружинники передавали своим вновь прибывшим товарищам и оружие – винтовки, ружья, револьверы, какие-то примитивные самопалы, сработанные умельцами-рабочими чуть ли не из водопроводных труб: вооружены повстанцы были в целом крайне плохо. Спешили куда-то и женщины, иногда с детьми. На удивление, в этом лагере работали некоторые магазины, притом что в куда более спокойных частях Москвы всякая торговля в эти дни прекратилась, – на Пресне повстанцы не позволили торговцам закрывать своих лавок. И вообще на Пресне нисколько не чувствовалось подавленности, – напротив, здесь царило настроение благоразумной, неразгульной вольницы. Случайный гость Пресни, вроде Александра Иосифовича, мог прийти в изумление от того, что улыбка здесь была практически обычным выражением лица. А дети так порой и смеялись в голос, галдели, – ну этим-то по-другому и не полагается, в любом случае.
Александр Иосифович заявил своим спутникам, что намерен предстать перед самим руководством восстания. Они повели его в Революционный комитет, располагавшийся в одном из зданий Прохоровской мануфактуры.
В комитете работа не прекращалась ни днем, ни ночью: пока одни комитетчики позволяли себе пару-тройку часиков поспать – приткнуться кое-как где-нибудь здесь же в соседних комнатах, – товарищи их продолжали заседать, разрабатывать и направлять действия дружин, принимать курьеров с известиями о положении в разных частях Москвы и рассылать во все концы соответствующие приказания.
На входе в штаб стояли вооруженные дружинники. И хотя кто-то из них более или менее довольно знал Мещерина, Хаю и Лизу, пропустили внутрь их все-таки не раньше, чем услышав пароль.
Первым, кого встретили в штабе Мещерин и его спутники, оказался Самородов, – он со своими людьми ночевал на Трехгорке, чтобы утром пораньше получить задание и отправиться действовать. Но, увидев друга в сопровождении того, с кем он не чаял когда-либо встретиться, Самородов задержался. Когда он распознал в спутнике Мещерина господина Казаринова, Самородов, понятное дело, остолбенел, но не столько от нечаянной встречи, сколько оттого, что его друг, вчера готовый добить раненого драгуна, сегодня, в общем-то, вполне миролюбиво сопутствовал с натуральным извергом, изувером, каковым им представлялся Александр Иосифович после приключений на Ша-хэ. Но теперь на изумление и прочие эмоции ни у кого не было ни секунды свободной.
– Дрягалов убит, – первым делом сказал другу Самородов, будто опасался, что в дальнейшем у него не будет возможности сообщить об этом. – Сергей сейчас рассказал. – Он кивнул головой на дверь, за которой заседал комитет.
– Да! – бросил Мещерин, словно речь шла о чем-то совсем незначительном. – Лена вчера записку прислала.
Они вошли в просторную комнату, в которой стоял большой, заваленный бумагами стол с планом Москвы поверх бумаг. За столом, с разных сторон, сидели четыре человека. Видимо, они переговаривались, но, увидев вошедших своих подначальных, среди которых был к тому же незнакомец, оборвались.
И тут Александр Иосифович решительно вышел вперед и обратился ко всем с речью.
– Товарищи! Позвольте передать вам горячий революционный привет от сибирского пролетариата! – звонко отчеканил он. И, обойдя вокруг стола, энергично пожал руку каждому вождю. – В эти дни весь рабочий класс России, а также люди труда во всем мире с восхищением и надеждой смотрят на Москву! Вы первые герои! Титаны! Московские коммунары! Мы преклоняемся перед вашим подвигом! Мы надеемся на ваш успех! Верим в вашу победу! Но и мы на дальних окраинах, в глухих провинциях стараемся внести свою посильную лепту в общее дело победы над капиталом. – Александр Иосифович старался не сделать паузы в своей речи, справедливо полагая, что его могут перебить, и тогда еще получится ли завладеть вниманием аудитории. – Наш вклад в общее дело, конечно, куда скромнее вашего, но и его достаточно, чтобы удостоиться высшей оценки от царской тирании! – И с этими словами Александр Иосифович предъявил главный свой козырь: он достал из кармана объявление о своем розыске, развернул его и торжественно положил на всеобщее обозрение на стол. – Вот как оценили нашу деятельность!
Он нисколько не смущался сделать это при свидетелях своих маньчжурских подвигов, за которые, собственно, и был объявлен в розыск, – Мещерине и Самородове, – справедливо полагая, что они оба теперь не станут его изобличать, ибо то, что тот и другой могли бы предъявить в его изобличение, при данных обстоятельствах пошло бы ему только на пользу в глазах руководителей восстания.
Кто-то из вождей взял объявление, бегло просмотрел его, удивленно взглянул на Александра Иосифовича, поняв, верно, что речь идет о нем самом, и передал товарищу. Так оно и пошло по кругу.
А господин Казаринов между тем продолжал свой монолог:
– Но даже малая наша работа была бы едва ли возможна без вдохновенного примера московских товарищей! Вы воодушевляли нас своим революционным бесстрашием! Научили не щадить своей жизни! Показали, как нужно уметь приносить себя в жертву за счастье народное! Вот как эта девушка, – Александр Иосифович указал ладонью на Лизу, – была вами отправлена на верную смерть, так и мы бесстрашно шли под пули и в петлю! – Он хотел не столько польстить Лизе, сколько показать Мещерину свои с ней сердечные, скрепленные совместной борьбой отношения.
И это, видимо, ему вполне удалось, потому что ни Мещерин, ни Самородов даже не пытались как-то выказать своего неприятия сказанного господином Казариновым. Их показное безучастное отношение к его речи не ускользнуло от внимания Александра Иосифовича. Но одновременно он заметил, как один из вождей как-то нервно, беспокойно скользнул взглядом по нему, когда он упомянул Лизу отправленную в Сибирь на верную смерть, но тотчас спрятал глаза. Александр Иосифович мигом смекнул, что ему следует продолжить развивать это обстоятельство: авось выйдет какая выгода, хуже-то, во всяком случае, не будет.
– Товарищи! – с новою силой принялся витийствовать Александр Иосифович. – Мы в Сибири, как никто, знаем, что такое битый японцами и оттого еще более разъяренный казак и науськанный на рабочего человека откормленный безжалостный преторианец-жандарм! Первые, кто принял на себя всю мстительную злобу этой побитой в Маньчжурии стаи, были мы – сибирские социалисты! Но, уверяю вас, товарищи, противостоять этим сторожевым псам царской деспотии много проще, нежели терпеть злой умысел провокаторов и предателей, действующих среди нас! А такие, увы, есть. Спутник этой девушки, – он снова указал на Лизу, – и еще несколько наших иркутских товарищей были зверски казнены царскими опричниками, саму ее едва удалось спасти за какие-то минуты до ареста… – Александр Иосифович лишь на секунду умолк, предоставляя девушке подтвердить его слова.
Лиза утвердительно кивнула. Господин Казаринов хотел продолжить свою пламенную речь, но один из сидящих за столом руководителей восстания, – тот самый, что минутой раньше слегка занервничал при известной случайной реплике Александра Иосифовича, – воспользовавшись секундной паузой, все-таки перебил оратора.
– Вы правы, товарищ! – громко сказал он, поднявшись из-за стола. – Наша сила в единении! Вместе мы победим ненавистный царизм!
Александр Иосифович опять же про себя отметил, что этот вождь прервал его вовремя, – когда он вроде бы приблизился к упоминанию якобы известных ему подробностей провала экспедиции Лизы и ее спутника в Иркутск.
– Вы говорите исключительно справедливо. Но давайте продолжим наш разговор чуть позже. Сейчас нас ждут неотложные дела. Друзья, – сказал он Мещерину с Самородовым, – немедленно берите свои команды и отправляйтесь к Каланчевке. Сегодня мы должны еще раз попытаться взять Николаевский вокзал. По сообщениям от товарищей из Питера, в Москву направляются войска, – это по нашу душу, как вы понимаете! Поэтому дни предстоят, верно, жаркие. Вы же, девушки, проберитесь на Даниловскую мануфактуру, – от них со вчерашнего дня нет никаких вестей, – скажите им держаться сколько возможно. И стараться наступать! Наступать! На Пресню не спешить! Нам важно, чтобы они как можно дольше оттягивали на себя неприятельские силы. Все! Каждый свой маневр знает – вперед!
– Сергей, – обратилась Лиза к этому распорядителю, – Александр Иосифович наш надежный товарищ. – Она даже подошла к Казаринову и коснулась его руки, показывая, насколько он близок ей и как она болеет о его благополучии. – Он может быть очень полезен общему делу. Пожалуйста, выслушайте его, – попросила она, словно до сих пор хозяева не дали гостю и рта раскрыть. – И надо как-то позаботиться о нем.
– Выслушаем и позаботимся, – заверил ее Саломеев.
Когда отряженные по своим заданиям бойцы и курьеры вышли за дверь, Самородов тихонько, так, чтобы не услышала Лиза, сказал Мещерину:
– Ну, если Казаринов – революционер, на революции крест можно ставить.
– Да нет, ты ошибаешься, – так же тихо пробубнил в ответ Владимир. – Самое смешное, что революция теперь именно-то и может выйти. Если он и правда взялся за дело. Только что это будет за революция такая и каково наше место в ней, я даже представить себе не могу.
Саломеев попросил Александра Иосифовича подождать окончания совещания военно-боевого штаба, как он выразился, и недолгое время спустя вышел к нему. Он проводил гостя в дальнюю каморку, чтобы там поговорить с ним приватно. Александр Иосифович уже хорошо знал, как ему следует вести себя с этим вожаком, на каких его струнах можно сыграть с наибольшею для себя пользой. И первое, что он сделал, когда они уединились, заявил в лоб, как говорится, Саломееву о своей доподлинной осведомленности в деталях провала московской диверсионной группы и погибели ее предводителя. При этом Александр Иосифович испытующе глядел в самые глаза собеседнику.
– И если со мной что-то случится, – на всякий случай предупредил он Саломеева, – то мои иркутские и томские товарищи немедленно обнародуют подробности этого происшествия. Так мы условились.
Если этот тип, думал Александр Иосифович, сейчас начнет расспрашивать о каких-то никому не ведомых подробностях, то можно считать, что он соскочил с крючка. Потому что подробностей-то ему можно наговорить каких угодно – хоть самых невероятных здесь же насочинять, – но он-то при чем? А вот если он теперь как-то увильнет от оглашения обстоятельств, то таким образом обнаружит боязнь их оглашения, а значит, признает, подтвердит, что они для него нежелательны и опасны.
Между тем Саломеев лихорадочно соображал, куда клонит этот свалившийся на его голову иркутский и томский товарищ, и если он действительно прознал что-то по делу Гецевича с Гимназисткой, то как от него избавиться. Во всяком случае, решительно изобличать его он, судя по всему, не намерен, даже если что-то и пронюхал, потому что сделал бы это раньше прилюдно, а раз шантажирует без свидетелей, значит, имеет какие-то личные, своекорыстные, очевидно, виды. Интересоваться обстоятельствами дела Саломеев не стал.
– Что вы хотите? – произнес он примирительно.
Тут уже Александр Иосифович окончательно взял ситуацию в свои руки.
– Действий! Решительных революционных действий! – отчеканил он. – Это извинит нас с вами за некоторые прежние наши ошибки и опрометчивые деяния, – на всякий случай на что-то намекнул он, сам толком не зная на что. – Я вам предъявил уже свидетельство признания своих заслуг от нашей деспотии. Этими свидетельствами обклеен весь Транссиб. Вы не можете не понимать, что жизнь моя в опасности!
Саломеев согласно кивнул головой.
– Вы должны помочь мне перебраться за границу, – продолжал Александр Иосифович. – В Германию или в Англию – все равно.
Саломеев снова кивнул.
– Я надеюсь, вы не строите иллюзий насчет возможной победы восстания? – скорее утвердительно, нежели вопросительно сказал Александр Иосифович. – О скором прибытии в Москву дополнительного войска мне было известно помимо вас, – глазом не моргнув, соврал он. – Почему шансов, по совести сказать, у нас никаких нет.
– Ну что ж, – ответил Саломеев, – значит, это восстание будет нам полезным уроком. В другой раз не повторим нынешних ошибок и наверно победим. Да, в сущности, мы и теперь победили, хотя, соглашусь, временно: Москва почти целиком наша. Из всех вокзалов нам не принадлежит лишь один! Даже некоторые полицейские участки нами захвачены. Полиция вообще от нас прячется и лишь предательски обстреливает дружинников из форточек. Московский гарнизон в основном не покидает казарм: офицеры боятся выпустить солдат на улицу, потому что, того и гляди, они пополнят ряды повстанцев. Самые злейшие наши враги – казаки, но они оказываются беспомощными при избранной нами новой тактике действия мелкими боевыми группами. Так что мы хозяева в Москве! Сегодня, во всяком случае. А что будет завтра… поживем – увидим! – Он говорил громко, чеканно, рассчитывая, возможно, что его слова будут услышаны еще где-то, помимо этой комнаты.
Ответил Александр Иосифович не сразу. Когда Саломеев заметил, что Москва теперь почти целиком в руках восставших, он крепко задумался о чем-то. И так и не мог выйти из задумчивости, даже когда собеседник умолк.
Наконец он заговорил:
– Мне необходимы новые документы. Когда вы сможете их сделать?
– Завтра утром будут готовы, – уверенно ответил Саломеев. – И можете ехать. Мы понимаем, чем вы рискуете, задерживаясь в России. Вы, разумеется, нуждаетесь в деньгах – можете рассчитывать на наше товарищеское вспомоществование.
Александр Иосифович с удовлетворением отметил про себя, что этот предводитель, очевидно, счастлив был бы поскорее от него избавиться. Он сколько-то еще помолчал деловито, словно что-то прикидывая, соображая о чем-то в уме.
– Да… не всякий анфас смотрит со стен по всему Транссибу, – вздохнул Александр Иосифович, еще раз ненароком якобы напоминая собеседнику о своих выдающихся заслугах и подчеркивая, насколько незавидна, в отличие от менее знаменитых товарищей, здесь, в России, может быть его собственная участь. – Но вот что, – он хватился, что совсем не об этом собирался вести речь, – вы говорите, документы будут только завтра? Тогда вот еще какое дело… Повстанцы захватывают участки и повсеместно расправляются с крупными полицейскими чинами, если те попадают к ним в руки? То есть попросту убивают их?
– Это правда, – согласился Саломеев.
– Практика ваша исключительно верная, товарищ Сергей. Мы приветствуем ее. И я, пользуясь случаем, хотел бы принести некоторую пользу, в частности, в этом вашем добром почине. Революционная сознательность велит и мне, несмотря на мое высокое положение и почтенный возраст, поучаствовать в непосредственных боях с царизмом, внести, так сказать, свою лепту. Не прятаться же мне в гостиничном номере, когда героический московский рабочий класс проливает свою кровь!
Саломеев удивленно посмотрел на Александра Иосифовича: что он имеет в виду? в каком смысле?
– В Москве есть один частный пристав, – принялся рассказывать Александр Иосифович, – натуральный садист! Опричник! Палач! У меня имеются и личные к нему претензии, но личными интересами я обычно манкирую, когда речь идет о попранных интересах простого трудового народа. Вот тогда для торжества справедливости я привык самой жизни своей не щадить! А у этого обермайстера заплечных дел много крови народной на руках. Мне в Сибири отдельные счастливцы рассказывали о его полифемской жестокости. Те же, у кого была с ним менее счастливая встреча, уже никогда ничего не расскажут…
– Это кто же такой? – удивился Саломеев.
– Рогожской части пристав Потиевский. О-о, это оборотень натуральный! К такому нашему брату лучше не попадаться. Кровопивец и костолом. Дайте мне людей – я сам поведу их в бой! Мы отмстим кровавому палачу за замученных им наших товарищей!
Частный пристав – фигура немалая, заметная, и некоторые из них действительно были среди революционеров известны своим пристрастным отношением к арестованным. Но о приставе Потиевском ничего подобного Саломеев прежде не слышал. Впрочем, какое это имело значение?! Комитет распорядился дружинникам убивать при всяком удобном случае всех высших чинов полиции. И если теперь случай сам выходит, чего уж тут раздумывать?
– Хорошо, – согласился Саломеев. – Есть у нас один отряд, который как раз занимается исполнением приговоров чиновным душегубам. Берите его в свое распоряжение и действуйте. Сейчас я пошлю за ними человека.
– Вы сами пойдете с нами?! – бодро, будто радуясь выпавшей ему удаче исполнить святое возмездие, спросил Александр Иосифович, зная наперед, что этот кабинетный вожак сейчас непременно откажется под каким-нибудь предлогом.
– Рад бы, – развел руками Саломеев. – Да не имею такой возможности. Держу оборону там, где это определено революционною целесообразностью.
Представляя Александру Иосифовичу командира боевой группы, некоего Мордера, Саломеев отозвался о нем как о беспощадном мстителе за кровь и слезы трудового народа и назвал его карающей дланью революции.Побольше бы таких людей, заметил он, и мы легко разрушили бы весь мир насилья до основания, свернули бы голову проклятому прогнившему царизму.
Чтобы отряд скорее добрался на другой конец Москвы, Саломеев распорядился выделить для этих народных мстителей четверо санок. Причем для Александра Иосифовича и Мордера он уступил на время личного своего возничего.
Когда Саломеев сказал, что повстанцам теперь подконтрольна большая часть Москвы и, пользуясь своим, пусть и временным, господствующим положением, они вольны вершить революционный суд над некоторыми немилосердными к простому народу прислужниками царизма, что и делают во всяком случае, Александру Иосифовичу пришло в голову воспользоваться возможностью и окончательно замести следы своего участия в прошлогодней драме в Кунцеве. Кто об этом может знать, кроме Потиевского? – рассуждал Александр Иосифович. Очевидно, никто. Потому что, если бы его роль в том происшествии была сыском обнародована, это уже стало бы известно всем: Мартимьяну Дрягалову, например, а значит, и его невестке Епанечниковой, а через нее и Тужилкиной. Но, судя по отношению к нему Лизы, она ничего порочащего честь и достоинство Александра Иосифовича о нем не знает. Да и сам Мартимьян ни о чем таком не заикнулся при их давешней встрече. Следовательно, и никто ничего не знает – Потиевский, рисуясь радетелем о душевном покое жены, не распространяется пока об этом. Но будет ли так всегда? Не случится ли приставу как-нибудь открыть эту тайну впоследствии? Дойдет же до него, что бывший друг благоденствует в Лондоне, позавидует, да и навредит назло – проговорится нарочно. Коли такое выйдет, Александра Иосифовича ждет натуральная катастрофа: эти лицемерные европы, неизменно предоставляющие приют беженцам из России по политическим мотивам, вплоть до бомбистов, наверно не станут укрывать объявленного в розыск уголовного преступника! Найдутся у них законники, которые, прежде всего, из соображений продемонстрировать и подтвердить собственное реноме «демократа», не преминут поднять вопрос в парламенте, как они это делали уже не однажды, и… hello Siberia! [35]Можно, конечно, затаиться и под вымышленным именем вести неприметное существование скромного рантье. Но ради этого он жизнь положил?! Ради пошлого бифштекса с пивом он прошел огни и воды за последние полтора года? а до этого еще целые десятилетия провел в потаенных надеждах и ожиданиях? Да он и без сокровищ занимал в отечестве положение, какое не всякий лорд занимает в своем опереточном королевстве! И что же, теперь, владея половиной богатств мира, ему и кухарки даже не нанять? – опасаться, как бы это не показалось кому подозрительным: откуда у беглого социалиста из России средства роскошествовать? И какие уж тогда высокие рауты со свободным входом для русской публики?! Разве только каких подонков принимать незаметно, украдкой, вроде этого товарища Сергея? Но какой тогда смысл в сказочном богатстве, если нет возможности жить в комфорте и демонстрировать состояние всему миру, и прежде всего ближним своим? Все эти опасения, сомнения побуждали Александра Иосифовича во что бы то ни стало исправить, устранить последнее остающееся для него опасным на родине обстоятельство, а именно избавиться от Потиевского. Тем более исполнить это, как оказывается, совсем не сложно.
Предводительствуемый беспощадным мстителем за все народные горести и страдания, санный поезд двинулся в объезд центра города: там можно было повстречать черносотенцев, и хотя повстанцы обычно не избегали во всяком случае давать отпор эти мне особенно-то храбрым мясникам-охотнорядцам, но теперь такая встреча была никак некстати.
Когда они уже порядочно отъехали от Пресни, Мордер спросил у Александра Иосифовича:
– Ты знаешь, где живет этот пристав?
Привыкший за последний год к почти неизменному «тыканью» в свой адрес, Александр Иосифович в таких случаях даже уже нисколько не оскорблялся, – в нынешнем его положении слишком непозволительной роскошью было бы нарушать душевное равновесие и тратить время еще и на обиды!
– Да там же неподалеку, на Большой Болвановке, – ответил он.
– Слышишь, Тихон! на Болвановку давай! – прикрикнул Мордер возничему.
– Зачем на Болвановку? – хватился Александр Иосифович, сообразив, что там же теперь живет его дочь! И мало того что ему никак не желательно с ней свидеться, так еще и крайне опасно приводить в ее дом целую разбойничью шайку: это и ей – жене пристава – смертельная угроза, и ему самому может не поздоровиться, если выяснится, что он этой семье человек отнюдь не чужой!
– А ты что, умник, хотел, чтобы мы полицейский дом приступом взяли? – насмешливо отвечал Мордер. – У меня нет армии, как у генерала Ноги, чтобы штурмовать порт-артуры! У меня людей в обрез. И я уж знаю, как ими распорядиться!
– Но товарищ Сергей велел… – заикнулся было Александр Иосифович.
– Мне плевать на вашего обожаемого Дантона и его веления! Я свое дело знаю! – вскипел Мордер. – Я ему опять привезу золотишко, что сорву с ушей полицмейстерши, и он будет всякому… товарищу восторженно рассказывать, какой я беспощадный борец с капиталом за лучшее будущее трудового народа!
Александр Иосифович перепугался, словно его крепко стукнули, а могут и еще крепче побить, он оторопел, втянул, как черепаха, голову в воротник. Неужели катастрофа? И самое досадное и позорное, что он сам в значительной степени виноват в случившемся! Потиевский, конечно, очень опасен для него, но можно же было бы как-то придумать, чтобы и с приставом покончить и самому в этом участия не принимать! А теперь ему даже не сбежать: по роковому недоразумению он сам подвел под большую неприятность свою дочь! Кто же мог знать, что этот товарищ Сергей выделит ему для исполнения натуральных каторжных! Он-то рассчитывал, что у повстанцев все сплошь Мещерины, да Самородовы, да Лизы Тужилкины.
– Вряд ли пристав дома, – заискивающим тоном привел Александр Иосифович последний аргумент, уже, впрочем, особенно не надеясь переменить намерения предводителя шайки. – Он в это время должен быть на службе.
– Тем лучше, – с усмешкой ответил Мордер. – Пошлем за ним в участок кого-нибудь из домочадцев. Да накажем передать, чтобы не вздумал привести кого за собой, иначе семью увидит только на панихидах.
Больше Александр Иосифович за все время пути не проронил ни слова. Он спрятал лицо в воротник и лихорадочно соображал: что ему теперь предпринять? как выпутаться из нежданной беды? Как избежать погибели собственной, а равно и любимой дочери?! И кое-что ему вроде бы пришло в голову…
На Болвановку отряд прибыл, когда уже совсем рассвело. Но людей на улице не было ни души. Хотя здесь, на купеческой Таганке, повстанцы баррикад не строили за ненадобностью, да и почти не показывались, местные обыватели на всякий случай все равно проводили все эти дни в затворе по своим особнякам и квартирам. И если бы не дымы над крышами, Таганка, с ее запорошенными нехожеными улицами, наглухо запертыми дверями и заиндевевшими окнами, вообще могла бы показаться неким вымершим или оставленным жителями городом.
Александр Иосифович предупредил Мордера, что перед домом пристава раньше всегда дежурил городовой. Теперь, скорее всего, на улице он не стоит, а прячется где-нибудь за дверями – там ему и теплее и безопаснее, – но открывать дверь будет, скорее всего, именно он. Однако еще надо как-то убедить его сделать это.
Но Мордера такие обстоятельства не особенно беспокоили. Опыт его «экспроприаций» кое-чего стоил: он наловчился пробираться в чужие дома – когда обманом, а когда и силой. В этот раз он придумал самому молодому своему дружиннику, с высоким юношеским голоском – Андрею, – постучать и сказать, что-де он – курьер и принес донесение для пристава от околоточного, а пройти к полицейскому дому не может – дружинники перекрыли улицы.
Хитрость удалась. Едва городовой приоткрыл дверь, двое самых могучих мордеровских подручных рванули ее так, что она едва с петель не слетела, и в тот же миг в сени ворвались несколько дружинников, сбив с ног полицейского, причем последний даже не успел вытащить револьвера, – он замешкался, как это обычно бывает при неожиданном расплохе, и его «смит и вессон» немедленно сделался трофеем ловких громителей. Оставив у входа охранять дверь и пленного двух человек, Мордер повел остальных во второй этаж, в самую квартиру пристава. Тут уж Александр Иосифович переместился из хвоста отряда в голову: теперь, чтобы исполнить задуманное, ему было необходимо, невзирая на диктат предводителя, находиться на самом острие событий.
Стараясь не шуметь, боевики вошли в прихожую. Там никого не было. Очевидно, обыватели еще не знали, что городовой внизу разоружен, а дом захвачен повстанческим отрядом.
Александр Иосифович был единственным из незваных гостей, кто прекрасно знал квартиру Потиевского, поскольку бывал здесь множество раз. Ему хорошо было известно, где находилась половина молодых, как он шутил в свое время, когда они с Екатериной Францевной навещали дочку после ее замужества. Поэтому он быстро прошел вглубь квартиры по узкому мрачному коридору, свернул за угол и толкнул знакомую дверь. Это была самая большая комната в доме. Там Потиевские обычно принимали гостей. И именно из нее на две стороны расходились двери в кабинет пристава и в спальню супругов.
Здесь уж Александр Иосифович не стал таиться, а, напротив, позаботился подать знак возможному обитателю апартаментов – пристукнул каблуками по полу, нарочно кашлянул погромче. Да и за спиной у него уже нарастал шум от следующей за ним толпы.
И тут из кабинета вышла статная, стройная молодая дама, закутанная в темную кружевную мантилью. Она спокойно, без удивления и тревоги во взгляде, посмотрела на вошедших, прежде всего на ближайшего к ней визитера… И!..
И… раньше чем Таня успела изумиться невероятному видению, Александр Иосифович подошел к ней близко, так, чтобы закрыть собой ее лицо от взора задержавшихся в дверях своих спутников, и громко сказал:
– Tais-toi. Je suis en danger. C’est une clique de scelerats. Consens at out ce que je dirai [36]. – В его голосе не звучало ни малейшей тревоги, словно он делал даме комплимент.
В ту же секунду к нему подскочил Морд ер.
– Что ты сказал? – гневно закричал он. – Почему не по-нашему?
– Я принял мадемуазель за домашнюю учительницу – француженку! – спокойно объяснил Александр Иосифович. – Но вижу, ошибся. – Он выразительно посмотрел на Таню. – По-французски девушка не понимает. Наверное, просто кто-то из прислуги. Верно я угадал? – произнес он тоном, подсказывающим Тане, что ей надо согласиться.
Таня только кивнула головой. Она наконец поняла, что визит им нанесен отнюдь не дружественный и что отец в этой компании далеко не свой.
– Ты кто? – напустился Мордер на Таню. – Где пристав? Отвечай!
Отвечала Таня ему лишь снисходительно-высокомерным взглядом.
В это время из кабинета вышла еще одна, коротко стриженная по парижской моде, молодая дама. Она уверенною хозяйскою поступью прошла на середину залы и торжественно произнесла:
– Господа! Я супруга Антона Николаевича! А это моя компаньонка! – кивнула она на Таню. И видя, что собравшиеся не понимают, о чем идет речь, пояснила: – Подруга, попросту говоря. – И строго добавила: – Его высокоблагородия теперь нет дома. Извольте уйти. Мы гостей не принимаем!
Таня посмотрела на свою падчерицу Наташу не менее изумленно, нежели минуту назад на явившегося после полуторагодичного их расставания и давно ею похороненного отца.
Александр же Иосифович, пользуясь неожиданною счастливою подмогой, перешел к делу.
– Вот подруга и отправится с уведомлением к кому следует! – настоятельно объявил он предводителю шайки.
Но Мордер нисколько и не собирался возражать, поскольку такой вариант его вполне устраивал: понятное дело, не жену же отпускать из ловушки! жена – главная их приманка!
Мордер объяснил Тане, что она должна немедленно отправиться на службу к приставу и передать ему срочно явиться домой.
– А если не придет через час или заявится не один, пусть пеняет на себя, – угрожающе проговорил Мордер и выразительно посмотрел на мнимую супругу хозяина с французскою куафюрой.
Тут уж Александр Иосифович поторопился спровадить Таню, – а ну как чего-нибудь помешает ей уйти!
– Идите, идите, скорее, не задерживайте. – Он наступал на дочь, буквально подталкивая к выходу.
– Андрюшка, проводи мамзель, – велел Мордер молодому дружиннику. – Да вели Тихону отвезти ее, куда скажет. Бегом!
Прежде чем выйти из залы, Таня еще раз оглянулась на Наташу, умоляя ее взглядом «не узнавать» отца. Но, похоже, Наташа даже и не поняла ее взгляда. Потому что Александра Иосифовича, которого давным-давно видела два или три раза мельком, она и без того теперь решительно не узнала.
Ну а Александр Николаевич мог, как говорится, перевести дыхание: полдела сделано – дочь спасена, остается только разобраться с приставом – да это уже не его забота! это теперь другие исполнят! – и он свободен и вне опасности! а завтра, бог даст, уже будет пить коньяк и курить сигару в ресторане варшавского поезда!
Только в санках Таня наконец пришла в себя и собралась с мыслями. Не почудилась ли ей эта абсурдная сцена?! Ничего более невероятного и вообразить невозможно! Всего несколько дней назад ей стало известно, что папа жив! – об этом рассказала тоже явившаяся из небытия Лиза. Но чтобы теперь так неожиданно увидеть его! – такого у Тани даже в мыслях не было! И уж тем более невообразимо увидеть статского советника и интеллигента в такой компании! Впрочем, совершенно очевидно, что если он и споспешник этой банде, то разве поневоле, а скорее сам их пленник. И также, вне всякого сомнения, Антону Николаевичу угрожает смертельная опасность. Но сейчас она ему расскажет о случившемся, и он во всем разберется и все устроит. Таня привыкла к тому, что мужу всегда были по плечу любые проблемы и незадачи.
Полицейский дом, огороженный стеной, с постом на вышке, с пикетом и пушкой в воротах, напоминал приготовившуюся к отражению штурма крепость. Находившийся в пикете полицейский чин знал Таню лично, – не однаящы встречал ее преяще, когда она приезжала к мужу на службу, – поэтому он немедленно велел кому-то из бывших в пикете подчиненных проводить ее к приставу.
Едва Антон Николаевич увидел на пороге жену, он сразу же догадался, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Чтобы сейчас, когда по улицам стреляют, приехать, нарушая все его предостережения, для этого нуясна причина самая чрезвычайная!
Наученная тому, что муж не терпит церемоний и извилистых подходов, но любит, чтобы суть дела, каким бы тревожным или деликатным оно ни было, излагалась немедленно и предельно ясно, Таня с ходу объявила, что их дом захвачен повстанцами, они требуют выдать им пристава, а ей удалось выскользнуть лишь благодаря тому, что Наташа представилась супругой Антона Николаевича, а ее саму отрекомендовала приживалкой. Но когда Таня дошла до того, что среди боевиков ее отец – Александр Иосифович, – тут уж и сильный духом полицейский потерялся. Впрочем, ненадолго совсем.
– Но он меня спас! – поспешила Таня заступиться за родителя, зная, что служебный долг велит мужу относиться к Александру Иосифовичу как к опаснейшему преступнику. – Папа, очевидно, сам рискует, находясь среди этих извергов! Если б ты видел, как хитроумно он не позволил мне показать своего изумления при нашей встрече! Чтобы злодеи не заподозрили чего!
Потиевский хотел ответить жене: а не пришло ли ей в голову, почему вообще отец вдруг появился у них в доме в разбойничьей компании? – сам-то пристав сразу догадался, что Казаринов привел убийц по его душу. Но говорить Тане ничего такого Антон Николаевич не стал, как обычно оберегая ее чувства.
– Что с ним будет теперь? – тревожно спросила Таня.
Потиевский с досадой отметил про себя, что жену больше заботит не участь мужа, который сейчас поставлен перед дилеммой – оправиться ли ему на верную смерть самому или обречь на таковую своих близких, оставшихся в руках у бандитов, – а прежде всего она обеспокоена судьбой своего преступного родителя! Но Антон Николаевич смирился с расстройством и никак его не показал.
– Война закончилась… – ответил он. – Теперь, по крайней мере, его не повесят. Прошу прощения, – хватился пристав. – Присудят, верно, крепость или каторгу… и, я думаю, даже не до второго пришествия…
Но Таня о таком и слушать не хотела.
– Его можно как-то спасти? – взмолилась она. – Он меня безумно любит! Если ты меня любишь так же, придумай что-нибудь!
– Но, дорогая! – пытался вразумить пристав супругу. – Наверное, убийца великого князя тоже очень любил своих близких. Но этого же оказалось недостаточно, чтобы его оправдать и предоставить счастливо проводить время в кругу семьи. Есть же закон!
Продолжать просить, вымаливать, плакать было не в Танином характере. Она опустилась на диван и закрыла ладонью лицо.
Пристав занервничал. Душой он рвался домой, где под дулами бандитских наганов томились его дочь, мать и сестры. Но и с Таней он не мог расстаться – возможно, навсегда! – оставшись в ее памяти этаким бездушным законником, для которого буква во всяком случае остается выше лучших человеческих чувств.
– Ну вот что, Таня! – решительно произнес Потиевский. – Вот единственное, что я могу сделать для тебя и… для него. – Он обмакнул перо и быстро заскрипел им по бумаге. – Я ему, в конце концов, благодарен за лучшие дни, проведенные с его дочерью… – одновременно приговаривал пристав, будто оправдывался перед самим собой. – На! – Он протянул Тане записку. – В этой крепости у вас, по крайней мере, не будет ограничений в свиданиях!
Таня пробежалась глазами по написанному.
– Но… – проговорила она.
– Все, Татьяна! – отрезал Потиевский. – Это самое большое, что я могу сделать! И… прощай!
Он приблизился к жене, обеими руками взял ее руку и несколько раз поцеловал.
– Я знаю, ты вышла за меня не по своей воле. Но я всегда тебя очень любил. Ты самая необыкновенная. Спасибо тебе…
Таня посмотрела на Антона Николаевича с удивлением, – озабоченная судьбой отца, она теперь не поняла, что муж с ней прощается.
Пристав же, еще раз поцеловав руку жене, поднялся на ноги, вызвал помощника и сказал ему:
– Я срочно уезжаю по делу. Прошу вас до вечера Татьяну Александровну не отпускать. А к вечеру отвезите ее домой.
Потиевский в последний раз оглянулся на жену и вышел из кабинета.
Тут только до Тани дошло, что, возможно, мужа она больше никогда не увидит. Она вскочила, поспешила к двери. Но путь ей преградил помощник пристава.
– Татьяна Александровна, – вежливо, но настоятельно попросил он. – Прошу вас: сядьте. Мы не дома, мы – в полиции, и здесь высший этикет – приказ начальства. Приказ получен. Так давайте же его исполнять. Успокойтесь. Сейчас вам подадут чаю.
– Какого чаю?! Вы ничего не понимаете! Он поехал по требованию бандитов! В нашу квартиру ворвались пресненцы! Они хотят убить Антона Николаевича! Меня отправили за ним!
Полицейский с минуту смотрел на нее, как огорошенный, но быстро совладал с чувствами и выскочил в приемную. Там он закричал: «Тревога!» – и тотчас принялся отдавать кому-то краткие приказания.
– Но они сказали, что убьют всех, если Антон Николаевич приедет не один! – воскликнула Таня, выбежав в приемную вслед за полицейским.
– Они наверно всех убьют вместе с приставом, если не будет угрозы для их собственной жизни! – ответил помощник, тоже уже не сдерживая голоса. – А так еще подумают! У нас должен быть аргумент для торга! А лучший аргумент с ними – сила и пуля!
– Я еду с вами! – решительно заявила Таня. – Там находится один вполне достойный человек, оказавшийся среди них по недоразумению! Вот записка Антона Николаевича, – протянула она помощнику Потиевского бумажку с автографом мужа. – Этого человека нужно отправить… вот… куда сказано. Видите подпись?
– Достойный человек? – удивился полицейский, бегло прочитав записку. – Хорошо, поехали. Будете где-нибудь позади держаться!
В лабиринтах всяких коридорчиков и закоулков квартиры Потиевского кому-то незнакомому с расположением помещений в ней действительно непросто было сориентироваться, почему люди Мордера не смогли немедленно осмотреть все комнаты. В частности, они не удосужились сразу заглянуть в апартаменты к Капитолине Антоновне. А поскольку налетчики старались действовать тихо, то и внимания старой барыни, затворившейся в дальних комнатах, их почти бесшумный захват квартиры к себе не привлек.
Но то, что старейшая обитательница квартиры могла не заметить по известным причинам, и прежде всего в силу своего почтенного возраста, не ускользнуло от внимания ее тоже довольно немолодых дочерей – Ирины Николаевны и Ульяны Николаевны. Они сообразили, что подозрительные гости навестили их отнюдь не с добром. А подслушав разговор в зале, окончательно убедились, что к ним пришла беда в лице этих злонамеренных визитеров. Естественно, сестры решили как-нибудь поаккуратнее, но не мешкая, предупредить Капитолину Антоновну о случившемся, потому что будет много хуже, рассудили они, если матушка узнает об этом от самих налетчиков.
Они тихонько, гуськом, одна за другой, как монашки, пробрались в комнату Капитолины Антоновны. Причем в коридоре их увидел кто-то из дружинников, но даже ничего не сказал. Люди Мордера вообще не строжились над обывателями: выйти из дома все равно было невозможно, поэтому они особенно не заботились о перемещении жильцов внутри самой квартиры. За исключением разве мнимой жены пристава: с Наташи они буквально глаз не спускали, – там же, в зале. Прозевать, упустить как-то ее означало бы для них провалить все предприятие!
Капитолина Антоновна дремала в кресле возле печки. От скрипа двери она вздрогнула, немедленно пробудившись, причем сделала вид, что и не думала спать, а так себе сидела, прикрыв глаза.
Страшась, как бы ни напугать матушку, дочери начали издалека.
– Мама, к нам пришли… – сказала Ульяна Николаевна.
– К нам пришли люди… – пояснила Ирина Николаевна, видя, что старушка спросонья не вполне понимает, о чем ей говорят.
– Накормите, – ответила барыня, думая, что речь идет о странных.
– Да нет же, мама! – напрямки уже объявила Ульяна Николаевна. – К нам пришли рабочие! Рабочие восстали! Ты же знаешь…
– Работные бунтуют?! – наконец оживилась, будто от радостной новости, Капитолина Антоновна. – К нам заявились?! Вот она, вольная-то! Я знала, что так будет! к чему приведет! Потому что им всегда пригляд нужен, что детям малым, – приговаривала она, поднимаясь с кресла. – Ну, ничего, сама пойду сейчас разберусь с ними! Не впервой.
Обе дочери, истинно ломая руки, принялись уговаривать матушку не выходить из комнаты, – они хотели как лучше, но вышло хуже некуда! – знали бы, так не стали и рассказывать о случившемся, авось лихо миновало бы само собою!
– А ну-ка, посторонитесь! – только и ответила на их мольбы Капитолина Антоновна. – Не мельтешитесь под ногами взад-назад.
Она, несдержанно стуча клюкой, вышла в коридор и громко сказала:
– Которые взбунтовались?! Где вы самые?
Увидев, как из залы на ее голос выглянуло сразу несколько голов, барыня уверенно застучала клюкой в их сторону.
Удивленные боевики расступились, когда Капитолина Антоновна вошла в комнату.
– Ну что, буяны, – едва ли не улыбаясь, как старым знакомым, сказала она им. – Чем недовольны опять? Прибавок спрашиваете?
– Кто такая? – злобно проговорил Мордер.
– А! Ты, верно, заводчик! – Опершись двумя руками на клюку, Капитолина Антоновна внимательно посмотрела на Мордера. – Ну-ка, расскажи мне, братец, и что же ты пообещал своим поспешникам? Чем прельстил их? Богатством, что ли? Думаете, пограбите господ и сами господами станете? Вон у нас в уезде, помню, объявилась такая шайка: тоже позарились на господское, а потом друг друга перерезали – награбленное поделить не сумели! Не боишься, заводчик, что и тебя потом кто-нибудь из твоих молодцов… того?..
Мордер ничего не отвечал, но только с лютой ненавистью смотрел на старую барыню. Казалось, он был готов растерзать ее, загрызть, да воздерживался, опасаясь сорвать исполнение главного, зачем они сюда явились. К тому же у него не было уверенности в своих же людях – поспешниках-.как еще они отнесутся к расправе над старухой? – ведь он же им внушал, что они отнюдь не убийцы невинных, но только судьи над заслуживающими казни!
Тут самый молодой из боевиков – Андрюшка – вступился за своего начального.
– Вы, баре, испокон народ обираете, – голосом обиженного ребенка произнес он. – А мы тоже сытно жить хочим!
– Сытно жить хочешь?! – Капитолина Антоновна даже подошла к нему поближе, чтобы лучше разглядеть пустомелю. – Вор и сытый украдет. Сытную жизнь разве разбоем добывают?..
– Мы – народ! – выложил Андрюшка какую-то, видимо, усвоенную на митинге истину. – Нам все дозволено!
– Э-э, – махнула на его слова рукой Капитолина Антоновна, как на досужую бессмыслицу. – Все позволительно, да не все полезно! Ты вот скажи мне: где мать-то твоя?
– В деревне…
– А чего ты не при матери? Как же ты ее без призору оставил? Небось не молодая?!
Малый смутился, как-то виновато, будто прося не судить его строго, посмотрел на кого-то из своих и пробубнил:
– В деревне работы теперь нету…
– Работы нету?! Вы слышали! – оглянулась барыня на окружающих, как бы призывая их в свидетели высказанной собеседником нелепости. – Когда это в деревне работы не было! Я век в деревне прожила, и век часу праздного не знала! А ему работы нету! А в Москве есть работа тебе?! Что же ты тогда не работаешь, а по квартирам разбойничаешь, коли тут работы для тебя вдоволь?! Лодырям нигде работы нету!
И Капитолина Антоновна произнесла целую пламенную увещевательную речь в адрес непрошеных гостей. Она говорила им, что коли уж и справедливо почитать богатство злом, то сугубое зло добывать таковое разбоем или воровски. Какую же славу приобретут среди своих близких те, кто так поступает? Какую память они оставят о себе потомкам?
Когда Капитолина Антоновна говорила и поворачивалась то в одну, то в другую сторону, все дружинники, за исключением одного Мордера, немедленно опускали глаза, чтобы не встречаться с ней взглядом. Впрочем, еще и Наташа не отводила глаз от бабушки, но только восхищенных, исполненных любви и гордости за нее.
– Не позорьте своих старух-матерей! – учила Капитолина Антоновна. – Идите подобру! И не буяньте больше! Примитесь за ум!
В этот момент из коридора послышался топот ног. В залу ворвался раскрасневшийся и задохнувшийся дружинник и выпалил:
– Приехал! Один!
Все боевики сразу засуетились, занервничали. Кто-то побежал в коридор. Кто-то припал к окнам.
– Заберите у него оружие! – крикнул Мордер вслед тем, кто выбежал из залы. – Обыщите!
Перед самым появлением Потиевского Александр Иосифович на всякий случай встал за спину какого-то боевика. И все равно, едва пристав вошел, он сразу же заметил своего тестя. Но отнюдь не подал вида. Дав Тане известные обещания относительно ее родителя, теперь Антон Николаевич не мог поступить как-нибудь так, чтобы помешать этим обещаниям быть исполненным. А обнаружить свое знакомство с ним в присутствии каких-то сомнительных лиц, с которыми – даже не известно толком – заодно ли Александр Иосифович или поневоле, означало именно осложнить исполнение обещанного.
Потиевский и Казаринов сколько-то смотрели друг на друга в упор. Причем Александр Иосифович мигом сообразил, что пристав ему в данном случае ничуть не страшен: объявить теперь, в этой аудитории, о его преступлениях – это, может быть, даже поспособствовать упрочению его реноме в глазах разбойной команды, и делать этого Потиевскому не было ни малейшего резона.
– Что здесь происходит? – спокойно спросил Потиевский.
– Вы рогожский пристав?! – как-то неуверенно произнес Мордер, очевидно, сильно волнуясь. – По приговору московского комитета вы приговариваетесь к расстрелянию! – нескладно закончил он уж совсем срывающимся фальцетом.
Потиевский ничего ему не ответил, – он даже не смотрел на этого, с его точки зрения, жулика. Пристав с едва заметною ироничною усмешкой в глазах и на губах глядел на тестя. Но Александр Иосифович теперь старался не встречаться с ним взглядом.
Тут опять заговорила Капитолина Антоновна.
– Это кто кого приговорил? – сурово спросила она Мордера. – Раньше в разбойники шли, чтобы жить без власти, без закона, а теперь стали разбойничать по закону?! по какому-то филькиному приговору суд вершить, молодец?!
Потиевский смекнул, что этак матушка сейчас окончательно выведет из себя бандитов, и они, пожалуй что, исполнят свой филькин приговор прямо здесь же, в доме.
– Maman, я провожу гостей, – сказал Антон Николаевич решительно, подсказывая, прежде всего, самим налетчикам, что готов с ними выйти для исполнения их приговора.
– Ступай проводи, – ответила Капитолина Антоновна, полагая, что ее стараниями, ее увещеваниями дело как будто разрешается миром.
Но тут какой-то боевик, что стоял у окна, вдруг завопил:
– Облава! Казаки!
В комнате раздался грохот. Потому что кто-то из боевиков в панике так рванулся бежать все равно куда, что сшиб стул и, запутавшись ногами, упал сам.
Побелевший Мордер выхватил наган.
– Своих привел?! – злобно прокричал он Потиевскому.
Пристав ничего не ответил и демонстративно отвернулся от него. Он мгновенно сообразил, что за ним следом приехало целое войско, потому что Таня, разумеется, обо всем рассказала его помощнику, едва за мужем закрылась дверь.
В это время с улицы донесся зычный, прямо-таки протодьяконский глас:
– Слушай! Дом окружен! Всем мятежникам, сложившим оружие, обещается жизнь! Выходи!
В зале наступила немая сцена. Все боевики оглянулись на Мордера: как он распорядится?! что придумает?! Но вожак их стоял, будто каменный, и, набычившись, лишь смотрел с лютою ненавистью на пристава и на его старуху-мать.
Безмолвие прервал какой-то немолодой дружинник:
– Сдаваться надо! Убьют всех! Вашвысокородие, – взволнованно сказал он Потиевскому, – сдаемся мы!
Пристав, хотя и нарочно старался не смотреть на Мордера, чтобы тот не подумал, будто он хотя бы взглядом вымаливает у него пощады, тем не менее многоопытный полицейский, как говорится, спиной чувствовал своего врага: все его еще не исполненные намерения, любое его еще не произведенное движение.
И когда Мордер вскинул руку с пистолетом, Потиевский, не столько увидев это, сколько почувствовав, рванулся прикрыть собою мать. Потому что Мордер действительно направил дуло прежде всего на Капитолину Антоновну. И все равно Антон Николаевич немного не успел: Мордер выстрелил, да, к счастью, промахнулся, – первая пуля угодила в окно, брызнув на улицу битым стеклом! Зато вторая пришлась уже в самого пристава.
Раздался пронзительный женский визг – это закричали сестры Антона Николаевича.
Даже и получив пулю, Потиевский так и не доставил удовольствия стрелявшему: не задел его ни краем глаза, до конца не признавая в нем предмета, достойного его внимания. Последним порывом Антона Николаевича было взглянуть на Капитолину Антоновну, но матушка находилась у него за спиной, а повернуться к ней у Потиевского уже не хватило сил – он рухнул на пол.
Выстрелить в ненавистную старую барыню у Мордера так и не получилось: кто-то из боевиков кинулся к нему, схватил его за руку и поднял ее вверх так, что наган пришелся дулом в потолок и опасности уже не представлял. И все-таки Мордер еще успел выстрелить, разбив потолок и обдав брызгами штукатурки и пыли всех сгрудившихся вокруг. Тотчас на него прыгнули еще кто-то из своих – повалили, отняли наган и заломили руки.
– Выдадим жида! – прокричал пожилой дружинник, окончательно определив отношение боевиков к своему вожаку. – А с нас спрос малый! Они мутят всех! – Он, хоронясь на всякий случай за стенку, выкрикнул в разбитое окно: – Сдаемся! Не стреляйте! Сдаемся! – И в подтверждение своих слов выбросил на снег наган.
Через минуту квартира Потиевских была занята полицией. Помощник пристава первым вошел в залу, где произошло убийство. Он немедленно распорядился отнести бесчувственную Капитолину Антоновну в ее комнаты, а неживого своего шефа накрыть скатертью. Затем дал команду городовым обыскать боевиков и выводить их по одному из дома.
Таня все это время оставалась на улице. А когда наконец все налетчики, в том числе и Александр Иосифович, были выведены, она сразу встала поближе к отцу, чтобы, если потребуется, защищать его от всяких возможных неприятностей. Приободрился тотчас и Александр Иосифович, когда увидел, что дочь готова стоять за него насмерть. Каких-то три минуты назад он уже почти упал духом, такие безотрадные перспективы собственной участи стали рисоваться ему. Но теперь в его голове замелькали всякие обнадеживающие и даже счастливые варианты развития событий. Все-таки его дочь здесь не последний человек – она жена начальника этих сервильных мундиров, – холопов по натуре! – и к ее слову они не могут не отнестись с почтением. К тому же теперь, когда она сделалась вдовой! Это нужно быть последними подонками, чтобы отказать в чем-то несчастной женщине, у которой только что трагически погиб муж – их начальник! У Александра Иосифовича промелькнуло, что все-таки он поступил исключительно разумно и дальновидно, выдав дочь замуж за своего друга Потиевского.
Ожидания Александра Иосифовича вполне оправдались. Едва в дверях показался помощник пристава, Таня немедленно напомнила ему:
– Вот тот человек, о котором идет речь в записке Антона Николаевича. – Она указала на отца.
– Да, да. Помню… – как-то неуверенно ответил полицейский. И перешел к главному: – Татьяна Александровна, – проговорил он скорбно, – с душевным соболезнованием вынужден сообщить о постигшем вас несчастье…
Таня мгновенно поняла, что Антона Николаевича больше нет. Она, как и полагается вдове, заплакала бы, но… не при нынешних обстоятельствах! Она еще поплачет в свое время. С Капитолиной Антоновной, Наташей и золовками. Непременно. Но сейчас ей нужно держать себя в руках, чтобы завершить важнейшее дело – устроить отца!
– …Антон Николаевич… – с трудом продолжал полицейский, – предательски убит…
– Царство Небесное рабу Божию Антону – прошептала Таня. И тотчас перешла к другому: – Этого человека срочно нужно доставить, куда велел муж.
– Разумеется, – холодно ответил полицейский.
Он окликнул возничего и, когда тот подал санки, протянул державшим под руки Александра Иосифовича городовым записку Антона Николаевича и приказал доставить арестованного по указанному адресу.
– Я тоже поеду, – решительно заявила Таня.
– Но… вы не проводите Антона Николаевича до часовни?.. – изумленно спросил помощник убитого пристава.
– Я в большей степени почту память мужа, если исполню его духовную, – отчеканила Таня.
Какое-то время полицейский стоял и отрешенно смотрел, как удаляются перегруженные санки. Но скоро пришел в себя. Он оглянулся на задержанных боевиков.
– Который стрелял? – грозно рыкнул он.
Кто-то ему указал на Мордера.
– Отойдите! – крикнул помощник пристава державшим его под руки нижним чинам.
Те отступили от Мордера на два-три шага. Помощник выхватил наган и, не прицеливаясь, верно выстрелил убийце своего шефа в самый лоб.
– Забрать! – коротко скомандовал он городовым, небрежно кивнув на труп с разбитой, дымящейся на морозе головой.
Глава 12
Чаша весов в московском противостоянии окончательно склонилась на сторону правительственных войск после того, как из Петербурга прибыл лейб-гвардии Семеновский полк. Быстро подавив сопротивление повстанцев в отдельных частях города, гвардейцы осадили последний и главный оплот восстания – Пресню. Сразу с нескольких сторон – от Кудринской, из Дорогомилова, с Ваганьковского кладбища – Пресня стала обстреливаться из пушек. Начались пожары. Особенно сильный пожар произошел на фабрике Шмидта, целиком ее уничтожив. Тучи пресненского дыма стояли над Москвой, как в ненастные осенние дни. И хотя большинство дружинников готовы были умереть на этой последней своей позиции, штаб восстания, чтобы сохранить силы для будущих боев, принял решение сопротивление прекратить. Дружинам была дана команда постепенно оставлять баррикады и отходить к Дорогомиловскому кладбищу и к Филям, пока еще с запада Пресня не была окончательно блокирована. Никто из повстанцев не сомневался, что это лишь временное отступление: не сегодня завтра рабочие вновь соберутся с силами и, используя приобретенный в декабрьских боях опыт и учитывая совершенные по недоразумению ошибки, уже по-другому поговорят с неприятелем, воздадут ему за нынешнюю свою неудачу, свернут голову этой человеконенавистнической преступной власти!
Но просто так по-заячьи убегать – лишь бы только спастись, унести ноги – дружинники отнюдь не собирались. Они приготовили безжалостному коварному врагу свои рабочие сюрпризы: оставляя баррикады, дружинники закладывали в них взрывчатку – фугасы, как они называли эти заряды. И в некоторых случаях их уловка оказалась для неприятеля, как и планировалось, возмездием весьма губительным: взорванные вовремя, фугасы эти убивали и ранили многих самодовольных гвардейцев, и уж во всяком случае, сдерживали их наступательный порыв и позволяли дружинникам выиграть время, чтобы спрятать оружие, укрыть раненых, отойти самим. Все-таки взятие Пресни не стало для вооруженного до зубов войска легкою прогулкой.
Но уж ворвавшись на опустевшие улицы, молодцы-семеновцы сполна отыгрались на немногих оставшихся пресненцах: любая самая малейшая примета непосредственного участия в сражениях, например, пятна масла на одежде – от оружия, естественно! – была достаточным поводом, чтобы мятежниканемедленно расстрелять. Начальник семеновцев полковник Мин приказал своим молодцам, вступившим на Пресню, коротко и ясно: «Арестованных не иметь, пощады не давать!»
Мещерин, Самородов и их дружинники оставались на баррикаде и отстреливались до последней возможности. Семеновцы прежде всего пошли на них в штыки, но были легко отбиты македонками, которыми два бывалых маньчжурца умели пользоваться мастерски. Тогда гвардейцы подкатили пушку и дважды выстрелили по баррикаде, пробив в ней посередине брешь. Но когда они снова пошли в атаку, их снова встретили пули и македонки дружинников: увидев, что против них готовятся применить артиллерию, опытный боец Мещерин приказал всем, кто был на баррикаде, разбежаться на две стороны и залечь под стенами домов, – он знал, что стрелять артиллеристы будут почти наверно в середину укрепления, а края останутся целыми. Так и вышло. И снова семеновцы не взяли их баррикады – отступили, неся потери. Тогда уж они принялись палить из пушки по баррикаде до тех пор, пока не разметали ее всю в мелкие щепки. Но защитников там уже никого не было, – предвидя, как будут развиваться события, Мещерин вовремя увел людей на заднюю, еще более могучую линию обороны.
Впрочем, там они долго не задержались: едва заняли позицию, к ним прибежала Лиза и объявила, что их срочно вызывает Саломеев.
Штаб восстания сворачивался. Кто-то жег в печке бумаги. Кто-то, напротив, что-то спешно писал, видимо, отдавая последние распоряжения. Но паники в комитете нисколько не чувствовалось, и лихорадочных сборов ничуть не было.
Саломеев встретил друзей с радостною улыбкой, будто намеревался сообщить им, что генерал-губернатор запросил у революционного комитета мира на условиях последнего.
Он поспешил навстречу Мещерину и Самородову и, словно благодаря бойцов за службу, положил им руки на плечи.
– Друзья мои! Старые мои боевые товарищи! Все только начинается! – сказал он нарочито громко, с расчетом, видимо, что его слова услышат и прочие штабные. – За одного битого двух небитых дают! Мы не отступаем – нет! мы передислоцируемся! – Саломеев с удовольствием показывал свою речь военачальника. – Мы демонстрируем маневр, чтобы ввести в заблуждение неприятеля и, собравшись с силами, завтра снова вступить в бой! И добить врага! Нанести последний и решительный удар по прогнившему царизму! Мы не проиграли эту битву! Запомните все! – почти кричал Саломеев. – Мы лишь окрепли духом в нынешней борьбе! А это значит, мы победили! Ибо победа всегда за сильнейшим духом!
– А теперь слушайте мой приказ! – более сдержанно произнес он. – Приказываю: взять своих очаровательных невест, – он улыбнулся стоящим тут же Лизе и Хае, – и немедленно покинуть Пресню! И не возражайте! – поспешил вставить он, видя, что Мещерин хотел что-то сказать, по всей видимости, заявить о своем намерении оставаться и сражаться в осаде до конца. – Помните: мы себе не принадлежим! Мы должны идти туда, куда укажет партия! Где вы будете полезнее! Здесь теперь от вас пользы партии нет! Это не обсуждается. Наши с вами бои впереди!
Когда стемнело, Клецкин отвез Мещерина с Хаей и Самородова с Лизой в Мневники. Там Саломеев заранее нанял у одной старушки квартиру на случай возможного их маневра. Ночью он и сам присоединился к друзьям. А утром, до рассвета, они все вместе выехали в еще более дальнее, приготовленное дальновидным Саломеевым убежище – в глухую деревеньку в Звенигородском уезде подальше от железной дороги.
В последующие дни Москва залечивала раны, полученные в результате кровавых беспорядков. Ко всем заставам потянулись сани с гробами, а то и просто с укутанными в холстину покойными: сотни убиенных – часто безымянных и неотпетых – отправились в последний путь свой. Похоронен был и пристав Потиевский на Калитниковском кладбище рядом с могилой отца, – там уж Таня действительно всплакнула вместе с другими близкими покойного. Но едва закончились казни и похороны, Москва будто бы очнулась после горячечного сна, повеселела даже немного: стали выходить газеты, и снова забегали мальчишки-разносчики, выкрикивая важные новости, повсюду застучали топоры и молотки, завизжали пилы – это плотники и каменщики принялись чинить фасады домов, устанавливать заново ворота, поправлять изгородки, торговцы снимали с окон деревянные щиты и открывали свои лавки и магазины, извозчики как будто стали даже шибче погонять своих отдохнувших лошадок. Когда же раздался первый фабричный гудок, всем стало ясно – лихо миновало, и жизнь возвращается в привычную свою колею.
А в наступивший через несколько дней сочельник Москва будто уже забыла о случившимся или нарочно не хотела об этом вспоминать: город наполнился даже большей, чем в прежние годы, предпраздничной суетой, обыватели, многие из которых две недели носа из дома не показывали, все дружно вывалили на улицу, на рынках наступило натуральное столпотворение, в магазинах – не протолкнуться, в винные лавки выстроились полуверстные очереди. Всем хотелось жить, и радоваться, и праздновать!
С начала же нового года Москву и всю Россию охватила единственная пламенная страсть – скорые выборы в Государственную думу. Повсюду – в салонах и рабочих казармах, в очередях и собраниях, в вагонах конки и извозчичьих санках, в театрах и церквах! – среди всех званий и сословий то и дело теперь слышались новые слова: право голоса, депутаты, выборщики, курия, ценз. На выборы в свое время поспешили явиться почти все, кто имел это самое право голоса: одни, надеясь таким образом возместить за свою декабрьскую неудачу, другие, намереваясь еще более упрочить свое господствующее и привилегированное положение и исключить впредь вероятность хамову коленукак-то влиять на устои.
Получил кресло в российском парламенте и Сергей Юрьевич Саломеев. Убедившись, что партнер исполнил его просьбу в отношении купца Дрягалова, о погибели которого сообщили многие газеты, едва восстание утихло, чиновник московского охранного отделения данное Саломееву слово сдержал: помог получить место депутата Государственной думы от одной из левых партий. Очевидно, у Викентия Викентиевича имелся какой-то свой расчет: ему, наверное, нужен был доверенный человек в Думе, так же точно как подобных людей он прежде внедрял в социалистическое движение. Впрочем, неизвестно, какие уж он там строил планы. Но если и были у него какие-то виды, то все они вскоре рухнули. Сразу после открытия Думы была образована особая государственная комиссия, занявшаяся расследованием причин московского восстания и выявлением приведших к беспорядкам просчетов властных и ответственных лиц. В результате в отставку было отправлено множество чиновников разного уровня. Среди прочих оказался и Викентий Викентиевич. Компетентные господа посчитали, что его рабочая политика с этими полулегальными кружками, с этой его революцией на коротком поводке,принесла крайне вредный для государства результат, – возложенного не него высокого доверия он не оправдал!
Отставка Викентия Викентиевича сделала возможным выбраться из затвора мнимому убиенному – Василию Никифоровичу Дрягалову. Записной его ненавистник больше никакой опасности собою не представлял. Почему таиться Дрягалову скрываться ото всех, будто беглому каторжному не было необходимости.
Василий Никифорович с комфортом перезимовал в своем роскошном кунцевском особняке. Днем он сидел над бумагами и счетами, которые ему постоянно привозил сын Дмитрий Васильевич, вечерами, в темноте, выходил прогуляться возле дома. Невестка его забавляла чтением романов вслух, а внук развлекал, намертво вцепляясь пальчиками ему в бороду. При нем, кроме кухарки и верного кучера Егорки, жили и его молодые – сын с женой и дитем. Диме и Леночке пришлось также перебраться в Кунцево, чтобы никому не показалось подозрительным: для чего это к дрягаловскому дому нет-нет да и подъезжают санки, груженные какими-то припасами, в то время как прочие дачи остаются безлюдными и заметенными снегом до весны?
Освободившись от вынужденной неволи, Дрягалов поспешил к своим магазинам. Хотя Дима управлялся с их семейною торговлей довольно ловко и умело, по-хозяйски, однако отцовского опыта он еще не нажил, и кое-какие дела, с точки зрения Василия Никифоровича, можно было бы обделать и с большею выгодою, нежели это вышло у сына. Поэтому, едва ему стало возможным более не скрываться, Дрягалов с сугубою энергией приступил к повседневным своим занятиям.
Но проводил ли он время в магазинах, ездил ли на биржу, выбирался ли в Нижний, Петербург или за границу, Василий Никифорович все думал свою сладостную и мучительную, трудную и отрадную, желанную и тревожную думку, которой, по правде сказать, он сам же страшился, но тем милее она ему была. Думка эта пришла ему в Кунцеве, когда однажды приехал Дима и за ужином рассказал им, что убит пристав Потиевский – Танин муж. Дрягалов промолчал тогда весь ужин, а вечером даже не вышел слушать роман. Так с тех пор Василия Никифоровича будто подменили: он и прежде-то говорил немного, а теперь вообще молчальником сделался, со слуг почти перестал взыскивать, даже взглядом своим строгим, от которого хоть падай, перестал людей стращать. Только вздохнет иной раз на чье-нибудь нерадение да и пойдет своею дорогой, задумавшись о сокровенном. Леночка как будто о чем-то догадывалась и, в очередной раз замечая странное поведение свекра, что-то с улыбкой шептала Диме.
Так миновал год. А где-то накануне следующего после московского мятежа Рождества с утра Дрягалов надел свой фрак, купленный когда-то в Париже, который он прежде надевал всего два раза – на Танино венчание в позапрошлом году и на свадьбу сына, – приказал Егорке также облачиться во все парадное и велел везти его на Таганку.
В прихожей у Потиевских, подавая хмурому слуге свою карточку, Дрягалов попросил человека напомнить барыне Капитолине Антоновне, что приехал тот самый почетный гражданин, у которого она позапрошлой зимой гостила на свадьбе сына. Через секунду улыбающийся уже слуга пригласил Василия Никифоровича проследовать за ним в покои к барыне.
– Здравствуй, здравствуй, батюшка, – ласково привечала Капитолина Антоновна гостя, подавая ему руку для поцелуя. – Давненько не виделись. Ты что же думаешь, я забыла тебя? – велишь лакею напомнить, кто именно таков явился! Я тебя помню! – улыбалась она. – Или думаешь: поди старуха совсем глупой стала! вчерашнего дня не помнит!
– Ну что вы, Капитолина Антоновна, матушка! – принялся оправдываться Дрягалов. – Да разве я когда!..
– Ладно, ладно, – шутливо успокоила его Капитолина Антоновна. – Не обращай внимания на старухины причуды. Я же побалагурить горазда. Ну, позвать, что ли, Татьяну? – спросила она неожиданно. И видя, как опешил Дрягалов, объяснила: – Нам твоя красавица-невестка только что позвонила по телефону. Предупредила о твоих потаенных намерениях. А как же ты думал, милый, шила в мешке не утаишь! Все понятно всем! Ах ты, проказник! – усмехнулась барыня. – Ну ничего, ничего, я за тебя заступлюсь. Ты мне понравился еще в тот раз, когда сына женил…
Капитолина Антоновна позвонила в колокольчик и велела позвать к ней Таню.
Вошла Таня. В черном шелковом платье и с почти такого же цвета волосами, туго собранными в узел на затылке, она была похожа на монахиню. Дрягалов за этот год несколько раз виделся с ней, мельком, правда, – Таня приходила навестить подругу. Но Василий Никифорович не лез к гостье с разговорами и шутками, не напоминал даже об их заговоре троих, а только раскланивался да бурчал какие-то слова приветствия.
Вот и теперь они сдержанно раскланялись.
– Я вот что, Татьяна Александрова, пришел… – начал Дрягалов с трудом, – спросить хочу, как бы вы отнеслись, если бы я пошел к вашей матушке… поговорить с ней… в общем, попросить у нее… руки вашей…
Таня отвечала спокойно, однотонно, как псаломщик, стараясь хотя бы интонацией голоса не обидеть собеседника:
– Василий Никифорович, если помните, я не девица на выданье, чтобы просить моей руки у родителей, а вдова. И даже если серьезно обсуждать ваше предложение, то делать это следует не ранее еще, чем через год, как вы сами понимаете.
Дрягалов не находился, что бы говорить дальше. Вроде бы ему не ответили «да», но, к счастью, не сказали и «нет». И он теперь страшился, как бы какою неловкою своею репликой ему не спугнуть вроде бы появившуюся призрачную надежду.
Тут вмешалась Капитолина Антоновна:
– Вот что я тебе скажу, матушка: тут ведь какое дело? – всякая невеста для своего жениха родится. Ты, Татьяна, верно, родилась не для Антоши. – Барыня промокнула платком глаз. – Видела я – не любила ты его: так уж, мирилась, поскольку закон велит. А Василь Никифорыч тебе пара подходящая. Это я верно говорю! Он вроде тебя – молодец лихой! Бедовый! Думать нечего тебе: соглашайся! Жена без мужа – всего хуже. Чего тебе, как Руфи, при свекрови сидеть… – И добавила, припомнив тут же еще одно недоразумение: – А по трауру уж не переживай. Я тебе отменяю траур – мать мужа покойного! Имею право! Будет с тебя и года.
Слово было за Таней. Капитолина Антоновна и Дрягалов смотрели на нее, ждали,что она ответит.
Не в Таниных правилах было ломаться, чиниться, изображать из себя мученицу, вынужденную по чьей-то прихоти принимать тяжелейшее решение. Она уверенно посмотрела в самые глаза Дрягалову и ответила:
– Я согласна стать вашею женой, Василий Никифорович.
Дрягалов растерялся гораздо более, чем если бы услышал отказ в ответ. Его буквально распирало страстное чувство схватить сейчас Таню и расцеловать, как он это запросто делал по какому-нибудь поводу со своею невесткой, но в данном случае он такой фривольности допустить не посмел: Таня – не Алена… это совсем другое дело… с ней такое не выйдет. И он, неловко подражая приемам благородных господ, взял Танину руку двумя руками и, будто получив архиерейское благословение, аккуратно приложился к ней губами.
Переживая, как бы какой злой рок не вмешался и не переменил его счастья, Дрягалов поспешил отвести Таню к венцу. Они повенчались вскоре после Крещения там же у единоверцев, где и Дима с Леночкой. Устраивать шумного веселья по этому поводу они, естественно, не стали.
Еще до венчания Капитолина Антоновна настояла, чтобы Дрягалов после женитьбы перебрался к ним – на Таганку. Вначале Василий Никифорович воспротивился было: да что я призяченый какой! да я могу поставить для молодой жены особняк почище, чем у Морозова с Рябушинским! лучшему архитектору поручу! Не без труда Капитолина Антоновна убедила его, что в примаках он у них не будет, потому что дом-то бесхозный, в сущности: приходи и будь хозяином, говорила она. Дрягалов согласился. Но, прежде чем переселиться на Таганку, он выкупил и исключительно отремонтировал и обставил третий этаж – над квартирой Потиевских. Таким образом, единая их квартира теперь занимала два этажа из трех. В этот верхний этаж Дрягалов переехал не один: он перевез сюда полдюжины челяди и – к неописуемой радости Тани и Наташи – свою малолетнюю дочку Людочку с ее нянькой Зиной.
Людочка уже подросла – она бегала по всему дому и все старалась как-нибудь напугать старую барыню.
Жизнь пошла своим чередом. Днями Дрягалов пропадал в магазинах, вечера проводил в кругу своей новой большой семьи.
Где-то с весны Дрягалов, Таня и принятая в их заговор Наташа стали иногда скрытно от Капитолины Антоновны о чем-то шептаться. Потом Дрягалов куда-то уезжал на несколько дней, после чего заговорщики принимались шептаться еще дольше и таинственнее. Потом Дрягалов снова уезжал на сколько-то, и снова они втроем что-то горячо обсуждали, таясь от Капитолины Антоновны.
А однажды в начале лета произошло вот что. Как-то ранним утром в комнату к Капитолине Антоновне явились все сразу – Дрягалов, Таня, Наташа, Ульяна Николаевна и Ирина Николаевна. Они предложили Капитолине Антоновне поехать им всем сегодня прогуляться за город. Барыня очень удивилась – что бы это значило? – но согласилась.
Когда все расселись в просторной коляске и тронулись в путь, Капитолина Антоновна, естественно, начала расспрашивать: куда же именно они направляются? в какие дальние дали? Все помалкивали в ответ, лишь слегка посмеиваясь. Одна Наташа, умевшая объясняться с бабушкой во всяком случае, даже когда Капитолина Антоновна была не в настроении, что-то ей отвечала.
– Бабушка, скоро сама увидишь, – уклончиво говорила она.
Когда коляска выехала на Большую Калужскую, Капитолина Антоновна смекнула, что ее везут на дачу.
– И чего скрытничают? Великое дело! – бурчала она на своих спутников. – Прямо первый раз на дачу поехали!..
Но вот путешественники миновали Беляево, оставили позади и самый поворот на дачи. Оказавшись теперь на почти безлюдном просторе, кони понесли шибче.
– Да куда же мы? – всполошилась Капитолина Антоновна. – Далече ли поехали-то?
– Да не особенно, бабушка, – сдерживая смех, объясняла Наташа, в то время как все прочие в коляске, отвернувшись, от души смеялись. – Отдыхай. С хорошими попутчиками дорога вдвое короче, верно ведь?
К обеду где-то путешественники подъезжали уже к Калужской губернии. Капитолина Антоновна как будто уже давно о чем-то догадалась: она с интересом вглядывалась в какие-то знакомые ей смолоду места, кивала головой, припоминая, верно, всплывавшие в памяти давности, что-то шептала про себя.
– Ну, молодцы, уважили, – наконец, сказала она. – Я уж не думала, что когда-нибудь выберусь на родную сторонку. Хоть напоследок побывать…
А еще через час показалась первая из бывших деревень Капитолины Антоновны.
– Батюшки! – всплеснула руками барыня. – Тихоновка! Не изменилась ничуть! Я ж кащцый дом знаю! Тут у одной солдатки восемнадцать ртов было! – рассказывала Капитолина Антоновна. – И все мои крестники! И все у меня до сих пор в помяннике! Да уж не знаю, всех ли о здравии поминать?..
– Вот и узнаем теперь! – откликнулся Дрягалов. – Навестим крестников!
Едва путешественники миновали деревню, по дороге им попался мужичок. Немолодой, но еще шустрый, он спешил куда-то по своим делам попутно направлению движения московских гостей.
Дрягалов велел кучеру Егорке остановиться.
– Чей будешь? – спросил он мужичка.
– Местные мы! – бойко отвечал крестьянин.
– Ну а что ж ты, отче, барыни своей не узнаешь?! – нарочито строго принялся взыскивать Дрягалов, кивая головой на престарелую даму на заднем диване. – Ни кланяешься, ни шапки не ломаешь! Барыня приехала!
Мужичок, хлопая глазами, сколько-то смотрел на Капитолину Антоновну. Потом охнул, присел и… сорвал шапку с головы.
– Матушка, Капитолина Антоновна! – дрожащим голосом заговорил он. – Голубушка вы наша! Неужто не узнаете? Архип я! Помните, вы меня выпороть велели, а потом целковым пожаловали, когда я за ум принялся.
– A-а! Ты, проказник?! – признала Капитолина Антоновна бывшего своего крепостного. – Ну как, не шалишь больше? Или все такой же?
– Да такой же все, – махнул рукой мужичок. – Нас разве могила исправит!
Коляска двинулась дальше. Через несколько минут показалась барская усадьба на пригорочке. Завидев родной дом, ничуть не изменившийся, но даже недавно слегка подновленный, будто специально к ее приезду, старушка сильно взволновалась: она судорожно, так, что пальцы онемели, вцепилась в борт коляски, по морщинкам покатилась слеза.
Коляска подкатила к самому парадному входу. Дрягалов помог Капитолине Антоновне спуститься на землю и, взяв ее под руку, повел к дому. В дверях стоял бравый дворецкий с двумя лакеями по сторонам – все в расшитых галуном ливреях, – очевидно, они ждали гостей.
– Ты что придумал, батюшка? – удивленно спросила барыня Дрягалова. – Пригласили, что ли, нас?
– Пригласили! – подтвердил Дрягалов. – Вы пригласили, Капитолина Антоновна!
– Куда я приглашала кого? – Барыня даже остановилась от неожиданности. – Ты что говоришь-то! Здесь же владельщики новые!
– Мама, – наконец открылась Таня, поддерживающая Капитолину Антоновну под другую руку, – вы здесь новая, и старая тоже, владельщица и госпожа!
И они с Дрягаловым весело переглянулись.
– Да ты о чем это, матушка? – изумилась Капитолина Антоновна. – Не заговариваешься ли с дороги дальней? Что она говорит? – оглянулась барыня на Дрягалова.
– Верно говорит! – подтвердил Василий Никифорович. – Ваша это усадьба, Капитолина Антоновна. С имением в пятьдесят десятин земли кругом. Вот документы! – И он перед самым лицом барыни потряс тугою папкой.
Капитолина Антоновна долго ничего не могла ответить. Она молча стояла и только укоризненно качала головой, поглядывая то на Таню, то на Наташу, то на Дрягалова.
– Эх, вы! – вздохнула барыня. – Все шептались от меня! Все секретничали! Думали, не замечаю! Старая-де, глупая… Вон оно что!..
Она наконец внимательно вгляделась в слуг.
– А ну-ка ты, молодец, – сказала она одному из лакеев, – как тебя? Подойди.
– Георгий, – солидно представился лакей, сделав шаг к барыне.
– Ну-ка, Юшка, вынеси-ка мне кресло. Бегом! Видишь, барыню ноги не держат.
Лакей растерянно оглянулся на дворецкого, но тот строго кивнул головой, чтобы он немедленно исполнял приказание.
– Георгий, – ехидно повторила Капитолина Антоновна. – Нда-а… нынешний лакей не тот, что преяеде…
Через секунду на дорожке стояло величественное кресло. Усевшись в него и оглядевшись кругом, Капитолина Антоновна довольно произнесла:
– А ведь не все в прошлом?! A-а? Как думаешь, Никифорыч?
– Так жизнь только начинается, Капитолина Антоновна! – заверил ее Дрягалов.
– Как ты говоришь – только начинается? – встрепенулась барыня. – Ну что ж, поживем тогда… может…
Эпилог
Из ворот психиатрической больницы на Канатчиковой даче вышли две молодые дамы в шляпках с вуалью. Они спустились под горку к большому почти круглому пруду и, раскрыв зонтики, неторопливо побрели по берегу.
– И что с ним теперь будет? – спросила одна из них. – Неужели он так здесь и останется? Что говорит доктор?
– Не знаю, Лиза… – вздохнула ее собеседница. – Доктор говорит: первичное помешательство с хроническим развитием. Рассказывает, что папа несколько раз предлагал ему прямо-таки фантастическое состояние в обмен на признание его здоровым. Причем называл суммы, во много раз превышающие все, что у них с мамой есть, включая квартиру и дачу под городом. Я боюсь, что он совсем болен… возможно, безнадежно… Он никогда в жизни не обещал чего-то такого, чего не мог исполнить. Даже не верится!
– Александр Иосифович! Такой человек! И клеит папиросные мундштуки в сумасшедшем доме! – вымолвила Лиза. – Если б ты, Таня, знала, чем я ему обязана! Самою жизнью своею! Год, который мы прожили вместе с ним в Сибири, я считаю одним из счастливейших! Как он заботился обо мне! Как был галантен, предупредителен со мной! Что значит истинное благородство! Торговец пушниной, у которого я служила в учительницах, под конец мне рассказал, что, когда только я нанялась, к нему пришел Александр Иосифович и даже заплатил ему сколько-то за то, чтобы этот мой наниматель не отпускал меня от себя как можно дольше. А ведь он сам тогда очень нуждался. И – представляешь! – нисколько не считаясь со своими интересами, он все старался уберечь меня от неприятностей, всеми силами удержать от скорого моего участия в опасных событиях. Но со мной-то все обошлось в конце концов. А вот сам их не перенес, эти события… – сокрушенно, сдерживая слезы, проговорила Лиза. – Переживал, наверное, сильно. Вот оно и вышло… первичное помешательство. Вот какой у тебя отец, Таня!
– Да, – согласилась Таня, тоже сильно волнуясь, – он всегда таким был: все для людей, о себе думал в последнюю очередь! Но, во всяком случае, папа рядом, – говорила она, будто успокаивала самое себя. – Я могу его навестить в любой момент, увидеть. Могло бы все быть гораздо хуже. Хорошо еще, что хоть так.
– Я его не оставлю, – добавила Лиза, уже почти плача. – Мой отец погиб. Теперь мне отец Александр Иосифович!
Расчувствовавшись от таких слов, Таня взяла Лизу под руку и поцеловала ее в щеку. Они посмотрели друг другу в глаза и грустно улыбнулись: у них потеплело на душе от осознания того, какие же замечательные они все-таки девушки.
Окончен труд наш многолетний…
Примечания
1
Да здравствует республика! (фр.)
(обратно)2
Через тернии (лат).
(обратно)3
Добрый вечер, папа. Вы меня звали? (фр.)
(обратно)4
Через тернии ( лат.).
(обратно)5
Без живота (фр).
(обратно)6
Рынок и магазин (фр).
(обратно)7
Племянник гостит у дяди (фр.)
(обратно)8
Любезный граф и дорогой барон (фр).
(обратно)9
Зимний сад (фр).
(обратно)10
Коллегия адвокатов (фр).
(обратно)11
Выскочка (фр).
(обратно)12
Родители ( фр).
(обратно)13
Приглашением (фр).
(обратно)14
Где-то (фр.).
(обратно)15
Я хотел бы видеть господина Дрягалова из России ( фр.).
(обратно)16
Пожалуйста (фр).
(обратно)17
Здесь! Здесь! (фр).
(обратно)18
Подполковник ( фр.).
(обратно)19
Империя состоялась (фр).
(обратно)20
Безумец (фр).
(обратно)21
Балованным дитем (фр).
(обратно)22
По последнему крику моды (фр).
(обратно)23
Замечательный человек! (фр.)
(обратно)24
Я согласен с вами (фр).
(обратно)25
Жребий брошен ( лат.).
(обратно)26
Гарсон, пива! (фр.)
(обратно)27
Остановитесь! Остановитесь! (фр.)
(обратно)28
Стреляйте в воздух! Стреляйте! (фр.)
(обратно)29
Путешествие окончено… (фр.)
(обратно)30
Забавное совпадение! (фр.)
(обратно)31
Осетрина и икра (фр).
(обратно)32
Продовольственный магазин (фр).
(обратно)33
Севастопольский бульвар (фр).
(обратно)34
Остерегайтесь, вор (лат.).
(обратно)35
Здравствуй, Сибирь ( англ.).
(обратно)36
Молчи. Я в беде. Это шайка злодеев. Соглашайся со всем, что я скажу (фр).
(обратно)



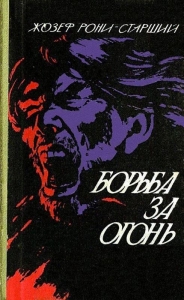

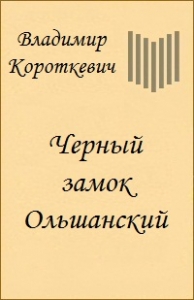


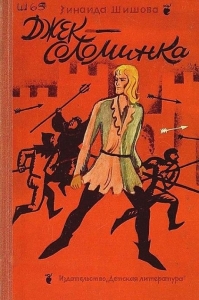

Комментарии к книге «Твердь небесная», Юрий Валерьевич Рябинин
Всего 0 комментариев