Роберт Паль И на земле и над землей
Из тьмы забвенья
…держи для Руси свое сердце…
Почти меня, сыне, и умри за нее…
Ягила Гапа. Влесова книга. IX векИсторический роман
Глава первая
Сначала робко, но затем все смелее и решительнее огнекудрый Сурья всходил на небо. Первый его вестник Утренник уже проскакал по нему на огненном коне, очищая и пролагая путь для своего великого владыки.
Сурья и сам прекрасно знал этот путь, хорошо освоенный им за тьмы и тьмы тысячелетий, но так было принято в Сварге. Так вершилось еще с того далекого времени, когда сам Всеблагой и Самосущий Творец-Тваштар, покатав его в своих мудрых ладонях, в первый раз выпустил в небо — светить и животворить.
Да, так предначертал сам Дед, отец всех богов, живущий в синей Сварге, — верховный бог славян Сварог. Вот Сурья и крутит свои огненные круги, золотые колеса жизни вокруг земли. И по светлой ее стороне, и по темной. Где он плывет в своей сияющей ладье, там и свет, там и день. А уйдет — будет ночь. А где была ночь — будет день.
Таков закон Вселенной и воля Единого. И сойти с этого пути Сурья не властен. Даже если задумается или задремлет, сомлев от вечной качки движения. Случись такое — огненные Суражии конники тут как тут. Что утром, что в полдень, что к ночи. И в этом своя мудрость и красота. Слава прекрасному огнекудрому, дарящему свет и жизнь Сурье! Слава могучему Сварогу, единому и многоликому, ибо и Сурья, и Святовит, и Огнебог, и Велес, и Перун, и другие боги русичей — только частные лики его, Единого и Множественного бога вселенной, бога богов, бога людей и всего живого. Слава ему!
Вышедший из тени хребтов сумрачного Тавра человек остановился, омыл свое лицо живительным светом нового дня и радостно воздел к нему руки.
— Здравствуй, прекрасный Сурья! Здравствуй от века и до скончания веков. Славим тебя и всех богов наших. Славим — оттого и славные, оттого и славяне…
Сотворив утреннюю молитву, человек словно обрел новые силы и продолжил свой путь к морю. Шаг его стал еще более тверд и широк. Крепкие кожаные башмаки уверенно подминали сухие травы, оставшиеся еще с прошлого лета, и бережно ступали по нежной юной зелени новой весны. Длинная тень согласно с его шагами скользила рядом, качая тенями-руками, двигая тенями-ногами и тенью-головой. Широкие сильные плечи и кривая спина мерно колыхались в такт каждому шагу.
Человек посмотрел на себя как бы со стороны, горестно сжал обветренные губы и отвернулся: он не любил своей тени. Тени с горбом на спине, которого ей, как и ему самому, не скинуть с себя никогда. Ни в каком зеркале его не увидишь, а вот простодушная тень ничего скрывать не умеет. И видеть это ему нестерпимо больно и досадно. Каждый раз вспомнишь то, чего помнить никак бы не хотелось. Но — напоминает! И тогда в гневе сжимаются зубы, а руки ищут меча. Горько, но может быть, так и надо? Чтобы не умерла память, чтобы не притупился гнев?
Отвернувшись от своей неказистой тени, человек энергично передернул плечами, будто стряхивая с себя опостылевшее наваждение, и опять поднял лицо к солнцу. Распаляемое изнутри веселым Яром-Ярилой, богом буйного весеннего преображения, оно одаряло землю таким светом и теплом, таким восторгом и ликованием, что он тут же просветлел душой, но тем не менее озадаченно вопросил:
— О лучезарный Сурья, отчего ты так добр и щедр ко всем без разбору? И к тем, кто всем сердцем славит тебя, и к тем, кто тебя не почитает. Справедливо ли?
Сурья, весь поглощенный своей жизнетворящей работой, не расслышал его вопроса. А если и расслышал, то не счел нужным ответить. Знать, у богов свое представление о справедливости.
Слева от тропы путника, чернея крепостными стенами и сияя поднимающимися над ними золотыми куполами греческих храмов, возвышался древний город русичей Сурож. Давно, много-много веков назад они основали его тут, на берегу синего Русского моря, в этом богами обласканном солнечном крае. Поэтому и Сурож. А Сурож-Сурья есть Солнце.
И опять гневно сжались кулаки путника. Был Сурож, а теперь — Сугдея. И все они, живущие в этой части Руси, для эллинов — сугдеане, а чаще всего по-старому: варвары, скифы, сарматы, гунны. Пользуясь случаем и доверчивостью хозяев, сначала приплывали мирными торговцами, потом стали строить и свои дома, а там и за оружие взялись, отняли город для себя, окромили каменной стеной. И так — по всему морскому берегу от Дуная до Асских гор, от Хорсуни-Херсонеса до Корчева и древнейшего города наших далеких пращуров кимров на Босфоре Киммерийском.
Одни ушли за славой, другие пришли за златом. И имеют его!
Солнце сияло, ветер, потерявший свою ночную колючую свежесть, озорно дергал за бороду, взметывал рассыпавшиеся по плечам волосы, чайки над близким уже морем ликовали и радовались весне так же, как и год, и тьму годов назад.
Человек любил эту землю, это небо, это море и даже этот город, уже чужой и, казалось, замышляющий на него что-то недоброе. Оттого он и поглядывал на его стены и кресты то недоверчиво и бдительно, то откровенно враждебно и вызывающе. Но каменные стены были равнодушны к случайному раннему прохожему, к тому же еще и безоружному.
За свою долгую службу эти камни повидали многих: и воинов Боспора, и понтийского царя Митридата, и заносчивых ромеев, и бесстрастно-жестоких римлян, и излишне добродушных и щедрых киммерийцев и скифов, а потом сарматов, русколан, готов, алан, гуннов, тюрков…
Много было их у этих стен, и всем город был нужен — вместе с ними, этими стенами, золотом, кораблями, человеческим товаром, землей, небом, морем. Впрочем, со стенами пришельцы не церемонились, их влекло то, что было за ними. А чтобы подняться после них заново, городу требовались порой столетия.
Сейчас над бывшим Сурожем, как и над другими эллинскими городами Таврики, неотступно висит тень нового хищника — Хазарского каганата. Блистательный, гордый Рим пал под копытами коней северных варваров, василевсам угасающего Царьграда не до таких мелочей, как их далекие обедневшие города на чужой земле, — по горло увязли в войне с мусульманами-арабами, как прежде с персами, достойными соперниками в борьбе за химеру мирового господства.
Зато без помощи Хазарского каганата эллинам уже было не обойтись. Всех своих прежних союзников они потеряли или предали, остался он. А эти города… С молчаливого согласия империи каганат, не откладывая, быстро прибрал их к своим жадным рукам.
Ну, вот и море! Издали оно одно, а вблизи, когда его волны плещутся прямо у твоих ног, — совсем другое. Оттуда, с гористых склонов, где живет и трудится на земле род путника, это просто необъятное сине-голубое пространство. Особенно по утрам, когда оно в тумане, когда нет ни берегов, ни горизонтов, а есть лишь оно, это пустое пространство без видимой величины и материальности. Будто где-то тут кончается мир Яви и начинается Навь, мир потусторонний, незнаемый для живых.
Пока ты жив — ты в Яви, а после нее тебя ждет эта самая Навь. Но есть еще и мудрая Правь, которая правит всем. Она не позволяет нарушать установленного богами порядка. И сама она — от богов.
Приустав в неблизкой дороге, путник оперся на свой древний посох и долго любовался морем. Под ярким солнцем набирающей силу весны оно ликовало каждой волной, каждым трепещущим бликом, постоянно меняясь в своей беспечной игре. Слабый ветерок не мог осилить крупной волны, а мелкая искристая зыбь лишь свидетельствовала о царящих в мире тишине и покое.
Впрочем, и тишина эта была лишь кажущейся. Вон как раскричались в порту почуявшие поживу вечно голодные чайки. Это вернулись с утренним уловом рыбаки. Кто в челнах, кто уже на берегу сортируют свое живое трепещущее серебро. Лучшая рыба пойдет к столу самых почтенных и знатных, помельче — для торговцев, ремесленников, солдат. Ну а самая завалящая раздается бесплатно беднякам и рабам. Когда они не успевают к такому дележу, мелочь достается чайкам. Те своего не упустят, мигом очистят весь берег, даже развешанные для просушки рыбацкие сети.
Странная эта птица — чайка. Говорят, ни одно море не обходится без них, и везде они такие же неутомимые, беспокойные, тревожные. Греки считают их душами утонувших моряков и рыбарей, которых не смогли погрести на земле.
За что им такое наказание?
У русичей — иначе. У русичей люди, вышедшие за пределы Яви, отправляются к своим пращурам в синюю Сваргу, где бы это ни случилось. Посмотри на ночное небо — это наши предки с высоты небес смотрят на нас глазами-звездами. Когда мы благи и твердо держимся пути Прави, они довольны и ласково улыбаются нам. Когда мы чиним раздоры, забываем своих богов, изменяем своему пути, в глазах их — укор, а то и негодование. Не часто, ох как нечасто в последние годы пращуры глядят на нас с любовью!
Наблюдая за мечущимися птицами, путник с облегчением подумал о своем брате-рыбаке. Два года назад он попал в шторм и утонул. К счастью, это было не очень далеко от берега, и через какое-то время море вынесло его тело на сушу. Согласно обычаям, он предал его земле и тем самым, если верить грекам, спас его душу. Чайкой она не стала, но кто скажет, приняла ли его синяя Сварга. Хотя, чтобы попасть туда, достаточно достойно прожить отпущенную тебе богами жизнь или пасть в бою за родную землю.
Спустив вялые от безветрия паруса, в порт на веслах вошло сразу несколько больших грузовых кораблей.
Путник поспешил туда. У него был еще один брат, младший. Три года назад в числе нескольких десятков русичей, тавроскифов и местных сугдеан тот поступил наемником в императорскую армию и отправился на войну, которую Византия вела с арабами, пытаясь отстоять свои последние владения в Азии.
В сопредельных странах высоко ценились рослые и стойкие в бою вои из русов и славян. Опасность исламского нашествия на время сделала союзниками даже хазар и северян. Вместе они отразили не один поход огромных армий Халифата. Воевали отважные сыны Сурожской Руси также и в армии Византии.
Все сроки договора давно вышли, а брата все нет. Некоторые вернулись, говорили, что был ранен, но жив. Если так, то должен прибыть и он, но его все нет и нет, и оттого тревожно на сердце старшего. И это понятно: род Ратибора когда-то был большим и славным, но со временем сильно источился, каждое огнище на счету. А ведь надо подумать и о продолжении его. От кого, как не от молодых, кому обзаводиться семьями, растить детей, чтоб потом были внуки и правнуки. Без этого род рано или поздно пресечется, а это уже беда.
Корабли стали разгружаться. Товары известны — очень ценимое здесь оливковое масло, дорогие ткани, гончарные изделия, украшения и всякая духовитость для женщин и детей. Но не это интересовало его. Вон сходят на берег люди, есть среди них и вои. Он — туда, к самым сходням. Но брата нет и на этот раз. Поговорил с одним, с другим — да, видели, от ран оправился, будет. Это уже хорошо. То, что действительно жив, обрадовало, а ждать, что ж, он подождет еще.
Выгрузив одни товары и загрузив другие, корабли стали готовиться в обратный путь. Не заходя на городское торжище, он тоже повернул обратно. Еще раз полюбовался морем, — вот и его русичи потеряли, отторгли его у них эллины и хазары! — и, опустив голову, медленно побрел от него прочь.
Отойдя подальше, присел на придорожный камень перекусить. Достал кусок лепешки, горсть сушеной винной ягоды, пожевал. Снова оглянулся на море, на каменные городские стены. Как раз в это время там зазвонили колокола христианских греческих храмов. Тягучий золотой звон, перебиваемый редкими глухими ударами, стал медленно растекаться по всей их округе-колуни, достигая самых отдаленных селений и городков.
Эти странные и в то же время приятные слуху звуки всегда тревожили и непонятно волновали его, имеющего других богов и другие обычаи. И еще: он хорошо помнил наставления своего отца Заряна, старейшины рода Ратибора: «Не все, что приятно слуху, приятно сердцу и уму. Разумей это, сын!»
Отец у него — человек бывалый, большой души и всяческих познаний. И в Киеве был, и в Хазарии, в городах Империи. Говорить и читать мог на разных наречиях, людей всяких языков понимал и привечал: одних — как друзей, других — как интересных собеседников, третьих — как остроумных спорщиков, с кем так занятно посостязаться в умении окремлять свои собственные убеждения и рушить чужие.
Случалось, и в храмах христиан бывал. Однажды даже его, еще мальца, с торжища привел в тот храм, что сейчас истекал золотым звоном. Похоже, нравились они ему, эти чужие храмы чужих богов, — и своим чудным строением, и дорогим внутренним убранством, и сияющими одеяниями тамошних жрецов, но особенно— пением. О нем отец как-то сказал: «Так, должно быть, еще только в Ирии поют».
Ирий — славянский рай, но раз славянский, то и пение там не может быть иным. Но как поспоришь с отцом, когда и сам он в молодости мог дни и ночи напролет спорить с таким большим христианским ученым мужем, как епископ Иоанн! И часто побеждать при этом или, не унижая, ставить в тупик, когда уже и слов не оставалось, чтобы убедительно возразить, защитить истину своей веры.
Этот Иоанн, как позже стало известно, не был ни греком, ни эллином. Сам русич сурожский, хотя и христианин, он не чуждался своих соплеменников, со многими был в дружбе, горячо переживал позор хазарского ига. Наверное, и об этом не раз говорили они с отцом на его пасеке, наслаждаясь ядреной «языческой сурицей» — медовухой. И вот, когда тот в глубокой тайне стал готовить против хазар восстание и когда сами греки выдали его кагану, отец не мог остаться в стороне. Вместе с надежными товарищами они отыскали Иоанна в Хазарии, ночью, подкупив стражу, выкрали из узилища и переправили за море на волю.
Как понять этот его поступок?
Дружба дружбой, сурица сурицей, а ведь они, по сути дела, — воины двух противоборствующих богов, двух вер. А вера — это святое. Умереть за нее русичу достойно, привычно, обыденно, ибо совершается уже не одну тысячу лет. Но рисковать своей жизнью ради воина чужой веры, чужих богов? Враждебных тебе, твоему народу, твоей собственной вере! Это — как?!
Подробно поговорить с отцом по этому поводу никак не удавалось, но когда тот настойчиво учил его новой грамоте, зримо отличной от их привычных черт и резов, то часто повторял: «Это, сыне, Иоанново письмо». Или: «Это Иоанновы письмена бесценные, — и вслух мечтал: — Скоро и у нас будут свои книги. А книга — это Слово. А Слово есть Истина, потому и свято… Слово да еще меч — извечные опоры русичей…»
Сын насколько мог прилежно усваивал эту грамоту, а в мечты отца Заряна как-то не вникал: не созрел еще. А надо бы. Вот вернется, наверстает непременно.
Давно, ох как давно ушел отец из своего рода, возложив с согласия огнищан-родовичей свои обязанности старейшины и блюстителя веры на его плечи. Страсть как захотелось человеку побывать в разных славянских княжествах, чтобы самому понять, что мешает их единству, почему так разрознены и бесконечно враждуют. А если и мирно соседствуют, то лишь на условиях: я сам по себе, ты тоже сам по себе; ты князь и я князь. Не будем меряться, кто кого выше, а то ведь хоробрая моя дружина сегодня поболе твоей…
Тяжелый, больной это для славян и русов вопрос, старая рана-беда. Как излечить ее? Казалось бы, и одной крови, одного языка, одних богов дети, ан — нет! И это при таких огромно-немеряных землях, при таком великом населении. Да собери хоть половину их — целая империя выйдет. Когда хоть ненадолго случался такой праздник, как в пору Русколани, например, при князе Втором Кие, — все бурно поднималось, ярко росло, цвело. Отобранные врагами-дасами степи, моря, реки, города снова становились нашими, а вчерашние недруги притихали: у них, мол, очень сильные боги, и сами они постоять за себя умеют.
Так ведь и Великую Скифию свою возродили! Не поддайся очередному раздору, и готов смели бы обратно в их студеное море, и гуннов, языгов, обров-аваров и иных остерегли бы покушаться на наши жизни, селения, говяд наших, на наши святые степи со злачными травами и живой водой.
Не получилось! И каких рек крови это стоило. Ну, почему, по-че-му?!
Он шел и не замечал, что шел. Давно остался позади ждущий своего вызволения Сурож, не стало слышно колокольного звона и крика чаек, море опять стало одним сине-голубым пространством, — он видел лишь ведущую его тропу, слышал лишь свой голос, обращенный то ли в вечность, то ли к где-то запропавшему отцу.
Да, отец тоже хотел это понять, потому и оставил род, отправился посмотреть мир. И не только свой, беспокойный славянский, но и дальний, чужой. Там ведь тоже идут постоянные войны, гибнут люди, города, царства. Знает ли кто там: почему?
В свое поселение он вернулся, когда уже вечерний конник проскакал по небу, заботясь о дальнейшем пути Сурьи на темной стороне земли.
Встретила его вдова покойного брата Блага.
— Пошто так долго, Ягила? Я уж забоялась, не случилось ли чего. В другой раз коня седлай.
Она всегда такая — великая труженица и заботница. После того, как осталась без мужа, сама постоянно ищет себе какого-нибудь дела, чтобы рассеять печальные мысли, меньше думать о своей вдовьей судьбе.
Ягила хорошо помнил ее еще девочкой, потом веселой привлекательной девушкой-юницей. До того привлекательной, что при виде ее сердце заходилось в таком жарком торопливом перестуке, будто не одно поприще[1] пробежал, чтобы чуток побыть с ней рядом.
И не раз пробегал, да что толку? Какая красавица в свои шестнадцать лет обратит внимание на какого-то горбуна? Нет, она была с ним и приветлива, и обходительна. Как со всеми. Он не в обиде. Другое дело — брат. С ним и слюбились, семьей стали. Он не мешал, радовался тому, что может теперь видеть ее каждый день. Для него и это было счастьем.
Даже когда Блага осталась одна, ничего не изменилось, хотя по обычаю он обязан был унаследовать семью брата. Однако обычай обычаем, а горб со спины никакой обычай не снимет.
Он давил, унижал, держал в узде. Впрочем, Ягила и не роптал: так, должно быть, захотели боги.
Вот и сейчас, чувствуя в ее голосе особое тепло и участие, он отозвался как всегда по-житейски буднично и просто.
— В другой раз так и сделаю, сестрица Блага. А воин наш так и не приехал.
— Думаешь, не приехал? — как-то загадочно улыбнулась та.
— Ну так я же сам… — растерялся он. — Или прослышала чего тут? Кто чего сказал?
— Тише говори… Уснул с дороги… Дома!
От такой радости и об узде забыл. Подхватил на руки, закружил по двору, своей щекой прижался к ее щеке. И лишь когда почувствовал на шее ее горячие сильные руки, враз обмер. Будто кто ледяной водой окатил: не смей!
— Значит, живой…
— Живой… — мягко и тоже испуганно отстраняясь, прошептала она. — Из Херсонеса пришел.
— Из Хорсуня? Из-за того, стало быть, и разминулись… Спасибо…
— И тебе спасибо…
— Мне-то за что?
— Сама не знаю. А все равно… ужинать будешь?
— Сперва омоюсь, богам славу воздам… А ты отдыхай, сестрица, отдыхай…
Глава вторая
Рубеж восемнадцатого и девятнадцатого столетий Европа встречала в большой тревоге. Надо сказать, что и в прежние времена длительного мира и покоя она почти не знала. Начиная с той поры, когда ее просторы наконец-то освободились от льдов последнего великого оледенения, длившегося без малого сто тысяч лет.
Медленно, постепенно, век за веком, шаг за шагом отступал, превращаясь в великие реки, озера и болота, гигантский ледник, открывая мокрую, насквозь промороженную землю.
Медленно вслед за ним студеные тундры зарастали травами и лесами. А уж потом, через три-четыре тысячелетия, едва подсохший и прогревшийся континент начал заселяться людьми — индоевропейцами.
Потепление в Европе и катастрофическое высыхание Передней и Центральной Азии привело в движение огромные человеческие массы. Двигаясь со знойного юга на прохладный и богатый влагой север, они концентрировались на Южном Урале, в степях Нижней Волги и в междуречье Дона и Днепра. Затем, где-то плавно, но чаще всего бурно, сметая на своем пути тех, кто продвинулся туда раньше, они стали растекаться на запад, восток, а то и на север. Южная Сибирь, Русская равнина, плодородные долины Дуная, его притоков и соседних рек, Балканы, Центральная Европа, Апеннины, земли, прилегающие к Балтийскому и Северному морям, Скандинавия, Пиренеи, Английский архипелаг волна за волной захлестывали все новые и новые находники.
Люди одной расы, одного языка, одной материальной и духовной культуры, они не щадили друг друга в борьбе за лучшие условия и места для поселения. Не стало спокойнее и тогда, когда обособившиеся от общей массы племена стали создавать свои государства и даже империи.
И еще сложнее стало, когда они забыли о своем кровном родстве, утратили общий язык и богов и в своих новых соседях стали видеть не братьев, а новых конкурентов и соперников. Неслучайно невиданными прежде темпами развивалось прежде всего производство оружия, его техника и технология.
Великое переселение народов потрясло весь континент, перетасовало и перемешало почти все население и заняло не одно-два столетия, а несколько тысячелетий. Но и потом войны не стали чем-то исключительным, — ни в средневековый период, ни в новое время. Они гремели и полыхали повсюду — годами, десятилетиями, а одна из них так и вошла в историю как Столетняя.
Порубежье названных веков не было ни лучше, ни хуже других, но имело одну особинку — революции и гражданские войны отныне начали входить в нормы так называемого прогресса.
Великая Французская революция — одна из них, из первых. Как всякая революция, она не только что-то свергала, рушила, но и что-то творила взамен, выдвигала новые идеи и новых людей. Во Франции одним из таких «новых» стал вначале малоприметный артиллерийский офицер Наполеон Бонапарт.
Этот «маленький корсиканец» наделал во Франции немало шума. И далеко не только там. Вначале он служил республиканцам, но вскоре лихо возвысился и сам себя назначил первым консулом республики. Затем он сменит на королевском троне недавно казненного Людовика Шестнадцатого…
Именно в это время, в тысяча восьмисотом году, в Петербург был срочно отозван секретарь посольства во Франции Петр Петрович Дубровский. По-видимому, императору России Павлу Первому что-то очень не понравилось в поведении своего посла, не особенно усердствовавшего в деле реализации его монарших указаний.
Прожив в столице Франции немалое время, Петр Петрович, естественно, оброс некоторым количеством имущества. Не надеясь на скорое возвращение к своим обязанностям в Париже, он решил ничего из него, кроме каких-нибудь пустяков, не оставлять. И вот солидный обоз через всю Европу потянулся в отчие края дипломата, в павловскую Россию.
Посол, он не только во фраке посол, но и в дорожном тулупе, в домашнем халате, в придорожной гостинице и на встречах с друзьями в попутных столицах. В обстановке всеобщей нервозности и подозрительности те всюду набивались к нему на приватные беседы. Откуда-то все, кому это нужно и кому совсем ни к чему, уже знали о заключенном между Россией и Францией военном союзе, повлекшем за собой резкое похолодание в отношениях с Англией. Европейские политики лихорадочно просчитывали, какой черт лучше — черный или зеленый? Наполеон, будь он даже бесцветный, — это страшно. В союзе с Россией он страшен вдвойне. Короче, это неизбежная война, это гибель многих, если не всех, династий, всего что есть лучшего в Европе. А что думает об этом господин посол?
Господин посол не говорил ни «да», ни «нет», — на то он и дипломат. Но для себя заметил: о панике при европейских дворах нужно будет доложить. Ведь он предполагал это, предостерегал, так нет же… Мало ли что Англия монополизировала северную торговлю с Россией, нагло действует подкупом и обманом… Новый союзник нашего государя по счету наглости преуспел поболее…
Только в славянской Варшаве этой вести обрадовались. Не явно, конечно, — это непрофессионально и даже небезопасно, — и тем не менее заметно. Что-то опять задумывает эта кичливая шляхта, все ей неймется. Доложить и это…
В Петербурге, пока семья устраивалась в заранее снятой квартире, Петр Петрович занялся разгрузкой своего обоза. Особое внимание уделил коробкам и ящикам с антиквариатом — картинами, фарфором, старинными рукописными книгами, свитками, королевской перепиской. Все это бесценное богатство, исключая фарфор и картины известных живописцев, досталось ему благодаря… революции.
Когда королевская чета оказалась под арестом, Версаль заняли революционеры. В частности, здесь расположился «Клуб друзей закона» (общество друзей конституции?), составлявший конституцию для будущей Французской республики. В распоряжении клуба оказалась огромная королевская библиотека с массой книг, необходимых новым конституционалистам, и совсем не нужной им всякой древности. Поскольку ею какое-то время ведал сметливый русский граф Павел Александрович Строганов (для французов Пауль Очер), постольку с этой тысячелетней ветошью решили распрощаться. И нет ничего удивительного в том, что приобрел всю эту ветошь не кто иной, как посол Российской империи во Франции Петр Петрович Дубровский.
Поиздержался посол основательно, зато не впустую. Пусть кричат себе всякие «норманнисты», что Россия страна варварская, дикая и что только благодаря германскому гению она смогла обрести государственность, — теперь эта «дикая» Россия будет иметь такие культурные богатства, каких культурной Германии не заиметь никогда.
Вот так, господа академики Российской академии наук! Вот так, господа Шлецеры, Байеры, Миллеры и прочие губители русской истории. Вот разберемся, что к чему, и поговорим.
Покончив со всем необходимым, поплескался, понежился, повопил под березовыми вениками в отлично истопленной русской бане и, вернувшись в дом, попросил самовар и чай со знаменитой морошкой. Но успел выпить лишь половину самовара — срочно вызвали во дворец для доклада…
Глава третья
С возвращением брата жизнь в доме Ягилы как бы устоялась, обрела должную полноту, просветлела. Теперь не нужно было метаться между селением и городом, терзаться сомнениями, с нетерпением ждать прибытия кораблей из-за моря. А раз Добрец вернулся, то и отец Зарян, может, еще сыщется. Хотя тут надежда была малая — все-таки семь лет прошло, за такое время семь раз умереть и возродиться успеешь.
Новый день начался с того, что вместе обошли усадьбу, сад, дальнее поле, ждущее плуга и нового семени, посидели над бегущим с гор веселым ручьем. Добрец, изрядно отвыкший от родной земли, на многое глядел, как бы не узнавая, как бы в первый раз, и сам себе удивлялся: и поле теперь казалось больше, и деревья выше, а вот ручей, в котором так весело было плескаться в детстве, малость обмелел.
— Верно приметил, — невесело покивал Ягила, — поле стало больше. Община наша скудеет числом, все меньше огнищ, все меньше огнищан. Иные давно уж подались на полуночь, к Руси. Пустуют общинные земли, вот и приходится кон передвигать: то вширь, то в длину.
— Так это, брат, сколько ж работы! — покачал головой Добрец. — Только камень выбрать да вынести — жилу надорвешь.
— Не то тяжко, что жилу рвет, а то, что рвет сердце. Это ж наши родичи, земля наша покинутая. Вот что тяжело-то…
Брат бросил взгляд в сторону еще раньше покинутого Сурожа и то ли спросил, то ли утвердил:
— Значит, эллины все так же давят?..
— Уже, можно сказать, выдавили. Одни уходят, другие их веру и обычаи перенимают. Не они, а уже мы тут чужаками стали. Умирает Сурожская Русь.
Добрец резко обернулся, расправил молодецкие плечи.
— Что же делать? Мечи острить?
— Сколько их у нас? А у них? Посчитай.
— Своих с Дона кликнем, с Днепра!
— У них там свои беды и свои страсти. А новых Бравлинов и Криворогов нет. Ни для себя, ни тем более для нас. А где в нашем роду новые Мечиславы и Ратиборы? Ни в нашем, ни в других родах таких нет. И пращуры от нас отвернулись. Наверное, из-за того: обабились, мол, наши русы, не будем им помогать…
К дому возвращались хмурые, стыдясь самих себя.
— А дерева наши весьма высоки стали! — пытаясь сбросить давящую тягу печали, воскликнул Добрец. — И сад зацветает. Лепота…
— Был бы отец дома, может, все иначе было б. Его слово люди слушали. С ним с пути Прави не сбивались. У моих слов такой силы нет.
Старший продолжал думать о своем, младший, еще до конца не отошедший от войны, на многое поневоле смотрел ее глазами.
— Когда слово бессильно, в другом силу искать надо. Вон что греческий бог говорит: «Не мир я вам принес, но меч». Собери старейшин родов, говори от имени прадеда Мечислава и деда Ратибора. Когда-то все шли за ними. И побеждали. Тогда и пращуры посмотрят на нас иначе.
— Собирал. Говорил… За мечи брались — промеж себя! — не стерпел Ягила. — Не могу я спокойно говорить с малодушными. А какой разговор с отступниками, поправшими свою веру, своих богов? Кровь кипит, сердце кричит, разум разверзается. Как вразумить человека, который сам уже не хочет в ум войти, гордо именоваться русом? Сломалось что-то в людях, надорвались жилы души. Сколько лет бьемся тут без всякой помощи. Забыла о нас Великая Русь…
— Завтракать, братья! Снедь стынет.
Блага с ранней рани уже на ногах. Корову подоила, муки на каменной зернотерке натерла, с молоком и маслом тесто замесила, лепешек напекла. Тут и яйца всмятку, и сметана, и отвар на сушеных яблоках, грушах, абрикосах… Обычная еда. Привычная с детства снедь.
За столом Ягила вознес богам и пращурам полагающиеся славы. За то, что сохранили в далеких землях и лютых сечах любимого брата, указали ему путь к дому, вернули здоровым. За то, что всем помогли невредимыми пройти через навью мглу ночи и снова в яви увидеть сияющий лик Сурьи. Бережно покрошил в огонь край лепешки, плеснул отвару. Боги приняли жертву, теперь можно вкусить и самим.
Соскучившийся по привычной домашней еде Добрец ел с явным удовольствием, то и дело нахваливал Благу. Когда та спросила, чем кормят солдат в греческой империи, состроил кислую рожицу:
— Не сдобами твоими, сестрица. В мирные дни — пресными лепешками и водой. Иногда, если рядом река, рыбной мелочью, по праздникам — супом из говяжьей требухи.
— А если на войне?
— На войне армия сама себя кормит. Коли что найдет, отнимет у врага. А нет — значит, плохая армия. Зато о раненых забота есть.
— Ну да, им же снова воевать, — согласно кивнул Ягила. — И за что там это смертоубийство идет? Сколько лет уже, едва ли не двести, что делят?
— Да там войны идут от начала веков.
— И на чьей стороне правда?
— Ни на чьей. Все хотят жить чужим. Рвут друг друга немилосердно. Что ромеи, что арабы, что иные. Однако, думаю, ромеи из Азии все-таки уйдут.
— Успокоятся тем, что имеют сами?
— Скорее всего найдут себе новую жертву. Их василевсы так навыкли к злату, что серебра им уже мало. Потеряв почти все в Европе, теряя и Азию, теперь алчно поглядывают на земли русичей. Сами они давно уже не воины, только наемниками и держатся. А тем платить надо. Вот когда подомнут нас, тогда… Очень их императоры того хотят.
— Знамо, что хотят! — встрепенулся Ягила. — Русь нашу Сурожскую уже подмяли. Многих окрестили, а здешний готский обломок — так весь!
— Это их испытанный ход. Сначала свою веру навяжут, а уж там и ярмо готово. Опробовано не раз.
— А что же их боги? — недоуменно пожал плечами Ягила.
— Боги… Похоже, они у них лишь для виду. Их боги — золото и власть…
«Что бы сказал об этом отец Зарян? — подумал Ягила. — Как не хватает нам светлой мудрости его».
Весь день они трудились в саду, рыхля в приствольных кругах-колах затвердевшую землю. Блага занялась своими грядами. И хоть нелегкая это была работа, мужчин в помощь не звала, и те знали: гряды — чисто женское дело, как война, пахота, строительство, скот — чисто мужское. Так было всегда.
«Был бы отец дома, — опять подумал Ягила, — занялся бы пасекой. Почистил бы борти от замора, подкормил ослабевшие семьи… Ведь будет мед — будет и сурица. А сурица нужна для отправления треб и в жертву богам. Сами боги научили пращуров наших готовить ее».
До вечера трижды испили по глотку этого священного напитка, приобщились к богам. У богов в синей Сварге своя сурица. Они пьют ее за почитающих их людей, живущих на земле. Русичи ничего у них не просят, только поют им славы. Если нужна помощь, просят пращуров, и, коли благи, те им всегда помогают. Впрочем, боги тоже могут прийти на помощь Даждьбоговым внукам — родичи же!
За работой, когда опять заговорили об отце Заряне, Добрец спросил:
— А ты, Ягила, не забыл его наказа?
— Какого, брат? i
— Я про Иоанновы письмена. Он же наказал тебе хорошо их затвердить и приучиться к писанию. Много писать повелел.
Ягила смутился:
— Мало старался, недосуг все. Сам видишь, что творится в общине. И жизнь больших трудов требует. Одни мы с Благой работники тут.
Помолчав и прогнав холодок обиды, усмехнулся:
— Письмена затвердил, а вот писать… Не для тонкого писала у меня руки. Моими — соху в борозде вести, кузнь какую сработать, заступом стучать. Приведись — и с мечом управятся не хуже иных. Несмотря на мое калечество.
— Надо, брат, раз отец сказал.
— Возьмусь. Теперь нас тут трое…
Через день-другой, когда сад был обихожен, а Блага засеяла свои первые гряды, неожиданно неведомо откуда надвинулись черные тучи. Весело и мощно от одного края неба до другого прокатился на своей колеснице Перун. Гром его сотрясал небеса и землю. Синие и желтые молнии рассекали тучи на мелкие клочки, пробиваясь сквозь их черный мрак к земле. Потом пошел дождь — частый и теплый, почти летний. Навстречу его струям земля широко раскрыла все свои поры и сладостно пила их божественную оплодотворяющую влагу.
— Ну, сестрица Блага, теперь жди урожая. Перун свое дело сделал — оплодотворил землю на сто поприщ вокруг! — приплясывая в свежей луже, крикнул Добрец. — По сему случаю споем ему славы и выпьем нашей любимой сурицы. Ягила, начинай!..
Так и сделали — и спели, и выпили. Поскольку работать на земле стало невозможно, Блага принялась за стирку, Добрец отправился в гости к соседям-родовичам, а Ягила достал с полки несколько давно заготовленных буковых дощечек. Разложил на столе, подпер кулаком скулу, задумался.
Да, он старался. Сколько таких дощечек испортил, сколько писал изломал, пока не получилось вот это. Крупно, конечно, неказисто, но уже приемлемо. Отец бы похвалил. Чтобы другие получились еще лучше. И они действительно стали получаться.
— Что писать-то, отче? — спросил он тогда. Тот подумал и сказал:
— Для начала что-нибудь простое, что хорошо знаешь. О нашей земле, о богах наших, обычаях. Как живем, что творим. Откуда мы, русичи, взялись и кто мы есть такие…
Тогда ему казалось, что это и в самом деле просто. Другое дело — хорошо выскабливать доски, не перепутать чего, не испортить письмена, которыми отец владеет так легко и свободно, а для него это — труд велик.
И еще он тогда сказал:
— Будешь прилежен, сыне, большая польза от того тебе станет. И еще польза будет другим, кому доведется читать их. Может, кому-то, живущему в другом времени и далече отсюда, твои дощечки донесут весть о нас. А это — счастье твое. За это можно жизнь положить.
Приободрившись, он решил перечесть когда-то написанное, чтобы продолжить потом на других досках. Придвинулся к столу вплотную, поднес дощечку к самым глазам, забубнил: «Влескнигу сию посвятим Богу нашему, ведь он (нам) прибежище и сила. Во времена оны был муж, и был он благ и праведен и звался Отцом Тиверским, и жену и двоих дочерей имел. Был у них скот — коровы и много овец. С ними он был в степях, и однажды, не имея мужей для дочерей своих, о том просил богов, чтобы род его не пресекся. И Даждьбог услышал мольбу ту и по мольбе дает ему просимое, потому как тому уж был срок…»[2]
Тут он задержался, засомневавшись: дочерей-то у этого праведника, кажется, было не две, а три. И звали их Древа, Полева и Скрева. От них еще племена новые пошли — древлян, полян и кривичей. Как это он так ошибся? А на дереве не исправить уже — не кожа. Придется потом переписывать заново.
А что на этой дощечке? Строчки тут куда как прямее, под самой линией идут. И знаки прорезаны более четко, умело. Порадовался и опять забубнил: «Влеса молим мы, нашего Отца, чтоб двинулся по небу Конник Суражий, и чтоб взошел над нами Сурье сказать колеса золотые вращать. Ведь это Солнце наше, что светит на наши дома, и перед ликом его бледнеет лик огнищ домашних. Огоньку сему, Семургле Богу, говорим мы появиться и объявиться в небе и приняться за дело свое до самого до синего до света… Называем имя его Огне-боже и идем трудиться, как и всякий день, омовенье телу сотворя; едим и в поля идем трудиться наши как Боги всякому велели мужу, кто способен трудиться ради хлеба своего…»
Пока читал, отделяя слово от слова, строку от строки, аж вспотел. Оказывается, трудно читать написанное вот так — сплошняком, слово к слову, даже самим написанное. Но так было принято и освящено еще Отцами старыми, отступать от того нельзя и в новых письменах. Неужто и отец Зарян, и его друг Иоанн писали так же?
«Даждьбоговы вы внуки, любимцы Божьи, и Божье орало вы так в деснице держите… Славу воспоем Прекрасному, и до вечера думаем мы таково и пятикратно Богов мы славим в день. Пьем сурицу в знак благости и общности с Богами, которые во Сварге суть, так же пьют за счастье наше… Воспоем Солнечному славу, и золотой Суражий конь поскачет в небе… Домой идем, потрудившись, огонь мы там творим и пищу нашу едим. И говорим, любовь к нам Божья какова, и отходим ко сну… И так и пребываем славными, поскольку славим мы Богов и молимся с телами, омытыми водою чистою…»
И на следующей дощечке:
«Сто раз Русь начиналась и сто раз была разбита. От полуночи и до полуденя… скот вели Праотцы наши, и были Орием Отцом в край Русский приведены, чтобы там пребыть. И на страдания многие не обращали внимания, и раны, и холода. Вот так дошли досюда и так поселились огнищане на Русской земле. Случилось это до времени до нынешнего за две тьмы[3] (лет)…»
Вот и последняя дощечка. Мельком пробежал глазами по первым строчкам и внимательно вчитался в последние:
«Получили мы поучения о древнем — и душами ввергнемся в него. Вот, оно ведь наше, потому так, смотри, — другое уж идет. Вот, все, что вокруг нас, силу творит Богам… Вот души наших Пращуров из Ирия глядят на нас. И Жаля плачет там о войнах и говорит, что пренебрегаем мы Правью — Навью — Явью… Пренебрегаем ведь мы этим и истинным гнушаемся… Быть внуками Даждьбожими мы недостойны… Да молим мы Богов, чтоб чистыми у нас и души были, и тела, и чтобы получить нам жизнь со Праотцами во Богах, в Правду слившись во единую. Даждьбожи внуки будем так. Зри, русский ум, насколь велик ум Божеский!..»
Приуставший и радостно-взволнованный, отложил Ягила свои дощечки и вышел из дому передохнуть. Огляделся — Сурья сияет, омытые дождем молодые листочки и травинки ответно блестят драгоценными ожерельями, весело лопочет о чем-то разлившийся ручей, щелкают, свистят, перекликаются разные птахи, белогрудые ласточки восторженно носятся в чистом небе — глазом не уследить, так быстры и изворотливы в полете.
А сад, что сделалось с садом! Груши, вишни, сливы, яблони — и не деревья уже, а мягко опустившиеся на землю белоснежные облака. Страшно слово молвить или дохнуть — взлетят. Спасибо тебе, огнеликий Сурья, спасибо тебе, великий Перун, славно порадовали вы землю и огнищан своей любовью! Неужто есть еще за что любить нас, таких маловеров и отступников?
Вернулся из гостей Добрец. Тоже ошалело крутит головой, плещет руками, что-то то ли восклицает, то ли поет.
Блага, вышедшая развесить на просушку выстиранное, забыла, для чего вышла: как остановилась меж двух яблонь, так и замерла с раскинутыми руками-крыльями, точно готовясь взлететь. Но не на белую птицу, а скорее еще на одну яблоньку в цвету была похожа она сейчас. В белом платочке, в легкой белой сорочке ниже колен, босая, вся залитая живым слепящим сиянием, как же прекрасна была она в этот миг!
Подошедший Ягила еще больше изумился, когда увидел, как неостановимо льются по щекам ее крупные прозрачные слезы. Чего-то боясь и смущаясь, осторожно коснулся локотка:
— Что с тобой, сестрица Блага? Чем сердце зашлось — болью или счастьем? Скажи.
Оборачивалась она медленно, медленно, как во сне. И руки-крылья все грозились унести ее в небо, и слезы все лились и лились. Глядя на Ягилу и будто не видя его, тихо сказала:
— И как такую землю, такой земной Ирий смогли оставить родичи мои? Где они сейчас, где плачут о ней, где кликают меня?..
Ягиле сразу вспомнилось, как вскоре после похорон утонувшего брата бывшая семья Благи из соседнего рода, и не только она одна, собралась в дальний путь — в сторону Киева. Все уже было собрано, груженые всяким скарбом и дорожной снедью подводы выезжали со двора, как вдруг Блага ехать отказалась. Напрасно уговаривали ее отец с матерью, братья с сестрами — отказалась наотрез: здесь ее родина, могилы мужа и многих родовичей. Так и уехали без нее.
Да, вот что значит для человека отчая земля, родина. Смотрел на Благу Ягила, и сердце его разрывалось от бессилия и горя. Все последние дни он настойчиво уговаривал земляков одуматься, взывал к совести и чувствам, в негодовании потрясал посохом — бесполезно. Не согласились, не вняли его уговорам и укорам: устали жить в отрыве от Большой Руси, потеряли надежду на лучшее.
Тогда он еще не знал о решении Благи, а потом не столько удивился, сколько порадовался ее стойкости и воле. Вот и сейчас он гордился ею, мысленно благодарил за верность новому роду, из которого после смерти мужа могла вернуться в семью, но не ушла, не вернулась. Что же он должен сделать для нее, чтобы она была вознаграждена за свою верность, не жалела потом?
— Милая сестрица, успокойся, посмотри, какая красота вокруг. Давай вместе порадуемся ей, поблагодарим богов за то, что в трудное время не забыли о нас, о нашей земле. Это хороший знак.
Он еще что-то говорил — тихое, ласковое, удивляясь тому, что может быть и таким. О дощечках само собой забылось, но он обязательно к ним вернется и выскажет в них всю свою горькую любовь и к своей прекрасной земле, и к своим мудрым богам, и к этой молодой солнечной женщине, похожей на цветущую яблоньку в его чудесном саду.
После обеда он опять вернулся к мыслям об отце и его наказе. Перечитав свои дощечки, подумал: а ведь все, о чем говорил отец Зарян, он уже записал. И тут же пресек себя: все ли? Жизнь русичей, протекшая через тьму лет и через многие земли, так непроста, столько в ней было всяких испытаний и бед, столько великих людей вершили их судьбы, что и на сотне дощечек не расскажешь всего.
Достал с чердака ровную тонкую буковую доску, поправил на точильном камне железный скобель и принялся выглаживать сухое дерево. Долго выглаживал, с обеих сторон, потом распилил по размеру первых, — получилось еще пять.
Посидел, подумал — мало. Снял вторую доску, обработал еще старательнее, распилил — получил еще пять. Если писать с обеих сторон, надолго хватит. Нашлось и писало. Почистил от ржавчины, заострил один конец, чуть сплющил другой, можно приступать.
И опять долго сидел, задумавшись. Мыслей было много, от них шумело и кружилось в голове. С чего начать? С того, что ближе, что лучше запомнилось из рассказов отца? О Кимрах и скифах он говорил много и радостно. Они ведь тоже пращуры наши; когда мы были с ними, нам было хорошо и покойно, ибо сильнее нас никого на свете тогда не было. Да и звались мы вовсе не скифами, это греки такую кличку нам дали. Они всех по кличкам различали, хотя и сами совсем не греки — такое имя-прозвище дали им римляне. А мы были сколотами, по имени великого царя нашего Сколота, и еще иными — по местам поселения и занятиям. Но обо всем этом отец Зарян знает лучше. Вернется — запишет сам.
И о том, откуда пришли и когда заняли эти земли русичи, тоже знает. Вот о готах, злобствовавших на нас полторы сотни лет, помнится лучше. Тогда многие наши племена обитали близ Венедского моря, куда пришли с благословенных гор Карпатских, а по ту сторону его жили германы готы. Завидуя нашей богатой жизни, полям и славным городам нашим, три их племени тихо переплыли море и накинулись на нас. Мы были мирными, к такой подлости не готовыми, пришлось все покинуть и уйти от моря на восход Сурьи, через те же Русские горы.
Тяжкое было это время для славян: с полуночи двигались на нас готы, с запада солнца — легионы Рима, с полудня — языги, костобоки, эллины, даже хазары — виноградари и рыбари, решившие оторвать и для себя кусок нашей земли на Pa-реке[4] и Дону…
Всю эту ночь не смыкал своих глаз Ягила. Все, когда-то слышанное, оживало, обретало плоть, двигалось, гремело, кричало, корчилось в кровавых судорогах на потеху духам смерти Мару и Мороку.
Утром он проводил Добреца пахать житное поле, а сам уселся за дощечки. Благословите его, Боги!
«…Жил-был во степях болярин Скотень… Был он из ириан[5] и (когда на него напали) помощи у иранцев попросил. И они конницу дали и били хазар. О том сказаны и слова другие, потому как взял (освободил) он русичей, что оставались под хазарами… Кто же добрался до Киевского града, там и поселился. А русичи, что не желали под хазарами остаться, к Скотеню пошли. Всеми злоумышлениями (врага) иранцы пренебрегли и наших в кабалу не брали и русам так жизнь русскую оставили… А хазары брали на свою работу в кабалу и женщин, и детей. Скверно было и весьма… худое творили. Именно тогда около Скотеня готы грабительски на Русь напали. И он вооружился, и наши пращуры двинулись на них… Разбиты были готы и бежали с поля… Первее же хазары наелись праху… бросали мечи свои и повернули, куда глаза глядят… порубанные в землю пошли…»
Перечел написанное — ох до чего же слаб и беден язык письменный! Когда говоришь или даже думаешь, все живет, все имеет свой цвет и голос, а тут все так косно, скучно, что и читать невмоготу. Однако волнение его было так велико, что тут же взял другую дощечку. Чтобы сказать о родной Русколани, усилиями князя Кия и кровью его героев русичей сотворенной. Русколань — гордость и боль наша!
«Так была Русколань сильной и крепкой. Ведь благодаря Перуну, владеющему нами, сколько бы мы не вытаскивали мечи — побеждали врагов, отгоняли их в их земли. Потому как вожди времени рода Орея[6] славны и сильны были, — как и те, которые под солнцем били Египет, и раньше. В те же времена не было у нас единства, и были мы с вами как овцы без Влеса. Он ведь сказал нам, что надобно нам ходить прямо, но никогда криво, а тогда мы не послушались…»
Когда от Карпат до Pa-реки создавалась Русколань, готы еще не дошли до Днепра и степей русских. Но были и другие враги — дасы. О хазарах он уже сказал, — после разгрома те надолго притихли в своих приморских камышах, но во множестве были и другие: «…племена костобоков напали. И они наносили многие раны и кровь проливали. То неожиданно секли головы врагам своим, и их-то вороны и ели… Стрибы[7] свищут в степях и Бореи[8] гудят к полуночи об опасности для нас. Была тут сеча великая, чтобы с язами и костобоками сразиться, с пакостными убегающими ворами говяд наших. И брань та двести лет вот так была. И родичи (иные) к ляхам убежали, ввержены во беды, и там осели. Сто лет спустя там были готы Германареха и злобились на нас. И брань большая тут была, и готы были потеснены и отброшены…»
«(На Дунае) ромеи бросились на нас, и много бились мы. Тут быстро были они научены как простеглавить нас. И так мы их опростеглавили, и воинов их тут тьма была опростеглавленных. Большие холода, снега, голод наших мучили людей, прямо отощали и остались без всего они. Настрадались в тот раз весьма они, чтобы добиться независимости, и ее создали…»
Мало готов, ромеев, язов, костобоков — с восхода солнца из-за Pa-реки хлынули гунны. После ста двадцати лет беспрестанных сражений с готами и иными героическая Русколань, уже потерявшая к тому времени былое единство, напрягала свои последние силы. «Тогда единым князем был Святояр… который-то собрал борусов на Русколани… Вооружились борусы и пошли на готов из Воронженца… Там было (тех) десять темей отборных боянов (бойцов) конных и никак не пеших… Так вот и набросились на них. Сеча злой и короткой была. И просвирепствовала та сеча до вечера, и с готами покончили…»
В те же места через какое-то время вышли и гунны, разгромившие готов. Большой торговый город на Дону Танаис после прежних пожаров был стерт с лица земли. Сгорел в последнем сражении и Воронженец русичей. Отсюда их поредевшие дружины отошли на полуночь в леса, а покинувшие город огнищане двинулись в степи.
«Что Русколани было делать, если вся-то вражья сила идет на земли Воронженца? Вот Русь стала отгорожена от захода Солнца, и другие на полдень к Сурье пошли и Сурож-город сотворили… у моря, который там теперь у греков, крепкий город Сурож».
Опустели обширные и богатые земли Русколани от Дона до Pa-реки. Воинские дружины со своими воеводами пробились к Киеву-граду и стали опорой ему для дальнейшей борьбы. Но Русколани не стало. Пала прекрасная страна русов, захлебнувшись кровью своих героических защитников. Тысячи и тысячи их ушли на белых конях в синюю Сваргу в небесный полк Перуна. Скорее бы боги дали им новые тела, чтобы в нужный час они смогли помочь своим потомкам тут, на земле.
Ягила живо представлял себе весь ужас гибели родной Русколани, но писать не мог: слезы заливали очи, заслоняли лежащие перед ним дощечки и весь мир. Он плакал. Плакал горше, чем на похоронах матери, умершей, когда еще бегал без порток. Горше, чем тогда, когда узнал, что навсегда после стычки с эллинами в Священной роще останется горбуном.
Глава четвертая
826-й год в землях, лежащих к югу от Венедского моря, ничем особенным не отличался. Все так же ссорились и мирились внуки покойного Карла Великого во Франкской империи, то угрожая своим восточным соседям, то забывая об их существовании. Король датчан-данов все жил планами создания, в противовес франкам, мощного союзного государства данов, норманнов и свенов-шведов, чтобы обезопасить себя от такого непредсказуемого соседа. Правда и то, что ни норманны, ни шведы не горели большим желанием подпасть под его суровую руку, как и то, что ни Людовик Благочестивый, ни три его сына, занятые своими внутренними франкскими делами, в это время далеко за Лабу[9] не поглядывали.
Не новы были и то разгоравшиеся, то притихавшие трения между папой римским и королями по вопросам раздела церковной и гражданской власти, где каждая сторона хотела быть первой и независимой. А что касается фактов все новых и новых разбойных выходок викингов, то о них не говорили разве что немые.
Впрочем, одна из хроник отметила, что именно в этом году в резиденцию франкского императора Людовика Благочестивого прибыли два брата — Рюрик и Харальд, достигшие зрелого возраста сыновья повешенного датчанами славянского князя Годолюба. Мол, император принял братьев-сирот благосклонно, сам крестил в христианскую веру и обещал помочь им вернуть их лен.
Хронист не ошибся: у Годолюба, князя ругов-русов, входивших в княжество бодричей, действительно были такие сыновья — Рюрик от жены-славянки Умилы и Харальд от второй жейы-датчанки. А осиротели они почти двадцать лет назад, когда датский король Готфрид разгромил маленькое пограничное славянское княжество, а его князя казнил за отступничество и измену родственному долгу. Дело в том, что в сложившихся тогда обстоятельствах Годолюб был вынужден стать вассалом Карла, что Готфриду, естественно, понравиться не могло.
После погрома, учиненного в стольном городе, и гибели мужа датчанка вернулась на родину, а Умилу с малыми сводными братьями-наследниками воевода Дражко успел тайно вывезти в безопасное место.
А вот насчет лена хронист допустил неточность. Братья просили не лена, землю, пожалованную в наследственное владение вассалу за службу своему сеньору, а помощи в возвращении им их захваченного датчанами княжества. Что ни говори, а сюзерен, король или император, в ответе за своего вассала. И если двадцать лет назад он допустил такое беззаконие, пусть поможет сейчас.
Людовик во всем был согласен с братьями, великодушно обещал свою помощь, и те ликовали, даже веру ради такого важного дела на радостях поменяли.
Наивные юные рыцари, не знающие придворных нравов пришельцы, они и не подозревали, что имеют дело с человеком, еще десять лет назад оставившим все хлопотные государственные дела и поделившим империю между своими беспокойными сыновьями Лотарем, Карлом Лысым и Людовиком Немецким. А те и знать их не хотели, добиваясь более справедливого передела империи, а понятие о справедливости у каждого было свое.
Через год они добились такого передела — и все пошло по новому кругу. А что оставалось Рюрику и Харальду? Стать странствующими рыцарями, продавать свою кровь и меч герцогам и королям? Ну, это еще заслужить надо. Да и выбор у сеньоров сейчас большой как никогда: такие же, как они, неприкаянные, не имеющие ничего кроме коня, оружия и уже немалого опыта, в поисках достойной службы бродили по всем большим дорогам. Когда устроиться не удавалось, они становились рыцарями с больших дорог, и в Европе быстро узнали, что это такое.
Стали братья наниматься к купцам для охраны их караванов. И охранять было от кого — на долгой дороге до Дуная, а зачастую и до самой столицы Византии, случалось всякое. Так приходил опыт. Дружина, подобранная Рюриком, была сплоченной, легкой на подъем и яростной в стычках. Слава о ней пошла по всем торговым городам.
Одного не любил Рюрик — сопровождать уводимых на торг пленников. Сам человек вольный, ни от кого не зависящий, он не мог не сочувствовать тем, кого этой воли лишали. Однако когда не было другой службы, приходилось соглашаться и на эту. До поры.
Шли годы. Братья возмужали, заматерели, залечили не один шрам на своих телах. Простая, повторяющаяся из раза в раз служба наскучила, захотелось чего-то другого, более серьезного и интересного.
Так они оказались на острове Руяне, в городе Арконе, где у храма бога Святовита была дружина в несколько сот человек. Взяли и их. Тут в походы ходили уже не на конях, а на кораблях. А кораблей — целая эскадра. И народ на ней из самых отчаянных и самых разных языков — и славяне, и русы-руги, и норманны, и шведы, и эсты, и еще бог весть кто, со всего Венедского моря.
Сами себя они величали божескими воями, а их — всяко, как и прочих ловцов счастья: викингами, датчанами, северными людьми — норманнами, варягами. Развелось их несчетное множество, и понятно почему. Вот вырастают у людей сыны — земля, которой и так мало, — старшему, а остальным — конь, меч, и иди, ищи свою судьбу. Началось со Сканзы[10], там земли действительно мало, да и та каменистая, неплодная. А потом по всему морю пошло, и назвали его славяне Варяжским.
Не сразу, но привыкли братья и к морю. Немного лет прошло — стали сами водить корабли, ходить в дальние походы, по морю и по рекам. Добычи привозили больше других. Может, потому что не ловчили, сбывая понемногу добро по пути к острову, может, были более удачливы. И почти все забирал храм, его бог и жрецы того бога.
Не понравилась Рюрику эта алчность. И то равнодушие к людским потерям, которые при всей удачливости неизбежны. И не по-божески это, не могут быть боги, тем более высокочтимый Святовит, такими жадными и жестокими. Хотя Людовик и окрестил братьев, но новой веры они не познали и стряхнули ее с себя, как путник пыль. А свою в памяти держали цепко — единственное, что осталось у них от своей земли, от своего народа.
Ушли они с Руяна и опять стали вольными и гордыми. Когда кошели потяжелели, заказали себе сразу пару кораблей. Корабельщики по сходной цене предлагали готовые, но Рюрик стоял на своем: строить так, как он повелит. И повелел:
— Знаете, мастера, как наши предки венеды строили?
— Так это когда было!.. — засомневались те.
— Было почти тысячу лет назад. Давно, говорите? А корабли их были лучшими для всего моря, с ветрилами и гребцами. На них с римлянами Юлия бились. Утех тогда и свои были хороши, да к венедским подступались со страхом…
— Есть такое преданье, помним, — закивал оживившийся при этих словах старый плотник. — Вот давай вместе и припомним, как по тому преданию строили. Мой дед еще хорошо это знал…
Не будем мучить старца, лучше дадим слово великому римлянину Юлию Цезарю, который очень хорошо запомнил венедские корабли, испытав их мощь в боях. В своих «Записках о галльской войне» он отметил:
«Надо сказать, что их (венедов) собственные корабли были следующим образом построены и снаряжены: их киль был несколько более плоским, чтобы легче было справляться с мелями и отливами; носы, а равно и кормы были целиком сделаны из дуба, чтобы выносить какие угодно удары волн и повреждения; ребра корабля были внизу связаны балками в фут толщиной и скреплены гвоздями в палец толщиной, якоря укреплялись не канатами, но железными цепями; вместо парусов на кораблях была грубая или же тонкая дубленая кожа, может быть, по недостатку льна и неумению употреблять его в дело, а еще вероятнее потому, что полотняные паруса представлялись недостаточными для того, чтобы выдержать сильные бури и порывистые ветры Океана и управлять такими тяжелыми кораблями. И когда наш флот сталкивался с такими судами, то он брал верх единственно быстротой хода и работой гребцов… Наши корабли не могли им вредить своими носами (до такой степени они были прочными); вследствие их высоты нелегко было их обстреливать; по той же причине не очень удобно было захватывать их баграми…»
И опять шли годы. Эскадра Рюрика росла. А вместе с тем росла и его слава. Одни называли его Рюриком, другие Рориком, а иные и славянским Соколом. Потому что Рорик-Рарог и есть сокол, священная птица самого Огнебога.
Глава пятая
Когда после пахоты поле было выровнено бороной, Добрец отпустил вола на свежую травку, а Ягила пошел за семенами. Они уже давно были приготовлены для этого святого часа и ждали его в небольших мешках, пошитых из старых мужских портов. Почто так? А чтобы передалась готовым лечь в землю семенам благодатная мужская сила.
Перенес Ягила мешки на край поля, огляделся — нет ли поблизости кого из женщин? Не о Благе речь, она сейчас сама занята посевом репы, а это чисто женское дело тоже требуется выполнять только в чем мать родила.
Ну, пусть себе сеет, они мешать не будут, сами растелешились, повесили на грудь по суме и пошли по мягкой теплой пашне рассеивать ядреные житные семена.
Горсть — вправо, горсть — влево. Шаг за шагом. Не спеша и не медля. Горсть — туда, горсть — сюда. Вроссыпь, а не кучно. Чтобы всходы были ровные, не мешали друг другу в росте. Но и не изреженные, когда колос от колоса — не слышно голоса. Вот так, вот так! Вправо, влево. Шаг, еще шаг.
Тут и нужные слова скажутся, а то и песня споется. Если хочешь хорошего урожая, спой славы Сурье и Перуну. Не забудь жизнь дарующую Живу. Без ее пригляда ничто не растет, не плодоносит. Скажи ей от сердца идущие слова. Как родной матери, что дала тебе жизнь. Вот так…
Чтобы рассеянные зерна не остались лежать поверху и не были склеваны птицами, их нужно похоронить. Только после похорон они могут воскреснуть, ожить для новой жизни сами и дать жизнь новому семени, которому придет и его срок.
Ну вот, теперь опять вола — в ярмо, борону — в поле. К вечернему небесному Коннику все было закончено. Закончила свое женское дело и Блага.
Побывав в мовнице и омыв натруженные тела, все собрались у стола к вечерней трапезе. Сегодня снедь показалась особенно вкусной, сурица — особенно сладкой, а славы, пропетые богам, особенно дружными и сердечными.
Такое большое дело свершили, — радовались и обнимали друг друга. И как раз вовремя, как Яр-бог велел. Теперь и Яров день, весенний праздник земледельцев-огнищан, сыграть можно. К концу седьмицы и другие закончат свои полевые работы, тогда смогут собраться все. Этот праздник, от начала веков любимый русичами, поможет им и в это трудное время.
В назначенный день семья Ягилы поднялась чуть свет. Брату Добрецу он поручил сходить к Тавру и добыть для общей трапезы горного барана, Благе — еще раз обойти родовичей с приглашением на праздник. Да чтобы те, в свою очередь, не забыли кликнуть и соседние роды, ведь уже который год Священная роща и помолье у них общие.
Сам занялся конем.
Ни у кого в роду нет такого хорошего белого коня, как у него. Именно белого, ибо Ярила может прибыть только на таком. Сам собой он молодой, суражий, то есть красивый, мужчина, скорее всего еще не женатый и оттого особенно неистовый в своих весенних чувствах. В одной руке он держит зеленую ветвь, в другой — пучок спелых колосьев. Горящие глаза его должны воспламенять любовью сердца молодых. Пусть присмотрятся друг к другу, чтобы, когда придут Лада со своей дочкой Лелей, у них было готово решение создать семью, а богини Рожаницы освятят ее и благословят продолжение и процветание рода.
Семья у русичей — дело серьезное и святое. Создать ее без согласия рода и воли богов невозможно.
А заняться конем было необходимо. За время весенних работ тот заметно потерял прежнюю бодрость, запылился, загрязнил копыта землей и глиной. Хвост и грива, такие длинные и густые, требовали крепкого гребня.
Все утро Ягила мыл и чистил любимого коня. Когда вернулась Блага, конь уже стоял под ковровой попоной и добротным седлом, с яркими лентами в хвосте и гриве, с чисто вымытыми копытами.
— Ах, какой же он у нас лепый да суражий! — воскликнула Блага, лаская его голову и лебединую шею. — Кого же мы на него посадим? Кто у нас будет Яром?
Тут и Ягила спохватился.
— И вправду — кого? Кто?
Перебрали всех оставшихся в роду юношей — не нашлось достойного. Из молодых мужчин — тем более: Ярила, их славный Ярун, как-никак, бог. Кто из смертных может сравниться с богом?!
К тому часу вернулся с добычей на плече Добрец. Положил к ногам старшего брата барана, отер с разрумянившегося лица пот и, улыбаясь, спросил:
— Какой еще урок будет?
Ягила похвалил брата и в то же время заметил, как засмотрелась на него Блага.
— Вот его и посадим. Чем не… бог… наш Добрец?
Сказала, смущенно зарделась и поспешно отошла к дворовому столу, готовая к разделке жертвенного барана.
— А и что? — обрадовался Ягила. — Другого такого Ярилу промеж нас не найти. Вот, брат, тебе и урок: будешь сегодня богом. Надо!
Тот не сразу понял, что это всерьез. А когда понял, широко развел руками:
— Ну, раз, говоришь, надо… А кто костры раскладывать да жечь станет? И борцов задорить? И…
— Тут большого уменья не нужно, найдется кто. А вот от борьбы тебе не уйти. И на коне скакать будешь, и в хороводах петь, и через огонь оленем скакать, одним словом сказать, — как и прежде…
К Священной роще, к могучим дубам в три обхвата, к своему помолью потек народ. Перед тем как облачиться в оставшееся от отца Заряна праздничное одеяние волхва, Ягила тщательно омылся, испросил позволения у богов и, малость переждав, пошел туда же.
К нужному часу помолье их заметно преобразилось. Круг в середине уютной поляны чьи-то заботливые руки обновили, каменный алтарь в центре вымыли, сложили на него грудку сухих березовых чурок, запалили костерок. Малость в стороне в большом котле варилось мясо, оттуда уже шел приятный дразнящий дух.
Там же в чистой дубовой бадейке дожидалась своего часа свежеприготовленная праздничная сурица. И всюду — цветы. На изгороди, на нижних сучьях деревьев, на головах у женщин и детей. Какая весна и какой праздник без цветов?
Ягила смотрел вокруг и радовался: кажется, ничего не забыли, успели. А вот людей было мало, заметно меньше, чем в прошлый раз, — на празднике встречи весны, в день весеннего солнцестояния, откуда начинается отсчет дней нового годового круга-кола.
Да, роды сурожских русичей тают на глазах. Сурожское княжество никогда не было большим и сильным. Зажатое между эллинским Боспором, греческим Херсонесом и маленькими осколками когда-то великой Скифии и так же исчезнувшей Готии, оно процветало лишь в союзе с Русколанью. Не стало той, потом могучих антов — и пришли беды на их землю.
Есть еще Киев, но до него далеко. Да и он теперь не в силе, сам данник Хазарского каганата. Далеко-далеко на полуночи уж не один век существуют Ладога, Новгород и другие города словен, на западе солнца — от холодного Венедского моря до теплых полуденных морей и от жмуди до франков — расселось множество славянских княжеств, но о них вестей почти нет. Вот и приходится бедовать одним.
Подошли несколько старцев, встали рядом. Взгляд Ягилы потеплел, но был все так же печален: как мало их осталось. Пора было начинать, и он подошел к алтарю. Простер руки над огнем, испросил позволения у богов, принес им жертвы — хлебом, мясом добытого барана, сурицей. Огонь на алтаре вначале ослаб, заметался с полешка на полешко, а затем разгорелся еще пуще. Помолье облегченно вздохнуло — приняли боги их жертвы, благословили праздник.
Потом он пропел славы всем причастным к этому случаю богам — и Влесу, научившему их пращуров пахать и водить стада, и Огнебогу с Сурьей и Даждьбогом, дающим свет и жизнь, защитнику и оплодотворителю родной земли Перуну, богу всех богов Сварогу. В привычных местах помолье вторило ему, но до чего же нестройны и слабы были эти голоса!
Как всегда, особенно воодушевлялся, перейдя к наставлениям и поучениям. Говоря о нынешних трудностях, напоминал, через какие испытания и беды не единожды проходили их пращуры за долгую жизнь славянского племени.
— Вспомните, родовичи, как выводил нас Орий Древний из нашей замороженной и заледенелой родины, которая и сейчас такая же суровая далеко на полуночи. Теряя близких нам людей, стада, силы, мы упорно двигались за Отцом Орием в сторону света и тепла. Долго шли — через снега, мороз, мертвые земли, где не было даже деревца, чтобы согреться у костра. Мало нас осталось. Но мы все-таки вышли, потому что верили и были едины. И было это две тьмы лет назад.
А еще вспомните, как строились готы с гуннами и ударили на нас со всех сторон, как погибала наша славная Русколань. А ведь что погубило нас? Разве не то, что потеряли единство, перессорились наши племена? И это нам знать и помнить надо, ибо и ныне у нас весьма тяжкие испытания и беды. Враги не только вокруг нас, но и внутри каждого. Распахните друг перед другом свои души, помогите избавиться от лжи, беспутья, корысти и всяческих соблазнов. Только все вместе, вместе со своими извечными богами и пращурами в синей Сварге, только идя путем Прави, сможем мы выстоять и ныне. Иначе изведемся все, как те наши рыбоеды на Pa-реке, что отказались быть вместе со всеми, когда пошли на нас иные гунны и злые племена. Но мы еще живы. Боги наши любят нас, щедро одаряют теплом и достатком, и потому славим мы их…
Когда опять заговорил о Яре-Яриле, ветви дубов раздвинулись и к помолью медленным шагом на прекрасном белом коне выехал сам Ярила. Собравшиеся встретили его дружными веселыми кликами, особенно молодые, девушки забросали цветами. А самые смелые с обеих сторон подхватили коня под уздцы, обвели вокруг помолья, прогуляли по полянке. Здесь вокруг них быстро образовался хоровод, пошли песни, пляски, веселье.
Ягила тем временем проводил старцев и всех, кто не участвовал в играх, к разостланным на траве холстам, уставленным мисками, горшками и кружками. Приобщились к богам сурицей и принялись за угощенье. Все были довольны, помолодевшими глазами поглядывали на хоровод, на весело принимавшего поклоны и славы Ярилу-Добреца, вспоминали свою молодость.
В урочное время зажглись и костры. Вокруг каждого образовался свой малый хоровод, а когда пламя чуть ослабло, началось очищение огнем. Зачин этой забаве положил сам «Ярила», поочередно перескочив через каждый. За ним последовали остальные. Немного их было, но визга, смеха и крика хватило на всю поляну.
Борцов на этот раз оказалось совсем мало. Добрец легко пораскидал их и стал победителем. И опять Ягила заметил, как по-особенному ласково глядела на него сестрица Блага.
Глава шестая
Александр Иванович Сулакадзев, известный ученый-археограф, коллекционер и антиквар, весь этот день провел в очень расстроенных чувствах. Все началось с утра, когда он поехал навестить своего друга Дубровского, недавно вернувшегося из Парижа.
По опыту он уже знал, что с пустыми руками Петр Петрович из Европ не возвращается, обязательно прихватит что-нибудь эдакое, — вкус к старине у него есть.
Вот и на этот раз он надеялся увидеть у него какую-нибудь древность. И не просто увидеть, а бог даст, даже приобрести для своей растущей коллекции.
И что же оказалось?
Петр Петрович, конечно, принял его с распростертыми объятьями, даже прослезился на радостях, но тут же предупредил:
— Жаль, очень жаль, друг мой, что не выпало нам нынче счастие посидеть за самоваром, побаловаться чайком и кое-чем еще, посмотреть мои новинки. Часу лишнего нет. Видит бог, совсем нет!
— Чем же ты так занят, друг мой? — огорчился Александр Иванович.
— Ох, и не спрашивай. В дорогу собираюсь. Не ожидал такого, да ведь что поделаешь в моем положении?..
— Что, опять в свой Париж? По делам Отечества?
— Какой Париж, милый! Какое Отечество!..
— Тогда с визитами, поди?
От такой наивности друга Петр Петрович на какое-то время даже растерялся. Потом поманил пальчиком в соседнюю комнату, в углах которой громоздились еще не разобранные ящики, и шепотом, как соучастнику страшного заговора, сообщил:
— В деревню! Из Коллегии иностранных дел меня, извольте знать, вычистили. А теперь и из столицы гонят. В ссылку меня!..
— Бог ты мой! — ахнул Сулакадзев. — И за что же кара такая? Ограбил кого? Убил? Начальству своему надерзил?
Делая отчаянные знаки, чтобы тот притишил голос, Дубровский так же, шепотом, договорил:
— Мое дело, дорогой, дипломатическое. А дипломатия — это, друг, такая политика… Одним словом, с государем в точках зрения разошлись. А наш государь, извольте знать… Вот и еду… Прямо сейчас… Бог даст, еще свидимся. В лучшие времена…
— Господи, спаси и сохрани! — опять ахнул Александр Иванович, перекрестил на прощанье опального друга и вышел на крыльцо.
Всецело погруженный в дела давно минувшего, ученый плохо знал современную ему жизнь, да она и не была ему интересной. А вот, гляди-ка, и в ней, оказывается, что-то случается. Петра Петровича, честнейшего и благороднейшего человека, умом и сердцем радеющего о благе Отечества, не случайно же лишили службы и выставили из столицы.
О государе тоже разное говорят. Вот повелел дружить с мятежной Францией и не дружить с торговкой Англией. А разве нельзя — и с той и с другой? Я, к примеру, с одинаковым удовольствием дружу и с Петром Петровичем, и с Павлом Александровичем, и со многими другими. И мне от этого весьма хорошо…
А затем случилось вообще невообразимое: неожиданно скончался еще не старый государь Павел Первый. Тут же поползли уточняющие слухи, мол, не скончался, вернее, не сам собой, добровольно скончался, а убили! Заговорщики. Кто, что, зачем и как — один бог знает.
Александр Иванович верил и не верил. Только догадывался: и тут, поди, политика. И есть вещи, за которые лишить службы и сослать в деревню — мало. Вот и покойному тоже, по всему, было мало…
С воцарением Александра Павловича Первого все вроде бы должно было успокоиться. И верно, о покойном монархе стали быстро позабывать, те, кого он обидел, были восстановлены в своем прежнем состоянии, сосланные вернулись в свои дома, — чего еще?
Однако политика эта так въелась в людские умы, что без нее они уже никак не могли. Даже такому затворнику, как Александр Иванович Сулакадзев, стало интересно. Вот дошли известия, что возмутитель европейского спокойствия Наполеон Бонапарт, вернувшись из похода в Египет, совершил переворот — ликвидировал республику и восстановил монархию. Поскольку казненного Людовика вернуть уже было невозможно, утвердил королем и императором себя самого.
Одних это обрадовало: с революционной якобинской заразой в Европе покончено, с конституцией и республикой тоже, монархия восстановлена. Правда, монарх-то, прости господи, самозванец и политический шулер. Это все равно как если бы в России в царское кресло Екатерины уселся подлый казак Пугач. И в то же время какой ни есть, а все-таки монарх. Значит, теперь другим европейским монархам волноваться нет причины? В самом деле?
Другие, располагая какими-то источниками, утверждали, что именно теперь химерические поползновения Наполеона стали еще более опасными. И к завоеванию своей вселенной он уже приступил. С Египтом не получилось, — начал с Европы. Да-да, милостивые государи, это лишь начало.
Третьи почти как о решенном вопросе толковали о готовящемся совместном франко-русском походе в английскую Индию, чтобы якобы лишить ее главной колонии. Даже называли точное количество казачьих полков, которые уже подготовлены к выступлению. Или уже выступили из Оренбурга с направлением на Бухару и далее на юг…
Сулакадзеву это было интересно, но с возвращением в Петербург Дубровского все это ему быстро наскучило. Петр Петрович опять получил место, ходил радостно взволнованный, приглашал старых друзей на чай.
Не замедлил явиться к нему и Александр Иванович. Они вместе, вооружившись увеличительными стеклами, подолгу рассматривали каждый из античных или египетских свитков, каждую страничку рукописной или старопечатной книги, качали головами, прищелкивали языками, многозначительно переглядывались: каково, а?!
— А что ты, милостивый государь, прячешь в этой коробке? — спросил Александр Иванович в одно из таких посещений. — Что-то совсем необыкновенное, раз прячешь? Похвастай.
Петр Петрович помялся, помялся и наконец смилостивился:
— Кому другому — поостерегся бы, а уж тебе, как большому знатоку и другу… — И смущенно развел руками: — Да и похвастать страсть как охота.
— Ну-ну, что там?
— То, что сохранилось от библиотеки Анны Ярославны, королевы французской, сударь!
Александр Иванович недоверчиво глянул на хозяина и скептически усмехнулся:
— А была ли такая библиотека?
— Была, извольте знать. Когда выходила замуж за Генриха Первого Французского, с приданым увезла. А потом пополняла. В семье князя Ярослава Мудрого очень почитали книги. Это, поди, известно и тебе?
— Известно, дорогой мой дипломат. Даже очень хорошо известно. И об Анне Ярославне, и о библиотеке Ярослава Мудрого… А вот то, что книги Анны во Франции сохранились, читать не доводилось.
— Сохранились, к счастью. И вот почти через восемьсот лет вернулись на родину. Каково?
Чувствовалось, что Дубровскому очень хотелось, чтобы его похвалили. Да и было за что.
Расчувствовался и Сулакадзев. Они молча обнялись, растроганно помолчали и отправились в столовую вылить за этот гражданский подвиг одного из них бокальчик-другой шипучего французского винца.
Несколько дней они неспешно, почти умилительно разбирали содержимое этой немалой коробки.
Пока только разобрали, изучать будут потом. Это дело не одного года.
— Однако, извольте знать, это еще не все. Есть еще одна… скажем так, вещь. В эту коробку не вместилась, пришлось уложить в две дополнительные, — снова похвастал хозяин. — Заранее уверен, это поразит тебя.
— Даже так? Столь велика?
— Не в величине дело, хотя и не мала, друг мой!
— На пергаменте? Папирусе? Бумаге?
Дубровский не спешил раскрывать свою интригу и только лукаво покачивал головой.
— На славянском? Русском? Латыни? Ведь во времена Анны ученая Европа пользовалась именно латынью.
— По-моему, все же на русском. Только на очень-очень древнем. Еще дохристианских времен. Я почти ничего не понял.
— Русская? Языческая?! — вскричал бывалый археограф и антиквар. — Не верю! И никогда не поверю!
Пока Петр Петрович развязывал шнуры на одной из коробок, Александр Иванович возмущенно бегал по комнате, шарахался об шкафы и стулья, оскорбленно поблескивал очками и все причитал:
— Не верю, не верю и не поверю ни-ког-да!
Устав бегать, сжалился над хозяином, — приобнял за плечи, усадил обратно за стол.
— Не надо, уважаемый дипломат, многоопытный политик и не очень опытный антиквар. Весьма сочувствую тебе и сожалею. Эти канальи французы на сей раз крепко тебя, говоря по-русски, облапошили. Но, как не раз сказывалось, и поп — не без греха. Успокойся и смирись. Тем более что ты и без того совершил великое для России дело. Она этого не забудет.
Между тем Дубровский молча продолжал свое дело. Пошуршав с минуту чистейшей оберточной бумагой, он достал наконец что-то плоское, прямоугольное и, снисходительно, превкушая свою победу, усмехаясь, протянул это плоское другу.
— Изволь взглянуть сам. Увеличительное стекло подать?
Александр Иванович язвительно усмехнулся:
— Это что? Дерево?
— В те времена папирус в России не рос. А шкуры животных нужны были на шубы: климат у нас, извольте знать, очень уж не средиземноморский… Вот и… на дереве. Вот так…
Это действительно была деревянная, легонькая от сухости пластина, а проще дощечка. По виду и в самом деле весьма и весьма стародавняя, даже тронутая жучком. Размером не велика, но и не мала: ладони в три в длину и ладони две — в ширину. С отверстием вверху, посередине. С не очень ровными горизонтальными линиями, как в школьной тетрадке. А под этими довольно хорошо различимыми линиями смутно угадывались какие-то знаки.
Сулакадзев достал чистый платок, бережно провел им по первой строке, легонько подул, сдувая невидимую пыль веков, и обессиленный опустился в кресло.
— Я, кажется, угадываю тут одно слово. И это слово «Влес»… Бог Велес…
Глава седьмая
Месяц травич[11] подходил к концу, а горечь на сердце Ягилы не проходила. Мало, мало русичей оставалось на отчих землях. Хуже того — покидая род, огнищане за малую мзду продавали свое подворье и поля эллинам и уезжали куда глаза глядят: кто к северянам, кто к киевским полянам, кто даже не зная куда.
Те, кто был на празднике Ярилина дня, еще держатся. Но пройдут житнич и венич[12], соберут с полей урожай, засуетятся и они. Как остановить народ? И главное, что стало мучить его, — надо ли? Может, действительно прав старый Орлан из рода Тавра, что прежде всем русичам следует сбиться в одну силу, чтобы успешно начать освобождать свои исконные земли? А сила потребуется немалая. Каганат хазар сейчас в завидном могуществе, вон как лихо побил болгар и мадьяр. Угорские и финские народы по Pa-реке и до гор Орала платят им дань пушниной и рабами (из своих же родовичей!); из недавних союзников, вынесших на своих плечах главную тяжесть войны с арабами, стали данниками и гордые северяне, а что уж говорить об иных?
Киевляне платили им дань мечами, ибо мастера сего дела известные. Теперь слышно, там варяги уселись — германы, что погубили Русколань нашу и Буса, князя антского с сынами его. А уличи и тиверцы добровольно стали союзниками Каганата, чтобы успешно противостоять разбойникам мадьярам.
Каково, а? Союзников ищем не среди своих, а меж тех, кто давно враг всем русичам! Почему? Не потому ли, что в сей день это надежнее? А на своих надежды нет оттого, что или не могут помочь, или не хотят, грызясь между собой. И ни Сварог, ни Перун не вразумят их.
Однако — только на сей день. А что будет с нами завтра, через десяток лет? Где тут истина, где искать правду, не идя по пути Прави?
Горько и больно Ягиле. Кому поведать о том? Разве дощечкам и тем, кому доведется их прочесть?
«…Русколань начали раздирать смуты, творящиеся на полудне, а борусы на полуночи многое претерпевали. А то ведь родичи не хотели, чтобы русские роды соединились в Русколань. Из-за того же две ветви именовались Великие и Малые Борусы. Не сурожцы назвали Сурож русским, а борусы. Правая борьба была таким образом неправой борьбой. И долгая вражда между родами раздирала борусов на части. Так борусы не могли же стать греками или скуфью в степи — те-то ведь желтые. А русы русые и голубоглазые, сильные. И не в Нави же шла война непрестанно, а разве ж на Суроже не было князей сильных, чтобы врагам грекам дать отпор, как и другим?!. (Теперь) ведь та Сурожь огречена и не будет вовсе русской… А греки нас хотели крестить, чтобы мы забыли богов наших и так обратились к ним, чтобы нам в порабощении быть. Поостережемся того, как престарое отцы, которые простерли Скуфь свою и не дали волкам хищничать об агнцах, которые суть дети Сурьи…»
Что бы он сказал сурожцам своим, будь они в силе и на родной земле? Можно же представить себе, что собрались они на большой площади или сошлись на просторном лугу послушать его рассказы о древней славе русичей, о героях вроде боярина Сегени и князя Белорева, бивших готов у Воронженца, а затем и вернувшихся вместе с Гуларехом.
Печальные и радостные были бы эти рассказы. Печальные, сквозь стиснутые зубы, — потому, что сто раз Русь погибала и сто раз возрождалась вновь. А радостные оттого, что огромными жертвами народа все-таки возрождалась и опять сияла красотой святая Русская земля.
Рассказал бы Ягила своим родичам-сурожцам, как бились за их жизнь и волю удалые русские князья Криворог и Бравлин. Смело бились, победно, но почему-то всегда не доводили дело до конца. Воинам Криворога откуп дали немалый, еду-питье на многих возах привезли, вот они прежде времени пир и учинили. А ночью пришли эллинские сыны в бронях и многих упившихся посекли…
О походе князя Бравлина по всему побережью Таврики до сих пор в людях живет молва. По всем эллинским городам и поселениям от Хорсуня до Корчева[13] прокатилась тогда русская слава. И опять доверился молодой князь писаным и неписаным договоренностям и заверениям коварных торговцев. Побыл какое-то время в освобожденном Суроже и вернулся в свои пределы, возвратив греческим попам драгоценности их храмов. Прадед Ягилы Мечислав был в его войске. В память об этом остались его меч и щит. А на родовом погосте — небольшой курган и белый камень с именем героя. И было то в 790 году.
«…великая обида нам, потому как храни сурожские захвачены врагами, и Боги наши, во прах брошенные, валяться должны. Вот ведь, нет у русичей силы одержать победы над врагами. И вот, рванье у нас, как у странника, который ночью идет по лесам и порвал свою одежду на куски. Так же рванье у нас, русичи, на русском теле. И не заботимся мы о том, и тщимся на хранях славить богов, которые не приемлют жертв наших, ибо оскорблены нашей леностью. Не Птица ли Матерь Всеслава славу речет нам и просит нас от них отцовскую славу защитить? И нет у нас дерзости встать на рать, да и мечами своими брать землю нашу, врагами отобранную. Вот ведь тысячу и триста лет храним мы святыни наши, а сегодня жены наши говорят, что блаженны мы и потеряли разум, и есьмы как какая-то овца малая перед теми. И не смеем мы надеть оружие и мечом разить врагов наших…»
«…Се, видел я сон в Нави: и вот огонь во облаках; и исходит из них Змий удивительный, и окружил землю, и потекла кровь из нее, и он лизал ее. И се, приходит муж сильный и разрубает Змия надвое, и становится два. И разрубит еще — и станет четыре. И се, муж возопил к богам о помощи. И они пришли на конях со Сварги, и они змиев убивают. Ведь сила та не людская, а черная. И се, змии-то суть вороги, идущие от полудня. Вот ведь, Боспору досталось то, что деды наши ратями отвоевывали… Надобно нам сражаться и животы положить за землю нашу. А она ведь тянется от нас до полян и дреговичей. И русы простираются до моря и гор, до степи полуденной, и все это — русы. И от русов только есть у нас помощь, потому что как Даждьбоговы внуки они суть. Молимся мы Питару Дию (Отцу-Небу), потому как он низвел огонь, который Матерь Всеслава приносит на крыльях своих Праотцам нашим. И ее песнями воспеваем мы возле кострищ вечерних, где рассказываем старые слова славы нашей у святой седьмицы рек наших[14], где города отцов наших были… Те же (враги) творят иное, чтобы нас от старых давностей отвратить. И это я вижу и руку держу вам, чтобы вы ведали, что суровый день грядет и крови хочет. И ее прольем на землю свою русскую… Се, Русского города камни вопиют нам, и надобно идти нам и встретиться со смертью… Почти меня, сыне, и умри за нее…»
Вот что сказал бы Ягила своим землякам-сурожцам, если бы смог посмотреть каждому в глаза.
Глава восьмая
Вот и сенич[15] наступил, даровал его Даждьбог огнищанам. Все в огороде у Благи растет, наливается, зелень уже в трапезу идет. Радует и поле, куда Ягила с Добрецом наведываются едва не каждый день. Пшеница ровная, по пояс, уже колос выпускает, — по всему, урожай будет добрый. Хватит на еду, и на семена, и в запас — на случай возможной засухи в будущем. Слава богам, такое случается нечасто.
В саду — свое. Вишня с черешней уже окрасились алостью, они тут первые. За ними — слива и груша, а там и ранние яблони одарят хозяев своим подношением. Винная ягода поспеет попозже, ну а самыми последними — яблоки осенних сортов, зимняя радость садовода.
Казалось бы, чего тужить-печалиться, когда такая благодать вокруг? Но Ягила, порадовавшись вместе со всеми, все чаще становился молчаливым и хмурым.
— Какая туга гнетет тебя? — не раз спрашивала Блага, пытаясь отвлечь его от тяжких мыслей. — И все молчишь, молчишь. Чего так?
Ягила был краток:
— Когда по делу — не молчу.
— Ты сейчас больше писалом разговариваешь. С досками своими.
— Не с досками — с людьми.
— С какими?
— До кого реченым словом дойти не могу. Тяжко это, сестрица Блага.
А в то утро он заговорил первым.
— Ты, Добрец, истопи-ка к полудню мовницу. А тебя, Блага, прошу — приготовь что получше к трапезе. Меня не будет пока. В Сурож отлучусь.
Те, не смея расспрашивать, тревожно переглянулись.
— Голос отца Заряна слышал. Рек что-то, звал…
Оседлал коня и уехал. Поспешая, как мог спрямлял путь и, уже подъезжая к городу, обогнал медленно бредущую по пыльной дороге вереницу людей. Присмотрелся — ну да: на торг ведут, в кабалу. Для того и вервием все повязаны, не убежишь.
С какого-то времени это стало тут привычной картиной. Примирившись с мадьярами, хазарские купцы стали чуть не задарма скупать у них пленных и вывозить их на эллинские и азиатские рынки. Вот и сейчас, поди, у причалов уже стоят корабли, ждут свой живой товар.
Как привыкнуть к тому? Особенно когда видишь: славян ведут, братьев русичей — молодых мужчин, женщин, отроков. Как можно лишать человека воли? Боги создали его свободным. Это скот можно продавать и покупать, для того он и предназначен, но ведь люди — не говяды!
Иной раз руки так раззудятся, что готовы взяться за меч. А может, так и надо? Не в одиночку, конечно, но далее одного десятка добрых молодцев хватило бы, чтобы наскоком изрубить крепких мужей. А мечи в каждом доме хранятся — еще знаменитой антской стали и с недавних времен князя Бравлина.
Через некоторое время догнал и медленно объехал еще одну такую же вереницу. У самого моря — еще одну. Где кончится их путь? Из Сурожа через море доставят в греческую Амастриду, там распродадут местным купцам, а уж те знают, где какие цены на такой ходкий товар. И никогда беднягам уже не увидеть ни родной земли, ни родных лиц.
Амастрида — порт на южном берегу моря, один из процветающих и проклинаемых центров работорговли. Ненавистный, змеиный город, пьющий человеческую кровь. Таких мест немало и за Фарсийским[16] морем, в странах Халифата. Особенно ценятся там славянские женщины, а молодых мужчин и юношей обращают в солдат. Говорят, у тамошних князей и царей вся личная охрана из русичей и славян.
Давно ли Бравлин Молодой, правнук первого, с большой ратью перейдя море, раскатал это полозье гнездо по камешку и заодно прошелся по всему берегу от Асских гор почти до самого Царьграда! Лет двадцать всего назад, а уж опять эта амастридская мерзость ожила. Как у змия отрубленная голова. Видно, начинать надо с другого гнезда — самих императоров!..
Прискакав в порт, Ягила прямиком направился к причалам. Первый корабль уже закончил погрузку и готовился к отплытию. Ко второму, щелкая бичами, чернобородые погонщики гнали новую партию будущих рабов. Что-то потянуло Ягилу туда. Партия большая, люди в ней все разные: угадывались печенеги, русичи-северяне, поляне, даже хазары. Последним, держась за толстую вервь, которой был связан со всеми, еле тащился изможденный старик в рваной одежде, с метущейся по ветру седой бородой, с разбитыми в кровь грязными босыми ногами.
Что-то остро дрогнуло в сердце Ягилы. Он слез с коня и, ведя его в поводу, пошел рядом. Охрипшим вдруг голосом спросил:
— Откуда ты, человече? Кто?
Старик, шедший до того как в бреду, медленно поднял тяжелую голову.
— Сурожский… русич… я…
И тут глаза их встретились. Мгновенно выхваченный нож пересек веревку, и они, захлебываясь хрипами и слезами, крепко обнялись.
Один из погонщиков метнулся к ним.
— Ты что делаешь, горбун? Это не твой товар! Или хочешь поменяться с ним местами? Хозяин мой, думаю, согласится, а то этот больно уж плох.
Заслоняя отца собой, Ягила выступил вперед.
— Это мой отец. Это наша земля. Мы тут живем. Понимаешь, живем!..
От волнения и злости он забыл, что говорит с эллином, и повторил сказанное по-гречески. И еще добавил:
— Ни живым, ни мертвым я его вам не отдам. Это мой отец. Зови хозяина!
Откуда-то появился такой же чернобородый, широколицый с властным взглядом человек.
— Чего хочет этот русич?
— Хочу выкупить у вас своего отца, — глядя прямо в его влажные черные глаза, твердо сказал Ягила.
— Отца? — вскинул тот удивленные брови. — А сам в Амастриду не хочешь?
— Сам — не хочу.
— Вместо отца?
— Отца я выкупаю. Сколько?
— Ну… — развел руками искушенный торговец живым товаром. — Отец твой, конечно, немного староват… Но зато ученый. Дорого такие стоят! Дорого…
— Сколько? — стоял на своем Ягила. Подумав, тот назвал цену.
— Согласен. Вот мой конь. Он в два раза дороже. Бери.
Торговец принял коня, корабль отошел от пристани, а они — отец и сын — еще долго стояли, крепко обняв друг друга. Так крепко, словно боялись опять расстаться, словно еще не верили, что все тяжкое позади и они опять вместе.
Чувствуя, как отец от слабости начинает оседать в его объятиях, Ягила бережно усадил его на землю и сам присел рядом. Как же они доберутся с ним до дому, ведь коня у него теперь нет? Путь тут немалый, для него здорового на полдня, а для отца в таком его состоянии вообще невозможен.
Подумалось и тут же забылось. Другие, радостные чувства вытеснили горестные мысли, — вернулся же! Вот он, отец, рядом! Чуяло сердце-вещун, что дух его где-то тут. Это он его позвал. Не почудилось, нет: этак живо, его голосом покликал, вьявь… И он опять обнял отца.
И еще раз повезло Ягиле в этот день. Возвращался с торжища старец Орлан с сыном, подвез. До самой Священной рощи. А там уж на руках донес.
Мовница встретила их ласковым влажным теплом, настоянным на молодых дубовых вениках и травах. Долго и заботливо, как младенца, отпаривал и мыл Ягила отца. Тот и в самом деле так исхудал, так высох телом, что если бы не борода, сошел бы за отрока лет десяти. Хорошо, что успел ко времени, иначе увезли бы его эти чернорылые душегубы в свою кабалу. А скорее всего и не довезли — умер бы в пути.
Совсем разомлевший от слабости и тепла отец попросился в дом. Подоспевший Добрец завернул его в сухую холстину, легко поднял и отнес на постель. Когда из мовницы вышел и Ягила, тот уже спал. Обеспокоившись, он склонился над отцом — жив ли? Тот дышал тихо, совсем по-детски, и лик его был спокоен и умиротворен: видно, и во сне радовался — дома!..
Трапезничали одни.
Ягила горячо поблагодарил богов за помощь в избавлении отца от кабалы и возвращение его в семью, принес им жертвы, и они приняли их.
Добрец и Блага ерзали на лавке в нетерпении скорее узнать, как все это произошло. Но старший молчал, сосредоточенно очищал от снеди миски и, лишь покончив с обедом, радостно улыбнулся:
— Вот ведь как любят нас наши светлые боги! И в долгих мытарствах сберегли нам отца, и знать дали, что тут, что надо спасать… Наверно за верность нашу.
— Где же он пропадал столько лет? — задумался Добрец. — Целых семь… Не иначе где-то очень далеко.
— Отдохнет, придет в себя — расскажет. Не будем торопить, — кивнул ему Ягила. — Пусть сначала окрепнет, а то в нем одна душа осталась.
— А сказ, поди, будет длинный, — поддержала его Блага и нежно посмотрела на Добреца. — Семь лет — это вам не на торг съездить. И не баснь[17] занятная, а жизнь.
— По всему, тяжелая была эта жизнь. А с тобой, Добрец, у меня разговор есть. Пойдем в сад.
Устроившись в густой тени под яблоней, сели на старую щербатую лавку, и Ягила стал рассказывать, что видел сегодня по дороге в Сурож и в порту его. Эти ненасытные эллины с хазарскими иудеями превратили их родной город в позорный торг людьми. Корабль за кораблем уходят через море в Амастриду, где их перепродают другим. Надо отвадить этих гнусных торгашей от Сурожа. Не для того построили его их пращуры. И отвадить можно, если иметь бесстрашное сердце и крепкие мечи.
— Подумай об этом, брат. Ты у нас воин, через большие сечи прошел, тебе это с руки. А потом потолкуем вместе. Только чтобы ни одна живая душа… понял?
— Подумаю, брат. Горячая мысль твоя по сердцу мне.
— Да будет тебе советчиком бог Перун!
Глава девятая
По совету друзей Петр Петрович Дубровский создал у себя в квартире нечто вроде музея, где каждое вывезенное из Франции приобретение заняло свое достойное место. Расставаться с чем-либо пока не хотелось, так все было дорого, так прикипело к сердцу. Хотя понимал, что быть обладателем всего этого богатства лишь ему одному слишком уж эгоистично, не по совести: не для себя одного старался. Одержимым накопителем-коллекционером или корыстным торговцем-антикваром он не был.
Теперь почитатели и знатоки старины бывали у него часто. Профессиональные ученые, искренние библиофилы, любители всяческих искусств, просто высокообразованные люди — все находили в его музеуме что-то для себя интересное.
Петр Петрович водил их от экспоната к экспонату, любовно представлял свои древности, особенно книги из библиотеки Анны Ярославны, и не уставал напоминать:
— Все это, господа, еще не изучено, не истолковано, многое не переведено. Впереди работы непочатый край. Подождем, потерпим. Чует мое сердце, что со временем нам откроется такое, что наши историки не раз ахнут.
Кто-то посоветовал хотя бы часть коллекции передать в Академию наук, в государственное хранилище и сам тут же спохватился:
— Нет, нет, Петр Петрович, ни в коем разе! Наши немцы это мигом проглотят. Разворуют и за рубеж продадут! Нет на них Ломоносова!
— Тогда, может, в императорскую библиотеку? — неуверенно сказал другой.
— Какая разница? Они же и там, как у себя дома. Выгребли все ценное, ищи теперь!
— Ничего никому никуда не передавать! — на корню пресек этот разговор Гаврила Романович Державин. — Богатства сии принадлежат России, и мы все за них в ответе. Перед будущим. Спасибо тебе, голубчик Петр Петрович, за труды твои.
Слух о «бесподобном музее» Дубровского прошел по всей столице, и народу к нему повалило столько, что он испугался. Особенно насторожило его настойчивое внимание к своей библиотеке и к собственной персоне господ из Святейшего Синода. Церковь, как известно, изначально враждебно относилась к язычеству, безжалостно и невежественно уничтожала все связанное с ним, а тут столько как раз такого, древлеотеческого! Не приведи господь, засунут свой длинный нос поглубже, или, хуже того, подошлют кого из понимающих! Да и немцы наши тоже себе на уме.
Поделился своими опасениями с Державиным. Тот вальяжно отмахнулся надушенной ручкой:
— Не изволь волноваться на сей счет, любезный Петр Петрович. Пока я министр юстиции и член Государственного Совета в сей империи, да и пиит, богами пожалованный, никто обидеть тебя не посмеет. Но и ты зри, зри, не беспечествуй, ибо сам главный ответчик тут!
Петр Петрович несколько успокоился такой высокой опекой, но доступ в свою квартиру все-таки приужил: мало ли что. А потом здесь стали собираться члены общества «Беседа любителей русского слова», все господа важные, известные своей ученостью и близостью ко двору, так что он успокоился окончательно. Наряду с Державиным, Карамзиным, Строгановыми, Воронцовыми, Неклюдовыми, Сухтеленом, Сулакадзевым членом этой «Беседы» стал и он.
И все-таки через несколько лет гром грянул, хотя и грозовых туч в небе вроде бы не было. По чьему-то злому навету его опять изгнали со службы, намекнули на ссылку. Не помогло на этот раз и заступничество Гаврилы Романовича, ибо ни министром, ни членом Государственного Совета тот уже не был. Как жить дальше, на какие средства содержать семью?
Срочно пригласил к себе на чай Сулакадзева. Тот явился, встревоженный:
— Что-то случилось, Петр Петрович?
— Случилось, извольте знать… Опять не угодил кому-то, места лишили, — тяжко вздохнул тот. — А жить как-то надо…
Помолчали, позвенели ложечками в стаканах.
— Слишком много шума с твоим музеумом получилось. Не поделился, не уважил. Уж очень большие аппетиты у многих на твои манускрипты.
— Знамо, у кого… Что бы ты сделал на моем месте?
Сулакадзев долго озадаченно молчал.
— Ну, друг любезный, говори. На твое слово я очень надеюсь, плохого не посоветуешь.
— Тяжко мне это слышать. Еще тяжелее говорить…
— А ты все-таки скажи. На твои слова я не обижусь, знаю тебя: от чистого сердца слова будут.
— Ну, тогда послушай. А решать тебе самому…
И они решили: все менее значимое, вроде переписки, отдельных свитков и листков, предложить императорской библиотеке. И не в подарок — пусть выкупают, ведь и он в Париже выложил за них немалые деньги. Ну а главное, поистине бесценное, староотеческое приватно предложить самым надежным и близким друзьям — Строгановым, Неклюдовым, к примеру. Пусть хранят до лучших дней. На них надеяться можно.
— Золотые слова, друг! Ну а сам ты что-нибудь взял бы? Из этого/
Александр Иванович протер чистым платком очки, походил по комнате.
— По совести скажу, жалко мне обирать тебя, отрывать от сердца любимое. Но и в накладе не оставлю…
— В этом не сомневаюсь, хоть и больно.
— И мне тебя жаль, а сокровищ твоих еще, извини, жальче. Ведь растащить могут, ищи потом по всему свету. А ведь все это — наше, о нас, о древностях наших славных. Потеряем их — лишимся части себя, части своей истории, памяти. А народ без памяти… сгоревший костер без огня.
— Садись, приготовь список.
Щедро по-дружески расплатившись, Сулакадзев в ту же ночь перевез свои покупки к себе в дом и до времени запер в отдельной якобы не жилой комнате.
Когда в доме никого из посторонних не бывало, он уединялся там, раскладывал особенно волновавшие его вещи, бережно открывал то одну, то другую, постепенно проникаясь их древностью и тайной. Кто, когда и где создал их, вложив в эти строчки свое знание, свою радость или тревогу, что хотел донести до нас, своих далеких потомков? И поймем ли теперь друг друга?
Некоторые тексты, приложив свой немалый опыт археографа, он начинал понимать. Они были помоложе возрастом и к тому же на привычным уже старославянском. Иные, без сомнения, носили церковный характер, однако не все. Эти, даже видя знакомые буквы, прочесть и понять он был не в состоянии.
Решил не торопиться и для начала составить каталог своей новой коллекции, а затем и всей библиотеки. Для «книг непризнаваемых, коих ни читать, ни держать в домах не дозволено», выделил в своем «Книгореке» особый подраздел.
Любопытные древние редкости собрались в этом подразделе. «Криница, IX века… о переселениях старожилых людей и первой вере», «Молнияник», «Лоб Адамль, X века, рукопись смерда Внездилища, о холмах новгородских, тризнах Злогора, Коляде вандаловой и округе Буривая и Владимира, на белой коже», «Коледник V века дунайца Яловца, писан в Киеве, о поклонениях Тройским горам, о гаданиях в печерах (пещерах) и Днепровских порогах русалами и кикиморами», «Волховник… рукопись VI века Колота Путисилы, жившего в Русе граде в печере», «Поточник VIII века, жреца Солнцеслава», «Путник IV века», «Перуна и Велеса вещания в киевских капищах жрецам Мовеславу, Древославу и прочим…»
А вот это нечто совсем особенное! «О Китоврасе, басни и кощуны… На буковых досках вырезано и связано кольцами железными, числом 143 доски, V века на славянском», «Патриарси. Вся вырезана на буковых досках числом 45… Ягилы Гапа, смерда, в Ладоге IX века, о переселенцах варяжских и жрецах и письменах…»
— Имена-то какие! Яловец, Колот, Солнцеслав, Путисила, Мовеслав, Древослав, Ягила… Ни одного христианского. Истинно русские, древние… — восхищался Александр Иванович.
Задумался о Ладоге. Не растет в Ладоге любящий тепло бук, не растет. Однако дощечки-то буковые. Тут что-то не так: или не в Ладоге писано, или дощечки из другого дерева. Ну ладно, будущие исследователи прояснят и сию загадку.
И опять задумался. Как уберечь все это от жадных загребущих рук иноземцев и бдительных церковников? Сам он человек истинно православный, самому в себе сомневаться не приходится, но он еще и ученый, любящий свое Отечество, пекущийся о его благе. Норманнистам-германцам, да и своим собственным, этого понять не дано. А аристократам-вельможам особенно выгодно, ведь почти все они Рюриковичи! Значит, все с них и началось, до них никакой российской истории не было. Не иначе — с неба свалилась наша Русь. И десять поколений славянских новгородских князей еще дорюрикова времени ничего не значат. А сколько было других княжеств? Кто их изучал, кто из нас, нынешних, их знает?
Тяжко стало на душе Александра Ивановича. Как, как уберечь, в чьи руки передать потом? Да чтобы не держать втуне, а изучать, публиковать, привлекать внимание новых исследователей, будить память народную!
— Господи, когда то еще будет? А надо — сейчас, сейчас!
Склонившись над листом, он перечел написанное, лукаво усмехнулся пришедшей на, ум мысли и твердо дописал: «в Моравию увезено». В случае чего пусть там и ищут…
Глава десятая
Несколько суток кряду проспал отец Зарян, приходя в Явь лишь для того, чтобы попить. И затем опять уходил в Навь своих снов, которым, казалось, не будет конца.
Чаще всего рядом с ним находился Ягила. Чтобы не терять время попусту, опять занялся дощечками. И вот он пишет. От усердия даже ус прикусил. И писало его острое послушно вырезает Иоанновы письмена под длинной линией, правда, не всегда ровной, потому что и волокна в древесине не ровные тоже.
Он уже полюбил это дело. Оно заменяло ему живую речь, общение с людьми, которых даже для малой беседы созвать становилось все труднее. И вот он пишет:
«…сердце наше кровоточит с утра до вечера. И ходим мы с вами и роняем слезы о судьбах жизни нашей. Они немо в тот час стонут, и так мы с вами знаем, что время придет, что на сечи должны мы ходить на врагов — греки то или гунны. А их-то мы должны охомутать и стреножить, чтобы не стало нам врагов как мерзости перед глазами нашими. Гуларех ведь заплатил за то, и мы должны принудить Хорсунь заплатить за слезы дочерей наших угнанных и сыновей, в рабство взятых. Плата ведь та — не серебряная и не золотая, потому как отсечь им головы — и на щепки покрошить… Матерь Всеслава[18] поет песнь ратную, и нам с вами надобно прислушаться к ней, чтобы нам не есть травы, скот наш грекам отдавая, а они нам — каменья, чтоб мы грызли… Они ведь нам говорят, что мы звери и рычим в ночи, страх наводя на людей… Вопросят нас народы, кто мы, а мы с вами расскажем, что мы люди, нет у которых собственной страны, а правят нами греки и варяги. Так и что ж расскажем детям нашим, которые будут нам отвечать плевком в глаза — и правы будут?» Проснувшись, отец опять попросил пить, и Ягила напоил его крепким куриным отваром. Перед тем, как снова закрыть глаза, тихо спросил:
— Как вы тут, сыне, без меня жили?
— Всяко, отче. Все тебя ждали… А ты где побывал? Что повидал?
— Много чего… И на восходе солнца, и на закате… И на полудне, и на полуночи… И везде одинаково — войны, вражда, гибель… Лютая ночь Сварога наступила, что продлится аж до… Отвернулись от людей боги…
Уронил голову на подушку, закрыл глаза и опять ушел в свои навьи сны.
— Стало быть, повсюду как у нас — усобицы, распри, — горестно вздохнул Ягила, — оттого и ночь эта… И злобство везде…
Взял новую дощечку, обтер рукавом невидимую пыль и снова зашоркал железным писалом.
«И так промежду русами содеялась распря и усобица. И Жаля встала между ними и стала плакать и выговаривать, да не идем за такими, потому как там будет погибель наша, и дождемся так той поры, как от нас не будет ничего. Вспомним же о том, как во времена Орея Отца был Славных род един. А после Орея Отца его три сына разделились натрое. И стало так же с венедами и русколанами, что разделились надвое. То же и с борусами, что разорвались надвое — так нас уже почти с десяток будет. Почто же гряды городить и огороды устраивать, коли нам делиться до бесконечности? Ведь Русь единая-то только может бороться и побеждать, а не десятки… А как враг напал на нас, должны обороняться мы, а не говорить, какой отец у вас (и у нас). Есть ли коров с десяток хоть, и пропади из-за врага хоть сколько, то ищешь их. Ты ведь есть и пребудешь в Роде до твоего конца… Матерь Всеслава бьет крыльями и на сечу нам идти речет. И надобно идти, и не до кушаний-еды, лакомого сала — пусть придется спать нам на земле сырой и есть зеленую траву, покуда не будет Русь вольной и сильной».
«Вот прилетела к нам и села на дерево и поет Птица, и всякое перо — иное, и сияют разные цвета. Стало в ночи как днем… И та птица Солнце-Царь не есть, а она от Того начала быть… И бьет ведь крыльями Матерь Всеслава и поет песнь к сече. Бивались мы с врагами. Так вспомним же о том, каковы Отцы наши ныне во Сварге синей и глядят на нас, и хорошо усмехаются нам. И так мы не одни с Отцами нашими. И подумаем о помощи Перуновой, и видим вот, как скачет во Сварге Вестник на коне белом. И он меч воздвигает до небес и разгоняет облака, и гремит гром, и течет вода живая на нас. И пьем ее, ибо она в любом случае от Сварога до нас жизнию течет. И пьем ее как источник жизни божеской на земле… Так чуй, потомок, славу ту и держи сердце свое о Руси, которая есть и пребудет нашей землей…»
На следующий день отец, вот так же очнувшись, попросил есть. А увидев сына с дощечками, просиял ликом:
— Иоанновым письмом пишешь? Не забыл наказа моего?
— Стараюсь, отче. Много уже нарезал. Прочесть что-нибудь?
— Чти, сыне, чти! Очень того жажду!..
Ягила перебрал свои дощечки, взял две и, поначалу смущаясь, стал читать:
«То ведь Матерь Всеслава поет во Сварге о подвигах ратных. И пойдем от домов своих и бросимся на врагов, чтобы дать им отведать русского меча. Сеча ясная речет, что не надобно нам другого делать, а лишь идти вперед. А «назад» не должны мы говорить, потому как нет у нас задов, а есть только переды. И быстро пойдем, кто быстро идет, быстро имеет славу, а который потиху идет, то вороны на него каркают и куры квохчут… И это — другим научение, чтобы знать, что Правь есть с нами, а Нави не боимся мы с вами, потому как у Нави нет силы против нас… Вот ведь Матерь Всех бьет крыльями о трудах ратных и славе воинам, которые испили воду живую от Перуницы в сече жестокой. И та Перуница летит к нам, и она рог дает нам, полный воды живой для жизни вечной герою нашему, который меча вражеского получил, а голову отрубленную потерял. Так смерти нет у нас таким, но жизнь ведь вечная…»
Посмотрел — слушает ли отец. Тот лежал тихо, смежив веки, будто опять уснул. Но не спал.
— Чти, сыне, чти. Я слушаю, как ту воду живую пью…
И Ягила опять стал читать:
«…А умрет — и на луга Свароговы идет, а тем Перуница речет: «То ведь не кто иной, а Рус-герой, а не грек и не варяг, а славный[19] роду славного». И он идет вслед за пением Матеревым, Матери Всех Наших, на луга твои, Свароже великий! И речет ему Сварог: «Иди, сыне мой, к красе этой вечной и там узришь ты своих деда и бабку. А они-то в радости и веселии тебя узрят. Плакали они много доныне, а теперь им будет возрадоваться о жизни твоей вечной до конца концов». А краше того, что там, мы не ведаем… И так дойдем до Рая нашего и узрим цветы прекрасные и деревья, и луга. И нам свивать снопы, на полях тех жито убирать и ячмень веять, и пшено-просо собирать в закрома Сварожьи. То ведь богатство иное, потому как земное было во прахе и болезнях, и страданьях, — и да будут мирными дни его вечные. А мы остаемся на месте его и бьемся сурово, а падем со славою — туда пойдем, как тот. Вот ведь Матерь Всеслава бьет крыльями по бокам обапол[20], как возжженная, сияет светом нам. И всякое перо иное: красное, синее, голубое, желтое и серебряное, золотое и белое. И она ведь сиять, как Солнце-Царь, умеет и вокруг идет посолонь[21]. Она ведь светит семью красками, которые заветом о богах наших стали. А Перун, ее узрев, гремит в небе ясном. Она ведь — наше счастье, и так нам надобно всю силу отдать, чтобы мы увидели то же и отсекли старую жизнь нашу от новой, как рубят дрова в доме огнищанина простого…»
Дочитав и эту запись, Ягила умолк. Стал ждать, что скажет отец Зарян. Но тот долго не отзывался, должно, опять в сны ушел, решил Ягила, но старец не спал. В широко открытых его глазах стояли чистые слезы любви и умиления.
— До чего же красив, сыне, язык наш русский! Я на многих реку, многие понимаю, но другого такого не ведаю. На нем, думаю, боги на небесах говорят. — Помолчав опять, с чувством добавил: — А какая вера у нас светлая! Сколько в ней доброты, человеколюбия, мудрости. И опять же — красоты. Нам не нужно составлять с Творцом какого-то ряда[22], как это делают иудеи и идолопоклонники-язычники: «Дай нам, Бог, то, а мы тебе это!» Мы славим их, как своих родичей, оттого и славяне. Оттого еще, что Матерь Всех Наших — Всеслава. И никого наша вера не пугает, как у христиан — адом, и не подвигает на жестокости и захват чужих земель, — как у сарацин-магометан. Для нас и смерть — праздник. Вот умру — не плачьте и не скорбите, а пойте и веселитесь. Я ведь к праотцам своим ухожу, в Сваргу вечную!.. Святым путем Прави.
— Так и будет, как с любым из нас. Но мы еще поживем, отче. И здесь, на земле, еще попоем славы своим богам-родичам. И ты нам расскажешь, что приключалось с тобой в дорогах, как живут наши и иные племена.
Ягила отодвинул свои дощечки к стене и, видя, что отец еще слаб для долгих бесед, поправил его постель, убрал посуду и вышел на крыльцо, сидя на котором, что-то тихо обсуждали Добрец с Благой.
С той поры, как тот вернулся из Империи, они очень сблизились. Может уже слюбились. И это было бы хорошо, если бы глупое сердце при мысли об этом не плакало горькими слезами.
Глава одиннадцатая
Годы странствий сильно порушили здоровье Заряна. Не странствия сами по себе и не годы, а то, что пришлось пережить. Когда наступало некоторое облегчение, он говорил и об этом. Но очень коротко, бегло, откладывая подробности на потом.
Между собой Ягила, Добрец и Блага договорились ничем плохим не тревожить отца. Умолчать даже о том, что не стало его среднего сына и что сурожцы покидают родные края. Человеку и так плохо, Мара уже за порогом стоит, того и гляди в Навь уведет. Зачем усугублять его боли и страдания?
Из его скупых, случайно оброненных слов они узнали, что отец побывал у полян и в их Киеве. Отметил, что уж очень возносятся эти поляне, кичась своими великими предками — Орием, Кием, Кисеком, будто те только их пращуры, а не всех русичей. Окрестные славяне для них чуть ли не дикари.
О Северской земле сказал тоже очень мало, но с похвалой. Мол, городов у них много, больших поселений, разных дел мастеров. Но излишне горячи. Не надо бы им с полянами за первенство тягаться, если Русь единую иметь хотим.
Когда был у живущих по Pa-реке угров, напал хазарский отряд. Селение пожгли, людей и его вместе с ними угнали в полон, увезли за Фарсийское море и продали.
Целый год месил глину, лепил кирпичи, строил.
Потом его опять продали, это уже у ириан. У одного хозяина пас скот, у другого — снова продали! — копал каналы, чтобы вода на поля шла, опять лепил кирпичи.
Потом с караванами ходил в Сирию. Там снова продали. Грузил в порту корабли. Бежал. Нанялся матросом к торговцу из Венеции.
Из Венеции перебрался к венедам на краю моря. Во многих их городах побывал. На пути к дому опять повязали. И хорошо, что повели не в Херсонес, а в Сурож. В Херсонесе Ягилы бы не было…
Вот такое выпало ему странствие. Оттого и длилось целых семь лет. Оттого и Мара за порогом стоит, с ноги на ногу переминается, в Навь торопит.
Ягила уже стал подумывать о домовине для отца, как вдруг тот поднялся. Сам вышел в сад, полакомился малиной и черешней, посидел в тенечке у крыльца. Вместе с Ягилой вознес хвалу Даждьбогу, выпил сурицы и стал рассказывать. Да так живо, горячо, с такими подробностями, что Ягиле вдруг показалось, что все это он видел сам. Сам побывал в тех далеких странах, о которых прежде доводилось лишь слышать.
Вот у самого гирла Pa-реки, там, где она делится на несколько широких протоков, стоит столица Хазарского каганата город Итиль. Прежде Ягиле думалось, что это просто скопище кочевнических юрт, а выходит, это большой город с прекрасными каменными дворцами вельмож, купцов и чиновников с садами и бассейнами. Дворец самого кагана находится на одном из островов, куда доступ даже почтенных людей почти невозможен. Это целый городок, и любоваться им можно только издали.
Лет сто назад хазарские каганы приняли новую, иудейскую веру. Если прежде при них находилась свита из князей тюркской династии Ашинов, то теперь это иудейские финансисты, купцы, военачальники и государственные чиновники. И уже не при кагане, а при царе-иудее, который стал главным лицом в стране. Кагана же они сохранили лишь для вида, потому что население привыкло к этой династии, училось у своих союзников тюрков воевать, ходило с ними в походы, делило славу побед и трофеи.
Прежде хазары не платили налогов, каган удовлетворялся данью с покоренных народов и военной добычей. Теперь же налоговое ярмо легло на всех. Вместо народного ополчения появилась профессиональная наемная армия. Недовольные такими преобразованиями тюркские князья и их дружины взялись за мечи. Разгорелась ожесточенная гражданская война, в результате чего тюрки были частично истреблены, частично ушли к мадьярам, с которыми новая хазарская власть тоже крупно повздорила.
Прошло совсем немного времени — и сильная военная держава превратилась в еще более сильное торговое государство. Воспользовавшись тем, что бесконечные войны с Халифатом прервали Великий Шелковый путь через южные страны, новые хазары проложили его севернее через свои земли и контролировали вплоть до земли франков. А это — немалые деньги.
Большие умельцы набивать свою казну, они создали целую систему, работавшую в условиях разобщенности соседних племен безотказно. С войнами не спешили. Первыми в новые места шли купцы, «знающие путь». Где подарками и подкупом, а где и угрозами они внедрялись в жизнь соседей, будь то северяне, вятичи, мурома, меря или здешние болгары. Следом, если требовалось, двигались наемники. Вскоре вокруг Хазарии не осталось ни одного свободного народа.
Когда на востоке опять начались войны и великий путь со знаменитым китайским шелком вновь пресекся, хазарские купцы и финансисты нашли для себя новый источник золота — торговлю «живым товаром», рабами. Теперь в Итиль шли обозы не только с пушниной, медом, «рыбьим зубом», но и с людьми, которых на восточных невольничьих рынках называли «товаром аль-Хазари».
Исчезла и прежняя веротерпимость Хазарии. Новые цари ее изгнали сначала христиан, потом последователей пророка Мухаммеда, а там принялись и за возносящих свои молитвы к Небу-Тенгри — огузов и печенегов.
— И как нам жить с таким соседом? — прервал отца Добрец. — Как раздавить сего мизгиря?[23]
— Всему свое время, сыне, — обронил отец Зарян и, торопясь, продолжал свой рассказ: — Вы ведь знаете, что славяне, кимры, скифы, сарматы, саки, ириане-иранцы, хинды, большой рассеявшийся народ хети[24] — братья от одной матери. Однако одно дело знать, другое — прикоснуться слухом, очами, сердцем…
Случилось Заряну попасть в дом одного состоятельного хозяина перса — вместе с еще одним рабом строил ему в саду летний дом. Хозяин часто приходил посмотреть, как продвигается их работа, и подолгу проводил время в саду. Иногда к нему наведывался его приятель из рода хиндов, они отдыхали за шахматной доской.
По всему, оба они были мужи ученые. Игра для них была лишь поводом для встречи, а встреча — для ученых бесед. Что такое шахматы, Зарян уже знал, и не они были для него интересны. Куда больше его занимала их речь, пересыпанная массой знакомых слов. Причем слов из его родного языка.
Как-то, заметив, что раб прислушивается к их разговору, хозяин заинтересовался, спросил:
— Ты что, аль-Хазари, понимаешь нашу речь? О чем мы говорим?
— Мне очень приятно, господин, — признался он, — что вы беседуете о наших богах. Ведь Индра, Вышень, Кришна — и наши боги.
Ученые переглянулись, еще более заинтересованно оглядели недавно купленного раба.
— Только мне непонятно, почему иные светлые наши боги у вас — темные дивы, демоны. Как могло такое произойти?
— Это у них они демоны, — блеснув ослепительно белыми зубами, по-приятельски поддел хозяина индус. — А вот у нас они как были богами, так ими и пребудут. А сам ты кто, из какого племени человек?
— Русич я… И, сдаетcя мне, что мы с вами родичи, если говорим и понимаем друг друга, знаем Веды и Авесту.
— Русия… Ариана… Сакалиба… — задумались ученые мужи, каждый поминая своих богов. — Как далеко разошлись наши пути. Сколько между нами веков, вернее — тысячелетий!..
— А вот корни остались едины. Как язык и боги…
Обилие общих, идущих еще от общего арийского языка слов, как Зарян потом подытожит, шло даже не на сотни, а на тысячи, начиная с простых бытовых и кончая сложными, религиозно-культовыми. К примеру: будить — будх, брат — братра, мать — мата, матри, своя — свака, тятя — тата, сноха — сноша, свекр — свакри, два, двое — два, двая, три — три, четыре — чатур, ведун — ведин, зима — хима, дать — да, дверь — двар, дева — деви, день — дена, дом — дам, еда — ада, живой — жива, мертвый — мрита, падать — пад, который — катара, этот— этат, твой — тва, грива — грива, ведать — веда… Вода, напитки — пива, пьющий — питух, глоток — пити… Боги: Бог — Бага, Бхага, Род — Рудра, Вышний — Вишну, Жива — Шива, Перун — Парьюна, Творец — Тваштар, Даждьбог — Дакша, Яр, Ярун — Арьюна — и так, кажется, до бесконечности.
Позже он узнает, что сохранили этот язык индийские жрецы, сделав его священным и тайным, доступным только для них, — санскритом. В таком первозданном виде он прошел через века. Тогда как язык хинди развивался и изменялся, как того требовала народная жизнь и законы самого языка.
После этого ученые часто приглашали раба-родича на свои беседы. От них он узнал, что много тысяч лет назад у них была общая родина и страна и были они одним народом. Об этой далекой родине, которая находилась где-то в глубине нынешней полуночи у великого океана, они до сих пор вспоминали с тоской. Считалось, что там было вечное лето, земля благоухала деревьями и травами, стада не знали счета, а люди — смерти.
Но вот что-то случилось: пришли невиданные прежде морозы, живая вода превратилась в мертвую, твердую как камень, а травы и деревья стали умирать. Как и люди, как и скот. И тогда оставшиеся в живых двинулись на полдень, к теплу.
Приятели пытались разгадать загадку: что это было? В одном из их древних мифов об этом говорится по-своему. Собрались, мол, вожди и племена на свой общий праздник, веселились, пели гимны богам — и вдруг свет померк, солнце пропало, подули страшные холодные ветры. Это из другой части земли прилетел злой черный дракон, украл их солнце и священных коров, навсегда заморозил эту чудесную землю.
Так ли, не так ли было, трудно сказать. Но что-то в самом деле произошло.
Однако по пути на полудень, к теплу или спустя много времени земли, которых они достигли, стали гибнуть от зноя. Из-за этого им пришлось повернуть обратно, не одну тысячу лет прожили они в обширных степях Оральских гор, на восход и запад солнца от них, на полноводной Ра-реке — в благословенной стране Ариана Ваэджо, специально созданной для них богом Ахурамаздой. От Арианы они и стали называться ариями.
Новая земля, не в пример прежней, оказалась более скупа на тепло, зато было много воды и трав для скота. Шли века, роды множились, порождали новые роды, и те заселяли новые земли.
Вначале все больше двигались вслед за солнцем, туда, куда оно уходило на ночь спать на цветущих травяных коврах. Когда населения накапливалось слишком много и земли для всех не хватало, уходили многими тысячами, благо места те после великих льдов еще не были заселены.
Новые волны переселенцев толкали ушедших раньше все дальше и дальше на запад, пока те не достигли края земли. Следом за ними шли новые волны, теперь уже с оружием в руках, потому что продвигаться приходилось с боями. Каждому для поселения хотелось самых теплых и удобных земель, а их оставалось все меньше. Вот и кипели бои, лилась кровь. Кровь братьев.
Огромные просторы заняли тогда арии. Эти просторы обеспечили их жизнь, но в то же время расчленили их былое единство, разорвали на отдельные группы, которые, обособившись, превратились в отдельные самостоятельные народы. Со временем они стали почти не похожими друг на друга и в конце концов забыли о своем родстве.
Первый крупный раскол произошел между теми, кто ушел из Арианы Ваэджо, и теми, кто остался. Общий язык и верование в каждой местности стали приобретать свои порой совершенно неожиданные особенности. В Европе их было довольно много и меньше в Азии: будущие хетты, индусы и иранцы. Славяне, дольше всех соседствовавшие с ними, после их ухода на юг тоже обособились, растеклись на отдельные народы и страны. А вот русы до сих пор подобающей им единой мощной державы не создали: уж слишком много терзали их всякие находники. И из числа ариев — тоже…
Слушать их Заряну было интересно. Он старался все понять и запомнить, потому что чувствовал: с этими знаниями жизнь его обретает какой-то новый смысл и значение. Оказывается, вон как далеко простерлись корни его народа, как он велик и древен! Ощутив это сердцем, даже раб смелеет во взоре, расправляет плечи. В такие минуты он забывал, что тут, в чужих теперь странах, он всего лишь «товар аль-Хазари».
— Далеко же ушли вы от нас, — вздохнул он сожалея. — А каким бы сильным народом были. Очень жаль, и мои славянские пращуры, думаю, тоже жалели, что потеряли столько братьев.
— Наверное, другого выхода не было, — размышлял ирианин. — Часть наших на боевых колесницах, гоня перед собой свои стада, ушла на закат. Но мы знали, что это опять — кровь, гибель, беда. А если бы двинулись всей массой? На своих братьев, о чем тогда еще помнили?..
— Когда же это было?
— Мы, нынешние персы-иранцы, ушли от Орала и земель Семи рек последними… две тысячи лет назад.
— А мы, хинды, — две с половиной. Хетты, самые близкие братья наши, еще раньше. Но и тут без крови не обошлось…
— Как же получилось, — все любопытствовал Зарян, — что кимры, скифы, саки и иные ваши братья не пошли с вами до конца? Остались в том же Семиречье, на Орале, на Ра-реке — почему?
Ученые мужи опять с пониманием переглянулись, помолчали, раздумывая, говорить ли. Печальная это история и случилась очень уж давно, почти забылась, — надо ли вспоминать? И все-таки ирианин решился.
— Был у нас великий жрец по имени Спитама Заратуштра. Когда двинулись на новое поселение, то ли чтобы взбодрить уставших от бесконечного движения сородичей, то ли так повелели ему боги, стал воспевать оседлую жизнь и славить труд земледельца. Это — среди кочевников, чьи обычаи тоже были освящены богами! Когда он и богами распорядился как-то очень уж необычно, единый народ наш раскололся. Те, кто не приняли и отвергли его новшества, не пошли за ним. Потом еще долго шли между нами войны.
— Наши предки кимры, скифы и иные не раз ходили сюда походами…
— О, у нас о них и сейчас еще помнят! Но к тому времени тут все уже переменилось. Мы стали совсем чужими…
Уходил от того хозяина Зарян благодарный. Не за то, что отнесся по-человечески, а за то, что открыл ему истоки его народа. Продал, а скорее всего просто передал другому хозяину тоже не без умысла. Тот его, конечно, не баловал, учеными беседами не занимал, зато свел со своим родственником якобы для работ в его саду.
Первый же день среди новых людей поразил его необычайно: тут, в центре многоликого мусульманского мира, он услышал живую славянскую речь. Поначалу решил не открываться, что понимает. Лишь через несколько месяцев как-то выдал себя, и не к худу: хозяева обрадовались, взяли к себе в дом, потому что лишь в семье могли говорить на родном языке.
— Откуда вы тут? — удивился Зарян. — Тоже — через кабалу?
— Не лучше и не хуже, — невесело улыбнулся хозяин. — Много лет назад, когда арабов тут еще не было и византийские императоры вели войны с персидскими царями, нас отправили сюда на бывшую тут границу… На поселение…
— Прости, брат, кого вас, откуда?
— Мы из славян, перешедших Дунай и где миром, где войной обосновавшихся на земле ромеев. Когда Византия поняла, что долго продержаться против персов не сможет, направила сюда нас — двести тысяч человек, семьями. Ну и… выстояли. Да так и остались тут, покинутые императорами.
— Как же так? — ахнул Зарян. — О таком у нас не слыхано. Знаем, как один арабский полководец увел в полон двадцать тысяч северян и, когда те взбунтовались, велел перерезать всех. Знаем, как румский император Юстиниан Второй вот так же переселил тридцать тысяч таких же славянских семей и сделал мужчин воинами. Те, понятно, перешли к персам и помогли им разбить армию ромеев. Узнав об этом, император приказал казнить все семьи «изменников». А вот про двести тысяч у нас…
— Наверное, потому, что мы честно исполнили свой воинский долг. А потом пришли мусульмане арабы, захватили не только Персидскую державу, но и все здешние страны, — куда идти? Решили, что так хотят боги. И стали мы мусульманами тоже. Но бережем свой язык, тайно чтим своих богов.
Именно эта семья помогла ему бежать в Европу.
Венеция была интересна ему тем, что полторы тысячи лет назад, а может и еще раньше, здесь жили венеды, одни из прямых предков славян и русов. Если верить преданиям и древним авторам, то они появились там после того, как пала их древняя Троя и вся ее округа с островами и городами.
На противоположенной стороне Апеннинского полуострова поселились родственные им этруски. Впрочем, это опять не самоназвание народа! Сами «этруски» называли себя расенами, и появились они тут тоже после разгрома ахейцами Троады.
В области, где прежде жили венеды и где они построили свою прекрасную столицу, Заряну встретился городок, ласково называвшийся Трояне[25]. А в Риме ему рассказывали, что именно этруски-расены заложили на знаменитых здешних холмах город Рим, были наставниками римлян в науках, искусствах, религии, различных ремеслах.
Но ни тех, ни других на полуострове давно уже не было. Их вобрала и растворила в себе великая Римская империя, которой — вольно или невольно — они передали все свои знания, исторический и государственный опыт, свою судьбу.
Там Заряну захотелось побывать у современных ему венедов, искать которых не было надобности, ибо в Западной Европе их хорошо знали.
Однажды, отбившись от каравана купцов, шедших к Венедскому. морю за янтарем, он оказался на земле кельтов, где германцы-франки создали свою большую державу.
Кельтов славяне знали. Бывали времена, когда, крепко усилившись, те двигались на восток — во Фракию, за Дунай, тесня славян на Карпаты. Случались сечи, но бывали и долгие годы мирного добрососедства, когда они помогали друг другу.
У кельтов никогда не было единого государства, а племен было очень много. Они то объединялись в союзы, то повоевывали друг с другом, чем весьма походили на славян. Кстати сказать, у каждого племени было свое название, а общее — «кельты» — им дали римляне за большую любовь их к боевым топорам-кельтам. А еще их звали галлами — по имени самого большого племени их.
Несмотря на такую разобщенность, кельты были высокоразвитым и деятельным народом. Они имели свою письменность, сложную религию и магию, хорошо знали пути небесных светил. У них была лучшая в Европе металлургия, керамическое дело, хорошо развитые ремесла.
Вся их страна была покрыта сетью прекрасных мощенных каменными плитами дорог. Незнающие говорили, что эти дороги построили римляне, — наоборот, по этим дорогам римляне пришли, чтобы огнем и мечом покорить эту большую и богатую страну. А потом явились германцы-франки, перемешались с кельтами и романцами, и из этой мешанины потом сложится новый народ — французы. А пока это было Франкское королевство, которое их король Карл Великий сделал еще одной европейской империей.
Далеко, очень далеко от Персии до Франции, да и от Руси не близко. Но и здесь Заряна не раз выручал бессмертный санскрит. Даже с той малостью, которой он овладел, ему всегда удавалось найти дороги, ведущие в края венедов. Когда он в земле саксов спросил о том же, его озадачили ответным вопросом:
— А тебе какая страна вендов нужна?
Зарян к этому времени уже ничему не удивлялся и хотел выбрать любую, потому что пока еще не знал ни одной, но тут послышались свист, крики, конский топ — и он бросился в придорожные кусты.
Когда вышел обратно, вокруг никого уже не было. Однако вскоре, катя перед собой груженную хворостом тележку, появился конопатый и босоногий отрок.
— Что это было? — спросил его Зарян.
Тот далеко не сразу понял, чего от него хотят. А когда наконец понял, крики, свист и конский топ послышались вторично, но теперь уже с другой стороны.
— Ха! — весело прокричал мальчишка. — Так это же люди Карла Лысого едут бить людей Лотаря! Или люди Людовика — людей Карла!..
— А до венедов еще далеко? — повторил свой вопрос Зарян, когда и этот отряд промчался.
— До вендов? А вон там они, за их Лабой! — Махнул рукой в сторону от дороги и покатил свою тележку дальше.
От реки Лабы[26] на восток пошли земли венедов, и на них — их королевства: ободритов, лютичей, вагров, лужичан, поморян, объединившие к тому времени десятки других славянских княжеств.
Народ один, а сколько названий, границ, противоречий! Так, в «союз»[27] ободритов, живших об Одре (по Одеру), входили как они сами, так и полабы (по Лабе), вагры, глиняне, варны. Лютичи-вильцы объединяли еще и хижан, черезпинян, долечан, ратарей. На острове Ругене (Руяне, Рюгене) находился знатный город Аркона со своим святилищем Святовита. На острове Волын — крупнейший город Волынь. В числе самых крупных городов широко известны были также Ретра, Вологощ, Щетин, Зверин, Рерик, Стариград, Дымин, Велиград, Коданьск, Ратибор, Бранибор, Прага, Микулин, Любиц, Ратенов, Премниц, Милов… В долине реки Гаволы жили гаволяне, стодоряне, по Луге — лужичи, по течению Доши — дошане, в городе Любуше и вокруг него — любушане… И это еще далеко не все!
После первого месяца странствий по этой земле голова Заряна пошла кругрм. Огромный край — от Лабы до Вислы, и как плотно заселен! Сколько больших поселений, сотни крупных городов, — настоящая Гардарика! И как они тут разбираются между собой? Неслучайно многие враждуют, не доверяют друг другу, соперничают. Во многом — как на Руси, только еще более серьезно и остро.
Заходил в их храмы, которые тут стали возводить, перенимая обычаи соседей-христиан. Красивые храмы, богатые. Ну а боги… Вряд ли такое богатство прельщает их. Не зря они тут такие сердитые. Не любят славянские боги роскоши и совсем не терпят человеческих жертвоприношений. А тут иные и Белобога на Черно-бога поменяли…
Мы, живущие совсем в другие времена, можем прочесть о них в хрониках германских монахов, в скандинавских сагах или в стихах тогдашних поэтов-скальдов. У Адама Бременского, к примеру:
«За страной лютичей, которые иначе называются вильцами, протекает река Одер… В устье ее (находится) славнейший город Юмне… Это поистине самый большой из всех городов, какие есть в Европе. Населяют его славяне и другие народы, греки и варвары. И приезжие саксы тоже получают равное право проживать вместе со всеми, если, однако, оставаясь там, не будут проявлять свою принадлежность к христианству. Ибо все они до сих пор блуждают неверными путями языческих обрядов. Впрочем, что касается нравов и гостеприимства, не найдется ни одного народа, более достойного уважения и радушного…»
Находился город на острове Волын (отсюда и его правильное название — Волынь) в устье Одры, на важном торговом пути. Такое его расположение было умело использовано и с оборонной, и с градостроительной точки зрения. Вот как рисует его скандинавская «Сага о йомсвикингах»: «…там был построен большой, хорошо укрепленный град. Часть его находилась на мысу и окружена была морем. Там была гавань, где могло разместиться триста шестьдесят длинных ладей, да так, что все они находились бы под прикрытием городских укреплений. Все там было устроено так хитро, что вход в гавань перекрывала большая каменная арка. На входе в бухту были установлены железные ворота, которые запирались изнутри. На вершине арки стояла башня, в которой были установлены катапульты».
В Волыни проживало почти десять тысяч человек — поморских русинов. Среди них было немало превосходных мастеров ремесленников, а местные купцы вели торг не только на родине, но и по всему Венедскому морю[28].
Да, наверное, действительно, другого такого города во всей Европе тех лет не было. Даже столицы Франции, Англии, Швеции в сравнении с Волынью казались лишь небольшими поселениями. Исключая, пожалуй, блистательный эллинский Константинополь.
Волынь слыла торгово-ремесленным центром поморян. Духовной же столицей была «мать городов поморянских» Щетинь.
Сам город располагался на трех холмах. Поднявшись на средний, самый высокий, Зарян оказался у роскошного храма-святилища, посвященного Триглаву. Если золотой Триглав волыньцев был невелик по своим размерам, то здесь он был воистину огромен. Правда, не из золота, а из могучего вековечного дуба. С тремя, разумеется, головами.
Осмотрев храм с сияющей золотом и драгоценными каменьями дарницей, с ярко раскрашенными деревянными барельефами вдоль всех внешних стен строения, Зарян не раз еще возвращался к главному кумиру щетиньцев — Триглаву.
Могучий трехголовый идол потрясал и подавлял его. «Триглав почитаем и у нас на Днепре, Дону, в Сурожской Руси, — думал он, с почтением и страхом всматриваясь в лица верховного божества. — Но наши боги скорее понятия, нежели вот такие кумиры, ибо мы не язычники-идолопоклонники. Что же здесь означают эти лики? Сварога, Перуна, Даждьбога? Их единство в одном?»
Спросил служителя. Тот удивленно оглядел незнакомца и сердито проворчал:
— Такое и отрокам знать следует, а ты старец уж — голова белая.
Узнав, что перед ним паломник из далекой Таврии, смилостивился, пояснил:
— Сия голова владычит над небом, сия — над землей, третья — над нижним, темным миром. Все мы во власти великого Триглава, русич.
В земле вильцев-велетов вместе с толпой местных ратарей он посетил Ретру и ее величественный храм, посвященный Радигосту Сварожичу, — «одно из двух величайших святилищ варяжской Руси».
Сам Радигост более походил на могучего воина, чем на бога. «Бог-воин, — определил для себя Зарян. — Как наш Перун». На голове бога-воина сиял драгоценный шелом с хищным соколом на маковке. На щите, как живая, красовалась, нацелясь острыми рогами в невидимого противника, мощная бычья голова. В руках — грозная священная секира.
При храме бога-воина жил и его боевой конь. Почитаемый, как и его хозяин. Вещий — значит, мудрый, пророчествующий. Белый…
А вот в Арконе, на острове Руяне (Ругене, острове Рус) с Заряном чуть не случилась беда. Но сначала — о самом острове и самом городе. Датский хронист-летописец Саксон Грамматик, так сказать, сосед балтийских славян, еще заставший некоторые из их княжеств и хорошо знавший эти места, отметил в одном из своих трудов: «Город Аркона лежит на вершине высокой скалы; с севера, востока и юга он огражден природною защитою… с западной стороны защищает его высокая насыпь в пятьдесят локтей…»
«Природная защита» — это стометровые белоснежные меловые скалы, на которые не подняться без специального снаряжения. В боевых условиях — тем более. Ну а «насыпь» — это, скорее всего, крепостная стена, возведенная там, где этих скал не было или где они обрывались не так круто. Старинные легенды гласят, что каждый новый претендент на здешний княжеский стол должен был вначале подняться с моря по этим скалам в город и что всегда таких смельчаков оказывалось не много.
И далее: «Посреди города лежит открытая площадь, на которой возвышается деревянный храм прекрасной работы, но почтенный не столько по великолепию зодчества, сколько по величию бога, которому здесь воздвигнут был кумир… В храме стоял большой, превосходящий рост человеческий кумир с четырьмя головами, на стольких же шеях, из которых две выходили к груди и две к хребту, но так, что из обеих передних и обеих задних голов одна смотрела направо, а другая налево; волосы и борода были подстрижены коротко, и в этом, казалось, художник соображался с обыкновением руян… Более всего поражал меч огромной величины, которого ножны и черен, кроме красивых резных форм, отличались прекрасною серебряною отделкою… Для содержания кумира каждый житель острова обоих полов вносил монету. Ему также отдавали третью часть добычи и хищения, веря, что его защита дарует успех. Кроме того, в его распоряжении были триста лошадей и столько же воинов, которые все добываемое ими насилием или хитростью вручали верховному жрецу… Этому кумиру давала дань вся Славянская земля…»
Об этом городе и его храме Зарян был наслышан еще в молодости, как и о не менее знаменитой Ретре с ее святилищем Радигоста. Слушал хожалых людей, паломников и не верил. Может ли такое быть? Что же это сделалось с братьями венедами? К добру ли?
И вот он здесь, почти целый год ходит по их земле, благодарно пользуется их гостеприимством и все гадает: чем венедское язычество лучше или хуже язычества древних эллинов и римлян? Те до времени тоже истово поклонялись своим богам, но под конец превратили это в поклонение искусствам, в которых показали себя непревзойденными мастерами. Мраморные идолы их — теперь уже отринутых — богов телесно прекрасны. Даже в тех осколках, какие ему довелось видеть. Им не молиться, а любоваться ими!
Кумиры венедских богов иные. Они явно не для любования. В основном мужские — суровые, грозные, даже звероподобные. Как и их седые длинноволосые и длиннобородые жрецы. Их союз — союз Духа и Власти. Но опять же — во имя чего? Верховные жрецы тут имеют больше власти, чем князья. Что повелят они, то и будет. Чего не повелят, того и быть не должно.
В тот день отмечался какой-то праздник. Местные жители с зажатыми в руках монетами и паломники с дорожными узелками за спиной столпились на плотине, ведущей к острову. Строгие распорядители наконец распахнули ворота, и робкие прихожане длинной молчаливой цепочкой потянулись в священный город. Перед храмом остановились.
— Приготовить дары и приношения. Не толпиться! — послышалось впереди, и паломники принялись поспешно рыться в своих узелках. Зарян достал из своего небольшую жертвенную чашу, подарок далеких фарсийских славян, сбереженный им в долгих скитаниях по свету. Чаша невелика, но красиво изукрашена резным восточным орнаментом, серебряная.
— Умилостив великого Святовита, испросите желаемое и возвращайтесь в домы свои…
Седой волосатый жрец раздвинул занавес — и Зарян увидел его, великого бога венедов, сурового и всесильного Святовита. Много всяких кумиров повидал он на этой земле, но такого еще не случалось. Разве что в Ретре — Радигоста.
И опять Зарян почувствовал себя маленьким и слабым, словно придавленным сверху невидимой тяжкой дланью. Да, велика и ох как тяжела сила Власти. Но вот только ли во власти сила? Только ли в силе Правда?
Еще у входа всех предупредили, что приближаться к кумиру не дозволяется, но Зарян, объятый непонятным мороком, забыл обо всем и бодро шагнул в сумрак храма. Попутно задел что-то прохладное, шелестящее под ладонью и тут же был остановлен множеством сильных рук. Его выволокли на прихрамовую площадку, и в гуще заклокотавших над ним голосов он различал лишь эти — «нечестивец» и «кровь». Потом, когда его отвели в полутемное и тесное узелище, он вспомнил и другие гневные речи. И понял: его, похоже, решили принести в жертву суровому богу. И тогда он призвал на помощь своих богов. Особенно жарко молился Сварогу и Перуну. Так жарко, что стоявший за дверью страж не выдержал, спросил:
— Кто ты есть, несчастный человек?
— Русич я.
— Так и мы все русы. Откуда?
— Издалека. Если идти на восход солнца, будут реки Днестр, Днепр, Дон…
— А грады у вас есть?
— Есть. Только не так много, как у вас. Киев, Чернигов, Сурож…
— Про град Кия слышал. Но там у вас свои боги.
— У всех славян одни боги, только по-разному зовомые. Вот Перун Сварожич…
— Ну, Перун, Сварог… — обрадовался страж. — Выходит, не христианин, что весьма хорошо. Скажу нашим, а ты молись знай, молись…
Когда на следующий день его вывели на площадь, там уже собралось множество всякого народа. Поговоривший с ним жрец вскоре убедился, что имеет дело с подлинным славянином-русом, а не с христианином даном или франком. Услышав о проделанном им пути к далеким братьям вендам, вроде бы даже сочувственно покачал головой. Но голос его оставался по-прежнему непреклонным:
— Ты совершил недозволенное. Входить к великому Святовиту могу только я. И то лишь на краткое время, с дарами. И еще: ты непотребно коснулся нашего священного знамени.
— Так не со зла ведь. Не знал я, — совсем сник Зарян. — И что теперь будет?
— Тебя ждет искупительная жертва, суренжанин.
— Но я ведь не жертвенный тур или телец. Человек я!
— У нас это дозволено. Судьбу твою решит конь Святовита. Жди.
Вскоре служители храма вывели на площадь прекрасного белого коня. Вещий конь, догадался Зарян. Но при чем тут он? Или пророчеств от него ждут?
Тем временем на земле перед конем крест-накрест разложили шесть длинных копий. Так у нас девки на суженых гадают, вспомнил Зарян. Наложат на дороге палок с начертанными именами юношей, возьмут коня под уздцы и поведут. Сначала одна, потом другая, третья… Какую палку конь копытом заденет, за того и замуж пойдет. А тут как?
И тут взяли вещего коня под уздцы, повели. Конь перешагнул через все копья, не задев ни одного. Еще раз провели — и опять то же самое. И в третий раз…
— И что же теперь?
— Радуйся, брат русич. Святовит сохранил тебе жизнь. Оказывается, все дело в том, каким копытом шагнет вещий конь — правым или левым. Правым — жить, левым — пролить жертвенную кровь. На этот раз каждый проход конь начинал с правой ноги…
Вот так ходил Зарян из одного города в другой, из одного княжества в другое, легко приноравливался к разным говорам, а вот к жизни их никак приноровиться не мог. Наоборот, в душе копилась, росла тревога. Кельтов погубила их разобщенность, родную Русколань порушила она же, — что ждет и эту ветвь славянства? Не та же ли беда? И почему горький пример одного брата ничему не учит другого?
Хотя был он тут человеком чужим, сторонним, но и его тревожному сердцу открылось — с какой стороны нависла над ними опасность. Чтобы до конца удостовериться в этом, вернулся к полабам, стоящим на меже между надвигавшимися германцами и благодушными славянами. Подружился с ними и узнал много нового.
В немалой истории этого народа были и светлые, и черные дни. Почти тысячу лет назад, покоряя одно племя кельтов за другим, римляне вышли к берегам здешнего моря-океана. Железные легионы Юлия Цезаря уже готовились праздновать победу, когда кельтов поддержали венеды. Но главное сражение они с кельтами проиграли, и расправа с побежденными была жестокой. Вот уж где вволю потешился кельтский бог Смертиус со своей супругой Росмертой. А Жиль де Кэр со своим конем еле успевал отвозить погибших в загробный мир.
Но на этом сопротивление завоевателям не прекратилось, восстания следовали одно за другим. И так длилось много лет.
Слава богам, римлян не стало, однако покоя не было и теперь: на смену им пришли германцы, тоже жаждавшие жизненного пространства. Создавая свою империю, Карл Великий и его наследники покорили своей короне также саксов и тем самым открыли себе дорогу в славянские земли. Первыми, на кого обрушились мечи их рыцарей, оказались полабы.
Силы были несопоставимы, тем более что другие княжества их не поддержали, даже ближайшие родственные соседи. Полабские крепости были взяты, в них разместились чужие гарнизоны, а вольнолюбивые полабы стали вассалами Карла.
Но и великий Карл был не вечен. После его смерти полабы дружно изгнали его войско, однако вновь обрести полную независимость уже не смогли.
Полабы вообще были стойким народом. Когда славянский князь Само на отнятых у аваров землях создал свое государство, они уже тогда вместе с ним отбивали наскоки франков. После распада этого государства и возникновения на месте разгромленного Аварского каганата Великоморавского славянского княжества полабы не забыли старых друзей и сами пользовались их поддержкой. Но вот под ударами угров-мадьяр пала и эта Держава, и западные славяне оказались с германцами одни лицом к лицу.
Давление с запада усиливалось год от года. На землях полабов, вагров, ободритов появлялось все больше иноземных крепостей, гарнизонов, монастырей. Ходил Зарян по этим землям, и тревога его росла. И не только за здешних братьев-славян, но и за любимую Русь, над которой нависают такие же невзгоды и беды.
[Забегая вперед, скажем, что тревоги и предчувствия эти были небезосновательны. Очень скоро наступление германцев на западных славян пошло полным ходом. Минуло всего два-три столетия — и от их княжеств ничего не осталось. Население уничтожалось, ассимилировалось и забывало свой язык, своих богов, обычаи и культуру. И сейчас разве что названия их прекрасных рек, озер, городов напомнят пытливому уму о трагическом прошлом этого благодатного края. Да и они звучат уже на новый лад: так, Бранибор стал Бранденбургом, Стари-град — Ольденбургом, Ратибор — Ратценбургом, Вологощ — Вольгастом, Зверин — Шверином, Щетин — Щецином, Аюбиц — Любеком, Коданьск — Гданьском… — и так, как говорится, до конца списка. В каждом втором «немце» и сегодня течет венедо-славянская кровь, но он об этом даже не подозревает.]
…Зарян уже обдумывал свой обратный путь на Русь, как однажды на рассвете на городок, в котором он задержался на ночь, напали какие-то вооруженные люди. Городок не успел и глаз со сна протереть, как был ограблен, избит, брошен, как обглоданная собакой кость.
Корабли, что дожидались этих вояк на реке, и до того не пустые, вмиг были завалены всяким добром. Туда же запихали и несколько десятков горожан, после чего разбойничьи драккары подняли паруса и, подгоняемые ветром с континента, помчались к морю.
— Ну вот, — сказал сам себе Зарян, — опять поволокут на торг, опять кабала, рабство. Чем я так прогневал наших богов?..
Пока плыли рекой, а потом морем, было время обдумать свое положение, присмотреться. Предводителем на корабле и, похоже, всей этой эскадры был рослый средних лет мужчина с резким повелительным голосом и шрамом на правом виске. Команда слушалась его беспрекословно, хотя особых различий между собой они не делали. Звали его просто — Соколом. И еще — Рориком. Значит, из здешних славян, обрадовался Зарян, нужно поговорить.
В разговоре он рассказал о себе все. Тот выслушал его молча, помял широкой ладонью бородку и, уставившись взглядом в синюю даль, спросил:
— Значит, и ваши славяне не лучше наших? Все бы волю им, все бы величаться, все бы наперекор?
— Выходит, что так. Не к добру это. У нас одни новгородцы еще стоят.
— Воля, оно, конечно, хорошо, — продолжал, думая о своем, Сокол-Рорик. — Вон, взять море, — какая воля, на все стороны воля. Но и у моря есть берега. Даже у моря воля не безгранична. Разумеешь?
— Я-то разумею, — осмелел Зарян, — народы наши не разумеют. Все как отроки, хотя бороды седы и тьма лет за плечами.
— Что — народ? Народ — стадо. От пастыря зависит, куда оно пойдет и какую траву есть будет.
— Избаловало нас вече наше, а времена крутые идут, сильных мужей требуют. Как Отец Орий, Кий, Бус… Вот ты к нам в Сурож пошел бы?
Последнее сорвалось с языка как-то само собой. Еще подумает, что хочу лестью умилостивить, спохватился Зарян. Чего доброго, еще осерчает. Хотя, по всему, муж силен, умудрен, — нам бы такого в воеводы. Или даже в князья…
Подняв глаза на сурового предводителя, обрадовался— тот смеялся.
— Бывал я на вашем Русском море. И о Тавриде вашей слышал. Как это вы умудрились такую землю каким-то хазарам и грекам отдать?
— А как вы тут германам полабов отдали? А король датчан у вас княжество ругов-русов отобрал. Как?
Взглянув в лицо предводителя, Зарян не на шутку испугался. Оно негодовало. Всеми своими морщинками, чертами, движениями, глазами, устами — всем. Ну вот, что-то не так сказал, разговорился не в меру. Теперь опять — на торг, в кабалу, в рабство…
— Прости, брат. Вижу — больно тебе. Вот так же больно и мне. Больнее этого ничего нет.
На этом их разговор пресекся. Но когда их корабли пристали к какому-то городу, Сокол сам подозвал Заряна.
— Понравился ты мне, русич. За самое сердце задел. Ступай в свою Русь, только от моря и здешних рек держись подальше. Тут у нас… очень бойко. А пойдут купцы в Византию — пристань. Дойдешь с ними до дунайских порогов, а там… Деньги-то у тебя на провоз есть?
Зарян растроганно моргал, не зная что сказать. Какие деньги?..
— Тогда, будь добр, прими. Может, еще встретимся когда. Поклон Сурожу твоему…
До Дуная добрался. Но уже не вольным человеком, а в общей связке угоняемых на невольничий рынок пленников.
— И вот, слава богам, я дома…
Это долгое взволнованное повествование отняло у отца немало сил. Ягила видел, как он сник, уронил на колени немощные руки, но не удержался, спросил:
— Выходит, правда, что на Венедском море сейчас такой разбой творится? Все говорят, варяги это какие-то, готы-германы. Все чужим жить хотят?
— Бойко там, верно. Только это не одни германы. Там будто все с ума посходили. И норманны, и свей, и эсты с финнами, и даны-датчане, и славяне с русами. А кличут их по-разному: англы — датчанами, франки — норманнами, у вендов, как и у нас, — варягами.
Ягила задумался.
— Не пойму — с чего это?
— Началось с того, что в наем в чужие войска шли, в охрану к купцам. Да, видно, захотелось большего. Тот муж, что меня освободил, мог бы сказать, да я заробел. А ведь тоже варяг, как ты судишь, из славян. И зовут по-нашему — Сокол.
— Боевой, значит! А русы там есть?
— Есть и русы. Из тех, что вместе с нами от готов ушли. Мы на восход, а они на запад солнца. Иные кличут их то ругами, рогами, то руцами, русенами, рутенами — кто как выговорит… Есть, сыне, есть…
Напоив отца целебным травяным отваром, Ягила отвел его в дом и уложил в постель.
— А теперь, сыне, — попросил Зарян, — чти мне свою книгу. Жажду весьма. Как меда…
Голос его был слаб и легок, как тихий шелест, как детский всхлип:
— Ох, друже мой Иоанн! Ты создал свои письмена, чтобы писать для твоих попов. Но будут на Руси и другие книги. Они для всех, и все будут читать их. Молю о том богов наших… Чти, сыне, чти…
Ягила улыбнулся, довольный тем, что понравилось отцу его писание, взял со стола дощечку и стал читать:
«…Там Перун идет и головой золотой трясет, молнии рассеивает во Сваргу синюю, и она укрепляется от них. И Матерь Слава поет о трудах всяческих ратных. И нам надобно послушаться и хотеть брани яростной за Русь нашу и святых праотцов наших. Матерь Слава сияет до облаков, как Солнце, и предвещает нам победы и гибель. Но мы-то с вами не боимся, потому как — то жизнь земная, а ведь есть и жизнь вечная. И о том нам надобно заботиться больше, потому как земное против нее — ничто. Мы на земле как искры, и исчезнем ведь во тьме, как бы нас никогда и не было. Так слава наша пойдет к Матери Славе и пребудет в ней до конца концов земных и иных жизней. Это у нас с вами по-свойски — не бояться смерти, потому как мы — потомки славные, а Даждьбог породил нас через корову Земунь[29]. И вот мы Кравенцы — и скифы, и анты, и русы, борусины и сурожцы. Так мы остаемся наследники русские и с пением ведь идем во сие в небо Сварожье синее…»
Ягила посмотрел на притихшего отца. Тот лежал на боку, по-мальчишески подложив под щеку ладошку, и будто продолжал слушать. Глаза его были закрыты, все морщины на лице разгладились, отчего оно как бы просветлело и помолодело.
— Ну, спи, отче, набирайся сил, — то ли прошептал, то ли просто подумал Ягила и тихо вышел за порог.
Глава двенадцатая
Довольно сильный западный ветер гнал с Германского моря[30] большую волну и мощно полнил ветрила. Гребцы отдыхали, зато корабельщикам работы хватало, но никто не роптал — знали: возвращаются домой.
Почти два года эскадры Рорика-Сокола и его норманнских друзей провели в походах, о которых они еще долго будут вспоминать в старости, если, конечно, доживут до нее. И, честное слово, вспоминать будет что!
Не забудут того и места, удостоившиеся их посещения, и европейские хроники. Для современников это было что-то невообразимое, на грани безумия. И в самом деле — как назвать то, что творилось тогда на их глазах — в морях, на реках, рядом с ними, в соседних и совсем уж далеких странах? Кучки неизвестных молодцов на своих быстрых неуловимых кораблях, явившись неведомо откуда, неожиданно набрасывались на прибрежные города, монастыри, замки герцогов и графов и опять исчезали неведомо куда.
Воинские отряды правителей метались из конца в конец владений и никак не могли предугадать, где и когда они появятся вновь. А когда случалось столкнуться, поспешно разбегались, потому что устоять против этих демонов не мог никто.
Постепенно у наиболее крупных пиратских отрядов появились излюбленные маршруты и свои долговременные сферы интересов. Так, датчане буквально измучили соседнюю Англию. Неслучайно ее жители всех варягов без разбора — а «паслись» тут и норвежцы, и шведы, и славяне, и балты! — называли данами.
Нередко датчане совершали и довольно далекие походы, в самый восточный угол моря, где жили славянские и финские народы. Не однажды пытались закрепиться там надолго, но их раз за разом выбрасывали обратно.
Норманны-норвежцы, самые отчаянные пираты и мореходы, успевали везде, но больше любили дальние страны. Пока они ограничивались набегами на земли франков, германцев, испанцев, но в будущем появятся и в Италии, и в Африке, и в Ирландии, Исландии, Гренландии. Из ледяной Гренландии доберутся даже до Северной Америки, но удержаться там не смогут — очень уж далеко от основных баз, а местные племена такие непокорные…
Не отставали от них и славяне, хотя так далеко не заглядывали, ведь своих земель для поселения им вполне хватало. Но азарта и им было не занимать. Особенно часто и успешно они действовали в содружестве с норманнами. Свое море давно стало им тесным, а крепкие венедского типа корабли выдерживали даже беспокойную Атлантику. А если так, то почему бы не прокатиться в Андалусию и Галисию, не пограбить разбогатевшие города арабов в Европе и северной Африке?
Не остались без дела и эскадры легких кораблей. Рейн, Лаба, Лаура, Сена, Гаронна… — где только не носило их в эти годы! Нант, Бордо, Лимузен, Орлеан, Тур, Париж, Севилья, Лиссабон, Ла-Корунья, Нокур, Арма… Хроники запомнили и эти имена. Иные из них грабились по нескольку раз.
Слава норманнов и соседей славян так раззадорила датского короля Хальдвана, что тот в горячке отдал свой трон брату, а сам пересел на пиратский корабль. Но большой славы, увы, не приобрел: не питавший большой любви к поработителям своего отечества Сокол то и дело вторгался в пределы датских «сфер влияния». Причем так успешно, что когда, например, те отправились в очередной рейд в Англию, там после него уже нечего было грабить.
Вернувшись после дальних походов на свои базы, вожди норманнов и русов решили дать своим командам возможность хорошо отдохнуть и выгодно распродать добычу. Встретившись на берегу, не преминули посмеяться над незадачливым Хальдваном, к чему Рорик-Сокол не без удовлетворения добавил:
— Датчане, убившие моего отца и отнявшие у меня мое княжество, — мои вечные враги, и я буду мстить им как только смогу. И за родичей новгородцев тоже, ведь мать моя из их княжеского рода…
Об этом он никогда не забывал. Часто вспоминал, как мать Умила прятала их с его сводным братом Харальдом в семьях простых людей то в одном, то в другом месте. А когда они возмужали, вызвала его на серьезный разговор.
— У нас с тобой, сын мой, только два пути. Один — вернуться на родину к моему отцу князю Гостомыслу, другой — бороться за отцово наследство здесь. Первый путь нелегок, а второй еще труднее. Но это твой долг.
— А как же Харальд? — спросил он.
— Твой сводный брат волен сделать свой выбор. И даже вернуться к своей матери в Данию. Я знаю, как вы дружны и как вам тяжело будет расстаться, но это так. Наследник — ты.
— Наследник того, чего нет?
— Сделай так, чтобы было что. Посети франкского императора, чьим вассалом был твой отец Годолюб, предъяви свои права. Он обязан защитить тебя перед датчанами. Добейся этого. А я буду ждать от тебя добрых вестей…
Ни матери Умилы, ни сводного брата, разделившего его судьбу, уже не было в живых. Так и не дождавшись от сына добрых вестей, тихо ушла к пращурам мать, а брата он похоронил сам — у стен, казалось бы, неприступной Севильи…
Побывав еще раз у франкских королей и получив от Лотаря окончательный отказ помочь ему вернуть княжество, Рорик-Сокол ответил ему такими дерзкими рейдами по Рейну и Лабе, что ни один из тамошних городов не избежал его гнева и мести. А потом вернулся на море, нашел своего приятеля норманна и за бочонком хорошего вина выложил ему всю свою душу.
— Вот так, Рыжая Борода, Кровавая Секира, Брюхо-тряс и — как там тебя еще? — верный друг мой, ничего у меня с этими франками не получилось. Это, говорят, твое дело!
— Если так, то и я скажу то же самое. Сейчас, когда вся Европа знает тебя в лицо или — что уж точно! — сокола на флагах твоих кораблей. Сейчас, когда ты еще не стар и не с пустым карманом. Сейчас, когда тебе стоит лишь свистнуть — и все наши ватаги на полных парусах примчатся к тебе со всех морей… Сейчас, друг мой, — или никогда! Считай, что я уже под твоим знаменем и жду твоих приказаний.
Княжество рутов-русов находилось на самом острие нараставшей агрессии германцев: с севера оно граничило с датским королевством, а с запада с империей франков, у самого впадения Лабы в море.
Вот тут-то однажды и появилась огромная флотилия из сотен кораблей, возглавляемая мощными весельно-парусными красавцами с «соколиными» флагами на мачтах. Высадившееся войско в несколько переходов отсекло Ютландский полуостров от материка и приступило к освобождению земли русов. Датские гарнизоны защищались слабо, а иные, видя, с кем имеют дело, или сдавались, или пробивались на север, в родную Данию.
Казалось, с полувековым господством чужеземцев на славянской земле покончено…
Глава тринадцатая
Хоронили отца Заряна всем оставшимся родом. Ягила все сокрушался: через такое прошел, столько всего перенес, а добрался до дому — и умер. Не успел даже порадоваться, всех повидать, в Святую рощу на мольбище сходить.
И Добрец качал головой:
— Должно, знал, предчувствовал. Оттого так торопился рассказать, что повидал. Не хотел с собой унести.
— Даже наказал, как похоронить. По старому обычаю. Не плакать, а петь, радоваться, что к пращурам ушел. Скоро, поди, Мечислава и Ратибора увидит. Богам в Сварге синей славы споет…
Схоронить по староотеческим обычаям не получилось. Не до песен, не до веселья было. Вместе с Заряном из рода ушло что-то жизненное, корневое, без чего нет уже ни прежнего рода, ни прежней жизни. А будущее темно и тревожно.
Осиротел, обессилел некогда большой и славный род. Печаль и туга поселились в сердцах и домах огнищан. Лишившись главной опоры, все заколыхалось, перекосилось, застыло в ожидании близкой неизбежности.
Так и разошлись после поминальной трапезы — молчаливые, растерянные, придавленные. Только через седьмицу дней точно очнулись от тяжкого морока, вспомнили о делах насущных, кинулись наверстывать упущенное.
У каждой семьи свое хозяйство. Большое ли, малое ли, а с темна до темна в работе. До Перунова дня рукой подать, не успеешь серпы и косы наточить — жатва: коси, свивай снопы, молоти, вей зерно, готовь дань хазарам. Да и с садовым подношением что-то делать надо. Не у каждого на подворье сыщешь вола или коня, а как без них на сурожское торжище попадешь? Хорошо Ягиле — у него и вол есть, и корова. А недавно и проданный белый конь откуда-то воротился: видать, не захотел служить новому хозяину, торговцу людьми.
Перунов день в прежние годы здесь отмечался широко и истово как праздник любимого бога. Общими силами всех родов обновляли его святилище на полуденном склоне Тавра, откармливали жертвенного бычка, заготавливали дрова для священных костров.
В старые времена специально для него добывался настоящий лесной великан тур. Чтобы поразить и доставить его, посылались лучшие охотники, самые сильные мужчины. Удачно исполнивших поручение встречали и чествовали как героев.
Сейчас было не до туров. Перун понимает людей, он — свой бог и по-свойски соглашается даже на бычка. Ведь бычок — это тоже тур, только домашний. А маленький оттого, что еще не вырос. Не успел. Или забыл, что в месяце житниче бывает праздник бога Перуна, у которого любимое животное — тур, любимое дерево — дуб и любимый цветок — перуника.
Обновлением святилища занялся сам Ягила с группой собравшейся молодежи. Как и всюду, это был большой круг, по краям которого выкапывалось шесть овальных ям. Получался как бы цветок перуники с его шестью лепестками. В давние времена круглый год, и днем, и ночью, в этих ямах-лепестках горели огни. Сейчас перуника «цветет» только в Перунов день, но бог за то не в обиде.
Древняя ведическая вера утвердила, что ее боги не имеют живого образа, тем более человеческого: они-де всего лишь «понятия». Но под влиянием длительного языческого и христианского соседства и славяне начали придавать им тот или иной вид. Перун, к примеру, виделся им могучим грозным богатырем, скачущим в колеснице по черному от туч небу. Оттого что волосы у него черные с проседью, как грозовая туча, голова казалась серебряной, а рыжие усы — золотыми. Такой Перун, говорят, стоял в самом Киеве.
У сурожцев, имевших свои помолья и святилища под открытым небом, Перун делался из дуба. Где как, а здесь дерево уничтожать не стали, богово все-таки, а вытесали его лик прямо на живом стволе.
Всегда, когда Ягила смотрел на него, спину его пробирал острый холодок. Чудилось: вот сейчас тот сделает шаг и выйдет из своего любимого дуба. Выйдет, тряхнет волосатой головой и спросит, почему на его празднике он такой печальный. И Ягила расскажет, как гибнет в раздорах и усобицах Русь, как враги продают русичей в кабалу, как обессилевшие сурожцы покидают родной край. И тогда встанет Перун на свою громовую колесницу, помчится вдоль берега Русского моря, швырнет в эллинские и хазарские города свои мертвые синие молнии — и от тех останется один серый пепел.
К сожалению, ни разу пока этого не случилось. Перун не выходил к людям, дуб с его образом на стволе вторую сотню лет оставался в центре священного круга, ждал, когда на каменный алтарь прольется жертвенная турья кровь.
Ягила с рождения знал, что Перун — один из древнейших богов ариев-славян, старший сын бога всех богов Сварога. Тот поручал ему самые сложные и ответственные дела на небе и на земле. Например, установить во Вселенной единый для всех нравственный закон, основанный на справедливости и правде, быть его блюстителем и защитником.
Как назывался этот закон, славяне за давностью лет позабыли, но соблюдали горячо и дотошно, а слова Справедливость и Правда стали для них святыми. Постичь их можно было только следуя путем Прави. Не случайно во все времена для русского человека Правда была превыше любых установлений князей, царей и императоров. Жить по Правде означало жить по-божески. А какой царь может сказать, что он равен Богу?
Когда первые люди стали возделывать землю и выращивать для себя хлеб насущный, Сварог поручил Перуну оплодотворять ее своим божественным семенем, дабы была щедрой и плодовитой. Так он стал еще и богом грозы, то есть богом дождя и плодородия.
Когда у ариев появилось много врагов, Перун вдобавок ко всему стал еще и Разящим, иначе — богом войны. Так в руках его появился сначала каменный топор, а потом золотая секира. И кроме живой огненно-желтой молнии-оплодотворительницы еще и синяя, мертвая молния, предназначенная для уничтожения крепостей и городов злых врагов-дасов.
За все за это и любят его славяне. Радуются, что во время гроз всякая черная нечисть в ужасе от его грома и молний прячется в глубокие норы. Оттого-то после грозы так бурно все растет, а воздух так свеж и чист, что пьется вместо священной сурицы. Радуются люди и поют ему свои гимны-славы. Сразу же после Сварога.
Все было подготовлено хорошо и ко времени. Вовремя Ягила вознес полагающиеся молитвы и славы. Вовремя загорелась, зацвела огнями любимая Перунова перуника. Вовремя брызнула на алтарь жертвенная кровь.
Не вовремя было только появление на святилище сурожских эллинских солдат. Те внимательно присматривались почти к каждому, выспрашивали про каких-то людей на конях и с оружием, иных пытались увести с собой. Русичи заволновались, по призыву Добреца плотной стенкой обступили непрошеных гостей и, шаг за шагом, оттеснили их с горы.
Что бы это могло значить? — гадал Ягила. Пришли специально, чтобы помешать празднику, унизить Перуна? Явились, вечно голодные, на запах жертвенного мяса? Ловят кого-то, кто сумел сбежать из их узилища? Но при чем тогда люди на конях и с мечами?
По пути к дому навестили могилу отца Заряна.
Со дня похорон здесь ничто не изменилось: тихо и пусто. Даже сорока (казалось, — все та же) неподвижно сидела на голой ветке полувысохшего дерева и задумчиво изучала на земле свою собственную тень.
Просто сорока? Или черно-белая птица Перуна? Опередила их, прилетев с горы, чтобы рассказать об испорченном празднике?
Кому рассказать: этим плитам?
Дома, омыв тела чистой водой, а души — чистой молитвой, сели за трапезу. Говорить ни о чем не хотелось. Да и не о чем было говорить. Все переговорено, все передумано. Разве что…
— А что бы это могло значить?
Ни к брату, ни к Благе этот вопрос обращен не был, но Добрец словно ждал его.
— Пойдем, Ягила, поговорим…
Сели на лавку под их любимой яблоней.
— Ну, реки.
— Потерпи…
Помолчав и попробовав на вкус уже почти спелое яблоко, Добрец сказал:
— Это значит, что первая кара Перуна свершилась. Вчера невольничий караван до Сурожа не дошел. Это в память об отце Заряне. Это они его заморили, брат…
Ягила много чего ожидал, но только не этого. В бедах и печалях, что свалились на него в последние дни, он как-то выпустил из головы их недавний разговор с Добрецом о том, что надо бы как-то отвадить работорговцев от их Сурожа. А вот он не забыл. Что ж, хвалить его теперь или ругать?
— Отчего же мне ничего не сказал? Все сам порешил.
— У тебя своей туги хватало. А сделал, как ты указал: и людей нашел, что путь их вызнали, и… все остальное.
— И где?
— У той балки, где каменная баба на кургане стоит.
— Как?
— Одним скоком. Даже мечей опростать не успели. Все полегли.
Как-то смутно, нехорошо стало на душе Ягилы.
— И кто они… были?
— Так кто же в бою о том спрашивает? Наймиты хазарские, варяги.
— Конечно — наймиты, варяги… А полон их куда дели?
— То один Тавр знает! Есть там такие места — жизнь проживи, никто не догадается. Теперь они почти все оружные, конные. Вот отлежатся, отъедятся — и в дело: злость у них на этих варягов лютая.
И опять он не знал — хвалить брата или корить. Ведь опасное дело затеяли. Ни греки, ни хазары этого так не оставят, свои выгоды просто так не кинут. Спросил Добреца — понимает ли он это. Чувствует ли, каким силам поперек встал?
— Так то же не на годы. Как поймут, что ходу нет, отвернут от нас. На Херсонес пойдут, на Итиль. Своему товару они цену знают.
— Значит, к нам нельзя, а туда можно? Так ведь река бед человеческих меньше не станет. Уразумел?
Теперь задумался Добрец.
— Ну, думать за всех я не умею. Там пусть думают другие, чать тоже не без головы.
— Да, то так. Ты — воин, и хороший воин, Добрец. Отец Зарян в Сварге, поди, радуется тебе. Или не так?
Брат смущенно пожал плечами.
— Отец Зарян зело мудр был. Но и его нелюбовь к нашим недругам зело люта была.
— Это истинно. Но, думаю, он сказал бы — прежде самого коршуна убить надо. Тогда птенцы сами помрут.
— Мудро, брат. Кто же сейчас осилит этого коршуна-кагана? Нигде таких сил не вижу.
— Только Русь, Добрец. Только Русь. Пусть не сейчас, но то будет непременно!
— Вот и добро. Пока Русь копит силы на коршуна, мы тут его птенцов малость побьем.
— Тоже мудро, поди…
Жатва, как всегда, началась с первого снопа. И получился он таким колосистым, большим, туго свитым, что только такой и можно посвятить Деду-Снопу-Сварогу. Занесли в дом, украсили лентами и поставили у печи. До новой жатвы.
Ягила любил эту пору года, эту работу, когда нет времени даже на то, чтобы перевести дух, вознести славу богам и выпить глоток положенной сурицы. Перекинешься парой слов со своими, бросишь взгляд за кон-межу на соседей, отрешь со лба пот — и ладно. Зато как славно светит в небе Сурья, как ласково шелестят созревшие колосья, каким сладостным духом веет от них и от самой земли.
Весь день он машет и машет своей косой. Быстрая стальная змейка юрко скользит меж высоких пшеничных стеблей, срезая их почти у самого корня. Легкие деревянные грабельки, приделанные к косе, подхватывают скошенное и тут же укладывают в аккуратную золотую ленту.
Идущие следом за ним Добрец и Блага превращают эту ленту в ладные увесистые снопы. Пройдут ряд, обернутся — душа поет: сколько их, золотых, нежится на жнивье под добрым солнышком житнича! И совсем хорошо, когда под вечер на месте этих рядов поднимутся другие — из добротно сложенных суслонов, где каждому снопу свое место и свое сердечное слово.
Однажды в середине вот такого золотого денька его окликнули соседи. Далековато, не поймешь, что кричат, пришлось с досадой положить косу и пробежаться.
— Кажись, что-то горит у тебя, брат. Гарью несет, не чуешь?
Как не почуять, когда в самом деле горит! Что было мочи помчался к дому. Оттуда — на пасеку. Ну да, здесь. Две борти, что у самого леска, полыхают. Обезумевшие пчелы заметелили над головой, не знают куда деваться, как спасти свою царицу-матку. Бурлящей стремительной тучей кидаются из стороны в сторону, гибнут в огне или уносятся невесть куда.
Пока бегал за водой — догорели. Слава богам, на соседние борти огонь не перекинулся — ветер был не с руки. Не то остался бы род Ратибора без сурицы на весь год.
Прибежавший следом Добрец осмотрелся по сторонам, выглядел выходящие из леска и снова уходящие туда чьи-то следы и с уверенностью сказал:
— Поджог. Не ради меда, а пакости ради.
— За что? — вскинул обгоревшие брови Ягила.
— За то, что мы есть, брат.
— И у кого рука поднялась на такое зло?
— А ты след эллинских сандалий знаешь? Гляди!
— Маленькие… Должно, отроков наслали. Пока мы в поле снопы вьем…
Вечером стало слышно, что у многих в этот день что-нибудь сгорело. Отпросившийся на день-два Добрец был немногословен и старательно избегал взгляда Благи.
— Будет возможность — коня поменяй, — тихо сказал Ягила. — А то он у нас такой белый, очень уж в память западает. А это не хорошо.
— Затем и еду, — усмехнулся Добрец, по-воински ловко вскочил в седло и умчался.
— Куда это он на ночь глядя? — подошла встревоженная Блага. — Или ты послал, Ягила?
— Я послал. Коня поменяет и вернется. А то ведь наш-то как бы и не наш. И приметлив лишне. А нам этого не нужно…
Теперь в поле они работали одни. Блага нет-нет да и вскинет ладонь ко лбу, всмотрится то в одну сторону, то в другую и, вздохнув, опять принимается за свои снопы. «Ясно, — отметил Ягила, — ждет брата, волнуется. И неспроста это, слюбились молодые».
Он тоже ждал, тревожился тоже, ибо знал то, чего Благе знать было не должно. Ну а то, что слюбились, даже хорошо: и обычай соблюден, и для него ясность наступила. Нет больше надобности прятать свое калечество, стесняться своей неказистой спины.
Спина эта с ее несуразным горбом пошатнула и из-горчила всю жизнь мужика. Всем был хорош — и ростом, и силой, и умом, но вот эта беда, как злая мета, что бросалась всем в глаза, как бы отсекла его от остальных нормальных людей. В юности — от девушек, потом — от женщин, да и в мужском обществе-соборе он чувствовал себя неуютно и неприкаянно. Как какой-то порченный, неполноценный, самой судьбой отринутый человек.
В народе такие порченные, отринутые всегда вызывали какие-то смутные, опасливые чувства, а то и неприязнь и подозрительность: не черный ли глаз плохого человека оставил на нем свою несмываемую мету, не причастна ли к этому темная колдовская сила?
Сила причастна была злая, черная сила, но не колдовская. Еще в отрочестве, когда он был высоким и стройным юношей, старейшина рода отец Зарян дал ему урок — стеречь родовое помолье. От случайно забредшего скота нерадивого хозяина, от диких кабанов, от лихого человека — да мало ли еще от чего, что может нарушить святость и покой этого места.
Ягила истово выполнял обязанности стража, втайне досадуя лишь на то, что нет при нем никакого оружия. Попросил у отца хотя бы копье — отказал. Пришлось сделать самому. Дубовое, крепкое, вместо железного наконечника заостренное с одного конца.
И оно пригодилось. Когда науськанная сурожцами-эллинами ватага их отроков явилась порушить ненавистное им «языческое» помолье, это копье помогало ему отбивать их яростный дикий напор.
Прибежавшие на крики взрослые отогнали неистовых воинов Христа, а его самого пришлось унести на руках. У него был поврежден позвоночник, и он долго отлеживался дома. А потом на его покалеченной спине начало что-то расти. И это на всю жизнь сделало его человеком иным, не похожим на всех, отринуло и обособило. Люди, казалось ему, забыли причину его беды. А кличка Горбун пристала к нему крепче его горба, оскорбляла и унижала, пока он не привык к ней.
Зато в работе он забывал обо всем. Жадный до любого дела, неистовый в своей древней вере, он распрямлялся душой и телом, поднимался мыслями до самой синей Сварги, где беседовал с великими пращурами и сам был так же велик и прекрасен, как и они. Случалось с ним такое, но кому поведать о том?
На этот раз Добрец задержался дольше, нежели в прошлую отлучку, и появился дома в ранних утренних сумерках. Ягила с Благой только поднялись, готовясь выйти в поле, а и он тут. На рослом гнедом жеребце под седлом, а в седле…
— Зри, Ягила, какую полонянку наш воин себе добыл! И коня сменил! — молвила Блага.
Говорит, будто шуткует, а у самой губы от ревности дрожат. Эх, Блага, Блага, плохо еще знаешь ты род Ратибора. Здесь мужчины если и ходят в поле, то не затем, чтобы полон взять, а затем, чтобы землю отцов и праотцов от ворога оборонить. А эту худую изможденную женщину ты не знаешь совсем. А узнаешь — подружитесь, еще сестрой любимой назовешь. Вместе радоваться и бедовать будете, сыновей и дочерей растить. Не торопись обгонять время, ведь что значит оно, если не жизнь?
Ведя коня в поводу, Добрец подошел к брату, кивнул Благе — вот, мол, и я, — помог незнакомке сойти с коня.
— Вот… человеку помочь надо… приютить пока. Не пропадать же среди своих.
Ягила сразу догадался, кто и откуда эта молодка, да ведь при Благе не скажешь. Придет время — узнает и она. А пока с братом поговорить надо.
Распорядившись истопить мовницу, они ушли в сад под свою любимую яблоню и обнялись.
— Наконец-то вернулся, а то уж мы с Благой худое думать стали, — признался Ягила. — Ну, не знаю, о чем думала Блага, а вот сам я бояться начал, — мало ли чего…
— Спасибо, брат, только зря: не малой уж.
— Может, и не зря. На прежнем месте хазары ли, эллины ли могли засаду на вас сделать. Об этом я уж потом подумал, вот и…
— А так и было! — хлопнул себя по колену Добрец. — Только мы это усмотрели и, сторожась, обошли стороной. Встретили караван у Соленого ключа, ну и…
— Схлестнулись?
— Не довелось. Да и зачем? Стрелами сняли. Враз!
— А с людьми что? Далеко ведь. Да и та засада опять же.
Добрец по привычке потянулся за яблоком, любовно поцеловал розовый бочок, смачно захрустел.
— Из-за той засады, демоны ее побери, и задержались. Покружились по разным балкам, а по одной и к Тавру вышли, к той же печере…
— Это хорошо, — успокоился Ягила. — Только вот что они там есть будут?
— Придется, брат, поделиться. Мы промеж себя так решили. Из нового урожая. — И, подумав, добавил: — Доставим сами, не тужи.
— Добро. Помоетесь, передохнете чуток — и в поле. Это я о тебе, — засмеялся Ягила, похлопывая брата по плечу. — А про «полонянку» ту… Правильно сделал, стало быть, по-другому было нельзя… Пусть отдохнет, придет в себя, а там решим, что делать.
Пока беседовали, Блага затопила мовницу и подозвала Добреца.
— Твоя полонянка совсем плоха. Сам ее помоешь или как?
Тот ласково привлек ее к себе.
— Или как, Блага. Помоги ей, совсем обессилел человек. И — в поле. Я тоже скоро буду…
Вечером, когда за столом дворовой кухни остались только она да замешкавшийся Ягила, подсела к нему и, пытливо заглядывая в глаза, спросила:
— Ну, как наша новичка, глянулась тебе? Тот еще больше замешкался.
— А это нужно? Кто я ей, и кто она мне?
— Нет, нет, не говори так. Вот увидишь, она хорошенькая. Мужа ее какие-то вороги зарубили, далече отсюда. Сама сказала. Куда ей теперь одной?
Для него это не было новостью. На невольничий торг чаще всего так и попадают.
— Поможем как-то, — проговорил он неуверенно. — Надо помочь.
— И еще, — притишив голос, продолжала Блага, — она непраздна. Пусть у нас разродится, да? Может, зараз со мной. У нас ведь с Добрецом тоже сын будет…
Глава четырнадцатая
Годы шли. Мода на древности Дубровского улеглась. Войны с наполеоновской Францией заняли все мысли европейцев, а сгоревшая Москва — всех русских. После падения Бонапарта и победного завершения войны ненадолго вспомнили о тоже наделавшем в прежние годы немалого шума «Слове о полку Игореве», потужили о его пропаже в огне московских пожаров и опять успокоились. Не до того было.
Тихо, незаметно в крайней бедности ушел из жизни Петр Петрович Дубровский, а затем и Александр Иванович Сулакадзев исчерпал срок отпущенного ему земного бытия. Правда, кто-то потом вспоминал, что перед тем как испустить дух, старый археограф все жестами подзывал к себе супругу, пытался что-то сказать, но голоса уже не было. Остались жесты. Совсем обессилев, он мог только грозить ей длинным желтым пальцем, с которого предусмотрительные родичи уже сняли дорогой перстень. Что мог означать этот странный жест, никто не понял.
Похоронив Александра Ивановича, Софья фон Гоч-Сулакадзева, вдова его, принялась распродавать то, что было смыслом всей его жизни и ценилось им выше всего на свете, — библиотеку. Как и всякая немка, старалась не прогадать, но, ничего не смысля в столь тонком деле, быстро спустила все в полцены. Князь Николай Васильевич Неклюдов приехал уже к шапошному разбору.
— Что ж вы так поздно? — выговорила ему хозяйка. — Тут, правда, кое-что остались, но разве вас это устроит?
Николай Васильевич порылся в уже распотрошенных ящиках, отобрал изрядную стопку и, на большее уже не надеясь, все же спросил:
— У Александра Ивановича, помнится, в особых коробках и ящиках хранились старые дощечки с какими-то знаками. Если они еще целы, я бы приобрел их.
— Дощечки? — засмеялась практичная вдова. — Зачем они вам, князь? Уж не печки ли растапливать?
Тот не сразу нашелся что сказать — поперхнулся.
— Сначала, буде мне дозволено, посмотрю, а там… Извольте заглянуть вон в ту комнату.
— Из той комнаты я только что приказала дворнику вынести несколько ящиков.
— И тот вынес?
— Разумеется!
— И куда, сударыня? Не на кухню ли для растопки плиты?
— Угадали, князь, угадали! Так вам вынести их сюда? Эй, там!..
Как же он был счастлив, что сия надутая дура не успела сжечь эти драгоценности в печи! Спешно рассчитавшись, он тут же уехал, потрясенный увиденным и услышанным.
Мало что осталось от великолепных библиотек Дубровского и Сулакадзева в России. Много чего целыми охапками вывозили в Эрмитаж, в библиотеку императора, в Публичную библиотеку. Оттуда, где малыми ручейками, где ручейками поболе, они стали растекаться дальше — в частные коллекции и собрания. А в двадцатых годах следующего столетия после разорительных мировой и гражданской войн, чтобы накормить голодающее население и поправить экономику, новая власть стала в массовом масштабе продавать за рубеж «лишние» произведения культуры и искусства. Так, например, только один американский букинист Перлштейн купил и вывез практически всю императорскую библиотеку. А это ни много ни мало почти два миллиона томов.
Трагически сложилась и судьба библиотеки князей Неклюдовых. Какую-то часть ее внучка Николая Васильевича Екатерина Васильевна (по мужу Задонская) перевезла в свое имение близ Харькова. Во время революции оно было разгромлено. Остатки библиотеки в 1919 году еще застал артиллерийский полковник деникинской армии Федор Артурович Изенбек[31].
Странная случайность: смолоду Изенбек интересовался историей, даже участвовал в какой-то археологической экспедиции, и именно это обстоятельство побудило его обратить внимание на разбросанные в помещении странные дощечки. Разглядев на них какие-то письмена, он приказал вестовому собрать их в мешок и прихватить в штаб.
Потом он будет прихватывать их на всю долгую дорогу отступления до самой Феодосии. Отсюда через Черное море, — в Турцию, Сербию, Париж, Брюссель. Словно и не было у человека другого нужного груза и других жизненно важных проблем.
И что же дальше?
Глава пятнадцатая
Один дружный удар — и противник сломлен, дезорганизован, изгнан! Победители праздновали победу, опустошали продовольственные запасы бежавших гарнизонов, упивались вином, пели свои разноязычные боевые песни, танцевали у костров.
Не забыли и богов. Но поскольку отрядов было много, и все из разных земель, то и боги у них были разные. Правда, было и такое, что на одном корабле молились и богу скандинавов Тору, и славянскому Перуну, и христианскому Христу, и эта смесь богов, народов и наречий придавала жизни варягов какой-то необыкновенный, почти первобытный колорит.
Вот и тут на общем празднике, у одних костров, на общих наскоро сооруженных помольях это выглядело весьма необычно и красочно. А жертвенная человеческая кровь, принесенная в дар богам, никого не смущала, более того — придавала праздничному ликованию еще большую силу.
«Как жалко, что этого не видит мать Умила, — переходя от одних к другим, думал Рорик-Сокол. — Разве не сказала бы, что свой сыновий долг я исполнил как надо? И отцова душа, если ее отпустили на наш праздник, разве не ликует сейчас вместе со всеми? И Харальда-брата жаль — не дожил, не пролил в бою чужую кровь…»
И еще, поглядывая за Лабу, в сторону франков, не без злорадства представлял он себе удивление Лотаря. «Это твое дело», — сказал тот, глядя на него как на последнего неудачника. А что, оно его и есть! И сделал он это свое дело получше иного удачника. Без его, кстати сказать, участия или хотя бы одобрения. Сам! Но зато теперь про прежнего вассала забудьте, русы вольные люди и в обиду себя не дадут!
Но праздник, каким бы веселым и долгим он не был, когда-то все же кончается. К постоянной организованной службе варяги не привыкли, да и не умели ее исполнять. Вот на корабле другое дело, там командир для них — бог. Корабль мал, с него никуда не уйдешь, а на суше все горизонты открыты и никто насильно тебя не держит.
Расплатившись с отрядами из своей немалой, но все же не королевской казны, Рорик на какое-то время успокоил эту вольницу. Ему позарез необходимо было, чтобы они пробыли здесь как можно дольше, ведь и подготовка княжеской дружины, и хотя бы первоначальное обучение народного ополчения требовали времени. Но и этого недостаточно, долгой войны с большим королевством его маленькое княжество опять не выдержит. Необходимы объединенные усилия всех полабов и ободритов. Значит, надо идти на поклон к соседям, а те поднимутся не враз.
Рорик давно заметил, что самым разлагающим для пиратской вольницы является праздность и полное отсутствие какой-либо опасности. Все их разборки между собой и дикие выходки начинаются именно тогда, когда отдых между походами почему-то затягивается. Но стоит появиться поблизости войску герцога или короля — все мгновенно преображается: и в бой идут, и рубятся как звери. И профессиональное войско уносит ноги.
Теперь он уже сам желал появления датчан. И они не заставили себя ждать. Вначале это были небольшие, скорее разведывательные отряды, но с каким азартом набрасывались на них и норманны, и шведы, и балты! От скуки, оттого что мечи ржавеют без дела, ради славы, которая кармана не рвет, но душу греет.
Однако всему свое время: после малых сил пошли и большие, и тут уж начались настоящие сражения. И опять кое-кому это пришлось не по вкусу, воевать без солидных трофеев этот народ не приучен. Тем более что не за себя, а за кого-то.
Первыми ушли балты, за ними потянулись другие. А помощи от соседей-родичей все не было. В конце концов русы остались лишь со своими верными друзьями норманнами-норвежцами. Морские волки Рыжей Бороды бились наравне с дружиной Рорика, но силы были явно не равны. Королевское войско, хорошо отмобилизованное и обученное, давило все сильнее. Приходилось отступать, изворачиваться, действовать по-пиратски — малыми короткими кровавыми наскоками, внезапными ночными налетами, чтобы ошеломить, дать разгуляться яростным мечам — и обратно, до следующего удобного случая.
С каждым месяцем исход этого рискованного противоборства становился все очевиднее. И как раз в один из таких дней к Рорику привели группу славянских купцов. Он настороженно оглядел их — верно, купцы ладожские, не раз видел таких на торжищах, где у многих есть свои дворы.
Приветил, усадил за стол, спросил о здравии, о проделанном пути, о торговой удаче. А тем явно не до принятых в подобном случае любезностей, хотят сказать что-то свое. Поди, в море братва обидела, пришли помощи просить, как не раз уже бывало, а ему самому кто бы помог. Однако нет, вот поднялся самый старый, представительный, срывающимся от волнения голосом заговорил:
— Выслушай нас, княже. Мы будем говорить от имени пославшей нас к тебе земли русов, словен, кривичей, чуди и веси…
И он рассказал, как в беспрерывных схватках с варягами-датчанами ослабло княжество князя Буривая, как варяги захватили почти все его земли, как сын Буривая князь Гостомысл собрал войско и наконец прогнал иноземцев за море. В этих войнах погибли все четыре его сына, а сам Гостомысл уже стал годами стар. А тут и среди своих начались споры и раздоры — беда да и только. Тем более что и наследника у князя нет.
Перед своей смертью князь Гостомысл видел сон, будто из чрева его дочери Умилы выросло чудесное дерево, и плодами его питались многие люди. Волхвы объяснили ему, что сон этот пророческий, что наследовать ему боги велят внуку его от Умилы, и что плоды того дерева — это мир и покой, что утвердятся в княжестве, когда придет новый князь…
— Земля наша велика и обильна, — закончил он, — да вот нарядника[32] в ней нет. Приходи к нам, княже, и володей нами.
Устроив гостей на ночь, Рорик до утра промучился в терзаниях — как ему поступить? Погибнуть здесь, на отчей земле, исполняя свой сыновий долг, или принять приглашение и уехать наследником деда? Была бы жива мать Умила — рассудила бы, и он послушался бы ее. Брата тоже нет, но есть верный друг-норвежец. Что скажет он?
Друг сказал — надо ехать. У князя большой страны будет больше возможностей оказывать помощь землякам.
— А пойдешь ли и ты со мной, друг? — спросил Рюрик. — Не в набег, а на службу, может, долгую и уж точно — трудную. Ну как бы королю своему служить.
Тот усмехнулся и покачал головой:
— Как королю своему, говоришь? Об этом еще сто раз подумать надо… А с тобой, Сокол, мне и твоя земля станет моей.
На том и порешили.
Еще через несколько дней корабли, дожидавшиеся их на Лабе, подняли паруса…
Глава шестнадцатая
В трудах и тревогах кончилось лето, хотя и зернич, и овсенич[33], как всегда в этих краях, радовали обилием света и мягким, ласковым теплом.
После долгого летнего зноя все благодарно отдыхало, наслаждалось этой ласковостью, только море то и дело морщилось пенистыми волнами, словно предчувствовало приближение затяжных осенних штормов и предупреждало об этом беспечно-яркие берега.
В один из таких дней Ягила с Добрецом вывезли на сурожское торжище излишки своего урожая — зерно, фрукты, овощи, мед. Расторговались за полдня, быстро, потому что невелик стал привоз. А невелик потому, что мало огнищан-земледельцев осталось в округе. Уходит Русь с берегов Русского моря. Вот и этой осенью десятки подвод ушли на полуночь, а это — добрая сотня людей, а то и поболе.
Ягила безуспешно пытался остановить, образумить их, но в конце концов понял — это уже неостановимо, Русь навсегда теряет свое море. В других местах, и на восход, и на запад солнца, она уже давно отгорожена от него, Сурож последний. Последним покинет эту святую землю и его род. Так решил Ягила. И родичи с ним согласились.
Предстояла большая и трудная дорога, устройство на новом месте, для чего понадобятся немалые деньги. Конечно, корову и вола придется продать, но вместо них потребуются лошади. И одной телегой не обойдешься, — трех будет мало. И кони под седло нужны, а на новом месте не в открытом, же поле жить будешь, всем придется обзаводиться заново. И другим еще помочь.
Выехав за ворота города, остановились у причалов порта. Кораблей сегодня было мало, и те спешно грузились, чтобы успеть уйти до штормов.
— А ты заметил, брат, что невольников-то нынче совсем нет? — спросил Добрец.
— Прежде всего то и заметил. Еще на торгу, — удовлетворенно улыбнулся Ягила.
— Молодцы наши вой: отвадили!
— Вой молодцы и воевода их неплох, — похлопал Ягила брата по крепкому плечу. — Научил огнищан на рать ходить — как же не молодец?
— А коршун-то, коршун-то все кружит!
— И на того стрела найдется, дай срок.
— Что срок, ежели душа болит сейчас…
Дома их встретили, будто ждали не день, а целую седьмицу.
— Ну, как там?
— Море волноваться начинает…
Блага за эти месяцы заметно округлилась, отяжелела, отчего при своем невысоком росточке казалась теперь еще ниже. Милица, новичка их, тоже раздобрела и после всего пережитого выглядела спокойной с приятным светлым лицом молодицей. Все бы хорошо, да очень замкнутой была, слова лишнего не проронит. Никто не видел, как она улыбается, а уж о смехе и говорить нечего. Ягила поначалу сторожился показаться ей своей калеченной спиной, но, увидев, что та его ровно не замечает, перестал напрягать себя и облегченно расслабился: вот и ладно.
Однажды он увидел, как, стоя посреди сада, она неотрывно смотрит в сторону гор. Здесь, на приморской полосе земли, укрытой ими от холодных бореев, было еще тепло, а там кое-где уже белел снег.
— Что ты так печально смотришь на наш Тавр? — спросил он ее.
Та вздрогнула и потупилась.
— На нашей земле уже зима. Хочу снега…
— Эта земля тоже наша: Русь велика.
Она не отозвалась. И тогда ему тоже захотелось снега. Для нее, тоскующей по своим близким и своей зиме. Такой одинокой в чужом для нее краю.
— Прохладно. Не застудись. Иди в дом…
Когда она ушла, он вывел коня, оседлал и поскакал в горы. А вернувшись, подал ей свою отяжелевшую шапку, полную снега.
— Это тебе от нашего Тавра. И не печалься так, много зим еще будет на твоем веку, в твоем краю…
И тогда все в первый раз увидели ее улыбку. И слезы. И Ягиле показалось, что только теперь она увидела и его.
В студич[34], на Коляду, Милица разродилась хорошенькой дочкой. Блага старательно обихаживала ее и ребенка, а когда родила сама, все заботы о ней и доме взяла на себя Милица.
Так и зажили дальше. Добрец не мог нарадоваться на сына и жену, а Ягила радовался, глядя на всех.
В домашних делах и хлопотах минули ледич и лютич, а там и белояра[35] Ярун приманил. А белояр — уже весна. Опять весна! И все пошло по новому кругу-колу — с извечными огнищанскими трудами и заботами, Яруновыми страстями и Перуновыми грозами, гимнами-славами богам и долгими трудными думами с родовичами: время подходит, пора собираться, они — последние.
Урожай на этот раз собрали пораньше, лишнее свезли на торг, для еды заготовили муки и круп. Долго укладывали и увязывали возы, еще дольше прощались с домом, садом и полем. А когда из Сурожа набежали черноголовые незваные покупатели, Ягила шуганул их так, что те еле обратную дорогу нашли:
— Зря тревожитесь, мы отчей землей не торгуем. И помните: это русская земля, и мы еще вернемся к родным могилам. Прочь отсюда, воронье!
Сходили на погост, постояли у могил Мечислава, Ратибора, Заряна, всех, кто на протяжении веков лелеял и оберегал эту землю. Попросили прощения за вынужденную отлучку, поклялись, что непременно вернутся. Не они сами, так дети. Не дети, так внуки. Земля русичей должна быть русской.
Когда подводы одна за другой выехали на дорогу, Ягила обошел всех, еще раз напомнил, как нужно вести себя в пути, где будут и степи, и леса, и реки, и ночевки у костров. Под плач и причитания женщин небольшой обоз тронулся, но люди еще долго оборачивались и, не отирая слез, прощались с родиной.
Оставив в стороне хмурые хребты Тавра, вышли в открытую степь. Пяток конников Добреца поскакал вперед: нынешняя степь небезопасна. Бывали времена, когда по этому приволью спокойно водили свои стада их предки, но сейчас покоя нет нигде.
Да и пусто стало в степи. Лишь изредка увидишь одинокого пастыря с небольшой овечьей отарой или скачущего куда-то всадника, — и опять пусто, мглисто и от того еще более тревожно.
После нескольких ночевок их догнала довольно большая конная дружина. Видя, как все заволновались, Добрец поскакал ей навстречу и, вернувшись, успокоил:
— Не тревожьтесь, это ж мои побратимы. Те, кого мы от кабалы амастридской спасли. Это они хазар да греков от Сурожа отвадили! Наскучило им в печерах жить!
— И куда теперь путь держите? — привечая каждого, спросил Ягила.
— С вами! На Русь! — стройно отозвалась дружина. — Со своими губителями разочлись, да у Руси их еще много. Пригодимся и мы.
С такими сопутниками стало спокойнее, и Ягила мог теперь позволить себе малую праздность — разглядывать и запоминать оставляемые края. Представил себе далекий уже Хорсунь, переиначенный греками в Херсонес, с его мощными, воздвигнутыми на века стенами и башнями. Но придет время, когда и на эти стены взойдет неустрашимый русич. Надежда на это рождала веру, а вера согревала сердце, будоражила мысль.
Когда слева сначала смутно, а затем все более зримо обозначились какие-то темные глыбы, Ягила остановил обоз и с малой дружиной поскакал посмотреть: что это?
Это были руины некогда большого и, должно быть, богатого города. Остатки мощных стен тянулись на много поприщ, опоясывая его каменным поясом со всех сторон. Полуразрушенные дворцы и дома потрясали воображение — в них могли жить разве что цари, не иначе.
И тогда Ягила вспомнил рассказы хожалых людей о каком-то мертвом городе в здешних степях. И название его много веков назад было — Новый Город. Да это же новая столица скифов, ушедших сюда от своих воинственных сородичей сарматов! Отец Зарян бывал тут, горько плакался о его гибели и ругал порушивших его готов. Греки и эллины называли его Неаполем Скифским, столицей тавроскифов. Как назовут его потомки, когда возродят для новой жизни?
Еще через несколько дней степь вдруг сузилась настолько, что почти сомкнулась в довольно узкой полоске земли. И с той и с другой стороны плескалось море. Когда увидели, что впереди эта полоса пересечена то ли балкой, то ли широким рвом с валом осыпавшейся и заросшей за века земли, остановились.
— Вот тут, по всему, и кончается наша Сурожская земля, — осматриваясь по сторонам, сказал Ягила. — А это, поди, и есть тот знаменитый ров, который прокопали скифы, чтобы биться за свою волю. И на какое-то время отбились…
— А что же будет там, за ним? — спросил Добрец.
— Опять степь будет. Великая Скифия, Сарматия, Русская Колунь — Русколань.
— Выходит так, что край наш соединяется с Русью только этим узким перешейком. Занятно. Как листок на ветке, да?
— Как листок… — задумался Ягила. — Подует ветерок — он и затрепещет. А случись борей посильнее — глядишь, и сорвет листок сей.
— Пока еще не сорвал…
— Но для Руси он уже усох. Не доходят до него соки русского древа.
— Когда снова отвоюем, оживет. Иначе не может быть!
Стояли два брата русича из рода Мечислава и Ратибора, говорили о том, что являлось их глазам, пытались заглянуть в будущее. Но не дано было знать им всего того, что еще предстоит испытать этой земле. Все будет— и жестокие сечи, и годы мира, и снова сечи. Много раз чужие находники, как прожорливые гусеницы, будут ползать по этому трепещущему листку, рвать его жилы, пить его соки, стремясь навсегда перегрызть соединяющие его с Русью сосуды. И иным это будет удаваться. На время — большое или малое. А потом он опять оживет, зазеленеет на родном русском древе, пока в очередной раз не подует суровый безжалостный борей.
Переправились через этот древний ров-перекоп, как через сухую балку, и остановились на привал. Пока женщины ломали сухой хворост и варили на кострах крупяную похлебку, дружина Добреца обследовала окрестности, напоила коней и отпустила подкормиться под присмотром отроков здешним ковылем.
Дорожный отдых недолог: поели сами, покормили лошадей — и снова в путь. После перекопа на душе стало еще более тревожно и опасливо — что там, впереди? Степь слева, степь справа, степь перед лицом, растеклась без конца и края, не охватишь ни взглядом, ни мыслью. И все это — Русская Земля?
День шел за днем, седьмица за седьмицей, ласковое тепло сменялось долгими уже осенними дождями, после которых опять сияло солнце и парило так, что хотелось лечь на траву, раскинуть руки-ноги и лежать, лежать, лежать.
Лошади тоже притомлялись, ведь никаких дорог не было, а балки попадались порой такие глубокие, с такими крутыми склонами, что на помощь коням приходили не только все мужчины, но и женщины. Зато не было иссушающего зноя, безжалостных кровавых сосунов слепней и паутов, а травы после дождей были вкусны и сытны.
Люди всю дорогу, за исключением малых детей, молча шли рядом с возами. Казалось, обо всем уже было сказано, переговорено, оставалось только думать. А думалось в степи хорошо. С высоты своего коня или очередного кургана Ягила всматривался в степные дали и уже так свыкся с ними, что не удивился бы, повстречайся им сам Отец Орий, или князь Сколот-Колоксай, Кий, Щек, Хорив.
Степь только с виду такая пустынная и немая, но приглядись и увидишь тени ее великих сынов. Здесь оставили свой след легендарные народы древних веков — киммерийцы, скифы, сарматы, кто-то еще до них и кто-то после. Вместе с ними или частью их были и славяне, ведь старые предания до сих пор гласят, что они — дети одной матери и одного отца.
Ягила считал их своими кровными родичами, гордился ими, переживал за них. И когда писал про их дела на своих дощечках, душа его то ликовала, то сжималась от скорби, а такое единение возможно лишь при кровном родстве.
А какое негодование вызывало в нем одно лишь упоминание о языгах, готах, гуннах, аварах, утрах-мадьярах! Все они тоже прошли по этим травам, по этой земле, не жалели ни собственной, ни чужой крови, чтобы сделать ее своей. Где их следы? В сгоревшем Воронженце и Голуни? Или прямо тут, и колеса его обоза сейчас вминают в дерн их бренные останки? Ушли они отсюда не по доброй воле, а по воле наших мечей. Где они сейчас, некогда сильные и гордые? Каким другим народам передали свою кровь, насытившись чужой?
Думать о них Ягиле всегда было больно и трудно. С особенным гневом вспоминал о готах. Вот уж кто попил кровушки русичей, так это жестокие находники германцы готы, которых теперь он отождествлял с современными ему варягами.
Это они почти полтора века терзали его любимую Русколань. Особенно те, что были из рода амалов. Хорошо хоть, что со своими родичами из рода балтов и с другими, гепидами, не ладили, и те прошли дальше на запад солнца. А когда появились гунны и начались нападения с двух сторон, изнемогшая держава русичей не устояла, пала окончательно.
Гунны… Ох эти гунны, страшная помесь тюрков и поволжских угров, несметная в своем числе и неудержимая в своих стремлениях!..
Сначала они разгромили алан, затем рассеяли готов-амалов, и те потом большей частью влились в их великое воинство. Усеяв берега Донца и Дона трупами и пепелищами русских городов и поселений, эта неукротимая силища двинулась на Днепр, разметала киян, антов, сарматов и, гоня западных готов-балтов к границам империи греков, вбирая в себя побежденных и приставших добровольно, на время вроде бы успокоилась, — молодая, могучая, хорошо организованная, не знающая себе равных.
Кровь… Сколько ее было пролито на эти степи, на эту землю и на эти травы!.. Красными от нее должны бы они стать, однако, удобренные ею, они зеленее прежнего. Один ковыль седой, как волосы на голове старого волхва. Когда ты поседел, ковыль? Не в те ли страшные годины?
И все же о гуннах иной раз думалось и по-другому. Того требовали справедливость и завещанная предками Правда. А заключалась эта правда в том, что, ураганом пройдя от Волги до Дуная, обезвредив готов и алан, приостыв от азарта битв, гунны взяли под свое, теперь уже дружественное, крыло те самые славянские земли, где еще недавно натворили столько зла.
Кочевник, он свиреп и страшен в бою, а в мирные дни спокоен и даже мудр, высоко ценит верность и дружбу. Так случилось и тут: прикрытые щитом могучего союзника, вновь ожили славянские земли киян и антов. Ушедшие было в леса племена вновь заселили свои прежние степи вплоть до самого Русского моря. В условиях мира и спокойствия сложились крепкие славянские княжества — Киевская Скуфь (в память о благодатных временах Великой Скифии!) и Антия.
Был у гуннов в те годы царь Баламбер, чье славное имя у славян переиначилось в Белорева. Старые предания рассказывают, что по примеру прежних великих вождей отправился он в ратный поход в полуденные страны — Сирию и земли, лежащие меж двух тамошних великих рек. Воспользовавшись уходом главного войска, вновь поднялись готы во главе с потомком Германареха Амалом Винитаром. Неожиданно и жестоко обрушился он на мирных антов — якобы за то, что изменили прежним своим господам готам и предались гуннам, их врагам.
Коварный удар был беспощаден. Небольшая дружина князя Буса Белояра полегла в бою, а самого Буса с его сыновьями и семьюдесятью старейшинами Винитар приказал предать лютой смерти. Все они были распяты на крестах и оставлены на прокорм хищным степным птицам и для устрашения оставшихся в живых.
Вернувшийся из похода Баламбер-Белорев, мстя за своих союзников, сурово покарал мятежников. В решающем бою войско готов было изрублено. В нем нашел свою погибель и неверный Винитар.
Такими были они, гунны. Такова честь и правда настоящего степняка.
Проклиная гуннов за погубленную Русколань, не мог Ягила не думать и об этом. И сердечно горевал, что и великие гунны вслед за великими киммерийцами и скифами, разделив их жестокую судьбу, исчезли с лица земли. Но это случилось где-то далеко, на землях запада солнца, и он, Ягила, малое зернышко сломленного колоса Русколани, о том не знает. Вот был бы жив отец Зарян, он бы просветил. Он знал больше.
Но и после гуннов степь не знала покоя. После них появились другие угры, возглавляемые тюркскими же воеводами, — булгары. Авары, удиравшие от беспощадного меча Великого Тюркского каганата, прошли здесь же, уничтожив по пути державу антов с ее князем Мезенмиром. И опять угры — мадьяры…
Все эти находники не оставили по себе ничего доброго. Только кровь, огонь, смерть. И слава богам, что не стало и их…
Вечерами, вглядываясь в огненно-лиловые дали, куда уходило на покой солнце, Ягила как бы внутренним взором своим видел Днепр, Днестр, Дунай и еще дальше — Венедское море, зовомое теперь Варяжским. Какие битвы гремели и там, сколько родной крови пролилось и на их берега? Сколько русичей-славян поднялось оттуда на белых конях в синюю Сваргу к богу Перуну за новым телом?
Хорошо думается в степи. Особенно у вечернего костра, когда спеты нужные славы богам, сказаны святые слова вечных молитв и лежишь ты на охапке сухого ковыля и глядишь в звездное небо. Но то совсем не звезды, а глаза твоих далеких и близких пращуров. Что сейчас в их взглядах? Одобрение, укоризна, сострадание? Укоризна понятна, за сострадание спасибо. А вот одобрение…
Не выдержишь, затуманишь свои глаза набежавшей слезой и горько вздохнешь: виноваты, но не судите — это еще не конец. Ведь не зря же сказано, что Русь сто раз погибала и сто раз возрождалась вновь. Возродится и из этого морока, скажет свое слово.
Подумаешь так, укрепишь свою веру — и опять посветлеет на сердце. Захочется двигаться дальше, плакать от счастья, видя красоту родной земли, ликовать вместе с ее жаворонками и соловьями, тосковать с ее лебедями и кукушками, а встанет солнце — с новыми силами торить свой путь.
Двигаясь все время строго на полуночь, обоз сурожцев неожиданно для себя вышел на какой-то шлях. Сначала подумали — старинный, но приглядевшись, обнаружили не только следы конских копыт, но и тележных колес. Значит, это действующая дорога. Но откуда? И куда ведет?
После долгих размышлений решили пойти по ней, свернув налево. В той стороне Днепр, а Киев как раз на Днепре. А если так, то это знаменитый Хазарский шлях, по которому на Русь приезжают купцы не только из самой Хазарии, но и стран, лежащих за Фарсийским морем, из Армении, Ириана, Индии и других далеких краев. По ней и дань в Итиль возят.
Вскоре явилось и подтверждение — небольшая дубрава с колодцем и долбленым корытом, в котором еще не высохла вода. Из таких обычно поят скот и лошадей. А вот и большое кострище, чисто обглоданные бараньи кости, лошадиный и верблюжий помет…
Решили заночевать здесь, благо воды было в избытке, пусть и солоноватой. Для начала и сами напились, и коней напоили, и еду сварили — столько радости! Ведь в последние дни на пути не попадалось ни единой речушки, ни единого родника. На радостях и корыто наполнили, — приятно было поднимать потяжелевшую бадью, слушать, как звенят улетающие в черную глубину капли, смотреть, как купается в холодной купели серебряный месяц.
Оставив для ночного бденья стражу, выбрали место под раскидистым дубом и, сбившись поплотнее, улеглись спать. Ночи к тому времени были уже прохладными, и Ягила с Добрецом, боясь застудить детей и женщин, долго устраивали им постели потеплей. А потом и вовсе расхотелось спать.
Насколько позволял свет костра и месяца, наблюдали за пасущимися лошадьми, обошли дубраву, поговорили со стражей. И вдруг один из дружинников насторожился.
— Тихо, братия… Что-то в степи не так.
Лег на землю, припал к ней одним ухом, другим:
117
— Земля гудит. Точно войско скачет…
Мигом подняли всех мужчин, те — за мечи и топоры. Кто-то догадался пригасить костер. Замерли в ожидании.
— Гудит, гудит земля…
— Однако уже хорошо слыхать… Близко…
— Ну, Перун великий, пособи!..
И вдруг все стихло. Но и при слабом свете месяца уже можно было разглядеть в ночи большое темное пятно и даже силуэты отдельных лошадей.
— Чего-то встали, — обронил Добрец, тоже уже оружный, готовый к сече. — Может, брат, и нам — на коней?
— Против такого войска твоя дружина не сила. Подождем, может, дадут боги, еще мимо пройдут.
— Тихо, мужи!..
А там, в том темном пятне, опять что-то задвигалось, затопало, заржало враз несколько лошадей. Им тут же отозвались и свои, сурожские. И тогда все тот же дружинник, в прошлом бывалый степняк, догадался:
— Не войско это, не войско! Дикие кони это. Вольные, из степей!..
Но тут заволновались свои. Заржали, зафыркали, потянулись к степям.
— Держи лошадей, не то уведут! Уведут ведь, говорю!..
Добрец первым почувствовал новую опасность и кинулся за своим конем. Поймал, накинул узду, взнуздал. То же сделали и другие, но лошади еще долго не могли успокоиться — ржали, крутили головами, вскидывались на дыбы.
А степняки все не уходили, лишь перемещались с места на место вокруг дубравки и словно чего-то ждали. Когда оказывались совсем близко, вожак табуна, гневно храпя и действуя зубами и копытами, осаживал их назад.
— Да они же на водопой пришли, — догадался Ягила, — а тут мы. Сторожкие, чисто звери!
— Может, уйти нам? — сказал Добрец. — Отойдем подальше и уж там доспим, а?
— Жалко всех будить-то. Только пригрелись.
— Да никто уже не спит, глянь!
И верно, вокруг возов и между ними уже вовсю сновали старики и женщины, разбуженные случившемся переполохом.
— Что тут у вас? — подошла к Добрецу Блага. — Хазары?
— Побольше б таких хазар! — засмеялся тот. — Дикие кони, степняки. Чуть наших не увели!
— А много-то как! — удивилась Блага. — И как они тут одни, без людей?
— Вот как раз без людей им и хорошо. Это людям без них плохо… Как там дети, спят?
— Эти спят. Им что кони, что хазары.
Поскольку все уже были на ногах, снялись и поехали. А степняки тут же двинулись к воде. Напившись, какое-то время ходили вокруг колодца и кострища, вынюхивали следы людей, фыркали и как-то незаметно, словно растворившись, исчезли в степи.
На следующий день навстречу попался длинный обоз, шедший на восход солнца. Сурожцы уступили ему дорогу и, удивленно глядя на такую массу телег, лишь качали головами:
— Это ж надо, сколь их сбилось!.. Никак — купцы?
— И откуда едут, чего везут?
— Выходит, есть еще чем торговать Руси.
— Из Киева… О-хо-хо! А нам еще идти да идти!..
И все-таки они дошли. Сначала все чаще стали попадаться небольшие леса и перелески, потом степь отступила окончательно, и путники увидели Днепр.
Сердце Ягилы учащенно забилось.
— Непра-матушка, колыбель русичей… низкий поклон тебе от Сурожа… живи до скончания веков!..
Поприветствовав главную реку здешних славян, он вознес славу богам, благополучно приведшим сюда его род, пропел им достойные славы и кинул взор на противоположенный берег. Спросил перевозчика:
— Скажи, брат, а чей это род сидит на той горушке?
— На той горе, брат, сидит сам город Киев, — солидно ответствовал тот, снисходительно глядя на пришельцев. — А сам ты, медведь, из какой пущи явился?
Глава семнадцатая
— Ну, вот мы и приехали. В Русь… в Киевскую…
Ягила хмуро оглядел сбившиеся в кучу телеги родовичей, просторную поляну на краю голого осеннего леса, сам лес. Посмотреть в глаза людям не решался: сам был недоволен собой и от них одобрения не ждал.
Не понравился ему Киев с его крутой неустроенной дорогой на гору, еще более неустроенный Подол внизу с муравейником беспорядочно разбросанных хижин и землянок, с греческой церковью над Ручьем, бесчисленными оврагами.
Поначалу подумал: ну ладно, это бедное предградье, вот поднимемся наверх, там и будет настоящий город, стольный град русичей-полян, их гордость и краса.
А чего стоило подняться-то! Тут пеший, пока взойдет, сто потов прольет, а как быть с конями, с телегами? Кони сбивали о камень копыта, рвались из упряжи, опрокидывали возы, едва не падали сами. Пришлось каждую телегу вздымать едва не на руках. Хорошо что дружина Добреца еще не оставила их, помогла, а то бы…
Нет, не понравился Ягиле Киев. Вид с горы на Днепр, конечно, солидный, дух захватывающий, но где могучие каменные стены, где неприступные башни, которые можно было бы сравнить если не с херсонесскими, то хотя бы с сурожскими?
Вид скромных валов с деревянными заплотами и деревянными же башенками оскорблял его несбывшиеся ожидания, горько разочаровывал. После того, что осталось в памяти о городах покинутой родины, досада и оторопь рвали душу. Неужели не понимают здешние князья, что при таком обилии врагов не устоять деревянному Киеву? Похоже, что с тех пор, как утвердил его великий Кий, тут мало что изменилось. Варягам Аскольду и Диру с их варяжской дружиной, может, все равно, они тут чужаки и временщики, но о чем думают сами русы? Это же их отчая земля, единственная на свете…
Нет, не это виделось в мечтах Ягиле, не этого ожидал он увидеть на Непре-реке.
— Ну вот, — повторил он убитым голосом. — Русь… Киевская…
Кроме этой, Киевской, он знал еще Северскую, Венедскую, Новгородско-словенскую, погибшую Сурожскую. И каждая сама по себе, каждая в особицу. Поначалу он думал уйти в Северскую землю, но вспомнил отца Заряна, его слова о необходимости всегда быть с Киевом, и ослушаться не посмел.
Единственное, что грело сердце, — вера пращуров здесь еще держалась. И хотя князья огречились, святилища Влеса на Подоле и Перуна на Горе стояли, и люди к ним шли. Ради этого и привел он сюда свой род.
— О чем, брат, тужишь? — окликнул его Добрец, подходя с двумя заступами в руках. — Если думаешь, с чего начать, так я уже решился: первое, что нам нужно, так это крыша над головой.
— Успеем ли? Просич[36] ведь на дворе, — шагнул ему навстречу Ягила.
— Пока не об избе речь. То впереди. А для начала без землянки нам никак. Вон женщины наши с детьми малыми стынут. А просич киевский не то что в Суроже — зима тут, по всему, иная.
Ягила согласно покивал, взял один из заступов и напомнил о лошадях, которые сейчас, стреноженные, жевали пожухлую траву.
— Для них из жердин тоже что-то сладим. И хотя бы этой сохлой травы воз-другой на зиму насерпить надо. Когда все успеем?
— Главное — начать. А там и женщины помогут.
— А соседи? Как они?
— Вон места под землянки выглядывают. Сейчас у всех забота одна — тепло.
Выбрав место, отмерили нужное количество шагов, определили, где устроить вход-выход, и принялись за работу. Блага и Милица покормили малышей, устроили в мягкой рухляди воза, подошли поглядеть.
— Не мала ли будет земляная крепость наша?
Это — Блага. Язычок у нее всегда остер, ни о какие беды не изотрется. А вот Милица все больше молчит, о чем-то думает. Может, и она собирается искать свой род? Ведь сама из этих краев, с Киевщины. Если после того, как разъехалась дружина Добреца, уйдет и она, совсем худо станет.
По настоянию Благи яму под землянку увеличили еще на шаг и, не отвлекаясь на разговоры, продолжили еще усерднее ворочать землю. Только Добрец попросил-наказал:
— Пока мы тут заняты, соберите на ночь хворост.
Для чего, сколько — Блага сама знает. Она у него домовитая, только дай волю.
К вечеру яма была уже Ягиле по плечи. Немногословная Милица спустилась, огляделась и как бы сама себе сказала:
— Если сверху чем-то прикрыть, а посередине устроить очаг, можно бы и заночевать. Все не на ветру…
Братья переглянулись и молча заторопились в лес, благо он рядом. Нашлись и камни, не ахти какие, но на временный очажок сгодятся.
После скорого ужина довершили начатое, перенесли с возов необходимое для постелей, разостлали на мягкие еловые ветки, разожгли в ямке очажок и впервые со времени отлучки из дома уснули теплым спокойным сном.
Говорят, сны на новом месте вещие, через сны боги разговаривают с людьми. Но ничего вещего на этот раз не было. Ягиле снилась Милица, кормящая грудью свою девочку. Добрецу — табун диких степных лошадей и прощание с дружиной. Женщинам и малышам не снилось ничего: одни очень устали, другие еще не знали, что это такое.
Когда через несколько дней землянка была готова и ее заселили, пошел первый снег.
— Ну вот, — сказал Ягила Милице, — я же говорил: будет еще у тебя твой снег. Радуйся.
— Ты обещал и я верила, — перекатывая из ладони в ладонь белый катышек, улыбнулась та. — Ты, Ягила, такой надежный, такой добрый, такой… верный… и душевный, что…
Чтобы не показать своих слез, отвернулась, запрокинула голову, ловя губами мохнатые хлопья. Договорила, когда справилась с нахлынувшим волнением:
— …с тобой всегда… хотя и строгий ты… как-то спокойно, тепло и хочется жить… И всему, что говоришь, веришь… И хочется во всем помогать тебе. Чтобы и тебе было хорошо… чтобы все у тебя ладилось, как того хочешь… чтобы все тебя слушались и любили…
— Спасибо, Милица, добрая душа, — растрогался и Ягила. — Радостно мне за тебя… Сейчас столько на Руси обездоленных и бессчастных, и всем хочется помочь, да не знаешь как. А тебе бы еще своих найти, и тогда все будет ладно.
— Других своих у меня нет, Ягила. Только вы, ваш род… Не гоните меня. А уж я на добро добром… на ласку лаской… Это сердце во мне так говорит.
Не сдержалась, припала головой к его плечу, захлебнулась благодарными слезами. Не готов был Ягила к такому разговору, разом растерял всю свою строгость, ответно открыл свою душу.
— Милая моя, любая моя, наш род — твой род, наша доля — твоя доля. Живи, радуйся. А уж мне ничего больше не надо. С тобой и мне солнышко светит. От сердца твоего и моему сердцу тепло… Любая моя… желанная…
Никогда еще не было ему так хорошо. Никакие боги за всю его жизнь не дали ему столько счастья, столько живительного солнечного тепла, сколько так щедро пролила на него эта тихая ясноокая молодая женщина. Он не думал сейчас ни о своем несчастном калечестве, ни о пережитых страданиях, ни о трудах, которых было и будет еще очень много. Он здоров, крепок, щедр. Сердце его широко открыто богам и людям. Оно теперь знает, ради чего стоит жить на земле.
Спустившись в тепло, объявили о своем решении Добрецу и Благе. Те давно втайне ждали этого и теперь радовались вместе с ними.
Первый снег выпал и как-то враз сошел, будто его и не было.
— Как в нашем Суроже, — засмеялась Блага. — Показался, поиграл и обманул. Только сырость развел, игрун этакий…
Но и сырость была короткой. Вскоре легкий морозец подсушил все вокруг, и род Ратибора с новым жаром принялся обустраиваться на выбранном месте. Все четыре семьи обзавелись такими же землянками и теперь, по примеру Ягилы, городили зимние укрытия для коней. Одновременно с тем валили сухие лесины на дрова, серпили травы для лошадей, детей снарядили собирать желуди, которых тут было великое множество, а одна самая многолюдная семья взялась еще и копать колодец. С водой пока было плохо: маленькое озерцо мелко и топко, а до Днепра далеко. Теперь будет своя, только бы не ошибся лозоходец да водица оказалась чистой и сладкой, не в пример степной.
Выбрав день, Ягила с Добрецом съездили в Киев на торжище, продали лишних лошадей и пару телег, закупили на весну семян, а на прокорм муки, круп, соли. Не забыли и о том, что впереди зима: выбрали женам по ладной шубейке, себе по кожушку. А там еще — порты-ноговицы, сапоги, шапки, женские платы, иглы, клубки ниток, мягкую камку — пусть женщины порукодельничают, сошьют себе что надо.
Принеся жертву богу Влесу, довольные покупками вернулись домой. От радости и гору одолели без особых мук, а на греческий храм даже не взглянули. Вот малость обживутся — свое помолье устроят. Своих богов они в обиду не дадут!
Последние дела завершили уже на зимнем холоду, по колено в снегу. Зато в землянке было на удивление тепло, хотя и дымно. Но когда очаг прогорал и дым утекал в волоковое окошечко, сделанное в потолочном перекрытии, становилось вполне сносно, даже для детей.
Дни и ночи в землянке отличались друг от друга лишь тем, что днем в ней горели лучины и трижды в день очаг, а ночью тьма стояла такая, какой она бывает разве что в Нави. Когда не вспоминаешь об этом — ничего, даже спится крепче, а как вспомнишь да задумаешься — поневоле начинаешь ощупывать себя: живой ли еще? Или уже навий человек, которому что тьма, что свет — все едино?
Теперь, когда дворовая и полевая работа пресеклась зимой, место ее заняла домашняя, тихая и невидная, но без которой человеку не обойтись. Вот Милица на тонких железных прутиках-спицах вяжет мужчинам рукавицы. Шерстяную нить сначала сдвоила, чтобы получились двойные, теплые, и вся отдалась работе, — только губы слегка шевелятся, считают петли, да пощелкивают кончики спиц.
О чем думает она сейчас, где носится ее исстрадавшаяся душа? Или наконец успокоилась, согрелась в общем тепле нового рода? Это ж надо было перенести такие муки и не умереть душой, сохранить в себе и материнскую радость, и женское счастье. Хорошо они с Добрецом тогда решили — отвадить торговцев людьми от Сурожа. Какой же молодец его брат, как ладно все у него получилось, сколько русичей от заморской кабалы спас. Да и только ли русичей?
Почувствовав его взгляд, Милица подняла голову, глаза их встретились и рассказали друг другу, как им хорошо. Ягила сидит напротив с ее дочкой на коленях. Той только и нужно что забраться к нему, попрыгать и потаскать за бороду! Борода у мужчины — его честь. За ее оскорбление можно и в Навь угодить. Единственные, кому это не возбраняется, — дети. Им можно и на загривок влезть, и бороду в помело растрепать, и матерого сурового мужа в конягу превратить, отчего тот только довольно кряхтит и млеет от счастья.
А у Благи своя работа — из старого платья шьет мальцам рубашонки. Пока они мальцы, им и мало надо. Вот когда совсем подрастут, тогда рубашонки эти уйдут в память, а на смену им потребуется уже другое — мальчику рубашечка и порточки, а девочке платьишко до пят. Но до этого еще далеко. Нельзя торопить время— Числобог обидится. Ведь время — это наша жизнь. А когда она молода, то дорога вдвойне.
Добрец тоже занят. Вот уже который день чинит поистершуюся в долгой дороге конскую упряжь. Работает деловито, ничего кроме своих ремней, шила да иглы не видит. Тоже о чем-то думает. Не может человек ни о чем не думать. Такое может быть только во сне, не зря же сон считается временной навью. Страшен человек, не умеющий думать или думающий злое. От такого при жизни веет смертью. Холодное сердце у него.
Сынишка с Добрецом большие друзья. Он очень любит помогать отцу. Самому всего год, даже еще имени не имеет, а уже помощник. Вот взялся размотать для него нитку. Нитка крепкая, из конопляных волокон витая, в тугой клубок смотанная. А клубок такой юркий, такой хитрый, никак не уловишь его маленькой ручонкой, все бегает, крутится, не поймать. Вот вильнул длинным хвостиком и пропал совсем. Куда закатился, не видать — темно…
Все хорошо, всем доволен Ягила. Одно плохо — мовницы нет. А ведь для русича это первое дело. Боги требуют, чтобы человек был чист и телом, и душой. От нечистого они слав не приемлют, самых горячих благодарностей не слышат. А без них человек беззащитен от любой порчи и дурного глаза. Неслучайно нечистые и болеют чаще, и в Навь уходят раньше других. Стало быть вместе с домом нужно строить и мовницу. А лучше с нее-то все и начать.
Было и еще одно неудобство, томившее душу Ягилы: при таком скудном освещении он не мог писать. Впрочем, в последний год ему было не до того, но написанное берег, по совету отца Заряна дощечки проморил в горячем растопленном воске, отчего письмена закрепились и проявились еще четче. Кроме того, жидкий воск впитался во все поры и трещинки дерева, отчего оно стало крепче и приятней для глаза, а самое главное — сможет теперь сохраниться на долгие годы.
Конечно, много чего не хватало, многое было несподручно в новом еще неустроенном быту, но все понимали — это дело временное, постепенно все наладится, нужно потерпеть, подождать. Они непривередливы, терпеливы, они подождут, но будут ли ждать боги? Сурица давно кончилась, меда, чтобы приготовить свежую, тоже нет — как быть?
Поговорил с домочадцами. Те тоже давно сокрушались, и вот сообща решили: если у здешних поселян меда не найдется, надо будет сходить на торжище в Киев.
И вот Ягила идет в город. День солнечный, яркий от сияния небес и снегов, ветерок еле шевелит пряди бороды, идти весело и легко. Сначала были одни тропки. Но их было много. Попетляв, они сливались друг с другом, принимали в себя новые и вот стали дорогой. Значит, не одному ему понадобился торг. Не сидится огнищанам в их зимних норах, жизнь требует. А может, просто занедужила душа, просится на волю, к людям — потолкаться в торговых рядах, узнать что ныне почем, послушать, что вокруг деется, чем мир живет.
Вот и Ягила не только за медом идет. Его душа тоже занедужила, ей тоже хочется простора, человеческих голосов, новостей. Страсть как хочется услышать хоть что-нибудь о родных сурожских местах. Не явился ли там новый Бравлин или Криворог, разметал ли своей дружиной эллинские города, что, как мизгири, уселись по краю русского поморья, не кличет ли его покинутый Сурож, где в грязи и пыли лежат низвергнутые греками славянские боги?
Дорога от сурожских поселенцев до Киева недолга — всего-то с десяток поприщ. Как раз успеешь согреться и оглядеться вокруг. Ягиле это интересно и полезно: ведь сколько говорено о трех братьях — Кие, Щеке и Хориве, о местах, где братья обитали и во имя старшего утвердили Киев, а повидать прежде не довелось. Уж и теперь, когда сам стал киянином, не нашлось время походить, посмотреть, поспрошать. Обидно. Но зато сегодня он насытит свою жажду новыми познаниями, даст глазам волю видеть, а душе вбирать и сохранять.
Вот те знаменитые три холма, на которых семьсот лет назад жили со своими людьми древние братья. Щек — это же «чех», пращур нынешних славян-чехов. Хорив, он же Хорвато, Горовато, Хорват — праотец ушедших далеко на полудень хорватов. Ну а Кий… Давно думал Ягила — почему Кий, ведь у славян таких имен не было, и не русское имя это. У древних ириан, братьев наших, говорил отец Зарян, оно означало «владыка», «вождь», «государь». Вот таким владыкой славянским и был этот великий князь. А задолго до него был Кий Древний, когда Отец Орий увел последних славян из далекой земли священных Семи Рек и Загорья, чтобы через многие полуденные страны Двуречья, Египта и Сирии выйти к другим своим собратьям и соязычникам в степи Pa-реки, Дона, Днепра, Карпатских гор — к злачным травам и воде живой.
Вот на этом большом холме, что слева от дороги, на месте прежнего поселения славян и утвердил Кий свой город. И тут же, оставив в нем княжить сына Лебедяна, начал вновь собирать дорогую русичам Великую Скифию. Опять вернул им все степи от Pa-реки и Дона с Донцом до самого синего Дуная и гор Карпатских, построил новую столицу — славную Голунь — и много других городов. И прозвалась эта страна уже не Скифией, а Русской Колунью — Русколанью.
Шел Ягила по древней земле своих праотцов, душой и очами вбирал ее бесконечный сияющий простор — и сердце его трепетало от счастья. Не только Сурож, куда укрылись после разгрома Русколани его предки, но и эта земля — его кровная родина. Сейчас она слаба, разрознена, терпит унижения и стыд от новых германов-готов, какими являются пришлые самозванцы варяги, но память ее жива, и боги ее в Сварге синей копят силы для новых битв, из которых Русь возродится опять — еще более славная и могучая.
На Щекавице и Хоревице издали виделись лишь небольшие селения, окремленные невысокими стенами. А на Горе князя Кия возвышался и с каждым поприщем рос прямо на глазах город-легенда, город-крепость Киев. На этот раз он виделся Ягиле совсем другим: и стены его из могучих дубовых срубов и палей, и по виду неказистые, но тяжкие, кряжистые башни всей своей грубой мощью и силой могли охолонить и остановить любого. Для кочевых степных находников это препона непреодолимая. Войти в город можно только хитростью или изменой, как и вошли варяги.
А киевский торг как всегда был полон торгующимися и всяким праздным ротозейным народом. Вон выставил свои первейшей необходимости в любом хозяйстве изделия корчажник-горшочник. Вот на шестах раскинули свой товар усмари-кожевники; со связками новеньких сапог через плечо ходят сапожники; на серой холстине, прямо на снегу, разложил свою кузнь кузнец; на длинных столах высятся многоцветные горки всевозможных тканей из Византии, Венеции, Дамаска, Персии. Почти рядом вороха рогож, веревочных мотков, конской упряжи, простого небеленого холста. Бойкая лошадка тянет за собой целый обоз новеньких саней. Есть санки и поменьше и сосем махонькие — на потеху детворе. Для них же и расписные глиняные свистульки — птички разные, а голосок один.
Богат, ох как богат у киян мясной ряд. Тут тебе и туши говяд, и только что освежеванные телята, свиньи, вепри, живые и уже ощипанные гуси, куры, лесная дичь. А сколько всякой снеди: круги замороженного молока, масло, сало, яйца, мед, мука, крупы — всего не перечесть.
Ягила приценился, купил малую коржачку меда, круг молока для детей, для них же пару занятных свистулек и не сдержался, покрутил головой:
— Сыто живете, кияне! Да такими богатствами не город, а целую державу одевать-кормить. И еще останется!
Торговец медом, у которого он только что отоварился, самодовольно заулыбался:
— Это же Киев, брат! У нас завсегда так. А сам ты откуда, раз тебе в диковинку наша жизнь?
— Издалека я. Из Сурожа…
— Это где ж такой? Город, что ли?
Вокруг них начал останавливаться и приставать народ. Почти никто о его Суроже не знал. Пришлось объяснить, что это тоже русская земля, но сейчас там греки и хазары.
— Это как же вы, глупцы, свою землю проворонили? — засмеялись вокруг. — Вот теперь и ходите, на чужое слюнки глотаете. Стыдоба! Видно, стоящих мужей у вас нет!
Размягчившегося от увиденного и передуманного Ягилу это покоробило. Особенно смех. Однако сдержался и в свою очередь как бы участливо спросил:
— А как же, гордые кияне, получилось, что свой Киев и княжеский стол вы отдали находникам варягам? Тем самым готам-германам, от которых наши с вами праотцы полторы сотни лет отбивались. Которые нашего князя Буса Белояра со всеми его сыновьями и семью десятью знатными мужами на крестах крестили.
Смех оборвался. Кто-то отошел. Кто-то молча потупился. За всех ответил все тот же торговец медом:
— Так что нам князья? Они у нас сами по себе, мы такожды сами. Не хуже хазар или эллинов ваших. А ты, сурожец, за нас не плачь, иди себе, иди…
И он ушел, довольный тем, что не дал уронить себя, и все же с досадной горечью в сердце. Вот такие они, эти нынешние поляне. Скажешь о Руси, ответят так же: они де сами по себе, а Русь такожды сама. Дальше своего привоза не видят. Хуже того — не хотят увидеть. Была бы утроба сыта и мошна полна.
Не преминул Ягила сходить и к святилищу Белеса, особо почитаемого не только скотьего бога, но и бога всякого богатства. Очень любят его купцы-торговцы, считая своим покровителем. Многому научил Белес людей, но этому делу, пожалуй, лучше всех.
Здесь всегда много народу, и главным образом опять-таки купцов. Они идут к Велесу с просьбами о содействии в предстоящих торгах, с благодарственными славами и жертвами, когда те прошли удачно, перед поездками в далекие города и страны или перед возвращением домой.
Богатые люди, они и жертвуют богато. Не только самому богу, но и его святилищу, волхвам и жрецам. Вот побывали тут несколько ладожцев и новгородцев. В богатых шапках и шубах, с золотыми гривнами на шее, степенные, знающие себе цену мужи.
Еще не ведая, кто эти важные люди, Ягила справился у одного из волхвов. Тот вежливо пояснил и порадовался за них:
— Новгородские гости опять набирают силу. Сейчас там все угобзилось, а чем торг вести у них всегда было.
— Сейчас, говоришь? А что там было до сего?
— Много чего было. То варяги ограбят подчистую. То вот… княжеский род их пресекся, князя искали…
— Нашли?
— Внука покойного Гостомысла из варяжской Руси пригласили. Князя Рорика. Или Рюрика, как те нам говорят. И сразу все беды пресеклись. Сильный, должно, муж, крепко всех в свои руки взял — и морских находников, и своих вольнолюбцев. Сейчас там тишина.
Ягила вспомнил рассказ отца об этом самом Рорике и усомнился:
— Рорик не князь. И раз варяг, то не рус.
— Не так, брат. Князь он, сын князя Годолюба и внук князя Гостомысла. А княжество его, что на Варяжском море, у него датчане отняли. Там сейчас такое безрядье, что не угадаешь, кто тот или этот. Есть варяги-нурмани, варяги-свеи, варяги-эсты, варяги-даны, варяги-франки… Да, слышно, и варяги-славяне от иных не отстают.
Вот это новость! Тот самый Сокол-Рорик, что отца Заряна пожалел и отпустил, стал новгородским князем! В то, что тот рус, а не германец-гот, Ягила не до конца поверил и отцу, хотя прежде верил ему всегда. А если герман из готов, то непременно враг Руси. Это они с гуннами порушили Русколань и «крестили» антского князя Буса с его сынами. С такими у русичей не может быть никакой дружбы, а уж родства тем более.
Выходит, сейчас у русичей два сильных неприятеля: с запада солнца и с полуночи — варяги-германы, с полудня — лукавые ромеи, пытающиеся захомутать Русь через утверждение у нас своей веры и гибель нашей. У них ведь как? Окрестят народ — и отдают новых христиан в кабалу к своему главному церковному жрецу патриарху. А государство — под руку их императорам. Вон болгары доверились, а теперь кровь проливают, чтобы вернуть свою прежнюю волю. Как же глуп тот, кто этого не видит и не понимает!..
Домой Ягила вернулся уже под вечер расстроенный и усталый. Отдал купленное женщинам и детям и стал делиться с братом новостями.
О купцах Добрец сказал как отрезал:
— Что же ты хочешь от купца, для которого главное — его мошна? Ради нее он и в Навь спустится, если 131 там золото не в цене, и за меч возьмется, видя ей урон. Темный человек — купец… и все же надобный.
А о новом новгородском князе, знакомце отца Заряна, тоже задумался:
— Интересно: то ли явь, то ли баснь. Далече от них мы живем. Однако поживем — увидим.
Глава восемнадцатая
Пришло наконец время заняться и заготовкой лесин для сотворения дома. Пока деревья спят и не чувствуют боли, нужно выбрать такие, чтоб и близко было и чтоб безо всякого сомнения были годны.
А годны для этого важного дела далеко не все. Нельзя, к примеру, рубить сухое дерево, ибо сухое — давно мертвое, в нем смерть гнездо себе свила, занесешь ее в дом — жди беды. И старое нельзя, потому что старое дерево, как и человек в больших летах, особо почитаемо людьми.
Нельзя рубить ель, осину, дерево, выросшее на дороге, кладбище, со сломанным верхом, с перевитым стволом, со скрипом, сучками-пасынками и другими изъянами. А в заповедный лес вообще без дела ступать не след.
А когда уже рубишь, гляди, чтобы выбранное и облюбованное тобой дерево не упало вершиной на полуночь, ибо сторона эта издавна считается ненадежной и опасной. Именно оттуда приходят холода, тьма долгих зимних ночей, где-то там привычный обжитой мир Яви переходит в мрачную безжизненную Навь — мир мертвых. А уж если, падая, зацепилось за сучья соседних деревьев, брось и начни все сначала в другом месте.
И вообще, прежде чем войти с топором в лес, поклонись ему, объясни, что не лихой ты человек и просишь только то, что тебе крайне необходимо для жизни. Лес добрый, щедрый, но и он требует к себе должного отношения. Иначе может наказать — завлечет в такую чащобу, откуда не выберешься, или топорище поломается, или, хуже того, покалечишься сам.
Следуя этим мудрым наставлениям и правилам, нарубили Ягила с Добрецом нужных лесин, приволокли из лесу к своей землянке, бережно ошкурили и озадачились: что дальше? Жители теплых степных краев, где дерево — большая редкость и люди в основном пользуются камнем, кирпичом или глиной, они никогда не строили ничего деревянного, даже не видели, как это делается.
Пришлось поискать умельца из местных полян. Нашли, в работе учились, как выбирать у бревен пазы, вязать углы, выпиливать места для будущих дверей и окошечек-просветцев, клиньями распускать бревна надвое, чтобы из оструганных плах выложить потом полы.
Сложив сруб для просушки, взялись за другой, помене — для бани-мовницы. И там, и тут нижние венцы из дуба, чтобы и в земле служили долго, а верхи из янтарной звонкой сосны. Кровли хорошо бы сделать из досок, да где их возьмешь? А самим пилить недосуг — полевая работа не отпустит. Тем более что будет она на этот раз непривычной и тяжелой, — пахать новину, корчевать и палить лес. Те, кто поселился в этих местах раньше, говорят, что на свежих лесных полях урожай всегда хорош. Значит, придется постараться. Начинать всегда нелегко.
После Ярилы, на полную луну, между дел подняли подсушенные ветрами и солнцем срубы — и опять за топоры, за плужок. Женщины землю для своих грядок взбодрили сами. Так и покатилось новое колесо года, еще одно коло бога Сварога.
Теперь уж не до праздных разговоров и сладкой лености: работай, трудись, огнищанин, время не ждет! Пока всходит и поднимается жито, успей завершить строительство, к вспаханному и засеянному полю добавь еще несколько полос новины, к уже занятой пали — еще хотя бы столько же. Найди время и соседям-родовичам помочь, а боги воздадут тебе по трудам твоим, они видят все.
Пришлось Ягиле и на киевский торг наведываться — за всякой кузнью: ножами, скребками, топорами, гвоздями, железными задвижками и петлями для дверей дома и бани.
Железо — вещь в доме особенная, его боится всякая нечисть; преграда для злых духов, оно обезопасит тебя не только от лихого человека, но и от беспокойной лесной нечисти. Ведь лес — таинственный чужой мир, где чего только нет. Степному человеку он непривычен.
Теперь в городе долго не задерживался, но, побывав на торжище, потолкавшись среди разного люда, увезешь домой не только новую покупку, но и важные новости.
Так однажды Ягила узнал, что Аскольда и его дружины в Киеве нет, отправился в поход. Говорили об этом с нескрываемой ехидцей, вспоминали его прежние походы — на ромеев и болгар. И там, и там киевских варягов крепко взгрели, болгары в сече убили сына Аскольда, а греки вынудили вернуть все добытое разбоем и принять их христианских богов. Те и обрадовались — иметь такого покровителя, как Византия, для них большая удача! Вот откуда эта церквушка над ручьем и черные, как грачи, греческие попы на Подоле.
А потом выяснилось, что повел свое воинство самозваный князь киевский не куда-нибудь, а на этот раз на полуночь, дабы отобрать у новгородцев полочан и кривичей. Дружины Рорика-Рюрика отогнали находников и оттуда, но дальше не пошли, довольствуясь занятыми Ростовом и Муромом, опорой хазар в этом богатом пушниной крае.
Попытались варяги-кияне подчинить себе и Северское княжество, но северяне уступили им лишь небольшой пограничный город Воронженец. С ответными действиями и новгородцы, и северяне не торопились, ибо знали, что теперь им придется иметь дело не только с Аскольдом и Диром, но и с Хазарией, и с ее союзниками печенегами и мадьярами. Да и Царьград, небось, подаст своим новым вассалам какую-нибудь помощь, очень уж выгодные попались вассалы, с их содействием всю Русь прибрать к рукам можно.
Была и еще одна опасность. После прихода Рюрика в Новгород все пираты-варяги словно дорогу туда забыли, помнили, поди, тяжелую руку Рорика-Сокола. Но случись неудача с Киевом, застрянь он там с дружиной и ополчением надолго, не нагрянут ли опять? Морские разбойники — такие же находники, как и кочевника на суше: налетят, награбят, пожгут, прихватят для торга «живой товар» — и обратно на свои базы. Так что самое мудрое — поспешать медленно, как говорят греки, чтобы ничего подобного не случилось. Этот Аскольд никуда от них не денется, придет и его час.
Как относиться ко всему услышанному, Ягила не знал, разве что со здешними князьями все для него было ясно. Другое дело — этот загадочный Рюрик. Ну, хорошо, рассуждал он, оказался в Новгороде, изгнал морских находников-варягов, отвадил от Мурома и Ростова хазарских иудеев, дал живым вернуться Аскольду… А если только это ему нужно? Если решил навсегда запереться в Новгороде, то — само собой, так бы на его месте поступил каждый. Даже не обязательно князь.
Чем больше думал, тем больше запутывался, как та муха в паучьих тенетах. Как это соединить: князь, пусть и без отцовского наследства, — и варяг, морской разбойник? Ведь отца Заряна захватила во время набега команда именно его головорезов. Да и русич ли он? Венд? Так не все венеды русичи, хотя и братья…
Кончилось тем, что он решительно бил себя кулаком по колену и говорил Добрецу:
— Не может русский князь заниматься татьбой![37] Тогда он не князь. На прю[38] его! А лучше дать под зад, чтобы катился туда, откуда пришел. Вместе с нашими Аском и Диром.
Добрец лишь посмеивался над его горячностью.
— Вот и дай им под зад. Ты же у нас Святогор-богатырь! Гони!
Ягила медленно приходил в себя.
— Так нас же вон сколько. Княжеств десять, не менее… — и в который раз начинал пересчитывать: — Дулебы, волыняне, уличи, тиверцы, кривичи, древляне, дреговичи, полочане, радимичи, вятичи, северяне, кияне… Кажись, десять и есть. Даже более.
— Много. А лучше бы одно было. Держава! Тогда про этих хазар, варягов, эллинов и разговоров никаких бы не было.
— Ну, тогда…
— Вот-вот, поди и сбей их в одно тело, в одну душу! Может, сумеешь.
Окончательно запутавшись, опозоренный своим неразумным мальчишеством Ягила молча брал заступ и уходил окапывать следующий пень. И так повторялось не раз.
А время шло — Купала, Ярила, Овсени; Купала, Ярила… Год за годом, год за годом. Уже Милица народила ему кучу сынов, уже у Благи с Добрецом старший с коня не слезает. Уже поле у них самое большое в роду, и все в хозяйстве их есть — и волы, и коровы, и птица, и пчелы. Теперь он может достать свои дощечки и опять изливать в них свою неистовую душу, как прежде было…
«Род злой пришел на нас, напал, и потому пришлось нам убежать в леса и жить там охотниками и рыбаками, чтобы смогли мы бедствий избежать. И так мы жили тьму одну, и стали ставить города, огнища повсюду раскладывать. А после тьмы другой был холод великий, и потянулись мы на полдень, там ведь места злачные… и было множество скота у нас…»
Вопросы единства и разобщенности, больших возможностей и их утраты всю жизнь были для Ягилы самыми злободневными и больными. О чем бы ни говорил, с кем бы ни вел бесед, не обойдется без того, чтобы излить свою горечь и отчаяние. Писание со временем тоже стало для него такой беседой, вот только дощечка, которой он доверял самое сокровенное своей горячей души, не могла разделить с ним ни его горячности, ни его печали. Но не писать он уже не мог.
«В тысячу второю лет… разделу они подпали, и одиночество проснулось, и стали они работать как рабы… готам, которые их крепко обдирали, потом хазарам… Сказали те: «Куда пойдем от них? Жизнь вольную где найдем? Мы сиры весьма, и отвратилась божеская от нас рука…» И так за двадцать тысяч лет мы не смогли собраться в Русь… Творилась ведь от полуночи Русь, не было у нас возможности… это творить…»
И вот что еще постоянно волновало Ягилу: кто они, славяне, откуда и каково их божеское предназначение на этой земле? В народе живет и передается из поколения в поколение множество различных преданий, но даже в одних устах они каждый раз какие-то иные, и Не угадаешь, где в них баснь, а где правда. Дополняя их рассказами отца Заряна, слышанными не раз с отроческих лет, пытался представить себе уже плохо представимое, соединить разрозненное и осколочное в одну очень долгую и очень непростую жизнь своего народа. Не получалось. Вернее, получалось тоже осколочно и разрозненно. Как эти его дощечки.
«Злое племя дасов поднялось из этой тьмы. И это злое племя на пращуров наших… напало, и многие явились пораженные и умерщвленные. И тут Орей Отец и говорит: «Идем из той земли, где гунны наших братьев убивают. В час их зверств кровь льется, и скот наш они крадут, и убивают детей». И сказал то Старый Отец, и мы направились в другую землю, которая медом и молоком течет[39]… И так все уселись на коней да и отправились… За ними ж едут дружины молодежи, скот, коровы, повозки бычиные и овцы… и дети шли, и старцы, и матери, и женщины… Так шли они на полдень к морю и мечами разили врагов. Шли до гор великих и до травяных равнин, где было злаков множество. Там они и поселились с Кием (Древним), который Киева (иного) строитель был. Там ведь и была столица русская…»
«И тут сказал Отец Орий, чтобы сыны его были впереди всех родов. И не захотели они и поделились на этих и тех. Вот князь… ведет людей своих на полдень, а Орей ведет к краям морским. И тут была сушь великая и пески многие. И пошли они в горы и там осели на полвека и, собрав прежде конницу великую, пошли в чужие земли. И там воины встали на пути их и принуждали их сражаться, и были разбиты. И так они шли дальше и увидели земли теплые и пренебрегли ими, потому как многие чужие племена там сидели, и пошли дальше…»
«Итак, мы арийский народ, пришедший из земель Арийских в край Иньский. И ввязались мы в битву, чтобы дать травяной рай скоту…»
«И снова был великий стыд. Родичи ведь бились о владениях. И многие сказали: «Не идем в род, потому как нет облегчения огнищанам. А будем лучше сами по себе в лесу, либо в горах скитаться». С теми словами родичи были отвергнуты. И весьма сердиться и негодовать изволил бог Сварог. Наказуючи, великое колебание горам устроил. И славяне в ночи пробудились от великого грома и земли дрожания. И вот слышно, как кони наверху ревели, страхом обуянные, испугались и пошли прочь из селения, а овцы так не стали делать. А по утру видели они дома разбитые — один наверху, другой же внизу, а иной — в яме огромной в земле, и следу не осталось, как его и не было. Оскудели те славяне весьма, и прокормиться им было нечем… Выйдя из края Иньского, идя куда глаза глядят, шли они мимо земли Фарсийской, и пошли дальше, потому как не годилась овцам земля та. Шли они горами и видели каменья, а на тех просо не сеять, — тоже мимо прошли…»
«…Персы устранили (из окружения царя) большую часть русов, почтив Набсура[40]. Не остерегались ведь они врагов и те напали на них… и пошли они клонить головы свои под вражеские бичи. Тогда-то сильные враги напали на всех трех. А те-то пошли с говядами на заход Сурьи и там пропали. Наши же люди пошли под Набсура царя. А после того-то пошли на солнце египетское. Долго пришлось тем годам порабощения длиться. И так пришел день, и русы бежали от Набсура царя… и так пришли в края наши…»
Полторы тысячи лет минуло от исхода из Семиречья, пятьсот лет жили в Карпатских горах, вместе со скифами дошли до моря Венедского, а потом обратно — до Днепра, уже с Кием Новым сотворив великую Русскую Колунь — Русколань…
Сколько раз ни брался Ягила соединить разрозненное — получалось плохо или совсем не получалось. Вот был бы рядом отец Зарян, побывавший в тех далеких землях, а без него и просветить некому. Что знает он сам? Крохи от великого хлеба судьбы народной. Конечно, и по крохам вкус хлеба почувствовать можно, однако это все же не весь каравай. И не утоляют те крохи голода души его.
Раздосадованный и растерянный, бросал Ягила свое железное писало, откладывал недописанную дощечку и шел к детям и жене. Жаловался на свою беспомощность и малые знания, на несоединяемость несоединимого, на нежелание богов помочь ему в сем святом деле. Ведь и о них же пишет он на дощечках своих, прежде всего о них! А они все знают, с высот пресветлой Сварги все видят, — отчего же молчат? Вот даже имя того вавилонского царя, что коварством и ложью подчинил себе некоторые роды славян, не то что написать — выговорить не может!..
Обычно тихая неразговорчивая Милица, как бы ни была занята, всегда находила для него и время, и самые нужные слова. Это неправда, что он мало знает, говорила она, ссылаясь на то, что сама не помнит, чем занималась даже месяц назад.
Месяц — не тысяча лет! Кто же может помнить и знать то, что случилось тогда? Однако многое из того все же знает. Никто не знает, а он даже этого… Набу… вспомнил.
А много ли во всем Киеве мужей, ученых настолько, что могут даже писать? Он говорит, что попы греческие, конечно, умеют, у них работа такая. Так то по-гречески, смеется она, а смоги по-русски честь! Да не древние черты и резы, а самое настоящее иоанново письмо!
Ну вот, никакой причины так виниться и переживать у него нет. Он может еще много чего, чего другие не могут. Вон какого красивого Перуна на помолье высек! А когда работает… орудует ли огромным топором, корчуя столетние пни, или играючи забрасывает на плечо тяжеленные кули с зерном… все вслед за ней оставляют свои дела и любуются им. Хорошо, когда у тебя такой муж, которым не устаешь любоваться!..
Пока она вот так воркует над ним, поглаживает по голове, похлопывает по плечу, Ягила забывает обо всех своих сомнениях и неприятностях, берет топор и бодро уходит к тому самому пню, который они вдвоем с братом все никак не осилят. Но сейчас он справится с ним и один.
Глава девятнадцатая
На киевской земле род Ратибора обрел новую силу. Многодетные семьи дружно работали на полях, осваивая все новые и новые земли. Старшие сыновья, роднясь с местными полянами, один за другим выделялись из разросшихся родительских гнезд и обзаводились собственным домом и хозяйством.
В небольшой избе Ягилы и Добреца от обилия детей было не протолкнуться. Летом еще выручали сеновал и неотапливаемые сени, но зимой ничто уже выручить не могло. И тогда Добрец попросил у старшего брата позволения на выдел.
Избу ему решили строить рядом, расчистив для этого место на краю леса. На этот раз все делали спокойно, без спешки, с соблюдением всех обычаев и примет, которые уже хорошо знали. Когда срубы готовили, не раз прошлись по участку с лозами, выявляя подземные водные жилы: построй над такой дом — намаешься от всяких болезней. Особенно не любят их кости, суставы, позвонки хребта. А вот для колодца жила в самый раз, и чем больше, тем лучше.
Расчищая участок, облюбовали и оставили нетронутым один крепкий полувековой дубок. Пока будет длиться строительство, он должен стоять в центре будущей избы, в середине сруба, символизируя собой священное Мировое Древо и осуществляя связь земли с небесами богов. А потом он станет одной из опор под кровлю.
Чтобы окончательно удостовериться, что место действительно благоприятное, оставляли на нем на ночь грудку овечьей шерсти, а утром смотрели — суха ли, влажна ли? Под конец пустили сюда молодую корову. Выбежали на рассвете смотреть, где она, а та преспокойно лежит себе под дубком, жует свою бесконечную травяную жвачку. Ну, что еще нужно, чтобы не осталось никаких сомнений!
Под конец отметили углы горстками отборного зерна и подняли на них сруб дома, прокладывая каждый венец мягкой конопляной паклей. То-то дом будет теплый, богатый, хлебный, заранее радовалась Блага, а Добрец уже распускал бревна, кромил и строгал плахи для пола, делал рамы для волокового окна и просветцев-окошек, тесал бревна и жерди для кровли.
Прежде чем заселить готовую избу, на первую ночь закрывали в ней кошку с котом, на вторую курицу с петухом, на третью овцу с бараном, на четвертую… На четвертую полагалось пустить корову, но дверь для такой толстой гостьи оказалась недостаточно широка, пришлось поверить предыдущим.
Освятив дом полагающимися молитвами, славами и сурицей, еще одна семья рода Ратибора справила новоселье. А сколько их впереди! Дети-то растут быстро. Старшие сызмала приучены к любому делу и уже трудятся наравне с родителями. Самым младшим недавно присвоили постоянные имена и справили новую одежду. Только последыш Благи бегает пока в одной рубашонке. Но и «последыш» не всегда бывает «последний».
В свободное время Ягила собирал их за обеденным столом в летней кухоньке и обучал иоанновым письменам — русским буквам. Детский ум хваток, они быстро запоминали их, а вот писать на дереве было по силам не всем. Сами же нашли выход: нарезали чистой бересты, распарили в горячей воде, разгладили — готово, пиши и радуйся: мягко, не колко и рука не так устает.
Мечта отца Заряна была дорога и Ягиле. Ну что с того, что русич Иоанн составил свою азбуку для греческих попов, которые придут к славянам и русичам и станут читать им свои книги на их родном языке? Придут ли еще, и станут ли еще, а вот самим русичам это потребно крайне. Будут, будут и у них свои книги!..
Зимой собирались у него в доме. Детей из других семей рода Ягила привечал тоже, и их успехи радовали его не меньше, чем растущее умение собственных.
Родители иных, отпуская к нему своих чад, поначалу только посмеивались:
— Ну, ладно, пусть займутся там чем-нибудь. А то наши, пока мы в поле были, чуть избу не сожгли!
А когда те через несколько месяцев принесли им листочки все той же бересты с их собственными именами, долго не могли поверить, что слышимое можно вот так запечатлеть и потом когда-то, глядя на эти черточки и завитки, повторять снова и снова.
— Ой, а чистое ли то дело? — всполошилась одна баба, прибежав к Ягиле. — Если порча какая или колдовство, то…
— А хочешь, я и тебя научу писать? — едва не рассмеялся Ягила. — Вот возьмем, к примеру, твое имя. Нам потребуются буквы…
— Ой, ой, не моги, Ягилушка! Не моги! Я лучше мужика пришлю. Вот его и…
Убежала. Пришел ее муж, конфузливо помялся у порога и говорит:
— Запечатлей меня, я не боюсь.
Ягила исполнил. Показал написанное, прочел по буквам:
— П-р-о-ш-к-а… Писание — это отнюдь не заклятие, не чарование, не гадание. И не колдовство. А грамота!
Прошка повертел в руках обрезок бересты, понюхал, подумал и спрашивает:
— А что еще можно запечатлеть?
— Все, брат. Все, что око видит и ум слышит. Придет время, когда все наши люди будут уметь писать и честь написанное. Книги свои будут. И мы, как пчелы на цветы, будем поспешать к ним за медом мудрости книжной. А начинается все это ныне, с наших с тобой чад.
— Ну, если как пчелы… если мед… Однако…
Не удержалась, встряла в мужской разговор и Милица:
— Ну, и ты, Прось, туда же! Разве такое может быть, чтобы старейшина рода, умнейший человек, отец семейства взялся портить наших детей? Подумай и рассуди. Грамота им дорогу откроет, новую жизнь даст. Увидишь сам, потерпи.
— Дорогу — это хорошо. А вот другую жизнь — не надо. Дайте сперва эту прожить, — едва не захныкал здоровый дядька. — Он у нас один мужик. Кто без него мне в поле помогать будет?
Посмеялись, выпроводили окончательно сбитого с толку родовича и решили: ну, все, не отпустит он больше сюда сынишку. Однако — ничего, ходит по-прежнему, учится прилежно, не иначе княжеским посадником или тиуном решил стать…
Бывая в Киеве, Ягила не уставал удивляться и радоваться богатству киевского торга, не иначе сам Белес взял его под свой божественный покров.
Не говоря уже о других товарах, к которым он успел привыкнуть, сколько тут всевозможных изделий ремесленников из предградья! С виду неприглядный муравейник из лачуг и землянок, а поди ж ты — и среди них находятся отличные мастерские, где трудятся превосходные мастера. И не только кузнецы, гончары, усмари, сапожники, но и ювелиры и оружейники, чей дорогой товар расходится по всей Руси.
Многое делается ими по личным заказам и, естественно, на торг не поступает. Многое вывозится в другие страны, где их знаменитые мечи и драгоценные украшения для женщин хорошо знают и всегда ждут.
Молодцы, молодцы кияне! Слава вашим золотым рукам!
В тот раз, походив среди их столов и лавок, Ягила направился к церквушке — закупить для дома восковых свечек, которые продаются только тут. В прошлую зиму их привез отсюда Добрец, и всем они очень понравились.
— Ну и что за беда, что церковные? — как бы оправдывался он. — Лишь бы светили, а свет, он и есть свет.
Тогда Ягила недовольно поморщился, но промолчал. И вот жены попросили купить опять, как откажешь?
Церковка небольшая, не то что в Суроже или в Хорсуни, где это настоящие храмы. После того, как окрестились Аскольд с Диром и приехали греческие священники, Христову веру их приняло и несколько десятков русичей. Еще давно ему бросилось в глаза, что на свои моленья они приходят дружно, но как-то уныло, низко опустив головы, боясь посмотреть по сторонам.
Чего боятся? Своих земляков, что могут и засмеять, и закидать гнилыми овощами или тухлыми яйцами? Это случается. И сам он не раз куражился над ними.
Чего стыдливо да уныло? А не любит их новая вера веселого и жизнерадостного человека. Грех! Запутала придуманным адом, в котором их вечно будут варить в котлах и сжигать в огне. Тело-то в могиле, выходит — душу будут жечь и варить, да она ведь без плоти! Ну не чудаки ли?!.
Хотя — чужие боги-то, кто же их знает? Со своими проще и понятнее — с ними русичи в кровном родстве, ибо внуки Даждьбога. Ничего плохого родовичу они не сделают. И русичи их ни о чем не просят, те сами, ценя их любовь и верность, когда надо придут на помощь. И ада у них для русичей нет. Если прожил жизнь недостойно, просто не возьмут к себе в Ирий, и сгинешь ты в холодной мрачной Нави, будто тебя и не было.
А какой прекрасный у русичей рай! Если ты жил по законам Прави и шел ее путем, значит, ты жил праведно и по смерти тут, на земле, обретешь новую жизнь в Сварге синей. Там, рядом с богами и пращурами, все почти так же, как и на земле: и солнце, и дождь, и сады, и степи вольные с травами злачными и водой живой. Нет только болезней, старости и смерти. Там и жито жнут, и снопы свивают, и говяд во степях водят. Ну не может русич и в раю без дела! Тем более что жизнь та — вечная.
Кабы не знали всего этого те новокрещены, можно было бы и простить. Но ведь знают! А раз знают, как простить такое?
Пробил, проплакал свое одинокий колокол — и опять потянулись сюда эти странные люди. Все больше — женки, все в черном, как черные галки, глаза — долу, повинные головы — ниц. Все равно что рабы-кабальники к хозяину на расправу. И в чем повинны, за что — под бичи?
Было меж них и несколько мужей. Тоже черных и бессловесных. Исключая одного, что, как гусак, возвышался над всеми, бойко вертел маленькой головкой и посверкивал горящими очами. Все перепалки, возникавшие тут, начинались с него. Ты ему — слово, он тебе в ответ — десять. Так горел любовью к своим новым богам, что готов был вцепиться в тебя за любое пустое слово.
Вот и сейчас — стоило Ягиле заметить, что зря чужих богов взяли: были гордыми и славными русичами, а стали рабами-кабальниками без роду-племени, как тот с криками «горбун!», «диавол!» кинулся на него, вцепился в бороду. Что было делать? Хоть и говорят их боги: «Люби врагов своих», — не стерпел. Но тот — прежде. Вот и помял малость, а потом раскрутил в воздухе и забросил далеко за церковную изгородь во двор.
Другие мужи тоже подступили к нему, но на этот раз он не стал дожидаться их подлой гнеси[41] и покидал туда же. Сбежавшиеся отовсюду люди уже готовы были спалить церковь, но тут явились варяжские дружинники, и после короткой стычки все разошлись.
Поднимаясь обратно на гору, Ягила еще долго слышал за спиной гусиный клекот рассерженных христиан и истошные крики его недавнего противника:
— Эй, горбун, у тебя черт на спине сидит! Вернись, я его колом с тебя сгоню!
Поддержанный ставшими вдруг крикливыми и боевитыми женками потрясал кулаками:
— Я тебя запомнил, горбун. Ты давно, аки зверь рыкающий, кидаешься на нас. Но мы тебя утишим, так успокоим, что собственными словесами подавишься, дикарь, скиф, варвар[42].
Всю дорогу до самого дома переживал Ягила этот пустячный случай. Даже не сам случай, а то, из чего он проистек и что еще может проистечь впредь.
Сразу как-то сам собой вспомнился рассказ отца Заряна о расколе, произошедшем среди братьев ириан. А ведь тоже из-за того, что кому-то очень захотелось поменять веру отцов. Поменяли, и к чему то привело? Почти две тысячи лет две части одного народа воевали друг с другом, пока не истощили себя вконец и не оказались под бичами соседей.
Вот и на Руси начинается подобное. Византия — давнее, многоопытное и злое государство. Она хорошо научилась раскалывать и стравливать племена, чтобы потом брать их под свои бичи.
Взять тех же готов, которые, став христианами, принялись в честь своих новых богов крестить на крестах славян. И крестили так люто, что не стало у нас самых славных князей наших.
То же и с другими: приняли армяне их веру — и захлебнулись в крови. Разрушили ромеи их мольбища, уничтожили святые места, а жрецов и волхвов заперли в храмах и сожгли заживо.
А с какой кровавой лютостью искореняют греки любое малое иноверие в собственной вере!
И в Русь уже запустили греки свои коготки. Начали с варягов, а думают захомутать всех русичей. Как и всюду, впереди идут попы с крестами, а следом пойдут их воины с мечами. А те уже на нашей земле. Вся Таврия под их сапогом. Скоро увидим и на Дону, и на Днепре, где варяги и хазары их союзники и наймиты.
Зря брат Добрец уличает его в нелюбви к грекам. Не греков не любит Ягила, а дела их злые. Не от Белобога они, а от Чернобога и должны быть повергнуты навсегда.
Еще и еще раз уяснил он для себя: прежде чем остановить посягательства эллинов, нужно изгнать варягов-готов. И как можно скорее, ибо потом будет поздно!
Дома спросили о свечках, а Ягила о них и забыл. Но хитрое ли это дело — взять и накатать самому? Воск есть, навить и пропитать маслом толстую нить несложно. Только воск следует сперва хорошо разогреть, чтобы как хлебное тесто стал, тогда и катать берись.
Вот и взялся. Вот и накатал. Теперь всю зиму в доме светло будет.
Не удержался, достал с полки очередную дощечку, начертил писалом линейки, по привычке закусил кончик правого уса…
«…Аскольд принес жертвы богам чужим, а не нашим… Есть у нас истинная вера, которая не требует человеческих жертв. А то делается у варягов, которые истинно всегда совершали ее, именуя Перуна Перкуном, и ему жертву творили. Нам же следует полевую жертву (богам) давать, и от трудов наших пшена, молока и жиров. Ведь подкрепляем мы Коляду ягненком, а во время Русалий в день Яров также, и Красной Горы. То ведь делаем мы в воспоминание гор Карпатских. И в то время род наш звался карпени. А как стали мы жить в лесах, то имя назвали нам древичи, а на поле мы имели имя поляне. Так в любом случае, что греки начнут говорить на нас, что мы приносим в жертву людей, — а то ложь, потому как нет такого на самом деле, и у нас другие обычаи. А тот, кто хочет повредить другим, говорит недоброе. А с тем (только) глупый не борется, и такой он и есть…»
Так он ответил тем глупцам, что лгут на своих же русичей, что они варвары и чуть ли не людоеды. Кто учит их такому кощунству? Ясно же — кто: греки да варяги. А кто, мол, в их церковь ходит, тот чист и благ. Ах этот варяг Аскольд! На лжи в Киеве уселся, на лжи, будучи всего лишь вождем дружины, назвался князем, пришедшим на Русь по воле самого Огнебога, и теперь попирает землю нашу. Дир — тоже якобы князь. Вначале он был первым, а этот Аскольд у него воеводил. Но мало показалось власти воеводе, убил Дира и сам возвеличился над русами. Сейчас, испытав силу русского меча, заперся за стенами на Горе и притих. Надолго ли, кияне?
Древнее сказание предупреждает, что на Руси побывают три Аскольда. Один уже был, явившись в образе германца-гота Германареха. Второго имеем сейчас. Но последует и третий. Когда? То будет зависеть от того, как обойдемся с двумя первыми. А под каким именем — узнаем, сойдясь в сече лицом к лицу. Злые хищники они. Злее греков.
И это вспомнил. И это отметил своим неутомимым писалом. Не для себя, для потомков.
«Вот, древние родичи рекли и старались клятву о верности держать до самой смерти. И надо нам умереть, а Русь освободить. Скажем, что если кто не желает идти в битву и пойдет домой, возьмем его за руки, за ноги и отдадим грекам, чтобы как вол работал, и кара его будет тяжелой, и род его извергнет, и плакальщицы оплачут его, и имя его забудете, и мы забудем…»
«Предречено от древних времен, что предстоит нам соединиться с другими и создать державу великую из родов тех… Говорили мы Матери Всеславе, что будем оборонять землю нашу лучше вендов, которые пошли на заход солнца и там перед врагами землю пашут и ошибочную веру имеют, побежденные ими… Венды, вернитесь в земли наши, в степи былые…»
«Посмотри же, народ мой, какой ты обезопасенный (богами) народ! И в том не ошибешься, судя по ранам твоим. И не бросишься ты рядиться, чтоб мы с вами врагов погнали, и от беды избавитесь, и жизнь другая будет у вас… И более тяжкие поражения будут за нами. И мы после тех тысячи пятисот лет, хотя и многие бывали у нас битвы и войны, а все живы благодаря жертве юношей и воевод».
«…В трудное время наше не обращаем мы на себя внимания и пойдем умирать за род наш. И вот, в тот день Яма[43] примет в жертву убитых. И вот, вороны съедят глаза их. И вот, трава прорастет сквозь черепа их. И не по силам нам видеть такое, чтобы потеряли мы добро и земли, и силу нашу, и неужели мы будем как рабы взяты к плутам их, чтобы как коням тянуть на пашне их и жатву их жать, чтобы они ели хлеб наш, а мы ели землю? И не может это появиться в мыслях наших… А вот венды — и к ним пойдем помощи просить. И не иметь, потому как всякому народу надлежит себя охранять самому».
…Поздняя ночь. За стеной глухо пошумливают огрубевшей за лето листвой могучие дубы, шелестит соломкой крыши беспокойный ветер, устало глядят с неба бессонные звезды, а тут тепло и тихо. Ласковый мягкий свет свечи, раздвинув плотную избяную темноту, скупо освещает уголок стола и склонившегося над ним человека. Это Ягила. Запечатлев последнюю мысль, аккуратно отложил исписанную с обеих сторон дощечку и задумался. Сейчас он далеко и от своего стола, и от своего погруженного в глубокий сон дома. Беспокойные мысли уносят его то в древлянскую, то в северскую, то в далекую новгородскую землю, пытают о чем-то таких же, как он, неугомонных людей, ищут на что-то ответа.
У соседей-древлян он бывал не раз. Тоже хотел что-то понять, прояснить, чтобы от этой ясности легче стало на душе, лучше виделся путь. Говорил и с простыми огнищанами, и с лучшими мужами, и с княжьими людьми.
Говорили на одном языке, молились одним богам, пели славы одним пращурам, а порой не понимали друг друга. Случалось, что и изгоняли, даже с помолий. И даже каменья бросали вослед.
У северян большое и сильное княжество. Несколько веков назад к тамошним русам прибилось вытесненное из-за далекого горного Орала небольшое воинственное племя савиров. Пришли из Сибири на Дон, огляделись — и тут кругом вражда и войны. С миром поклонились потомкам русколан, русам, тоже терпящим всякие притеснения от соседей, объединились, а теперь уж и слились в один народ. Русичи-севера — их имя, а иначе — просто северяне.
Много славных дел на счету северских князей и воевод. Прежде всего — себя от хазар, алан и иных отстояли. Затем много десятков лет вместе с теми же хазарами отбивали натиск с полудня бесчисленных, как песок пустынь, арабов. Много своих голов сложили, много крови пролили, но все же наконец отвадили. И вот — живут. Поля их обширны, города крепки и богаты, мастера искусны. Князья их, по всему, понимают гибельность раскола, но пока в Киеве сидят варяги, никакому единству не бывать.
Вся надежда на словен Новгорода. Княжество их древнее, еще со времен, когда два брата Словен и Скиф поделили между собой землю: Скифу — степи, Словену — леса. Там, уйдя на полуночь, и построил он свой первый город, объединился с кривичами, племенами чуди и веси, утвердил свою державу. Сотни лет стоит она, на многие сотни поприщ раскинувшись во все стороны от озера Ильменя и Новгорода.
Прежней столицей ее, говорят, была Ладога, да больно на виду, у самого Варяжского моря, опасно близка ко всяким находникам. Вот и перенесли княжеский стол в глубь державы, построили Новый Град. Прежде был у них и Старгород, да что-то теперь не слышно о нем.
Этот край вообще очень далек, отчего вести из него приходят весьма редко и в досадной малости. Ягила там еще не бывал, а как хочется! У русичей в других землях тоже бывали свои сильные державы, но продержались недолго, а вот эта все стоит, множество князей пережила. Похоже, именно от нее русская державность утвердится.
Так ли это? Посмотреть бы своими глазами, послушать тамошних людей, самому свое сказать. Глядишь, и поняли бы друг друга, каменьем не закидали.
Долго, слишком долго собирался к новгородцам Ягила. Теперь там уже и Йорика нет. Слышно, умер отчаянный славянский Сокол, оставил отрока-сына сиротой. Что будет после него? Да и сам он, наконец, — кто, из какого роду-племени, действительно ли был призван как наследник славянского князя Гостомысла? С каким сердцем приехал на родину матери? Чего хотел и что смог сделать? Каким путем пойдет его сын?
Вопросы, тревоги… Тревоги, вопросы…
Как утишить эту тревогу?
Кто ответит на эти вопросы?
Глава двадцатая
Той весной, едва закончились работы в поле, родовичи собрались в дальнюю дорогу: закончилась соль, а на киевский торг ее еще не завезли. Предстояло самим съездить в земли соседей-галичан, чьи богатые соляные копи были хорошо известны не только на Руси.
Галичина — древний славянско-карпатский край. Ягиле очень хотелось там побывать, и он собрался одним из первых.
Карпаты — святое прибежище славян в их долгих скитаниях по свету. И не только русичей, но и чехов, ляхов, сербов, хорвов, вендов, теперь уже расселившихся в других краях, однако сохранивших в душе горячую привязанность и любовь к прекрасной карпатской земле.
Из Киева сюда шла проторенная за века дорога, которая так и называлась — Соляной путь. Возили по нему, конечно, не только соль, но именно она была тут главным и поистине бесценным товаром, ибо без нее человек не живет. Даже дикие животные, найдя в степи солонец, прибегают к нему за сотни поприщ, чтобы полизать его серую, перемешанную с солью землю — редкое для них лакомство.
В обозе были повозки не только сурожцев из рода Ратибора, но и местных полян, людей бывалых, много повидавших и много знающих. На ночевках у костров Ягила любил послушать их рассказы о разных разностях из древних и не очень древних времен. Особенно любопытными были для него овеянные какой-то непонятной тайной пролегавшие на полудень от Пути Змиевы валы.
Неужто те, о которых говорится еще в стародавних преданиях? По всему, строились они так же, как и земляные укрепления городов.
Были и башни, на которых творились «дымы», своего рода сигналы, предупреждающие об опасности — появлении в степи врага. Значит, было кого предупреждать, и те даже издалека могли видеть эти сигналы тревоги.
Были, стало быть, и враги. Конные.
— Вал вокруг города, — говорил словоохотливый полянин, — это два-три поприща. А эти тянутся на сотни. А в местах, которые считались тогда особенно опасными, — и в несколько рядов!
— На сотни чего? — не понял Ягила.
— Поприщ же. А всего наберется с тысячу. А то и поболе.
Уже знавшие об этом согласно кивали, а новички, слышавшие впервые, дружно зашумели:
— Не можно такое человеку сотворить! Баснь говоришь, брат.
— Зачем — человеку? Есть зверь посильнейше. Вот слушайте…
И рассказал полянин еще одно предание. О том, что очень давно, на заре веков, был у бога Перуна друг из земных смертных — кузнец Коваль. Ну, тот самый, что сковал Перуну меч с заклятием, с каким только и можно было победить Змия-Дракона, похитившего солнечный свет, священных коров, плодородие земли и даже саму жену бога. А до того случилось этому Змию зачем-то побывать в корчийнице[44] Коваля. Все показалось ему там интересным, все хотел увидеть в действии, ну, Коваль и показывал и между дел ухватил раскаленными щипцами Змия за его длинный язык. С той поры у всех змей языки раздвоенные. А Коваль запряг Змия-Дракона в огромный плуг и погнал его от Днепра до Карпат и обратно. Вот отчего те валы и появились. И не случайно зовутся Змиевыми.
— Ну, уважил, — похлопал Ягила полянина по плечу, — хорошую баснь рассказал. А как было на самом деле, не скажешь?
— Не скажу, брат, не серчай. Того, поди, уже никто не знает.
— А свою жену Перун освободил? — появились заинтересованные личной жизнью бога.
— Как победил Змия, так и освободил. Все, что тот схитил, вернул людям. Слава ему!
Так ехали, слушая то хитрую баснь, где будто все ложь, то занятную быличку, то умное рассуждение, а то и крик души. А Ягила все пытал:
— И как же те Змиевы валы устроены? Видал ли сам, брат-полянин?
— Сам не видел, лжу говорить не буду. А вот отец видел, когда диких коней отлавливали в степи.
— Ну и что там?
Полянин оглядел сидящих у огня и, убедившись, что это интересно всем, стал пояснять. Оказывается, поначалу люди рубили лес. Только дубовый. Начерно мастерили срубы. Сотни и тысячи. Составляли в длинный ряд, Потом, копая перед ними ров, забивали их камнями, глиной, землей. А поверху еще ставили забороло из крепких дубовых лесин-палей. Опаленных, стало быть, потому что обожженная древесина не гниет в земле сотни лет.
— И что-то от того времени еще сохранилось?
— Остатки башенок, заборол… В иных местах глядишь, а сруб-то пустой. С дверью, лавами и очагом. Должно, стражи там жили. И так по всей длине…
За разговорами и до места доехали. Пока грузились купленной солью, Ягила все ходил вокруг, всматривался в каждую горку и ложбину — и сердце его млело и таяло от великого счастья. Это не просто красивая земля, каких на свете, может, и не много, но все же есть. Это одна из самых любимых и памятных прародин славянства, святая, песенная земля, сохранившаяся в их жизни светлым праздником, имя которому Красная Гора. Праздник этот посвящен именно Карпатам, и отмечают его русичи каждый год.
А там, дальше на запад солнца, за высокими живописными хребтами, лежит чудесная равнина, где земля медом и молоком течет. Из-за этого так рвались сюда все, кто попадал в эти края из бескрайних степей Pa-реки, Дона, Днепра, Днестра и Дуная. С жесточайшими битвами и великой кровью, — киммерийцы, скифы, сарматы, готы, гунны, лангобарды, авары, славяне, угры-венгры… Значит, прекрасная земля эта стоила того!
Уезжая, Ягила поднял первый попавшийся на глаза камень и спрятал под рубаху — на память. Дома покажет своим, накажет хранить как зеницу ока, пока жив род Ратибора, пока живы русичи на русской земле.
Всю обратную дорогу Ягила снова и снова передумывал то, что довелось ему услышать и увидеть. Кто, к примеру, все-таки построил эти гигантские валы? Не тот же Змий-Дракон, в самом деле. Но — кто? И — от кого?
От кого защищались этими мощными сооружениями, понятно. От кочевых конных народов, волна за волной накатывающихся с восхода солнца. Спастись от их стремительных массовых нашествий можно было только в лесах и болотах. Так считалось. А выходит, не только там, но и вот за такими стенами, отгородившими пахарей от враждебной степи. При Кимрах и скифах такой вражды не было. Когда это началось? При нашествии сарматов?
Кто были они, эти безымянные строители, великие труженики и герои? Сколько ни думал Ягила — все мысли об одном: славяне. Это как же нужно было любить свою землю, чтобы вот так, всем миром, изо дня в день, из года в год, всю жизнь, надеясь только на себя и своих богов, творить это горькое чудо!
Тиверцы, уличи, поляне, дулебы, волыняне… Борусы, анты… Особенно — анты, вобравшие в себя их всех и создавшие могучую славянскую державу от Карпат до Днепра. Но и она, верша свой ежедневный великий подвиг, не сдержала одну из накрывших ее волн. Или тех волн было много? Кто полег на подступах к валам? Кто погиб, сражаясь на них? Кто сложил голову, когда злобным и алчным обрам-аварам удалось обойти эту преграду и зайти антам в тыл, сжигая на корню их жито, угоняя скот и уводя людей в рабство?
Горько и стыдно, плакался Ягила, одиноко сидя на своей телеге. Стыдно, что так мало знаем мы о себе самих. Горько оттого, что людям не стыдно этого незнания.
[О великий патриот и труженик Ягила! Как мог ты корить себя за малознание, ведая столько, сколько не знаем о себе, своих корнях и деяниях мы, твои далекие потомки, образованный ученый народ двадцать первого века! Ты хотя бы страстно горел, стремясь познать забытое и забываемое уже в твое время, 1150 лет назад, — нам такое святое горение уже не знакомо. Мы начинаем историю своего народа в лучшем случае с Рюрика и святого Владимира, как будто он, как шарик в руках фокусника, возник в одно мгновение и из ничего. Это нам, нынешним, должно быть стыдно и горько за нагие невежество и холодное безразличие к себе самим, забывшим если не свое имя, то свою суть. Можешь радоваться — до нас дошло почти все, что ты запечатлел на своих дощечках, но ученые мужи нашего интеллектуального времени или не знают их, или считают подделкой[45]. И сам ты, такой страстный и неистовый в своих исканиях и борениях, — лишь несерьезная придумка чьих-то незрелых и каверзных умов. Тебя не было, понимаешь? А раз не было тебя, то не было и той твоей, той нашей сто раз погибавшей и сто раз возрождавшейся Руси. Прости их, ведь ты умел прощать. Я — не умею.]
Вернувшись в родное поселение, Ягила сразу заметил: что-то произошло. Мужчин нет, женщины закрылись в домах, только непослухи-отроки бегают по дворам, размахивают руками, что-то кричат.
Остановил одного из своих, спросил:
— Что содеялось, сыне? Будто все в Боголесье на помолье ушли, пусто так.
— Так война же, отец Ягила. Новгородцы в Киев вступили. И новый князь теперь у нас. Отрок совсем!
Ягила едва не поперхнулся такой новостью.
— А варяги? А этот… Аскольд? — спросил о главном.
— Аскольда за самозванство и лжу на копья подняли! А дружину его воевода юного князя переял, теперь ему служить будет.
— Так то, может, хазары, сыне?
— Наши, отче, наши! Славяне же. Из Нового Града.
— Ну, нас, славян, много… И новых городов еще больше…
Не верилось Ягиле, что вот так, вдруг, случилось наконец то, о чем он давно мечтал.
— А сеча большая была? Стены-то у нас вон какие!
— Про то не знаю, отец Ягила. Когда мы прибегли, там уж и ворота открыты, и мост опущен, и вся Гора людьми занята. Как будто праздник у них.
— А Перун наш стоит?
— И Перун стоит. И огни его горят. И славы ему кричат. Праздник, говорю же!
— Значит, без него не обошлось. Это хорошо. А дядька Добрец где?
— Там же…
Не утерпел Ягила, оседлал не успевшего отдохнуть с дороги коня и поскакал в Киев. Правду сказал сын, город бурлит, точно в праздник, повсюду на кострах готовится угощенье, а устье Почайны, плес и весь Днепр забиты лодиями и стругами — утлому челну рыбаря встать негде.
Святилище Перуна забито народом. Уходят одни — приходят другие. С жертвами, с песнопениями, славами богу грозы и побед, покровителю русских воинов. Был бы Ягила один — слился бы со всеми, да конь в поводу, с ним не протолкаться. Вот вернется домой — отслужит Перуну на своем родовом помолье.
— С праздником, брат Ягила! Дождались мы своего!
Вот и Добрец сыскался. Обнялись, расцеловались.
— С праздником, брат!
По дороге к дому Ягила подробно выспрашивал, как все это произошло, и остался очень доволен.
— Значит, новгородцы хорошо подготовились. Сторожась со стороны моря, такую силу на Киев повели. Очень радостно то!
— Еще Рюрик поход этот готовил. Мудрый муж, все предусмотрел. Зря ты не доверял ему — наш он был, русич!
— И кто его войско повел, раз сам не дожил? — все пытал Ягила.
— Воевода его князь Олег. И сын Рюрика Игорь с ним.
— Так, говорят, юн очень, отрок.
— Вот и хорошо, что юн. С победы начинает. А с таким дядькой быстро в рост пойдет. Удачливым князем будет.
— Слава Перуну!..
Дома первым делом принесли жертвы богам и сели за трапезу. После обильной сурицы стало еще радостнее.
— И надолго они к нам?
Вспомнил Ягила свой Сурож, доблестного князя Бравлина, что изгнал оттуда эллинов да скоро обратно ушел, а греки вернулись. Так бывало не раз, поэтому и не удержали за собой Сурожскую Русь.
— То, что побили Аскольда, то добро. А как уйдут в свой Новгород, кого киянам ждать — опять хазар?
— Ну нет, хазарам Киева боле не видать, брат. С этим покончено! — отсек всякие сомнения Добрец.
— Почему так думаешь?
— Потому что новгородцы никуда не уйдут. Теперь в Киеве будет их княжеский стол. Киев с Новгородом слились навсегда.
— А в Новгороде что? Снова варяги с моря не придут?
— Там поставлены свои воеводы с крепкой дружиной. Все пути им перекрыты. И на Днепр, и на Ра-реку.
— Добро, брат, ох добро!.. Зря я, выходит, неверье имел…
О большом, державном думали люди, но у огнищан-пахарей и на своей земле было немало забот. С запозданием взялись за сенокос, травы успели малость перестоять, поэтому Ягила с Добрецом трудились не покладая рук. Добро, что были в силе, да и радость последних дней придала бодрости, — наметали такие стога, что скоту на всю зиму сена достанет.
Не успели смыть пот и стряхнуть сенную труху — подоспела жатва. И опять всеми семьями — на поле. Итак — до белых мух, до новой зимы. Но и в минуты редких передышек братья шли друг к другу и, отхлебнув из кринки терпкого стоялого кваса, продолжали все тот же разговор.
Начинал обычно старший, все опасавшийся какой-нибудь промашки молодых князей:
— Значит, еще в Киеве, говоришь? Добрец согласно подтверждал:
— В Киеве.
— И чего у них на уме? Что дальше?
— Про то я, брат, не знаю… Я не воевода.
Но однажды порадовал новой вестью:
— В поход собираются.
— Куда на этот раз копье их глядит?
— На древлянскую землю, брат. С них начнем единить державу.
— Поляне пойдут: давно они не любят древлян.
— Не только поляне. А мы на что?
— И ты, Добрец, стало быть, тоже?
— Не один. Опять дружину собью. Это дело мне знакомо.
— И когда?
— Когда Олег кликнет. Думаю, не заставит ждать.
Не заставил. Пала древлянская воля, присоединилась их земля к Киевской Руси. Княжество северян вошло в державу без брани, а вот уличей и тиверцев пришлось брать мечом. Пронадеялись союзники Хазарии на помощь ее, но та не решилась на сечу с объединенными русичами, смолчала, затаившись на степных рубежах.
Ягила ликовал:
— Зрите, люди, опять Русь возродилась! Возродили мы свою Русколань, Скуфь великую! Теперь Русь Сурожская нас ждет. Поможем князьям своими сынами и плодами трудов своих!
И везли огнищане на княжий двор мешки с пшеницей, гречью, просом, гнали скот. И первыми тут были земляки и родовичи Ягилы. О чем думал, как переживал это бурное время, какие надежды питал он в те дни, рассказывают его дощечки, его «Влесова книга».
«…Аскольд, а потом и Дир, уселся над киянами как непрошеный князь. И они-то княжить начали над ними, на самом-то деле будучи (только) вождями, а мы еще останки его храним[46]. Огнебог и от дома того отвращает лик свой, и от них, потому как были те «князья» греками крещены. Аскольд — темный воин, а так просвещен греками, что никаких русов нет, а суть они варвары. И тому можем мы смеяться, потому как были кимры тоже отцы наши, а они-то ромеев трясли и греков разметали, как поросят напуганных».
«…Гром гремит во Сварге синей, и надобно лететь нам на врагов, как ласточки громоносные и быстрые, и быстрота та — быстрота русского нового меча. И цель у нас иная нынче — чтоб степь за нами скифская была. А то всякие, кто бродит в ней, начали злыми становиться и захватывать у нас коров. Коровы наши там ходить должны, и наши родичи должны жить там… А кому то будет невдомек, таким-то будущее — кабала и рабство. Обороняй ты Землю Русскую и обороняй себя, а то б иных бы не было на шее на твоей, а то враги не прочь ведь охомутать и привязать к возам и чтоб тянули их туда, куда чужая хочет власть, а не туда, куда ты хочешь. Жаля самая великая с Кариною[47] тому, кто не доразумеет эти слова, и гром ему небесный, чтобы повергся долу!»
«…Бьет крыльями Матерь Всеслава и кличет нам, чтобы мы шли за землю нашу и бились за огнища племен наших. Се, они ведь русские. Поспешайте, братья наши, племена за племенами, роды за родами, и бейте врагов на земле нашей, которая принадлежит нам, и никогда — другим. Так ведь умрете, а не повернете назад! Ничто вас не устрашит, ничто вам не станется, потому как вы в руках Сварожьих!»
«…Вот Сварожич смотрит на нас со Сварги своей чудесной и, видя рати наши, считает их. А пальцев на руках не всегда хватает, так считает он пальцы и на ногах своих. И знает Пращур наш, что мы — сила великая, и не смогут одолеть нас враги наши… И вот скажем в сердцах наших, что не вернемся к огнищам своим до тех пор, пока еще враги покушаются, и пренебрежем телами нашими, если враги возьмут землю нашу… Ведь разобьем скулы себе, лучше уж возьмем детей своих на копья, чем поворачивать спины свои врагам…»
«…Есть земли волжские по Pa-реке с обеих сторон. То была вся земля отцов наших. И она была у нас в те годы, и мы ее уберегали. Пойдемте туда перезимовать нам с вами. Рдяную кровь прольем за нее, как она будет литься из наших ран широких — нас и воевод наших… да не лишимся мы земли нашей и будем вовек русами. И строжет нам Перун стрелы свои, чтоб мы силу его приняли…»
Очень ждал Ягила удара по древним недругам славян — хазарам. Уж очень эти торговцы людьми досадили всем, у многих к ним немалый кровавый счет, и самый большой — у русов.
Вот были когда-то готы, и так они опротивели богам, что те их выплевали как самую последнюю мерзость. Пора, давно пора выплевать и этих! Боги готовы, отчего же медлят князья?
Пытал Ягила об этом брата Добреца, когда тот ненадолго отлучался из дружины, но что мог сказать простой комонебранец[48], командир всего лишь сотни конников? Или с этим можно еще подождать, а пока заняться устроением державы? Да, держава русичей велика, бывшие между княжествами трения и разногласия устранены не все, а это в едином государстве недопустимо. Пора установить единые для всех уставы и уроки, научиться собирать подати, открыть все пути для торговли с иными странами, пополнять казну. Содержание сильного войска требует больших средств.
И еще была одна причина такого нетерпения Ягилы. Уходя из Сурожа, он поклялся над могилами предков, что русичи обязательно вернутся на оставленные земли. Те поверили и ждут, и ему не хочется, чтобы ожидание их было слишком долгим, чтобы они сочли его неверным легкословным человеком.
И опять же: вернуть себе отцовскую Сурожскую Русь невозможно, пока существует Каганат. Круг замкнулся. Где тот вещий Коваль, что скует им меч, способный разрубить этот круг?
И чья рука поднимет его?
Глава двадцать первая
Вот и в Брюсселе возник Русский клуб!
Впрочем, где только они тогда не возникали! После революций и гражданской войны за границами бывшей Российской империи оказалась масса образованных, культурных, деятельных русских людей, в основном еще молодых и чаще всего — военных.
Проиграв кровавое противостояние на родине, они не переставали любить ее и жили принесенными с собой русскими страстями. В свой окончательный проигрыш и пожизненную эмиграцию верить не хотелось. На что-то надеялись, чего-то ожидали. Особенно на первых порах.
Выплеснутая в мир горячая русская масса, молясь и кровоточа, пульсировала на всю планету. Не привыкшие к одиночеству, и потому боясь его, люди двигались из страны в страну, с континента на континент — на зов родной души, на призыв соотечественников, братьев по борьбе, однополчан.
Китай, Австралия, страны Европы и Америки — куда и откуда только не шли их беспокойные письма. А когда поняли, что надежд на скорое возвращение нет, с той же активностью принялись создавать музеи своих дивизий, полков, казачьих братств, русские клубы, газеты и журналы. Это были центры, вокруг которых они объединялись, где могли чувствовать себя среди своих, обсуждать свое положение, помогать друг другу.
Вот и в брюссельский Русский клуб потянулись люди — и в военной форме, при всех своих наградах, и уже в штатском, но непременно подтянутые, стройные, точные в движениях, лаконично-корректные в общении — люди одной касты, военная косточка. Даже женщины их были такими же собранными и стройными. Даже дети.
Узнав о клубе, пришел и Изенбек. Достойного гражданского костюма у него еще не было, явился в далеко уже не блестящем, однако вполне еще добротном и солидном военном мундире. Артиллерийского полковника встретили по-русски радушно, провели в музейный уголок, предложили оставить в нем что-нибудь и о своем Марковском дивизионе, а потом посидели за самоваром, попели любимые русские песни и стали расходиться по домам.
Попутчиком его оказался моложавый, светлый типично русский интеллигент с совершенно не военной фамилией — Миролюбов. Дорогой разговорились.
— Вас, Юрий Петрович, война, по-видимому, обошла стороной. Не так? — спросил полковник.
— Совершенно не так! А почему, позвольте узнать, вы так решили?
— Да уж больно фамилия у вас не боевая, — слегка смутился Изенбек. — И где служить довелось?
— В армии Антона Ивановича Деникина.
— В какой? Ведь под его началом были и Добровольческая, и две казачьи, и Туркестанская армии…
— В Добровольческой.
— Очень приятно. И я тоже.
На этом их знакомство пока и закончилось. Но со временем они сблизились. Федор Артурович Изенбек хотя и работал здесь фабричным художником по росписи тканей (чем только не занимались русские эмигранты!), однако давно интересовался историей, в молодости даже участвовал в археологических экспедициях.
Юрий Петрович тоже любил старину, был неплохим этнографом, собирал русский фольклор, находя в нем что-то древнее, сакральное. В разное время активно печатался, многие считали его писателем, но в Брюсселе он зарабатывал себе на хлеб трудом… лаборанта на химическом предприятии.
Узнав о пристрастии друга к древностям, Изенбек после одной из встреч в Русском клубе пригласил его к себе на квартиру, пообещав показать что-то любопытное.
Думаю, вам это будет интересно. Впрочем, кто его знает…
— Новая картина? На историческую тему?
— Нет, что вы! Но… пусть будет сюрпризом.
Федор Артурович жил одиноко, поэтому позволил себе снять аж две комнаты в большом доме. В одной жил, в другой, претенциозно названной «Художественное ателье», работал над проектами росписей, писал любительские этюды и картины. Туда он и ввел своего гостя.
Сюрприз оказался валявшимся на полу грубым мешком, завязанным у самой горловины крепкой тесемкой.
— Вот. Полюбопытствуйте…
Заинтригованный Миролюбов развязал мешок, извлек из него одну дощечку, вторую…
— Это и есть ваш сюрприз? Или где-то там, под этими дровами?
— Хм, дровами… А вы, голубчик, возьмите пока одну дощечку и присаживайтесь к столу, тут светло.
— Одну?
— Одну. Ее вам надолго хватит.
Взял, сел, придвинул поближе настольную лампу, вгляделся.
— Да этой доске… знаете сколько лет?
— Нет, не знаю, — развел руками Федор Артурович. — Очень сухие, значит, старые. Но вы посмотрите внимательнее. Я смотрел, кое о чем догадался, но ничего не понял.
— Здесь… есть линейки. И… под ними[49] что-то… процарапано…
И вдруг Юрий Петрович заторопился, заволновался.
— Увеличительное стекло у вас найдется? И листок бумаги.
Стекло нашлось, появилась и бумага с карандашом.
— Ну вот, — сказал удовлетворенно хозяин, — вы пока знакомьтесь, а я пойду что-нибудь к ужину изобрету…
Несколько раз этот ужин пришлось разогревать, потому что Миролюбов никак не мог оторваться от заинтересовавшей его дощечки. Под конец попросил разрешить ему «посидеть» над ней еще пару деньков дома.
— А вот этого не могу, — задумчиво покачал головой Изенбек. — Я их, вот эти дощечки (их в мешке еще много!) нашел случайно, можно сказать, на краю их гибели. Еще в России. И едва не потерял, когда наша армия развалилась и мой вестовой с этим мешком пропал. Когда в Феодосии мы уже грузились на пароход, он разыскал меня и вот… принес. Хороший солдат был. Так что, извините, не могу: а вдруг что опять…
— Как же тогда быть?
— Если считаете, что стоит ими заниматься, приходите, изучайте. Но чтобы выносить из ателье… И, пожалуйста, о них пока будем знать только мы с вами.
Так началась работа Юрия Петровича Миролюбова с этим необычным посланием из прошлого. Из далекого прошлого! По некоторым словам, которые ему удалось прочесть и понять, он сделал вывод, что имеет дело с древним русским языком, гораздо более древним, чем самые старые русские летописи. К тому же летописи писались монахами на старославянском (вернее — церковнославянском) языке, который еще можно понять, а это…
Выходит, эти странные дощечки, эта совершенно невообразимая деревянная книга писалась во времена, когда на Руси еще не было церквей, а в мире — церковнославянского языка. Это поражало — фантастично! Но и озадачивало — может ли такое быть? Ведь тогда этим дощечкам более тысячи лет!
Вначале, горя нетерпением, он взялся было переводить их на современный русский язык, но вскоре понял, что на это не хватит всей его жизни[50]. И что-то подсказало ему: прежде всего эти тексты нужно тщательно скопировать, не вникая пока в содержание, а то ведь, не дай бог, опять что-нибудь с ними случится. А уж в процессе перевода откроется и содержание.
Но это дело будущего. Одному ему такая работа не по плечу.
Позже, когда, живя впроголодь, он это сделает, в письме к одному из своих единомышленников Юрий Петрович вспомнит: дощечки были «…приблизительно одного размера, тридцать восемь сантиметров на двадцать два, толщиной в полсантиметра.
Поверхность была исцарапана от долгого хранения. Местами они были совершенно испорчены какими-то пятнами, местами покоробились, надулись, точно отсырели. Лак, их покрывавший, или же масло, поотстало, сошло. Под ними была древесина темного цвета.
Края были отрезаны неровно. Похоже, что их резали ножом, а никак не пилой. Размер одних был больше, других меньше, так что «дощьки» прилегали друг к другу неровно. Поверхность, вероятно, была тоже скоблена перед писанием, была неровна, с углублениями.
Текст был написан или нацарапан шилом, а затем натерт чем-то бурым, потемневшим от времени, после чего покрыт лаком или маслом…
Каждый раз для строк была проведена линия… На другой стороне текст был как бы продолжением предыдущего, так что надо было переворачивать связку «дощек», как в листах отрывного календаря. В иных местах, наоборот, это было как если бы каждая сторона была страницей в книге.
На полях некоторых «дощек» были изображения головы быка, на других — солнца, на третьих — разных животных, может быть, лисы, собаки или же овцы. Трудно разобрать эти фигуры…
Буквы были не все одинаковой величины. Были строки мелкие, а были крупные… Некоторые из «дощек» потрескались от времени, другие потрухлявились, и я их склеивал при помощи силикатного лака…»
И еще: «Первые «дощьки» я читал с огромными трудностями. А потом привык к ним и стал читать быстрее. Прочитанное я записывал. Буква за буквой. Труд этот тонкий. Надо не ошибиться… Одна дощечка брала у меня месяц! Да после я еще сверял текст, что тоже брало много дней…
Роль моя в «дощьках» маленькая: я их случайно нашел у нашедшего их прежде Изенбека. А затем я их переписывал в течение 15 лет… Почему я взялся за эту перепись? Потому что я смутно предчувствовал, что я их как-то лишусь, больше не увижу, что тексты могут потеряться, а это будет урон для истории.
Я ждал не того! Я ждал более или менее точной хронологии, описания точных событий, имен, совпадающих со смежной эпохой других народов, а также династий князей и всякого исторического материала, какого в них не оказалось!
Зато оказалось другое, чего я не предполагал: описание событий, о которых мы ничего не знали, обращение к патриотизму русов, потому что деды переживали такие же времена, и т. д.»[51]
Подвиг, совершенный Миролюбовым, Изенбек оценил. Когда здоровье его сильно пошатнулось, он оформил на имя Юрия Петровича завещание, по которому тот становился собственником и «Влесовой книги», и всех его картин.
Кончились тридцатые годы двадцатого века. За какие-то два десятка лет Европа неузнаваемо изменилась. Из довольно легкомысленной и кокетливой дамы она как-то враз превратилась в сумрачную полунищую старушку, почти во всех ее странах грубо и властно зазвучала германская речь. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз…
В маленькой Бельгии, оккупированной гитлеровцами, стало еще беспросветнее. Брюссельский Русский клуб перестал существовать. Почти все члены его, у кого еще были какие-то средства, разъехались кто куда. Остались такие, как Миролюбов и Изенбек, потому что даже на поездку в Париж денег у них не было. Да и во Франции, тоже оккупированной, хозяйничали фашисты.
Нападение на Советский Союз, их последнюю надежду, стало для бывших честных русских офицеров катастрофой. Не вынеся такого удара, Федор Артурович Изенбек скоропостижно скончался. Миролюбов остался один.
Похоронив друга, он долго не мог снова прийти на его квартиру. А когда пришел за оставленным ему наследством, квартира была пуста. Ни одной из шестисот картин Изенбека не было. Хуже того — полки, на которых были аккуратно разложены дощечки «Влесовой книги», оказались совершенно пустыми. Так и не прочитанная, не вернувшаяся на свою родину, она бесследно исчезла. Явившись из мрачной бездны древности, ушла в еще более мрачную бездну новых времен[52].
[И все-таки с «Влесовой книгой» нам несказанно повезло: она, одна из многих, даже через тысячу лет все же пробилась в нате время. А кто скажет, что случилось хотя бы с теми, что были поименованы в «Книгореке» Сулакадзева в разделе «Книг не признаваемых, коих ни читать, ни держать в домах не дозволено»? «Коледник» пятого века, «Путник» четвертого, «Волховник» шестого, «Криница» девятого века… А таинственный «Лоб Адамль» десятого века «на белой коже», а сборник «О Китоврасе…» пятого века? Последний, как и «Влесова книга», тоже был вырезан на буковых дощечках, число которых поразительно — 143! Куда они подевались, в чьих коллекциях или тайных хранилищах укрыты? Какие богатства нашей истории, языка, народного духа хранят в себе? Или уже не хранят, потому что уничтожены? Не хочется верить тому: а вдруг? Ведь никто их не ищет, никто не озабочен ими, никто не плачет об их судьбе. И все же, — а вдруг?!]
Глава двадцать вторая
— Се, было то у Карани, — начал Ягила свою беседу с пришедшими с Добрецом новгородцами. — А это город малый на берегах моря Русского. И был там князь, который сказал эллинов бить и отбросить от Руси. Собрал он рать и конницу и пошел на них, и победил их. И стали эллины жаловаться на бедствия свои и просили принять от них дань…
— У них, что же, кораблей не было, чтобы уйти к себе за море? — спросил молодой новгородец с мягкой светлой бородкой и спадающими на плечи льняными прядями. — Их бьют, а они только жалуются!
— Должно, мало били! — засмеялись его товарищи, такие же молодые, светлые и статные.
— Когда мы бьем, от нас бегут!
— А куда побежишь, если за спиной море, а корабли где-то в походе?
— Не в том дело, братья, — вступил в разговор Добрец. — Эти эллины так в нашу землю вцепились, что только мертвыми оторвать можно.
— Почто так? Изобильна очень?
— Изобильна, тепла, а главное — для торга весьма прибыльна. Торг — главное их дело.
— Самим торговать надо! — решительно стукнул по столу светлобородый богатырь. — Зачем пустили козлов на свою капусту?
— Долгий то разговор, Всеслав. А ты, брат, реки, реки, что там дальше было, у нашей Карани.
— Так вот… Зная, что русичи пьют не только священную сурицу, и порой обильно пьют, привезли те множество резаных баранов и вина. А тут идут волхв Ухорез и брат его Соловень. Говорят они русичам, чтобы не зарились на дары те. Однако наши не послушались и упились, чего эллины и ждали…
На время беседа опять пресеклась — дочка Зарянка, заменив отлучившуюся мать, новые кринки с квасом принесла. Принесла, поставила на стол, скромно отошла в сторону, мельком поглядывает на гостей. А те — на нее: очень уж свежа да хороша Ягилина дочка-юнотка[53]. Что карие солнышки в камышах ресниц, что коса до пояса, что дешевенькое монисто на высокой стройной шейке и все остальное, что при ней. Забыли о квасе, молчат; такие большие ратные мужи, а стушевались перед юной красотой.
Спохватившись, Ягила сам разлил по кружкам квас — пейте, мол, очень уж жаркий ныне день! — и, вспомнив, на чем пресекся, продолжил:
— Ну вот и побили они наших. Погибель свою видя, побежали те в степь. И там они осерчали, силы свои собрали и пошли на эллинов опять. И повергли их. Это боги сделали их дерзостными и руки их укрепили. И они победили, хотя крови много зря пролилось…
— Мотайте на усы суть сказанного, — подмигнул молодым воинам Добрец, — благо они у вас уже выросли. У войны свои уставы суровые. А суровые для того, чтобы выстоять и победить. Это не поселянская драка, где нынче побились, а завтра помирились. Сеча — это на смерть, сами знаете. Так что прав брат Ягила: расслабляться воину нельзя. Вот когда будет последняя победа и ты жив остался, тогда боги сами благословят… А квасок-то у тебя, Зарянка, и впрямь хорош. Точно со льда. Плесни-ка нам еще…
Ягила был доволен службой брата (стал сотником, может и тысячником стать!), поддерживал его дружбу с новгородцами, привечал, слушал их, а они его. Вот и сейчас, заметив, как переглядываются Зарянка с приезжим молодцем Всеславом, даже повеселел душой, оживился:
— Таких горестей в нашем бывалом много. Можно бы еще князя Криворога вспомнить, как он наш Сурож освободил, а после победы греки его, как мальца неразумного, опростоволосили, и мы опять оказались под ними. А для чего я вам все это вспоминаю? Война, сыны мои, не только соперничество мечей, но и соперничество умов. Воюйте умно, без коварства, но и не очень уж бесхитростно. Вы еще молоды, у вас, может, еще много битв впереди, берегите себя, вы нужны Руси.
Помолчал, подумал и не удержался, высказал заветное:
— Мы не кияне, не поляне, а сурожцы. И есть у меня, как у всех суренжан, большая мечта — пойти в земли праотцов наших, чтобы вернуть их в лоно русской державы. Явиться во всеоружии, с такими славными воями, как вы. Очень жажду того, сам меч возьму, род свой на коней посажу, только было б то поскорей. Как думаете, решатся на это князья наши?
Теперь задумались молодые.
— Мы — хоть сейчас! — первым отозвался Всеслав. — Сколько можно терпеть таких мизгирей на русской земле?
— Верно сказал Всеслав, — поддержали друга и остальные. — Войско у нас наготове. Пора, пора в новый поход!
Чувствуя нетерпение молодых, поднялся и Добрец.
— Так это же, братья, война с Византией. А она не только хитра, но пока и сильна. Великую силу иметь и нам нужно, чтобы пойти на то. И она будет у нас, будет!
— Когда, брат?
— Скоро!
— Будем ждать. И помогать князьям нашим. Не забудут нас и боги, и пращуры наши. Правое дело и им по душе…
Когда гости ушли, Ягила в нетерпении потянулся за своими дощечками. Перечел недавно написанное, приготовил последнюю. Вот сейчас заполнит и ее, провощит, как и прежние, свяжет крепким ремешком, а там можно и в Киев…
«…Это я говорю вам же. Поприте вы тех греков, как говорю, поскольку это ясно мне. И видел я (во сне) Кия, нашего Отца, и он сказал мне, что мы с вами их уничтожим, — уничтожим Хорсунь и мерзость амастридскую, и будем мы с вами великой державой с князьями нашими и городами великими, и железом[54] без числа, и будет несчетно потомков наших. А греки уменьшатся в числе и будут на минулое свое дивиться и головами своими качать. Содейте так, поскольку будут нам грозы многие и громы грохотать, чередою беспрерывною друг за другом идя. И окончательно так мы победим, сотворим мы это на века многие благодаря богам, и нас никто не уничтожит. Как львы стойте один за другого и держитесь князей своих! И будет с вами Перун…»
«…Вот речет Орею Сварог: «Сотворю вас из перстов моих. И будут говорить, что вы есть сыны Истварега… И, народ великий, победы одержите по всему свету и разобьете роды иные, — вы, те, которые вызовут силы из камней, чудеса сотворяя — без коней повозки, и всякие содеете чудеса помимо кудесников, потому что всякий будет грести как кудесник… Любите заветы Ореевы, мир зеленый и жизненный. И любите друзей своих, и будьте мирными между родами…»
«…В свое время были семьдесят князей наших, такие как Мезислав, Боруслав и Комонеборец, и Горислав. И так избираемы были вечем и отставляемы вечем, если люди не хотели их. Вот, эти князья весьма труждались. И Кышек был велик и мудр. И он умер, и после него были иные, и каждый делал что-то доброе для русов. Память наша это удерживает, потому должны мы их славить… и чтить память их, сынов наших, и никто не смеет этого забывать — се, проклят такой будет богами и человеками, и люди выбросят имя его из памяти навеки».
«…Ему (Киеву) мы подчиняемся, и с ним вообще Русь строится. И как на нас другая будет сила, не пойдем мы с ней, а с Русью, потому как есть она Мать наша, а мы ведь ее дети. И будем до конца мы за нее».
«…Тут ведь борьба великая непрестанно всякий час была и сечи многие, и стычки, ведь враги так поступать нас заставляют. И ничто еще не завершилось до конца».
Теперь в Киев Ягила ходил не только для того, чтобы купить что-то на торгу для семьи, полюбоваться с днепровских круч могучей рекой, безоглядными далями за ней, но и затем, чтобы почувствовать сердце города, а через него — всей Руси. Очень опасался он пропустить тот день и час, когда русская рать выступит в новый поход. Сколько ни убеждал его Добрец, что пока сильны Византия и Хазария, а их наймиты степняки только ждут момента, чтобы пройтись с татьбой по киевским землям, надежда в нем все равно жила. А раз жила надежда, то и ожидание покоя не давало. Он себе уже и новое седло купил, и меч у хорошего мечника заказал, и коня подготовил. Только бы не пропустить день и час!
Лучше всего сердце города чувствовалось не тут, на Горе, где живут князья с дружиной и воеводами, а внизу, в мастерских мечников, лучников, шорников-седельщиков, литейщиков, кузнецов. По их стуку-перезвону угадывал Ягила ритм киевского сердца. В последние месяцы он был весьма напряжен, и это радовало: готовится город, работает на войско! А войску много чего надо: и мечей, и шеломов, и щитов, и луков, и стрел с копьями, и седел, и упряжи, и телег, и добротной обувки для дальних путей — всем работы хватит.
Постояв возле них, наслушавшись их стука и грома, повернул на торжище. Да и как обойдешь его, если есть у тебя в семье не только жена, но еще и две дочери. Старшая — и не заметил, как выросла! — поди, уже сватов ждет, а вторая, через сына, тоже уже милой голубкой смотрится. Как им без сережек, без лент, без гребней? Ну а Милице — летний плат, легкий, мягкий, в цветочек, какие она любит. Хотел и Благе что-нибудь присмотреть, да поиздержался уже, значит, ей — в другой раз, брату сейчас не до того…
Походив по торговым рядам, снова вернулся к оружейникам. Не стерпело сердце, захотелось самому поглядеть, как мастер кует его меч. Хоть и сторонится народ ковалей, считая их едва ли не колдунами, для Ягилы они самые нужные люди. Может, и сейчас кто-нибудь из них, смертных, дружит с богом Перуном. А коли так, чего страшиться их? Ведают тайны руд, умеют заставить их плакать горячими железными слезами, из которых и отольют что надо, и откуют любую кузнь — от обруча на бочку до меча! Так это ж великое уменье, а не колдовство, это ценить надо. Вот князья и ценят: без них войско не войско.
Открыл дверь, вошел. В мастерской полутьма, гарь, только у горна светло от огня да у наковальни. Там и разглядел мастера. Улучив момент, когда тот заметил его, напомнил о мече. Не отрываясь от дела, кузнец лишь покачал головой.
— До твоего не дошел. На князя работаю, весьма большой заказ на войско.
— Так и мне в войско. Все уже есть, меча недостает.
— Тебе, речешь, в войско? — блеснул коваль белыми зубами. — А не припозднился? Вон вся борода в окалине. Куда тебе?
— Не смотри на бороду, брат, смотри в душу. Не могу я в стороне стоять, праздно глядеть на дела других. Без меня там никак нельзя.
— Да ты не только стар, а уже, видно, отвоевал свое. Вон спина от прежних ратей горбится.
— А ты все-таки скуй!
— Ладно, раз ты такой горячий. Только не взыщи, после князя.
Обидно стало, да что поделаешь? Постоял, поглядел, как колдует мастер то над черным, то над огненным металлом, и ушел. А на улице уже вечер, а у греческой церквушки опять почему-то толпится народ. Зря князь-воевода Олег, казнив Аскольда, не порушил и его церковь. Мозолит она киянам глаза, раздражает. Почему, дескать, оставили? Для кого? Может, и новые князья туда же глядят?
Кривотолки, пересуды, разговоры. А новокрещены хоть и сторожатся, а нового бога своего не оставили. Очень хочется им пострадать. Ведь он, говорят, любит страдальцев, и путь на его небеса лежит через страдания…
Ягила сначала тоже бушевал, поносил Олега за такой недогляд, а когда, просидев с Добрецом целую ночь, разобрался что к чему, решил больше туда не ходить. Может, и в самом деле так надо, ведь на торг в Киев съезжаются гости из разных стран. Из Византии, к примеру, а тамошние люди давно все христиане. Надо же им где-то в Киеве помолиться. Есть же в греческом Царьграде для наших купцов святилище Перуна и Белеса, вот и тут пусть будет для них отрада. А торговать с империей нужно. И куда сноровистее, чем сейчас. Руси от этого одна польза.
Решил не ходить, и долго не ходил. А тут с чего-то потянуло: вдруг там наших бьют или наши проказят? Крики и визг даже тут слышны.
Побежал — так и есть, что-то делят. Только появился — ор, гвалт: «Вот и ты, горбун! Опять куража для явился?» И — ух! — колом по голове.
От неожиданности и великой слабости все поплыло, ноги подкосились, и он на какое-то время точно в навь-сон ушел. Очнулся — тихо, все разошлись. Оперся спиной о забор церквушки, обхватил голову руками, а та липка. И ладони липкими стали. Где омыться?
Потащился Ягила к Днепру. Бледная луна еле высвечивала каменистую тропу. По ней он спустился на узкий днепровский плес. Вот уже слышно, как плещется о берег вода. И тут что-то острое и, как показалось, горячее ударило в спину. Стрела! Упав, он еще слышал, как хрустнуло сломавшееся древко. И голоса: «Говорил же, что я тебя запомнил, горбун!», «Так он уже нав! Куда его теперь?», «А в челн. И на волю, диавола!..»
Очнулся Ягила в утлой рыбачьей лодчонке. Течение Днепра неслышно несло его в низовье, печально поплескивая за бортами. Высоко над лицом сияло и переливалось звездными огнями ночное небо. Самая большая и яркая из звезд, хорошо знакомая каждому страннику и мореплавателю, — Седава[55]. То есть седая, старшая из них. А раз старшая и седая, то особо почитаемая — святая. Только подумал и опять забылся. Через какое-то время почувствовал — глазам стало тепло, словно на лицо ему легла чья-то теплая рука. Приоткрыл глаза — Сурья. Прекрасный огнекудрый Сурья отыскал его в этой водной пустыне и согрел своими теплыми утренними лучами. После Перуна Сурья его любимый бог. А может, и до Перуна. Он же и Огнебог, и Ярила, и Солнце, и Даждьбог. И вместе со всеми другими богами — Сварог. Ибо бог русичей един и множествен. Как то? Не понять человеку, ибо тайна великая. Ум разверзнешь, а не поймешь!
Потом его заставила очнуться какая-то очень важная мысль, которую он не успел додумать прежде. О чем она? Почему так неотвязна?
А, вот о чем… Как-то Ягила насчитал семьдесят известных ему славянских князей. И не меньше великих пращуров и героев, сынов отечества. А вот кого-то вспомнить тогда никак не мог. Неужто так и не вспомнит?
А было их двое. Братья. Ну да, когда столетний старец Германарех отобрал у них их красавицу-сестру… Нет, чуть позже! Когда этот готский полутруп-полукороль приказал ей идти на ложе и она пренебрегла им… Когда этот гадкий дряхлый старикашка приказал разорвать ее дикими конями и слуги исполнили то…
Вот-вот, как раз в это время они и вошли в его шатер, пронзили ненавистного мечами и… И что с ними самими стало? Зарубила на месте охрана? Или смогли отбиться? Не вспомнить… А главное — не вспомнить их имен. Как это досадно и несправедливо! Как стыдно и нехорошо…
Он и прежде каялся в этом, но сейчас все-таки мысль была не о том. Вот приходили к нему молодые новгородские вои. Он хотел напомнить им один случай из бывалого. Ну да, с тем же Германарехом, чье имя боги выплюнули, как и амастридскую мерзость… Вот-вот, вспомнил!
Случилось так, что, напав на русов и получив крепкий отпор, его войско тут же попало под удар гуннской конницы. Чтобы избежать гибели, пошел на поклон к тем же русам, пил с ними вино дружбы и клялся быть заодно с ними против гуннов. Наши князья поверили и открыли ему дорогу в землю Русколани. Но прошло какое-то время, и он, сроившись с гуннами, пошел на недавних своих спасителей — и плакала тогда гибнущая Русская Колунь.
А рассказал он им не этот, а другой случай, бывший у Карани. Только ли для того, чтобы пополнить счет русским поражениям и неудачам? Сказать, что мы излишне доверчивы и верим даже тому, кому заведомо верить нельзя? Пополнил, сказал. Но главное опять же не это!..
Так что же главное? Боги, дайте вспомнить. Никогда ни о чем не просил вас, только творил вам славы, а сейчас прошу. Помогите вспомнить. Вы же все знаете, для вас это так просто…
На этом Ягила опять ушел в Навь, а когда пришел обратно, все вспомнил.
Тысячелетия назад, когда людской мир только создавался, боги установили вселенский нравственный закон Истины, Правды-Прави, Любви и Справедливости. По этому закону должно жить все во Вселенной, человеческое и нечеловеческое. Стать благим, близким к богам можно, только идя Путем Прави.
По этому закону все живое и неживое одухотворено и свято. В том числе, и особенно, Слово Истины, Слово Правды. И ответственным за его исполнение бог богов назначил своего первого сына Перуна.
Многие века люди знали и почитали это божественное установление. Даже когда стали забывать о нем, суть его оставалась жить в их душах. Они боготворили Правду и Истинное Слово, шли по жизни Путем Прави, а когда покидали ее, приобщались к богам.
Когда Перун строго следил за этим, все шло хорошо. Но вот многие племена и народы забыли о нем настолько, что начались между ними раздоры, ложь и обман. Поскольку войны стали постоянными, Перуну, видимо, стало не хватать времени для прежнего контроля, и человечество погрязло во зле.
Только славяне, да и то не все, остались верными богам. Даже живя в мире зла, они продолжали свято верить в Истину, Правду, Любовь и Справедливость. Не умея сами лгать и обманывать, они ожидали того же и от других, верили даже слову врагов, и те бессовестно пользовались этим. Отсюда столько бед выпало на долю славян, они часто терпели поражения даже тогда, когда были сильны. Несомненно, это красит и возвышает их, но что будет с ними дальше, если человечество не порвет с миром зла, не вернется на путь Прави? Так и оставаться простаками?
[Пройдет еще тысяча лет, и мир погрязнет во зле еще глубже. И, глядя на русичей, будет гадать: что это за непокорный народ, почему он не похож на других, в чем загадка и тайна русской души? Но знать про то Ягиле было не дано, ибо боги не дали человеку способности знать свое будущее. Нам тоже не дано. Но мы думаем, и наша «тайна» для нас не тайна. И мучает нас другое: стать такими же, как все, и не церемониться с теми, кто не церемонится с нами? Или, оставаясь в одиночестве, не поддаваясь такому искушению и борясь, найти силы сохранить себя для будущего? Что для нас ценнее? Думай, русич, думай! Жалок народ, который не умеет и не хочет думать о себе.]
В последний раз Ягила вернулся из нави совсем ненадолго и как-то странно. Он уже ничего не видел, не слышал плеска воды за бортами, ничего не хотел. Наверное оттого, что все наконец вспомнилось, а других желаний у него не было. Даже открыть глаза. Но и с закрытыми глазами ему вдруг увиделась прекрасная юная дева вся в белом, ведущая в поводу белого коня.
Склонившись над ним, она горестно вздохнула и печально сказала:
— Ну, радуйся, русич, сейчас ты взойдешь на благословенную Сваргу нашу и увидишь пращуров своих…
Но сама почему-то не радовалась. Заволновался и он.
— Все будет хорошо. В полку Перуна тебя уже ждут. На вот, испей живой воды, неистовый воин Сварога…
— Но ведь я не воин, — поправил он ее. — И не в сече пал, а… — он попытался вспомнить, что же с ним приключилось, и не смог. — Иди к другим, Перуница. К тем, кто более достоин того.
— Не так, русич, не так, — покачала светлой головой небесная дева. — Ты всю жизнь был воином и пал как доблестный воин. Только сеча твоя особенная, вечная. Радуйся, русич… Пей…
Он испил ее живой воды, сел на белого коня и легко воспарил над темной землей…
Чем дальше, тем многоводнее становился Днепр. С приближением его знаменитых порогов течение все ускорялось, становилось шумным, неукротимым. Вот берега его, став высокими отвесными скалами, почти сомкнулись, вода меж ними закипела, загрохотала, превращаясь в белоснежную пену и взлетая до самых небес. Утлая рыбачья лодчонка канула в эту гудящую бездну и за мгновение превратилась в прах. Но Ягилы в ней уже не было. Зато в небе зажглась еще одна звезда.
…А что же Русь его?
Юный князь Игорь не вечно будет юн. И будет у него жена — пресветлая княгиня Ольга. И будет у них сын — великий воин Отечества Святослав. А у того будет сын Владимир…
Но это уже совсем другие времена.
А у каждого времени и своя история.
Глава двадцать третья Вместо эпилога
Тяжело пережил Юрий Петрович Миролюбов годы фашистской оккупации, да и послевоенное время благополучием не баловало, увы. Но была и радость — у него сохранилась копия «Влесовой книги»! Ведь чувствовало, чувствовало сердце, что нужно спешить, пока дощечки в его руках! Не стало их, зато есть копия. Вникай, изучай, научись говорить с ней на ее языке — и тогда может открыться такое, что и представить трудно.
Годы работы сначала с самими дощечками, а затем с их копиями не пропали даром. Он уже многое понимал и еще больше предчувствовал. Имена древнеславянских богов, наставления и призывы автора следовать их указаниям, не щадить своей жизни, оберегая их и свои земли от всевозможных врагов, — все это было близко его душе этнографа, фольклориста, собирателя, литератора, историка и просто русского человека.
Попробовал переводить — ну хотя бы бегло, самую суть, чтобы получить более определенное представление о конкретном содержании книги. Получилось плохо, слишком уж «бегло». И тогда, чтобы привлечь к ней внимание научной общественности, он стал рассылать свои переводческие опыты и копии по научным институтам и университетам Европы и Америки. Узнав о том, что в Сан-Франциско в США организован и действует Музей Русской культуры, а также издается русский журнал «Жар-Птица», связался с ними. А когда его пригласили, не раздумывая перебрался в Америку.
После первых же публикаций в «Жар-Птице» быстро отозвались десятки людей из самых разных стран. Все те же русские эмигранты той еще, первой волны. К ним примкнули и свежие, кого выбросила в мир вторая мировая война. Все находили в древних текстах что-то близкое и дорогое для себя, переводили, докапывались до смысла через толщу веков, радостно делились удачами, огорчались, когда оказывались бессильными перед сложностью задачи.
А огорчаться было отчего. Многие дощечки плохо сохранились, были расколоты на мелкие фрагменты, отчего поневоле возникло немало «темных мест». Кто-то обходил их, будто ничего тут и не было, кто-то, руководствуясь интуицией, заполнял такие места собственными сочинениями, что еще больше запутывало дело. Миролюбов, к которому часто обращались, категорически отвергал такой подход.
Очень разные результаты объяснялись еще и тем, что русская письменность тех далеких «языческих» времен еще не была «устроена». Ее устроением и занялся святой Кирилл, обнаруживший во время своего путешествия в Хазарию в греко-русском Херсонесе две христианские книги на русском языке. И не исключено, что это были именно те книги, которые «русскими письменами» перевел для богослужебных целей русский митрополит Иоанн в конце седьмого века в Таврии. Теми письменами как раз и написал свою «Влесову книгу» подвижник Ягила.
Одно то, что все тексты были написаны сплошняком, одним потоком, то есть без разбивки на предложения, а предложений — на слова, без каких-либо знаков препинания, доставляло много хлопот, требовало чрезмерных усилий. И тем не менее энтузиасты не отступали.
Над переводами «Влесовой книги» трудились Америка, Европа, Австралия, и лишь родина ее Россия (в составе тогдашнего Советского Союза) делала вид, что ей ничего не известно. И дело тут не только в атеистической идеологии, отвергавшей любую религию, — уж очень непривлекательными были тогда фигуры самих переводчиков, сплошь белоэмигрантов и украинских националистов, замаравших себя сотрудничеством с гитлеровцами. Как после страшных событий века опуститься до того, чтобы как ни в чем не бывало привечать своих вчерашних врагов?
Но время шло, меняя и идеологии, и традиции. Известна сейчас «Влесова книга» и в России. К ее переводу и изучению потянулись неравнодушные к своей истории, культуре, истокам люди — и вдумчивые специалисты, и любители-энтузиасты, и неизбежные в таких интересных делах дилетанты. Все меньше становится людей, отрицающих ее подлинность.
В печати вышло несколько полных переводов, собираются и популяризируются факты из истории этого удивительного памятника древнерусской культуры, исходя из новых знаний, полученных из него, все дальше и дальше в глубь времен отодвигается и наша история. Пройдет еще какое-то время и выражения типа «тысяча триста лет до Германареха» или «тысяча пятьсот лет до Дира» станут привычными даже для школьников. А ведь это целое тысячелетие до нашей эры.
А «первая тьма лет», когда изначальные индоевропейцы жили где-то на нынешнем Севере? А «вторая тьма лет», когда, гонимые «большими холодами», они двинутся вслед за светом-солнцем «на полудень», а потом и далее, — заселят половину Азии и всю освободившуюся от ледника Европу?
Что это — мифы? Или реальность, забытая нами?
Вместе это целых двадцать тысяч лет. Как заглянуть в них? Или опять поможет его величество случай? В виде книги на камне, мамонтовом бивне, «рыбьем зубе»?
Или успокоимся и ограничимся тем, что имеем? Ведь это так хлопотно — искать, ломать в спорах копья и устоявшиеся представления, двигать историю в ту самую глубь, у которой, может, и дна-то нет!
Знания беспокоят, отягощают, обязывают. Не зря же предостерег нас древний мудрец, сказав, что «от многого знания много печали».
Но будем помнить и великого русича Ягилу, обронившего в своей бессмертной деревянной книге вот эти скорбные и обнадеживающие слова:
«И НИЧТО ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ДО КОНЦА».
2009–2010 гг.
Человек веселый[56]
С веселым человеком и в бою не страшно.
Пока мы смеемся, мы живем.
Из народаПовесть
В это утро он проснулся рано. Сна — ни в одном глазу. И во всем теле — такая бодрость и свежесть, будто уже проделал привычную утреннюю зарядку, ополоснулся холодной водой и только ждал момента, чтобы сорваться и побежать на работу.
В душе тоже было что-то новое, необычное. Того и гляди запоешь «Нас утро встречает прохладой». Однако дело было совсем не в прохладе, тем более, что в квартире, как всегда, было душно, а в чем-то другом, непривычном и непонятном. Похоже, ей чего-то хотелось — тоже свежего и необычного. Больше того — она, душа его, не просто хотела, а уже предчувствовала и даже верила, что все это непременно случится. Прямо сейчас, вот-вот. Стоит только подняться, размять тело комплексом давно заученных упражнений, постоять под холодным душем…
Но он чувствовал себя так бодро и легко, что никаких упражнений и водных процедур делать не стал, скоренько умылся, оделся и побежал на кухню сооружать себе завтрак. Сооружать однако ничего не пришлось — завтрак уже был готов и ждал его на столе, источая приятный аромат слегка пережаренного лука и яичницы.
— Ну, вот и ты! С праздником тебя, Свистунов! Садись, заправляйся, веселый мой человек, — жена встретила его улыбкой.
— Спасибо, — растерялся Свистунов, — и тебя тоже… с праздником. — И не очень уверенно поцеловал жену в щечку, чего не делал уже много лет.
В окно кухни светило раннее весеннее солнце, на столе его ждал (тоже впервые за много лет) заботливо приготовленный завтрак — разве ж это не праздник? Подумал и засомневался: душа предчувствовала и ждала чего-то другого. Хотя и это хорошо, однако не слишком ли мало? Заглянул в душу, но та не отозвалась, занятая своим загадочным предчувствием. Видно, этой яичницы ей тоже было маловато.
Однако чем дальше — тем больше. Когда Свистунов покончил с яичницей и чаем и заторопился к двери, жена протянула ему заранее приготовленный и изрядно тяжелый пакет.
— Это тебе на обед. Не забудь друзей угостить, раз у тебя сегодня такой день. А уж вечером…
Он не расслышал, что будет вечером, потому что уже был на лестнице, а через минуту и на улице, где весело светило раннее весеннее солнце, влажно поблескивали подмерзшие за ночь лужицы, на еще голых тополях кричали грачи.
На пути к остановке трамвая ему попалась длинная заледеневшая лужа. Свистунову она понравилась. Разбежавшись, прокатился, — понравилась еще больше. Ему было так весело и хорошо, душа в нем так пела и ликовала, что он, как школьник, принялся с азартом кататься и катался до тех пор, пока не упал.
При падении он выронил пакет, отчего в нем что-то подозрительно звякнуло, а в ушибленной голове вдруг стало светло-светло. Наверное, из-за этого Свистунов как-то сразу вспомнил, что сегодня у него действительно особенный день — пятнадцатое апреля, день рождения. И не обычный, что неизбежно случается каждый год, а пятьдесят пятый в его жизни. Своего рода юбилей! Жена знала, помнила, даже поздравила, а он так заработался, что забыл. Собственный день рождения забыл, ну разве ж так можно!..
Подняв пакет и заглянув в него, он еще раз тепло подумал о жене: надо же, не забыла, сто лет не обращала на этот день внимания — и вдруг…
Додумать свои мысли о жене он не успел, потому что увидел на дне пакета тускло поблескивающие осколки стекла. Извлек один — от бутылки. Понюхал — пахнет. Чем пахнут в России такие емкости, объяснять не надо. От удивления, а еще больше от жалости Свистунов только присвистнул:
— Вот те и раз! Проздравился называется. С юбилеем тебя, дорогой Никита Аверьянович! Многая, многая тебе лета!..
Как ни жалел, как ни горевал, а не удержался — рассмеялся. Проходивший мимо гражданин не преминул остановиться и полюбопытствовать, отчего в такое раннее весеннее утро да в таком тихом переулке такой, знаете ли, подозрительный смех. На каком, дескать, основании и по какому, мол, праву.
Оглядев строгого моралиста в ватнике на одной пуговице и в сапогах с подвязанными подошвами, Свистунов рассмеялся еще громче:
— Ну вот, гости к столу, а она, родимая, тю-тю! А без нее какой тебе юбилей, какие тосты? Ну жена, ну Татьяна!.. А я сам? Ну не растяпа разве?
Бутылка разбилась не вся, и что-то на донышке в ней еще осталось. Мужик обрадовано извлек ее из пакета и сердито глянул на Свистунова.
— Чего гогочешь, дурак? Тут плакать надо, а он знай себе заливается. Веселый человек…
Выпив остаток, он побрел дальше своей дорогой, а Свистунов побежал на остановку. По пути догадался вместо разбитой купить в магазине другую. В трамвае он успокоился окончательно, устроился на самом последнем сиденье, и тут его посетила такая прекрасная мысль, что он едва не прослезился от радости.
А мысль была такая: пятьдесят пять лет для него не просто день рождения и какой-никакой юбилей. С сегодняшнего дня он — пенсионер! Годы, отданные вредному производству в «большой химии», дают ему такую возможность. Спроси любого кадровика — подтвердит. Да и сам он это всегда знал, но в суматохе запамятовал. А время, оно, брат, не стоит на месте, счетчик работает, стучит. Вот, выходит, и достучал: выходи, уважаемый Никита Аверьянович, твоя остановка. Как говорится, последняя и окончательная.
И тут ему стало вспоминаться, как провожали на пенсию его старших товарищей, когда он еще работал на «Химпроме». Какие речи говорили — от коллектива бригады, а то и цеха, от профсоюза, от администрации, какие дарили подарки, как вручали пенсионное удостоверение, а потом допоздна сидели в заводской столовой, чествовали, как космонавта или героя. И это было прекрасно, потому что заслуженно. И потому что главное в любом деле — человек.
После «Химпрома» он перешел на известную в городе «Хлопчатку» — хлопчатобумажный комбинат — слесарем по обслуживанию прядильных линий. Комбинат был новый, все оборудование — тоже новенькое, импортное, цеха просторные, светлые, с цветами на подоконниках, воздух после «большой химии» как в раю, — работай, радуйся жизни. И он работал. И радовался.
В отличие от «Химпрома» на «Хлопчатке» работали в основном женщины. Кто-то утверждает, что управлять такими коллективами ох как непросто. Может, так оно и есть, но Свистунову это понравилось.
С женщинами он ладил, и получалось это у него как-то просто, само собой. Конечно, подход к ним нужен иной, чем к мужикам, ибо женщина — натура тонкая, эмоциональная, не всегда понятная и предсказуемая. Но зато и какая благодарная, отзывчивая даже на самую малость участия и добра!
Вот, к примеру, ты собираешься на работу. Дома столько забот-хлопот, проблем с ценами, тарифами ЖКХ, кредитами, своенравными и эгоистичными домочадцами — голова пухнет. Вместо того, чтобы настраиваться на творческий созидательный труд, все тасуешь и тасуешь эти цены, тарифы, кредиты… пропади они пропадом, и тащишь их на своем горбу в свой цех, бригаду, участок, к таким же озабоченным, обозленным жизненной нескладухой товарищам. Но среди мужчин это в порядке вещей. Потому что все мы одинаковые, и иного нам не дано.
Другое дело — женщины. Собираясь к ним, все свои семейные и прочие проблемы оставь дома. Не забудь, потому что такое все равно не забудешь, а отложи, отодвинь до вечера и приди к ним бодрый, веселый, почти влюбленный. Не скупись на хорошие, красивые слова, кого-то приобними, кого-то поцелуй в щечку, кого-то назови душенькой, красавицей, солнышком. У них ведь тоже семьи, домашние неурядицы, и таких слов, кроме тебя, им никто не скажет.
Иные из них будут отмахиваться, отпихивать тебя дальше по кругу, а острые на язычок хохотушки высмеивать эти твои ухаживания, но ты знаешь: это лишь игра. На самом деле им приятно такое внимание, твое настроение передается и им, и они с шутками и незлыми подначками расходятся по своим рабочим местам. Ты для них свой парень, на которого можно положиться, который поймет, утешит, выручит. Все это, должно быть, и вкладывают они в его второе имя — Веселый человек.
Так думал Никита Аверьянович Свистунов, добираясь в гремящем трамвае к себе на работу. Жаль, нет уже той веселой и работящей «Хлопчатки», которая так пришлась ему по душе. Остались одни мрачные стены и огромные пустые пространства, где не услышишь больше ни напряженного шелеста прядильных машин, ни человеческого голоса.
Почти все оборудование фабрики уже было демонтировано, упаковано в крепкие ящики и куда-то вывезено. Злые языки утверждали, что весь комбинат продали на металлолом, но то, как тщательно разбирался и упаковывался каждый агрегат, свидетельствовало о другом. Когда Свистунов недвусмысленно намекнул на это начальству, ему в ответ намекнули на немедленное увольнение. Как горько ни было праведнику, пришлось скрыться за дурашливой шуткой:
— А я что? Я ничего. Ведь хлопок у нас все равно не растет…
Невеселые мысли отодвинули другие, более приятные. Вот сейчас загрузят последние ящики, начнется обеденный перерыв и тогда придут его поздравлять. Интересно, что ему по этому случаю подарят? На «Химпроме» дарили щедро: если увлекаешься рыбалкой — вот тебе все рыбацкие прибамбасы, если садовод-огородник — порадуйся тепличке, если турист — получи точные дорогие часы, чтобы не опоздать на самолет. Или спальный мешок. Или еще что стоящее. Ну а если ты ни то ни се — тогда тебе полагается целый набор: зонт + резиновые калоши + домашние мягкие тапочки + боты «вторая молодость» + лотерейный билет. И все — с шутками, с розыгрышами, чтобы всем было весело, а главное — чтобы драгоценный юбиляр не опечалился вдруг тем, что вышел на финишную прямую своей в общем не такой уж и большой жизни.
Здесь, на «Хлопчатке», отмечали в основном женщин. Подарки были, может быть, поскромнее, но зато какие говорились слова! Тут уж без него, веселого человека, не обходилось. Уж так возвеличит скромную труженицу, уж такие найдет для нее слова, что вся сомлеет, сердечная, раскраснеется как твой алый мак, расплачется. И он, сам растроганный, поплачет вместе с ней.
Однако на его празднике никого из них не будет. Считай, самого дорогого подарка лишили.
Обеденный перерыв прошел в бесполезном ожидании: никто не пришел его поздравить, вручить полагающиеся подарки, поблагодарить за многолетний доблестный труд, пожелать чего-нибудь хорошего. При таких обстоятельствах и «стола» накрывать не пришлось — кто же пьет на рабочем месте в рабочее время? Не те сейчас времена, не те порядки. Да и в одной из южных молодых развивающихся стран, где растет этот самый хлопок, поди, ждут не дождутся российского «металлолома»…
Едва вынесли последний ящик, в опустевшее помещение цеха вошли десятка два весьма представительных мужчин, кучковавшихся вокруг еще более представительных двух-трех решительных особ.
— Новые хозявы, — проронил кто-то рядом со Свистуновым.
— А чего им тут? Не банк, поди, — усмехнулся тот.
— Будет банк, если захотят. А скорей всего еще один гиперсупермаркет — магазин.
— Это здесь, что ли? Да тут только кино снимать. Про войну. Или футбол гонять!
— Ничего, сделают. Деньги все могут. Если очень большие, однако…
Новые хозяева, осмотревшись у входа, отправились дальше, а освободившуюся бригаду монтажников-демонтажников собрали у ближайшего окна, где посветлее. Ну, екнуло у Никиты Аверьяновича ретивое, и до него дело дошло. Будут поздравлять, желать, провожать. Обстановочка, конечно, не соответствующая, но, будем считать, прямо на рабочем месте. Не зря же говорят, что не место красит человека, а человек — место. В таком ответственном деле главное — сердечность, внимание. А что касается подарка, то от хорошего фотоаппарата он не отказался бы. С детства мечтал, а уж теперь, когда будет такая прорва свободного времени…
Он так размечтался об этом прекрасном свободном времени и о том, как будет снимать свои любимые места в городе и далеко за его пределами, что даже не заметил, как скоротечное собрание уже стало подходить к концу. Речь, как он понял, шла совсем не о нем, а о какой-то поездке — далеко и надолго, но зато с хорошим материальным наваром. Куда, по какому делу, за что навар?
— Туда, где хлопок растет, — растирая на бетонном полу окурок, глухо отозвался сосед. — Здесь демонтировали, там…
Ретивое Свистунова взвилось, как необъезженный конь.
— А этого они не хотят? — похлопал он себя по известному месту своего тщедушного телесного материала. — Да чтобы я… своими руками… ограбив любимый город, а заодно и родную державу…
Ему не хватало слов, чтобы выразить ими все свое кипящее негодование и презрение. Для хорошего дела или человека у него их было как воды в фонтане, а для такого… Это, конечно, не расстрел парламента, не перебежка из КГБ в ЦРУ, однако и воровство целого комбината… Нет, подходящих слов для этого случая в его лексиконе не находилось. И тогда он обратился к мудрости своего одураченного народа:
— Это значит… все равно что помочь вору украсть собственную корову, отвести ее к нему в хлев, мало того — еще и подоить, приготовить творог и сварить для него вареников! А этого вы…
— Эй ты, великий труженик, а ну прекрати свою совковую демагогию!
Оказывается, в своем правом гневе Свистунов и сам не заметил, как оказался перед грозными очами начальства. Надо было беречься, прикусить язычок, спрятаться за широкие спины товарищей по труду, — другой бы так и поступил, но плохо вы знаете Никиту Аверьяновича Свистунова, если ждете от него такого малодушия, если не сказать больше.
Не успел он выкричаться, как к нему подступили крепкого телосложения витязи из сферы самых серьезных нынче услуг, подхватили под белы ручки и буквально вынесли за ворота. Напрасно Свистунов протестовал всеми своими конечностями, напрасно заявлял, что он сегодня именинник, юбиляр и уже пенсионер, — бесполезно. Падая на уже начавший зеленеть газон, он, к его чести, успел сгруппироваться, как опытный парашютист перед приземлением, и даже вспомнить о своем злосчастном пакете. Пакет со всем бьющимся и мнущимся он спас, и это в какой-то мере скрасило его позорное поражение.
— Нас можно победить силой и коварством. Нас можно превратить в рабочий скот. Но сломать русскую душу никому еще не удавалось… Ханыги!
Что означали эти чуждые его речи «ханыги», Никита Аверьянович и сам не знал, но они придали ему новых сил. Он степенно поднялся, стряхнул с одежки прилипший мусор и бодро, не теряя боевого духа, не уронив своего святого знамени, готовый к новым боям уверенно отступил к трамвайной остановке. Так в сентябре 1812 года Кутузов отступал от Бородина.
— Ничего, сегодня вы и Москву можете заглотить — не подавитесь. Но мы еще вернемся… за подснежниками.
* * *
Трамвай качало, встряхивало, несло от остановки к остановке, а Никита Аверьянович сидел на своем любимом заднем сиденье, смотрел в окно и успокаивался. Мало-помалу он совсем успокоился, вот только душа иногда по-детски тонко всхлипывала от обиды. Обманулась она сегодня в своих ожиданиях и предчувствиях, ох как обманулась, бедная! И его обманула, и он поверил, забыв, что живет в пору перемен, которую даже терпеливые китайцы опасаются и не любят. Ну что ж, и беда, говорят, учит, и отрицательный результат — тоже результат.
Вскоре он настолько успокоился, что опять увидел, что на улице весна, что солнце еще высоко, а тротуары везде уже сухие. Ему захотелось весенней радости, и на следующей остановке он сошел. Запрокинул голову к небу, подставил лицо ласковому теплу ликующего солнца, всей грудью вдохнул терпко-горький запах цветущих тополей: хорошо.
Веселый человек, он не умел долго сердиться или обижаться и, хоть не забывал незаслуженных обид, не оставлял им большого места в сердце, не позволял ожесточать себя. Человек, говорил он, тем и отличается от зверей, из мира которых вышел, что может и обязан быть мудрым и добрым. И это совсем не трудно, если быть честным и справедливым.
К концу рабочего дня улицу, по которой он шел, буквально запрудил поток машин, а Свистунову нужно было перейти ее. До перекрестка с его светофорами было далеко. Здесь они тоже были, но почему-то для пешеходов всегда горел красный свет.
Прождав изрядное время, он уже решил сделать вынужденную пробежку до регулируемого перекрестка, как вдруг увидел старушку. Та бойко прошла мимо него, на секунду задержалась у столба, которых в городе приходится по десятку на каждого жителя, и вся картина мигом переменилась: в светофоре загорелся зеленый свет, машины замерли на месте и бабулька, шагая, как Христос по морю, спокойно переправилась на другой берег асфальтовой реки.
Пока Никита Аверьянович соображал, что же это случилось с улицей, зеленый свет опять сменился красным, и грохочущий железный поток снова устремился вперед — не пройти.
На этот раз ждать пришлось недолго. Прибежала кучка мальчишек, чуть задержалась у того же столба — и все повторилось: на той стороне вспыхнул зеленый, поток, как заарканенный, разом остановился и ребятня побежала дальше.
Следом за ними мог устремиться и он, но, заинтригованный происходящим, решил сначала разобраться на месте. Медленно приблизился к столбу, одному из многих поддерживающих трамвайные контактные сети, подозрительно оглядел его сначала сверху донизу, затем снизу доверху и обнаружил на нем какой-то ящичек. Подошел еще ближе, склонился и увидел на его дверце круглую клавишу-кнопку. С чего бы она тут? Нажал — опять зажегся зеленый свет, машины остановились, и он торжественно прошествовал в нужном ему направлении.
— Во дает! — в восторге хлопнул он себя по лбу. — А говорят, у нас с техническим прогрессом проблемы. Врет вражеский агитпроп. Мы теперь не только вокруг луны летаем, но и улицы переходить научились.
И вдруг стушевался.
— А как обратно?
Глянул на ближайший столб — и там в точности такой же ящичек. Нажал на кнопку — перешел. Перешел — опять нажал, пошел обратно. Пришел — опять…
Дело едва не кончилось скандалом, еле ноги от разъяренных водителей унес. Перетрухнул, понятно, но зато сколько веселой радости было от этого простого открытия! Но открылось и другое: плохо, выходит, знает он свой сегодняшний город! А все оттого, что недосуг стало просто пройтись по родным улицам, все работа да работа: дом — комбинат, комбинат — дом. Вместо восьми часов — все двенадцать, один выходной, да и тот как подарок судьбы. Такой уж он, наш российский капитализм. Очень полюбились ему деньги, причем, как шутит телеящик, — здесь и сейчас. И непременно чтоб много-много.
Ничего веселого в размышлениях на эту тему не было. Унизили, мало что обобрали — низвели рабочего человека до положения безъязыкой тягловой силы. Никакого ему уважения — хотя бы потому просто, что он человек, тот, что «по образу и подобию». Впрочем, они уже и самого Творца запрягли в свою карету. Стерпишь ли, великий милостивец и человеколюбче?
Но как мало нужно тому же человеку, чтобы он опять воспрял душой! Стоило Свистунову оказаться перед высокой стеклянной дверью, как та гостеприимно распахнулась перед ним, будто приглашая: милости просим, уважаемый, — и он вошел, тронутый таким вниманием. Огляделся, ища взглядом кого следовало бы поблагодарить, но никого не обнаружил. Людей кругом было много, они шастали туда-сюда, но чтобы кого-то в ливрее с золотыми галунами и в штанах с генеральскими лампасами, как в кино, — нет, такого возле входа не было.
Разочарованный, Никита Аверьянович шагнул обратно — и дверь опять широко распахнулась перед ним. Не хватало только голоса: «Благодарим за покупку, приходите еще».
Обернулся — и опять возле двери никого. В тот же миг обе створки ее опять беззвучно разъехались в стороны, и как было не войти? — вошел, покачал головой: «Ну, дела… Технический прогресс… автомат. И никаких тебе лампасов и галунов…»
Посмеявшись над собой, над своей наивной простотой, влился в толпу и вместе с ней оказался в гигантском торгово-развлекательном центре, который совсем еще недавно был известен как передовое в регионе швейно-производственное объединение. После реконструкции и евроремонта его огромные цеха сияли мрамором, дорогим деревом и бесчисленными светильниками. Бесшумные, как в столичном метро, эскалаторы поднимали его с этажа на этаж. Обилие товаров потрясало, цены возносили к небесам, массы людей удивляли, особенно тем, что почти никто ничего не покупал.
Тревожно-потрясенный и обалдевший от увиденного, Свистунов кинулся обратно, вниз, поближе к родной надежной земле. Надо было бы воспользоваться теми же эскалаторами, но он забыл, где они находятся, и двинулся по привычным лестницам, расталкивая толпы то ли экскурсантов, то ли таких же обалдевших, как и он сам, прохожих.
Уже совсем близко от выхода он нечаянно задел плечом какую-то зазевавшуюся женщину — и та грянула всем своим прекрасным телом на твердый затоптанный пол. Свистунов вскрикнул и бросился ее поднимать. Давно отвыкший от такого близкого общения с женским телом, он растерялся. И еще больше растерялся, когда от ее стройного полуобнаженного торса при его неумелых попытках поднять его как-то вдруг отделилась одна рука. Сунув кому-то подержать мешавший ему пакет, он лихорадочно принялся возвращать ее на место, но тут случилось совсем невероятное — от бездыханного тела отвалилась голова. Он в ужасе что-то закричал, но его тут же оттолкнули набежавшие со всех сторон служители магазина, мигом, прямо на его глазах, собрали распавшуюся на части красавицу и водрузили на прежнее место.
— Смотреть нужно, куда прешь, деревенщина!
Никита Аверьянович вместо того, чтобы обидеться, даже обрадовался.
— Слава тебе, господи, — манекен! А как живая…
Уже на улице он вспомнил о своем пакете. Кому-то отдал подержать, теперь попробуй найди. Попробовал, вернулся, потолкался среди людей — ищи иголку в стогу сена. Ничего другого не оставалось, как отправиться домой. Чтобы не дергаться в трамвае и не тащиться пешком по вдруг потускневшим улицам, решил спрямить дорогу — через дворы и проулки. И в первом же дворе увидел двух мужчин, завершающих трапезу на облупившейся скамейке. Присел неподалеку, с наслаждением вытянул уставшие ноги.
— Эй, земляк, не хочешь принять с устатку?
Это — к нему.
Свистунов хотел было отказаться, но вспомнил, что он сегодня именинник и даже юбиляр, придвинулся поближе.
— Тут малость еще осталось, выпей за наше здоровье.
— А можно мне за свое выпить? — улыбнулся он.
— Ну ты и нахал! — ахнули дружки, деля на двоих последний пирожок. — На халяву пьешь да еще…
— Не нахал я, братцы, а просто именинник. Пятьдесят пять мне сегодня, юбилей. С сегодняшнего дня — на пенсии.
Усталость и неведомо откуда навалившаяся тоска потянули Никиту Аверьяновича к людям. Страсть как захотелось поговорить, облегчить душу, но те уже дожевали свои пирожки и дружно поднялись.
— Ну, пей за свое здоровье, коли так. Хотя мог бы и за бутылем сбегать, юбиляр.
Свистунов собрался было объяснить, почему именно не может он это сделать, но тем это было «по барабану» и они ушли, оставив на скамейке пустой пакет. Чтобы его не унесло ветром, он прижал его пустой бутылкой, а когда пригляделся, глаза его снова заискрились, и уголки рта сами собой потянулись к ушам, как те двери в торгово-развлекательном центре.
— А ведь пакет-то — мой! И бутылка!.. И пирожки были Тятьянины…
Никита долго удивлялся такой занятной истории, то и дело крутил головой и сдержанно похихикивал. Ему совсем не жалко было купленной на последние гроши бутылки и пирожков, напротив — случившееся так его обрадовало, будто он и в самом деле отпраздновал свой юбилей и вот возвращается домой.
Дома, похоже, его уже ждали. Пришли старшая дочь с мужем, старенькая тетя Дуся, сосед со второго этажа, с которым они в зимние выходные дни иногда поигрывали в шашки. Дочь подарила теплый мохеровый шарф, тетя — мягкие домашние тапочки, а сосед выставил бутылку огненной «Перцовки». Увидев ее, тетя Дуся всполошилась и, порывшись в сумке, извлекла из нее свою домашнюю, собственного садово-огородного творчества настойку из смородины, крыжовника и каких-то целебных трав. Смущенно улыбаясь, как бы извинилась:
— Под старость память совсем изнемогла. А ведь взяла специально для тебя — с намеком, чтобы остатние годы твои были такими же сладкими.
Никита Аверьянович с церемонными поклонами принял подарки, расцеловался с тетей и дочерью, а мужчинам просто пожал руки.
Когда его спросили о торжестве в коллективе, не скромничая, заявил, что все прошло как нельзя лучше, было много выступающих, все желали ему успешного заслуженного отдыха, а подарки вручат погодя, потому что сейчас там идет капитальный ремонт.
— Знаем мы этот капитальный ремонт, Свистунов, — не упустила случая показать свою информированность Татьяна. — Нет уже вашего комбината. Нет и не будет. Зато этот «металлолом» скоро заработает совсем в другом месте.
— Откуда тебе это известно?
— Об этом весь город говорит. А до тебя, Свистунов, все доходит в последнюю очередь.
В семье своего мужа Татьяна называла только по фамилии. Так было модно в годы их молодости. Никита Аверьянович не одобрял и не возражал, особенно после того, как в их отношениях началась долгая и очень серьезная размолвка.
Так, в разговоре, выпили перцовку, запили домашней продукцией тети Дуси, заели магазинными пельменями фирмы «Утро», и Свистунов пошел провожать тетю Дусю домой, благо жила она совсем недалеко. Дорогой она посетовала на Татьянину холодность и отчужденность («И как ты только живешь с ней, Ники-тушка?»), на свое постоянное нездоровье и, приглушив голос почти до шепота, как бы выдала большой секрет:
— А садик свой я отписала тебе, Никитушка. Уж очень я тебя люблю за ндрав твой веселый, за справедливость твою. А моя жисть, считай, вся уже выдохлась, как одеколон из пузырька. Мой покойный хозяин всегда, как поброится, им пользовался. Выпьет чарочку — и доволен: говорит, раздражение с кожи сымат. Сама ему покупала. До сих пор один на полочке стоит, водичка в ем желтенькая, а вот прежнего духа уже нет… Так ты садик мой побереги, милок.
Ночью Свистунову снились сны. Татьяна спрашивала, понравились ли ее пирожки его друзьям. Тетя Дуся опять говорила о садике и просила выкопать в нем колодец, потому что воды там нет, а носить из оврага ей уже не по силам. Дочь почему-то требовала подаренный ему шарф обратно и предложила взамен другой — черный и колючий. Сосед принес свои шашки, но все они были черного цвета.
Все это промельтешило и сразу забылось. Зато другой сон запомнится ему надолго — страшный и странный, повторивший то, что с ним произошло в том огромном торгово-развлекательном центре. Короче, он опять нечаянно толкнул молодую прекрасную женщину, которая оказалась манекеном, и этот манекен рассыпался на куски. Он опять очень испугался и лихорадочно пытался вновь собрать ее, но у него ничего не выходило. И тогда голова заговорила. Сначала она научила его, как это делается. Потом, когда и ее он вернул на свое место и уже собрался уходить, она сказала:
— Не торопись, Никитушка, посмотри, какая я красивая. Разве прежде тебе встречались такие женщины?
Свистунов честно признался, что не встречались. Но те, что встречались, все-таки были живые.
— Не обманывайся, милый, — засмеялась она. — Это лишь кажется, что живые. Многие люди, потеряв душу, в действительности перестали быть живыми. Лишившись души, они лишились и красоты. Ну, кого из них ты поставил бы рядом со мной?
Свистунов задумался, ища ответа.
— Не знаешь? А вот я бы хотела быть рядом с тобой. Оставайся, здесь так хорошо. Каждый день мы будем смотреть друг на друга и радоваться. Проходящие мимо будут любоваться нами и тоже захотят стать красивыми. К некоторым из них вернется их душа, так они опять станут живыми. Людьми…
Свистунов почему-то подумал о своей жене. В молодости она была по-своему привлекательной. У нее были такие великолепные волосы! И все остальное, как говорится, было при ней. Не было лишь тепла, доброты. Такие чуждые для женщины холод и суровость, наверное, делали ее сильной. По крайней мере, в собственных глазах. О том, что подлинная сила женщины совсем в другом, она, похоже, не догадывается и сейчас. Стало быть, и в ней нет души? А без души…
Возвращаться в дом, где нет души, ему не хотелось, и он решил остаться. И вот он тоже стал манекеном. Наверное, красивым, но как подойти к зеркалу, чтобы убедиться в этом? Ноги и руки так отвердели, что даже пошевелить ими невозможно. Хочется коснуться плеча своей новой подруги — нельзя. Моргнуть глазом, в который попала соринка, — нельзя. Просто посмеяться над собой, над своей глупостью, лишившей его великого счастья быть живым, — нельзя тоже. И тогда от ужаса он закричал. С чем и проснулся.
* * *
Тетя Дуся умерла сразу же после юбилея своего любимого племянника. Он и похоронил ее. Денег в семье на этот случай припасено не было, а на просьбу подзанять у знакомых Татьяна только удивленно повела плечами: «Свистунов, тетка-то твоя, так ты сам и позаботься». Тут он опять вспомнил свой недавний сон и еще раз убедился, что души у его супружницы и в самом деле нет. А ведь могла бы одолжить — и в фирме, где служила экономистом, и у соседей по подъезду. Хотя вряд ли: у таких холодных, недобрых людей друзей не бывает, а знакомые, они и есть знакомые.
Пришлось все делать самому. Обежал всех, кого знал в городе — и по «Химпрому», и по «Хлопчатке», общими усилиями кое-что наскребли. Вместе с соседом-шашистом вырыли могилу. Уговорили другого соседа выпросить на часок у родственника его «Газель». На ней и отвезли бедную Старушку на ее вечное поселение среди тысяч таких же горемык, как и она.
Деньги, деньги… Они у него были заработаны, но попробуй вырви их из драконьей пасти начальствующих чинов! Даже уволенных в связи с закрытием комбината до сих пор не рассчитали. С теми, кого оставили на демонтажные работы, был твердый уговор — расчет сразу же по завершении работ. Обещали даже премиальные. Только где их теперь искать, обещалкиных этих?
Кое-кого он все-таки нашел. В административном крыле основного корпуса сохранились в нетронутом виде два кабинетика — в одном досиживали последние денечки кадровики, что без кадров, в другом ютился осколок некогда солидной бухгалтерии, в которой бухгалтер был в наличии, но наличности в виде денежных купюр в наличии не имелось.
В отделе кадров, куда он пришел увольняться, его встретили чуть не с распростертыми объятьями: увольняйся, мол, дорогой Никита Аверьянович, увольняйся, родимый, из-за тебя одного отдел держать накладно. Вот только трудовая книжка в сейфе лежит. А ключа от него нет, потому что у хозяйки. А хозяйки нет, потому что…
Узнав, что хозяйка сейфа с оставшимися документами — его хорошая знакомая Томочка Белкина, бывшая командирша тутошной комсомолии, он обрадовался, записал ее домашний адрес и помчался к ней на деловое свидание.
Томочку на комбинате знали все. Рослая, статная, на крепких точеных ножках, с небольшой круглолицей головкой с широко расставленными ярко-синими глазами, она бросалась в глаза и в цехах фабрик, и на улице. И молодежь, и пожилые работницы любовно называли ее Белкой, Белочкой, но не из-за фамилии, а за ее деятельный непоседливый нрав. Не последнюю роль тут играло и ее лицо — милое, округлое, с этими широко, к вискам, расставленными глазами — ну разве не Белка?
Когда в ходе великой смуты началась ломка всех государственных и человеческих устоев, когда была запрещена правящая партия и ее молодежный резерв — комсомол, комсомольский секретарь комбината Тамара Белкина оказалась не у дел. Спасибо бывшим тогда руководителям — пристроили в отдел кадров, хозяйкой того самого сейфа, где теперь лежала трудовая книжка Свистунова. Но скоро и этого скромного места она лишится.
Квартира, в которую он позвонил, ему не отозвалась, и он решил подождать на улице: может, отлучилась ненадолго. Сел на лавочку у подъезда, закурил что-то горькое и дымное, готовясь к предстоящему разговору. Однако ждать пришлось недолго. И разговор получился короткой, простой, обыденный.
— Аверьяныч, ты? Какими путями? Или в наш дом переселился? Когда?
— Да нет, Белочка. Сейф открыть нужно. Трудовая у меня там.
— Тогда подожди еще, Аверьяныч. Я только ключ возьму и книжки занесу. Я мигом.
— Так ты еще книжки читаешь?
— Читаю. Но больше по специальности. Я же учусь. Вот только что зачет сдала.
— Вот молодец. Ну, беги.
Дорогой Свистунов все больше молчал, а она что-то говорила, над чем-то смеялась, что-то наказывала ему, но он плохо слышал ее, потому что ему было хорошо.
От этой молодой милой женщины веяло на него и на все вокруг таким теплом и обаянием, что он вконец растерялся. Жизнь, можно сказать, прожил, а такого испытать не довелось. Фабричных женщин и девчат он мог и приголубить, и по головке погладить, и к щечке прикоснуться, и комплиментами, как свадебными лентами, украсить, а сейчас сидел тихий и потерянный, как мальчишка. Взять ее за руку, похлопать по плечику, играя, назвать своим солнышком? О таких вольностях и думать было невозможно.
В цехе, на собраниях было проще: он, как и все, не скрываясь, просто любовался ею, вокруг всегда было много народу и в этой гуще все было иначе, привычнее. Так было изо дня в день, из месяца в месяц и, казалось, будет всегда. Конечно, на миру и смерть красна, а вот когда ты один, когда никто другой не отвлечет тебя каким-нибудь нелепым словом или пустым делом, не прервет твоих путающихся мыслей и совершенно неуправляемых чувств, не кинет, наконец, спасительной соломинки, как быть тогда?
Путь до бывшей «Хлопчатки» был неблизкий, но все его повороты и остановки пролетели для Свистунова как один короткий сон.
— Аверьяныч, приехали! Ты чего так задумался? Идем.
— Стоит ли?.. Так бы ехал и ехал… Всю жизнь… На языке было еще одно слово — «с тобой», но он так испугался его, что отстранился как можно дальше и до самой проходной не проронил ни звука.
Поднимаясь на нужный этаж, Томочка вдруг остановилась и как-то тревожно спросила:
— Что-то ты, Аверьяныч, сник совсем. Тяжело увольняться? Когда женщин увольняли, такой рев стоял! С мужиками проще: кинут на прощанье крепкое словечко, грохнут дверью — и был таков. Ты ведь так… себе не позволишь?
Ему почуялось «не посмеешь», и это царапнуло его по сердцу.
— Когда надо, и я посмею. Тем более, раз такое дело…
И осекся. Ему вдруг захотелось опять стать веселым, бесшабашным, как всегда. Сказать, что ему уже пятьдесят пять, что он свое оттрубил и уходит на пенсию, что ему теперь само море по колено… И не смог. Лишь тихо сказал:
— Ладно уж, Тамара. Пойдем. Чего уж тут…
— А бухгалтерия, тебя уже рассчитала?
— Так у них…
— Не рассчитала, значит. И ты хочешь вот так уйти? Без денег, которых потом уже никогда не получишь? Без своих, заработанных? Не выдам я тебе твою трудовую!
Она стояла перед ним строгая, гневная, непреклонная, снова пряча в сумочку ключ от своего заветного сейфа.
— Не выдам. Или прямо сейчас вместе со мной пойдем в бухгалтерию и устроим им маленький тарарам. Все шуточки в сторону, кулаком по столу и… Вперед, Аверьяныч!
Поначалу все так и было — и маленький тарарам, и кулак по столу — не помогло. Тогда Томочка выставила его за дверь — покури, мол, с часик, оставь нас одних — и плотно закрыла за собой дверь. Что там было за этой железной дверью, что произошло, Никита Аверьянович не знал, не ведал, но минут через двадцать его пригласили и… рассчитали за все последние месяцы работы.
Выдавая ему трудовую книжку, Томочка участливо спросила:
— И куда теперь, Аверьяныч? Как жить будешь?
— Жить не буду, — облегченно, после всего пережитого, засмеялся он. — Нам теперь не жить, а выживать велят. Как выживешь, тут и она, безносая, придет. Вот и вся перспектива с манящими горизонтами.
— Веселый ты человек, Аверьяныч, хорошо с тобой. Вот получу диплом, освоюсь на новой работе — непременно тебя разыщу. У тебя ведь золотые руки, умная голова, ты все можешь и умеешь…
— Не все, не все! — все больше оживая и веселея, замахал он руками. — Вот с неумехами и бездельниками ладить и ловчить не умею. И за Державу мучиться и страдать никак не разучусь. А так… если что… конечно…
Она проводила его до лестницы, но вдруг, что-то вспомнив, метнулась назад в свой кабинетик, сколько-то пошуршала там и вышла опять, неся в руках небольшую коробочку.
— Я слышала, что у тебя на днях юбилей был, а тебя никто даже не поздравил. Так вот… считай, от имени тех, кто тебя ценит, уважает и всегда будет помнить… И ни о чем не жалей, радуй всех своей добротой и лаской. Помни: такие светлые люди сегодня очень нужны…
Трудно сказать, что чувствовала сама Томочка, напутствуя в оставшуюся жизнь веселого и светлого человека Свистунова. Сам же Никита Аверьянович настолько растрогался, что даже отступил на две ступеньки вниз по лестнице и теперь смотрел на нее снизу вверх и не то чтобы влюбленно, но откровенно восторженно, как американские патриоты смотрят на свою Статую Свободы.
Впрочем, так как Никита Аверьянович не был американским патриотом, он все это видел иначе, сугубо по-русски. И сама Томочка — живая, прекрасная, суровая и обаятельная одновременно — рисовалась ему великой Родиной-Матерью, явившейся благословить своего сына-воина на новую Невскую, Куликовскую или Бородинскую битву.
От волнения глаза его увлажнились. Сквозь дрожащую пелену слезы ему почудилось, что рука этой замечательной женщины осеняет его святым крестным знамением, а разжавшиеся суровые уста произносят великие, адресованные именно ему вещие слова: «Ну, вперед, Аверьяныч, веселый и светлый человек. Твое дело правое, ступай!»
И он ступал. Не шел, а именно ступал, благо ступени лестницы были довольно широкие и падение ему не грозило.
Улица с ее шумом и грохотом не хотела считаться с ликованием и восторгами его впечатлительной души и понемногу вернула Никиту Аверьяновича на грешную землю. И все равно ему было хорошо.
Прижимая к груди драгоценную коробочку, свидетельствовавшую, что все случившееся с ним в этот час было не его воспаленной фантазией, а подлинной реальностью, он торжественно, почти празднично шел по родному городу.
Если счастье действительно существует, то сейчас он, несомненно, был самым счастливым человеком. От этого хотелось петь, произносить красивые слова, желать добра каждому встречному, уступать дорогу не то что всякой машине, а и последней дворняжке.
На знакомом переходе он опять поиграл с занятными светофорами, на входе в памятный тогово-развлекательный центр поразвлекался с автоматически работающими дверьми и, хоть остался всем весьма доволен, пожурил себя: «Хватит дурачиться, Свистунов, пора за ум браться. Не двадцать лет, поди».
Вспомнив свое приключение со здешним манекеном и недавний сон, подхватился, отыскал его, удивился, что эта красавица одета сегодня совсем иначе, но тоже очень даже завлекательно, для начала счел нужным напомнить о себе:
— Добрый день, сударыня. Если не забыли, мы не так давно имели с вами один интересный разговор. Так вот…
Глаза неживой женщины как-то вполне живо энергично захлопали великолепными ресницами и явно недружелюбно уставились на него в упор.
— Так вот, — невольно вздрогнув, продолжал Свистунов, — я хочу вам заявить, что вы очень ошибаетесь, считая, что рядом с вами некого поставить. Вы, конечно, красавица, но я знаю женщину, рядом с которой вы ничто. И еще заметьте: она живая, у нее есть душа! И если бы вы были поскромнее…
Договорить свою мстительную тираду до конца ему не позволило неожиданное обстоятельство. Женщина на этот раз оказалась не мертвым манекеном, а вполне нормальным человеком женского пола. С живой душой и весьма крутым нравом. От ее звонкой пощечины он был так обескуражен, что долго не мог сообразить, что же произошло. Лишь увидев по другую сторону зала свою старую знакомую, все такую же гордую и красивую, он виновато съежился и, преследуемый хохотом служителей, выскользнул на улицу.
Зато дома его ждало новое счастье. Когда жена спросила, что это у него в коробке, он почти равнодушно пожал плечами: подарок, мол, с юбилея еще, а как открыл…
Никита Аверьянович с детства мечтал о хорошем фотоаппарате. И вот он лежал перед ним. Современнейший, дорогущий. Как вознаграждение за пережитое. Как обещание и надежда.
— Ну вот, дураку сам Бог яблочко припас!.. — фыркнула жена и звонко захлопнула за собой дверь.
* * *
Оформив свои дела в пенсионном фонде, Свистунов взялся осваивать дожидавшийся его фотографический аппарат. Но тот показался ему таким сложным и хрупким, а собственные руки такими грубыми и нечуткими, что заняться им в одиночку он не решился: долго ли испортить такую бесценную вещь, юбилейный подарок «от имени всех», мечту детства?
В одном из фотосалонов ему показали, как нужно обращаться с этим действительно превосходным аппаратом, и он отправился снимать свои любимые места. Ходил, снимал и радовался. Как давно он собирался побывать здесь, как долго не мог позволить себе такой роскоши — просто ходить, смотреть, любоваться, радоваться. И это — живя в таком замечательном городе, который так любил!
На второй день он стал замечать, что его родной, старинный, горячо любимый город сильно изменился.
Лицо человека тоже меняется — с возрастом тут и там появляются морщинки, тускнеют глаза, грубеет кожа, но все равно, несмотря на эти мелкие изъяны, оно остается по-прежнему легко узнаваемым, родным и милым.
Другое дело — лицо города. Во многих местах Никита Аверьянович его просто не узнавал и терялся — куда это он забрел? Откуда все это? Чье? Исчезли почти все его любимые дворики с яблонями и сиренью, резные дома с мезонинами, терема, флигельки.
Город зрительно рос, настойчиво, как стареющая эстрадная дама, омолаживался, что вроде бы должно было радовать. Но рос и омолаживался он как-то странно — пожирая самого себя, прежнего. Холодно, бездушно, расчетливо, снося и подминая все на своем пути. И это угнетало, томило душу озадаченного Свистунова.
В оправдание он говорил себе, что через пятьдесят-сто лет тогдашним его жителям, может быть, он и такой будет мил и дорог, как ему самому этот — уходящий, умирающий. Умирающий в полном сознании и с открытыми, все видящими и понимающими глазами… Добивать человека в таком состоянии — чудовищное преступление. А добить еще живой старый город? Можно?
На третий день в городе ему стало тесно. Он теснил его потоками машин, занявших уже и тротуары, высоченными заборами из дорогого белого металла, огораживающими огромные территории новостроек; его выдавливали с некогда родных и любимых улиц неприступные, плотно, почти без внутренних дворов, застроенные кварталы то ли домов, то ли средневековых замков из красного кирпича и непроницаемого синего стекла, в которых не чувствовалось ни жизни, ни уюта, ни души. Как не было души в красивых манекенах новых роскошных торгово-развлекательных центров.
Терзаемый противоречивыми чувствами и мыслями, он остановился и спросил выгуливавшего огромного породистого пса старичка:
— Чье все это, земляк? И как тут люди живут? Тот пожал немощными старческими плечами и печально улыбнулся:
— Живут как-то…
— И не давит все это?.. Я бы здесь…
— Не знаю, я тут всего лишь животину эту выгуливаю. Два раза на дню.
Пес требовал движения, рвал поводок, и старик, уже уходя, сказал как попрощался:
— А ты, милок, на все это не заглядывайся. Тут каженный квадрат больше твоей годовой пенсии стоит. Нам тут не страдать…
— Какой квадрат? — не понял простодушный Никита Аверьянович, но тот уже ушел, волочась за собакой по краю тощего, не знающего солнечного света газона.
И тут Свистунов вспомнил о теткином наследстве. О господи, какой же он счастливый: у него есть сад! Свой собственный, на зеленом вольном просторе, за городской чертой.
На следующее утро пригородный автобус за каких-то полчаса доставил его до садово-огородного товарищества «Ягодка». Найти теткин участок было непросто. Все заборы и домики были на одно лицо, ни тебе номеров, ни табличек с названиями улиц. Муравейник!
Выручила память. Вспомнив, как тетя Дуся наказывала ему непременно выкопать колодец, потому что носить воду из оврага у нее уже нет сил, он отправился искать этот овраг. Зная по рассказам тетки, что участок ее в самом конце проулка, у общей ограды, нашел такой проулок, а потом и овраг. По отлогой еле приметной тропинке спустился вниз и, обнаружив там полузавалившуюся яму с водой, обрадовался: все верно, теперь только подняться, а в сад тропинка сама приведет.
И привела.
Первым делом Никита Аверьянович закурил и так, попыхивая, обошел все три яблони, кусты смородины и крыжовника, грядочку клубники и чеснока. Земля давно поспела для работы, яблони уже отцвели и покрылись листвой. Надо было раньше собраться, да все дела, дела. Но зато уж теперь его отсюда и с приставом не выгнать. Он тут хозяин! Это его священная частная собственность. Вот так!
Священная частная собственность и застоявшийся без серьезного дела организм еще не старого мужчины требовали работы. Прямо сейчас, немедленно. Пока земля не пересохла окончательно. Пока еще не поздно посадить картошку, посеять редиску, укропчик, лучок. А то ведь тетя Дуся оттуда все, поди, видит. Да и самому, живя тут, за радость будет.
Отыскав в углу нужника лопату, он посмотрел в небо — ну, гляди, тетя Дуся, начинаю! — скинул пиджак, заправил брюки в носки и пошел пластать мягкую садовую землю.
Работал азартно, весело, чуть не насвистывая от счастья. Сначала безо всякого плана и направления, просто чтобы потешить душу. А потом высмотрел ничем не занятую площадь, обозначил первую полосу и погнал ее, родимую, на всех парах своих нерастраченных сил, чтобы остановиться уже возле видневшейся неподалеку ржавой бочки.
Догнал, вскинул лопату на плечо и зашагал обратно, к началу загона. Оглядев сделанное, он остался доволен и поощрил себя сигаретой. Курил торопливо, не чувствуя никакого удовольствия, и наконец бросил, схватил лопату и пошел пластать следующий ряд…
К вечеру вся эта площадь была перекопана. Он оглядел ее, как Чапай поле боя, и не удержался, похва лил себя:
— Молодец, Никита Аверьянович. Это твоя первая победа. Круши и дальше так.
Закурил, присел на ступеньку низенького крылечка, еще раз оглядел весь сад-огород и покачал головой:
— Однако не такой уж и маленький участок этот. А тетя Дуся говорила — четыре сотки. Да тут… все шесть, а то и восемь! То-то надрывалась, бедняжка…
Утром он еле перекусил, про обед в пылу трудовой битвы даже не вспомнил и вот почувствовал, что основательно проголодался. Придется зайти в дом, приготовить себе чаю, хорошенько поесть, ведь завтра скачки на лопате продолжатся, а этот вид спорта любит сильных.
На двери висел хиленький замочек. Вот тебе и раз, он-то решил и дневать и ночевать здесь, а ключа у него нет. Впрочем, замешательство его было недолгим, потому что вскоре он увидел и ключ. Он висел на шнурке тут же, на косяке двери.
— Эх, тетя Дуся, царствие тебе небесное! — в который раз за этот день вспомнил Свистунов свою тетку. — Кто же, святая простота, так закрывается? Вот замок, вот ключ — заходи любой болван и бери, что надо…
Он вошел, огляделся — брать нечего. Маленькая комнатка, совсем маленькая верандочка, окошко тут, окошко там. На верандочке у окошка столик из деревянных ящиков с табуреткой, в углу лейка, пара ведерок, веничек. В жилой комнатке — металлическая кровать, стол на железных ножках, должно быть, списанный где-то за ненадобностью, гнутый венский стул, поди, еще довоенного времени, вешалка. На полу, до самого порога, — темный синтетический палас.
Что и говорить — тесно, но зато — все чисто, аккуратно. Обои на дощатых стенах прибиты мелкими гвоздочками. На столе — прикрытая полушалком посуда: чайник, кастрюля, сковородка, кружка, ложка, нож… В банке из-под джема — сахар, в другой банке — остаток цейлонского чая «Принцесса Канди». Должно быть, чай на острове Шри-Ланка не мужского, а женского рода…
Поискал в комнате розетку — не нашел. Поискал на верандочке — не нашел и там. Поднял глаза к потолку — лампочек нет. Стало быть, дом без электричества. Вышел во двор, глянул вдоль проулка — ни одного столба.
— Ни славянская, ни американская, ни общечеловеческая цивилизация сюда, видно, еще не дошла, — констатировал Никита Аверьянович. Захотелось узнать, что ее задержало на пути к Уралу, но спросить было не у кого. Хоть и сезон, когда весенний день год кормит, а на ближайших участках никакой жизни не ощущается. То ли со всем уже управились, то ли праздник какой. Правда, подальше видны отдельные дымки и слышны голоса, но не тащиться же туда с таким глупым вопросом. Тут вот на повестке дня ужин, и первым делом — чай. Добывать огонь трением не нужно, для этого у него есть зажигалка, а как быть с остальным?
Походив в задумчивости вокруг домика, Свистунов наконец встряхнулся, мол, эх, где наша не пропадала, взял с верандочки ведерко, спустился по тропинке в овраг, принес воды, умылся и, устроившись за столиком у окошка, принялся за ужин. Прихваченный из города хлеб и килька в томатном соусе показались вкуснее всяких деликатесов. Вот бы еще горячего крепкого чая, ну да ладно, обойдемся пока минералкой. Ну, а завтра что-нибудь придумаем, ведь живут же тут как-то люди! Да и в каменном веке жили, не повымерли…
Совсем воспрянув духом, после ужина он опять вышел на улицу, сел у двери на табурет и закурил. Долгий майский день тихо перешел в вечер и теперь медленно, как бы нехотя, уступал свое место ночи. Солнце устало закатилось в редкие облака на горизонте, и те долго горели и светились, незаметно истаивая и словно бы исчезая совсем.
В лесочке за оврагом что-то сочно щелкнуло, будто под осторожной ногой треснул молодой ледок. Потом еще и еще раз, спариваясь, утраиваясь, переходя в звонкие цепочки четких веселых звуков. Несомненно, все они принадлежали одной птице, и Никита Аверьянович догадался — какой. Соловей! Соловушка… Весь день молчал, поди, приглядывался и вот подал голос: признал за своего.
— Будем соседями, — точно боясь спугнуть певца, прошептал Свистунов. — Вот радость-то…
А тот заливался все смелее, все звонче, приглашая весь лес, всю землю и небо с луной и звездами в свидетели своей радости и счастья. Вот бы увидеть, какой он. Говорят, весь золотой, каждое перышко светится, а грудка и горлышко серебряные, как струйка родника. Оттого, мол, и песни его такие чистые, родниковые, каждый звук — что капелька или росинка. Его не слушают, а пьют, — как ту воду из родника. Душой пьют, сердцем. И вся печаль, вся недомога — вон из них, как после самого лучшего лекарства. Одним словом — со-ло-вей…
* * *
Ранним утром его кто-то разбудил бесцеремонным стуком в окошко. Вскочил, с трудом соображая где находится, вышел на верандочку, глянул на улицу. Глянул и обомлел — возле крылечка стояли две абсолютно одинаковые толстые бабы и одинаковыми голосами голосили совершенно одно и то же:
— Баба Дуся, баба Дуся! Вставай же, окаянная, выходи на народ, чтоб в глаза твои бесстыжие поглядеть!..
«Это кто там этак разоряется и мою любимую тетю ни за что ни про что срамит? — разобрало Свистунова. — Со мной разбирайся как хочешь, а ее, покойницу, не трожь, а то не посмотрю, кто ты и чего ты…»
В одних трусах и ботинках на босу ногу он выскочил на свежий утренний простор и рявкнул так, что у одной из баб ноги свело, а другую будто ветром сдуло:
— Ну чего вам надо от покойницы? Чего кричите, когда еще весь мир покоем и тишиной объят? Вон соловей замолк, поди инфаркт от вас схлопотал. Ну?
И успокоившись, смущаясь своего вида и нечаянного гнева, продолжил:
— Чего ж теперь молчите? Сперва чуть не заикой сделали, а теперь — язык под замок? Нету вашей бабы Дуси, померла она. Если чего задолжала или еще что, я ответчик, а ее честное имя не полощите. Не позволю!
Видя, что от сомлевшей бабы толку нет, побежал искать другую, но той не было ни за домом, ни в огороде, ни на дороге проулка. Сгинула прямо на глазах без следов и без последствий. С кем теперь говорить?
Забежав в дом, второпях накинул пиджак, натянул штаны, прихватил сигареты и вышел уже мирный и успокоенный.
Сохранившаяся женщина сидела на забытом им с вечера табурете и потерянно смотрела на него круглыми от страха глазами. Свистунов закурил, присел перед ней на корточки и снова стал объяснять, что тети Дуси больше нет, что ее недавно похоронили, а он ее племянник и, стало быть, наследник. Специально подчеркнул, что человек он спокойный, ком-му-ни-кабельный, непьющий, уважающий женщин и старших по возрасту граждан, а также их труд и священную частную собственность в виде вот этих домишек, оградок, картошек и яблок. Будет жить здесь все лето.
— Ну, а вы кто будете, сударыня? — совсем уж ласково спросил он под конец. — Член правления садового товарищества? Нет. Член ревизионной комиссии? Тоже нет. Уполномоченная по вопросам экологии и противопожарной безопасности? Просто знакомая, попутчица, соседка?
Последнее она утвердила энергичным кивком, а жестом руки указала на дом за ржавой бочкой, мол, там и живет. Никита Аверьянович предложил проводить ее туда, чтобы отдохнула с дороги, попила чаю, пришла в себя после такого нелепого столкновения. «Жизнь — вещь сложная, — говорил он тихим ровным голосом. — Не только между соседями, но и между родичами иной раз бес туману напустит. Но — разберемся. Мы же люди, верно?»
Женщина молча кивала, соглашалась, но стоило им пройти какое-то расстояние, вдруг резко отстранилась, побурела лицом и враз обрела свой прежний воинственный вид и звонкий голос.
— Вот вы мне все говорите, говорите, а это что такое? Кто вам разрешил? По какому праву вы у меня половину участка оттяпали? Думаете, раз никто не видит, так и все можно? А я тут как тут!.. И от своего не отступлюсь!..
Теперь пришла очередь Свистунову онеметь и потерять всякое соображение. Удивленный, обескураженный, непонятно за что униженный, он смотрел на вскопанную им за вчерашний день площадь и ничего не понимал.
— Это ваша работа? Это вы копали? Ну, чего молчите, ведь весь факт налицо, не отвертитесь, хоть и бабы Дуси нет.
Никита Аверьянович бессловесно слушал ее выкрики, беспомощно топтался на месте, хватался за голову, но ничего не понимал.
— Вы бы еще межевые колья передвинули да колючую проволоку натянули. А у нас никогда никаких проволок сроду не было. Мы тут все как родные. У нас все на доверии, и никто никогда через межу к соседу не лез.
— Так, значит, межи… межевые колья… — начало Доходить до него. — Я тут человек новый, ваших меж не знаю, но раз врубился в работу… Раз так хорошо пошло… Эх, мама родная, до чего же веселый анекдот приключился, нарочно не сочинить!..
От полноты чувств и природного веселья он кинулся обнимать и кружить соседку по мягкой свежевскопанной земле и кружил до тех пор, пока и та не сообразила, что приключилось. Не со зла, без худого умысла новый сосед заодно со своим перекопал большую часть и ее участка. Не бывал тут прежде никогда, не видел их колышков и межевых тропинок, оттого и ошибся. Да и что для здорового мужика эти заплатки в четыре сотки, к тому же еще наполовину занятые всякими насаждениями! Такому воля нужна, простор, чтобы было где потешить силушку да горячее сердце. Это им, бабам, — грядки, а мужикам — простор подавай!
Теперь они уже вместе хохотали, тискали друг друга, едва не валились с ног, что-то выкрикивая и хохоча опять. Когда, совершенно обессиленные, они уже не могли даже смеяться, оставалось просто смотреть, кивать, разводить руками и качать головой.
— Вот и познакомились, — первым заговорил Никита Аверьянович. — Зовут меня Никитой, фамилия у меня самая что ни на есть веселая — Свистунов. Из рабочих, хотя предки крестьянствовали. Может, поэтому и есть что-то в душе… решил попробовать… Очень хочется, чтобы получилось. Но садовод я никакой. Как и огородник.
— А меня зовут Ириной Филипповной. Молодая пенсионерка. Сад свой люблю, а порой и кляну: так тяжело тут все достается…
Соседка протяжно вздохнула, похлопала себя ладошками по пояснице и коленям, горестно улыбнулась:
— Работа на земле, конечно, облагораживает… что ни говори, а когда красоту сам создаешь… Словом, с одной стороны, сад здоровье дает, с другой — забирает. Приходится лавировать и терпеть.
Свистунов сочувственно покивал, успокоил:
— Ну, если что потребуется… Я тут буду всегда…
— Ой, вы и так уж мне помогли! — зарделась Ирина Филипповна. — Вы уж, ради бога, извините меня, неразумную. Так расшумелась, так вас обидела… Я же сначала ничего не поняла… Это так все неожиданно…
— А вы меня извините, — снова похохатывая сказал Свистунов. — За то, что пограничников ваших не заметил, границу вашу перешел. Впредь буду знать.
— Ну, ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Пора завтракать — и за работу. А у вас с собой что-нибудь есть?
— Все, кроме чая. Воду вскипятить — проблема. Электричества-то в ваших царствах-государствах, оказывается, нет.
— А у меня газ. Я вам сейчас вскипячу.
— Спасибо. Это для меня спасение.
— Вот и хорошо.
На этом они и разошлись, окончательно помирившиеся и вполне довольные друг другом.
Пока закипал у соседки чай, он сходил в овраг, почистил родник, сгреб под яблонями опавшую листву, протоптал пограничную дорожку, чтобы больше не рыскать по заграницам, наметил себе работу на день.
Ирина Филипповна, работавшая за своими рубежами, присмотревшись к тому, как он лихо ворочает землю, подошла, взяла его лопату.
— Извините, что встреваю, но — один совет. Работая на земле, не нужно торопиться. Участки у нас очень засорены, а такие сорняки, как вьюнок и осот — просто бичи наши. Их никогда не выкопаешь, их корни, наверное, сквозь всю землю проходят, до самой Америки. Лопата срезает лишь верхушки. Но, оказавшись опять засыпанными землей, они вновь начинают расти. Так их можно только размножить.
— И как же быть? — озадачился Свистунов.
— А вы поступайте с ними вот так. — Она решительно вогнала лопату в землю, разбила поднятый ком и гранью ее ловко выбросила оголившийся корень на уже вскопанную полосу. — Потом вы можете собрать эти корни граблями и сжечь. Или расстелить где-нибудь на солнце. Высохнув, они рассыпятся в прах и снова попадут в землю как удобрение. А приствольные круги у деревьев рыхлите только вилами, не то посечете все корни…
— Вот спасибо, Ирина Филипповна, — сердечно приобнял он соседку. — А я и не подозревал… Да тут целая академия!..
— Спрашивайте, не стесняйтесь.
— Буду. Я же говорю: в этих делах я неуч.
— Ничего, не боги горшки обжигают.
— До обжига еще далеко. Надо для начала научиться их лепить!
— Всему свое время…
Теперь дело подвигалось куда медленнее. Пришлось работать до сумерек, чтобы осилить намеченное. Утром он прикинул, где посадит картошку, лук, огурцы, помидоры, зелень, определил на глазок, сколько, каких семян потребуется, и умчался в город.
Вернувшись после обеда, занялся грядками. И опять не без помощи соседки. Через неделю, еще май не истек, все у него было посажено, посеяно, обработано. Теперь ходи, посвистывай да семечки щелкай. И он ходил, посвистывал, щелкал. Пока не вспомнил о своем фотографическом аппарате.
* * *
Новый этап общения с этим чудесным прибором, запечатлевающим мир для вечности, Никита Аверьянович начал с внимательнейшего и подробнейшего изучения приложенного к нему руководства. Невольно вспомнилось, как от имени всех, кто его ценит и всегда будет помнить, его торжественно преподнесла ему несравненная Томочка Белкина и как взволнованно, давясь спазмами в горле, он принял эту коробочку из ее рук.
Выходит, в коллективе не забыли о его юбилее, приготовили подарок. А может, это ее собственный фотоаппарат, который ей не жалко было подарить хорошему человеку, раз все о нем забыли? Как это восхитительно и благородно! Так даже лучше. И он никогда не забудет ее щедрости, душевности и доброты. Не забудет и надет способ на ее душевность ответить своей. Дайте срок!..
Нахлынувшие на него чувства мешали Свистунову сосредоточиться и спокойно вчитываться в сложный и скучный технический текст, он то и дело отрывался от него, отсутствующим взглядом блуждал по окну и всему тому, что находилось за ним.
А находилось за ним все то же: черная, еще не давшая всходов земля, справа — кусты смородины, слева — старая раскидистая яблоня, а в прогале между ними — коричневая от ржавчины бочка соседки. Одна? Всегда была одна, а теперь — две? Он поводил глазами и так, и этак — сколько? Получается — две. Где же она раздобыла такое редкое теперь добро? У него — ни одной, а вода из родника прямо ледяная. Такой грядки поливать нельзя.
Оставив на столике все, чем только что был занят, он сорвался и помчался посмотреть новое приобретение почтенной Ирины Филипповны. Так спешил, что слету чуть опять не оказался в ее зарубежье, еле устоял на одной ноге, слегка все-таки переступив пограничную полосу — межевую дорожку.
Отсюда эта бочка, как всегда, была очень хорошо видна. Но — одна!
Куда же девалась вторая? Только что ведь стояла — такая же по высоте, такая же ржавая… Что тут происходит, кто успел схоронить?
Назад возвращался смущенный и озадаченный. Вот если бы была здесь хозяйка, спросил бы и сам постарался приобрести парочку. А так… какой толк?
Вернувшись, опять взялся за чтение, но взгляд, как магнитом, потянуло к окну. Не удержался, посмотрел: черная земля, куст, смородины, яблоня… И опять бочки — две! Опять две! Что за чертовщина!
На всякий случай сбегал еще раз. Пока бежал — это ж не марафон какой-то, а всего лишь пятнадцать-двадцать метров! — вторую бочку опять сперли.
Достал сигарету, задымил.
— Ну и дьявол с ней, не моя же…
Пока курил — придумал: сходил за фотоаппаратом и снял ее, бочку эту, пока она была в единственном числе. Как факт. Так сказать, для контроля.
Не заходя в домик, отправился погулять. Было еще утро и в лесочке за оврагом от души выщелкивал свои трели соловей. Вот бы увидеть! Хоть одним глазком!.. Пусть единственный раз в жизни. Больше ему не надо, он не жадный.
Чтобы не спугнуть певца, решил обойти его черемуховое царство по оврагу. Шел медленно, крадучись. Если бы не сырость, кажется, пополз бы на брюхе, как уж, которого он на днях видел на своем участке.
Когда овраг кончился, попробовал, но сухие прошлогодние листья и полусгнившие валежины подняли такой шум и треск, словно в лесу объявился медведь. Привлеченная этим шумом, замельтешила над деревьями сорока. Свистунов поднялся, погрозил лесной сплетнице кулаком и, прильнув к толстому старому дубу, затаился.
Соловей, должно быть, встревожился и надолго замолк. Свистунов уже было решил, что теперь до вечера, однако сообразил: птица где попало петь не будет, где-то у нее тут гнездо. А коли так, надо ждать.
И он ждал. Неслышно перебирался за следующее дерево и ждал опять. Вот и черемушник, теперь — не дыши!
Очень хотелось Никите Аверьяновичу увидеть эту птицу, ее золотые крылышки и серебряную грудку. И, может, даже снять. Никому это, кажется, еще не удавалось, ну а вдруг? И почему бы нет, ведь ничему живому за всю свою жизнь он не сделал и единого малого зла. Тут он безгрешен, и природа должна эта чувствовать, как, говорят, чувствует недобрых людей.
Когда он неспеша размышлял об этом, на веточке, метрах в двух над ним, появилась птичка. Маленькая, серенькая, как молодой воробей. Попрыгала, поклевала что-то и улетела.
Не то, с сожалением вздохнул Свистунов, но аппарат все же приготовил.
Через некоторое время птичка вернулась, и он, на всякий случай, сделал кадр: зеленая ветка черемухи с завязавшейся гроздью будущих ягод, ворох листьев в тени более крупной ветки и она, серая лесная птичка-золушка в середине упавшего сверху солнечного пятна.
Хорошо было в лесу, так хорошо, что не хотелось уходить. И по-прежнему хотелось увидеть соловья. Решил подождать, когда он объявится где-то, и продвигаться на голос. Но никуда продвигаться не пришлось. Потому что свежая, сочная соловьиная трель вдруг раздалась прямо над его головой. И самое поразительное — пела та самая серенькая птичка, которую про себя он успел окрестить Золушкой леса. Эта «Золушка» и оказалась соловьем. Вернее, соловьихой. Потому что соловьи-самцы вообще петь не умеют.
Сделать второго кадра Свистунов не успел да и не был готов к этому — настолько поразило его такое сказочное превращение Золушки. И кто бы мог подумать — ни золотых крылышек, ни серебряной грудки, как рисует ее молва, а, тем не менее, самый настоящий соловей. Никакая другая птица так не поет.
В свой домик он вернулся счастливый. Снова поблагодарил Томочку за ее бесценный подарок. Ведь если бы не она, не было бы у него этого фотоаппарата, а без него не пошел бы он в лес, не увидел соловья. Если снимок получится, он подарит его ей. Этот — первый.
И еще вспомнилось, как наставлял его опытный фотомастер в салоне, где ему распечатывали на компьютере снимки, сделанные им в городе.
— А свой город, Никита Аверьянович, вы почему-то не любите. Совсем не любите, скажу я вам, — говорил он, неспешно просматривая его первую неумелую фотопродукцию.
— Город? Так я же тут родился… Но…
— То-то и оно, что «но»! Посмотрите, как все холодно, бесстрастно, без изюминки, без души… А фотохудожник — не бездушный фиксатор того, что встретилось на пути. Он — художник! А раз художник — ищи свое видение, открывай в этом мире свой собственный мир. В каждом виде, объекте, лице. А не нашел — нечего и фиксировать. Ведь и без тебя все знают, что дом — это Дом, а дерево — это дерево. За хорошим снимком, батенька, побегаешь не раз и не два. Дождешься нужного освещения, неба, собственного настроения. Одно небо можно снимать всю жизнь, такое оно разнообразное и интересное для воображения и пытливого глаза. А хороший пейзаж — тут и побегаешь, и поползаешь… и все равно можешь не угадать.
«Вот как я сегодня, — подумал Свистунов, посмеиваясь над самим собой. — И побегал, и поползал… И, может, наконец-то угадал».
Попив чаю (теперь у него была собственная портативная газовая плитка), Никита Аверьянович вернулся к забытому руководству и как-то совсем случайно уронил взгляд за окошко. А там, как всегда: черная земля, куст смородины, яблоня… И две бочки. Опять две! И две Ирины Филипповны. Или это к соседке пришла ее подружка-близняшка?
Сначала хотелось выйти, поговорить, особенно о бочках, но, раздумав, он вернулся к чтению, а затем вообще лег и уснул. Как ему и хотелось, приснился соловей. Все-таки с золотыми крылышками и серебряной грудкой. Ну не может, никак не может птица с таким замечательным голосом походить на какого-то воробья!
* * *
Хорошо, однако, быть пенсионером, подумал однажды Свистунов, блаженствуя в своем огороде. И что это старики все охают да ахают, когда речь заходит об этих садах? В автобусе только и слышишь: семена, удобрения дорогие, саженцы продают втридорога, транспортные расходы — тоже не шутка. А об организме хоть и не заговаривай: остеохондроз, радикулит, опущение почек. И все от этих чертовых соток!
Может, так оно и есть, сочувствовал Никита Аверьянович. Однако посмотрите, как ломятся в автобус при посадке, как, вывалившись из него, чуть не бегом устремляются к своим злосчастным участкам. Все с рюкзачками, мало того — с тележками. Что-то привозят, что-то увозят, никто праздно не вальяжничает. Все скорей, скорей!.. А зачем, куда?
Конечно, ему с ними равняться не резон. Он хоть тоже пенсионер, но годочки-то не те. На нем, как авторитетно утверждает жена, еще пахать можно. Можно и нужно, чтобы с потом вся дурь вышла. Это она о нем так смолоду — балабол, мол, простодыра, свистун, скоморох. И все, что он говорит или делает — сплошной дебилизм и дурость.
Сразу ясно: не видела она его в работе. А что касается души, сердца, так бездушному человеку до чужой души дела нет. О ней он как-то не подозревает. Отсюда такое озлобление и неприятие тех, кто живет и чувствует иначе, кто не похож на него.
Душевных людей, как он давно заметил, все почему-то считают слабыми и никчемными. Часто пытаются сломать и затоптать, чтоб не мозолили глаза, не напоминали об их собственной неполноценности. Иные и ломаются, отчего и теряют себя, потому что стать такими «как все» все равно не могут. Другие пересиливают подобные поползновения, гнутся, но стоят. Как та лоза на ветру. И только очень редкие удостаиваются уважения и признания.
От этих мыслей Никите Аверьяновичу стало так грустно, что блаженство его как-то скукожилось и поувяло. Чтобы отвлечься от них, он решил пройтись по улочкам товарищества, взял фотоаппарат и пошел.
Пошел — и правильно сделал, потому что свою садово-огородную «Ягодку» он путем еще и не видел. А тут было что посмотреть. Разговор не о домиках — все они были одинаково маленькие и невзрачные, — а о том, что находилось вокруг них. Прежде всего, почти везде были цветы. Иной раз они занимали добрую четверть участка. Одни уже цвели, другие выбросили бутоны, третьи только набирали рост. Это ж — на все лето, а то и до самого снега — такая красота! Вот когда она развернется во всю свою силу, он придет ее снимать.
И насаждения у всех были разные, побогаче чем у его тети Дуси. Не только яблони, но и груши, не только крыжовник, но и вишня. А в одном саду что-то вьющееся на шпалерах, через загородку не разглядеть. Неужто виноград?
Приглядевшись, заметил, что и домики все-таки кое в чем разные. Одни дощатые, с простыми окошками, даже с плоской крышей, как кавказские сакли. Другие бревенчатые, с резными карнизами и фронтончиками, с мудреным деревянным кружевом вокруг единственного окна. Единственного, но зато какого!
Эти сады, видимо, возникли в ту эпоху, когда все строго лимитировалось. И площадь участка, и величина жилого строения, и даже туалет. О банях и не мечтай, будто работа на земле сама тебя и выпарит лучше деревенской парной. Контролировалось строго: шаг влево, шаг вправо… — можешь и участок потерять. А терять не хотелось.
Только на возвышении, у подножья покрытого лесом холма, строилось сразу несколько больших современных домов. Как в старом городе — первый этаж каменный, второй из звонкого соснового бруса. Что и говорить, приятно жить будет. Однако в какие финансы это выльется? И захочется ли кому после таких уютных хором ковыряться в грязной земле?..
В одном из проулков внимание Никиты Аверьяновича привлек чей-то отчаянный то ли визг, то ли плач. Поспешая на помощь, он еще издали увидел возле очередного дома высокий шест со скворечней наверху. Вокруг нее рассерженным птичьем роем вились стрекочущие скворцы. С чего это они, удивился он. Но вскоре все понял: на шесте рядом со скворечней крепко вцепившись когтями в древесину, висел большой пятнистый кот. Видно, задумал негодник полакомиться скворчатами, но не тут-то было. Родители скворчат не стерпели такой наглости и ринулись в бой. Они пикировали на него, как истребители Покрышкина, клевали его в спину, в голову и все целились в глаза. Пока они были двое, кот еще уворачивался и отбивался, но когда им на помощь — эскадрилья за эскадрильей! — слетелись скворцы со всего сада, коту-хулигану пришлось очень худо.
Дело осложнялось тем, что все кошки легко и быстро взбираются на любое дерево или деревянный столб. Особенно когда удирают от собак. А вот обратный ход для них — проблема. Спускаться, пятясь назад, они не умеют, и часто хозяину приходится искать лестницу, чтобы снять их и вернуть на землю. До очередного случая.
Вот и этот кот оказался в таком же положении: туда, услышав писк птенцов, взлетел одним махом, а вот обратно — никак. Тем более что никаких сучьев на шесте нет, зацепиться не за что, хозяина дома тоже нет, никто с лестницей не прибежит. Поневоле завизжишь или заплачешь.
Какое-то время он терпел, но когда скворцы начали клевать уже и лапы, особенно задние, опорные, он понял, что обречен. Точнее — будет обречен, если не пересилит страх и не начнет каким-то образом спускаться.
Стараясь не обращать внимания на летящую во все стороны шерсть, на струящуюся по морде кровь, на все новые и новые дырки в шкурке, он стал осваивать самые простые приемы кошачьего альпинизма. Сначала он, выгибая спинку колесом, подтягивал вниз передние лапы, повисая на их когтях, выпрямляясь вдоль шеста, и уж затем опускал нижние — для упора. Потом все заново: передние лапы, выгиб, провис, задние. Но как это медленно! Пока он этак доберется до земли, эти проклятые скворцы вообще оставят его без шкуры!…
На середине шеста он все-таки сорвался, с громким шлепком упал на крышу дома, оттуда в малинник и где-то там пропал. Но Никита Аверьянович успел-таки сделать несколько кадров этого потешного сражения. И теперь очень сочувствовал полуживому-полурастерзанному коту, желал ему скорейшего выздоровления и большего интереса к мышам, которых сама природа создала ему на прокорм.
Пока наблюдал эту потеху и, задрав голову, делал свои бесценные (так потом и скажут о них знатоки!) снимки, обратил внимание на небо. Что-то там изменилось. Откуда-то наплыли большие прекрасно-лебяжье-белые облака, а над западной частью горизонтного обруча что-то очень уж тревожно копилось нечто тяжелое и черное.
Когда он вернулся к своему домику, количество этой тревожной черноты заметно увеличилось, а качество ее стало еще чернее. Пришлось остановиться, закурить и сделать совершенно правильный вывод: будет гроза.
И гроза, действительно, была. Ох какие полыхали молнии! Ох какой грохотал гром! Ох как жалобно звенели в окнах стекла и скрипели, готовые развалиться, стены дома! Но он знал свое дело и тут — снимал и снимал, никогда еще не работал с таким захватывающим азартом. Только бы что-нибудь получилось. Только бы получилось!.. А когда на землю обрушился ливень, он бегал по своему хилому укрытию, задействовал все ведра, тазики и даже единственную в хозяйстве кастрюлю, потому что отовсюду лило.
Через день после этой грозы Никита Аверьянович был приятно удивлен — все на его огороде бурно пошло в рост. Зеленые строчки на недавно еще девственно-черной земле безмерно радовали и удивляли — как красиво! И все это создано им самим. Впервые в жизни.
Но еще через день его любимый сад-огород преподнес ему предметный урок: прежде чем радоваться, повоюй с сорняками!
— Ну, сосед, наступила наша страда, — почему-то смеялась на своей границе Ирина Филипповна. — Краткая передышка после посевной кончилась. В бой пошли наши бичи!
Хорошо ей — для нее это не новость, не первый год огородничает, а как справится с этими бичами он? Это будет похуже копки, доставки воды из оврага, поливки. Тут все на корточках, на коленках, вниз головой. А ему после грозы хочется неба.
— А где, Ирина Филипповна, ваша подружка? — неожиданно вспомнил Свистунов. — Что-то после дождя не видать, со своими бичами, поди, воюет?
Соседка помолчала, поморгала белесыми ресницами и удивленно пожала плечами.
— Это вы о ком говорите?
— Ну, о той, что… очень похожа на вас. Я даже подумал — близняшки вы с ней. Как погляжу со своей верандочки — все рядом. И одна бочка у вас опять куда-то запропастилась. Одна осталась.
На этот раз соседка молчала еще дольше, а хлопать ресницами, кажется, позабыла.
— Не пойму я что-то, о ком это вы. У меня тут были две подружки — баба Дуся, царствие ей небесное, и твоя шабра справа Зилара, чей участок сейчас пустует. Увез ее сын к себе в какой-то райцентр, где он начальник. А бочка… Бочка у меня всегда одна только и была. У вас, случаем, с глазами не проблема? Если стало двоится, то…
Ох не вовремя затеял он этот необязательный разговор! Полоть надо, а не лясы с заграничными дамами точить. Решил отшутиться:
— Вы все так быстро делаете, Ирина Филипповна, что в глазах двоиться начинает. Как погляжу — сразу как бы две. Все успеваете. Одной столько не смочь.
Тронутая комплиментом, соседка скромно отмахнулась ладошкой.
— Ну и шутник же вы, Никита Аверьянович!.. Все меня разыгрываете, веселый человек…
— Больше не буду, — очень серьезно пообещал он и взялся за мотыгу.
* * *
Сражение с сорняками длилось несколько дней. И что самое возмутительное — пока в одном месте воюешь, они появляются в другом, где ты их, кажется, уже победил. Похоже, их невидимые зеленые генералы внимательно наблюдают за ходом сражения и бросают в бой все новые и новые полки — то с одного фланга, то с другого, или забрасывают в тыл отряды диверсантов.
Когда наступило временное затишье, Никита Аверьянович отправился в город. Закупить продуктов, распечатать в фотосалоне сделанные снимки. Да и в поликлинику показаться надо: с глазами у него, должно быть, и в самом деле появились проблемы.
На автобус шел медленно, с натугой. Очень болели ноги, особенно колени, а в спине будто радикулит засел. Словом, измаялся на этой проклятой зеленой войне до невозможности. Теперь и он начал понимать жалующихся стариков-садоводов, теперь и ему есть на что пожаловаться.
И все-таки настроение у него было бодрое. Интересно, что скажут о его последних снимках? У него сейчас не было никакого другого дела, которое занимало бы его больше, чем это. Что скажут? Это для него очень важно.
Распечатали, посмотрели, предложили присесть.
— А вы, батенька, делаете успехи. Сразу видно: природу любите. Ого какая грозища!.. А это что за птенчик? Лесной воробей?
Теперь Свистунов позволил себе снисходительно посмотреть на фотомастера.
— Соловей. Вернее — соловьиха…
— Почему соловьиха?
— А потому что самцы-соловьи не поют. Поют именно соловьихи. Вот такие.
— Такие серенькие, темненькие пичужки? А говорят…
— Ну да — и золотое перо, и серебряная грудка… А они вот такие, увы… Зато поют!.. Приезжайте, послушайте. Это недалеко.
Но больше всего разговоров вышло о коте и скворцах-истребителях. Вокруг компьютера сгрудились все, кто в это время находился в салоне, — и тамошние работники, и посетители. Смеху было! И громче всех хохотал сам Свистунов.
— Нет, это надо было видеть! Что там творилось!.. Тут лишь мгновение, а вы бы!.. Нет, нет, это надо видеть самому!..
В поликлинику помчался как на крыльях. Скорей, скорей, пусть только глянут, каких-нибудь капелек дадут и — обратно. Казалось, в саду без него может случиться что-то такое, что-то такое… А он даже не узнает, что там случилось.
Однако врач-офтальмолог не спешил. Крутил его и так, и этак. Заставлял читать таблицу с буквами, смотреть в какой-то аппарат, крякал, сыпал непонятными словами, наверное, латынью. А латыни, как и прочих живых и мертвых языков, Свистунов не знал. Под конец лукаво спросил:
— Значит, говорите, двоится? А перед тем, как начиналось это… двоение, вы ничего не принимали? Не заметили? Ну, мужики еще шутят по этому поводу, когда…
Никита Аверьянович сразу понял, о чем речь. Врач этот тоже, видно, веселый человек, шутник.
— Нет, доктор, я таким недугом не страдаю. Ну, может, рюмочку в день рождения… или на юбилей.
— Это вы молодец, — весело крякнул тот. — Тогда мы ограничимся только очками. По одному плюсику. Не возражаете?
Свистунов не возражал.
— Для чтения. Или какой-нибудь другой мелкой работы. А так у вас все в порядке, не волнуйтесь. И наблюдайте за собой, наблюдайте.
Поблагодарив, Никита Аверьянович подхватился и форсированным маршем направился в «Оптику» и оттуда в ближайший супермаркет отовариться на предстоящую неделю. Отоварился, вскинул рюкзак на плечи и— прямиком на автостанцию.
Покупая билет до своей «Ягодки», пошелестел оставшимися ассигнациями и поморщился: от пенсии остались рожки да ножки, а до будущей еще жить да жить. Но зато когда у него поспеют свои огурцы, помидоры, яблоки… Представил и даже зажмурился от удовольствия. Вот тогда сам Президент Российской Федерации ему позавидует.
Автобуса долго не было, и, наверное, от этого нетерпение Свистунова еще больше возрастало. Забыв свои часы в саду, справился о времени у стоящего неподалеку молодого таксиста.
— Семнадцать рублей и тридцать восемь копеек, — глянув на руку ответил тот. — Если спешишь, мигом домчу, а, папаша?
Никита Аверьянович впервые в жизни не нашелся что ответить. Постоял соляным столпом, помучился своим молчанием и побрел куда глаза глядят. Очнулся на остановке совсем другого маршрута. «Ох, жара! Ну, прямо ад на земле!» — простонал рядом совсем уж растелешившийся толстый дядька. От всей одежи на его большом влажно-рыхлом теле остались только пляжные тапочки, цветастые семейные трусы, почему-то называемые шортами, и просторная серая майка с призывом — через всю грудь и спину — полюбить Америку.
Америку Свистунову любить было не за что, и он отошел подальше от этого агитатора за чуждые общечеловеческие ценности. И опять оказался на своей остановке. Жара, лето… Так ведь и жарко оттого, что лето. И лето оттого, что жарко. Как этого некоторые не понимают?
А таксист все стоял. Тоже мокрый, распаренный, хоть и молодой, и не рыхлый. Дверцы его машинешки были распахнуты, как пасть последнего невымершего динозавра.
В душе Никиты Аверьяновича завозились веселые бесенята. Ему опять захотелось справиться у него о времени. И он справился.
— Семнадцать рублей и пятьдесят копеек, — невозмутимо ответил тот, даже не взглянув на часы.
— А чем платить тебе за проезд? Часами? Минутами?
Теперь таксист впал в прострацию, потерянно хватаясь то за руль, то за дверцу.
Свистунов уже отходил к своему подошедшему наконец автобусу, когда тот собрался с мыслями и ответил:
— Эй ты, веселый, разве тебе не известно, что время — деньги? Ну и отсталый же у нас народ!..
Он еще что-то говорил, но Свистунов уже был в автобусе, автобус выкатывался с площади на дорогу, дорога, плавясь под знойным солнцем, вела в «Ягодку». «Ох и жара!» — стонал автобус вместе со всеми своими пассажирами и панелями, болтами и гайками. «Вот это лето!» — радовался Свистунов, смутно догадываясь, что в этом всеобщем людском помутнении виновато и оно.
Уже подходя к своему домику, Никита Аверьянович обратил внимание на мечущуюся вокруг него сороку. Беспокойная взбалмошная птица то садилась на землю, то взлетала опять и ненадолго присаживалась на крыши соседних домов, сарайчиков и туалетов, то опять возвращалась на плоскую крышу его «сакли», всецело поглощенная чем-то очень интересным для ее птичьего ума.
Его приход ее, всегда такую осторожную, ничуть не смутил, словно она привыкла к нему настолько, что уже считала своим старым знакомцем. Свистунова это очень заинтересовало. Наблюдая за ней, он заметил в ее клюве что-то поблескивающее, что она поминутно клала перед собой и с любопытством подолгу рассматривала. При этом головка ее вертелась и так и сяк, словно озадаченно раздумывала: клюнуть сейчас или подождать еще? И все прислушивалась, прислушивалась, будто в подобранной где-то блестящей цацке кто-то живет — маленький и занятный.
На всякий случай он приготовил свой фотоаппарат и стал поджидать подходящего момента для съемки. Пока сорока летала по соседям, он осторожно приставил лесенку к тыльной стороне своего дома и затаился в засаде. Как Никита Аверьянович и ожидал, в конце концов она опять вернулась на его удобную плоскую крышу и снова занялась своим непонятным делом. От слабого щелчка аппарата она вздрогнула, подхватила свою любимую игрушку и спорхнула вниз. Он успел заснять ее и в полете, а также краем глаза заметил, что птица что-то выронила в траву. Спешно спустился на землю, добежал до примеченного сверху места и тихо рассмеялся:
— Часы! Да какие хорошие!..
И тут же — еще веселее, еще радостнее:
— А часы-то — мои! Мои собственные… Стучат!
Это утром, когда умывался возле ведерка, он, торопясь, забыл их на обломке кирпича. А сорока нашла. И все изучала, слушала, что там скребется, стучит внутри. Спасибо, не унесла к себе в гнездо, а то бы поминай как звали. Или оно уже и без того полно таких блестящих цацек?
* * *
К вечеру опять прошла жуткая и одновременно прекрасная в своей могучей мощи гроза. И Свистунов опять снимал. Молнии, летящие стрелами и целыми огненными веерами. Ворону, ошалевшую от этого огня и грохота, вдруг разучившуюся летать и упавшую в кусты за домиком Ирины Филипповны. Зайца, от страха бросившего свой лес и заскочившего под козырек крылечка, прямо ему под ноги…
А потом был долгий тихий закат в полнеба, звездные небеса с ломтиком отслужившей свой срок луны, тишина, звенящая от стрекота цикад, запоздалый крик кукушки, похожий на квохтанье курицы, недовольной тем, что ее согнали с гнезда, где она собралась высидеть себе цыплят.
Только уснул, а солнышко уже в окне. Значит, опять вставать, опять включаться в эту бесконечную зеленую войну, в которой ему вряд ли когда удастся стать победителем. Но надо, надо, Никита Аверьянович! Поднимайся, заваривай чай, садись на свое любимое место у окошка на верандочке, готовься. Зеленые генералы не спят. Они подготовили свои полки к новому штурму твоих хрупких укреплений. Вот посмотри в окно — они уже тут: и в приствольных кругах яблонь, и в огуречнике, и на луковой грядке, и среди помидор, моркови, петрушки. И самые злостные из них — все те же осот да вьюнок, непобедимые, неискоренимые бичи садоводов.
Сел, налил себе полную кружку почти черной «Принцессы», глянул в окно. Две Ирины Филипповны стояли у двух своих ржавых бочек и как-то потерянно смотрели вокруг. Ну да, и там идет война. Ну да, опять две соседки, две ее бочки… Опять?
Ах, да! Он же не вооружился очками! Сбегал в комнатку, достал из сумки новенькие, только вчера привезенные из города очки, нацепил на нос.
— Все равно — две. И бочки — две… Никакая медицина не помогает. Что ж мне, так и жить теперь в этом дурацком двойном мире?
Перевел взгляд на свой участок. Там, где всегда скромно зеленели редкие кустики помидор, теперь поднималась буйная густая зелень — ряд за рядом, волна за волной. «Вот что значит дождь», — подумал Свистунов. И еще подумал: «Загустил однако, перестарался. Когда теперь созреют в такой густоте?»
Снял очки — все так же: не врут. Вышел за дверь — увы, кустики такие же редкие, бочка у Ирины Филипповны одна, и сама она — одна тоже, такая одинокая и растерянная.
Вернулся за столик, отхлебнул крепкого чая, глянул опять — снова две бочки, две соседки, а у самого что ни грядка — так лес густой.
— Ну и медицина теперь у нас! — вскипел Никита Аверьянович. — Крутил, вертел целый час, очки вот заставил на последние купить, а толку? «Наблюдайте за собой, наблюдайте за собой», — передразнил далекого отсюда врача-глазника. — Вот и наблюдаю. Все лето одно и то же. Ладно бы, если б вместо одного яблока два стало, вместо… И где это все-таки соседка вторую бочку раздобыла? Вот деловая баба, все ходы-выходы знает. И молчит!..
Совсем запутавшись, Свистунов сердито отстранился от странного окна, нарезал плавленого сыра, хлеба и принялся сосредоточенно есть. Хватит заниматься пустяками, не до того теперь — враг у порога. Вот сейчас он выйдет, вот только доест свой «десерт» и тогда — берегись!..
Весь день не покладая рук сражался он со своими ненавистными врагами. Над головой в бескрайнем синем небе плыли безумно красивые белые облака, у соседей цвели и благоухали пионы и люпины, нежным розовым цветом занялась даже его простецкая прозаическая картошка, а он ничего этого не видел. Все мотыжил, дергал, дергал, пока перед глазами не поплыли зеленые круги и все в них опять стало двоиться.
— Никита Аверьянович, сосед! — спас его знакомый голос из-за рубежа. — Пощадите себя, передохните. Этак и до солнечного удара недалеко. А сюда «неотложку» не вызовешь.
Свистунов с натугой, держась за воздух, распрямил спину, кинул мутный взгляд за границу и почувствовал, что его, действительно, качает.
— Однако, — сказал он самому себе, — и правда. Вон даже кожа пузырями пошла… А сдаваться все-таки нехорошо, стыдно…
Но он все же сдался. Убрел подальше от солнца в яблоневую тень, рухнул на прохладный ковер все того же неискоренимого вьюнка, закрыл глаза и как-то мгновенно уснул. И приснился ему в этом коротком нечаянном сне его родной сад-огород, да такой чистый, ухоженный, с такими аппетитными пупырчатыми огурцами, ярко-малиновыми наливными помидорами, спелыми яблоками, что душа зашлась от радости: наконец-то!
Однако радость оказалась недолгой, потому что где-то возле кустов смородины, тоже уже спелой, он вдруг набрел на густые заросли чего-то знакомо колючего и враждебного. «Так это же он и есть, осот, бич садоводов! Как же я его проглядел?» — ахнул Свистунов и так же мгновенно проснулся.
Вскочив, он оторопело огляделся. Яблоки и помидоры по-прежнему зеленые, огуречные плети все в цвету, но огурчиков что-то не видно, а возле смородины…
Подхватился, побежал к смородине — точно, он, осот! Вымахал выше пояса. Такой крепкий, колючий, самодовольный. То ли уже до Америки корнями дорос, то ли из той Америки сюда вырос!
— А вот это мы сейчас проверим! — осатанел Никита Аверьянович, хватаясь за лопату. — Это мы сейчас… в два счета… хоть до центра земли дойдем, хоть до их хваленой Алабамы… Нет на свете таких крепостей, которых бы… не брала русская лопата!
Никаких зарослей тут, конечно же, не было, но три-четыре уцелевших от его мотыги крепких осотовых побега действительно красовалось перед ним. Свистунов обошел их по кругу и раз, и другой, распаляя в себе и без того бушевавшую в нем ненависть, потом звучно крякнул и со злорадным мстительным наслаждением вогнал в землю свою испытанную в трудах лопату. Чтобы ненароком не срезать корни в самом начале, отступил подальше, точно собрался выкопать колодец или целое дерево. Стоить ему это будет немалых сил, но зато он наверняка узнает, действительно ли так глубоко уходят эти корни. Так ли бессмертен и неискореним этот ненавистный враг.
Вот уже на один штык углубился он в землю, пошел на второй. Грунт стал потверже, его никогда на такую глубину не перекапывали, но Никита Аверьянович словно не замечал этого. Очистив яму, пригляделся к корню. Крепкий, белый, в редких волосиках — ничего особенного, никакой особой мощи, как можно было ожидать. Как раз здесь от него отходило сразу несколько как бы отдельных побегов, которые на поверхности казались самостоятельными растениями. Но питались они от него, вот этого материнского корня.
Не давая себе ни минуты передыху, не позволяя даже малого перекура, Свистунов все больше и больше углублялся в земные недра. Уже кончился черный плодородный слой, пошла глина, а корень был все такой же толстый и белый.
— Ничего, это только начало, — ободрял себя и в то же время пугал своего врага Никита Аверьянович. — Это только второй метр пошел… А я тебя, гад, все равно выкорчую… Я тебя отучу в твою Алабаму шастать… — и работал, ворочал, как самый настоящий экскаватор.
Когда над поверхностью земли осталась только его голова, корень как-то потерялся из виду. Свистунов возликовал:
— Ага, дохвастался! Я же говорил, что доконаю. Мало ли что люди брешут, вон соловья тоже… Ах ты, черт!..
Нет, на этом корень не кончался. Он просто неожиданно отклонился в сторону, обходя плоский камень. Свистунов поддел его концом лопаты — известняк. Как попал сюда, на такую глубину, в глину? Выбросил и с еще большим упорством стал копать дальше.
Чем глубже он зарывался, тем все чаще и чаще корень стал теряться и куда-то пропадать. Но Свистунов уже не верил ни корню, ни своим всплескам радости, потому что до Америки было еще далеко. Приходилось опускаться на корточки и нащупывать его руками. И копать дальше.
В какой-то момент, снова потеряв корень из виду, он сообразил, что тот теряется не потому что играет с ним в прятки, а потому что там становится темно. Но не бросать же такое важное дело на полпути! Посветив себе зажигалкой и обнаружив корень, который, подлец, так и не думал кончаться, он зарывался еще на штык, потом еще, еще. Глина с каждым разом становилась заметно сырее и тяжелее. Она липла к лопате, выброшенная, сваливалась обратно в яму, заставляя его тратить лишние силы и сбиваться с ритма.
А корень все тянулся. Как загадочный электрический шнур, протянутый сквозь шар планеты с одной поверхности на другую. Может, и не ошибаются люди? Может, кто-то взял и протянул. Ну, мало ли для чего. Акулы империализма не вымерли, они тебе не какие-то беспомощные мамонты, имевшие на своем вооружении лишь собственные бивни и никакой техники.
В конце концов в яме стало совсем темно. Свистунов запрокинул голову и высоко над собой увидел размытый прямоугольник неба с яркими звездами. Это куда ж его занесло? Холодок испуга пробежался по мокрой от пота и сырой глины спине. Но он быстро сообразил, что это не космическая высота, а как раз наоборот. Попробовал дотянуться до поверхности своего родного горячо любимого сада — куда там: все глина и глина. И там, наверху, уже вечер или даже ночь. И никто никогда не узнает, куда он себя закопал. И когда лет через сто какой-нибудь новый чудак тоже решит выкопать этот бесконечный то ли корень, то ли шнур с листочками на верхушке, от него останутся одни археологические останки. Их сложат в мешок и увезут в музей различных древностей, где светочи науки восстановят по ним его образ и даже решат, что это был честный, веселый и светлый человекообразный товарищ из очень древнего докаменного века. А вот корень… Его вряд ли выкопают и тогда.
Свистунов присел на корточки, привалился спиной к холодной и мокрой глиняной стене прорытой им шахты и тихо заплакал от охватившей его жалости к себе. До сих пор он жалел других, а вот себя как-то не приходилось. Даже не думалось, что такое возможно. Оказывается возможно, ведь он тоже человек. Он всегда жалел других, а кто хоть раз пожалел его? Никто. Все ждали помощи от него, и он не скупился. Со временем они не просто ждали, а уже требовали ее. И получали, ничего не возвращая. Не задумываясь над тем, что и ему бывает плохо, что и ему бывает необходимо их участие. Догадаются ли об этом светочи науки, вновь собирая его грудную клетку, в которой вместо живого трепетного сердца будет лишь эта сырая, бесчувственная, мертвая глина?
Никита Аверьянович так расчувствовался, что его потянуло закурить. Сигареты в кармане были, но теперь не было огня, потому что весь запас зажигалки он сжег, возясь в темноте с корнем. А от звезд не прикуришь, до них далеко. Даже дальше, чем всегда.
* * *
Никита Аверьянович сидел в своей комнатке и, сунув ноги в ведерко с теплой водой, согревался. Несмотря на это ведерко и то, что до макушки закутан в ватное одеяло, его всего трясло. То крупно, то мелко. Как в трамвае, когда, свернув с большой центральной улицы, по совершенно разбитой колее едешь в сторону бывшей «Хлопчатки».
Этой ночью он сильно простудился. Слава богу, что вообще вылез из своего подземелья. Сначала пробовал выбраться, опираясь на лопату, — не получилось, выбился из сил, решил дождаться утра, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. А тут откуда-то снизу пошла вода. Да такая холодная, просто ледяная, пришлось поторопиться: стал выбивать в стенах ямки, чтобы хотя бы поставить ногу. С одной стороны, с противоположной — расставил ноги циркулем, поднялся на шажок.
А вода, леший бы ее побрал, прибывает и прибывает, льет как из хорошего крана. Опять поднялся малость. Ноги от напряжения дрожат, судорогами их сводит, а что поделаешь, и так уже по пояс мокрый. Еще шажок. Еще…
В конце концов удалось положить поперек ямы лопату, и тут уж, как на турнике: для начала выбросил вверх ноги, а потом выкатился и сам. Весь мокрый, грязный, зуб на зуб не попадает, но — живой.
Вот это была история! Расскажи кому — не поверит. Однако рассказывать он не станет, Свистунов человек скромный. Вот только жаль — так и не понял: докопался до конца корня или тот все-таки улизнул от него в свою Америку? Вычерпать всю воду и посмотреть? Ну да, вычерпаешь ее. Он, видно, в такую жилу угодил, что никакой насос не осилит. Значит, тайна осота останется тайной навсегда.
Выпив целый чайник горячей «Принцессы», Никита Аверьянович наконец почувствовал, что оттаивает. По лицу, по груди, по животу потекли приятные струйки. Ноги тоже отпустило. Но зато появился кашель. Так, грохоча на все свое жилое помещение, и провалялся весь день в постели.
Скучное это занятие — болеть. Скучное и бесполезное: время идет, а дел — никаких. Ошибается тот, кто думает, что оно измеряется минутами, часами, годами. Ничего подобного! Если дел нет, то нет и движения. Без дел время замирает на месте, и все дни, целые годы — на одно лицо, вернее вообще без всякого лица, сплошная однообразная серость. Но зато если уж ты во что-то впряжешься и тебя понесет — тут только денечки считай. Замелькают, как спицы в колесе, не заметишь, как годы пролетят!.. А то и вся жизнь…
Так, отчасти печально, отчасти весело размышлял Свистунов, понемногу-полегоньку возвращаясь в свое нормальное состояние. На второй день вышел на улицу и первым делом — к смородине, посмотреть, что же он такое сотворил, что чуть не лишил себя жизни?
Открывшаяся картина повергла его в неописуемый ужас и удивление. Почти все кусты смородины до самых вершков были завалены землей и глиной, а посреди этих невообразимых земляных работ чернел неведомый провал, откуда веяло холодом. Выходит, тут и докапывался он до истины о корнях осота? А стоили ли они таких трудов? И что бы сказала тетя Дуся, увидев, как он, любимый племянник, так обезобразил ее чудесный сад?
Это было первое, что потрясло его еще не окрепшую душу. Вторым было нечто пока неясное, но обещающее что-то приятное, как неожиданный подарок.
— Колодец! Вот тебе, тетя Дуся, и колодец! — вдруг дошло до Никиты Аверьяновича. — Теперь у нас воды — залейся. А ты, бедная, горевала. Взгляни-ка со своих райских высот, полюбуйся, порадуйся вместе со мной.
Нет, что там жена ни говори, а все-таки стоящий Свистунов мужик.
Все его прошлые беды и страдания вдруг забылись, теперь все мысли об одном: что дальше? Впрочем, ясно что — вернуть участку прежний вид, все лишнее перетаскать за пределы сада и как-то обустроить этот столь необходимый здесь объект.
И он таскал. Так на радостях вошел во вкус, что лишь под конец догадался оставить часть глины для завершения дела. Жаль было погубленного урожая смородины, однако быстро успокоился — чай, не последний год живем. Да и ягода была мелкая, не ахти какая на вкус. Жена и из хорошей варенья не сварит, а уж из такой — даже не проси.
С тем и закончилась еще одна его неделя. Свистунов опять съездил в город, нашел Томочку Белкину, подарил ей несколько лучших своих снимков. Да не как-нибудь, а в рамочках, под стеклом, со всем тебе уважением и сердечной благодарностью. Хочешь — как эстампы на стены вешай, хочешь — на полку ставь. Вон с ними сколько света в комнате стало! Понравится — будут еще.
К тому времени Томочка уже получила свой диплом, подыскала недалеко от дома работу и теперь планировала перевезти к себе из деревни маму.
— Вот это ты, солнышко мое, правильно решила. Нечего вам поврозь куковать, — поддержал ее Свистунов. — Будет хотя бы с кем за самоваром посидеть, душу в беседе отогреть. Да и за внуками приглядеть — бабушки тут вне всякого конкурса.
— Какие внуки, Аверьяныч! — всполошилась Томочка, округлив и без того круглые глаза. — Я же еще совсем не замужем. Да и на примете никого пока нет.
— Зато ты у многих давно на примете, милая. Ты у нас девушка видная, красивая, своеобычная. Зачем же пропадать такому добру?
Вместе от души посмеялись.
— Ох, Аверьяныч, Аверьяныч, — покачала головой Белка, — выйти замуж не мудрено — и улестят, и наобещают всего, а мне человек нужен. Такой, как ты, — чтоб и веселый был, и добрый, и светлый, с золотыми руками и умной головой… Найди мне такого, а? Такого я уж точно полюблю.
— Заметано, — хохотнул Свистунов, — сейчас схожу куда надо, заменю в паспорте год рождения — вот тебе и жених!
— Ты все шутишь, хотя я тебя и такого люблю. Ты еще с «Хлопчатки» мне как отец родной. Навещай хоть иногда…
Домой Никита Аверьянович не зашел и на этот раз. Холодно ему там, чуждо, лишний он там человек. Так и проехал мимо, и всю дорогу до своей садовой «Ягодки» его грели тихие Томочкины слова: «я тебя и такого люблю», «ты мне как отец родной». От кого еще может ждать он таких слов? Не от кого. Совсем-совсем…
И уже там, отдыхая с дороги в своей плоскокрышей «сакле», он нет-нет и возвращался к этим невеселым мыслям. У него своя семья — жена, дочь, сын. Дочь уже своей семьей живет, сын дослуживает срочную армейскую службу. Жена Татьяна… Ей он совершенно чужой человек, причем смолоду. Даже непонятно, зачем замуж шла, ведь никто не неволил, не сулил рая. Он-то любил, всю свою душу ей на ладони принес. А она? Зачем так-то? Или в самом деле бывают такие люди — без чувств, без волнений, без души? Только кто признается в этом?
Чужой, продолжал думать Никита Аверьянович, ну и пусть чужой. Но из-за чего же тогда такая дикая ревность и озлобленность? Любовь по своей святой природе не может быть злой, стало быть, не из-за любви. Это он понял не сразу, но все же понял, наблюдая жизнь своей семьи и других. Иные, заметил он, так относятся к своей собственности: это — мое, и только мое. А поэтому — не тронь, не смей!
Когда, возвращаясь после рабочего дня домой, он, как обычно, приветливо здоровался с отдыхающими на скамейках соседками, с кем-то шутил, кого-то о чем-то спрашивал, закон неприкосновенности частной собственности срабатывал немедленно и неколебимо. Едва он переступал порог квартиры, начиналось такое… Он долго терпел, затем поменялся жильем в другом районе города, но и это ничего не изменило. Она оставалась такой же, он оставался самим собой. Потому что быть другим он просто не мог.
Наверное, лучше было бы развестись, но — дети. Теперь те уже взрослые, а они — почти старики. Сейчас уже поздно что-то менять, решил он и окончательно ушел в себя. Постепенно семью ему заменили люди, которых он уважал и которые уважали его.
* * *
Долго перемалывать уже не однажды смолотое Свистунов не умел, жизнь вокруг была такая многоцветная и многоликая, что она всякий раз увлекала его все новыми и новыми делами и мыслями. Это давало отдых душе, избавляло от горестного уныния и ущербного одиночества. Не зря же говорят, что даже в Святом Писании на этот счет сказано: веселый человек — божий человек, а на унылом бесы воду возят. Возить на себе воду он бесам не давал, да и сами они сторонились его веселости и умения радоваться жизни. В этом при всей мягкости и уязвимости его характера заключалась его сила. Хотя сам он того не подозревал.
Вот и на этот раз, погоревав, Свистунов принялся за свои простые житейские дела — прополку, полив, прореживание. В огуречнике обнаружил несколько ядреных, слегка колючих огурчиков — праздник! На одном из кустов первые спелые помидоры — еще один праздник! Вот прибавит к ним лучка, укропчика, подсолнечного маслица — получится настоящее торжество.
Его он решил устроить себе вечером, а пока — трудись, Никита Аверьянович, трудись, дорогой! И он трудился. Теперь уже спокойно, без аврала и излишней лихости, потому что все посеянное и посаженное от главных сорняков удалось отстоять. С оставшимися можно разобраться, не перенапрягаясь, уделив этому два-три часа в день. Если делать это регулярно, не ленясь, все будет хорошо.
Передыхая после очередной грядки, Никита Аверьянович присел на свой табурет, раскочегарил очередную дымную «Приму» и долго смотрел в небо.
Какое же оно высокое, просторное, бесконечное! В городе, в прогалах между многоэтажными строениями, оно больше похоже на развешанные для просушки и забытые хозяйками подсиненные простыни, в которых — никакого величия и тайны. Там и звезд-то по-настоящему не разглядеть!
Только здесь, где небо открыто всем ветрам и сторонам света, в памяти оживают такие неуместные там и естественные тут понятия, как Мироздание, Вселенная, Космос. В городе о них теоретизируют, здесь — ими питают мысль и душу. А если это небо еще такое, как этим летом, — в белоснежных лебяжьих облаках, бешеных грозах, веселых радугах, можешь считать себя счастливым.
Слабый западный ветерок бережно играл с белыми небесными странниками, едва касаясь их легких, причудливых, почти не материальных тел. Послушные ему, они медленно передвигались по небу, постоянно меняя свою форму, становясь то фантастическими замками, то бегущими белогривыми конями, то неземными чудесными птицами, то еще бог знает чем, но всегда прекрасным и радующим.
Свистунов не сдержался, вынес из домика фотоаппарат и сделал несколько снимков. Когда на фоне белых облаков появился черный силуэт парящего орла, он замер и долго любовался его свободными грациозным парением, в котором чувствовалась такая воля, такая красота, что даже не возникало мысли о вышедшем на охоту хищнике.
Выждав, когда один из его кругов окажется прямо над садом, он сделал еще пару кадров и уже собрался вернуться к своим занятиям, как услышал на заброшенном соседнем участке непонятный шумок.
Осторожно ступая, приблизился к меже, присел и первым, кого увидел, был пестрый кот, тот самый, которого недавно едва не заклевали дружные скворцы. Выжил бедолага, улыбнулся Никита Аверьянович, и опять взялся за свое. Ну посмотрим, что у тебя получится на этот раз.
Кот действительно был занят охотой. Сейчас он как раз приближался к гнезду каких-то птах, свивших его себе в густо разросшейся смородине. Он уже готовился к прыжку, когда те его заметили и подняли крик. Одна из них, распушив крылышки и вздыбив хохолок на голове, бесстрашно прикрывала собой своих птенцов, а другая, громко вереща, смело бросалась на кота сверху. Ветки смородины были слишком густы и мешали ей действовать успешно. Она натыкалась на них, билась крылышками, падала и каким-то чудом поднималась опять.
Видя, что сила и случай на этот раз на стороне кота, Свистунов поспешно сделал один-единственный снимок и, вскочив, запустил в кота ботинком. Кот взвыл от обиды и боли, одним огромным прыжком взлетел на изгородь, но тут над ним пронеслась стремительная тень чего-то крылатого — и кота не стало. Свистунов машинально вскинул руки, щелкнул аппаратом и только тогда увидел, что это орел. В когтях его мощных лап извивался и кричал уносимый кот.
Потрясенный увиденным, Никита Аверьянович долго смотрел ему вслед. Орел уже скрылся за лесом, а он все стоял и смотрел, на какое-то время потеряв способность думать и говорить. Это уже потом она вернется к нему, погружая то в грустные чувства, то в долгие противоречивые размышления, которым не будет конца.
Из-за этого невероятного происшествия торжество по случаю первого долгожданного урожая получилось не таким веселым и радостным, как намечалось. Салат оказался превосходным, пиво, прихваченное из города в честь очередной пенсии, было вполне приятным, но прежнего восторга почему-то не наблюдалось. Хотелось с кем-то поговорить, поделиться охватившей душу смутой, прояснить и понять появившиеся сомнения. Но поговорить было не с кем.
Свистунов по своей природе не был склонен к отшельничеству, в шутку называя себя «общественным животным», любил бывать в человеческой толчее, где и он не последний гвоздь.
Вот и сейчас хотелось поговорить, быть услышанным. О чем поговорить? Да все о том же, о чем люди думают и спорят сколько осознают себя людьми. О добре и зле. О правде и кривде. О справедливости и несправедливости.
Что появилось раньше? Что было изначальным? Добро, зло? Или изначальным было то и другое — вместе, рядом, в каком-то непонятном единстве? Или добро не мыслимо без зла и зло без добра? Или добро тоже может быть злым, а зло — добрым? Сложно, абсурдно, необъяснимо.
Взять того же кота. Разоряя птичьи гнезда, пожирая беспомощных птенцов, он творит зло, что ясно и понятно. И вот наказан более сильным хищником, который тем самым вроде бы восстановил справедливость. Но орел убил кота и скормил его своим птенцам, которые, повзрослев, тоже станут хищниками, будут убивать зайцев, птиц, других животных. А это как?
Если согласиться с тем, что это закон природы, что сильный всегда прав и должен жить за счет слабых, тогда что же такое сама природа? Выходит, что тот, кто слабее, даже права на жизнь не имеет? И это справедливо? И эту природу мы боготворим?
А если все это перенести на мир людей? Тогда с легкостью будут оправданы любые жестокости и кровопролития, в которых, однако, гибнут вовсе не самые слабые и обреченные, а как раз наоборот. Ведь войны, эти злобные гигантские хищники, пожирают самых сильных, вольно или невольно ставших воинами. А это молодые, здоровые, крепкие мужчины. Прежде всего мужчины. Даже погубив одного, убийца тем самым убивает сразу многих — его неродившихся детей, внуков, правнуков. На каких весах можно взвесить такое злодейство?
Чувствуя, что все больше и больше запутывается, Никита Аверьянович напрочь забыл о своем торжестве и подался на улицу. Ему было бы легче, если бы кто-то опровергал его доводы, возражал, спорил. А как будешь спорить с самим собой? Этого он не умел. Обойдя весь участок, покурив на каждой из его дорожек, он задержался у своего колодца. Тот, полный чистой ледяной воды, открытый всем и всему, требовал к себе внимания. Для колодца нужен сруб, чтобы не завалился. Это раз. Откуда взять на это материал? Два. Как откачать воду, чтобы в нем можно было работать? Три. Как все это сделать, имея лишь лопату, мотыгу и фотоаппарат? Четыре…
Свистунов загибал палец за пальцем и печально смотрел в темную воду. В ней уже искрились первые звезды. День кончился, вечер медленно перетекал в ночь. Люди угомонились, птицы вообще не подавали голоса, чтобы не привлечь врагов, одни цикады наполняли тишину своим звоном.
Ночью Никите Аверьяновичу снились кошмары.
* * *
Утром он доел остатки своего вечернего торжества и направился в огород. Но делать ничего не хотелось: его тянуло к людям. Чтобы слышать их голоса, вникать в их заботы, просто чтобы видеть их.
Дни стояли золотые — середина июля! — и народу в садах было много. На поспевшие ягоды и овощи понаехали к старикам все от мала до велика — дети, внуки, а нередко и правнуки. Как работать, так только одних старушек и видишь, а как есть… Ну да бог им судья.
Свистунов продвигался от дома к дому, из одного проулка в другой и отходил душой. Его радовали добрые голоса, звонкий детский смех, сам садовый воздух, пропахший созревшей малиной, цветами, малосольными огурчиками. Останавливаясь у цветников, просил разрешения увековечить такую красоту, и хозяева с удовольствием водили его от одной клумбы к другой, с гордостью рассказывали, как что называется, с каким трудом добыто и выращено, какую почву и удобрения любит, даже как реагирует на хорошую музыку и грубое слово.
Он почтительно слушал, восторгался, пытался что-то запомнить и тут же забывал. Особенно длинные невразумительные названия отдельных цветов. Тем более, что их было великое множество, и у каждой хозяйки — свои. Никита Аверьянович снимал и клумбы, и самих растроганных хозяек, и детишек посреди цветущих клумб, и отдельно — самые красивые и необычные цветки.
Особенно радовался он, застав в них пчелу или шмеля. А однажды на широком бордовом листе какого-то диковинного растения, которое, как ему пояснили, никогда не цветет и знаменито именно этими невероятными листьями, он увидел двух крупных кузнечиков. Зеленые, словно мастерски выточенные из малахита, они четко выделялись на фоне этих листьев. Но больше всего умилило его то, что, стоя друг к другу своими миниатюрными головками, они пили из одной росинки. Двое — из одной! Ну, как не увековечить такое!..
Погуляв и приятно освежив свои чувства, Свистунов вернулся к себе, нашарил в огуречной ботве еще пару огурцов, снял тройку почти созревших помидоров, прибавил к ним по пучку укропа и лука и отправился в город.
Домой думал попасть, когда Татьяна еще на работе. Встретиться с ней не хотелось. Решил просто положить свой подарок на стол и уйти. Но — не повезло. Жена оказалась дома — заспанная, помятая, в отпуску.
— А я к тебе прямо из рая. Вот — угостись, попробуй. Самые первые, сам сотворил! — стараясь казаться веселым, зачастил он. — А понравится, приезжай и ты. Там сейчас такое, посмотришь — ахнешь. Сплошные витамины. Море красоты!
— Целое море, значит? Теперь, значит, там твой дом? В этих сплошных витаминах. А о других ты подумал?
Глаза Татьяны опасно сощуривались, губы утончались и бледнели, крепко сжатые кулачки все решительнее упирались в бока. Так она «заводилась».
— Дочь еле сводит концы с концами, сын скоро вернется из армии, у него ни одного стоящего костюма, а он — посмотрите на него! — прохлаждается в своем «раю»! Может, ты там еще и кралю себе завел?
Никите Аверьяновичу хотелось сказать, что он свое оттрубил, теперь пенсионер, по конституции имеет право на заслуженный отдых. И еще хотел сказать, что позволит себе этот заслуженный отдых только до осени, а к зиме вернется на свою бывшую «Хлопчатку», которую теперь перестраивают в новый торгово-развлекательный центр, где работа найдется и для него. Но не сказал ничего. Молча попятился к порогу, хлопнул дверью и ушел.
Его опять потянуло к людям. Он ходил по улицам родного города, вслушивался в его напряженную жизнь, всматривался в лица встречных. И хоть лица эти были чаще всего далеки даже от простых житейских радостей, замкнуты на чем-то своем, озабоченно-печальны или равнодушны, с ними ему было легче.
В фотосалоне, куда он заходил в каждый свой приезд, посмотрели его новые снимки, распечатали самые удачные, посмеялись и повздыхали над трагической судьбой незадачливого кота и предложили принять участие в большой выставке, посвященной юбилею города.
Предупредили: комиссия будет строгой, наполовину из чиновников мэрии, так что потребуются и виды города.
— И хоть вы его не очень жалуете, все-таки постарайтесь найти в нем и что-то близкое для себя. Снимать вы научились, учитесь теперь и в бетоне находить живую душу. А она в нем есть.
— Кто же вам сказал, что я не люблю свой город? — не сдержался Никита Аверьянович. — Просто у меня все немного не так, как у всех. Помните: «Люблю отчизну я, но странною любовью…» Это прямо про меня. Люблю, оттого и жалею. Когда-то, читал, это у нас означало одно и то же.
— Вот и ладушки. Любите и жалейте. Но чтобы снимки были не хуже грозы и триптиха с котом.
— Чего-чего?.. Какого три…
— Триптиха, говорю! Это когда одно произведение искусства создано из трех картин, объединенных единой мыслью и сюжетом. Ну, как у вас с котом. Поняли? Ну и лады…
Остаток лета Свистунов провел у себя в саду. Трагедию погибшего кота постепенно заслонили другие впечатления, он с увлечением продолжал снимать небо с его облаками, грозами, восходами и закатами, натюрморты из полевых и садовых цветов, обремененные плодами яблони. Потом появились предшествующие отлету «грачиные метели», «багрец и золото» ближнего леса и дальних рощ, охота с фотоаппаратом за отдыхающими на жнивье журавлями.
С трудом и не ахти как, однако все же сумел обустроить и колодец. Ради этого с полмесяца проработал на сооружении кровли у одного строящегося новосела. Сразу договорились: денег не надо, а вот несколько брусков и обрезки теса его устроят вполне.
Когда закончил и даже ведерко с цепочкой из города привез, не утерпел — пригласил соседку. Мол, так и так, уважаемая Ирина Филипповна, хочу похвастать своими достижениями, прошу оценить и благословить сооруженный мной объект. На границу не обращайте внимания, своих пограничников я отправил в командировку на другую заставу, так что шагайте смело.
Заинтригованная соседка, до этого чем-то серьезно озабоченная, сразу посветлела лицом, заулыбалась.
— Ну, веселый человек, что еще придумали? Показывайте.
Они миновали огуречные и помидорные грядки Свистунова, теперь почти пустые, его картофельное «поле», на котором торчало еще два десятка тощих полузасохших кустиков, и остановились возле смородины. Соседка искала глазами что-то из новых посадок и, не находя, пожала плечами:
— Не вижу… Где посадили? Что?
Никита Аверьянович весело рассмеялся, присел на край колодезного сруба и ласково похлопал его по крышке. Как живого.
— Да вот ведь… Колодец «посадил». Тетя Дуся просила, ну я и…
— Батюшки, колодец! — ахнула Ирина Филипповна и тоже похлопала по крышке. — Когда успели? Кого нанимали? Дорого обошлось?
Свистунов рассмеялся еще веселее.
— Дорого! Страшно сказать как дорого! Чуть не жизнью своей пришлось расплачиваться. Ужас прямо!
— Ну, если теперь смеетесь, то ужас, выходит, веселый был?
— Теперь веселый, а тогда… Я же в нем чуть живой не утоп.
Зарекался Свистунов кому-нибудь рассказывать эту свою историю, однако на волне радости и охватившей его веселости не стерпел.
— Все началось с этого бича… осота. Обозлился я на него ну прямо до зубной боли. До белого каления он меня, паршивец, довел. Сегодня выполю, а завтра он опять тут как тут. Ну, как тот Кощей бессмертный. Я — его, а он — опять! Правду вы о нем сказали, что корень у него аж до Америки. Вот я и решил проверить.
— Осот… корень… Ну и как? — уже готовилась взорваться ответным смехом соседка.
— А никак. Больше четырех метров копал, а он, гад, и не думает кончаться. Уже ночь настала, попробовал выбраться — ан не тут-то было. Хуже того — вода пошла. Так и хлещет снизу, как из трубы. Ледяная! Я — от нее, она — за мной! Все выше и выше. Ну, думаю, конец тебе, Никита Аверьянович, пришел. Но каким-то чудом спасся: то ли страх крылья дал, то ли сама вода за ненадобностью вытолкала вон. И вот он я, и вот он — колодец…
По инерции Свистунов еще хрипло похохатывал, а соседка вместо того, чтобы расхохотаться на весь свет, вдруг упала ему головой на грудь и залилась слезами. Чего-чего, а этого он ну прямо никак не ожидал. Уж чего только ни делал, каких только ласковых слов ни говорил — никак уняться не может. Должно быть, очень тронула ее мягкое женское сердце его беда. А на вид такая сильная, даже суровая. Никогда бы не подумал, что она такой сердечный и душевный человек. Вот бы Татьяне его хоть чуточку от ее доброты.
Пришлось бедную отпаивать холодной водичкой. Из этого колодца. Почти святой, хоть и не освященной из-за отсутствия в «Ягодке» надлежащего духовного лица. Помогло. Потихоньку отошла, притихла. А потом и говорит:
— Долго жить будете, Никита Аверьянович, раз в воде тонули, но не утонули. Теперь…
Он по-своему понял и тут же по-мужски четко сформулировал ее мысль:
— Теперь бы еще в огне погореть, но не сгореть, и тогда живи хоть… всю оставшуюся жизнь!
— Не надо гореть. И тонуть тоже. Я хотела сказать, что теперь баба Дуся порадуется. А то ведь намучилась горемычная из оврага воду таскать. У меня хоть и плохонькая, а скважина. Забилась уже, еле за час ведерко нацедит, а все же своя, рядом…
Потом они пили на его верандочке чай, вспоминали бабу Дусю, вместе радовались такому замечательному лету и горевали, что оно кончается. Еще одно лето в их жизни! И кто скажет, сколько их осталось в запасе у каждого из них? У нее, поди, побольше, хоть и ровесники, хоть и давно вдова. У него?.. Он мужчина, а мужчины в родном отечестве теперь почему-то долго не живут.
Договорились, как только пройдут дожди, вместе сходить в лес по грибы. Город так испортил крестьянского потомка, что он знает их только по названиям. И то лишь некоторые: мухомор, подосиновик, подберезовик и еще чего-то «под». А вот для нее это дело привычное, как свой огород. Никогда на зиму без грибов не остается. Бог даст, приохотит и его…
В тот раз в город он возвращался с каким-то особым щемящим чувством, будто уезжает надолго, а то и навсегда. Умом понимал, что это не так, что и осенью тут есть чем заняться, что будут еще и грибы, и занятные снимки, а сердце пророчило что-то другое. Может, оттого что все-таки осень, что в ее яркой цыганской красоте есть и своя печаль, и горечь, и обостренное этой временной красотой чувство уходящей жизни.
Свистунов сидел у автобусного окна, взгромоздив себе на колени огромный рюкзак с яблоками (подарок для дочери), а смотрел на проплывающие мимо поля. Они уже были убраны, а некоторые и вспаханы под новый урожай.
Нелегка крестьянская жизнь, никогда в ней нет покоя. Но она же дает человеку от земли и возможности жить не только сегодняшним днем, думать и работать на будущее, которое непременно будет. А вот он, если повезет, устроится опять на какое-то время в свою бывшую «Хлопчатку», чтобы перестроить ее в гигантский магазин, — и что? Перестроит, получит расчет и забудет. Ну какой резон ему, пролетарию, думать и волноваться о том, как пойдут у новых хозяев их торговые дела, какой они получат на них навар, куда денут свои капиталы? Чужое душу не греет. Тем более такое чужое…
Вот скоро дорога взбежит на пригорок и с него откроется лежащий внизу город. Наверное, оттуда он очень красив, хорошо бы сделать несколько снимков. Был бы налегке, сошел бы, посмотрел, но с таким тяжелым грузом, да еще на исходе дня, это не совсем разумно. Придется приехать специально, ну хотя бы завтра. Или использовать другой подходящий случай.
Однако ждать следующего случая не пришлось, он подвернулся сам — буквально через несколько минут, на том самом пригорке. Что-то в старом автобусе поломалось, и он встал. Пассажиры, все сплошь садоводы-огородники, недовольно пошумели, но потом угомонились, выбрались из тесного салона и принялись с интересом разглядывать родной город, будто видели его впервые.
Никита Аверьянович тоже вышел, приготовил фотоаппарат, стал высматривать нужный ему ракурс. Радовался тому, что многое узнает: вон его микрорайон из старых панельных пятиэтажек; через площадь — двадцатиэтажное здание нового банка; чуть поодаль — новые жилые массивы из красного кирпича, с причудливыми башенками на крышах; в далеком синем мареве — «Химпром», которого уже нет.
Разговоры о его закрытии шли давно: вредное, мол, для экологии производство. Вредное-то вредное, но не будь его, очень многое за большие миллионы пришлось бы закупать у соседей по разуму, потому что другого такого в стране нет. Вот и не верили заводчане, что отчизну оставят без столь необходимой ей продукции, а их без работы. Даже распевали переиначенную популярную песенку:
Разговоры, разговоры, — Кто-то зря старается. Разговоры стихнут скоро, А «Химпром» останется!Не остался. Зато наши «зеленые» дурачки довольны. А зарубежные конкуренты отметили этот приятный факт бурными продолжительными аплодисментами, переходящими в еще более бурные овации.
Между этим уже бывшим заводом и остальной частью города находилась крупная ТЭЦ, питающая его теплом и энергией. Вон ее высокая труба, разглядел Свистунов. Время от времени из нее вырываются белые облака. Так всегда бывает перед началом отопительного сезона: проверяется работа агрегатов.
Закатное солнце все ниже и ниже склонялось над землей, окрашивая все вокруг в нежный малиновый цвет. Из-за этого эффекта, не особенно веря в успех, Никита Аверьянович сделал несколько кадров, прогулялся по пригорку и уже собирался опять вернуться в автобус, как увидел нечто совершенно невероятное.
Закатываясь за электростанцией, солнце на какое-то время попало в очередные клубы пара и словно бы задержалось как раз на трубе. Бурлящее облачко мгновенно из нежно-белого превратилось в огненно-красное и стало медленно подниматься в небо. Теперь оно виделось уже не безвинным паровым клубком, а зловещим гигантским грибом-мухомором, растущим на высокой темной ножке и напоминающим что-то очень уж знакомое и страшное.
Пока солнце не сместилось, Свистунов успел сделать несколько снимков, досмотрел закат и вернулся на свое место. Водитель наконец закончил ремонт, и автобус весело покатил дальше, благо дорога пошла под уклон.
* * *
Родному городу Никиты Аверьяновича Свистунова исполнилась круглая, причем немалая дата, и городской голова сотоварищи решили устроить своему порядком заскучавшему электорату запоминающийся праздник.
Все лето улицы, по которым их возили на работу и в загородные резиденции, закатывались свежим асфальтом, на фасадах наиболее уважаемых присутственных мест провели основательный евроремонт, представителей большого, среднего и малого бизнеса побудили облагородить вывески и автостоянки у своих офисов, а также внести посильный вклад в обширную культурную программу мероприятия.
И вот месяц за месяцем город мыли, мели, скребли, красили. Творческая составляющая здешнего населения, включая все возрасты от среднего дошкольного до старшего пенсионного, разучивали новые коллективные танцы, сочиняли гимны и стихи, писали репортажи, очерки и исторические исследования, организовывали выставки цветов, конкурсы лучших лоджий и балконов и, главное, сверх всяких конкурсов и смотров, своим личным примером содействовали тому, чтобы каждый житель города-юбиляра встретил и провел этот судьбоносный праздник на самом высоком моральном уровне.
Никита Аверьянович искренне радовался за любимый город, но, недооценивая собственный творческий потенциал и не имея возможности как следует проявить свой трудовой героизм, не находил для себя места в этом бурном массовом творчестве земляков.
Посвятить такому большому событию усилия по обеспечению продовольственной программы в масштабах одной отдельно взятой семьи было бы не солидно: не министр ведь и даже не губернатор. Тем более на таком маленьком участке.
Сооружение колодца конечно дело большое и нужное, но к юбилею тоже вроде бы отношения не имеет.
Вот если бы он встал на какую-то очень серьезную и видную аж из самой столицы вахту и не слезал с нее все эти месяцы, это бы еще чего-то значило. Но бродить все лето в живописных окрестностях в муках готовящегося к празднику родного города, единолично, ради собственного удовольствия любоваться белыми облаками, алыми закатами, соседскими цветами, битые часы и дни проводить в бесплодных наблюдениях за интимной жизнью всяких пернатых и растений — что это как не самоустранение, игнорирование и дезертирство с важнейшего участка жизни?
Примерно так весело и в то же время ответственно размышлял Свистунов о предстоящем историческом моменте и своей вынужденной бездеятельности в такое непростое время. Ругал, стыдил себя, но находил и оправдания, даже заслуживающие общественного внимания дела. А что: прекрасную «Хлопчатку» досрочно демонтировал? — демонтировал; задолженности по ЖКХ, газу, электричеству и телефонной связи не имеет? — не имеет; никаких порицаемых деяний не совершил? — не совершил. А то, что увековечил столько городских достопримечательностей и красот природы, так это тоже не только собственного удовольствия для: лучшее из них будет демонстрироваться на юбилейной выставке к радости всех.
Выставка, где в отдельном зале «Новые имена» были представлены и его работы, прошла более чем успешно. О ней писали газеты, ее показывали в местных телепрограммах, а самое главное — ее ходили смотреть. Даже коллективно, как во времена наивной уравниловки и системного тоталитаризма.
Никита Аверьянович сам почти ежедневно приходил сюда, подолгу задерживался в залах, где были выставлены известные фотохудожники, но не забывал и раздела новичков. Ему было бесконечно приятно участвовать в этой ответственной выставке, наблюдать, как толпятся посетители возле его триптиха, любопытной сороки, кузнечиков, цветов, осеннего заката в промышленной зоне, грозы. По уровню исполнения и, главное, художественного видения мира они больше тяготели к залам мастеров, но Свистунов не обижался: тут они смотрелись даже ярче. Да и вправе ли он требовать чего-то большего от первого появления на публике?
На «Хлопчатке» бригады по переоборудованию следующего корпуса только формировались, и у него осталось достаточно свободного времени, чтобы закончить свои дела в «Ягодке». Теперь он был занят тем, что снимал последние яблоки и доставлял их в город — домой, дочери, Томочке.
Приятное это было занятие. Наберешь полный рюкзак, сядешь на верандочке пить чай, а сам все смотришь в окошко, любуешься.
Вот и на сопредельной территории появились люди. Опять две Ирины Филипповны хлопочут вокруг яблонь. Две… И бочки у нее опять две… Хоть надевай очки, хоть не надевай — все по двое…
Что же это за зараза такая водит его за нос? Ведь знает — одна она, и бочка одна, не раз проверял, а вот поди ж ты, дурит и дурит!
И тут он впервые догадался присмотреться к своему окошку, к стеклу в нем. Отодвигался, придвигался, всматривался и так и сяк — и понял: не в глазах у него двоится, а именно в этом стекле. И не только двоится, а ходит какими-то волнами, спиралями, искажая до неузнаваемости любой вид или предмет. Ну прямо как в настоящей зеркальной комнате смеха!
И эта безделица дурачила его все лето! Не стерпел Свистунов, шарахнул по стеклу подвернувшимся яблоком — оно и рассыпалось. Тихо, даже не звякнув. И так стало хорошо! Все четко, ясно и видно далеко-далеко. Одна Ирина Филипповна, одна бочка… Бедная, одинокая женщина, как же она одна все это перетаскает? Это ж такой груз, такая морока! Надо помочь. Вот обновит в окошке стекло, управится с последней яблоней и поможет…
Однажды, посетив в очередной раз свою фотовыставку, Никита Аверьянович почувствовал что-то неладное. Походил, повздыхал и понял — не стало его «Осеннего заката в промышленной зоне». Его почему-то сняли и «забили» место чем-то посторонним, даже не его работы. С чего бы это, по какой такой причине?
Побежал к вахтерам, к смотрителям, к администраторам — кто подменил? Не видели. Вернулся обратно, и тут его взяли под локоток.
— Вы Никита Аверьянович Свистунов?
— Свистуновым всю жизнь был. А вам чего?
Расстроенному и раздосадованному человеку было не до любезностей и долгих разговоров.
— Ну, чего вам? Нет у меня сейчас настроения беседовать на темы фотоискусства.
— Вы, смотрю, свою картину ищете?
— Не картину… Тут фотовыставка.
— Все равно. Не ищите, я знаю, где она.
— Вот интересно! И где?
— Пройдем со мной, покажу.
Они вышли, сели в машину и вскоре оказались в небольшом светлом кабинетике, на столе которого, прислоненный к настольной лампе, стоял его «Закат».
Это как же он сюда попал? И почему? Не соловей, не сорока, а именно это? С какой стати?
— А вы присаживайтесь. Есть необходимость поговорить.
— Поговорить и я большой любитель, но сейчас недосуг. Приходите на выставку, там и поговорим.
— Сядьте, Свистунов!
Этот командирский окрик Никите Аверьяновичу не понравился, он сколько-то потоптался перед своим «Закатом» и все же сел.
Молчал он. Молчал хозяин кабинета.
Долго молчал.
Заговорил медленно, с видимой неохотой, точно исполнял давно надоевшую работу.
— Этот снимок, гражданин Свистунов, вы давно сделали?
— Перед самым открытием выставки, — честно доложил он. И счел нужным добавить: — Я ведь в этом деле совсем новичок. Стал снимать только когда мне фотографический аппарат подарили. На юбилей.
— И когда это было?
— В самой середине апреля этого года, пятнадцатого числа.
— А до этого вообще, что ли, не снимали? — вскинул брови «командир».
— Не приходилось. Только мечтал.
— А в этом городе давно живете?
— С рождения. Постоянно. А что?
— Да то, гражданин Свистунов, что такой снимок можно было сделать лишь лет сорок-пятьдесят назад. И не здесь… Так вы, значит, в молодости выезжали все-таки. Куда?
— Никуда. Я даже, стыдно сказать, в столице никогда не был. А теперь вот захотелось.
— Для чего?
— Чтобы наплевать ей в глаза за некоторые ее подлости, — довольно хмыкнул Свистунов. Словно уже наплевал.
«Командир» опять помолчал, покатал в пальцах плохо заточенный карандаш, нехорошо усмехнулся:
— Такая возможность вам может скоро представиться. Побываете… А теперь еще раз вспомните, приходилось ли вам хоть на время покидать город? Именно в молодости. Подумайте, не торопитесь, времени у вас много.
Чтобы потянуть это время, Никита Аверьянович сделал вид, что натужно думает, однако думал совсем о другом. Куда его привезли? Кто этот суровый человек? Что ему нужно от него и его «Заката»? Взъелся, похоже, неслучайно.
— Ну и как, будем говорить?
— Вспомнил. Выезжал. В армию служить. Как раз молодым был.
— И где служили? — оживился допросчик.
— Все время в одном месте. Даже без отпуска.
— Где, Свистунов?
— На Северном Кавказе. Кстати, пока мы там служили, ни один Дудаев пикнуть бы не посмел. Это потом, когда…
— Это к делу не относится… А кто мог бы подтвердить, что свой снимок вы действительно сделали именно здесь и именно перед самым открытием выставки?
— Ну, вот это другое дело! — обрадовался такому повороту Свистунов. — Можете спросить ребят из фото салона, водителя автобуса, на котором я езжу в сад. Его автобус дорогой как раз поломался, что было делать — пощелкал кое-что. Полный автобус свидетелей, опросите любого. Как раз в тот день ТЭЦ под зиму проверяли.
Допросчик-командир устало потянулся на своем железном стуле и нетерпеливо замахал рукой.
— Ну, хватит сочинять, Свистунов! Чтоб дорогой из сада снять такое… Это же, считай, в черте города! Так чтобы такое снять… Вы представляете, что у нас было бы, будь все на самом деле как вы докладываете? Ну да, такого и представить невозможно. Не-воз-мож-но, Свистунов!
— Ну, это уж от человека зависит. От его развития…
— Не осталось бы тогда тут человека! Никакого, понимаешь, Свистунов? Ни развитого, ни дебила! Совсем!..
Ту ночь он провел в этом же здании, только в другом кабинете, за решеткой. А утром его срочно, первым же авиарейсом, отправили в Москву.
* * *
— Ну вот и нашего героя доставили! — встретила его Белокаменная. — У нас, гражданин Свистунов, ты заговоришь. Заговоришь как миленький. Это тебе не твоя провинция, а столица!
— Так я только и делаю, что говорю, — добродушно засмеялся Никита Аверьянович. — Говорю, говорю и все без толку. Чего все от меня хотят? На кой черт я вам сдался?
— Ха, он еще дурачком прикидывается! Этот снимок ты сделал?
И опять все пошло по новому кругу. Но теперь, действительно, это была не провинция. Тут был другой подход. Столичный допросчик не церемонился — кричал, топал ногами, грозился «упаковать» надолго и всерьез. И Свистунов струхнул.
К счастью, в это время в кабинет заглянул какой-то другой начальник, пожилой, седоватый, попросил раскричавшегося пойти прогуляться и долго рассматривал злополучный Свистуновский «Закат»?
— Вот снимок, свежий, недавно сделанный, — начал он спокойно. — Вам он ничего не напоминает?
— Напоминает, — признался Никита Аверьянович. — Гриб мухомор напоминает. Есть в природе такой, ядовитый. Из всех грибов я только его и знаю.
— Когда взрывается ядерный заряд, тоже подобный «гриб» вырастает. По международному договору мы уже много лет их не испытываем. Ни на земле, ни под землей…
— Ни в атмосфере, ни в космосе, — с готовностью продолжил Никита Аверьянович. — Я это хорошо знаю, раньше газеты читал. Только скажите мне, пожалуйста, какое отношение ко всему этому имеет мой снимок?
Седоватый тяжело поднялся, включил компьютер, пощелкал там чем-то, позвал его сесть рядом.
— Сейчас вы все поймете… Вот, видите, — зарубежные газеты. Первые полосы, узнаете?
Свистунов посмотрел и ахнул: во всех газетах крупным планом на первых полосах красовался его «Закат».
— А теперь читайте, что они про нас пишут.
— Извините, кроме родного русского…
— Ну, тогда я переведу.
Из перевода он понял, что Запад обвиняет Россию в нарушении договоров по запрещению испытаний ядерного оружия, о чем, дескать, свидетельствует публикуемый снимок. О фотовыставке в его городе, об авторе снимка — ни слова. Только голый «факт» и… пошла писать губерния. Мол, в России нет никакой демократии, наоборот — возрождается психология тоталитаризма и холодной войны, стало быть, ее следует поставить на место и подумать о том, чтобы в этой стране был другой президент.
— Как видите, голой воды провокация. Тамошняя пишущая братия умеет зарабатывать деньги.
— Но это же самое примитивное и злобное вранье! — вскочил Никита Аверьянович. — Как они смеют так с нами, с Россией?
— С некоторых пор смеют, — выключая компьютер, протяжно вздохнул седоватый, которого Свистунов уже воспринимал как генерала контрразведки, во всяком случае не ниже полковника. — Подобных провокаций на их счету немало. И эту мы тоже можем и должны порушить. Но сделать это можно только с вашей помощью. Очень искренней и честной.
От этих слов, простых и уважительных, Свистунов весь загорелся.
— Да я, товарищ генерал, ради такого дела… Вы только определитесь и прикажите. Только прикажите!
Тот скромно улыбнулся.
— Приказывать не имею права, вы же, Никита Аверьянович, не подвластный мне человек, чтобы вам приказывать. Давайте думать вместе. Вы рассказывайте, а я буду слушать.
— Что рассказывать? — опять заволновался Свистунов, опасаясь как бы все не началось сызнова.
— Да все, что сочтете нужным, чтобы я мог получше узнать своего собеседника. Как живете, чем интересуетесь, занимаетесь. Как в своем городе, вот так неожиданно для самого себя, увековечили такую удивительную загадку природы. А это поможет нам принять правильное решение.
И Никита Аверьянович стал рассказывать. И важное и пустячное, и близкое и далекое, нужное и совсем не обязательное. Увлекшись, особенно горячо говорил о любимом фотоискусстве. Как и что снимал, про того же кота, сороку, соловья. А когда дело дошло до «Заката», попросил листок бумаги и карандаш.
— Вот поглядите, товарищ генерал, как все случайно сошлось. Вот тут на пригорке поломался наш автобус. Вот тут — город, а за ним ТЭЦ с трубой…
Он рисовал эту трубу с клубами выбрасываемого белого пара, идущее на закат солнце, его продвижение к вершине трубы и заключил:
— Вот когда солнце вошло в это облачко и как бы село на трубу, все и произошло. Красиво! А потом как-то жутко стало. Тогда-то я его и увековечил.
— И когда это случилось — день, часы?
— Четырнадцатого сентября, часов в восемь вечера. И никакой загадки природы, как видите, тут нет. Это каждый год случается, когда ТЭЦ перед отопительным сезоном проверяет работу своих агрегатов. Но никто не обращал внимания. Мне просто посчастливилось оказаться там в нужное время.
— Значит, и в следующем сентябре можно будет сделать такой же снимок?
— Конечно. Только, может, не четырнадцатого, а пятнадцатого. Или тринадцатого. Или опять же четырнадцатого. Это будет зависеть от готовности ТЭЦ.
— Очень интересное наблюдение. И как это другим в голову не пришло?
— Так для этого нужно быть фотохудожником. И кое-какой талант иметь.
Генерал предложил Свистунову сигарету и закурил сам. Время, потраченное им на его исповедь, не пропало даром.
— Вы знаете, Никита Аверьянович, кажется, я понял, что нам нужно сделать. Раз вы такой интересный человек и талантливый фотохудожник, подошлем-ка мы к вам опытного журналиста. Он, конечно, отнимет у вас не один день, но зато выдаст то, что нам нужно. Допустим, очерк с вашими работами. А мы его тиснем в наших центральных газетах и журналах, двинем за рубеж…
— Это обо мне? — всполошился Свистунов. — Надо ли, товарищ генерал?
— Не скромничайте, Никита Аверьянович. Очень надо. Особенно подробно, как мне сейчас, распишите историю своего «Заката». Тогда от их провокации камня на камне не останется. И нашему МИДу делать нечего будет… Большое дело сделаете, и за него я заранее вас благодарю. И еще прошу извинить за наших дураков, создавших для вас столько неприятностей. Ну, никакого профессионализма!.. А в следующем сентябре сам в ваш город заявлюсь. Вместе снимем еще один «Закат».
Через день Свистунов уже был в своем городе. Торжества по поводу его юбилея уже прошли, но выставку еще не свернули. Никита Аверьянович разыскал того лихого «командира», что снял его «Осенний закат в промышленной зоне», и тоже по-командирски распорядился:
— Вернуть на место. Откуда незаконно сняли. Сейчас же.
Тот вскочил и, бледный, испуганный, вытянулся в струнку.
— Выполняйте. И не забудьте потом доложить… генералу.
* * *
До зимы Свистунов закончил все дела в саду, вставил в разбитое окошко новое стекло, помог соседке и устроился на работу. Всю зиму он усердно трудился, заработал сколько-то денег, купил вернувшемуся сыну нужную одежонку, помог дочери выплатить накопившиеся долги, а весной опять перебрался в свою садово-огородную «саклю».
И опять было лето. И опять повторилось все, что с ним связано. А потом, в сентябре, к нему приехал теперь уже совсем седой его генерал. И они вместе сняли еще один великолепный закат в промышленной зоне города.
А статьи и очерки, напечатанные о нем, провинциальном самородке-фотохудожнике, как и ожидалось, сработали лучше некуда. Вырезки из газет он хранит в укромном месте квартирки тети Дуси, где они поселились вместе с сыном. Иногда он достает их, с удовольствием перечитывает, вспоминает и смеется…
— Хорошо, что среди нас еще водятся такие веселые люди! Пока мы смеемся, мы живем!
На земле и над землей
Повесть
1
— С добрым утром, Аграфена Филипповна! Что, соседушка, наскучило одной в дому сидеть, на солнышко потянуло? А погода-то нынче установилась как на заказ. Бабье лето, одним словом…
Напротив усадьбы бабы Груни остановился потрепанный «Беларусь» Гриньки Загузина. Сам Гринька, рослый, рукастый и с утра уже чумазый, как все трактористы, мужик, солидно сошел с тихо урчащей железной махины, вразвалочку подошел к лавке и сел рядом.
— Хорошая погодка, правда? Если так продержится недельки две, с уборкой зерновых, поди, уладим… А ты, смотрю, никак приболела? Скукожилась вся.
Так оно и было — приболела баба Груня. С ночи еще ничего, поднялась как всегда, подоила коровку, выгнала скотину в стадо, а вернулась к воротам — тут и прихватило.
— В грудях что-то опять колет, — пожаловалась тихо. — И печет, аж в плече больно. И сил совсем не стало. Такая немочь, что, кабы не лавка, так на землю бы и свалилась…
Гринька участливо оглядел свою немощную соседку и авторитетно заявил:
— Сердце это у тебя. Стенокардия. Жена, сколь помню, тоже ею мучилась. И мать. С тем и ушли на тот свет, в кущи райские. Там, говорят, вечное лето, птичьи песни да благодать. Как в Африке.
Как там бывает, в этой Африке, баба Груня не знала, но в том, что Клавдия Загузина в рай попала, крепко засомневалась. Одного того, что этого Гриню в подоле незамужняя принесла, хватило бы, чтобы в райских воротах застопорили. Да и других грехов, поди, тоже немало было. Так что, может, и Африка, да не совсем та.
— Тебе бы, Аграфена Филипповна, прилечь да капельки принять. Давай-ка помогу я тебе. Держись за меня. Полежишь, отойдет сердечко, побегаешь еще. Какие наши годы, верно?
Гринька всегда такой: никогда не пройдет, чтобы не приветить, не пособить в нужде, не посуетиться рядом. Добрый мужик, работящий, участливый и, на удивление всей Калиновке, почти не пьющий. Хороший сосед, короче. Соседи ведь тоже бывают разные, а этот, что родной. Хотя и родным сочтешь — не ошибешься. Как, впрочем, и многих других калиновских мужиков и баб, кому, как и Гриньке, под пятьдесят и за пятьдесят. Так уж получилось, такая жизнь у бабы Груни вышла невообразимая. С молодых, считай, лет. С той еще большой войны…
Уложив соседку в постель, Гринька достал с кухонной полочки флакончик, накапал в стакан целебных капель и, дав ей выпить, посетовал:
— А с лекарствами у тебя, Аграфена Филипповна, дефицит. Окромя этих, что еще на разок хватит, ничего нет. Непорядок это. При таком сердце всегда запас нужен: а вдруг чего? Тут ведь тебе не город — ни телефона, ни «Скорой помощи», ни даже своего фершала. Я, конечно, скатал бы в райцентр, да уборка. Сейчас прихвачу Леху Ходакова и — в поле. Но дочку пришлю. Сейчас разбужу и пришлю. Пусть посидит. Мало ли что… И ей дело…
Гринька еще что-то говорил про хорошую погоду, про уборку, про дружка Леху и про дочку, а она смотрела то на него, то на портрет мужа в раме на стене и молча кивала, со всем соглашаясь. Смотрела на портрет, смотрела на соседа и в который раз убеждалась в давно подмеченном: до чего же они похожи друг на друга, хотя, казалось бы, совсем чужие люди. Такие же крутые сильные плечи, высокая крепкая шея, крупное с резкими чертами лицо. Даже разрез глаз, форма бровей, носа, глубокие морщины вдоль щек, ямочка на тяжелом подбородке. Даже глуховатый голос и какая-то сдержанная основательность в манерах и жестах, в скуповатой улыбке и добрых густо-синих глазах… Теперь, встань рядом, они выглядели бы как братья-близнецы, ведь и мужу, когда его не стало, было тоже только пятьдесят.
— Ну, так я пошел. Дочку кликну, чтобы проведала, и — в поле. Леха уже заждался, поди. Уборка, одним словом. А ты полежи, милая, полежи…
Тяжело топая большими сапогами, Загузин вышел из дому. Баба Груня проводила его потеплевшим благодарным взглядом и продолжала думать о своем. Ну да, так бы и сказали, глядя со стороны, — братья, мол, близнецы, мол, хотя в деревне знали, считай, все — один из них отец, другой сын. Хоть и сосед. И Леха вовсе не дружок Гриньке, а кровный брат по отцу. Который все тот же. И похожи они между собой тоже не случайно. Как и со многими другими в Калиновке, хотя говорить об этом среди взрослых было не принято, а молодым-то откуда знать? Родились на свет божий — и уже хорошо, а кто там дед, так ли уж и важно, раз есть отчий дом, родная земля, солнышко в небе…
Мысли ее, такие теперь, через годы, тихие, спокойные, без прежней ревности и сердечных страданий, прервались неожиданным возвращением Гриньки.
— Прости, соседушка, — сказал запыхавшись, — совсем с твоей болезнью запамятовал, ради чего заходил-то. Гости к тебе идут, слышь, внуки городские. С электрички. Так что не одна будешь. А капель я тебе достану. Сергуньку Черного попрошу. Попутно ведь: тот зерно на элеватор возит. Заодно и в аптеку зарулит, не откажет…
Груня мигом забыла и о больном сердце своем, и о нахлынувших было воспоминаниях, резво поднялась в постели, оживилась:
— Внуки, говоришь? Да где ж ты их видел, Гриня? В раность такую?
— Со станции я их малость подвез, а у Щучьего озера тормознули. Очень захотелось им, слышь-ка, блесны свои на наших щуках испробовать. Вот испробуют и припожалуют на погляденье. Такие вымахали красивые, прямо как артисты из кино. Скоро будут, скоро…
— Ах ты господи! — всполошилась она. — А у меня и завтрак еще не поспел и не прибрано кругом, срамота одна. Вот придут голодные с дороги, а у меня и конь не валялся. Как же, скажут, так…
— Ничего, ничего, не гомонись, — остудил он ее. — Рыбалка — дело завлекательное, не враз отпустит. Вот к обеду и жди. А пока лежи, сил набирайся. Ленку я уже разбудил, придет, поможет. Ну… пошел я. К Лехе — в поле…
Трактор взревел за окном дурным железным голосом, дробно протарахтела по рытвинам прицепная тележка — и Загузин укатил. Баба Груня отошла от окна, присела на кровать с продавленным пружинным матрацем и задумалась. Если бы не ожидаемые гости, она бы, пожалуй, опять прилегла, потому что важных неотложных дел не предвиделось, кроме копки картошки в огороде, да какая она нынче копальщица?
В другое время такую славную погоду, когда так хорошо бывает покопаться в сухой земле, проветрить выкопанные клубни на щедром солнце бабьего лета, она бы ни за что не упустила, но сегодня чувствовала — не сможет, не по силам ей это. И потому вздыхала, томилась, разрываясь между огородом и постелью, пока наконец не решилась довериться совету Гриньки полежать и набраться сил. Сердечный приступ уже прошел и теперь не пугал ее, но вызванная им немочь осталась, кружа голову и делая непослушными и без того ослабевшие ноги. А в таком состоянии много не наработаешь.
В постели она совсем успокоилась, опять смотрела на портрет мужа Тимофея, что висел под стеклом в простенке между окнами и как будто бы втайне улыбался ей оттуда одними глазами. Он умел так улыбаться. Особенно когда она сердилась на него или когда жалел. А жалеть было за что и сердиться ей тоже. Такой он был у нее. И такое время выпало им для жизни.
Ох, жизнь, жизнь! Семь десятков уже прожила баба Груня на этом свете, но спроси ее, много ли это, лишь усмехнулась бы в ответ. Жизни никогда не бывает слишком много и даже просто много. Она, как река, — течет себе и течет. Посмотришь со стороны — такая неспешная, такая неторопкая, такая неброская, словно течь и течь ей вечность. Ан нет, и у нее есть, оказывается, свой конец! Как у реки. Но та впадает в другую реку или в море и продолжается в них. А человеческая жизнь? Куда впадает она, когда иссякнет ее течение? В никуда? И почему даже семьдесят лет в конце их кажутся таким малым и кратким сроком? Даже прожитые трудно, маятно и оттого, кажется, долго и нудно. Ох, жизнь, жизнь!..
Утреннее солнце заглянуло в окно сначала несмело, только своим краешком, а потом хлынуло широко и вольно, в одно мгновение наполнив дом щедрым искрящимся светом. Портрет Тимофея теперь оказался в тени, и, ослепленная этим светом, баба Груня на какое-то время перестала его видеть. Но сейчас она видела его глазами памяти, глазами души. То мальчонкой-подпаском, то вернувшимся с войны героем-соколом, то уже мужем ее и отцом ее детей.
Они жили в одном селе, прежде большом и красивом, учились в одной школе, обустроившейся в бывшей помещичьей усадьбе, встречались на общих работах в поле и на зерновом току.
Тимофей был на три года старше ее, но когда началась война, был еще молод для солдатского дела и весь первый военный год проработал в сельхозартели. В оставшейся без мужчин деревне такие, как он, вчерашние подростки сразу оказались на виду. Вместе с женщинами они вершили все дела в хозяйстве и в доме. Им доверяли, с них спрашивали по всей строгости военного времени, за ними тянулись те, кто был еще моложе. В том числе такие, как она.
Особенно трудно было в самые напряженные месяцы крестьянской жизни — осенью и весной. Техники, известно, никакой, только лошади да руки, приученные с детства держать вилы, лопаты, серпы да косы. И пусть ты мал и слаб — все равно не стой в стороне, вноси свою долю в общее дело. Чаще всего долю непосильную, тяжкую даже для взрослого работника, да что поделать — война. Ведь тем, кто на войне, еще труднее.
Обмолоченное и кое-как очищенное зерно свозили на ссыпной пункт за пятнадцать верст. По осенней слякоти, на расхлябанных телегах, на измученных голодных лошадях. То, что и сами были голодны, в расчет не принималось. Как и то, что пятнадцатилетней девчонке никак не поднять в одиночку полного мешка, тоже. Выручала взаимопомощь и особенно включавшиеся в обоз парни. Тимофей в таких поездках всегда оказывался рядом с ней. Сколько мешков перетаскали вместе, сколько слез пролили над сломавшейся осью или развалившимся колесом, один бог свидетель!..
А однажды он буквально спас ее от тюрьмы. Было это весной сорок второго. С завозом семенного зерна зимой почему-то не получилось, пришлось заняться этим в весеннюю распутицу. Женщины и старики покрепче ходили пешком с котомками на спинах, ну а им, девчонкам и подросткам, — опять в обоз. На тех же телегах, на тех же, но еще более обессиленных лошадях, по ужасному бездорожью.
Через разлившуюся речку пустили паром, на котором все и случилось. На середине переправы в утлый плот угодило плывшее с верховьев смытое водой дерево, испугавшиеся лошади раскачали его, и тут с ее телеги свалился один мешок. Удержать такую тяжесть у нее просто не хватило сил, так и плюхнулся в воду у всех на глазах.
Мешок семенного зерна в войну — сколько он стоил? В деньгах, может, и не так уж много, да разве в них дело? На фронте за подобную промашку взыскивали кровью, в тылу — свободой. Груня уже знала это и всю дорогу до конторы проплакала горькими слезами.
На подъезде к селу к ней подошел Тимофей и как старший обоза приказал перейти к его подводе. На ее недоуменные вопросы ответил коротко: «Так надо, а ты знай молчи». Так они поменялись местами в обозе и телегами. А когда сдавали зерно на склад, он заявил, что один мешок с его воза свалился в реку и утонул. Все, кто был в той поездке, подтвердили это. Недоверчивый председатель сгонял к реке верхового, который, вернувшись, передал свидетельство паромщика. Так подозрение в сговоре и хищении отпало, но «халатность» и «вредительство» остались. Тут же составили акт, сообщили о случившемся в райцентр, оставалось ждать прибытия конвоира. К счастью, дома Тимофея уже дожидалась повестка на фронт, и он в тот же вечер покинул родное село…
2
— Баба Груня, чего плачешь? Тебе больно, да?
Ну да, это пришла соседская Ленка. Засуетилась, затормошила:
— Опять сердце разболелось? А мы сейчас его — капельками, капельками… Вот, как раз хватит… Ей-богу, полегчает, пей…
Напрасно баба Груня уверяла, что сердце уже не болит, что только «печет» немного, а слезы эти нечаянные, оттого что вспомнила молодость свою, девчонка не отступалась:
— Выпей, и тогда даже «печь» перестанет. А вспоминать про плохое не надо. Мало ли что было при царе Горохе!
— Не при царе, — не удержалась от улыбки баба Груня. — И не про плохое. Плохое я давно уже оплакала, а это… Да не поймешь ты, мала еще.
— Это я, что ли, мала? — тряхнула головой Ленка. — А кто в последнем классе учится, не я? Если про любовь, так я и про любовь все понимаю. Мне вон сколько мальчишек уже записки пишут.
— Мне записок не писали, не то время было. И про любовь не говорили. А вот как вернулся с войны, так сразу — ко мне, свататься.
— Это кто же такой смелый сыскался?
— Как кто? Муж, поди, Тимофей…
Она чуть было не сказала «мой муж, а твой дедушка», да вовремя осекла себя: зачем это девочке, мало ли что было промеж них, взрослых. Этак полдеревни взбулгачишь!
— Ну, иди… Спасибо тебе… В школу, чай, уже опо здала, стрекоза…
Ленка отогнула рукав кофты, полюбовалась старенькими материными часиками.
— Нет, до звонка еще много. Да мне идти-то — одно название. У тебя капли еще есть? Кардиамин этот?
Баба Груня посмотрела на свет опустевший флакончик и призналась, что эти были последние. Но тут же нашлась:
— Ничего, ничего, мне уже легче. А там папка твой забежит. Или Сережка Черный… или еще кто… По пути обещали…
— Эх, баба Груня, плохо же ты знаешь наших мужиков! — вскочила Ленка. — Папка мой только ночью возвращается и другие тоже не раньше. Им хоть помри тут — для них уборка главное. Пусть хоть камни с неба падают, а они свои комбайны не бросят.
— Так ведь страда, девка! — вступилась за них баба Груня. — Хлеб же! Тут уж день ли, ночь ли — какой счет!.. Отсыпаться и отдыхать потом будут. Так среди людей от веку было и так будет всегда. Пока хлеб в поле.
— Ну, ладно, — заторопилась вдруг Ленка. — Я пойду. По дороге в школу забегу к бабе Вере и бабе Фросе, может, у них кардиамин этот остался. У нас сегодня суббота, уроков мало, так я сразу — к тебе. Жди и не плачь смотри, ладно?
Ленка убежала, дробно простучав туфельками по ступенькам крыльца.
— Вот егоза, вот егоза, — долго еще повторяла вслед баба Груня. И в самом деле не девчонка уже, школу кончает, хоть завтра под венец. Достанется же кому-то такое счастье.
Оставшись одна, баба Груня снова стала посматривать на портрет мужа, и вспомнились ей те уже бесконечно далекие дни, когда она была молодой, когда пришла наконец во все дома долгожданная Победа, а вместе с ней вернулись в родную Калиновку и земляки-фронтовики. Трое на всю деревню. Из двадцати трех ушедших. Груня тогда уже работала секретарем в сельском совете (поставили за грамотность и хороший почерк) и знала всех поименно — и сгинувших, и живых.
В числе живых оказался и Тимофей. Слегка пораненный, но веселый, громкоголосый, плечистый. Не тот угловатый парнишка, что помнился ей по совместным обозным и прочим мытарствам, а настоящий, теперь уже совсем взрослый мужик — с медалями во всю грудь, под широким солдатским ремнем, в военной гимнастерке с погонами, в крепких кожаных сапогах.
Встречали вернувшихся, как героев. Вся деревня сошлась — пела, плясала, плакала, вспоминала отнятых войной и радовалась чужому счастью.
А через пару дней пришел к ней Тимофей прямо на службу и с порога при всех-то людях весело заявил:
— Ну, Аграфена Филипповна, прощайся со своим девичеством. Вечером сватов зашлю!
И заслал. И вышла она за него. И стала с его легкого почину не просто Груней или Грушей, как звали отродясь, а Аграфеной. Да еще по отчеству — Филипповной! Так с тех пор и звалась она, хоть и не учительница вовсе, и не докторша какая, а простая переписчица сельсоветских казенных бумаг и затем — на долгие годы — бригадир овощеводческой бригады своей пригородной артели «Ударник». Из троих вернувшихся с войны один вскоре перебрался в город на строительство, а оставшиеся — он, ее Тимофей, да еще Фрол Ямщиков с Верхней улицы — с ходу, как волы, впряглись в бесконечную крестьянскую работу. Ничего не скажешь, работящим, трехжильным был ее Тимофей, от любой работы не бежал, будь то конная вспашка, жнейка или трактор. И все у него получалось, все горело в его больших жилистых руках, любое дело делалось весело, азартно, без устали и душевных смут.
Хорошо они жили, открыто радуясь своему счастью. Может, даже излишне открыто, потому что десятки калиновских вдов и подросших невест не знали его, этого счастья. Но занятые собой, своей молодостью, своими скромными радостями, они будто не замечали чужих затаенных вздохов, долгих тягучих взглядов, а то и слез.
Впрочем, поправила себя баба Груня, это она не замечала. Не хватало ей в те годы житейской зоркости и мудрости. А вот Тимофей и дружок его Фролка… Но об этом она узнала уже потом, когда не только у нее, но и у некоторых других молодых баб округлились вдруг животы и, как горошины из переспевших стручков, посыпалась на благодатную калиновскую землю долгожданная малышня, не знавшая своих отцов.
Что и говорить, какой молодой здоровой бабе не хочется завести дитя! Вот и заводили, пользуясь тайным счастливым случаем. И не стыдились. И радовались. Хотя были и такие, кто, не веря ни «похоронкам», ни годам, продолжали стойко ждать своих суженых, молча переживая одиночество, глуша в себе свое женское естество и незаметно старея.
Таких Груне было нестерпимо жалко. Но что делать — от своего счастья краюху не отломишь, своего мужика на ночь не одолжишь. Да и не примут его такие.
А к другим относилась как-то неопределенно — и осуждая, и понимая их. Даже подзадоривала иногда:
— Эй, Мотря! Смотри, уполномоченного на уборку из района прислали. Не будешь ворон ловить — и у тебя ребятенок будет!
В ответ Мотря капризно надувала губки и как-то нехорошо, по-мужски смеялась:
— У твоего уполномоченного от мужика одни штаны остались. Да очки еще. Что мне с ним — газеты читать?
— Вот в очках он как раз и разглядит твою красоту!
— Не разглядит, поди. У нас для такого дела и свои найдутся, помоложе которы… Верно, товарки?
Бабы, слушая их, довольно скалили зубы, беззлобно задевали и ее вместе с Мотрей, но чего-то недосказывали, таили, зная край, за который лучше не ступать.
Но тайны для того и тайны, чтобы о них знали все.
Вскоре в деревне заговорили о Фроле Ямщикове и разладе в его семье. Жена Фрола Фаина, такая невидная и тихая женщина, оказалась вдруг столь шумной и отчаянной бабой, что вся улица сбегалась посмотреть на ее стычки с мужем. А еще забавнее было смотреть, как ожесточенно набрасывалась она то на одну, то на другую вчерашнюю подружку, осыпая их всякими страшными проклятиями и оскорблениями. Самыми ужасными из них, на ее взгляд, были: «да чтоб глаза твои полопались, бесстыдница», и еще — «воровка-полуношница».
Между тем какими бы яростными эти проклятия ни были, ни у кого глаза не лопались, а что касается воровства, то его никогда в Калиновке не было — ни до войны, ни после, ни днем, ни ночью. А дети у подружек все-таки появлялись. Не от духа святого, понятно. От кого же тогда?
На первых порах Груня грешила на эмтээсовских трактористов и комбайнеров, на заезжих уполномоченных и сборщиков налогов, на того же Фрола Ямщикова, но после того, как заметила на подбородках малышей заветную Тимофееву ямочку, сердце ее надолго лишилось покоя…
3
Баба Груня уже совсем было собралась встать да приняться за приготовление обеда для задержавшихся на озере внуков, как, громко постукивая посошком, притопала легкая на помине Фаина.
Фрола ее давно уже не было в живых, дети выросли и разъехались кто куда, и осталась она одна в большой и некогда крепкой крестьянской усадьбе. Так же ковырялась в грядках, обихаживала оставшуюся живность и коротала свободное время на лавочке, поглядывая на деревню и редких прохожих. Дети и внуки находились где-то далеко, давно не навещали ее, и она, кажется, привыкла к своей одинокости, словно вот так, никому не нужная и не знамая, прожила весь свой век.
Теперь это была маленькая сухонькая старушка, заметно тугая на ухо, плохо видящая, со смиренным лицом монашки и тихим голосом провинившегося ребенка.
Прошелестев через порог, уже без посошка — оставила, видать, в прихожей — Фаина подслеповато огляделась в просторной избе и, усмотрев хозяйку в постели, немощно всплеснула руками:
— Ты чего это, Филипповна? День ведь давно на дворе, а ты бока на перине греешь. Постыдилась бы на старости лет, чаю, не городская еще.
Бабе Груне и впрямь стало неловко, будто застали ее за нехорошим делом. Но оправдываться не стала.
— Для начала здравствуй, кума. Сколь дней как не виделись, здорова ли?
— Здорова — не здорова, что теперь с того? — беззубо пришепетывая говорила Фаина, присаживаясь у изголовья. — В наши с тобой годы быть здоровым грех. Столько всего переделано, что для здоровья этого никакого места в теле не осталось. Ни в руках, ни в ногах, ни в спине… Так и клонит к земле, так и клонит…
— Так и доклонит, — поддержала ее Груня, — до погостных ворот. Мне и то уже скоро семьдесят пять стукнет, а тебе, поди, все восемь десятков. Слава богу, вон сколько отмерили, пора и честь знать. А здоровье, оно как осеннее солнышко: сегодня есть, завтра нет. А может, и так: и сегодня нет, и завтра нет, и послезавтра тож. Но живем ведь, однако, небо коптим.
— Ну да! — оживилась гостья, и голос ее окреп, то и дело погудывая хрипловатым мужским баском. — Это откуда ж ты мне эти восемь десятков набрала? Чаю, не на много мы с тобой разнились. И первенцы наши в один год родились, и в бригаде одной всю жизнь рядом. Зачем мне лишнего-то?
— Ну вот, уж и годов своих не помнишь, — втягиваясь в спор, поднялась на постели баба Груня. — Вспомни, ты когда за Фрола своего замуж выходила — до войны, ай после? Всю войну ведь в солдатках ходила, с чего бы то, кабы не мужика с фронта ждала?
Гостья помолчала, будто прислушиваясь к себе, к затаившимся в ней годам, и нехотя согласилась:
— Ждала… Всю войну ждала, не как некоторы… И дождалась ведь, слышь-ка. Как и ты свово.
— Я не ждала, кума. Некого ждать было. Молода была совсем.
— А ить и правда, Филипповна. Счастливая ты. Оттого и моложе меня, что не ждала. А ведь мы, кто ждал, за войну, считай, две жизни прожили. Это надо понимать, пережить самой… Самой узнать, какая это казня такая… Не приведи господи…
Голос бабки Фаины пресекся и перешел на тихие детские всхлипы. В последнее время она плакала часто. Все вот так — тихо, стыдливо, без слез. Точно боялась потревожить кого-то, помешать.
От оживших воспоминаний и у Груни запершило в горле, но она сдержалась и, дотянувшись до подруги, ласково погладила ее кряжистую руку.
— Не тужи, кума, не мучь себя. Хорошую жизнь мы с тобой прожили, счастливую. И мужья у нас были ладные, и дети не хуже других, и внуки опять же… Кабы не заваруха последних лет, как жили бы, а? На легковушках бы по гостям катались, а теперь что? Теперь сидим, года считаем, кому на погост первой, кому второй.
Фаина молча кивала, но когда зашла речь о детях и внуках, снова протяжно всхлипнула:
— Тебе хорошо, твои рядом. А мои где? Когда еще Иринка отписывала, что плохо им там… в латышах этих. Раз русский, за людей не считают, неграми дразнят, работы не дают. А разве неграми я их на свет родила? Сама, поди, помнишь, какие светленькие да румяненькие были. У той же Иринки волосики, что твой лен… И у Колюшки тоже… Все в отца да в меня…
«Ох, зря я о детях и внуках вспомнила, — укорила себя Груня. — Для нее это самый тяжелый разговор. Сколько лет уже как отрезаны границами новыми: ни она — туда, ни они — сюда. Каково-то от этого матери? Да в таких годах. С кем словом перемолвиться, с кем печали и беды старости разделить? Кто глаза закроет, когда последний час придет?..»
— Ну, ничего, кума, ничего, перемелется и это, — обняла Груня подругу. — Вот сейчас чаю поставлю, посидим, почаевничаем, подумаем. И знаешь, что сейчас тебе надо сделать? Письма им написать. И Иринке в Латвию, и Коляне на Украину. Пусть бросают все, что там у них есть, и ворочаются домой. Хорошие им письма напиши, ласковые, будто с ними глаза в глаза говоришь. Не может быть, чтобы дети не услышали материнского сердца. Приедут, авось.
— Это ты хорошо… глаза в глаза… — просветлела Фаина. — Только я так не сумею… И писать совсем не горазда. Вот кабы ты, Филипповна, а?
— А что? Вот возьму и напишу. Только ты мне адреса их дай. Непременно напишу. А еще лучше — вместе, правда?
Потом они сидели за столом, аппетитно отхлебывали из блюдечек настоянный на мятном листе чай, макали в него хрустящие домашние сухарики и говорили, говорили. О хорошей погоде, о каком-никаком урожае на полях, что теперь спешно убирали калиновские мужики, об обещанной овсяной соломе, которую все никак не соберутся привезти, о предстоящей копке картошки, которая с каждым годом дается им все труднее и труднее.
Проводив гостью, баба Груня уже не вернулась в постель, а принялась хлопотать у печи, соображая, чем бы вкусным угостить долгожданных внуков. Но дрова давно кончились, а что еще остались, требовалось сначала расколоть, да разве под силу они ей — такие сучкастые да комлистые? Тут и справному мужику пыхтеть и пыхтеть, не то что ей, старухе. И хлеб тоже кончился, одни сухие обрезки остались. Но зато молочко есть, яблоки, яичек полная миска, лучок. Картоху, правда, еще накопать надо, но это немного, с ведерко всего. А она вона где, под самым окном, считай, своя, не покупная. Такая аккуратненькая и гладенькая, сама в ладонь ложится, чистить такую — одно удовольствие. А вкусная — что тебе отварная, что в мундире, что на сковородке с лучком — ешь, не наешься!
Подхватив ведерко, она вышла во двор, выкопала несколько кустов и заторопилась обратно. На крыльце задержалась, кинула взгляд в сторону Щучьего озера — не идут ли внуки, но, ничего не разглядев, вернулась в дом.
— Вот и хорошо, в самый раз успею. Придут Виталик с Ленчиком, а у меня уже и обед на столе: угощайтесь, гости дорогие, целый год вас ждала!
4
Виталик с Ленчиком жили в городе.
Небольшой зеленый городок стоял возле железной дороги — со станцией, каким-то ремонтным заводом, мельницами. Ну и с магазинами, школами, больницей — само собой.
В прежние годы, когда сил было побольше, баба Груня частенько наезжала туда проведать дочь Катерину и внуков. В других городах бывать ей не доводилось, какие они, она не знала, а этот ей понравился. Вот все говорят, мол, город — это чад, толчея, бетон, грубость. Да какой там чад, если один завод на всю округу, а паровозы давно заменены электричками! Бетон? Так разве это плохо? В любую погоду идешь по нему, родимому, и даже ног не загрязнишь. Да не в резиновых сапожищах, как в деревне, а в туфельках, в туфельках! Толчея, конечно, имеется, но в основном на базаре. Тут уж что правда, то правда. Но базар-то больше всего Груне и нравился! Чего только там не увидишь, чего не услышишь! И земляков, выходцев из недалекой Калиновки, встретишь, и наговоришься с ними досыта, и купишь что требуется, и свое продашь.
Что до грубости, так где же ее, проклятой, нет? Всякие люди живут на земле. Вон даже по телевизору что ни день — сплошное смертоубийство, драки и кровь. А в Катеринином городе такого нет. Там даже суд есть и несколько милиционеров. Один возле дома главных начальников, другой на площади, третий на железнодорожной станции, сама видала. Да!
Виталик из ее внуков был старшим. Летом окончил какой-то мудреный институт, взрослый уже. В детстве, когда все частенько наезжали в Калиновку погостевать, не оторвать его было от Тимофеевой подзорной трубы. Тот привез ее из Германии после войны, сам с любопытством поглядывал через нее на луну и звезды, а когда недосуг стало, закинул куда-то на чердак. Там ее Виталик и раскопал среди старого хлама, за что мальчишки и прозвали его звездочетом.
Ленчик был помоложе, в этом году только школу окончил, а вот что дальше — баба Груня не знала. Может, еще учиться будет, может, работать где притулится. Хотя какой с него работник в семнадцать лет? Нынешняя молодежь спеет поздно, все бы ей на танцульках трястись да на гитарах бренчать. На что Ленчик парень серьезный, по словам Катерины, книгочей неотрывный, да ведь все равно не пошлешь мешки грузить, землю пахать, как им приходилось. И силенок-то, поди, еще нет никаких, даром что отца родного переросли. Ну, разве не дети: увидели озеро — и уж оторваться не могут. Рыбку им изловить, видите ли, любопытно. Забыли, зачем посланы, для чего ехали, ну, разве не дети? А коли так, какой с них, само собой, спрос?
Любила баба Груня своих внуков. Любила и баловала, когда было можно, когда не в урон делу шло. А нет — так откуда только строгость бралась, требовала с мальцов, как когда-то с баб в своей бригаде. И ведь не обижались, слушались, будто чуяли — напускное это, не от сердца. И сами тянулись к ней. Особенно после того, как не стало деда Тимофея.
Были у нее еще внуки, от сына Андрея, вот только видела их редко. Как уехал на шахту и женился там, так только два раза и показался. В первый раз — женой похвастать, во второй — детьми, еще малышами тогда. И все. Открытки шлют, а чтобы сами — нет и нет. Понятное дело, семья, успокаивала она себя, ко всему и даль такая. И все равно тосковала. А потом как-то привыкла и только мысленно представляла, какими стали ее далекие внуки в этом году, на сколько подросли за лето. Теперь же и представить уже не могла, должно быть, большими стали, если старший в армии отслужил, а внучка какие-то курсы кончает. Может, и наведаются еще когда. Все вместе. Она подождет…
Что и говорить, любила баба Груня своих городских внуков. Так любила и пеклась, что ни одной хворобы их не пропускала, ни одного дня рождения не забывала, а уж если принимала, то на целое лето — до нового школьного звонка…
Занятая обедом и греющими душу воспоминаниями, она так увлеклась, что забыла и о сердечном недомогании, и о времени. А гости тут и заявились.
— Здравствуй, баба Груня! А мы вот с рыбой… Стоят на пороге — счастливые, глазастые, от радости рот до ушей.
— Сейчас тебе уху приготовим. Из щук…
Посмотрела она на них, хотела строго выговорить за пустую трату времени, но не смогла. Попыталась, как раньше, обнять да расцеловать своих ненаглядных, но опять же не получилось, — такими молодцами вымахали, на две головы выше ее. Осталось лишь похлопать по спинам да смахнуть с ресниц набежавшую от радости слезу.
— Это хорошо, что приехали, праздник мне привезли. А уху мы уж вечером сотворим, сейчас у меня и так обед поспел. А ну — руки мыть!
За обедом, наблюдая, с каким удовольствием уплетают внуки ее картошку, поджаренную вместе с яичницей, как быстро исчезают с тарелки пахнущие укропом и чесноком соленые огурчики, баба Груня тихо радовалась долгожданным гостям. Заодно выспрашивала о домашних делах, о работе зятя Аркадия и здоровье дочери. С удивлением узнала, что та недавно оформилась на пенсию, поохала: надо же, как быстро летит время, вот уже и ее Катерина пенсионерка, тоже к старости подошла. Хотя сама она в свои пятьдесят пять была еще ого-го какой молодой да прыткой! И уж совсем не считала себя старухой.
В разгар обеда забежала соседская Ленка. Еще из прихожей радостно сообщила:
— А я тебе кардиаминчика твоего любимого принесла! — Вбежав в горницу, споткнулась глазами о приезжих и осеклась. — А ты уже на ногах… А у тебя… твои городские… — Усадила за стол и ее. Наложила полную тарелку и принялась нахваливать внукам:
— Вот кому я тоже всегда рада. И фершалка моя, когда приболею, и подружка сердечная, когда поговорить надо. Ну что бы я без нее тут одна делала? Как бы жила?
Та пыталась отнекиваться, смущалась перед городскими парнями, но баба Груня знала что говорила.
— Ну-ну, нечего запираться да краснеть, не у чужих. Скажи еще что и уколов не делаешь, и банок не ставишь? А вот лекарство принесла. Мужики не смогли найти, а ты смогла. Огонь-девка!
Ленка засмущалась еще больше.
— Зря ты это, баба Груня… Мужики, сама знаешь, на страде. А я по пути в школу по селу пробегла. Трудно мне, что ли?
— И у кого одолжила?
— У бабы Фроси. У нее еще есть. А баба Вера обещала проведать, зайдет.
— Ну вот, — проворчала баба Груня, — людей взбулгачила, как будто уж в лежку лежу. Нынче у всех своих забот полон рот.
— Что, совсем отпустило?
— Отпустило, касатка моя. Только печет еще. Однако и это пройдет. Как всегда…
После обеда внуки решили взяться за уборку картофеля. Ленка с восторгом присоединилась к ребятам.
— Вот молодцы! А то наша баба Груня совсем занемогла. И я с вами, ладно?
— Да отдохнули бы хоть немного, — отмахнулась было баба Груня, в то же время радуясь неожиданной помощи. — А тебе, егоза, уроки, небось, делать надо, а то еще двойку схлопочешь. Стыдно, поди, будет — в последнем классе-то.
— Это я — двойку? Ну, сказала тоже! Да и воскресенье завтра… Ну, гости дорогие, за мной!
— Ишь, командирша сыскалась, — улыбнулась баба Груня, продолжая для вида ворчать на непоседливую девку. — Ты бы хоть домой сначала зашла, показалась.
— Некому показываться: папка на работе, зерно от комбайна возит. А вот переодеться не мешает. Я быстро.
На пороге обернулась.
— А вы, мужики, копайте. Я собирать приду. И чтоб без перекуров мне!
— Видали? — засмеялась баба Груня, когда та убежала. — Командирша и есть. Выходит, не отвертеться вам, милые. Выбирайте в сарае лопаты и с богом. Погода стоит баская, глядишь, и труд в радость будет. Пойдем, покажу.
— Да мы сами знаем, — поднялся старший, Виталий. — А тебе бы лекарства выпить да прилечь. Вон девчонка принесла. Накапать?
— Сама накапаю, мне и в самом деле легче. А вот утром было действительно тяжко. Только и мир ведь не без добрых людей.
— Все равно, полежи, — настаивал внук.
— Да я ведь только за порог. Посижу на лавочке, на вас погляжу, как вы работаете. Никогда не сидела, а нынче, так и быть, посижу, погляжу.
Она сводила их в сарай, вручила каждому по лопате и присела на широкую лавку рядом с крыльцом.
Картофельные гряды начинались тут же, и внуки принялись за дело. Виталий, для кого оно было не в новинку, работал споро, аккуратно, чтобы не порезать клубни, подступаясь к каждому кусту и затем широко рассыпая перед собой выкопанное, отчего каждая картофелина оказывалась наверху.
Ленчик тоже старался, но братневой сноровки у него еще не было. И картошка у него перемешивалась с землей, и клубни нет-нет да попадались под острие лопаты, а то и закатывались обратно в ямку, будто норовя вернуться опять в свой земляной дом.
Это немедленно заметила прибежавшая Ленка и решительно пресекла.
— Леня, ну кто так копает! Баба Груня столько трудов положила, а ты только портишь. И вообще зря вы отсюда начали. Надо с середки, с самого солнечного места, где мы сделаем круг и будем сушить картошку. А ну, за мной!..
На новом месте, переняв у Ленчика лопату, Ленка сама принялась копать, показывая и объясняя парню нехитрые секреты этой крестьянской работы. Ленчик смущался, то и дело порывался взяться сам, но девушка все показывала, объясняла, наставляла, пока у того не кончилось терпение и он не отнял лопату силой. Дурашливо борясь, они весело что-то кричали и смеялись, пока разом не повалились на мягкую чистую грядку.
Глядела на них, молодых, болезная баба Груня и млела, таяла от счастья. Внуки пришли! Да такие ладные, хорошие, здоровые. И Ленка-егоза с ними. И смех их, озорные шутки да перебранки так ласкают слух, что в горле что-то щемит от радости и слезы туманят глаза. Давно не было такого в ее огороде. Как дети разъехались, так все делала сама с Тимофеем, а потом и совсем одна. Тяжко это для одной, но знаешь — надо, работа на то и работа, чтоб хребет трещал. Ан, оказывается, можно и так: с шутками, смехом, с радостью. Не работа — праздник!..
А там, в середине огорода, опять слышится строгий Ленкин голос:
— Ну кто так копает! Или я не показывала? В первом ряду получились ямки — так присыпь их. Да проверь сначала, не прячутся ли там еще картошины. Это они любят. Вот смотри…
И опять — возня, смех, наставления.
К Виталию Ленка близко не подступается — старший, уже вуз кончил, взрослый мужчина. Ленчик же почти ровесник, да и в прежние приезды они неделями бывали вместе, пропадая то на озере, то на ягодных полянах. Им эта возня и перепалка не впервой.
Любовалась баба Груня молодыми, грелась на теплом солнышке бабьего лета, и так ей хорошо было, так хорошо, что словами не сказать. Пришедшая проведать ее Верка Петухова, теперь для всех просто баба Вера, удивилась:
— А мне сказывали — лежмя лежишь, едва не отходишь. А ты, погляжу, на ногах.
— С ними полежишь, — приобняла товарку Груня, — мертвого из гроба подымут. Ты только погляди на них. Неужели и мы когда-то такими были? Когда?
— Да, Филипповна, «где мои семнадцать лет, где моя тужурочка»?.. Были, надо думать. Только не такими. Другими были.
— Это какими другими? Хуже, что ли?
— Не хуже… Какую войну на себе вынесли, не сломались. А что могут эти-то? Под гитары орать да задницами вертеть? Это у них называется — танцевать. Недавно про какое-то племя один наш путешественник по телевизору рассказывал. Тоже орут и вокруг костра дергаются, показывали. Так это у них, оказывается, совсем даже не танцы, а как бы общая молитва перед ихими богами. У них, неграмотных, их много. А те любят, когда у них вот так что-то вымаливают. Бо-оги, понимаешь! А у наших в головах что? Какие боги, если даже одного, Спасителя свово, не знают!
— Ну, Верка, обо всех ты так не говори, — резко прервала ее Груня. — Мои не такие, хотя, может, тоже красиво танцевать не умеют. Зато умные, честные, порядочные.
— О своих суди сама, может, и так. Может, еще у кого есть сколько-то, но в общем — бурьян растет. Бу-урь-ян!
— Ну, разве в общем, — согласилась Груня. — В общем, может… Поломалась жизнь у всех, а в первую очередь у молодых. Может, оттого и орут, оттого и бесятся, что ни во что не верят, ничего хорошего не знают и не ждут. Страшно им в эту жизнь идти, страшно. А когда человеку страшно, он завсегда кричит. Вот ты когда-нибудь в лесу блукала?
— В наших лесах не заблукаешь. А вот тонуть тонула. В Щучьем. Так испугалась, что возьми и заори. Это под водой-то. Еле откачали потом.
— Это когда ж ты там оказалась, милая? Чать, нам всегда не до купаньев было. Хоть и рядом.
— Оказалась вот… Когда с капустной плантации шли. Так устала, что уже не до бани было, вот и завернула с бабами помыться.
— А я где же была?
— А ты, бригадирша, как всегда домой побегла. Ребятишков кормить.
— Так это уже после войны, что ли?
— Конечно, после. Как раз в то лето Анфиска Овинова померла.
— А я что-то и не припомню такого с тобой…
— Тебе тогда не до меня было. Тимофеев подарочек вынянчивала, Катеринку.
— А потом и ты свой подарочек нашла. Тоже от Тимофея моего.
— Может, и так, чего теперь судить да рядить. У нас тогда у всех подарочки такие были. У кого от Тимофея твово, у кого от Фролки Ямщикова, царствие им небесное. Кабы не они, кого бы ты сейчас в Калиновке видела?
— Вам-то хорошо, а каково нам с Фаиной было?
— Знаю, Филипповна, знаю. Святой ты для нас человек.
— Да и у меня зла на вас нет. Главное — жизнь дальше пошла.
— Пошла и дошла. Сейчас редко какая баба детьми обзаводится, хоть и с мужиком живет. Сломался народ наш, как и в войну не ломался. Беда!
— Беда. Когда женщина не хочет стать матерью, это уж беда точно…
5
Верка ушла, а баба Груня еще долго додумывала их короткий невеселый разговор. Да, теперь ни на кого не осталось в ее сердце зла, — то ли простила, то ли по-настоящему поняла. И Тимофея с Фролом поняла. Не такими уж были они бабниками неисправимыми, любили своих жен, детишек, сил не жалели для них. Помнится, мать, что еще жива тогда была, часто говорила ей: «Терпи, дочь, терпи. И считай себя счастливой — у тебя муж есть, у твоих детей отец есть и будет. А что у других? Чем они виноваты? Им бы хоть дитем обзавестись, да его на базаре не купишь. Так что перетерпи, дочь, скоро все уладится, увидишь…»
Мать помогала ей во всем — и детей поднимать, и душу усмирять. Ту же Катеринку выходила больше мать, чем она. А ведь совсем чужая была. Такой «подарочек» Тимофея: когда Анфиска померла (малютке, поди, и месяца не было), сам принес в кулечке и честно сказал, что его это дочь. На колени пал, просил принять, не дать сгинуть. Каково это было слышать ей? Но мать приняла. А потом свыклась со своей судьбой и она. Да так, что как родная, самой рожденная стала. Вырастила, в люди вывела. Теперь вот ее дети стали ее внуками, и дороже людей для нее в целом свете нет. Хотя есть и свои, единокровные.
Эх, жизнь, жизнь! Вот ведь какою порой она бывает! Такое закрутит, такими узлами стянет, что и не распутать, не развязать потом. Говорят: не делай добра, не будет тебе и зла, — только так ли это? На ее добро ответили добром. Да таким большим и светлым, на какое и не рассчитывала.
Права была мать: действительно, со временем все успокоилось, утряслось; обзаведясь малышами, бабы угомонились, мужики, словно исполнив свой долг, зажили спокойно и домовито, будто ничего и не было. Зато в деревенских избах опять стал слышен детский смех и гомон. В небольшом пристрое к школе открыли ясли. Потом эта детвора пополнила изрядно поредевшие первые классы. А там все пошло своим ходом, как и должно быть. Не прервалась ниточка жизни, окрепла, пошла виться дальше. Радовались матери, радовались учителя, расцвела улыбками и молодыми голосами поднявшаяся из лихолетья Калиновка. Глядя на все это, отходила душой и Груня.
Прошло-пролетело еще какое-то время — и запели, зашумели по деревне свадьбы. На многих погуляли и они с Тимофеем. О прошлом никто не вспоминал, никто никого не корил, наоборот, люди еще больше сблизились, сроднились. И не общей бедой, как в годы войны, а общей радостью, общей породненностью, оставшейся в памяти и крови.
Нелегко жила деревня и в послевоенные десятилетия. Власти тянули из нее все соки, выхватывали самых сильных и здоровых — на лесозаготовки, на шахты, стройки и заводы. Кабы не это, какой многолюдной и шумной была бы теперь та же Калиновка! И опять притихла деревня, примолкла, на глазах состарилась. Кто теперь вольет в нее свежую кровь? Кто укрепит истончившуюся ниточку жизни? Тимофеевы да Фролкины «подарочки» сами уж сединой покрылись, хоть пока еще держат на своих плечах матицу общей крыши. А что после них? Заново старух рожать не заставишь, молодых из городов не воротишь. Куда же все идет?
Хорошо — то радостно, то печально — думалось бабе Груне на своей лавочке. Очнулась она от своих дум, лишь когда солнце зашло за вершину росшей у калитки ветлы и та бросила на нее свою тень. От нее сразу стало зябко. Баба Груня поднялась, накинула на себя лежавший тут же ватник и, согреваясь, кинула взгляд на огород: где там ее копальщики-помощники, что-то не слышно их совсем. А те уже были на дальнем конце огорода, у самой межи. Там, где они прошли, осталась широкая полоса свежевзрытой земли, кучки аккуратно сложенной бурой ботвы, а в середине — большой розовый круг: это просыхала и проветривалась снесенная сюда картошка.
Достигнув межи, копальщики подхватили свои лопаты, вернулись к началу нового загона, но прежде чем приступить, присели передохнуть рядом с бабой Груней. Та не удержалась от похвалы, но тут же и поругала:
— Чего как с цепи сорвались? В работу надо входить спокойно, без спешки, не рвать жилы наскоком, а то их так ненадолго хватит.
И тут же смилостивилась:
— Может, на сегодня хватит? Вон у Ленчика уже и мозоль вскочила, больно, поди, с непривычки. Завтра еще, может, покопаете, а?
— Это что еще за такие капитулянтские разговора, баб Грунь? — подскочила Ленка. — Только-только научила их делу, а уже и хватит? Нет, я не согласна. Пока половину не уберем, никого не отпущу. А пока пять минут перекур, так и быть, разрешаю.
— Ну, командирша, ну, командирша! — одобряя, засмеялась баба Груня. — Тебе бы мальчишкой родиться — в армию бы пошла.
— Я родилась, когда все за мир были. А когда все за мир, рождаются в основном девочки.
— А теперь то тут война, то там, — улыбнулся Виталий. — Ошиблась, выходит, природа?
— Ничего не ошиблась. Я и на войне не пропаду. Меня не придется за ручку, как из детсада, с войны домой уводить. Сколько вон матерей в ту же Чечню ездили своих мальчишек забирать. Жуткое дело: идет война, а они — «Пойдем, Ваня, домой, тут стреляют». Они своих — домой, на печку, а другие пусть пропадают! За моим дедушкой никто на фронт не бегал, зато до Берлина дошел и победил. А вы?
— Ну, нас там не было, — глядя на распалившуюся девчонку, опять улыбнулся Виталий, — в Чечне этой. Так уж, извини, получилось. Так что критика не по адресу.
— И вообще, заливаешь ты все, Ленк, — поддержал брата Ленчик. — Нормально ребята наши воевали, и если бы не политики… — И вдруг резко повернул, должно быть, вслед мелькнувшей мысли: — А политики тоже к миру рождаются? Или к войне?
Ленка знала все.
— Хорошие политики — к миру, плохие — к войне. А сейчас у нас, похоже, совсем политиков нет, одни… сморчки. Природа их совсем для другого на свет выпустила, а они возомнили о себе черт знает что. Кабы не они…
— Вот и я говорю: кабы не они…
— Ну, хватит, мудрецы, перекур наш кончился, — поднялся Виталий. — Наша война еще не завершена, подъем!
Ленка вскочила, как с пружины сорвалась, ее никакая усталость не брала. Зато Ленчик поднялся с натугой, по-стариковски опираясь на черен лопаты и поглаживая поясницу.
— Если очень устал, — сказал ему Виталий, — собирай с Леной, а я покопаю один. Урожай хороший, одной ей тяжело.
Ленчик поглядел на Ленку, на лопату, на огород и, ничего не сказав, начал новый загон. Одобряя его решение, Ленка суетилась и щебетала вокруг него, радуясь, что он выстоял, не дал себе расслабиться, не позволил увести себя за ручку с передовой, как некоторые. Виталий копал рядом, сосредоточенный, молчаливый, позволяя себе лишь изредка бросать взрослые взгляды на гомонивших рядом. У него, по всему, были свои заботы, посерьезнее их детских фантазий. Он давно уже вырос из них.
Баба Груня опять глядела на молодых и молча любовалась ими. Вспомнились как бы нечаянно брошенные Ленкой слова: «За моим дедушкой никто на фронт не бегал». Это о ком же она так? О Тимофее, выходит. Знает егоза, все знает! А знает ли, что с Виталием и Ленчиком они — родная кровь? По тому же деду. Может, и не знает, а душа чует, оттого и льнет к ним, как к родным. С Ленчиком спорит, шумит, а на Виталия лишь тайно поглядывает. Чем-то он интересен ей. Девчонки почему-то всегда интересуются теми, кто постарше. Ох, девка, не торопи время, оно придет в свой срок, еще и не рада будешь!
Солнце все заметнее клонилось к западу. Баба Груня подумала об ужине и вспомнила об обещанной ухе. С трудом передвигая слабые после утреннего приступа ноги, поднялась в дом и загремела посудой. Когда все для ухи было готово, опять пожалела, что нет дров и варить придется на электрической плите. А это уже не то, без дровяного дымка и печного томления что за уха? Рыбный суп — это так, но чтобы уха… Кто едал настоящую, тот различит сразу.
Те, для кого эта уха готовилась, настоящей не едали, поэтому приняли ее с шумным восторгом и похвалами. Забежавший на минутку с флакончиками кардиамина Сергунька Черный, совсем не черный, а скорее белобрысый от обметавшей его седины, рослый, долголицый, с Тимофеевой ямочкой на подбородке мужчина, тоже оказался за столом. Уж он-то повидал на своем веку всякую уху, но все равно хвалил, ел шумно, торопясь, потому что его ждали в поле.
Уже на пороге баба Груня ухватила его за рукав:
— Задержись, Сергей, рассчитаться за лекарство надо. И спасибо тебе пребольшое за заботу, теперь у меня надолго запас будет.
— Пей, Аграфена Филипповна, да не болей больше.
— Буду пить, милок, буду, а теперь рассчитаться бы…
— На том свете угольками рассчитаемся, — отмахнулся тот.
— Угольки в аду, а нам он не грозит: не так уж велики грехи наши!
— Тогда яблочками райскими, сладкими… Живи, однако. Туда мы еще успеем, — и побежал, как малец какой, к своей машине, что дожидалась его у ворот.
— Вот ведь неугомон какой, — проговорила ему вслед баба Груня, а сама подумала: «И этот лицом весь в Тимофея. Как тот же Гриша Загузин или Алеша Ходоков. Родня… Все мы тут родня… Родные люди… Свои…»
После ужина уселись во дворе на лавке освежиться перед сном и похрустеть снятыми с «антоновок» яблоками. Солнце закатилось, оставив на западе холодную алую полосу.
— Это к ветру, — опасливо сказала баба Груня, вышедшая на воздух вместе с молодыми. — Как бы погода не переменилась. Этак-то бывает, замечено.
— Может, тогда картошку под крышу убрать? — живо отозвался Виталий. — Чтобы не замочило. На ночь.
— Да нет, дождя не будет, закат ясный. Но ветрено станет.
— Это хорошо, что с ветерком, — обрадовался Ленчик. — А то уж больно тепло нынче было, упарился весь.
— Это с непривычки, — пояснила Ленка. Она знала все. — А с ветерком действительно лучше: все, как живое, колышется, и блестящие паутинки летят, и журавушки в небе… Красота!
Виталий отошел в сторонку и закурил. Ленка с бабой Груней переглянулись — взрослый, ему не укажешь. А тот прошелся по двору, оглядел сделанную за полдня работу и долго, запрокинув голову, глядел в небо.
— Виталик, ступай к нам. Чего ты там увидел? — позвала его баба Груня. — Давай хоть немного вместе посидим, когда еще придется.
— Звезды зажигаются, — как-то значительно сказал Виталий, возвращаясь на лавку. — Люблю небо…
— Звезды? Уже? — встрепенулась Ленка. — Ох ты! А у меня корова не доена, ужин отцу не сготовлен… Бегу, бегу, бегу!
— Стой, девка, — ухватила ее за куртку баба Груня. — На ужин Григорию возьми ухи. Отлей в кастрюльку, как придет, согреешь. А корову подои, я свою еще до ужина подоила.
— Спасибо, баба Груня!.. Я быстро, и опять приду… Только вы не ложитесь. Когда еще потом… Ага?
Она ушла, бережно унося завернутую в чистое полотенце кастрюльку и постоянно оглядываясь — не разошлись ли без нее? Но нет, все по-прежнему сидели, один Виталий взял вилы и пошел на вскопанную полосу.
— Все-таки укрою на ночь ботвой. К утру на почве может быть минус. На всякий случай…
Пока он занимался этим делом, вернулась Ленка. Прильнула к бабе Груне, задумчиво помолчала. Но долго молчать она не умела.
— Вот я все хочу вас спросить, — обратилась она к Виталию, — вы же в Москве учились, да? И кончили даже. И на кого вас там выучили?
— На кого? — переспросил тот и почему-то вздохнул. — Астрофизик я, Лена. Понятно?
— То, что физик, понятно. Это когда тела в холоде сжимаются, а в тепле расширяются? Объем, масса, инерция, электричество?
Виталий тихо рассмеялся.
— Вроде того… Все там есть: и объемы, и масса, и инерция…
— Ну ты, Ленк, чудишь! — хохотнул Ленчик. — Тебе про астрофизику, а ты о чем? Ты хоть науку такую знаешь?
Нет, не все, оказывается, знала и Ленка.
— Слышала… Вот астрономию мы проходили…
— Астрофизика и есть один из разделов астрономии, — кивнул Виталий. — На основе законов физики она изучает внутреннее строение небесных тел, химический состав и физические свойства атмосфер звезд и планет, источники звездной и солнечной энергии, межзвездную и межпланетную среду галактик… и много чего еще. Вон она, Вселенная, какая. — Он запрокинул голову, и вслед за ним все посмотрели в небо. — Прекрасная. Бесконечная. И бесконечно интересная… правда?
Все, не отрываясь, долго смотрели на проступившие в небе звезды.
— Вселенная… галактики… — медленно выговаривала Ленка. — А зачем это вам? Чтоб в космос лететь, что ли? Или в школе астрономию преподавать?
— Нет, не летать… — смутился Виталий. — Летают другие. Вернее — только-только начали летать… Но что такое Земля или Луна во Вселенной? Песчинки, хотя тоже интересно. А впереди — все, весь этот видимый и не видимый простым глазом звездный мир. И его нужно знать, прежде чем лететь. Большая это наука, сложная, точная…
— И вы все это знаете… внутреннее строение, состав, свойства?
— На уровне сегодняшних знаний. У нас были отличные профессора. Практику проходили в лучших обсерваториях и космических институтах. Интересно было, хоть снова на первый курс поступай.
— Представляю… Небось и космонавтов видели?
— Приходилось… Но мы были всего лишь студентами… Зато с большими учеными занимались не только теорией. Вот это головы, скажу я вам! У одного такого я готовил свой дипломный проект. О новых методах исчисления масс небесных тел… По своей дурости заново пересчитал массу нашей Солнечной системы. Почти совпало. Что подтверждает гипотезу об образовании ее планет из выбросов молодого Солнца.
— Молодого? — удивилась Ленка. — А теперь оно старое?
— Еще не старое. Где-то на середине.
— А что там, за серединой?
— Как что? Как у всего, имеющего начало и конец…
Потом молодые поднялись, стали ходить вокруг дома, рассматривать совсем уже черное ночное небо. Баба Груня осталась на лавке, издали слушая их разговор и тоже неотрывно глядя в небо. Из того, что говорил Виталий, она, можно сказать, ничего не поняла, зато неожиданно сделала открытие в себе самой. Оказывается, до сего вечера, до сего часа за всю свою долгую жизнь она ни разу, никогда не смотрела вот так на эти звезды. Вся жизнь ее прошла в трудах, в копании в земле, в каких-то бесконечных делах, не оставляя ни единой праздной минуты. Если и появлялась такая минута, то не было ни большого желания, ни интереса: глаза уже привыкли смотреть вниз, под ноги — на малых детей, которых нужно накормить, одеть, обуть, на землю, которую надо вовремя взрыхлить, засеять, полить, на навозную кучу, которая ждет, когда ее вывезут из сарая в огород, на немытые полы, которые нужно помыть, на дорогу, об ухабы которой запросто можно споткнуться…
Сама жизнь приучила ее смотреть вниз, в лучшем случае прямо перед собой, а о том, что есть еще и небо, и звездные чудеса в нем, даже не думалось, будто их нет вовсе. Впрочем, это не совсем так, поправила она себя, то, что небо есть, она, конечно, знала всегда, и этого знания ей было довольно. Вот, вот, — знала, ну и ладно. Бог создал, бог разберется. А что там да как — ни-ни!
А ведь совсем недавно говорила, что хорошую жизнь прожила! Да какая же она хорошая, если так приземлила, так подмяла, обескрылила, что глаз к небу поднять недосуг было? За все-то ох какие немалые годы!..
6
А ночью бабе Груне не спалось. Растревоженная душа металась, радовалась и печалилась, гоня сон. Когда стало совсем невмоготу, поднялась, оделась потеплее и тихо, чтобы не разбудить внуков, вышла в ночной двор.
Луна еще не взошла, и ночь была до того темная, что стало жутковато. Зато небо полыхало, искрилось, переливалось такой массой звезд, что казалось, будто самого неба и нет, а есть лишь они — эти звезды; будто это и не небо вовсе, а огромное кострище, в котором только недавно прогорели сухие березовые дрова, превратившиеся в жаркие, мерцающие синеватыми всплесками угольки.
На какое-то время это сравнение показалось ей настолько реальным, почти очевидным, что она невольно пригнула голову и торопко засеменила под навес сарая, испугавшись, как бы эти жгучие уголья не обрушились на нее. Уже оттуда, из укрытия и через худую крышу навеса, стала смотреть опять, то и дело приговаривая:
— Боже милостивый, какая красота! Ну кто, кроме Господа, мог создать такое благолепие? Только он, только он!..
Со временем, привыкая к этому бесподобному чуду ночного неба, она стала примечать, что уголья в небе не горячие, а какие-то холодные, льдистые и в то же время будто живые. Они постоянно мерцали, то увеличиваясь, то уменьшаясь, и даже, кажется, двигались, не меняя при этом прежнего узора, искусно украсившего великий небесный купол от края и до края.
— Ах, лепота… ах, красота несказанная!.. Чудны и прекрасны дела твои, Господи!
Под навесом издавна стоял сколоченный еще Тимофеем топчан, на котором он любил полежать в жаркий день и где сушился убранный с грядок лук, чеснок, а то и связки трав вроде душицы и зверобоя. Теперь он был свободен, и она присела на него, жалея свои слабые ноги. Сидела, смотрела, умилялась бесконечной мудрости создателя этой красоты и удивлялась себе: как же могла она прожить жизнь с опущенной головой и всего этого не замечать? А другие все? Замечали ли они? Если замечали, то отчего молчали? Или тоже — как она: ну, есть там что-то и ладно?..
Иногда ей начинало мниться, что она первая открыла эту тайную красоту и что другие даже не подозревают о ней. А ведь нужно так немного, чтобы тоже узнать и приобщиться. Достаточно однажды пересилить в себе земные тяготы, открыть душу добру и оторвать глаза от грешной земли. Запрокинуть голову, закрыть глаза и потом опять открыть. И не пугаться, как сначала испугалась она. Просто смотреть и удивляться. Радоваться и смотреть…
Бедная баба Груня! Она и предположить не могла, что этой дивной и мудрой красотой не без пользы для себя люди во всех концах земли любуются уже многие тысячи лет. И не только любуются, но и изучают, дают звездам имена, наблюдают их пути, разгадывают их тайны. Древние народы, в том числе и ее давние предки славяне, обожествляли их, наделяя доброй и злой силой, вознося хвалу одним и задабривая жертвами других. Потому что в те времена небо и земля еще жили одной жизнью и чувствовали свое родство во Вселенной. Потому что человек той поры, как бы трудно ему ни приходилось в трудах его, был более свободен и открыт душой, с рождения чувствовал себя живой частицей этого великого мира. Сейчас почему-то не так. Что-то случилось то ли с человеком, то ли с небом. Но — что, почему?
Наивная баба Груня не задавалась этими вопросами. Она просто сидела и смотрела, смотрела и недоумевала, как это все могут в такой час спать, не подозревая, что творится над их головами, как сама она целую жизнь прожила, не поднимая глаз к небу.
Вспомнилось вдруг, как не однажды Тимофей, настроив свою трофейную трубу, звал ее посмотреть, а она все отнекивалась, отсмеивалась, отмахивалась, как от детской глупости или забавы.
Эта труба была единственным его трофеем, что привез он из побежденной Германии. Другие, слышно было, прихватывали кое-что посерьезнее — обувь, швейные машины, отрезы, а этот — мальчишечью игру! Вся деревня смеялась, и она тоже. И сколько ни зазывал он ее, как красочно ни расписывал будто бы увиденные им лунные горы, она не отступалась от своего — некогда, недосуг, брось чудить, не смеши народ.
Не встретив понимания и поддержки, он со временем тоже охладел к небесным чудесам, смирился с житейскими тяготами, сник душой. Да и как не сникнуть, если дел всегда невпроворот, с утра до ночи в работе, только бы успеть отмыться от тракторной грязи и не уснуть после ужина прямо за столом. При такой жизни уже не до баловства, не до ночных звезд. Ночью отсыпаться надо, а не в небо глядеть. Днем — другое дело: какая погода, не ожидается ли дождя, а если уж и дождь, то скоро ли кончится. Да и небо днем совсем-совсем не то.
Однажды, правда, Тимофей опять как-то настроил свою трубу. Тогда как раз спутники стали запускать — то с собаками, то с другой какой живностью, словом, шуму было много. Вот и не утерпел. Сам смотрел, детям-школьникам показывал, на том все и кончилось. И кто бы мог подумать, что через много лет попадется она на глаза внуку. Уж Виталий не расставался с ней до самого отъезда в Москву. И тут в летние свои каникулы, и в городе. И вон что из этого вышло — ученым человеком стал. Небо ему — что деду поле родное. Только бы не грешно было: небо как-никак.
От долгого глядения на звезды глаза бабы Груни притомились и подернулись слезой. Голова закружилась, точно ее опоили сладким вином, к тому же стало по-осеннему зябко. Пришлось вернуться в дом и лечь. Но и в постели сквозь закрытые глаза она еще долго ощущала льющийся сверху нерукотворный свет. В этом свете и задремала, и снились ей в эту ночь непривычно добрые, светлые сны.
7
Едва баба Груня подоила и выпроводила со двора буренку, явилась соседская Ленка.
— Ну, управилась, баб Грунь?
— Успела чуть. Уж очень хорошо спалось нынче. Ну прямо как в молодые годы.
— А я так совсем не ложилась.
— И чего не спалось? — встревожилась баба Груня. — Перетрудилась не то?
— Нет, не хотелось что-то…
— Или во дворе до утра просидела? Звездочками любовалась?
— А ты откуда знаешь?
— Так ведь тоже сидела, старая! Чуть зорьку не проспала!
Переглянувшись, они весело посмеялись над собой, похожие со стороны на закадычных подружек-одноклассниц, обменявшихся своими сокровенными тайнами.
— Ну, иди, поспи малость, рано ведь, — принялась выпроваживать гостью хозяйка. — Отца на работу проводи и ложись.
— Отца я уже проводила. Я лучше с тобой посижу, а?
— Тогда пойдем чай пить. С баранками городскими.
— Внуки привезли, что ли?
— Внуки… И хлебов мне привезли на неделю, и карамелек. А вот о соли не догадались, считай, вся вышла.
— Соль — белая смерть, баб Грунь, — авторитетно заявила Ленка. — Обойдемся.
— А сахар?
— И сахар — белая смерть. Только сладкая.
— Да ну тебя, балаболка! Как же тогда чай пить будем?
— Так с карамельками же…
И они пили чай. С хрустящими баранками и тягучими карамельками, заправляя парным молоком. Подливая и подливая в круглые фаянсовые чашки ядреного мятного чая.
— Баб Грунь, — смахнув со лба первый пот, озабоченно спросила Ленка, — а ты веришь, что наше Солнце и в самом деле когда-нибудь погаснет?
Та аж поперхнулась от такого вопроса.
— Окстись, девка! Чего несешь непотребное? О чем говоришь?
— Это Виталий вчера говорил.
— А хоть и Виталий. Он ведь не Бог, чтобы такое знать. Такое знать никто не может.
Баба Груня так разволновалась, что расплескала чай себе на колени. Пришлось менять передник.
— Ой, баб Грунь, и отсталые же мы с тобой люди! Мы, конечно, не знаем, а наука знает. Она все подсчитала. На миллионы лет вперед.
В связи с бушевавшей в стране инфляцией миллионы и миллиарды перестали даже для простых граждан быть какими-то запредельными понятиями. Теперь почти у всех появились миллионы: раз есть дом или корова — миллионер! А уж если… — то и миллиардер, поди. Поэтому баба Груня не придала большого значения подсчитанным наукой миллионам лет и искренне возмутилась:
— Что это еще за такая за наука глупая! Как же мы тогда в темноте жить будем? Не вечно же спать, когда-то ведь и работать надо?
Теперь пришла очередь поперхнуться Ленке. Ох и смеялась же она! Так смеялась, так хохотала, егоза, что аж гостей разбудила.
— Что это у вас? — заглянул на кухню Виталий. — Не то цирк приехал?
— Вот именно — цирк! — никак не могла уняться Ленка. — Такой цирк, какого и в Москве не бывает!
Глядя на соседку, улыбнулась и баба Груня. Но тут же и рассердилась:
— И чего раскатилась-то, чего? Такие страсти говоришь, до смеху ли? Да с раннего утра еще…
— Это какие еще страсти? — заинтересовался Виталий. — Не секрет?
— Не секрет, — все еще похохатывая стала объяснять Ленка. — Это мы с бабой Груней про ваше молодое и старое Солнце вспомнили. Очень не хочет баба Груня в темноте жить. Как же ей в темноте корову доить, полы мести. Это ж надо, а!
— Ну, нашли о чем… — отмахнулся тот и пошел на улицу умываться. Вернувшись, он тоже сел за стол, попросил себе чаю. По-хозяйски осведомился:
— А заморозка ночью не было? В бочке, смотрю, ледка нет, обошлось пока?
— Обошлось, — пододвигая к нему чашку, сказала баба Груня. — Ночь хотя и холодная была, а до этого не дошло. Бабье лето ведь.
— Вот и хорошо. Сейчас копать пойдем. А после обеда ссыпем в подпол. Хорошая картошка в это лето уродилась.
— Много солнца было, много света, — тянула к своему Ленка. — Вот когда Солнце остынет, такой уже не будет.
Сама вроде бы тоже чай пьет, а глаза так и бегают. А в них бесенята бесятся.
— Да ладно уж тебе, — цыкнула на нее баба Груня. — Не о пустом ведь деле речь. Да и грех этак-то за столом.
Ленке, по всему, очень хотелось потешиться, но Виталий не дал втянуть себя в эту игру.
— И верно, дело не пустое. Хотя процесс этот не быстрый, миллиарды лет займет. Так что будем жить без паники.
И, заглянув в горницу, весело прокричал:
— Эй, Леонид Аркадьевич, подъем! Нас лопаты заждались. Поднимайся и догоняй меня.
Торопливо допив свой чай, Виталий пошел на огород.
Ленчик тоже проснулся, но поднимался долго и трудно, видно, после вчерашней копки с непривычки болело все тело. Баба Груня, жалея парня, не торопила его, уговаривала полежать еще, ведь для нее он по-прежнему оставался «младшеньким», почти ребенком. Зато Ленка была неумолима.
— Вставай, вставай, труженик, это от долгого лежания бока у тебя болят. Вот сделаешь зарядку на грядке — все как рукой снимет!
Ленчик кряхтел, постанывал, но все-таки поднялся.
На огород они вышли все вместе. Бабе Груне не хотелось отставать от молодых, чувствовала она себя неплохо, вот и подалась в сборщицы. Но какая уж теперь из нее сборщица, если ноги не гнутся, спина то не сгибается, то не разгибается, а руки хотя и цепки, но так неторопки, что стыдно перед Ленкой. Пока она пару картофелин подберет, у той уже ведерко наполовину полно. Потыкалась, погреблась в земле с часок и сдалась:
— Нет, милые, как хотите, а тягаться с вами не могу. Как говорит моя подружка Фаина, где мои семнадцать лет… Пойду лучше яблочков вам соберу да картохи отварю. Это у меня еще выходит…
Стыдно было ей, великой труженице, вот так открыто признаваться, но что поделаешь — годы. Постояла, посмотрела, как дружно идет у молодых дело, полюбовалась каждым и медленно, глядя себе под ноги, побрела к дому. На бывшей луковой грядке увидела пару кустиков молодого сочного укропа, сорвала. Видно, занесло ветром зернышки, те после дождя возьми да и прорасти, вон теперь какие мохнатенькие, аппетитные. Хоть и осень и день короткий, а укропу хватает и этой благости. Вот когда солнце совсем ослабеет, на земле, наверно, будет расти один укроп. Цвести он, пожалуй, уже не сможет, зато будет расти и расти. По колено, по пояс. И будет она косить его косой или срезать серпом, как луговую траву для буренки. Вот только та его почему-то не ест…
Мысль о стареющем, слабеющем Солнце, пришедшая неожиданно и некстати, так поразила ее, что она замерла на месте, не дойдя до крыльца. Поразила даже не сама мысль, а то, как она покорно смирилась с ней, приняла как истину и будто даже согласилась с ней как с какой-то житейской неизбежностью. А ведь выдумки все это! Дурачит Виталий детские головы, а и она — туда же. Не зря говорят — старый, что малый, всему верит, вот и она… Смех да и только.
Но смешно все-таки ей не было. Более того, чтобы развеять поселившиеся в душе сомнения, она приставила к глазам трясущуюся старческую руку и долго смотрела на небо, где как ни в чем не бывало весело светилось солнышко бабьего лета. Никогда прежде не смотрела она так на солнце. Знала — есть, светит и греет, чего еще? И еще знала — смотреть на него в упор нельзя, можно сжечь глаза. Другое дело — на утренней или вечерней заре. Теперь было утро, и оно не жгло, не слепило, а мягко плавилось в безоблачной голубизне сентябрьского неба.
— Вроде как всегда, — смаргивая набежавшие от яркого света слезы, обрадованно сказала себе баба Груня. — Ну и шутник же этот Виталька! Солнце, видишь ли, у него стареет! Даже погаснуть собирается!.. Да оно, что же, от электрических проводов питается, что ли? А ведь кто-никто и поверит, мало ли дураков на свете! От чего питается солнце, баба Груня не знала, но этот довод показался ей таким убедительным, что она еще раз обрадовалась и уже спокойно вошла в дом.
8
После обеда просушенную на щедром солнце картошку принялись засыпать в подпол. Тут уж показали свою силу парни. Даже Ленчик, забывший утреннюю ломоту в теле, носил тяжелые мешки наравне со старшим братом.
Баба Груня радовалась и всех благодарила. И вот сидят они на лавке, усталые, немногословные, задумчивые и довольные тоже. А как же? Такое большое дело сделали. Да при такой хорошей погоде. Сухая и чистая от земли картошка теперь всю зиму пролежит в подполе, не зная порчи. Разве такое крестьянину не в радость? А это, крестьянское, исконное, есть и в них, хотя внуки и живут в городе. Есть оно, пожалуй, в любом русском человеке, дай только возможность вспомниться и проявиться. Ну, если ты уж не вконец испорченный человек.
Притихла, примолкла даже обычно говорливая Ленка. Притомилась и она. Но нет, не от усталости примолкла, просто думала о чем-то своем. Не зря же спросила:
— И что же вы теперь будете делать со своей астрофизикой? — Ясно, это к Виталию. — В школу попроситесь? У нас астрономию толком и преподавать-то некому. То географ ведет, то историк, то еще кто. Такой уж, мол, предмет.
Виталий ответил не сразу. Невесело потом сказал:
— Работать, конечно, где-то надо… Но для школы нас не готовили. Какой я учитель — по физике ли, по астрономии ли, — если никаких методик не знаю? Толково вести урок — это ведь тоже не просто. Или не так?
— Ну уж сказали! Опрос, новый материал, задание на дом — вот и вся премудрость. У нас все так делают.
— Это тебе так только кажется… Но главное не в этом. Главное в том, что не к этому меня тянет. Не этого я хочу.
— Так что же делать, если космос сейчас никому не нужен? Жить-то ведь надо, в городе у вас огорода, как у бабы Груни, нет.
Виталий долго молчал. Достал сигарету.
— Если что-то изменится, меня должны вызвать.
— Куда?
— В Москву… Или еще куда…
— Значит, все-таки собираетесь… Ленчик тоже уедет, и останемся мы с бабой Груней одни.
— А Ленчик-то куда? — встрепенулась молча слушавшая баба Груня.
— Ленчик у нас военным будет, — с гордостью сказала Ленка. — Он у нас настоящий мужчина. Будет родину защищать, правда, Ленчик?
Тот скромно потупился.
— Я своего решения не меняю.
— Видите! Он у нас такой, с фронта не побежит, как некоторые. Еще генералом станет. Если захочет.
— Не надо — генералом, — вздохнула баба Груня. — Это же на всю жизнь. И опять же всегда у властей на виду. А власти… Лучше отслужить свое — и домой.
— Что власти? — солидно сказал Ленчик. — Они бывают разные, а Родина у нас одна. И на сегодня, и на завтра, и… навсегда. И без толковой армии нам не обойтись.
— Молодец! — так и засияла Ленка. — Давно не слышала таких мудрых слов. Была б мальчишкой — и я бы с тобой!..
Остаток дня внуки провозились с крышей бани, пытаясь залатать дыры в старом рубероиде, а вечером опять сидели, хрустели яблоками, говорили о всяческих чудесах Вселенной, которых Виталий знал бесчисленное множество. Баба Груня к концу дня опять занемогла, но интерес к тому, что там так горячо обсуждает молодежь, был настолько велик, что она поднялась и тоже вышла на крыльцо — послушать.
Разговор шел о чем-то далеком и совершенно непонятном для ее разума. Будто где-то очень-очень давно случился большой взрыв и осколки от того взрыва до сих пор разлетаются во все концы того, что она привыкла называть небом. И будто те осколки и есть вот эти звезды и планеты. Сказка, конечно. Опять Виталий детям мозги туманит. И зачем ему это надо?
Потом меж них начался спор о том, долго ли еще будут разлетаться эти осколки? Ведь как высоко камень ни забрось, а он в конце концов опять назад полетит. Но что такое камень и что такое звезда? Да когда их многие миллионы!
Ленчик, видно, соглашался с братом и часто повторял, будто твердил заданный урок:
— Так, так… только так… раз есть законы гравитации… раз был такой взрыв…
Ленка без конца ерзала на лавке, вскакивала, ахала, охала и, по-видимому, никак не могла представить, что будет, когда это случится.
— Мальчики, мальчики, а может, все-таки не надо, а? Это же такая беда, такая беда! Представляете, вся эта красота вдруг полетит куда-то в тартарары. И наше солнце, и мы… а?
— И совсем не в тартарары, — солидно басил Ленчик, — а в центр Вселенной!
— В какой центр, в какой центр, — горячась, снова вскакивала Ленка, — когда Вселенная бесконечна? Какой может быть центр у бесконечности? И что потом будет: опять все — в одну кучу? До нового взрыва?
— До нового взрыва, если гипотеза эта правильная. А иначе — как?
— И снова все разлетится? И опять будет такое же небо, такое же солнце и земля?
— Ну, про такое или не такое… — задумался Ленчик, — тем более про землю…
— А я хочу, чтобы опять все образовалось как было: и звезды, и солнце, и земля. И Калиновка наша. И мы — тоже.
— Ну и сказала! Это ж не базар — хочу того, не хочу этого. Это ж, надо понимать, Космос!
— А тогда я не согласна. Зачем рушить то, что так хорошо и разумно? Пусть уж будет как есть.
— Как будто нас об этом спросят! Начнется процесс сжатия, никуда не денешься. Сначала всякие малые тела на большие притянутся, потом большие на еще большие… И все вместе — туда, туда…
— Ну, смотреть, как метеориты падают, я люблю. А если луна? Если такая рухнет…
— А она, может, сразу и не рухнет. Сначала она, может, разорвется на части. Между Солнцем и Землей. А уж потом…
— Ой, этого нам еще не хватало! Виталий Аркадьевич, ведь неправда все это, да? Ведь не так все будет? А может, и не будет вовсе, а? Нам про такое учитель наш не говорил.
Виталий не вмешивался в их спор, задумчиво покуривая на краю лавки. Лишь под конец заметил:
— Поскольку общая масса тел Вселенной превышает критическую, рано или поздно это должно произойти. Не вдруг, конечно, а за миллиарды лет. По математической модели это может быть так…
— Не хочу, не хочу! — неожиданно всхлипнула Ленка. — Ни моделей ваших, ничего не хочу. И… не верю я вам. И науке вашей не верю. Выдумки это все!
— Чего испугалась, глупенькая? — засмеялся Ленчик. — Нас же тогда уже не будет. Давно никого не будет, понимаешь?
— Все равно, все равно…
Дальше молчать баба Груня уже не могла. Если уж Ленка чуть ли не в голос плачет, значит, игра зашла слишком далеко. А все Виталий, все эта непонятная его наука! Тоже нашли себе развлечение — конец света выдумывать. Ишь, умные головы, делать им больше нечего! Лучше бы тракторы опять научились выпускать, а то половина полей бурьяном заросла, ни тебе посеять, ни убрать…
— Ну, будет тебе, милая, — обняла она Ленку. — Сказки все это, глупости. Я ведь тоже не совсем глупая баба, до войны как-никак семилетку кончила, пять годов в сельсовете служила…
И Виталию строго, даже сердито:
— А тебе, ученый человек, тоже нужно меру знать. Не для того тебя в Москве пять лет учили, чтобы детей своими придумками пугать. У нас нынче и без того есть о чем поплакать. Такое время. А сказки и я рассказывать могу. Только они у нас совсем другие, добрые.
Смотреть звезды в эту ночь она не стала: и сердце опять «пекло», и на Виталия за его проделки страсть как рассердилась. И сама тоже — дура старая! Дала увлечь себя, как маленькая. Звезды ей, видите ли, понадобились. Весь век без них прожила — и ничего, а тут… совсем из ума выжила. Красота! Тайна! Да на земле, если хочешь знать, этой красоты еще больше, только умей видеть. И тайн. Вся жизнь человеческая — тайна. Вот бы о чем тем умным головам подумать. Если они и вправду ученые.
9
Внуки ушли утром, торопясь на раннюю электричку и унося увесистые рюкзаки с картошкой, яблоками, банками. Баба Груня проводила их до калитки и долго смотрела вслед, пока те не скрылись за леском. Горько и печально было ей опять оставаться одной, но она не роптала — спасибо судьбе и за эту радость. А там, бог даст, заглянут Катерина с Аркадием, придет из далекого шахтерского поселка письмо от сына… Да и свои, калиновские, давно как родные.
Проводив скотину в стадо, подошла Ленка. Вот девка так девка! Одна, считай, на все хозяйство, на весь дом, а все успевает. И со скотом, и в огороде, и себя с отцом обихаживает. И школу вот-вот закончит. Умница, каких еще поискать. Хоть и сирота… Узнав, что внуки уже уехали, шибко расстроилась.
— Что же мне-то не сказала, баб Грунь? Я бы тоже проводила. Когда еще теперь увидимся?
— Не обижайся, золотко мое, сама только утром об их планах узнала. Но писать обещались, они у меня надежные.
— Это хорошо, что обещались, — вздохнула Ленка, — а то все разъедемся и потеряем друг друга. Страна-то у нас ого-го какая!
— Выходит, и ты — тоже? И ты уезжать собралась?
— Не сейчас, баб Грунь, а после школы. В медицинское поступлю. На институт у нас с папкой мошна тоща, а уж в училище как-нибудь. Не космос, но все же… для Калиновки нашей.
Теперь, разрываясь между школой и домом, Ленка лишь изредка забегала к бабке Груне удостовериться, все ли у нее «в порядке». Присядет на минуту, высыплет ворох школьных новостей, проверит, есть ли еще во флакончиках лекарство и — обратно.
— Вот когда с уборкой закончат и папка немного раскрепостится, тогда подольше посижу, — обещала всякий раз, но уборка тянулась, дел у Григория было не впроворот, и все хозяйство по-прежнему держалось на ней.
Зато поздно вечером заходила непременно.
— Выйдем, баб Грунь. Небо такое чистое… Посидим. Баба Груня знала это «посидим». Недавно, изрядно рассердившись на Виталия с его сказками об остывающем Солнце и неизбежном когда-то «конце света», она зареклась даже смотреть на это непонятное небо. Лучше уж, решила, вовсе ничего не знать о нем, чем жить в таком страхе, и потому отговаривалась как только могла.
— Посиди одна, мне что-то неможется. Да и холодно уж, не лето.
— А ты валенки обуй, шубу накинь. Скоро ведь вообще не выйдешь, зима придет. А звезды только осенью такие большие…
В конце концов она сдавалась, и они усаживались на лавку — смотреть красоту неба. Калиновка гасила огни, отходила ко сну, лишь изредка кое-где лениво брехали собаки да издалека, со стороны железной дороги, доносились заполошные вскрики поздних электричек.
Занятые созерцанием, говорили мало. Иногда Ленка показывала на какую-нибудь яркую звезду или созвездие и называла их имена. «Большой ковш», «Малый ковш» — только и запомнила. А почему их называют еще и «медведицами», ни та, ни другая объяснить себе не могли. На ковшики и в самом деле похожи, однако при чем тут медведи?
А небо с каждым вечером становилось все ярче и наряднее.
— Будто алмазы на черный плат высыпали, — не удержалась как-то баба Груня, позабыв свои недавние страхи. — Хоть руками бери, так низко. И такие все большие… да баские, прямо царские, ей-богу.
— Это кажется только, — заметила Ленка, — что низко. А на самом деле это далекие-далекие солнца. Гораздо больше нашего. И не какие-то блестящие камни, а гигантские клубки огня. Наше солнце ведь тоже сплошной огонь.
Бабе Груне было понятно, что солнце — огонь, иначе бы не грело. Непонятно было другое:
— И что же там горит столько лет? Что за печка там такая? — Боясь выглядеть смешной, сама над собой посмеялась:
— Это ж какую прорву дров надо, чтоб так долго гореть! Или уже газ туда провели?
В Калиновку давно собирались провести газ, да все никак не получалось, вот и шутила баба Груня: туда, мол, провели, а тут, рядом, все никак не соберутся.
— Не газ это и не дрова, — тоже улыбалась Ленка, — а что-то посерьезнее. Ядерная реакция там идет. Ну, будто без конца термоядерные бомбы взрываются, вот.
— Ой ли, девка! — недоверчиво протянула баба Груня. — Откуда этим бомбам там взяться-то, в такой далище?
— Не знаю. Вот Виталий Аркадьевич знает. Он вообще все знает, о чем ни спроси.
— Ну, Виталий наговорит, только уши открывай. Таких сказок наговорил, что до сих пор страх берет.
— И мне страшно, только все равно красиво. Так красиво, что слов нет.
— Это верно. Пусть бы всегда так и было.
— И будет. Долго-долго. А о том ты не думай, просто любуйся и радуйся, что видишь.
— Вот и я так думаю. Всю жизнь не замечала, насмотрюсь хоть теперь.
— А я с детства небо люблю.
— Это хорошо. Не дай к земле себя пригнуть. Смотри.
— Завтра опять смотреть будем?
— Приходи… Посидим…
Хорошая в том году была осень — сухая, теплая, нарядная от ярких падающих листьев. Казалось, благодатному бабьему лету не будет конца. Закончив убирать окрестные поля, калиновские мужики кинулись наверстывать свои домашние дела: возить дрова, сено, солому. Огромный воз доброй овсяной соломы привез Гринька Загузин и во двор бабы Груни. Вместе с Алексеем Ходоковым и Сергеем Черным затолкали на сеновал. Будет чем зимой буренку кормить, — хоть и солома, но мягкая, вперемешку с разными травами, а на время отела и сенцо припасено, сама за огородами нашмыгала старой своей косой.
И опять, любуясь мужиками, их сноровистой работой, не могла не обратить она внимание на то, как все-таки поразительно схожи они между собой. И когда ушли уже, все сидела и вспоминала, перебирала в памяти давно ушедшие дни, видела себя и Тимофея молодыми, только еще начинающими жизнь.
Хоть и счастливой считала она себя сама, а хлебнуть страданий довелось и ей. Из-за Тимофея, конечно. Из-за его «подарочков» молодым вдовам-солдаткам. Долго терпела она, долго маялась и терпела бы еще, если бы уж совсем молодая незамужняя Капитолина Слыкова не вздумала приручить ее Тимофея. Тут уж ретивое ее разыгралось вовсю. Так и заявила мужу: либо семья, либо эта самая Слыкова!
Тут и получился у них разговор. Да такой, какого она совсем не ожидала. Никогда бы не подумала, что такое возможно, что это не шутка. Но Тимофей не шутил. Так и сказал: очень, мол, виноват перед тобой, законной женой своей, никогда не думал уходить из семьи и никого не люблю окромя тебя. Но ты, говорит, посмотри, что наделала с народом война. Миллионы выкосила, а уж мужиков да парней просто выбила под корень. Если бы кто из вас побывал там, где прошли мы, повидали те солдатские могилы, которым числа нет, что бы сказало вам ваше сердце? Когда, мол, оправится народ от таких потерь, как возродит себя? Такое великое дело одним женщинам только и под силу. Женщины всегда материнским подвигом своим возрождали народ и государство, на них вся надежда и сейчас. Мы, рассказывал, еще в окопах об этом думали. Особенно кто поопытнее, уже женатые. Так и утвердили промеж себя: если, мол, убьют, пусть женки сами детишек наживают, не будет это ни изменой, ни грехом. Только бы не от тыловых «крыс», что в теплых местечках пристроились, а от своего брата фронтовика, если кто вернется живой. Так что пойми и перетерпи, если можешь.
Да, вот так неожиданно открылся он перед ней, будто на исповеди. Она, понятно, растерялась, пересказала матери эту исповедь его, и та — тоже: «Терпи, Аграфена, терпи. После всех больших войн так было, не пропадать же народу из-за твоей бабьей ревности. Зато потом воздастся — и от бога, и от людей».
Тимофея уже нет, выходит, воздается ей одной. И ведь чувствует: неспроста же такое доброе отношение к ней в деревне. Раньше, когда еще была в силе, не замечала, а теперь всегда найдется кому и огород по весне вспахать, и дров привезти, а теперь вот и корма для скота. Несмотря на тяготы и безрядицу военных и послевоенных лет, не вымерла, не обезлюдела их Калиновка, а если посмотреть шире, — то и вся Держава. Выходит, правы были солдаты, пекшиеся перед гибелью не о своей гордыне, а о продолжении рода человеческого, о судьбе народной. И Тимофей с его выжившими дружками-фронтовиками тоже.
Устроилась жизнь и отчаянной Капитолины. Уже через несколько лет после войны вернулся в деревню побывавший в плену и в лагерях солдат, и они поженились, нарожали кучу детей. Теперь, правда, и Капка вдова уже, но рядом ее дети, внуки. Жизнь прожита по-людски.
Посидела баба Груня вот так, повспоминала и только сунула чайник на плиту, — посошок Фаины Ямщиковой по крыльцу простучал.
— Ну вот, — встретила она гостью на пороге, — говорят, беда одна не ходит, а у меня одни радости друг за дружкой. Третьего дня внуки весь огород убрали, сегодня с утра мужики овсянки громадный тракторный воз привезли, а теперь — ты… Проходи, проходи, и за стол сразу — чай пить.
— За чай спасибо, а я вот адреса Иринки с Коляней нашла. Письма писать будем. Не забыла уговор?
— Помню, как же! Вот попьем чайку, побеседуем и напишем. Всему свой черед.
Письма у них получились теплые, сердечные, местами со слезой, должны пронять. И чего бы, действительно, кому-нибудь из них не вернуться? Дом теплый, большой, огород чуть ли не с гектар, хлев для всякой животины— занимай, пользуйся, живи. Ну, работать, конечно, надо, без этого и родительский дом не поможет. Так опять же не старики еще, сила и здоровье есть, было бы желание. Во всяком случае — дома, не на чужбине…
Уходила Фаина довольная, даже счастливая.
— Теперь будет ждать.
10
Вечером баба Груня опять посидела на лавке, тихо радуясь божественной красоте наливающегося звездами неба. Теперь она уже не сердилась на Виталия за его жуткие придумки и была благодарна ему за то, что хоть под конец жизни оторвал ее взгляд от земли и открыл ей такое чудо.
Ленка на этот раз не пришла, знать, недосуг девчонке: запарилась в делах. Вон сколько всего выстирала после обеда! До сих пор сохнет да проветривается на веревках во дворе. А что такое обстирывать тракториста-механизатора, она хорошо знает по себе. Сколько ни стирай — все равно вода темная. И керосином пахнет. Вот пусть и повисит выстиранное на ветерке, подышит чистым воздухом, освежится.
Утром баба Груня тоже решила сделать небольшую постирушку и просушку и, пользуясь погодой, проветрить домашние вещи и постель. Белье развесила на самом солнцепеке, одеяла, подушки, старые шубы разложила на топчан под навесом и бросила взгляд на небо — долго ли еще такой благодати стоять? Небо, чистое с утра, теперь слегка дымилось мелкими летучими тучками и, точно к празднику, убирало себя в белоснежные локоны облаков. Те слегка шевелились, причудливо меняя формы, но оставались такими же белыми, теплыми, мягкими, отчего их хотелось погладить руками.
Оказывается, и днем небо бывает красивым, отметила про себя баба Груня и, привалившись спиной к теплой стене сарая, долго смотрела поверх роняющей лист ветлы. Как там широко и раздольно, как там сказочно красиво!.. Только жаворонков не слыхать, ушло их время, а то бы… Баба Груня долго искала в памяти что-то сокровенное, полузабытое, заветное, с чем бы могла сравнить эту тихую светло-пресветлую красоту, и неожиданно вышептала: «…А то бы чем не рай?»
Она не была богомольной: знала, что он есть, Создатель и Вседержитель, Спаситель и Наставник — и этого знания ей было достаточно. Как о земле и небе: есть — и довольно. Даже лишними молитвами и просьбами не тревожила, все — сама. И когда все у нее получалось: дети не болели, корова телилась, грядки плодоносили, лишь благодарила. Кротко, скромно, скорее сердцем, чем устами, не для мира, а для души.
Многотрудная жизнь крестьянки ни на что другое не оставляла ни времени, ни сил. Будто все годы прожила с опущенной головой, все свои лучшие мысли и чувства откладывала на смутно мерцавшее впереди будущее, на это вечное, непостижимое, словно кем-то обещанное «потом».
Сейчас, должно быть, это время настало, не зря же наконец разогнула она вечно согбенную в трудах спину, подняла глаза к небу, чтобы за всю жизнь вволю налюбоваться и нарадоваться его завораживающей красотой. Вот и о рае подумала — какой он? Наверно, как раз такой и есть — вот с таким бесконечным небом в мягких белых облаках, с ласковым добрым солнцем, с неумолчно звенящими под ним жаворонками. Если там вечное лето, то, стало быть, и жаворонки вечны. И эти ветлы тоже. И эти убегающие вдаль поля, и эти зовущие куда-то дороги, и сам этот воздух, такой чистый и прозрачный, что, кажется, его, как оконное стекло, только что протерли влажным полотенцем.
Она стояла, представляла, придавала представляемому знакомые с детства черты и совсем не озадачивалась тем, что даже рай небесный выходит у нее очень уж земным. Вмещая в себя все близкое ей и дорогое, он как бы не поднимал ее в свои божественные высоты, а сам спускался к ней на ее грешную и святую землю. Если бы она так думала, то, наверное, это было бы грешно, но она сейчас ни о чем не думала вовсе, а просто стояла, смотрела, дышала, не замечая того, что смотрит и дышит.
В этом состоянии и застала ее приехавшая из города дочь Катерина. Подошла, тихо прислонилась рядом.
— Что, мама, приболела? Плохо тебе?
Баба Груня даже не вздрогнула, точно дочь всегда была тут.
— Нет, милая… хорошо мне…
— А чего стоишь тут… одна?
— На небо гляжу: красивое оно у нас. Я теперь часто в небо гляжу, даже ночью… Виталий твой пристрастил.
— А, Виталий… Это у него с детства. Пустое дело.
Баба Груня медленно, не отрываясь от нагретой солнцем стены, повернулась к дочери и, задумчиво улыбаясь, покачала головой:
— Не пустое, ох, не пустое… Всю жизнь только под ноги себе и глядим, а поднять глаза все недосуг.
— Небо, оно и есть небо. Смотри сколько хошь, а хлеба не подаст.
— Зато другое подаст. Только ты еще молодая, чтоб понять это. Вот будешь, как я, последние денечки считать…
— Ну, Виталий, ну, Виталий!.. Глупости это одни! Живи как жила, никаких Виталиев не слушай.
— Не все, выходит, глупости. А сына не брани. Как там у него дела? Не пришел еще вызов из Москвы?
Катерина сколько-то помолчала, подумала, говорить или не говорить, однако решила не таиться.
— Написал ему один, вроде бы профессор его. Приглашает с собой на хорошую работу. В чужую страну…
— В чужую? — оторопела баба Груня. — На работу-то? А у нас для себя и работы, выходит, нет?
— По его специальности, говорит, нет.
— Ну, а ты что? А он?
— Я — ни в какую: русским, говорю, родился, русским и помрешь. У себя дома.
— А он?
— И он. В школу попросился… Взяли… На время…
— Еще бы такого не взять! Умница. И работник. Видишь, как они с Ленчиком да Ленкой картоху мою выбрали?
— А Ленка эта кто? Соседская девочка, что ли?
— Она. Да не девочка уже, а невеста, школу заканчивает. Верная подружка моя, сиротка…
— Какая подружка? Внучка, скажи!
— Хорошо бы. От такой не отказалась бы… Пойдем, однако, в дом. Самое время за столом посидеть: солнце-то уже вон на вершинке самой.
Обедали не торопясь, продолжая начатый на улице разговор.
— А знаешь, мама, я на днях письмо от брата Андрея получила, — сказала Катерина. — Столько лет молчал и вдруг — письмо!
— Ну, как они там? — обрадовалась баба Груня. — Все живы-здоровы?
— Живы. Даже приехать обещаются, — радовалась и Катерина.
— Надо же! Вот счастье-то! Я же всегда говорила: мир велик, а родная земля одна.
— Сначала только Андрей приедет. Один.
— Это ж как прикажешь понимать? Другие заняты больно?
Баба Груня даже рассердилась.
— Сколько времени не виделись и — один! Мне ведь не сорок лет, чтобы еще ждать.
— Для начала — один, — уточнила Катерина. — Оглядеться, подумать…
— Чего думать, чего думать! В родном доме-то!..
— Ну, как же… он ведь всю семью сюда решил перевезти. Шахту их закрыли, работы нет, вот и… Только боится, не прогневаешься ли, не притеснят ли тебя. Да и мало ли что еще…
— Слава тебе, Господи! — так и засветилась баба Груня. — Ну и радость ты мне, Катерина, принесла! Такую радость!
От волнения она расплескала свой чай, стала наливать заново — пролила мимо чашки и тут же рассердилась на себя:
— Вот она, старость, вот она, немощь окаянная! До того дожила, что и руки уж ничего не держат. Ну, не стыдно ли, скажи!
Катерина смотрела на мать смеющимися глазами, по-родственному разделяя ее волнение.
— Ну, теперь все будем рядом. Тебя мы к себе заберем, а они пусть тут колготятся. Тоже, считай, под боком. То мы к ним, то они — к нам, верно?
— Верно-то, может, и верно, только и меня раньше спросить бы не помешало.
— Вот я и спрашиваю: ладно будет?
— Не торопи, не на свадьбу коней гонишь…
— Хватит тебе здесь, вон как изработалась вся.
— Изработалась, не спорю. А как они тут — одни? От земли, поди, на всем готовом давно отвыкли: ни огород обихаживать, ни скотину смотреть… Кто им подскажет?
— Велика наука — картошку сажать да копать! — легко отмахнулась Катерина. — Да и не одни, люди кругом. Смотри, учись, если сам чего не знаешь. Да и в поселке своем шахтном тоже, надо думать, не без огорода жили.
— Может, и так. Приедут — все обскажут. Самое главное — приехали бы. Страсть как соскучилась.
— Приедут. Теперь приедут, радуйся!
— Вот же и радуюсь…
Провожая поутру Катерину в ее город, баба Груня напихала ей в сумку и соленых огурчиков, и морковок, и снятых прямо с дерева яблок и все приговаривала:
— Не забудь, доча, о телеграмме. Как вернешься, сразу же и отбей. Пусть едут все сразу, нечего деньги на ветер кидать. Так не забудь же, смотри!..
— Не забуду, — обещала Катерина. — И ты тоже не забудь, подумай. Сколько же можно тут…
— Вот когда соберемся, тогда все и порешим.
— Хорошо, мама, хорошо…
— А вечером к ней ненадолго забежала Ленка. Строгая, а у самой глаза того и гляди рассмеются, какую-то тайну несут.
— Никак опять пятерку получила? — пошутила баба Груня. — Так и светишься вся, а похвастать стыдишься: выпускница!
И Ленка действительно рассмеялась.
— Ой, баб Грунь, что мне пятерка, впервой, что ли! Сказала тоже!
— А чего тогда?
— Ну, как чего… Бабка Фаина письма свои отправить попросила, а там… — и опять пролилась ручейком.
— Как ты знаешь, чего там? Чужие письма читать стыдно. Это все равно, что чужую исповедь подслушать, — заметила она наставительно.
— Так ведь та же сама попросила ошибки исправить. Вот я и исправила. «Гражаны», «лух», «мужуки»… Кто же так пишет, баб Грунь? Ты же у нас грамотная, в сельсовете ученые бумаги писала, а?
Баба Груня смутилась и уже хотела было рассердиться, но не стерпела, засмеялась тоже.
— Грамотная!.. Это когда все было-то? С тех пор сколь уж раз снег с полей ручьями сбежал… Слава богу, хоть писать до сих пор не разучилась. А ты — стыдить…
Почувствовав себя виноватой, Ленка, как всегда, прильнула к ее теплому боку, погладила лежавшую на колене заскорузлую руку и примолкла. Но долго молчать было свыше ее сил.
— Не стыжу я тебя за ошибки эти, баб Грунь. А вот сами письма вы с бабкой Фаиной составили неправильно. Ну, совсем не так, понимаешь?
— Ну, девка, с тобой не соскучишься! — уже всерьез рассердилась баба Груня. — Ну, что там может быть неправильного, что? И что скучает, и что пропадает совсем одна, и больная вся…
— Это правильно и даже очень жалостливо. А вот что хозяйство в артели разваливается, фермы растащили, половина полей сорняком заросла, а луг кустарником, что мужикам и бабам работы не стало, а председатель не просыхает… Надо ли так?
— Как же не надо, если истинно все до словечка! И хозяйство, и мужики, и председатель… Как посмотришь, так сердце кровью обливается, а ты — не надо, — обиделась за себя и за родную Калиновку баба Груня. — Кабы не Григорий, отец твой, не Алексей Ходоков, не Сергей Черный и еще кое-кто, все бы окончательно рухнуло. Давно бы рухнуло, ан кое-что пока держится. На их горбах.
Дав ей выговориться, Ленка все-таки закончила свою мысль:
— Вы так все расписали, что никто из детей к бабке Фаине никогда не вернется. Кому же захочется туда, где ни хозяйства, ни работы, а одна тоска? А ведь зовет… Жалко мне ее, баб Грунь, и ведь ждать будет сердешная, ждать…
Теперь примолкла и она. Молчали долго и пока молчали, баба Груня перебрала в памяти написанные ею письма, каждое слово в них и под конец горестно, со всхлипом вздохнула:
— Ну да… Две выжившие из ума старухи улестить молодых захотели… А письма, поди, на почте уже?
— Утром по пути в школу занесу.
— Не неси, девка. Заново сочиним. А то ведь и в самом деле… Испугаются еще, не вернутся… До могилы вины своей не замолю…
В тот вечер небо было задумчивое, тучливое, к любованию звездами не располагало. Но они все-таки посидели, высмотрели сколько было можно и разошлись по домам раньше обычного, но, как всегда, довольные друг дружкой.
Весь следующий день прошел для бабы Груни в каком-то счастливом волнении. «Андрейка возвращается», — говорила она себе, принимаясь спешно прибираться в доме, словно долгожданный сын со всей своей семьей должен был вот-вот заявиться на порог. «Андрейка едет!» — то и дело восклицала она, торопливо собираясь к подружке Фаине заново переписывать письма к ее далеким детям. А пришла — не удержалась, первым делом похвастала:
— А ты слышала — мои приезжают! Насовсем переезжают, понимаешь?
Ей казалось, что все в Калиновке уже знают, что ее ждет такое счастье, и очень удивилась, когда Фаина удивленно заморгала своими подслеповатыми глазами и недоверчиво покачала головой:
— И что это им в городу так разонравилось? Еще совсем недавно Катерина сказывала, что ничего живут. Сыновьями величалась.
— При чем тут Катерина? — удивилась в свою очередь и Агрофена. — Катерина — вот она, под боком, не о ней речь.
— А о ком же тогда?
— О сыне, Андрее, что еще в молодых годах на шахту уехал! Соскучился, говорит, по матери, по родной Калиновке, вертаюсь и все.
— Ну да, ну да, у тебя же еще сын есть…
— Есть, кума, есть! Скоро вернется, вместе жить будем.
— Выходит, очень материнское письмо ты ему написала. Раз так проняло. Ты это умеешь…
— Вот и твоим сейчас заново составим, чтоб проняло. Надевай очки, где у тебя бумага, садись…
И письма на этот раз писались легко, складно, где со слезой, а где и с радостью. Нашлось в них место и для материнских воспоминаний, и для уходящего благостного лета, и для красот родимой земли, и для дружных добрых соседей. Что там пьяница председатель и разворованные фермы, ведь все это поправимо, были бы работящие руки да умные головы на плечах. И про то, что церкву решили восстановить, что остановку электричек прямо напротив Калиновки сделали, что земли теперь дают сколько взять хочешь, что газ собираются к каждому дому провести, чтоб как в городе было, — обо всем прописали. А уж в самом конце само собой легло — возвращайтесь, дети, в родной дом, под материнское крыло, неча одним на чужбине бедствовать да унижаться…
На обратном пути завидела почтальоншу, передала ей из рук в руки письма и не сдержалась, похвастала опять:
— А ко мне сын Андрюшенька едет. С семьей. На всегда!
Увидела у ворот Верку Петухову — и к ней. С тем же:
— Слышала? Со всей семьей возвращается. Старший мой, шахтер!
— Это кто же будет, Филипповна?
— Так сын же! Забыла, что ль?
— Счастливая…
Так она обошла половину своей улицы и всем рассказывала, что возвращается к ней ее сын со снохой и внуками. Не в гости едет, а возвращается насовсем, для жизни на родине, и все радовались вместе с ней и называли ее счастливой. Одна Капка Слыкова не упустила случая уколоть в больное место:
— Чего так скоро возвращается-то? Всего лет тридцать ушел большие деньги искать. Все нашел? Теперь тебе везет?
Ну, Капка она и есть Капка, что с нее возьмешь? Не стала слушать ее баба Груня, заторопилась домой, словно родной и многожданный сын уже дожидался ее у ворот.
У ворот, конечно, никого не было, пока не было, но это не огорчило ее, не расстроило ее праздничных чувств. Будут. Непременно будут. И тогда даже эта зловредная Капка прикусит язык и тоже скажет, какая, мол, ты, Филипповна, у нас счастливая!
Уже подходя к крыльцу, подняла голову к небу и с минуту полюбовалась его сине-белым праздничным великолепием. Среди мягких белых облаков румяной молодкой гуляло ласковое солнце последних деньков бабьего лета. «Никак и вправду ослабело, не такое яркое?» — заметила она, приглядевшись к нему, действительно, не такому ослепительному, как еще с месяц назад. Но сейчас в ее радостном оживлении думать о чем-то тревожном не хотелось, и она шутливо отмахнулась: «Да ну его! Это все Виталькины придумки… Сказки для маленьких… Грех один».
На кухне перемыла с содой чайную посуду, выставила в шкафчик за стекло и, полюбовавшись, засомневалась — хватит ли на всех, ведь теперь едоков за столом будет много. Да и дров все еще нет и когда привезут, бог и тот, поди, не знает. Одной ей большой еды не требовалось, обходилась чаепитием, так что в печи и надобности вроде бы не было. Это, конечно, летом, а тут зима на носу, без дров не обойтись: и дом обогреть, и еды на весь день наготовить, и обсушиться, да и скотину без подкорма не оставишь. Придется Андрею расстараться, будет это для него первым мужским делом в отчем доме. Привезет, распилит, поколет, сложит в поленницу под навес…
Она так живо представила, как в доме и во дворе у нее появятся свои родные люди, как все дружно у них будет делаться, как ладно они заживут, что от радости прослезилась. А ведь так, подумалось, могло быть всегда, не нужно было расставаться, рвать душу долгой разлукой, мыкаться по чужим углам да баракам, чтобы однажды понять — лучше родного края ничего нет.
Конечно, трудно было в ту пору в деревне, но нужно было перетерпеть, как она с подружками перетерпела войну, да разве молодым это втолкуешь? Им нужно все и сейчас же. Больно уж горячи и нетерпеливы, хотя и их понять можно тоже: мир хотят посмотреть, поскорее самостоятельными стать, пожить безбедно. И пожили. И дожили. Только нет в этой беде их вины.
В другое время она бы долго сама с собой обсуждала выпавшее ее детям время, нашла бы и правых и виноватых, кого жалеть, кого корить, но сейчас все мысли ее были заняты другим — сын возвращается!
Увидев в окно идущую из школы Ленку, оставила чашку недопитой и кинулась на улицу:
— Слышь-ка, милая, а у меня радость! Андрюшенька мой возвращается. Насовсем. Вот здесь и жить будет, со мной.
Девушка плохо представляла, о ком идет речь, и не торопилась разделить ее радость.
— Это какой… баб Грунь?
— Так мой старшенький. В шахте работал. Когда приезжал, ты еще совсем маленькая была. И мать твоя жива была тоже.
— Ага… Не помню.
— Всей семьей едет. С женой, сыном, дочкой. Шахту их закрыли и соскучился очень.
— Вот здорово! Теперь опять все вместе будете! — наконец-то обрадовалась и Ленка. — А что о Виталии Аркадьевиче слышно? Не пришел еще вызов? Не уехал?
— Вызов был, как же! — не без гордости объявила баба Груня. — В какую-то чужую страну, на большие деньги. А он им: «Не поеду я в вашу державу, у меня своя имеется. В ней родился, ей и служить буду!»
— Вот молодец! — загорелась Ленка. — И где он теперь… служит!
— Учителем в школе, как ты и уговаривала. А что, учитель тоже не последний человек. Даже нынче, правда?
— Не последний… А Ленчик еще дома?
Катерина сказывала, в какой-то оборонный клуб ходит. Радио, говорит, изучает. Хотя чего его изучать, когда весь день говорит и говорит. Вот когда замолчит или шипит только…
— Нет, баб Грунь, не это радио, а военное. Радиосвязь называется. Значит, всерьез в военное училище собрался. Он такой, Ленчик!
— Все они у меня такие!
Сегодня баба Груня была всем довольна, всех любила и всеми гордилась. Такой уж был нынче у нее день. Однако, возвращаясь к себе во двор, опять нечаянно посмотрела на солнце. И опять оно показалось ей не таким блескучим, как всегда. Хотелось по привычке снова отшутиться, уже и имя ученого внука произнесла и вдруг рассмеялась:
— Да чего это я, старая? Осень ведь уже, осень! А осенью и солнце осеннее, не такое яркое…
И не удержалась, погрозилась-таки внуку:
— Ну, Виталик, напустил на старуху ужастей! Вот приедешь, я те твои ухи надеру, выдумщик!
Вечером, прибравшись по хозяйству, они с Ленкой опять глядели на небо. Устроились не на лавке, где на этот раз было ветрено, а на топчане под навесом, — там все еще лежали на просушке одеяла и старые шубы. Там и в ветреную погоду всегда было тихо и уютно.
Посидели недолго, потому что у Ленки были еще какие-то дела, и она ушла домой. Бабе Груне домой не хотелось, да и сердце что-то опять начало «печь» и покалывать, и она прилегла здесь же, укрывшись одеялами, чтобы подышать свежим вечерним воздухом.
Пригревшись под теплыми одеялами, она почувствовала себя лучше и, позабыв о небе, стала думать о своем, земном. О том, как хорошо будет, когда приедет семья Андрея, как славно посидят они за праздничным столом — все ее самые близкие и дорогие, чтобы больше не разлучаться. О том, как порадовался бы вместе с ней ее Тимофей, доживи он до этой поры, как гордился бы своими внуками, от которых уж и правнуков ждать недолго, ведь жизнь-то идет неостановимо.
Она попыталась представить тех, далеких, что приедут вместе с Андреем, и не смогла — очень уж давно не видела. Другое дело — Виталий с Ленчиком. Виталий уже взрослый, при деле, семьей обзаводиться пора, а невесту ему она уже присмотрела. И в самом деле — чем Ленка не невеста? Вот школу и училище закончит — и под венец. Хорошая жена и хозяйка будет, а уж как она, баба Груня, будет рада, как довольна, лучшего и придумать нельзя…
По небу, догоняя друг друга, плыли облака. В просветах между ними густо и ярко сияли мохнатые осенние звезды. Если смотреть на них неотрывно и долго, то начинает казаться, что они летят прямо на тебя и становятся все больше и больше. Вспомнилось, как молодежь толковала, что это тоже солнца, только очень далекие, и что они будут гореть не всегда, а пока там будут идти какие-то реакции и что-то постоянно взрываться. Чудаки! Вон солнце сколько лет светит, а никаких взрывов не слышно, так и будет гореть вечно. И ничего не будет падать, сжиматься и вновь взрываться, потому что не может Господь допустить такого глумления над своим великим творением, как бы стар этот мир ни был и как бы грешны ни были населяющие его люди.
С этими тихими мирными мыслями баба Груня незаметно задремала. Проснулась от сильной боли в сердце и какого-то непонятного шума вокруг. Пока она спала, в мире что-то изменилось, сдвинулось, сломалось. По небу, наталкиваясь друг на дружку, неслись совершенно черные тучи. Между ними иногда что-то коротко посверкивало — то ли молнии, то ли пробившиеся сквозь них падающие звезды.
Налетевший неведомо откуда ураган сотрясал ветхие стены сарая, к которому прилепился этот навес, гремел сорванным листом железа, хлопал отворившейся дверью веранды, тонко свистел и хохотал в кронах старых яблонь и натянутых поперек двора бельевых веревках. Рядом поминутно что-то падало, било в землю, в крышу сарая, а вот что — не понять.
Ей стало страшно, и она решила укрыться в доме от греха подальше, но ноги не слушались ее. Даже спустить их с топчана она не смогла. Это испугало ее еще больше. Как же это так? Столько лет они носили ее по земле — и молодую, и, как сегодня, совсем уже старую, и в ясное солнышко по ласковым травам, и в черную беспутицу по колено в грязи и в воде. Все было, и все они превозмогли, все выдержали, ни разу не подвели. А теперь что же? Не застудила ведь, не переутомила, не зашибла. Ан нет, не слушаются и все!
А мир вокруг все больше ломался, сотрясался и словно бы рушился куда-то. И все что-то блестело, все что-то падало: гулко — по крышам сарая и навеса и тупо, глухо — по земле.
Что это? Откуда? Неужто Виталькины придумки начинают сбываться? Неужто в самом деле началось?
На черное клокочущее небо было страшно смотреть, но баба Груня смотрела, пытаясь понять или хотя бы почувствовать, что же происходит в мире и с ней. Вдруг в стороне железной дороги тучи неожиданно разошлись, и она опять увидела звезды. Ну, вон же они, целы же, обрадовалась она им, как старым своим друзьям. Не падают, не гаснут — ни большие, ни малые…
Она так обрадовалась им, что слезы наполнили ее глаза, но тут эти звезды стали стремительно расти, брызгаться длинными колючими лучами, двигаться и падать, падать прямо на нее. Перепугавшись окончательно, она нырнула с головой под одеяла и затаилась, авось Господь убережет.
Под одеялами ничего не было видно, но все равно хорошо было слышно, как шумит и свистит ветер, гремит железо и что-то все бьет и бьет над головой в жестяную крышу навеса.
«Сначала малые небесные тела начнут притягиваться большими…» — вспомнились то ли серьезные, то ли шутливые слова ученого внука, в которых она по своей малограмотности мало что понимала. И вдруг она подумала: не о конце ли света, не о Страшном ли суде языком своей науки говорил внук? А раз Страшный суд, раз конец света, то, значит, и в самом деле и небо, и звезды, и земля с солнцем вовсе не вечны! И святые книги — о том же, как и наука! Но за что? За великие грехи людские? Чего-чего, а уж грехов, действительно, — море. Накопились за многие тысячи лет, особенно за последние годы. Тут тебе и не знающая меры алчность, и безумная кичливость силой и богатством, попрание всех заповедей правды и Христа. Не по-людски, не по совести, не по-божески стали жить люди, и вот — предел. Час Расплаты. День Суда…
Из далеких детских лет память вдруг донесла глуховатый голос бабушки, читавшей ей иногда свои святые книги. Особенно когда она шалила, не слушалась старших, своевольничала. Тогда бабушка принималась читать самую страшную сказку про то, как Творец накажет грешных людей за все их прегрешения и устроит им конец света. Груня тогда была еще совсем маленькой и мало что понимала из всего того страшного, что говорилось в этой сказке, но пережитый ужас остался в ней на всю жизнь. Вот и сейчас стали вспоминаться отдельные образы, картины и фразы. «Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю…» «Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море…» «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда… Имя сей звезды Полынь…» «Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их…» Потом трубили еще пятый, шестой и седьмой Ангелы, творили еще более страшное, но она уже плохо слушала чтение, забиралась под одеяло и дрожала от страха. Как теперь, давно уже не та маленькая девочка, через много-много лет, через целую жизнь. В небе кипели, сшибались, озарялись жутким огнем тучи, гремели падающие на землю звезды и небесные горы, а тут старая больная женщина вспоминала старые полузабытые молитвы, пытаясь спасти ими гибнущий на ее глазах мир. Откинув одеяла, она простирала руки к гневно клокочущему небу, где должен был бы находиться сам Творец-Вседержитель, и шептала одну молитву за другой, но то ли Бог не слышал ее в этом грохоте, то ли молитвы ее были слишком слабы. И верно: о чем были они, эти ее молитвы из прежней жизни? О ниспослании здоровья себе и детям, об избавлении от всяких напастей, о даровании духовных сил в борьбе с различного рода греховными соблазнами. О чем еще? О хлебе насущном. О прощении грехов. О спасении души. Конечно, сейчас эти молитвы были слишком малы и слабы, но других она не знала. А нужны были какие-то другие, совсем-совсем другие, ведь не о хлебе насущном теперь речь, а о спасении самого мироздания. Она поняла это не сразу, а поняв, стала просить Бога научить ее этим новый молитвам. Но тот не откликался, занятый своим страшным делом. И тогда трепещущий дух ее возмутился и возроптал:
— Остановись! Что же ты делаешь, Жестокосердный, с тем, что сам так чудно создал своими руками? Зачем рушишь свое чудо великое, ведь другого такого не будет! Уйми свой гнев, обрати его в милость, как Сам нас учишь. Остановись!..
В ответ небо рявкнуло так, что земля качнулась, как живая. Но она сказала еще не все и заторопилась досказать:
— Чем провинились перед тобой эти безгрешные звезды? Пожалей их, Господи! Чем виновата перед тобой земля? Пощади ее, Всемилостивый! Коль уж пришел судить, так суди по-божески, отделив черное от белого и доброе от злого. Не нужен нам Страшный суд, а ну жен Суд Божий. Услышь же меня на небесном троне своем и усмирись. Усмирись, Великий! Устыдись и усмирись!..
Она укоряла и пристыжала Творца, как когда-то своего мужа Тимофея, но в этом горячем искреннем порыве не замечала своего святотатства. Этот бесстрашный порыв забрал последние силы, еще жившие в ее слабеющем теле, она уронила отяжелевшие руки, закрыла глаза и забылась. Длилось это забытье довольно долго, потому что, когда она опять открыла глаза, небо уже заметно успокоилось, местами очистилось от туч, и там, в угольно-черной бездне, опять сияли и переливались звезды — такие же светлые и прекрасные, как всегда.
А вот ветер униматься не спешил. Правда, теперь он больше действовал наскоками, порывами, и тогда опять что-то падало на крышу навеса, гремело по жесткой кровле сарая, глухо ударяло в землю почти рядом с ее топчаном.
Однажды во время такого наскока что-то дробно прокатилось по крыше и, провалившись в образовавшуюся дыру, упало прямо на ее ложе. Вместо того, чтобы испугаться, она потянулась к месту его падения и нашарила что-то круглое и холодное. С трудом оплела его непослушными пальцами, поднесла к лицу посмотреть, но ничего в темноте не разглядела, зато почуяла с детства знакомый и родной запах антоновки. Выходит, это падали яблоки. Яблони-то, эти старые могучие яблони росли рядом с сараем, прямо тут, за углом, это их тряс ветер, сбивал тяжелые сочные плоды, а ей-то почудилось, что это рушится что-то с неба.
— Стало быть, гроза это, — обрадованно всхлипывая сказала себе баба Груня. — Обыкновенная гроза, как все… Только без дождя. Последняя уже, поди…
Теперь, держа в руке яблоко и прижимая его лаково-глянцевым боком к лицу, она медленно приходила в себя.
— Ишь, гроза… Гроза… А я, прости, Господи… Страсти-то какие, а!..
Чем больше она понимала это, тем тише и спокойнее делалось у нее на душе. Она уже не ощущала ни своего больного сердца, ни своих бесчувственных ног, ни стынущих на свежем рассветном холоде рук. После всего пережитого этой ночью ей становилось как никогда мирно и хорошо. Так хорошо и славно, что раз появившаяся улыбка так и не сходила с ее лица.
11
Хоронить бабу Груню сошлась едва ли не вся Калиновка. Мужики копали могилу, сколачивали домовину, ладили крест. Старухи-ровесницы, бывшие подружки и соперницы чинно входили в дом, низко кланялись, точно винились в давних своих грехах и винах, и со значением кивали друг дружке:
— Легко ушла, с улыбкой…
— Святая…
Пришла и Капка Слыкова. Постояла над покойной, вытерла слезу и вздохнула, как покаялась:
— Счастливая…
Оглянусь — постою. Постою — подумаю…
Повесть
1
Ну, вот я и на родине! — легко выдохнулось из меня, когда наш автобус «Уфа — Стерлитамак», передохнув на автостанции в Толбазах, опять покатил по широкому шоссе.
— Что, долго пропадал где-то? — улыбнулся мне сосед, подсевший к нам на короткой остановке перед указателем: «Марс — 1,5 км». Я как-то сразу заметил его и позвал на пустовавшее возле меня место. Помнится, еще и пошутил:
— Садись, марсианин. Устал, небось, пока до Земли добирался. Полтора километра все-таки!..
Тот ответно улыбнулся:
— Привык уже. Я тут часто пролетаю. И всегда до Стерлитамака в ракете топлива не хватает.
— А ты на малом газу!
— Не солидно как-то. После Марса!..
В этой небольшой деревеньке до того бывать мне еще не доводилось, хотя и интриговала она меня, как, наверное, многих путников. Однако еще побываю: пройдет не так уж и много времени и мы, немногочисленные родичи, привезем сюда на вечное упокоение моего славного тестя Абдуллу Ахметсадыковича Шамсутдинова. Тот был родом как раз отсюда. Отсюда молодым патриотом уехал поступать в военное училище, стал кадровым офицером, прошел от звонка до звонка всю Великую Отечественную, много лет после этого, борясь с последствиями фронтовых ран и контузий, строил новую Уфу, а когда пришел смертный час, попросился сюда, домой. Что мы и исполнили.
Пройдет еще несколько лет — и мы привезем сюда его младшего брата Талгата. Тоже из Уфы, тоже по его завещанию, тоже офицера и прекрасного математика, осваивавшего первые, во многом таинственные для непосвященных, электронно-вычислительные машины. Мир и светлая память праху этих замечательных людей, скромных и мужественных сынов вполне земного аургазинского Марса!..
На подъезде к Стерлитамаку я невольно забыл о своем спутнике и, перебравшись с правого ряда кресел на левый, прилип к окну.
Скоро из синеватой дымки выплывет нам навстречу картина, которая всегда приводит мою (все еще детскую?) душу в трепетно-сладкое волнение и ожидание чуда. Это чудо — цепочка одиноких белых гор посреди широкой зеленой равнины, напоминающих одним знаменитые египетские пирамиды, другим — остывшие вулканы, сохранившиеся с тех далеких геологических эпох, когда великая евразийская континентальная плита раскололась надвое, а потом с невообразимым вселенским грохотом соединилась вновь, оставив на память об этой катастрофе Уральские горы. Тогда-то и полыхали тут, в гигантских разломах и столкновениях, трудно представимые теперь вулканы, а вокруг плескались бескрайние моря великого Мирового океана.
Встреча с этими горами-шиханами так будоражит душу, будит такие фантазии, что по ночам, видя все это в снах, поневоле начинаешь кричать от охватившего тебя ужаса и восторга. Так бывало и со мной, когда в ранней молодости по их каменным ребристым скатам я поднимался на ветреные вершины, совсем не острые, как они видятся снизу, и собирал, изумляясь, их обломки, в которых так хорошо сохранились отпечатки древних морских обитателей — моллюсков.
Да, знаменитые стерлитамакские шиханы совсем не вулканы и уж точно не пирамиды загадочных местных фараонов или инопланетян. Это — естественный риф, сложенный из останков отмерших и миллионы лет копившихся на дне неглубокого теплого моря все тех же моллюсков, из их окаменевших известковых панцирей-ракушек. А подняла его из воды на свет божий та великая сила, что двигала материками, ломала, раздвигала и вновь сдвигала их, что-то отправляя в глубь недр на очередную переплавку, а что-то вознося к небесам.
Шиханы Стерлитамака не поднялись до небес, однако от земли оторвались весьма и весьма — на 300–400 метров — и словно парят между землей и небом, напоминая нам о том, что и в природе ничего вечного нет.
Пока мои мысли блуждали в потемках минувших миллионолетий, слева медленно выплыла первая, самая северная из этих удивительных гор. Согласно существующим легендам, башкиры называют ее Йорак-тау, то есть Сердце-гора. Русское название Лысая, как лишенное всякой поэзии и привлекательности, сейчас употребляется все реже, доказывая несомненное превосходство народного поэтического мировосприятия над бескрылой конкретикой и сухой констатацией факта.
Затем потянулись, наплывая одна за другой, остальные горы. Вот медленно разворачивается навстречу нашим взглядам вторая. Эта куда больше и величественнее своей «сердечной» соседки, что и понятно, ведь тут не один, а целых два шихана, соединенных неглубокой седловиной. Русские называют гору Долгой, но это нечто чисто внешнее. Мне больше по душе ее исконное башкирское имя — Куштау, что значит — Горы-близнецы. А близнецы — это братья или сестры, так что есть человеку о чем подумать, любуясь их нестареющей красотой, или даже сложить о них новую легенду или песню.
За Близнецами выступает самая монументальная гора этой удивительной гряды — Шахтау — Царь-гора. Вот уже действительно царь! Уж не тот ли самый, чей сын-царевич попытался остановить своим сердцем красавицу Агидель? Тяжкая, горькая утрата. Оттого и сам он окаменел, помертвел. Ни дерева, ни кустика, ни травинки не встретишь на его скалах.
Сейчас гордый Шахтау стал несколько ниже: вершину его уже срыли и переработали на соседнем комбинате в нужные строительные и прочие материалы.
Но и без вершины он смотрелся все так же мощно и величаво. И еще больше походил на потухший вулкан. Пройдет всего несколько десятилетий — и его сравняют с землей…
Вскоре за окнами потянулась промышленная зона города, ее огромные строения заслонили собой мои любимые шиханы, и последний из них, самый большой, я увидел уже подъезжая к автовокзалу.
На этой горе побывать мне не привелось. Ни в то время, ни позже. Наверное, потому, что она самая далекая. Вот из Ишимбая до нее рукой подать, а из Стерлитамака — далековато. Башкиры называют ее Тратау, а мы для нее русского имени все еще не придумали. Хоть конкурс объявляй!
2
Ко времени этой поездки в Стерлитамаке проживало много моих родственников. И все очень близкие, по материнской линии: на Выселках — большая дружная семья Дергачевых, в Краснознаменском поселке содовиков — семья Горелкиных, в новой части города — семья моего старшего брата Эдика. К нему-то, собственно, я и ехал в первую очередь.
Дома брата я не застал.
— Здесь он теперь только ночует, — смеялась его синеглазая жена Галя. — Теперь он в своем гараже прописался. Как выдастся свободный часик — так туда!
— В каком это гараже? С чего бы? — удивился я. — Другое дело — в сад, а то…
— Так мы ведь машину купили. Он и гараж уже построил, и вокруг «Москвича» своего с утра до ночи крутится. Не новый взяли…
Узнав, что гаражи находятся сразу же за Двухсотым кварталом, что по пути на завод синтетического каучука, «эска» — по-народному, я заспешил туда.
Своим братом я всегда гордился. Это он первым из нашей крестьянской семьи после деревенской семилетки сорвался в город. Хотел учиться, но сразу не пришлось: жить ведь как-то надо. А растущему городу позарез не хватало стоящих рабочих рук. Руки, и особенно голова, у него всегда были на зависть многим, долго искать места не пришлось — быстро освоил строгальное и фрезерное дело и стал работать на станкостроительном заводе. А там и койка в общежитии освободилась, что еще нужно семнадцатилетнему пролетарию?
После службы в армии опять вернулся на свой завод, днем строгал неподатливый металл, по вечерам грыз гранит науки. Сначала школьной, затем и институтской. Между дел умудрился жениться, народил сына Вову и дочку Наташу, получил хорошее жилье.
И вот — машина…
Конечно, не все в жизни было так легко и гладко. Одна служба сколько лет и сил отняла: все три года — в туркменской пустыне, где от жары даже крепкие парни теряли сознание. А радиолокационная станция требовала быть в боевой готовности круглые сутки. И такой она была, иначе не получал бы сержант Паль внеочередные отпуска в качестве поощрения за обнаруженные в небе Союза самолеты противника.
Да и годы совмещения работы с учебой, отсутствие полноценного отдыха здоровья не прибавляли. Конечно, много значат способности, дарования, когда все кажется легким и интересным, но я сам, наведываясь к нему в эти годы, просто не мог не заметить его бледности, изнуряющей бессонницы, предельной усталости.
Так жили тогда многие. И народное государство, трудовые коллективы умели это ценить, создавали необходимые условия для их развития и роста. Именно из таких упорных, трудолюбивых, одаренных рабочих получались потом отличные инженеры, командиры производства.
Брата я нашел сразу же, как только подошел к новым кирпичным гаражам. Рядом с ними на чистой травяной лужайке тот что-то высматривал в двигателе своего «Москвича».
— Как ты меня нашел? — удивился он.
— Так язык… — Я хотел было напомнить ему пословицу, согласно которой язык и до Киева доведет, но вид сияющего «средства передвижения» сбил меня с толку. — А Галя сказала, что не новый… И это вообще не «Москвич»…
По всему, брату понравилось мое замешательство. Довольно посмеиваясь и намеренно затягивая с ответом, он осторожно опустил крышку капота и достал из кабины пачку болгарской «Шипки». Я в ту пору еще был стойким противником этой глупой мужской забавы, но за компанию задымил вместе с ним. Это несколько позже, когда меня, молодого главного редактора республиканского книжного издательства, начнут оголтело травить мои же вчерашние друзья-товарищи, навешивая один ярлык страшнее другого, сломаюсь, задымлю и я. Но об этом тогда мне знать было не дано, и я просто поддержал хорошее настроение брата.
— Галя правду говорит — не новая. Даже очень старая… — пожал плечами Эдик.
— Ну да! Ни одной царапины, — считая это розыгрышем, отмахнулся я. В технике я до сих пор не разбираюсь, кроме велосипеда, да и то старого, простого дорожника, так что ввести меня в заблуждение большого труда не составляло.
— Давай, однако, посидим, — распахивая дверцы машины, предложил брат. — Теперь, когда все сделано, можно себе позволить.
Лицо, голос, жесты свидетельствовали о том, что он рад, даже счастлив, но, приглядевшись, я заметил и усталость, скрыть которую было невозможно.
Мы заняли переднее сиденье, и он слегка тронул ключ зажигания. Двигатель отозвался мгновенно, тихо, ласково, как сытый кот, заурчал. Послушав это довольное урчание, брат стал рассказывать.
Оказывается, никакой машины покупать он даже не планировал. Во-первых, потребуется весьма солидная сумма, во-вторых, автомобилей в ту пору в Союзе выпускалось более чем мало, а отсюда — очереди на много лет вперед. В-третьих, личная семейная машина в народе все еще рассматривалась как необязательная роскошь, без которой можно и обойтись. Другое дело — квартира, хороший холодильник, тот же телевизор или, на худой конец, поездка на море…
— Все случилось как-то неожиданно, случайно. Поехал я прошлой осенью в командировку в Москву. Остановился, как обычно, не в гостинице, а у родственников, Петровых. Так вот Дуся мне и говорит…
Тут надо сказать, что к этому времени брат уже работал на заводе синтезкаучука начальником проектно-конструкторской службы и бывать на родственных предприятиях или в той же Москве ему приходилось довольно часто.
А Дуся — это наша двоюродная сестра, сразу же после войны вышедшая замуж за молодого лейтенанта-фронтовика Анатолия Петрова и уехавшая с ним в места его неспокойной военной службы. В Стерлитамаке Дергачевы (а она — одна из них) и Петровы жили неподалеку друг от друга на Трудовой улице и молодые были знакомы с детства. Потом, помотавшись по отдаленным военным гарнизонам, они осели в Москве. Уйдя в запас майором, Анатолий нашел себе какое-то дело в только что построенном МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах, а Дуся (Евдокия Сергеевна — заслуженная учительница России) продолжала трудиться в школе, время от времени радушно принимая в своей небольшой квартире навещавших их земляков.
Так вот, однажды Дуся и говорит Эдику:
— Видел у подъезда, под кленами, машину? Почему бы тебе в обратную дорогу не отправиться на ней? Водить умеешь, даже права имеешь, за чем же дело стало?
Вытащила за руку на улицу, вместе и раз, и другой обошли машинешку, смахнув нападавшие кленовые листья, сели на лавку подумать. Чтобы лучше думалось, сестра пояснила:
— Хозяин ее в нашем же доме живет. Лет десять как уже не ездит. Да и наездил, говорит, всего семь или восемь тысяч. Не знает как избавиться, больших денег не запросит, не из тех…
— Вот так я стал владельцем этой техники, — довольно смеется брат. — Хозяин запросил чисто символическую сумму, которой меня выручили Петровы, и через день я покатил в свою Башкирию. И знаешь, за всю дорогу ни разу даже не чихнула. С виду неказистая, но сделана на совесть. Не то что нынешние таратайки массового производства.
Потом, чтоб уж совсем соответствовать лозунгу «Советское — значит отличное!», он разобрал ее до последнего винтика, промыл в бензине, что нужно почистил, смазал, с кузова пескоструйкой снял старую краску и покрасил заново. Что и говорить, работа огромная, и вот все завершено, на душе праздник.
— И все-таки, — не унимаюсь, — что это за марка? Не «Москвич» же в самом деле.
— «Москвич», — по-прежнему улыбается брат. — По-моему, второй еще модели. Ну, поехали?
— Прямо вот так, сейчас? — оторопел я.
— А что мешает? Куда?
— Ну, если так… на Трудовую!
И мы покатили — легко, мягко, ничуть не отставая от новых «Жигулей» и совсем других «Москвичей». Благо, дорогущих иномарок на наших дорогах еще не было. Даже чиновных «Волг» было совсем мало.
— Вот и наши Выселки, наша Трудовая… Притормозить?
Брат остановился напротив дома с номером 21.
— Узнаешь?
— Так это совсем не тот дом, — растерялся я. — Тот ведь, помнишь, какой был? Если не хибара, то…
— Новый хозяин на его месте новый, кирпичный построил. Под шифером. Вот ворота меняет…
В том, уже снесенном, доме прежде жили Петровы. А когда он опустел, в нем поселили нашу семью, только что переехавшую сюда из Миякинского района. Семья — это наша бабушка Елена Даниловна, брат Эдуард, сестра Лена и я. Брат уже работал, сестра тоже нашла себе работу, я поступил в педагогическое училище. Жили чрезвычайно скромно, как и большинство «трудовиков», но дружно, больше будущим, чем настоящим.
Когда старшие оперились и свили свои собственные семейные гнезда, а я стал уфимцем, студентом Башгосуниверситета, дом хозяева продали, а бабушку нашу взяла к себе жившая неподалеку ее старшая дочь Наталья Андреевна Дергачева. Вот к ним, тете Наташе и дяде Сереже, мы и приехали.
Дом этот под номером 35 и сейчас еще стоит на Трудовой улице, но живут в нем совсем другие люди. И наша великая труженица бабушка, и моя любимая тетя Наташа (сестра моей давно покойной матери), и «вечный двигатель» (всю жизнь за баранкой плюс все хозяйственные проблемы по дому) дядя Сережа нашли себе последнее пристанище на погостах Стерлитамака. Не стало и наших двоюродных братьев Леонида и Виктора, а их сестра Мария перебралась куда-то к сыну — военному врачу, служившему тогда где-то недалеко от Москвы…
Это станет потом, а тогда все Дергачевы высыпали на улицу смотреть Эдикову машину.
3
На следующее утро мы на радостях собрались по грибы. Грибники мы были никакие, но как усидишь дома, если выходной день, если конец августа — время первой волны лесных опят и, самое главное, если есть собственное средство передвижения, которое так хочется испытать на загородных дорогах.
И вот мы уже в машине. Галя блаженно прикрывает глаза и говорит свое любимое «с Богом». Трогаемся.
Через несколько минут мы уже на Раевском тракте. Почему именно на Раевском? А шут его знает, надо же в какую-то сторону ехать. К тому же брат вспоминает, что, по рассказам соседей, именно там, в лесополосах и небольших перелесках, как раз и встречаются настоящие грибы.
День стоит на загляденье солнечный, сухой. На полях идут уборочные работы, по тракту взад-вперед снуют машины с зерном, над дорогой кружатся стаи голубей и галок. Но то, что хорошо для жатвы, совсем не обязательно должно быть так же хорошо и для грибов. Тем к теплу требуется и влага. А дождя, похоже, не было давно.
Уже за Рязановкой выбрасываем первый десант в лесополосу. Прихватив полиэтиленовые пакеты и ножи, мы с братом отправляемся на разведку. Он — направо, я — налево. Если кто что-то обнаружит, крикнет.
Долго мы продвигались по своим направлениям, но желанного крика так и не последовало. Потому что в сухой, захламленной всяким мусором лесополосе грибным духом даже не пахло.
— Ну и ладно, — не унывал брат, — в таких при дорожных местах грибы вообще не берут. От выхлопных газов в них столько всякой бяки, не травиться же…
И в самом деле, решили мы единогласно, травиться в такой чудесный день неразумно, даже грибами, лучше свернуть с тракта на проселок и вон на том холмике заглянуть в поджидающий нас чистый перелесок.
Но и перелесок был пуст. Не абсолютно, конечно же: в нем было немало низкорослых кривых дубков, полусгнившего, стреляющего под ногами валежника, сухих бескорых пеньков и даже, несмотря на удаленность, предметов человеческой цивилизации в виде лысых изношенных покрышек, худых ржавых кастрюль и прочего мусора.
— Вот такие дубнячки как раз излюбленные места опят, — обрадовала нас Галя. — Пройдут дожди — все пеньки облепят. А пока сухо. И место слишком высокое, тут влага долго не держится.
— Логично, — заключил Эдик, — найдем место пониже.
— Ну, с Богом!
Находились места и пониже, сухие и влажные, но такие же пустые. Кто другой, может, и огорчился бы, впал в уныние, но не мы. Мы весело перелетали с одного пригорка на другой, вместо грибов собирали умопомрачительные букеты из уже по-осеннему ярких листьев, от одного пустого места торопились к другому, пока не очутились возле маленькой тихой деревушки под еще соломенными крышами.
— А ведь это, по всему, Дергачевка, — сориентировался брат и остановился возле такого же маленького заросшего погоста. — А вот здесь где-то похоронен наш дедушка… Дед Андрей…
Это было для меня новостью.
— Посмотрим?
Мы походили по кладбищу, в котором, наверное, уже не разбирались и местные жители, но ничего родного не обнаружили.
Постояли, помолчали.
— А когда это было? — заинтересовался я.
— В двадцатых годах. Лет шестьдесят назад. Когда нас с тобой еще и на свете не было.
— У-у…
Для меня, и пятидесятилетних считавшего уже стариками, это было очень давно. Чуть ли не век!
— Так, выходит, все наши, — я имел в виду и дедушку, и бабушку, и их детей — тетю Наташу, дядю Федора, нашу маму Веру, еще одну тетю Дусю (потом Горелкину), дядю Ивана — все жили в этой Дергачевке? Тут с Дергачевыми и породнились?
Брат надолго задумался.
— Может, и так… Вот вернемся в город, спросим. Наши ведь были деревенскими кузнецами, поэтому часто переезжали из одного села в другое. А вот где родился ты, я знаю совершенно точно.
— И где, если не секрет?
— Да вон там, за пригорком. На машине дорога на десять минут.
Где родился, я, разумеется, знал, в паспорте об этом четко сказано. Столько всяких бумаг заполнил, а в них графа о месте рождения одна из непременных: «Башкирская АССР, Аургазинский район, Альшеевский зерносовхоз». Исходя именно из этого, я долгие годы считал себя аургазинцем, а те при желании могли бы иметь в моем лице не самого последнего земляка.
Я знал эту строку паспорта наизусть, но вживе этих мест не видел никогда. Так мне в ту минуту казалось.
— Там сейчас находится одно из отделений Первомайского совхоза. И если уж быть совсем точным, именно Южное.
— Вот и нет, — запротестовал я, хотя эти места мне уже нравились. — Я родился не в Первомайском, а в Алыпеевском совхозе. Разве ты моей метрики или паспорта не видел?
— Паспорт, конечно, документ серьезный, — ободряюще приобнял меня брат, — но жизнь не стоит на одном месте. Сначала организовали Алыпеевский совхоз, потом переорганизовали: слишком большим оказался, не управиться. По крайней мере твое отделение из него исключили, а потом и вовсе передали в Стерлитамакский район.
— Это точно?
— Как то, что Волга впадает… Хочешь посмотреть?
В порыве братской любви и нежности мы крепко обнялись и похлопали друг дружку по спинам.
— Ну, с Богом, — пожелала нам счастливого пути Галя.
Вот и Южное. Довольно большое село. Мы остановились возле круглого то ли пруда, то ли озера.
— И где мы жили? Где наш дом? Где стояла кузница?
— А вот этого я уже не помню. Мне самому тогда было лет пять.
— Может, спросим кого? — оглядываюсь я вокруг, ища кого бы расспросить. Но молодые ничего не знали, пожилые задумчиво пожимали плечами и отсылали в контору. В конторе никого не было — обед.
— Дома ты не ищи, его наши перевезли, а кузницу, наверное, продали, — поясняет брат. — Ты лучше думай о другом: это твоя родина. Смотри, запоминай.
Я смотрел, запоминал и вдруг… вспомнил:
— Так я уже бывал тут! Честное слово. Нас, студентов педучилища, привозили на эти поля на уборку. Господи, а я-то и не знал!.. Надо же…
Мы проехали село из конца в конец и на выезде из него брат спросил:
— Ну что, двинулись?
— Куда теперь?
О грибах я совсем забыл.
— Дальше… вслед за нашим домом.
Дорогой — через Верхние и Нижние Услы, Уразметово, Кызыльск — Эдик рассказал мне дальнейшую историю нашего дома и семьи.
Оказывается, корни наши не здесь, а где-то то ли на юге России, то ли в нынешней Украине, а тогда — Малороссии. В ходе Первой мировой войны, когда германская армия активно наступала, на восток, в глубь страны двинулись толпы беженцев. В одной из них и была наша бабушка Елена Даниловна (тогда еще, разумеется, совсем не бабушка!) со своими ребятишками и кое-каким прихваченным на скорую руку скарбом. Дед Андрей (тогда тоже совсем еще не дед!) воевал с немцами, со всем приходилось управляться одной. Пуще всего берегла детей, кузнечные инструменты и… скрипку мужа.
На одной из станций их запихали в товарный эшелон и высадили через много дней далеко от войны возле степного города Оренбурга. А это, считай, уже Башкирия.
Здесь прожили несколько лет — не в самом городе, а где-то поблизости, в одном из оврагов, вырыв в его склонах временные землянки. Много их тут было, бедолаг. Вместе страдали, вместе надеялись, вместе молились. Надеялись, что Господь их не оставит, ждали мужей-кормильцев, молились за победу.
Победы не получилось, но какое-то замирение состоялось, российская армия двинулась по домам, чтобы вскоре втянуться в новую войну — еще более жестокую, гражданскую.
Здесь, под Оренбургом, и нашел солдат Андрей Гизов свою семью. Можно ли представить, как он радовался, увидев всех живыми и здоровыми! Всех сберегла расторопная Елена, даже его любимую скрипицу и самое нужное из кузнечного хозяйства.
Было бы здоровье, можно было бы начать жизнь сызнова, но его-то, здоровья, как раз и не было: крепко и не раз был ранен на войне. Но жить-то надо…
Из сырой землянки, конечно, выбрались, обзавелись лошадкой и отправились на поиски нового пристанища и работы. О возвращении в родные края не могло быть и речи — там, как и здесь, на Урале, шла ожесточенная война, да и средств на такое путешествие не было.
Двигались от села к селу, по-малому кузнечили, обслуживали нужды обнищавшего местного населения. Дед — за мастера-кузнеца, бабушка — за молотобойца. Приноровившийся к кузнечному делу старший сын Федор подменял то одного, то другого. А когда на селе появилась первая техника, — освоил и трактор, и такой же редкий в ту пору автомобиль-грузовик, и молотилку. Как ни трудно жилось, а жизнь брала свое. Оженили Федора, выдали замуж Наталью. Неизвестно, увидел ли дед Андрей своих первых внуков, потому что вскоре умер. Нашу маму выдали уже после этого, еще где-то до Дергачевки и совхоза. К переезду туда у нее уже были и Эдик, и Лена, а в апреле 1938 года появился на свет и я. В том самом Южном, где и застала нашу семью новая беда…
4
— Вот по этой дороге они и ехали…
— Кто ехал?
Я так ушел в рассказ Эдика о злоключениях и бедах нашей семьи, так живо представлял себе и деда Андрея, и бабушку в черной закопченной кузнице, и любителя техники дядю Федора, и совсем еще подростка дядю Ваню, заболевшего в оренбургской землянке туберкулезом и каждое лето нанимавшегося к башкирам пасти их скот за одну только возможность лечить свою болезнь кумысом, и всех остальных, что под конец уже не слышал брата. Вернее, голос я слышал, брат что-то говорил, говорил, а я все думал, представлял, но уже не вникал в рассказываемое.
— Ну, те мужики, что, разобрав, перевозили наш дом.
— А, — вспомнил я, — те, что согласились везти только до захода солнца? Много подвод, наверное, было?
— Не знаю. Бабушка всегда с благодарностью вспоминала их. Как они спешили увезти их подальше за границу района. Как жалели их…
Теперь я представлял, как эти подводы обозом тянутся по пыльному проселку, как рядом с ними или позади бредут самые близкие и родные мне люди. Меня, грудного ребенка, несет мама, двухлетнюю сестренку Лену — бабушка, Эдик временами семенит рядом, временами забирается на телегу, на мягкие мешки и узлы. А потом опять семенит, держась за материнский подол.
— Но еще чаще бабушка вспоминала и молилась за того, кто той ночью тайно посоветовал нашим срочно скрыться из района. А то, мол, будет плохо всем…
Да, бабушка и при мне вспоминала этого неизвестного ей человека, но от ответа на вопросы — за что, почему? — всегда уходила, ссылаясь на время. «В такие времена жили, сынок».
Так же она уходила от моих расспросов об отце. В нашей семье считалось, что он на войне, а когда та закончилась, — может, погиб, может, пропал без вести и когда-нибудь явится. Надо только ждать и молчать.
Связи между нашим бегством из Южного и долгим ожиданием отца я не почувствовал и сейчас. Тем более, что давно уверился в смерти отца. Уверился и смирился, как миллионы других.
— Вот здесь они и разгрузили свои телеги. Едва пересекли границу Миякинского района — солнце закатилось…
Машина остановилась на краю просторного поля. Мы вышли из нее. Брат пытливо смотрел мне в лицо, словно чего-то ждал. А я смотрел вокруг и с трудом возвращался из того давнего обоза в сегодняшний солнечный день, на это поле.
Смотрел вокруг и как бы узнавал: вот эта заросшая дорога ведет в Софиевку, вот эта травянистая ложбина вон у тех ив превращается в Костюковский овраг, вон за тем полем течет наша тихая полевая Кызылка, а здесь…
— Вот здесь и стоял он, наш дом. Здесь мы прожили много лет…
Но дома не было. Опять не было. Куда его увезли на этот раз? Кто? Зачем?
Мы стояли на месте не только исчезнувшего дома, но и на месте исчезнувшей деревни. Маленькой, в каких-то двадцать дворов, бревенчатой, саманной, соломенной, бесконечно бедной и бесконечно родной. Теперь от нее не осталось ни одного дома, ни одного дерева — никакого следа.
Эдик с Галей, должно быть, видели эту картину не в первый раз, а я был в шоке. Так, вместе с ними молча прошел по бывшей улице нашей бывшей деревни. Брат показывал места, где стояли дома наших односельчан, называл памятные мне фамилии и имена, а я представлял себе их лица, голоса, особенно мальчишек и девчонок, своих ровесников. Где они сейчас? Куда переехали их дома? Как сложилась их жизнь, ведь многие из них, как мне помнится, не ходили даже в нашу начальную школу, не говоря уже о семилетней, находившейся на центральной усадьбе колхоза в Софиевке.
Там, где должен был бы находиться последний дом, дорога сворачивала налево и, пробежав вдоль огородов, вела к кладбищу.
Это — тогда.
А теперь ни дома, ни огородов, ни дороги не было. Но кладбище сохранилось. Маленьким зеленым островком оно покоилось посреди неоглядного желтого моря пшеницы, уже готовой к жатве.
Осторожно раздвигая ее высокие тугие стебли, мы цепочкой, стараясь двигаться шаг в шаг, подошли к этому островку.
Могилу матери брат нашел сразу. Видать, наведывался сюда не раз, не то что я, слишком рано отколовшийся от семьи и чрезмерно занятый собственным выживанием. Как же это нехорошо!
Огонь стыда обжег мне лицо, перехватил дыхание. Глазам стало горячо и влажно. Прости, мама! Теперь я уже не потеряюсь. Я выжил. Не бойся за меня…
К месту нашей бывшей усадьбы возвращались молча. Так же, молча, расстелили на траве прихваченную из дому клеенку, и, пока мы с Эдиком курили, Галя быстро собрала нам обед. Блинчики, котлетки, лучок… Даже бутылочку домашней смородинной настойки вынесла из машины.
— Это за встречу… за свиданьице…
Если б она знала, какое это было для меня свиданьице, какая встреча!
Должно быть, брат понимал мое состояние и то и дело пытался как-то отвлечь. То вспомнит о чем-нибудь веселом, то спросит, помню ли такого-то или такого-то, а вот поднялся, пробежал к ручью, машет рукой.
— Смотри, кто у нас тут поселился! Да в прежние годы во всей округе ни одного такого кустика не было.
— А что это?
Книжный городской человек, я тогда мало что понимал в целебных травах.
— Дикий подсолнушек.
Смотрю — и в самом деле: ствол высокий, крепкий, листья широкие, шероховатые, большие, а вот корзиночка наверху всего с кулачок. Еще цветет.
— Ну и что, — говорю равнодушно. — Мало ли на полях подсолнухов. Не диких.
— Так это совсем другое, — продолжает радоваться своему открытию Эдик. — Это же девясил. Читал, слышал? Ну, вот он и есть. Наверное, птички откуда-то занесли. Значит, земля наша чистая, здоровая. На плохой, говорят, он так мощно не растет. Когда заведешь сад, обязательно у себя посади. А этот, так и быть, я перенесу в свой…
Осторожно выкопав целебного богатыря, имеющего аж девять сил от различных болезней (придет время — и я в этом тоже смогу убедиться!), брат тщательно упаковал его в мягкую мешковину и уложил в багажник своего «Москвича».
— Ну, что, братья, в дорогу? Насмотрелись, нарадовались?
Это — Галя.
В городе ее ждут домашние дела, а нам не хочется. Мы все еще целиком здесь, в своем прошлом. Оно крепко держит нас на этой земле, не отпускает.
— Вот так этот краешек Миякинского района стал для нас с тобой новой родиной, — возвращаясь к своим мыслям, сказал брат. — Для тебя, по сути, другой и не было. Здесь мы выросли, отсюда ушли в большую жизнь. И не наша вина, что все так случилось.
И вдруг участливо и как-то бережно спросил:
— А ты хоть помнишь, как маму хоронили? В апреле сорок второго. Тебе как раз четыре года исполнилось. А?
Странно, но это я помнил. Ни лица мамы, ни ее голоса не помнил, а вот как везли, как опускали гроб, как деревенские женщины пели «Смертью смерть поправ» и еще что-то молитвенное, ясно вспомнил и сейчас.
— А помнишь, как в гроб листок положили? С нашим адресом. Это взрослые специально придумали для нас, чтобы ждали и верили — напишет. Ты верил, ждал. И мы с Леной тоже. Забыл?
Нет, и этого я не забыл. Хотя мудрость и доброту взрослых понял и оценил не сразу, лишь повзрослевшим умом.
— А вот на отцову могилу и сходить нельзя, — поник головой брат. — Он ведь не на войне погиб. Его, как и дядю Федора, арестовали в тридцать восьмом. Как многих и многих. А оттуда… сам знаешь…
— Что ты говоришь? — вскинулся я на него. — Какой арест, какой тридцать восьмой? Мне сам дядя Ваня Скороходов, когда с войны пришел, говорил: видел на фронте моего отца. Уже где-то за Одером. И танкиста дядю Федора тоже. Ты же сам слышал. Не поверил, что ли?
Брат осторожно обнял меня за плечи и тихо повел в сторону бывшего соседского двора, где жили наши шабры Скороходовы.
— Тогда, мальчишкой, поверил и я. Но рассуди сам: отца нашего сосед дядя Ваня никогда до войны не видел и видеть не мог, потому что в то время мы здесь еще не жили. Об аресте отца сообщил нашим тайный ночной гость в Южном. Из-за этого мы и бежали оттуда. Сюда мы переехали уже без отца. Больше того — никогда о нем при чужих не говорили. И при тебе тоже: жалели, ждали, когда вырастешь и все поймешь сам. И теперь…
— Не верю! Не верю!! Не верю!!!
Дальше ни себя, ни брата я уже не слышал. Страшная, непонятная, сокрушающая боль хлынула неведомо откуда в мою голову, ослепила, оглушила, отняла все силы. Первой поняла это Галя, хоть и не врач, но все-таки опытная медичка. Тут же в ход пошли имевшиеся в дорожной аптечке таблетки — анальгины, пенталгины, спазмолгоны, — все впустую, ничто не помогает. Пришлось спешно грузиться и отправляться в город. Дорога туда показалась мне на этот раз ужасно долгой. На квартире брата меня, кажется, чем-то кололи, и я уснул…
Через день я вернулся к себе в Уфу. От слабости слегка покачивало, но боль отпустила. Входя в подъезд своего дома, я почувствовал, что меня вдруг настоятельно потянуло к почтовому ящику. Подбегаю, распахиваю дверцу — пусто! А я, чудак, чего хотел?..
5
Однажды мне случилось побывать в Толбазах в гостях у нашего родственника Айрата Юнусова, который сделал мне царский подарок — свозил «на кумыс». «На кумыс» — значит в луга, где все лето пасется табун кумысных кобылиц. Там все обустроено и для производства кумыса.
Никогда в своей жизни — ни до, ни после — пить такого свежего, ароматного, удивительно вкусного напитка здоровья мне не доводилось. Но это еще не все — я вдоволь налюбовался прекрасными лошадьми, которые, ничем не стесненные, буквально наслаждались свободой и в то же время не порывали своей дружбы с человеком.
Вымечко у дойной кобылицы небольшое, и дает она в один раз совсем не много молока. Но зато часто, несколько раз в день. Когда приходит ее время, она сама прибегает на ферму, становится в станок и легким ржанием зовет к себе хозяйку. Та непременно обласкает ее, угостит сахарком или корочкой хлеба и, подоив, опять отпускает на волю. Кобылиц много, и это доброе призывное ржанье слышится постоянно.
Мы буквально смаковали свежайший кумыс, любовались лошадьми, и я то и дело возвращался мыслями в свое деревенское детство, где тоже была конеферма, лошади, какие-никакие луга.
Но, в сравнении с этими, разве же это были лошади?
Конечно, шла война, лучших коней взяли на фронт, а на оставшихся, далеко не самых рослых и крепких, свалилась вся тяжесть бесконечных сельских работ. На них пахали, бороновали, сеяли, косили жнейками хлеб, возили зерно, сено, солому, силос.
Особенно трудными для них были зимы, когда из кормов была одна солома, а овса они не видели вообще. Овес, когда он случался, придерживали до весны, когда нужно было подкормить рабочих лошадей, предназначенных для пахоты, самой трудной крестьянской работы. Остальные доживали кое-как в надежде на раннюю весну и обнажившуюся из-под снега сухую прошлогоднюю траву. Иных, вконец обессилевших, приходилось подвешивать на вожжах, перекинутых через матицы фермы, потому что стоять на ногах они уже не могли. Поили и кормили с рук. В корм шло все, что могли разжевать лошадиные зубы: слегка смоченная теплой водой солома, мякина, хворост. Не все из них доживали до лучших дней.
Правда, и в эти ужасные годы изредка доводилось видеть «настоящих» лошадей.
Вспоминаю, как однажды по деревне разнесся поразительный слух: привезли Гитлера! К нам! Самого главного фашиста! И заперли на конном дворе!
Мальчишки ликовали, взрослые смеялись и отмахивались от наших расспросов, и нам ничего не оставалось, как удостовериться самим.
Была зима, не у каждого нашлось что надеть, но кто все-таки как-то обмундировался, собрались в дежурке конюшни.
Дежурка эта представляла собой небольшой рубленный домик с маленьким окошечком и тяжелой скрипучей дверью. Если хватит сил открыть ее, то попадешь в самый настоящий рай. Самое главное — теплынь. Огромная печка топится почти постоянно, в ней греется вода. Чтобы поддерживать огонь, требуется уйма топлива. Леса, а, стало быть, и дров в наших местах нет, их заменяла солома. Ее привозили с поля и затаскивали в дом, в котором она занимала почти все свободное пространство. Ею конюх топил печь, на ней спал, сидя на ней же, чинил изношенную упряжь.
На этот раз он вил из конопли новые вожжи. Мы валялись на соломе около, наслаждались теплом и канючили:
— Дяденька, покажи нам Гитлера!
— Какого еще Гитлера? Кто же это словчился его пумать? Не вы ли — во сне, мелкота?
— Ну, дяденька… Мы же знаем. Все говорят…
— Вот кто говорит, тот пущай и показыват.
— Нам бы хоть в щелочку глянуть…
— А он не сбежит?
— Вот, смотри, сбежит — тебя на фронт пошлют!
— На своих фронтах я уже побывал, не пужайте.
— Ну, одним глазком… Мы его бить не будем, ей-бо!
— У нас даже рогаток нет…
Конюх наконец-то сдается, и мы выкатываемся из дежурки следом за ним.
Но где заперт этот самый Гитлер?
Может, здесь где-то есть маленькая тайная тюрьма? Или глубокий погреб?
Но дяденька конюх ведет нас в самый конец конюшни, приоткрывает какую-то дверь.
— Ну, глядите. Только не лезьте, а то может копытом зашибить.
— Гитлер — с копытом?
— Ребя, так то беса пумали!..
Мы дружно шарахаемся от страшной двери и, давясь и толкаясь, гуртуемся за спиной старика. Лишь самые смелые, к которым я себя не отношу, выглядывают из-за него и горячо шепчут:
— Там чего-то белое…
— Большое…
— Черт не может быть белым. Белые только ангелы, а черти все черные. Потому что из ада.
Это уже я подключаюсь к их наблюдениям. Моя бабушка очень богомольная, читает молитвенные книги и все про это знает.
Мальчишки соглашаются со мной: в этих делах я для них авторитет.
— И все ж таки там чего-то белое… в темноте.
— И что-то светится…
— Это у его глаза горят.
— У бесов, если хочешь знать, глаза завсегда огненные!
— Выходит, ребя, это все же белый бес!
Вдруг за дверью что-то громко фыркает. Как лошадь. Этот звук буквально выметает нас из конюшни, и в себя мы приходим только на соломе в дежурке. Здесь всегда полутемно, и мы бдительно осматриваемся — всем ли удалось спастись. Мы-то, мелкота, все в сборе, а вот дяденьки конюха нет, пропал, поди.
Пока мы, перебивая друг друга, судим-рядим о том, что произошло и кому идти спасать конюха, заявляется он сам.
— Эт чего вы так рванули, как воробьи от кота? Гитлера испугались? Вот тоже нашли делов…
Сейчас мы уже боимся и его: а вдруг бес Гитлер обернулся нашим конюхом и теперь пришел за нами? Бесы, они на все плохое способны, не зря Господь их из своего рая изгнал.
А старик, слышим, смеется.
— Эх вы, срамота. Еще не увидели, а уже наутек. Вот сейчас поить буду, поглядите что за зверь. Ух и зверь я вам скажу!..
Набрав полное ведро теплой воды, дед опять отправился в конюшню. Мы, опасливо озираясь, — за ним. Остановились в воротах — ждем, что будет.
А конюх тем временем исчез со своим ведром в темной загородке, погремел там чем-то железным и, не успели мы снова испугаться, вывел к нам в поводу… Коня.
Не лошадь, не конягу, а именно так — Коня.
Белого, с проседью, как бы всего в чистом серебристом инее.
Огромного, бокастого, округлого, как бочка.
С могучими толстыми ногами, большой головой и великолепным хвостом.
А на голове — такие большие, смирные и добрые глаза…
— Таких лошадьев не бывает, — пропищал из-за ворот чей-то тоненький голосок.
— А как он побегет… такой?
— Как он таким сделался? Надулся, что ли?
— А где все ж таки… этот… немецкий Гитлер?
— Сбежал, сбежал!..
Дед-конюх любовно оглаживал упругие бока Коня, расчесывал своей корявой пятерней его седую гриву, восторженно покачивал головой.
— Вот это он и есть… красавец наш… Гигант, картина писаная… Богатырь!..
А мы — в один голос:
— Дяденька, Гитлер, однако, у тебя сбег. Скачи догонять, а то…
Дед широко улыбается в свою мохнатую бороду и довольно разводит руками:
— Так вот же он, огольцы. Он самый и есть… прости господи…
— Скажешь еще — Гитлер?
— Гитлер… Такой, значится, редкий благородный конь…
Невидимая метла опять выметает нас за ворота, но мы уже стреляные воробьи, на мякине нас не проведешь.
— Дяденька, так это же такой конь, а куда Гитлера дел? Нам Гитлера поглядеть охота.
— Так это ж и есть он… Тьфу, и какой дурак таким гадким словом доброго коня изругал!..
Да, странный, непривычный для нас был этот трофейный немецкий конь-тяжеловоз. Видно, наши привезли его неспроста, решили и в России развести такую могучую породу, а нашей бригаде поручили содержать его до нужного часа.
Не сразу, но довольно скоро и мы, мальчишки, привыкли к этому чуду. Помогали конюху убирать за ним, выводили на прогулку, даже забирались на его широченную спину. Правда, по имени никогда не называли.
Конь — и все.
В то время, как наши рабочие лошади падали от голода, для этого «барина» с центральной усадьбы колхоза регулярно доставляли добротный овес. Узнав об этом, мы в душе возмутились и решили по-своему исправить такую вопиющую несправедливость. Не сговариваясь, мы каждый день стали являться поухаживать за пленным конем, особенно в то время, когда конюх в очередной раз задавал ему корм. Нам он вполне доверял и вряд ли догадывался, что часть овса из его кормушки незаметно исчезала в наших карманах. Оттуда со своих ладошек мы скармливали его нашим бедолагам, чем, думается, кое-кого из них спасли от голодной смерти.
Весной и бабы заговорили об этой несправедливости. Еще бы: тройка истощенных за зиму наших лошадей еле тащит за собой плуг, а этот иностранец знай себе прохлаждается и нагуливает жир. Запрячь и его в плуг! Пусть тащит! Для него это не работа, а прогулка на свежем воздухе. Нечего зря корм переводить!..
Так прижали бригадира, что тот вынужден был согласиться, лишь просил «не базарить об этом по сарафанному радио» и пахать где-нибудь подальше от людских глаз.
Самые бойкие тут же кинулись в дежурку за упряжью. Но на великана Гитлера не нашлось ни одного хомута, ни одной уздечки. Дали задание деду-конюху — изготовить немедленно. Не успел дед: забрали Гитлера из нашего колхоза. Может, на конезавод новую породу зачинать. Может, в другое хозяйство — на новый курорт. Очень сожалели об этом наши бабы.
И все-таки повидал я, повидал даже в те лихие годы и прекрасных местных коней, проскакавших двумя сказочными тройками по студеному полю моего детства!
…Жила в нашей деревеньке семья Соколовых. Хозяин погиб на войне. Уже в годах, отец пятерых детей, но — Родина зовет, тем более год еще призывной.
С мальчишками из этой семьи мы водились, а вот старше их были две сестры-красавицы на выданье. И надо случиться такому счастью: нашлись для них женихи! Не у нас, конечно. У нас вообще ни одного мужика не осталось, ни один парень до серьезного возраста еще не дотянул. То, что и подростки в работе шли за парней и мужиков, — не в счет: война. Это она их раньше времени в званиях повысила. Хотя им самим ох как хотелось действительно быть взрослыми по-настоящему.
Оба парня-жениха были из неведомого нам Нового Мира, более того — родные братья. Сначала, как и положено, женился старший на старшей сестре. Пошумела, попела, порадовалась деревня, а тут опять свадьба. И опять у Соколовых. Теперь младший брат младшую увез.
Что тут говорить, и история красивая, и невесты были на загляденье, и женихи просто замечательные, но мне больше понравилось и запомнилось другое. Тройки!
Ах, на каких же сказочных тройках, в каких же изукрашенных санках-кошевках, под какой малиновый звон колокольчиков и гармошек увезли удалые новомировские женихи наших девчат!
Больше таких коней я никогда не видел, ни на конезаводах, ни на скачках, хотя бывал на них не раз. Видно, такие прекрасные кони могли прискакать только из далекого Нового Мира, такого же яркого, красивого и, несмотря ни на что, счастливого, как ушедшее детство.
6
После того как мы похоронили нашу бабушку, я почувствовал, что осиротел вторично. И хотя теперь мне было уже не четыре года, а куда как больше, горе мое было безмерно. Это лишь в раннем детстве в силу непонимания случившегося и его последствий все плохое быстро забывается и глубина его не столь трагична. Должно быть, сама природа оберегает таким образом малое неокрепшее существо для будущего, где будут свои потрясения и трагедии, осилить которые дано лишь стойкому, сильному организму.
Сколько себя помню, отсутствие мамы не очень удручало меня. У других деревенских мальчишек и девчонок имелись свои мамы, но зато у меня была такая бабушка, каких не было ни у кого. Очень рано заменив мне мать, она и воспринималась как мать, а то, что называлась бабушкой, большого значения не имело. Вот только писем с «того света» я ждал с замиранием всего моего маленького сердца, трепетно и как-то болезненно, но и это постепенно отпустило, ушло куда-то в подсознание, потому что у меня была бабушка. И не просто бабушка, как все бабушки на свете, а бабушка-мама…
И вот через месяц-другой я опять приехал в Стерлитамак, на Трудовую. В доме Дергачевых было как-то пусто и печально. Теперь я заметил, что и моя любимая тетя Наташа уже совсем старенькая, и «вечный двигатель» Сергей Кириллович заметно сбавил обороты и хоть со всем управляется, но ходит и даже говорит как-то замедленно, точно преодолевая внутри себя какие-то невидимые препятствия.
Попив с ними чаю, я по обыкновению отправился «посмотреть город». Он давно уже перестал быть «большой деревней», теперь это второй по индустриальной мощи город республики. Да и внешний облик его разительно изменился.
Я уж не говорю о том, что, шагнув за Стерлю, он широко и смело двинулся не только на север, но и на запад. Взять те же Выселки. Когда-то, даже хорошо спланированные, они имели жалкий вид бедного пригорода. В дождливую погоду, в осеннюю и весеннюю пору по улицам можно было пробраться, лишь тесно прижимаясь к заборам, и непременно в высоких резиновых сапогах. Ездить по ним машинам было весьма рисково.
Сейчас тут везде асфальт, зелень, в домах электричество и газ. Сами дома, конечно, — обыкновенные российские избы, до вилл и коттеджей зарубежных городских пригородов им далеко, но ведь и Урал — не Флорида, и Стерлитамак — не Париж.
Иду знакомыми улицами, радуюсь хорошему дню, веселому гудению автомобилей на улицах с односторонним движением, думаю, вспоминаю…
Стерлитамак — первый город в моей жизни и судьбе. Это потом будут и Белорецк, и Уфа, и сама Москва, но первый-то именно он!
Когда-то, давным-давно, наверное, сразу после войны, кто-то из моих двоюродных сестер Дергачевых увез меня из моей глухой степной деревушки к себе в гости. В город! Показать машины, электрический свет, радио! Удивить высоченным мостом через Стерлю! Паровозами, самолетами, шиханами! Огромным базаром, четырехэтажным мелькомбинатом, магазинами, театром, баней…
Наверное, все или почти все это они мне показали. Наверное, всему или почти всему этому я очень удивлялся, но города своей деревенской душой я не принял. Категорически. Казалось, на всю жизнь.
Мне, маленькому, песчинке в великом муравейнике города, здесь было невыносимо тесно.
Здесь не было горизонта.
Здешний ветер не пах полевыми цветами, потом рабочих лошадей, живительным духом перепревшего навоза.
Здесь нельзя было крикнуть в своем дворе, чтобы тебя услышали в другом конце деревни.
Здесь негде было играть.
Здесь даже не отвечали на твое приветствие!..
Однажды я сам напросился сбегать в магазин, кажется, за солью. Тетя Наташа дала мне деньги, авоську, объяснила, где находится ларек, — и я побежал. Бегу, а сам слежу за заборами, где они пересекутся и повернут, и сколько раз повернут, и в каком направлении.
Чтобы добраться до ларька, находившегося в трехстах метрах от дома, мне пришлось обежать едва ли не половину Выселок. Обратно — то же самое. Бесконечные серые заборы, как заколдованный лабиринт без входа и выхода, парализовал волю, вселил в мою душу не просто страх, а самый настоящий ужас, и я разревелся. Какая-то сердобольная женщина взяла меня за руку, перевела через перекресток, свернула за угол и мягко подтолкнула в спину:
— Вон твой дом, иди…
Пройдет семь лет, и я опять окажусь в этом городе, — чтобы жить, учиться, работать. Детские представления и страхи уже не будут довлеть надо мной. Место их займут признательность и любовь. Они раскрепостят мою душу, откроют ее всему хорошему, что было в том городе и в том времени. Эта благодарность и любовь будут греть меня всю жизнь.
Вот так, значит, иду я по городу, думаю и вспоминаю.
Улица Мира — бывшая Сталина. Переименовали, но, слава богу, хорошо. Улица Маркса: отрезок от Главпочтамта до Хмельницкого — первый в городе асфальт, причем отличнейшего качества, не то что современный. В летние вечера здесь проходили стихийные гуляния горожан. Ведь улица еще и освещалась.
Здесь же находился самый популярный кинотеатр. Неподалеку — драматический театр. В саду имени Кирова — летний театр, где впервые в своей жизни я увидел настоящий «живой» спектакль. Воплощенная на сцене сказка Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек» так взволновала меня, что я тут же принялся строчить пьесы. Ничего путного из этого не вышло, но любовь к литературе, поселившаяся во мне еще в Софиевской школе, еще больше окрепла. Впоследствии именно литература станет моей профессией, делом моей жизни и совести. Если бы не она, не было бы и этих записок.
За новым мостом через Стерлю, в сыроватой низинке, засаженной тополями, внимание проезжих и прохожих привлекает одноэтажное, но довольно массивное кирпичное здание. Тут в последние годы своего существования располагалось наше педагогическое училище. Здесь я учился у таких замечательных педагогов, как Наталья Андреевна Ефременко, Бруно Вильгельмович Грюнвальд, Надежда Дмитриевна Курбатова. Светлыми и тяжкими были для меня эти годы: на всем курсе из мальчиков я оказался единственным, все — девочки. Это при моей-то замкнутости и прямо-таки чудовищной стеснительности, которые до сих пор портят мне жизнь. А что уж говорить о комплексах только что пришедшего из совершенно другого, деревенского, мира подростка!..
По новой части города так запросто не походишь — она огромна. Благо, в Стерлитамаке (на зависть Уфе) хорошо работает общественный транспорт. И вот я еду, думаю, вспоминаю…
Вот справа — огромные строения элеватора. Одно лето я работал тут с моим другом Мишей Кацуком на строительстве какого-то корпуса (поди разбери теперь, какого!). Нужны были деньги, чтобы поехать в Белорецк доучиваться, потому что наше здешнее училище почему-то расформировали. Деньги мы заработали, поехали, доучились. Это был первый заработок в моей жизни.
Вон за Двухсотым кварталом сквозь зелень вездесущих тополей и кленов виднеются гаражи автолюбителей, в одном из которых стоит, дожидается своего хозяина «Москвич» моего брата. Сегодня беспокоить его я не стану, у него и без меня забот, поди, немало.
Когда впереди на фоне синего августовского неба вырисовываются высокие ажурные «этажерки» завода СК, я вспоминаю, как нас, учащихся педучилища, студентов и старших школьников, привозили сюда расчищать от снега огромную строительную площадку. Ну да, как раз под этот самый завод. А неподалеку уже вовсю дымили мощные трубы ТЭЦ и содово-цементного комбината, ненасытного пожирателя моих любимых шиханов. Я тайно недолюбливал его за это, однако вместе со всеми восторгался впечатляющей картиной торжествующей индустрии. Думается, никто из нас в то время о проблемах экологии даже не слышал.
Промышленная зона осталась позади, за окнами троллейбуса плывут пейзажи жилого массива. Где-то среди этих домов находится (а вон и оно!) памятное мне молодежное общежитие. А памятно вот чем. Как-то общество книголюбов попросило меня зайти в это общежитие и почитать молодежи свои стихи, рассказать о новинках башкирской литературы.
Надо сказать, что в 60—70-е годы интерес к литературе в обществе был большой, книги наши расходились массовыми тиражами, и нас, писателей, старались залучить к себе не только библиотеки. Вот и я, держа данное слово, не забыл про это общежитие. Прихожу, а мне: «Роберт Паль? Такого писателя нет и быть не может!» Почему «не может» я не понял, но запомнил. Как веселый анекдот из нашей не ахти какой веселой писательской жизни.
7
На автовокзал к отправке уфимского автобуса я опоздал. Теперь придется ждать вечернего, вздохнул я без особого сожаления и пошел в буфет перекусить. Накупил любимых пирожков с капустой, взял бутылку лимонада и только устроился за столиком, — радио объявляет посадку в автобус, отправляющийся в Раевку.
И тут со мной что-то случилось. Подхватившись, я не раздумывая помчался в билетную кассу, купил себе билет и влетел в салон, когда водитель уже собирался закрыть дверь.
И вот я еду, совсем не давая себе отчета — куда и зачем. Только глазами отмечаю поворот на Раевский тракт, перекресток с дорогой Уфа — Оренбург, Рязановку, Услы… И на душе сделалось так хорошо: я опять побываю на родине.
Пусть не обижаются Первомайский совхоз и Стерлитамак, но Миякинский район с его существующими и исчезнувшими деревнями — тоже моя родина. Если в Южном я родился, здесь сделал первые шаги по земле. Эта земля вскормила меня, дала окрепнуть и осознать себя. Спасла не только меня, но и всю мою горемычную семью.
Опять стоял яркий солнечный август, на полях шла уборка, над дорогой вслед за отвозящими от комбайнов зерно машинами вились стаи голубей, галок и грачей. По этой дороге когда-то везли наш дом — с одной родной земли на другую, тоже родную. Потом — родную, а тогда еще неведомую и чужую.
У поворота на Кызыльск я попросил остановиться. Вслед за мной из автобуса вышла уже немолодая женщина, неся что-то тяжелое в туго перетянутой бельевой веревкой коробке.
Я предложил ей свою помощь, если и она идет в Кызыльск. Оказалось — именно туда. А в коробке — телевизор, который она возила в город на починку.
— У меня там дочка живет. А зять, такой умелец, взял и все в минуту наладил. Опять в цвете будет показывать. Очень мои внучки сказки смотреть любят…
До совхозного поселка верст семь, ну, думаю, умаюсь, а тут навстречу — мотоцикл с коляской.
— Это за мной, — обрадовалась моя попутчица. — Сын встречает.
Я помог ей устроиться в коляске, подал коробку.
— А вы на сиденье садитесь. Вам ведь тоже в Кызыльск?
— За Кызыльск, — усмехнулся я.
— Ну вот! Все короче дорога станет.
В поселке я поблагодарил за услугу, а она и спрашивает, да так участливо, заранее жалея:
— Вы не в Писаревку ли? Так Писаревки давно нет…
— Нет, — говорю, — мне дальше.
— Тогда в Бондаревку? Так ведь и ее…
Я опять качаю головой.
— В Софиевку, выходит. Ну, эта стоит. Сейчас там тоже, вроде бы, совхоз.
— Нет, — уже откланиваюсь я, — на этот раз ближе. В Блюменталь. Была такая деревенька, где я вырос…
— Это к немцам? Слышала. Только и этой нет.
— А я ненадолго — лишь посмотреть. Там моя мама схоронена.
— Сердце, стало быть, позвало. Добрый знак…
Я уже выходил на дорогу, когда она окликнула меня, ведя старенький велосипед.
— Пешком далековато будет. Возьмите этот, все-таки на колесах.
Я удивился — как это можно, первому незнакомому прохожему? — и принялся отказываться.
— Почему чужому? Мы всегда шабрами считались. Почему бы не помочь? На обратном пути заедете. Берите, день на вечер пошел, поезжайте.
— Завтра верну, спасибо!..
Так я оказался «на колесах» и через полчаса уже шел по исчезнувшей улице нашей исчезнувшей деревеньки. Оглянусь — постою, постою — подумаю, повспоминаю.
Тут, на отшибе, жил угрюмый и нелюдимый дед Костюк. Когда одно время он был у нас бригадиром, то на каждого, как ему казалось, лодыря на всю округу кричал: «Я тебя за Сахалин отошлю!» Ну что спрашивать с сурового Сталина или кровожадного Ягоды, если, считай, в каждом селе у нас находились такие самодеятельные отсылатели!
Рядом с ним жила многодетная солдатка Марфа Деркач. Потом пара усадеб пустовала. От одной из них остался лишь колодец, которым мы пользовались, потому что своего у нас не было. Далековато, но зато вода — лучше не бывает.
Вот за этим колодцем жили мы, потом Скороходовы, Лопуховы, Кочергины, Тымовы, Латышевы, Соколовы, еще одни Кочергины… Тут, между Кочергиными и Комаровыми, стояла наша начальная школа — прекрасно срубленный из сосны и крытый железом дом со множеством больших окон и с просторной дощатой прихожей. В одну смену в школе занимались 1, 3 классы, в другую 2, 4. Учителя часто менялись, приходили из Софиевки, Бондаревки, еще откуда-то. Хорошо помню милую Анну Андреевну, громогласного, доброй земской закваски Петра Покотило, совсем еще девочку Александру Абрамовну. Когда появилось кино, изредка сюда заглядывала передвижа. Тут же проходили различные выборы, собрания, школьные концерты… Спасибо тебе, родная школа, где ты теперь?
А дальше, в горку, шли Комаровы, Дементьевы, Черноволовы, еще кто-то… никак не вспомню. Был бы рядом брат, никого бы не забыли.
Заключали этот порядок улицы Пеновы, с ребятами которых я дружил. А в другом порядке, за ручьем, находился конный двор, потом стояли дома Бартковых, Рачинских, Гулиных, Устивицких, Ручевых, еще одних Устивицких, Киновых… Прямо напротив нас в чистенькой саманной украинской хате жили очень симпатичные старики — дид Грыцько с супругой. Дид, высокий, уже слегка сутуловатый казак, учил меня косить, отбивать косу и всяким другим мужским крестьянским делам…
Ходил я вот так, останавливался, думал и вдруг вспомнил свою кызыльскую спутницу, ее вопрос — куда я иду: «Это к немцам?» А ведь и раньше мне приходилось слышать, что это немецкая деревня. Из-за четырех-пяти семей, давным-давно перемешавшихся и перероднившихся с русскими, украинцами, татарами? Не мало ли?
И что это за слово такое — Блюменталь? Откуда оно тут, в глубине России, посреди башкирских степей? Да все оттуда же, откуда и башкирский аул Париж, например. Или Венеция, Швейцария.
Как-то в Уфе ко мне показать свои поэтические опыты пришел один средних лет представительный мужчина. Стихи ученические, ничего особенного не представлявшие, и я их не помню. Зато фамилия у автора была, для меня по крайней мере, выдающаяся: Блюменталь.
— Так это же название нашей деревни! — не удержался я от восторга и удивления. — Я родился не там, но там вырос. Это в Миякинском районе.
— Знаю, — усмехнулся стихотворец.
— Вы тоже там жили? Когда? Почему-то я вас не помню.
— Не я жил, а мой дед. Впрочем, сам он жил в Берлине, а здешними имениями занимались его управляющие.
— И Блюменталь…
— Так в то время было принято — называть имение фамилией хозяина. Как Аксаково — у Аксаковых, Зубово — у Зубовых, Тимашево — у Тимашевых.
— Понятно. Блюменталь, выходит, был его любимым местом?
— Да, с него и началось. После он прикупил к нему все земли от Мияков до Раевки. Ничего себе колхоз, правда? — самодовольно и снисходительно улыбнулся внук Блюменталя и сам Блюменталь. — Целое княжество!
Вспомнив эту более краеведческую, нежели литературную беседу, я стал прикидывать, где же могла находиться усадьба этого помещика-иностранца. Перебрал в памяти все дома, которые запечатлелись особенно ярко, но так ни к чему и не пришел. Школа — слишком типовое, земское строение. Дом деда Андрея Кочергина? В саду, с ульями, но деревья не плодовые — тополя, клены, акация; зачем помещику, да еще практичному немцу, такой сад?
Дом Черноволовых? Комаровых?
Может быть, Комаровых.
Но с еще большей вероятностью — Соколовых. Лучше их дома во всей деревне не было. Хотя кто его знает, этого господина Блюменталя. И что это я к нему так привязался? Сдался он мне…
Раздосадованный тем, что не могу вспомнить всех своих земляков, через уже скошенное поле направился на кладбище. Нашел могилу матери, рассказал ей о нашем горе, ведь теперь и она осиротела: ее маму, а нашу бабушку, мы недавно похоронили. В ответ мне что-то прокаркала на дереве одинокая ворона, а на плечо, неслышно слетев с поникшей ветки, мягко лег большой и прохладный кленовый лист. Точно материнская рука…
Потом, ведя в руках одолженный мне велосипед и виляя между еще не состогованными копнами соломы, я вернулся на нашу бывшую усадьбу. Здесь стоял наш дом. Перед ним росли три больших тополя и целые заросли колючей чайной розы и мальв. Тут же умудрялись найти себе местечко ярко-желтые, с коричневыми полосками чернобривцы — так бабушка на украинский манер называла календулу. Никто их не сеял, они сами заботились о себе. А о том, что на зиму розы нужно обрезать и укрыть, никто даже не задумывался, их надежно укрывал высоченный снежный сугроб.
Иногда заговаривая об отце, бабушка непременно подчеркивала две его характерные черты: то, что он любил и умел работать с деревом и что не прочь был чем-нибудь пощеголять. О первом свидетельствовал резной фронтон дома, сработанный его руками и бережно восстановленный на новом месте. О втором — висящий на стене сарая велосипед и сапоги. Велосипед был тогда редкостью, да и таких, из мягчайшего хрома, сапог еще нужно было поискать. Велосипед брат умудрился привести в порядок, очистить от ржавчины и даже покрасить, и мы на нем катались всей деревней. Ну а сапоги… Когда мы переехали в Стерлитамак и когда стало совсем голодно, я продал их на базаре сапожнику-инвалиду, а на вырученные деньги тут же купил едва ли не целый пуд муки, обеспечившей нас затирухой на несколько месяцев.
Трагедия отца, так больно ударившая по моей душе, как-то улеглась во мне, утихла. Теперь я уже знал, что арестовали его не дома, а в каком-то Ташаузе в Средней Азии, куда он спроворился за знаменитыми тамошними ситцами. В России тогда любая «материя» была в остром дефиците, а ведь без нее в семье не обойтись— и одежку пошить, и постель заправить, и дом убрать. Вот и подался за этим добром наш отец.
Чтобы накупить его побольше, устроился на временную работу. Там его, чужака, и взяли. Через много лет нам сообщат, что по печально известной пятьдесят восьмой статье как то ли японского, то ли польского шпиона. На десять лет без права переписки. Реабилитируют, а что толку — человека-то нет.
По моему сегодняшнему представлению, главная цель репрессий тридцатых годов состояла в том, чтобы обеспечить спешную индустриализацию многомиллионной массой даровой рабочей силы, которую можно было бы послать туда, куда свободный нормальный человек ни за какие коврижки не пойдет. Чтобы можно было не церемониться и выжимать из нее все, на что способен человеческий организм. И не церемонились, потому что надвигалась страшная война. Надо было успеть хоть как-то подготовить отпор. Любой ценой. Любой кровью.
Часто вспоминаю святую «ложь во спасение» нашего соседа фронтовика Ивана Скороходова. Конечно же, не видел он моего отца на войне. Тот в это время под конвоем валил лес, строил дороги и в конечном итоге тоже работал на нашу общую Победу. Осознание этого успокоило меня, не дало ожесточиться сердцу, помогло найти достойное место каждому в великом подвиге народа.
К фронтовикам у нас относились как к героям. Даже когда у того всего одна медаль. А ведь уже тогда мы знали имена своих местных Героев Советского Союза — Миннигали Губайбуллина, Ивана Максимчу, Ивана Гайдыма. Народная мудрость, воздавая им должное, все-таки не особенно выделяла их: все воевали, все победили — значит, все герои.
На крыльях их великой Победы парили и мы, ребятишки. Она держала нас на плаву, когда бывало очень худо. Она наполняла наши души надеждой и верой, формировала характер патриотов, готовила к большой созидательной жизни.
Война завершилась, но мы еще долго жили ее ритмами и чувствами. Именно в эти бесконечно тяжелые годы мы в полной мере осознали необоримую и одухотворяющую силу дружбы наших народов. О, как мы тогда безотчетно верили, как бескорыстно помогали друг другу!
Как и у многих, у нас с бабушкой был хороший «знакум» — Гайнан-бабай. Уже немолодой, в годах, он жил в соседнем Зайпекуле и появлялся у нас трижды в году. Весной, когда со своей дорожной палочкой и небольшой торбочкой на ней, поджарый, легко одетый, в старенькой тюбетейке на седеющей голове отправлялся через нашу деревню в далекую дорогу. Бабушка говорила — искать могилы своих погибших сыновей. Потом в конце лета, когда — все с той же палочкой — возвращался домой.
С его приходом бабушка оставляла всякую работу, готовила яичницу, жарила картошку, запаривала пахучий травяной чай. Потом они долго сидели на лавочке, о чем-то доверительно говорили и, люди совершенно разных языков и народов, прекрасно понимали друг друга. Смотреть на них даже нам, детворе, было приятно.
Осенью Гайнан-бабай появлялся с тележкой, которую мы загружали картошкой и капустой. Для него на своем огороде мы даже выделили специальный участок. И когда у меня уже не хватало сил его обихаживать, бабушка просила:
— Ну, еще немного. Потерпи. А то ведь совсем пропадет наш бабай, добрый человек…
Так и строилось отношение к человеку: добрый ли, работящий ли, умелый ли, отзывчивый ли, — а не по его национальности.
Дружба, братство в бою и труде — это прекрасное созидательное начало держало на себе всю многонациональную страну. И когда враждебные силы решили ее разрушить, первый коварный удар был нанесен именно по этим святым для нас понятиям. С Союзом получилось. Россию удалось удержать уже на самом краю. Но на Кавказе — заполыхало…
8
Между тем солнце, повисев над Софиевкой, все больше склонялось над Бондаревской горкой, готовясь уйти на покой. Время было подумать о ночлеге, но разве до того? Все хочется еще раз увидеть, вспомнить, поместить в истосковавшейся душе. К тому же я на колесах!
Перебравшись через ручей, качу на выгон, где в обед всегда собиралось наше стадо на полдневную дойку. Часто из-за неимения пастуха мы пасли его по очереди. Доставалось и мне, чему, кроме раннего подъема, я был очень рад.
Это ж надо — целый день на воле, среди трав, кузнечиков, птичек. Набредешь на гнездышко жаворонка или перепелки — и душа взлетает до небес. Но не трогаешь, знаешь — нельзя, мамка яички бросит. А то и птенцов.
За Костюковским оврагом всегда были хорошие хлеба. По осени перед отлетом, или уже по пути на юг, здесь любили отдохнуть и подкормиться журавли. Как комбайн ни регулируют, как пионеры ни бегают за каждым колоском, все не соберешь, за всем не углядишь.
А журавли — птицы чуткие, сторожкие. Близко никого не подпускают. Особенно бдителен вожак: все стоит, крутит носатой головкой во все стороны, высматривает опасность. Все кормятся, а он, поди, голодный так и полетит дальше. Выходит, трудно быть начальником. У птиц. У людей почему-то все не так. Почему?
А вот дрофа — совсем другое дело, никого не боится. Иной раз подпустит на размах кнута, но только размахнешься она перелетает на другое место. Большая, тяжелая птица, дрофа долго лететь не может и садится неподалеку. И опять бежишь к ней, готовишься бросить палку, — а она уже у тебя за спиной, вернулась на прежнее место. И так длится часами, пока не заметишь, что стадо разбрелось, что объездчик уже гонит коров из колхозных овсов и издали грозит тебе кулаком.
Место выгона высокое, но неровное. Чем дальше, тем заметнее оно склоняется к Кызылке, к нашим любимым ягодным местам. И не только ягодным: тут водится мелкая рыбешка, которую мы ловим завязанными штанами; здесь же наша любимая купальня — знаменитое Бучало, глубокая ямина, выбитая на дне речки бурными весенними водами. Самые отчаянные из нас любили прокатиться на трехметровом водопаде, чтобы с визгом рухнуть оттуда в глубокий омут. Я смотрел и завидовал, потому что плавать еще не умел…
Ну вот, побывал и тут, в самых заповедных местах своего детства. Теперь можно подумать и о ночлеге. Но сначала надо поужинать. Устроившись под копной, я открываю свою сумку, достаю плащ, пакет со стерлитамакскими пирожками, бутылку с лимонадом. Перекусив, откидываюсь на солому и долго лежу, глядя в бескрайнее звездное небо. Какие они близкие и какие яркие, эти звезды! От горизонта до горизонта горят их космические костры. Что будет с небом, когда догорят?
Солнце село, кумачовые краски заката поблекли, стало холодать. Зарывшись в солому, я еще успел посетовать, что теперь не видно неба, но вскоре уснул.
И мне приснился сон.
В этом сне я опять был маленьким мальчиком. Опять наш дом стоял на своем месте, и вся деревня — на своем. Опять была осень, поля убраны и вся домашняя живность вольготно бродит по ним, кормясь тем, что на них осталось.
К вечеру корова и овцы сами вернулись в сарай, а вот теленка нет. Ждали-пождали — не возвращается. Бабушка в тревоге — не загрызли бы волки, и вот я бегу искать. Сначала к Первой лощине — там на лугу отросла свежая сочная отава, что может быть вкуснее в это скудное время? Но здесь его нет. Ко Второй лощине он вряд ли убрел в одиночку, далековато ведь, поищу в лозняке. Но и в лозняке его нет. Кричу, зову — без ответа.
И тут вдруг как-то сразу становится темно. Так темно, что в этой непроглядной темени напрочь исчезают и земля, и небо, и наша деревня, и я сам. Оно, думаю, может, так и положено — всему на ночь исчезать, а утром восстанавливаться. Пусть, раз положено, мне не жалко. Но вот то, что и сам я пропал, меня начинает пугать. Я подношу к лицу одну руку, чувствую же, что она есть, подношу — а ее нет. Не вижу! Не вижу и другой. Как же я утром восстановлюсь, если меня уже сейчас нет? Из чего?
А темнота давит, хотя и мягкая, прохладная. Обволакивает всего, как вода в Бучале. Только тихо, тихо. Тихо высасывает из меня тепло; тихо лишает сил; тихо сжимает горло, чтобы я не мог крикнуть.
А кричать хочется. В моем маленьком тельце скопилось столько ужаса, что он сам себе мешает вырваться из груди, так его много.
Теперь спасти меня может только свет. Не зря же в сильные бураны бабушка зажигает фонарь и ставит его на подоконник. Чтобы заплутавшие в белой снежной темноте люди пошли на него и спаслись. Зимой темнота белая, а вот сейчас черная. Это еще страшнее, хотя и не так холодно. Однако холод-то все же есть, он даже усиливается, надо побегать. Но как тут побегаешь, когда меня совсем уже нет?
Я не боюсь холода, потому что все же как-то двигаюсь; я не боюсь волков, потому что и они в такой темноте должны пропасть; я боюсь только одного — утром не восстановиться, не стать самим собой. А для этого мне нужна маленькая крохотка света. Пусть самая-самая маленькая. И тогда я спасусь.
И этот свет появляется. Он движется из стороны в сторону, словно кто-то помахивает фонарем. Я бегу на этот свет. Я не хочу пропасть. Я еще не жил, чтобы так, ни за что ни про что, исчезнуть из этого мира. Я хочу жить!..
С ходу я натыкаюсь на кого-то живого и теплого. И спокойный бабушкин голос окончательно убеждает меня, что все страшное позади.
— Ну, вот и ты дома. Сейчас помоем ножки, попьем молочка и — спать.
— А телок?
— Он давно вернулся. Спит уже…
Эта тьма еще не раз накроет меня в жизни. Но я одолею ее, «восстановлюсь». Потому что спасительный свет не оставит меня в ее власти.
9
Я просыпаюсь то ли оттого, что кончается сон, то ли оттого, что кончается ночь. Хорошо, что такой страшный сон кончился так благополучно. Уже светает, и все вокруг возрождается после ночного небытия. Свет все-таки сильнее тьмы, какой бы гибельной она порой нам ни казалась.
Странный это был сон. Ведь много лет назад, когда я действительно был маленьким, а мир вокруг таким большим и загадочным, со мной произошел именно такой случай. И вот повторился во сне. Со всеми теми деталями, со всем пережитым ужасом, — как, для чего? И что это: просто напоминание или предостережение? От чего? Какая новая тьма готовится обрушиться на мою голову?
Со мной в детстве часто случалось что-то необычное. Когда я стал учиться в Софиевской семилетке, куда за пять верст ходил с деревенскими подростками и где школьные программы открывали нам много нового, бывало разное. Вот, к примеру, объяснил Федор Герасимович, что планета Земля, вращаясь вокруг солнца, вращается одновременно и вокруг своей оси, причем с запада на восток, навстречу восходящему солнцу, а я уже думаю, как бы это дело проверить на практике, да чтобы еще и польза была.
Наш путь в школу и обратно как раз находился на линии восток — запад. Утром, стало быть, — на запад, навстречу вращению Земли, а вечером — наоборот. Выходит, идешь ты себе на запад, а Земля сама тебе под ноги стелется, как бы приближает все, что на ней находится: ту же Кызылку, свиноферму, школу. А если так, то стоит ли делать столько ненужных шагов? Может, достаточно лишь хорошенько подпрыгнуть, а тем временем дорога сама проскользнет под тобой метров на десять вперед? Надо проверить!
На следующее же утро я специально приотстаю от нашей группы, чтобы в скором времени с легкостью не только догнать, но и опередить ее.
Ну вот ушли, пора начинать. Набрав в себя побольше воздуха и напружинив ноги, я с места делаю первый прыжок вверх. Приземлившись, пытаюсь по следу определить, далеко ли я продвинулся вперед. В утренних зимних сумерках видно плохо, но на свежем снегу я все же различаю след от моих подшитых пимов. Точнее — два: один легкий, другой глубокий. Все верно, догадываюсь я, вот тут подпрыгнул, тут опустился. Но почему совсем рядом, ничуть не вперед?
Надо повторить!
Повторяю — результат тот же.
Подпрыгиваю еще и еще — ни шагу вперед. А группа уходит все дальше. Придется догонять. Бегом!..
Долго маялся я этой неразрешимой загадкой. Самое неприятное то, что ребят не спросишь, все равно мои переростки не поймут, учителя — как-то стыдно. Вот, скажет, какой глупый, в таком простом деле не разберется сам.
Однако, я все-таки разобрался. Чтобы от такого прыжка был прок, нужно взлететь высоко-высоко. Сейчас я бы сказал — в космос, но тогда даже наша мысль выше стратосферы не поднималась. Это — мысль! А я… Ну, не чудак разве?
Если, как в данном случае, я искал в своих экспериментах не только разгадку какой-нибудь тайны, но и конкретную для себя пользу, то иногда бывало и иначе.
Вот, к примеру, узнал на уроке географии о великом оледенении, покрывшем на многие тысячелетия и наши места, особенно Уральские горы, и стал более внимательно поглядывать вокруг. И хотя ушли от нас ледники (то есть растаяли!) еще десять-двенадцать тысяч лет назад, любопытствую: а какие-нибудь следы от них остались? Глядя на наши холмы, такие округлые, покатые, подумал, что, наверное, так их выгладили сползавшие льдины. Как огромные тяжелые утюги, ведь толщина их была ого какая — и два, и три километра!
А эти глубокие овраги, широкие поймы теперь совсем маленьких речушек? Как они образовались, кто их промыл? Ну конечно, бурные воды таявших ледников. Тогда это были не речушки, не сухие балки, а огромные полноводные реки. Вот уж, поди, была красота!
Все это еще можно было понять, но попробуй пойми, что рисуют зимние морозы на наших окнах! Чем больше рассматривал, тем больше узнавал в них древние леса из могучих живописных хвощей и плаунов, изображенных в учебнике. Из них, мол, потом каменный уголь образовался. Пусть так, раз тогда такая растительность была. Но как ее смог запомнить мороз? Неужели ему так жалко было эти гибнущие леса, когда он засыпал их километровым слоем снега? Так жалко, что врезалось в память навек.
И опять же: так то был древний мороз, а рисует эти картины сегодняшний. Откуда ему, сегодняшнему, знать, что было когда-то? Или мороз не бывает древним и сегодняшним, он просто есть — и все? Весной уходит на свой север, к своим льдам, а к зиме возвращается. Возвращается и вспоминает. Вспоминает и рисует. Словно чувствует свою вину.
И снова непонятно: как рисует, чем? Не однажды втайне от бабушки я соскабливал со стекла намерзший снег, теплой влажной варежкой растапливал лед и потом надолго замирал: что будет? Проходило какое-то время — и картина на окне восстанавливалась. В точности, до последнего штришка! Крепкая, видать, у мороза память — мне бы такую!
Вот так же удивился я, впервые увидев березу. И сразу для себя решил, что когда-то это дерево чего-то очень испугалось. Так испугалось, что все от ужаса побелело. Как бабушка, когда умерла наша мама. И такой береза осталась навсегда…
Сначала мой мир был ограничен пространством нашего двора. Хорошо, что у него не было ни забора, ни ворот — топай куда хочешь. И я топал. Так постепенно мне открылась моя деревня. Теперь я уже не просто топал, а вовсю бегал наперегонки с другими мальчишками. В результате этой беготни я узнал, что где-то есть деревня Писаревка, где, наверное, живут одни умные писари, а на пути к ней две лощины — Первая и Вторая.
Потом мне станет близким все, что прежде было очень далеко, — речка Кызылка, деревни Бондаревка, Зайпекуль, Софиевка. Я даже узнаю, что в Бондаревке бондари почему-то перевелись и никто там не делает кадушек, а в Софиевке далеко не все девчонки и женщины зовутся Софиями.
Так первый круг моего горизонта стал мне своим и понятным. А что дальше?
Мальчишки из Кызыльского совхоза хвастались, что всего за шестьдесят километров от них находится настоящий город Стерлитамак, а зайпекульцы — тем, что кто-то из родственников их соседей ездил на станцию Раевка и видел там всамделишный живой паровоз, который за один раз может увезти весь наш район.
— Куда… увезти? — на всякий случай решил уточнить я.
— Да если хочешь знать, хоть до Москвы!
— А где эта самая Раевка?
— Далеко Раевка. Аж вон за той горой…
Любя возиться с картами, я знал — до Москвы далеко, а вот что там, за тем бугром, что закрыл весь горизонт за нашим Бучалом? Не та ли Раевка с ее паровозами?
Раз вопрос возник, надо на него ответить — так впоследствии я напишу почти все свои книги. Но отправиться в такую далекую дорогу сразу я не решился. Пришлось дождаться лета, Троицы, и вот когда бабушка занялась со своими подружками молитвами и псалмами, я потихоньку исчез из дому и вскоре оказался за Кызылкой.
Бугор, который манил меня много лет, оказался не таким близким, как это казалось мне с самой верхней ступеньки нашей лестницы. И не таким крутым. Так что идти пришлось долго и все медленнее, потому что затяжной подъем требовал немалых сил.
К середине дня я наконец наступил на ту линию, где обычно лежал горизонт, а его нет — передвинулся вперед, дальше. Теперь до него до самого вечера не дойдешь.
Включаться в игру с горизонтом я не стал — бесполезно, решил ограничиться Раевкой. Раз она за этой горой, значит, где-то тут. Я остановился и стал осматриваться. Посмотрел вперед — никаких признаков станции и железной дороги. Оглянулся назад — и не узнал родных мест: такой простор, такая красота! Не зря же господин Блюменталь не поленился приехать сюда из своего немецкого Берлина, чтобы купить эти башкирские земли. И свою фамилию он дал нашей деревне тоже неспроста, ведь на русский язык она переводится как Цветная Долина. Или Долина цветов.
Эти восторженные мысли мои вдруг нарушил какой-то низкий тягучий гуд.
— Где-то паровоз ревет, — обрадовался я. — Сейчас увижу. Не зря сюда залез, будет о чем рассказать ребятам.
Я снова стал всматриваться в лежащее передо мной пространство, вслушиваться в тихоструйное дыхание разогретых солнцем полей — напрасно.
— Видно, паровоз куда-то уехал, — успокоил я себя. — Посижу малость, отдохну, он и вернется…
Посидел, отдохнул — опять какой-то то ли гуд, то ли рев.
— Ну, вот и он…
Вскакиваю и столбенею.
— Что это?.. Бык?..
Паровоза — не было. Но бык — был.
Могучий черный племенной бык ревел, как паровоз, и при этом рыл копытами землю и бросал ее себе на спину. Господи, какой ужас!.. Он же идет прямо ко мне…
Хорошо, что обратно домой мне предстояло идти под гору. Придя в себя, я помчался вниз настолько быстро, насколько это позволяли мне мои одеревеневшие ноги.
Где-то я падал, и тогда мне казалось, что бык уже у меня за спиной. А он и вправду преследовал меня. И чем я ему не глянулся, чего он от меня хочет, отчего такой злой?
Лишь когда впереди показалась Кызылка, я понял, что спасен. Кубарем скатываюсь в глубокий овраг, оттуда — в промытый на его дне каньон, где собственно и течет речка. Сама она не ахти какая, местами перешагнуть можно, зато какие обрывистые берега! Сложенные из чего-то рыхлого, торфянистого, они не отличаются особой прочностью, всегда влажные, а внизу из-под них сочится какая-то сине-зеленая жидкость, пахнущая керосином.
Оказавшись в воде, я ликовал: уж здесь меня этот зверь не достанет! А он уже в овраге, идет по краю каньона, ревет, как тот раевский паровоз, и все косит на меня кровавым от бешенства глазом. Если сумеет где-то спуститься, мне конец.
Не дожидаясь такой развязки, я подхватываюсь и бегу прямо по воде вниз по течению. Тины в речке нет, торфяное дно словно смазано каким-то жиром, легко скользит под ногами.
А бык, как привязанный, не отстает.
Я уже совсем выдыхаюсь. Кажется, еще чуть-чуть и упаду. А этот гад все ревет, все идет. Я даже вижу кольцо в его ноздрях и на нем обрывок цепи.
Ну вот, так и есть — я падаю. Вода услужливо несет меня по своему скользкому ложу — красота. И вдруг я куда-то лечу. Да не куда-то, а вниз, вниз, навстречу непонятному шуму, в который я лечу вниз головой и в котором на какое-то время исчезаю.
Когда я уже начинаю задыхаться, что-то сильное, бурлящее подхватывает меня и, как щепку, выбрасывает на поверхность. Я в Бучале — ура! Я никогда не катался на его водопаде, потому что не умел плавать. Но теперь я не боюсь, я скатился, я плыву! И никакой злобный бык мне не страшен.
Убедившись, что одолеть эту преграду он не в состоянии, я снял одежонку, хорошенько отжал воду и прямо так, нагишом, направился в деревню. Подходя к выгону, надел подсохшие штанишки, накинул на плечи свою красную рубашку и вскоре, как будто никуда и не отлучался, вошел в свой дом.
Вот так, то весело, то грустно, и открывалась мне моя родина. Сначала «малая» — через речки, лощины, окрестные поля и деревни. Потом великая — через собственную республику, другие области и края, через их прекрасные города, культуру, людей. А за ними стоял уже весь мир.
Посмеявшись над собой и своими воспоминаниями, я доел оставшиеся пирожки, допил лимонад и поднял велосипед. Солнце поднялось уже высоко. На небе ни облачка. На высокой стерне блестят паутинки. В самый раз отправляться в дорогу.
10
В тот год я так и не выбрался из Уфы в свои любимые места. Сначала нужно было к сроку и «на самом высоком идейно-художественном уровне» выпустить книги, посвященные Владимиру Ильичу Ленину, 110-летие которого отмечало «все прогрессивное человечество». Потом что-то стал пробуксовывать график выпуска школьных учебников. А он «правительственный», попробуй не уложиться! И перевод учебников на цветную многокрасочную печать тоже в наших условиях чего-то значил…
Снова и снова пожалел я о том, что пять лет назад дал уговорить себя занять пост главного редактора Башкирского книжного издательства, где до этого возглавлял одну из редакций.
Легко каяться теперь, а тогда? Тогда издательство стояло на грани краха, как и многие другие областные и краевые книжные издательства России, изначально существовавшие как планово-убыточные, поддерживаемые из бюджета. Их в одночасье лишали дотаций и переводили на хозрасчет. Как будто он возможен при мизерных местных тиражах, особенно в национальных автономиях, где основной массой книжной продукции являются дешевые (не то что сейчас!) школьные учебники и методическая литература.
Это было своего рода ноу-хау цековского деятеля Яковлева, что позже печально прославится как идеолог и вдохновитель горбачевской «перестройки» и ельцинского штурма СССР.
Подавляющее большинство старинных центров книгоиздания в России было уничтожено. Выжившие после такой «контузии» еле сводили концы с концами, пока не исчезли окончательно под мутными волнами гайдаровского рынка.
В русских областях тогда пошумели, помахали кулаками и отступились: ничего не поделаешь — решение ЦК! Национальным республикам отступать было некуда: с прекращением выпуска учебной литературы погибнет и национальная школа. А это гибельно в перспективе и для всей нации вообще.
Но опять и опять: это решение ЦК! Ни отмене, ни пересмотру команда такого уровня не подлежит.
Не знаю, пробовали ли наши местные партийные руководители достучаться до кремлевского разума. Скорее всего нет, потому что во властных сферах они были не один год и хорошо знали, что можно и чего нельзя. Решили попробовать дать свою команду, ну, как всегда: изыскать, осознать, добиться, найти. Для этого даже направили директором одного из своих работников, человека целеустремленного, настойчивого, настоящего трудоголика, который, если надо, мог работать сутками. Звали его Нурислам Нуртдинович Нуртдинов.
В помощь себе Нуртдинов попросил назначить и нового главного редактора, а конкретно — меня. Мол, есть еще один трудоголик, хорошо знает книжное дело, в коллективе пользуется авторитетом, молодой коммунист, член Союза писателей. Вот только согласится ли?
Я не согласился. Прежде всего потому, что лично мне надевать на себя такой хомут было совсем не нужно. Да ведь и издательство — башкирское.
Мне ответили: это временно, пока не найдем решения проблемы, да и большая доля наиболее массовых и ответственных изданий выходит на русском языке.
Меня это не убедило. В конце концов вопрос решился предельно просто, поистине в духе того времени:
— Или сейчас же занимаешь кабинет, или партбилет на стол!
Я сдался. А куда денешься, хотя в партию после комсомола я вступал совсем не карьеры ради.
Работа предстояла тяжелая, огромная и, казалось, бесперспективная. Но новый директор быстро вошел в курс дела, разузнал, что некоторые издательства закрываются, а другие резко сбрасывают объемные показатели, и решил, будучи страстным охотником, одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Во-первых, взять на себя солидную долю того, от чего отказываются другие, и тем самым поддержать несущий большие потери Госкомитет по печати России. Во-вторых, дополнительный объем, который мы таким образом взвалим на себя, пустить на переиздание русской и башкирской классики массовыми тиражами.
Идея нам показалась вполне реальной (благо книги тогда читали, собирали большие домашние библиотеки, они были общедоступны по ценам), и мы засели за работу. Все с десяток раз обсчитали, составили несколько вариантов проекта, написали наиподробнейшее пояснение, вскладчину закупили десятка два банок знаменитого башкирского меда…
Из Москвы Нурислам вернулся на коне.
— Ну, цифры у нас есть, бумага будет. Давай садись за темплан, чем наполним эти немалые цифры…
Сели всей художественной редакцией, привлекли знающих специалистов, писателей, в итоге чего родились сразу две серии: переводная «Библиотека башкирского романа «Агидель» и классическая русская серия из произведений писателей, жизнью и творчеством тесно связанных с Башкирией, — «Золотые родники».
На коллегии в Москве я с немалым трудом добился утверждения этих серий — и работа закипела. Мурат Рахимкулов, Александр Филиппов, Михаил Иванов работали не покладая рук, чтобы подготовить первые издания серий в срок, потому что тиражи нам утвердили огромные, а книжной ротации в Уфимском полиграф-комбинате не было. И они успели!..
Словом, задачу, поставленную перед издательством Главным Идеологом обкома КПСС, мы решили. Когда положение окончательно стабилизировалось (издательство стало работать без дотации, даже с прибылью), иду к нему проситься на прежнюю работу, ведь главным я был временно. Тот поблагодарил меня и попросил поработать еще, потому что… Причин всегда можно найти немало.
Через год я — опять к нему…
Вот так моя временная командировка в эту беспокойную должность затянулась на добрую пятилетку. Обком доволен, Москва довольна, писатели, видя, что ничего от этой «реформы» не потеряли, довольны тоже. Правда, не все — были и «обиженные», не уваженные переизданиями… А до того ли тогда было, когда спасали издательство, и что сделали для этого они сами?
В общем все идет своим чередом, прогрессивное человечество отмечает юбилей В. И. Ленина, мы анализируем итоги работы в первом квартале — и вдруг звонок из обкома: товарищу Палю Р. В. к 14–00 явиться к товарищу такому-то. Не к Идеологу, однако.
Бросаю все, иду. Здание у обкома новое, огромное, я еле нахожу нужный мне кабинет, стучусь. «Товарищ такой-то» вручает мне рукопись, в которой целых восемьдесят страниц печатного (на машинке) текста, и поручает сесть за стол и изучить. Ничего не пояснив, уходит, звонко захлопнув дверь.
Опять, наверное, какой-нибудь графоман из ветеранов или начальства, вздыхаю я и открываю папку. И тут на меня обрушивается такая знакомая лексика, такие чудовищные увесистые, тоже очень знакомые, ярлыки, что я невольно содрогаюсь. Как будто это не о ком-нибудь другом, а именно обо мне. В 1937 или в 1938 году. На одном из пленумов Союза писателей БАССР, после чего чекистам оставалось только оглашать приговоры и приводить их в исполнение.
И вдруг до меня доходит: так это же действительно как раз про меня! Это именно я — «антисоветский» писатель. Никто другой, а именно я — «антипартийный» писатель. И уж то, что «антинародный», — само собой разумеется. Как и то, что именно я пропагандирую «человеконенавистнические идеи».
Да за такие преступления казнить один раз — мало. И авторам этого шизофренического «документа» действительно мало. Они скрупулезно подсчитывают, какие баснословные капиталы я нагло увел из государственной казны ради каких-то своих личных удовольствий. Даже звонят в сельскую школу, где я работал после выпуска из университета. Все собирается в одну кучу: и зарплата за десятилетия моей работы, и не ахти какие уж большие гонорары за литературные труды. Нелепо, но зато эффектно: чем больше цифра, тем больше впечатляет. Прямо по Геббельсу: чем больше ложь, тем скорее в нее поверят.
Вспоминаю, что как раз в это время принимается закон о хищениях социалистической собственности в особо крупных размерах, и этот размер — десять тысяч рублей. Именно по этому закону расстрелян в Москве директор знаменитого Елисеевского магазина. Как после выяснится, оболганный такими же ретивыми доносителями, как и эти.
Кто же они, эти великие разоблачители, стойкие партийцы-ленинцы?
В самом конце рукописи — лишь одна подпись: Рамиль Хакимов.
Хакимов! Ну кто в Уфе не знает этого амбициозного деятеля от литературы — личного друга обкомовского секретаря Ахунзянова, первого секретаря Шакирова и всех других секретарей горкомов, райкомов и тех заводских комитетов, на предприятиях которых, пристроенный своими высокими благодетелями как писатель, находящийся в творческой командировке, он, нигде не работая, получает солидные деньги.
Бросив папку, я кинулся к двери, но не тут-то было: уходя, «такой-то товарищ» запер кабинет на ключ. Похоже, что я уже в тюрьме. Это открытие не прибавило мне оптимизма, но еще больше обострило мысли. ОНИ не хотят, чтобы эту стряпню увидел кто-то еще. Значит, надо успеть переписать ее, потому что вынести оригинал все равно не дадут.
Вернувшись к столу с пачкой чистой бумаги, я принялся лихорадочно переписывать. Пальцы немели от напряжения и спешки. Выручила моя годами сложившаяся скоропись, и через четыре часа все было готово. Второй экземпляр страшного документа лежал у меня в портфеле, а я делал вид, что все еще изучаю его.
Уже после завершения рабочего дня вернулся «товарищ такой-то».
— Ну как, изучили?
— Это должен изучать не я и не вы, а психиатрическая клиника.
— Все равно придется писать объяснительную.
— Объяснительные пишут виноватые. Мне с вами объясняться не в чем.
— Не со мной, не со мной… А рукопись, пожалуйста, оставьте.
Несмотря на поздний час, Нуртдинов все еще был на работе. Я доложил ему о случившемся, зачитал некоторые отрывки и тут же настрочил заявление об уходе по собственному желанию.
Нурислам долго курил и молчал. Из этого молчания я почему-то понял, что он все уже знает, и даже гораздо больше, чем я.
— Заявление убери, — наконец заговорил он, — всему свое время. А теперь послушай меня…
И он стал рассказывать о своих взаимоотношениях с Главным Идеологом. Теперь, когда издательство спасено и считается одним из лучших в России, тот решил избавиться от него. Очень, мол, стал непослушным этот Нуртдинов, совсем отбился от рук. А все дело в том, что ему очень хотелось самому быть полновластным хозяином в издательстве и рулить куда заблагорассудится. И это несмотря на то, что утвержденный на бюро обкома тематический план для нас все равно что Закон. За его нарушение и изменение спрашивается построже, чем в народном суде.
Опытный партийный работник, Нурислам нашел в себе смелость не поддаться такому давлению. О многих подобных фактах я знал, о многих услышал впервые. Так дело дошло до угроз. И с каждым разом все грубее: уйди, мол, сам, иначе плохо будет. Но за годы совместной с ним работы у Нуртдинова скопилось множество фактов всевозможных злоупотреблений Идеолога. Тот об этом знал и боялся. Решил действовать иначе, по отработанному шаблону.
— Интрига такая: тебя решено ошельмовать, уничтожить как писателя и человека, чтобы покончить и со мной. Поэтому давай держись, хотя и гадко это. А когда этот мыльный пузырь лопнет, тогда и уйдешь. С гордо поднятой головой. Только, прошу тебя, не сломайся, это лишь начало.
Теперь каждый мой рабочий день начинался с одного и того же звонка. И одного и того же вопроса:
— Ну как, Паль, ты все еще сидишь?
На что я неизменно отвечал:
— Работаю. Пока еще не посадили.
— Посадим, посадим…
Голос был все время один и тот же, и как звонивший ни маскировал его, я сразу же узнал человека, моего недавнего товарища, писателя, которому в свое время очень помог.
Группа Хакимова и Главного Идеолога собиралась каждый день, и от своих «верных людей» Нуртдинов знал обо всем, что там говорилось и планировалось.
— Окончательная установка Идеолога такая, — однажды сказал он мне, — «Паля отдаем на съедение писателям, а с Нуртдиновым покончим сами». Все подтверждается.
Отодвинув на время все свои служебные дела, я засел за докладную записку. Не объяснительную, а именно докладную.
— Пиши подробно, ничего не упускай, как бы тошно не было. Ведь ТАМ тебя не знают и сами разбираться не будут. А теперь хорошая новость: все твои книги сейчас читаются в нашем КГБ…
— Ничего себе новость! — вскочил я, хотя ждать этого следовало. — Сначала — отца, а теперь — и меня?
— Хорошая, — стоял на своем директор. — Не волнуйся, сейчас не то время. И ребята там не без головы…
Так прошел целый год. Когда мыльный пузырь наконец с треском лопнул, я распростился с Нурисламом Нуртдиновичем, с моим любимым книжным делом и свободным независимым человеком с гордо поднятой головой вышел из мрака прожитых месяцев на щедрое солнце наступившего лета.
Прошедшего лета я не заметил.
А теперь можно и по грибы!
11
Грибы были. Были и новые восхождения на стерлитамакские шиханы. Новой работы я себе пока не приглядел и все дни пропадал в архивах, пытаясь найти ответы на возникшие у меня вопросы. О новых книгах не думал, они, как всегда, рождались потом, когда все загадки разгаданы и на все вопросы отвечено. Главное — чтобы исторический материал захватил и не отпускал. И чтобы это было интересно не для тебя одного.
Писать о современности? К этому неустанно призывали писателей вожди всех уровней начиная от генсеков и кончая Главными Идеологами на местах. Но генсеки что-то стали часто умирать и меняться, современность была слишком смутна для художественного взгляда, а публицистом надо родиться.
Тема и проблемы деревни волновали, но я не считал себя вправе писать о них, потому что лично сам в них не варился. А шаблонные схемы типа: старый председатель-ретроград — молодой талантливый агроном — безвольный и инертный (а то и вороватый) предрика — мудрый первый секретарь райкома партии — надоели еще лет тридцать назад.
Да и не все так просто на селе. После взлета семидесятых годов, когда колхозы заметно окрепли, обзавелись собственной техникой, ремонтной базой, современными животноводческими комплексами, кадрами, началось мягкое пока еще топтание на месте.
Что ждет наше село в будущем? Есть ли у властей на этот счет четкая тактика, продуманная стратегия? Возможно, они и были, но я их не знал, а полагаться только на собственное чутье считал недостаточным и наивным.
Невольно вспоминалась притча Мустая Карима о трех братьях. Коротко напомню ее содержание.
Было у одного уважаемого человека три сына. Когда они выросли и обрели силу, отец повелел им пойти в лес, срубить по дереву и привезти домой. Когда это было сделано, желая угадать склонности сыновей, отец попросил сделать из них то, что им хочется. Старший сделал лук и стрелы, средний соху, а младший — свирель. Очень захотелось им сразу же применить их в деле, но отец попридержал. Пусть, говорит, будущий воин сначала попашет землю, чтобы узнать настоящий вкус хлеба, а будущий пахарь постоит в дозоре на границе, чтобы знать цену мира на родной земле. Ну а ты, юный певец, прежде чем запеть свою первую песню, должен узнать все.
Вот такая мудрая философская притча. Певец, поэт, писатель («прежде чем…») должен знать все. Я бы позволил себе добавить тут немножко конкретики: не только все о жизни, родной земле, ее людях, но и о необходимом мастерстве, чтобы произведение получилось достойным, и о собственных силах, чтобы излишне не возгордиться перед людьми.
Так вот: «всего» ни о селе, ни о рабочем классе, ни о «современности» я не знал. А раз не знал, не нужно было и начинать эти песни, чтобы случайно не повторить утреннего крика петуха. Я и не начинал, поэтому совесть моя чиста.
Неспокойно было на душе и от наблюдения за нашей общественной жизнью. Единственной силой, которой самой Конституцией было доверено и вменено в обязанность направлять и вдохновлять ее, была партия коммунистов. Но сама наша партия, вернее — ее руководящая элита, все больше погрязала в собственных далеко не лучших интересах, интригах, склоках, борьбе за личное процветание и не хотела замечать того, чем живет народ. Честному, мало-мальски информированному человеку при размышлении об этом становилось не по себе.
— Это все политика, — говорил мне брат. — Брось ты думать о ней. Хорошо делай свое дело — и с тебя довольно.
Чтобы оторвать меня от этой «заразы», переключить на что-то более полезное, он решил пристрастить меня к земле. Вернуть к ней.
Под его влиянием я приобрел участок земли (знаменитые «шесть соток»), и вместе с ним мы соорудили на том участке довольно симпатичный домик. Одновременно я начал осваивать землю, но та оказалась настолько каменистой, что рыхлить ее приходилось ломом. Глядя на мои мытарства, брат пошутил:
— Ничего, ничего. Помнишь наказ бабушки: «Молись так, как будто умрешь завтра, трудись так, как будто собираешься жить вечно»?
Я это помнил всегда.
— А, между прочим, у тебя здесь должна хорошо расти вишня… Особенно кустовая.
— Кустовая? А какая еще бывает?
В местах, где я вырос, садов почему-то ни у кого не было, даже самой наипростейшей смородины, не говоря уже о яблонях, грушах, вишне, малине, поэтому в этих делах я не разбирался. Вот копка земли, посадка картошки, прополка ее, окучивание, уборка… Картошка была у нас королевой и спасительницей. Вкус хлеба я по-настоящему узнал только в городе.
Хотя нет! Его я попробовал, кажется, еще участь в шестом классе. Соседом моим по парте был тогда мальчик из 2-го Сталинского отделения Кызыльского совхоза (в нашей Софиевской семилетке училась вся округа!) Барый Кучкаров. С ним и его земляком Анваром Арслановым мы дружили. Так вот, когда настает большая перемена, они разворачивают перед собой чистые салфеточки, достают по кусочку чего-то почти черного и с аппетитом едят. Оказывается, это — хлеб.
Совхозные ребята в зимние месяцы жили в Софиевке на квартирах, а весной и осенью, до самого снега, ездили в школу на велосипедах. На воскресенье зимой они отправлялись домой, чтобы запастись продуктами на следующую неделю.
Как-то, уходя на весенние каникулы, Барый и говорит мне:
— Наши деревни почти рядом. Может, сначала зайдешь к нам, а домой потом?
— Плохо, говорят, у вас в совхозе. Что там делать? — Сам я никогда там не был, но раз говорят…
— Сегодня мама хлеб получит, попробуешь.
— Что — хлеб, у нас вон картошка есть. Хоть вари, хоть пеки, хоть жарь.
— А почему в школу не берешь?
— Зачем?
— Перекусить на перемене. Вы же вон откуда ходите: пять километров — туда, пять — обратно. Силы нужны.
— Все равно… Закусывать мы не привыкли. Мы сразу едим.
— А у нас в совхозе хлеб дают… И еще у нас тракторов много!
— Тракторов много, это верно. Ну а хлеб…
И все-таки этот загадочный хлеб меня соблазнил. Как не хотелось топать лишние километры по расхлябанной весенней дороге, — пошел. Мать Барыя и в самом деле принесла хлеб. Отрезала и мне тоненький ломтик. По дороге домой я его попробовал, половину съел, половину оставил бабушке.
Прямо скажу — восторга у меня этот хлеб не вызвал. Тяжелый, липкий, пахнущий чем-то холодным, земляным. А бабушка тихо заплакала:
— Господи, да разве же это хлеб? Лучше уж пусть никакого не будет, чем такой.
А потом у меня разболелся живот. И я решил: никогда больше есть хлеба не буду! Ни за что!
Наивный мальчишка! Придет время и ты будешь выстаивать за ним бесконечные очереди в городских магазинах, и он, почти единственный, будет спасать тебя от голода. А под старость будешь радоваться тому, что есть хотя бы он!
Да, картошка — наша королева и спасительница… Вот к ней я привык, как ее растить, я знаю. Что же касается этих яблонь, вишен… Брат сказал — надо до осени приготовить посадочные ямы, а осенью мы вместе все посадим. Даже понабивал колышков, где копать. У него есть свой сад. Я бывал там, объедался его яблоками, малиной, вишней. Он все о них знает. Да и земля там настоящая, немного влажная, но зато черная, мягкая, без единого камня.
Брат уехал, а я принялся за работу. Ямы под вишни, раз они кустовые, решил делать не очень большими. Первая получилась довольно быстро, потому что камни, которые я там выломал, были очень крупными.
У второго колышка лом наткнулся на монолит. Пришлось отступить в сторону. Вскоре от четких рядов не осталось ровным счетом ничего, все сместилось в самых неожиданных направлениях, уворачиваясь от скрытых под тонким слоем дерна огромных каменных глыб.
Под четыре яблони я рыл ямы целый месяц. Заданный размер из-за тех же камней не выдерживался, расползался во все стороны, стенки их обваливались. А потом я вообще схватился за голову: чем же теперь заполнять их, не теми же камнями и щебенкой!
Хорошо что рядом был лес. Земля там тоже не ахти какая хорошая, но сверху обильно перемешана с опавшей хвоей и перепревшим листом.
Начал носить ее. До ста ходок за день с двумя ведрами! Но зато через два-три дня яма заполнялась. Сначала одна, затем другая…
Словом, к посадочному сезону всю подготовительную работу я завершил. Даже выброшенные при копке ям камни собрал в одну кучу. Потом я засыплю ими пересекавшую участок промоину и даже залью бетонным раствором. Это была первая и единственная цивилизованная дорожка в моем саду.
В октябре мы очистили сад Эдика от вишневой поросли, купили в стерлитамакском плодово-ягодном питомнике рекомендованные им саженцы яблонь и, преодолев расстояние в сто пятьдесят километров строго на север, высадили все это на моем участке.
Всю зиму я волновался: что увижу там весной? Даже о «политике» стал меньше думать. Вечерами, вернувшись из архивов, открывал брошюру о садоводстве. Все пытался найти книгу о том, как можно вырастить сад на камнях, но такой книги, похоже, нет. Как и нет таких садов. А вот у меня будет!
И в самом деле, на удивление всем, сад на камнях у меня получился. Ко времени прихода к власти нового генсека, на этот раз относительно молодого, с неизрасходованным запасом энергии и просто чудовищных амбиций, в первый раз зацвели мои вишни. Когда он, закатав рукава, начал свою знаменитую антиалкогольную кампанию, зацвели мои яблони. Где-то по его приказу корчевали бесценные виноградники, а на моих квадратных метрах зрела клубника, радовали глаз помидоры и огурцы.
Наверное, я должен бы радоваться, но, увы, сам себя не обманешь. Кто-то другой еще может, особенно если с экрана телевизоров (сразу всех его программ!), с многокрасочных страниц газет, но чтобы — сам, да себя же?.. Ну, для этого нужно уж совсем быть идиотом или очень-очень захотеть тоже покупаться в сладком озере власти.
Идиотом я не был и до сих пор им не стал. Веселое Бучало моего миякинского детства, великолепные озера моей республики я никогда не променяю даже на океан этой обманчиво-сладкой жижи, выход из которой или на эшафот народного презрения, или в вечные потемки истории.
Ни мед молодых сочных яблок, ни терпкий вкус выросших на суровой земле вишен не смогли пересилить нарастающей горечи, тревоги и бессилия.
И я запаниковал…
12
Наш юркий, надежный, испытанный на многих дорогах «Москвич», весело урча, выкатился из города и взял направление на Стерлибаш.
— Говорят, там в этом году грибов — хоть косой коси!
Я чувствую, знаю: лукавит мой брат, хитрит. Нет там таких грибов и в этом году, просто он ничего другого не придумал, чтобы выманить меня из Уфы, оторвать от заразы-политики, освежить мозги ветерком родных краев.
— Хорошо, — говорю я, подстраиваясь под его лукавство. — Хоть на этот раз жаренных поедим. А то я уже и вкус их позабыл.
— Поедим, поедим! — отзывается непременная участница таких наших вылазок Галя и не забывает добавить свое любимое: — Ну, с Богом…
Стерлибашскими холмами в основном заканчивается Бугульминско-Белебеевская возвышенность. Места эти удивительно живописны (впрочем, какие места в Башкирии не вызывают радостного волнения и восторга?). Побродив по ним, спускаемся в довольно глубокую зеленую чащу, на дне которой расположен большой поселок. Это и есть Стерлибаш. Здесь наша милая Стерля начинается, а кончается, впадая в Ашкадар, в Стерлитамаке. Не так уж велик для реки путь, однако заметили, полюбили. И даже не одну песню сложили о ней…
— Ну, и где же наши?.. — попытался я напомнить о грибах.
Брат понял с полуслова.
— Говорят, возле Мияков…
— Их тоже косой косить можно?
Посмеявшись над собой, едем дальше. С этой стороны в наш райцентр мы еще не ездили. А места вокруг опять на загляденье. Иной раз и не хочешь, а остановишься — такая красота. Холмы, увалы, целые хребты щедро одеты лесом. Есть, конечно, и поля, но небольшие, пологие, отвоеванные у гор человеком.
Замечаем, что в районе сохранилось еще немало деревень. Причем больших, многолюдных, старинных, в основном в низинках, вдоль небольших речек. Вода, дрова, выпасы для скота — все рядом, разве бросишь такие благодатные места?
— Простора мало, — замечаю я. У себя в саду, окруженный со всех сторон лесом, я чувствую, как это давит. Когда становится совсем невмоготу, бросаю все и ухожу бродить по демским холмам. Помогает.
— Это в нас степь говорит, — кивает Эдик. — Нам всегда горизонты нужны.
— Но если и тут подняться на гору…
— А еще лучше на Тратау…
— Или Иремель!..
Наши фантазии уводят нас слишком далеко от родных мест, и мы снова отправляемся в путь. Уже за рулем брат вдогон прежде сказанному говорит:
— Зато здесь с кизяком возиться не нужно, есть дрова. В недавнюю очень морозную зиму погибло множество дубов. С одной стороны, трагедия, с другой — неожиданный подарок селу: тепло обеспечено.
Напоминание о кизяке возвращает меня на много лет назад в нашу деревню, где эта проблема была всеобщей.
Из-за долгих суровых зим навоз деревня берегла, даже на огороды не вывозила, хотя земля очень нуждалась в органике. Каждый навильник его непременно укладывался за домом в кучу, которая всецело зависела от скота: чем больше его в хозяйстве, тем и она больше.
Придет время, когда власти так прижмут крестьянина, что скотины у него почти не останется, и тогда непременно встанет вопрос с топливом: нет скота — нет навоза, нет навоза — нет кизяка, нет его — нет жизни, ибо в степной зоне это единственный источник тепла.
Именно с этими зажимами усилится бегство из колхозов. А кремлевские чиновники долго будут ломать голову: мол, что за зуд на мужиков напал? Разве из Москвы какую-то навозную кучу в Софиевке, Блюментале или Зайпекуле разглядеть? А надо бы, ох как надо бы!
Мы принялись вспоминать, как к середине лета деревню охватывала настоящая кизячная горячка. Во дворах спешно широким кругом равномерно разбрасывался скопленный за год навоз. Затем он щедро поливался водой, разминался до однородной массы лошадьми и укрывался свежескошенной травой или обычным бурьяном.
После этого оставалось главное — превратить эту массу в своего рода навозные кирпичи. Для этого у некоторых хозяев имелись специальные формовки: на два кизяка — ручные, а на шесть-восемь — на колесике, в виде тачки. Мы чаще всего одалживались у безотказного дида Грыцька.
Сколько помню, эту тяжелую работу у нас выполняла сначала бабушка, а затем подросший брат. Когда он ушел в город, эта должность перешла ко мне, но из-за того, что я был еще маловат для такого дела, дид Грыцько давал мне лишь двойную формовку. Но и та выматывала меня до слез. Бабушка, занятая другими срочными делами, больше помогала советами, похвалами, лишним яичком за обедом, и я держался.
Разложенные на «полигоне» кирпичи подсыхали, я их несколько раз переворачивал, и, если лето было жаркое, они быстро становились настоящими кизяками. Теперь начиналось и приятное: сложить их в штабеля для окончательной просушки. Тут уж каждый молодец был на свой образец! Поскольку это дело было чисто мальчишечье, мы неизменно вносили в него элемент соревновательности: не в том, кто сделает это скорее, а у кого сооружение получится интереснее. Даже была в этом своя архитектура, и я, кажется, знал в ней толк.
Бабушка вообще приучала нас не гнушаться никаким крестьянским трудом, вскопать ли землю, прополоть ли огород, накосить ли тележку травы где-нибудь в овраге (чтобы бригадир не увидел), зарубить курицу, сводить корову к быку, если в стаде не было своего… Мало ли что требовалось в хозяйстве, и все было необходимо, важно и освящено традицией. Словом, «трудись так, будто собираешься жить вечно!».
— Вот и Новый Мир, а там — Софиевка…
Упоминание братом Нового Мира вернуло меня к тому, что находилось за окном. Деревня — большая, зеленая, красивая. Так вот откуда были те сказочные тройки, которые увозили наших невест! По инерции оглядываюсь кругом — но тех коней не вижу. Ну да, сейчас везде техника. Но и ее нет — потому что в нефтяной республике сегодня напряженка с соляркой. В Софиевке останавливаемся у центральных строений. Выходим размять ноги.
— Вот здесь было колхозное правление, клуб… Помнишь?
— А вон там, в проулке, дорога в поле. И на углу… горела земля…
Я так живо представил себе поразившую меня в детстве картину, что невольно попятился. Словно земля уже горела у меня под ногами.
— Это как? — удивился брат, живший в то время уже в городе. — Земля — горела? Сама?
— Странно, но — сама. Мы всей школой бегали смотреть. И все боялись провалиться…
— Так сама и загорелась?
— Выходит, сама. Как ее можно поджечь?
Никогда ни о чем подобном не слышал.
— Тут такая огненная яма была, как огромная печь. А в ней красные угли. Не пламя даже, а именно — раскаленные угли. Когда рассказал бабушке, та — в крик и стон. Не пущу, мол, тебя в эту Софиевку. Там ад открылся. Оттуда скоро Антихрист выйдет. Или вышел уже…
— Приходили сюда с молитвами, с иконами — чертей стращать. Пробовали водой залить, да куда там: пар до небес, страшно. А уж потом как-то само вдруг погасло.
Мы живо принялись обсуждать это чудо-юдо. Уровень уже нынешних наших знаний не оставлял места никакой чертовщине, но и ясного ответа не давал тоже. Может, как вариант, торф загорелся? Случаются такие самовозгорания. А скорее всего…
О нефти в нашем районе тогда и речи не было. Другое дело — Ишимбай, Туймазы, но это ого как далеко. Там объяснить такое было бы проще: где нефть, там и газ. Вот он и проточил себе пути наверх, насытил собой землю, а там, может, молния ударила, или горячую золу из печки кто высыпал — вот и взялось.
Сейчас нефть добывают и в Миякинском районе. Для нас это объяснение. А преисподняя… она не там, совсем не там. Она в человеческих душах…
Мы так увлеклись обсуждением этого явления, что на выезде из села чуть не миновали школу. Но разве возможно такое? В ней мы учились — и старший брат, и сестра Лена, и я. В самом этом потемневшем от времени строении чудится что-то родственное, почти живое. И вот мы ходим вокруг нее, поглаживаем теплые от летнего солнца стены, поднимаемся на высокое крыльцо. Школа сейчас пуста. Из распахнутых огромных окон доносит свежей масляной краской. Свежевыкрашенные парты стоят и во дворе.
Жалеем, что не догадались прихватить с собой и сестру. Ее после школы где только ни носило, а сюда так и не выбралась ни разу. В следующий поход «за грибами» непременно возьмем с собой и ее.
На этом мы расстаемся со школой и направляемся дальше.
— Смотри, а пруда-то не стало! А ведь такой долгий был.
— Размыло, говорят, весной. А теперь разве восстановишь?
— А почему бы и нет? Сейчас такие водохранилища сооружают — целые моря!
— Вот с морями разберутся, глядишь, и о нас вспомнят.
На пути к месту нашей бывшей Цветной Долины лежат несколько лощин и глубокий овраг с неутомимой Кызылкой на дне. Лощины еле приметная дорога обегает по верхам, а вот через овраг да Кызылку на нашем «Москвиче» можно и не перебраться.
Говорю об этом Эдику. А тот смеется:
— А мы там и не поедем. Через Зайпекуль — там мост есть.
На краю одной из лощинок выходим из машины. Здесь же всегда выпасы были, может, на шампиньоны набредем?
Шампиньоны и вправду попадаются. Мы бережно складываем их в корзину Галины и, покуривая, прогуливаемся по густой траве.
Отсюда, с довольно высокого места, далеко видно вокруг. Четко и красиво делят поля мощно выросшие полезащитные лесные насаждения. Это — по-научному.
А по-простому, народному — лесополосы. Не будь их, эта земля смотрелась бы совсем по-другому.
А нашей деревушки как не было, так и нет. Никто не вернулся к родным пепелищам и отеческим гробам. Отсюда, сверху, видны только поля, ложбинки, зеленый островок кладбища и все та же строгая геометрия лесополос.
— А помнишь, что мы сажали тут, вдоль оврагов и лощин? — спрашивает вдруг брат.
— Помню. Кок-сагыз. Ох и глупые же были!
Я и в самом деле хорошо помню ту весну. Заканчивая начальную школу, мы как раз ходили в Софиевку, где у нас принимали выпускные экзамены. Экзамены — экзаменами, а жизнь — жизнью. По пути туда и обратно мы видели какой-то необычный трактор, который не только вспахивал крепкую целинную землю, но заодно и сажал в нее какие-то прутики. Следом за ним продвигалась толпа женщин с мотыгами. Они пытались разрыхлить после плугов черные, с блеском, пласты и поправляли неудачно посаженные кустики.
— Что это? — спрашиваем.
— Не могу сказать, — смеется наша школьная техничка, как и все, мобилизованная на этот трудовой фронт. — Не выговорю. Спросите вон того агронома.
Агроном и рад бы рассказать, да знает об этом деле тоже не много.
— Собрали в районе, дали указание от самого товарища Сталина. Какое? Не видите, что ли? Начать широкое выращивание каучука. Фу ты, господи, кок-сагыза. А уж из него будут делать каучук.
— А что такое каучук? Для чего?
— О, ребятки, каучук — это же чудо! Про калоши слышали? Даже видели? Ну, значит, повезло. Вот из того каучука, который будут добывать из того кок-сагыза, станут делать резину…
— Что такое резина, мы уже знаем. Без нее рогатки не сделаешь.
— А из резины как раз и льют эти самые калоши. Больше того — непромокаемые вечные сапоги, плащи и, может, еще чего для нашего брата крестьянина.
— Только-то?
— Какое, ребятки! А обувку для тракторов, машин, самолетов? Почему их пока мало? Потому что обувки на них нет, каучук пока за огромные деньги приходится покупать за рубежами. А вот когда станет много своего, вот тогда уж развернемся. Такая, говорят, жизнь сделается, — умирать не захочется.
— А нам и сейчас не хочется, — дурачимся мы. А в душе уже гордимся: вот какое большое дело нам доверили!
— И много его насадят, дяденька?
— Много, на всю страну. Хоть он, стервец, и южный.
— Значит, поливать много придется, а в наших оврагах летом воды — кот наплакал.
— Зачем поливать? Он же засухоустойчивый, в пустынях растет. А у нас все-таки не пустыня.
— Зимой, когда снег и мороз, не лучше пустыни…
— Ничего, обвыкнет. Не будем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача!..
Не взяли. Не обвык южный кок-сагыз на снежных равнинах России. Пришлось создавать синтетический каучук с помощью «большой химии». Например, в Стерлитамаке, на заводе СК, где работает мой старший брат.
Всю оставшуюся дорогу до нашей бывшей усадьбы я продолжал думать об этом злосчастном кок-сагызе. Очередная иллюзия! А сколько было их, таких манящих и завлекательных, в нашей жизни! Вот восстановим страну после войны, за счет деревни, конечно, а потом всем миром поклонимся ей в пояс за ее великий подвиг. Избавимся от бесперспективных деревень, переселим всех в прекрасные агрогородки, — города завидовать станут. Осуществим перестройку и заживем по-людски при социализме с человеческим лицом, с новым мышлением и плюрализмом. Введем рынок, который сам все расставит по своим местам… Откажемся от сильной армии — и весь мир станет нам другом…
И что в итоге? Деревне за ее подвиг до сих пор так и не поклонились. Хваленых агрогородков так и не построили, а малые деревеньки угробили. После перестройки зажили еще хуже. Рынок, введенный за счет чудовищного разграбления страны, так расставил все по своим местам, что для нормальной жизни простому человеку вовсе места не осталось. Ну, а каким другом стал нам весь мир, хорошо известно тоже.
Иллюзии, иллюзии, миражи…
Однажды, чтобы как-то расшевелить своих товарищей по творческому цеху, я специально вынес на разнос цикл своих новых стихотворений, не очень злых, а скорее печальных. Был в их числе и мой «Кок-сагыз».
Разнос не состоялся. Очень уж глубоко сидела в людях, привыкших жить с оглядкой и страхом, боязнь всего и вся, переступить через которую они были не готовы. Поспорили — и это уже хорошо. Меня удивило другое: об эпопее выращивания собственного «каучука» даже деревенские мои ровесники уже не помнили. А слово «кок-сагыз» им ничего не говорило.
Вот какой мы легковерный и беспамятный народ. Не из-за этого ли так легко помыкает нами любой «человек с ружьем» или барин из Кремля? А миражи, химеры, все новые и новые иллюзии множатся и множатся. И ничему нас не учат. И, похоже, не научат никогда…
За обедом (все на том же месте, где стоял наш дом) брат вспомнил одну старую, смешную для него историю.
В то лето наше деревенское стадо пас один наш же, местный, парень. Деловой, голосистый, кулаки с добрую гирю, через плечо длинный, пеньковый, пропитанный машинным маслом кнут.
Всем был пастух хорош, но вечером, намолчавшись за день со скотиной, любил поговорить, пофантазировать. Чаще всего о том, как и в этот день он отбивался от волков. Мужественно, даже геройски, с большими потерями для них. Правда, ни одной шкурой похвастать пока не мог.
Вот и решили друзья сделать ему сюрприз — выпустить специальную стенгазету и к его приходу прикрепить на дверь школы, на крыльце которой за неимением клуба они часто собирались.
Но что поместить в той газете? Нужно что-то очень необычное, не злое, но обязательно смешное.
И тогда брат дал мне секретное поручение — написать это «что-то», и чтобы непременно в стихах, может быть, даже на мотив какой-нибудь известной песни. Не помню, писал ли я стихи в четвертом классе, но если бы не писал, мне бы такого дела не поручили.
Короче, я написал нечто длинное и, возможно, смешное, подростки переписали его печатными буквами на обороте где-то раздобытого куска обоев, а вечером, улизнув из дому, я стал свидетелем такой картины.
Возле школьной двери, запертой на лето, уже собралась кучка подростков и девчат. На двери весь светится большой белый лист. На нем кое-где разбросаны рисунки, а между ними — столбиками — стихи. Все кого-то ждут. Я знаю — кого. И вот, раздвигая крепкими плечами собравшихся, подходит он, наш герой. Кто-то начинает на распев читать. После каждого куплета — хохот. Чем дальше, тем громче. Что же теперь будет?
В смятении я тоже проталкиваюсь вперед и останавливаюсь рядом с чтецом, высоким, тонким и рыжим, как первый весенний одуванчик, подростком. Голос его, еще мальчишеский, звенит и как-то необычно дрожит. Я догадываюсь отчего он дрожит. От этого дрожания я и сам начинаю мелко дрожать, как на морозе.
Герой наш долго всматривался в написанное, желая, видимо, по почерку узнать автора. Но на то и писалось печатными буквами, чтобы не узнать. И тогда он берет нашего чтеца за шиворот, легко поднимает его одной рукой и грозно, прямо-таки по-царски вопрошает:
— Как ты, рыжий щенок, посмел про меня такое намарать? Да я тебя…
Тут пошли не очень печатные слова, от которых меня затрясло еще больше. В душе мне страсть как хотелось сказать, что это я, я намарал эти вирши и что сосед мой ни в чем не виноват, но язык от ужаса не двигался и голос у меня совсем пропал. Уж очень разными были у нас весовые категории. И силовые, естественно, тоже…
Мальчишку отбили, пастуха успокоили, стенгазету сложили ему на память, а я убежал домой в слезах. От стыда. От злости на самого себя, от своей робости и слабости. От пережитого унижения и страха.
Так и осталась на всю жизнь в моей памяти эта вечерняя история. Для кого-то веселая, а для меня — горький, незабываемый урок. Наверное, еще тогда своим маленьким сердечком я понял: за все, что сделал, ты в ответе сам. Как бы ни было страшно. И за хорошее, и за плохое.
Брату — что, он рассказывает и беззаботно посмеивается. Знал бы, что происходит в это время со мной!..
Под занавес он приготовил мне очередной сюрприз.
— Поедем, — сказал, — на Кызылку. Там, говорят, сейчас крупная рыба водится. Не те пескарики и вьюнки, которых мы с тобой ловили и жарили. Ох, совсем не те!
— И чем мы их будем ловить? — нехотя поднялся я. — Или тоже — как грибы, косой?
Брат смеется.
— Там посмотрим. Но удочки у нас есть.
— Значит, на Бучало?
— На большое Бучало…
Но Бучала мы не обнаружили. И Кызылки — тоже. Вместо нее, скромной полевой речушки, перед нами колыхалось солидное водохранилище. После обеда откуда-то с севера набежал довольно сильный ветер, и по нему задвигались, заплескались совсем настоящие волны. Ну, не чудо ли?
Огромнейший овраг был полон до краев. Это ж какая тут глубина! Где теперь наш веселый водопад, постоянно кипящий и клокочущий омут, в котором нельзя утонуть? Где огненно-алые изломы Красного Яра, в который заглянуть было страшно? Где обильные ягодники вдоль оврага, камышиные дебри у впадения в Кызылку Костоюковского оврага? Всего этого бесконечно жалко, его уже не вернешь. Но и новое, возникшее взамен утраченному, тоже прекрасно. Так что же делать: радоваться или плакать?
Я одновременно и плакал, и радовался.
— Жаль, при таком волнении воды не порыбачишь. Не то бы… Тут, говорят, такая щука живет, что всем крючки оборвала и никому не дается. В другой раз попробуем и мы…
Простившись с могилой матери, грустные и молчаливые, мы направились домой, в Стерлитамак. Какое-то двойственное чувство владело нами. Чуяло ли сердце, что других таких славных поездок у нас больше не будет? Возможно. Я еще пару раз побываю в этих краях, но вот так, вместе, снова приехать сюда больше не удастся.
Между Первой и Второй лощинами мы, не сговариваясь, решили «оглянуться». Вышли из машины, обернулись, еще раз оглядели родные места и так же молча неторопливо прошлись по просторному лугу.
Это место между Первой и Второй лощинами у нас всегда было особенным. Этой земли никогда не касался крестьянский плуг. Тут был своего рода никем не объявленный, но свято оберегаемый заповедник древней степи. Было время, когда последний клочок земли, даже выпасы, были пущены под пашню, но этот уголок миякинцы сохранили. Придет время — и он будет считаться эталоном, первозданным осколком того, что мы потеряли. Не знаю, кого благодарить. Есть ли где еще такой нетронутый уголок?
Я шел, внимательно глядя себе под ноги, и удивлялся. Сколько разных растений уместилось на каждом квадратном метре! Тут и царственный ковыль, и легендарный полынок, и островки кострицы, и неприметная богородская травка, и целые куртинки анютиных глазок, и зверобой, и сухая степная гвоздичка, и душица… Всего не перечислить. Да и не знаю я названий всех этих трав.
Иду, удивляюсь и вдруг вспоминаю то ли предание, то ли давнюю быль. В ней рассказывается о том, что когда-то, теперь уже очень давно, приехал в башкирские степи лечить больные легкие один английский лорд. Слава о кумысе дошла и до его земли, и врачи посоветовали ему попытать счастье, ведь сами они помочь ему уже не могли.
Послушался лорд, приехал в Россию, нашел Башкирию и целое лето пил исцеляющий напиток степей. Кумыс ему помог. И тогда он решил купить табун кумысных кобылиц и перевезти в свое английское поместье. Купил, перевез, заимел собственный кумыс — да не тот. Нет в нем его природного вкуса, его целительной силы. Написал он об этом знакомому старшине, у которого табун купил, и попросил отправить к нему опытного кумысодела, чтобы на месте разобрался, что, как и почему! Съездил к нему запрошенный мастер и видит: пасутся башкирские лошадки на прекрасных сеяных лугах, сами гладкие, ухоженные, а на пастбищах ни одной тебе соринки, все одного вида посеянная трава. Чтобы долго не объяснять лорду причину неудачи, он нарвал на этих лугах пучок здешней травы, достал из своей дорожной сумки пучок привезенной с родины и протянул хозяину. Тот вгляделся, понюхал и все понял. Может, как раз в этом месте и собрал наш земляк эту траву…
…Чем быстрее приближался я к своему дому, тем ощутимее возвращались ко мне все мои тревоги. О город, кипящий котел всех нынешних противоречий, противоборств, надежд и потерь! День наедине с природой, вдали от тебя, как праздник. Но жить-то — здесь. Изо дня в день, сколько Бог даст. Как? Где взять силы? Ради чего?
Молчит, не отвечает город.
Похоже, он и сам не знает. Ждет, что ответим ему мы.
А что мы можем? Ведь все мы и есть тот самый кипящий, клокочущий, готовый взорваться котел.
13
Позвонили из библиотеки, с которой в добрые старые времена у меня были теплые дружеские отношения.
— Живы? Мы слышали — у вас беда?
— Жив. А вы сами? У вас ведь тоже свои беды.
— Выживаем. И хотим вас видеть. У наших молодых читателей накопилось к вам очень много вопросов.
— У вас еще есть читатели?! Поздравляю!..
— Стараемся… Ну так как? Сможете?
— Давайте созвонимся через недельку…
Мы созванивались много раз, назначали даты, часы, но все как-то не получалось. То читателей отвлекали какие-то срочные дела, то библиотеку заливало, то у меня самого возникали проблемы.
Откровенно говоря, я и не очень-то стремился на эту встречу. Отвык. После воцарения в стране новых порядков писатели и читатели как-то вдруг разминулись. С одной стороны, читателей оторвали от книг и заставили «выживать», с другой — писателям перекрыли кислород: даже таким известным, общепризнанным лидерам российской литературы, чье слово до этого ловили, как говорится, прямо изо рта. А что уж говорить о литераторах региональных, не избалованных ни властями, ни читателями! Их как бы не стало совсем.
И вообще литературы тоже как бы не стало. Но печатные машины крутились, магазины новых книготорговцев заваливались блестящей книжной массой, случайно забредшие в них любители балдели от восторга: ах, вестерны, детективы, мистика, эзотерика, 100 самых великих…, 100 самых кровавых… Фантастика!
Первые уже не могли пробиться к своим читателям, вторые, попробовав «книжной попсы» и приняв ее за действительно «новую литературу», в основном своем числе не восприняли ее и в итоге отвернулись от литературы вообще. Читатели так называемого авангарда и «глотатели газет» тут не в счет.
Но ведь соловей не перестает петь даже когда нет слушателей, а погода омерзительна. Поэт не может не писать стихов, даже если не с кем ими поделиться. Прозаик, чья работа над романами и повестями занимает годы, умеет писать и «в стол».
Иные распродавали свои «социалистические накопления», несли деньги в типографии и те откатывали их книжки тиражом аж в 100, 200 и даже 250 экземпляров. Ясно, что ни в какие библиотеки и магазины они не попадали, авторы распространяли их в узком кругу своих друзей и знакомых. Кстати сказать, среди писателей таких энтузиастов было очень немного.
Глядя на них и осознав, что теперь «все дозволено», в «самиздат» ринулась масса графоманов, окололитературных ремесленников, вдруг (а чем я хуже?) начавших сочинять ветеранов, инвалидов, душевнобольных. Для них тут же находились меценаты и спонсоры. Откуда только деньги брались!
Этот бум был, конечно, не таким обвальным, но еще более художественно убогим, безвкусным, бесплодным. Испробовав и этой «литературы», читатель, наверное, окончательно зарекся что-либо читать.
Но и под грудами пепла сохранились кое-где живые угольки. Многие, даже весьма одаренные, не нашли в себе сил устоять перед этим шквалом банальности и пошлости, сложили свои «золотые перья». Но те, кто сберег свой живой уголек, работал. Неспешно, ответственно. На будущее. И порой получал поддержку.
У нас в Башкирии во властных структурах нашлись понимающие люди и сумели сохранить государственное книжное издательство, каких в сегодняшней России единицы. Оно опять стало дотационным. Более того, при государственной поддержке открылись новые некоммерческие литературно-публицистические журналы на русском, башкирском и татарском языках. Так начинает появляться выбор. Так, неуверенно, понемногу, возвращается к книге наш друг читатель. Мы очень рады и благодарны ему за верность. Надеюсь, и сам он находит для себя поддержку в том, что мы выносим на его суд.
А вот что касается молодого читателя, то существует ли он? Бесспорно, нового читающего поколения нет и оно, к сожалению, не предвидится, но серьезные, вдумчивые, читающие молодые люди, к нашей радости, есть. Наверное, их не так уж и много, и интересы их, возможно, еще не совсем сложились, однако их живое присутствие на беспокойном молодежном поле вполне ощутимо. Есть среди них и читающие, и пишущие. Журнал «Вельские просторы» даже учредил для молодых свою литературную премию «Надежда». И она из года в год находит своих лауреатов.
Но кто они, молодые начала XXI века? Чего они ждут, чего хотят от литературы? Как и о чем с ними говорить?
Не зная ответов на эти вопросы, идти на встречу с ними было рискованно. Но ведь у них тоже есть вопросы, рассуждал я. Наверное, к кому-то с ними уже обращались и, возможно, не нашли понимания. И вот обращаются к писателю, и этим надо дорожить. Причем к писателю традиционно русского направления, что для меня ценно вдвойне.
И вот, наконец, я еду. Трамвай громко стучит на стыках, мотается на поворотах, так хрустит и дергается на перекрестках, словно ему ломают позвонки. Сидеть негде, все места заняты, да и сидеть мне в моем металлическом корсете нежелательно, и я стою. Стою, широко расставив ноги и намертво вцепившись в поручни. По принципу мачты и растяжек. По крайней мере, не упаду.
После того страшного дорожно-транспортного происшествия, когда бешено мчавшаяся иномарка нетрезвого водителя, как снаряд, ворвалась на автобусную остановку и смела всех, кто там находился, прошел почти год. Семерых погибших уже не раз оплакали, искалеченные стали привыкать к своим костылям и протезам, мои кости срослись тоже, хотя позвоночник еще требовал осторожности и терпения.
И я терпел. И вот ехал. Слава богу, вскоре предстояло перейти из громыхающего трамвая в автобус, что я и сделал, мысленно пожурив новенький «НефA3» за его высокий порог. Устроившись более комфортабельно и, главное, надежно, стал думать о предстоящей встрече в библиотеке. Всякие мысли, вплоть до панических, овладевали мной, когда я живо представлял себе глядящие на меня из зала глаза. Взгляды — скептические, насмешливые, равнодушные… А вот у двух девочек в больших очках — вполне доверительные, ждущие, уважительные.
Почему у двух и таких похожих, проморгавшись, спросил себя. Наверное, сестры-близнецы. Или таких там не будет? Просто привиделось такое, разве я виноват?
Когда в тесноватом вестибюле библиотеки после небольшого вступительного слова меня попросили занять место «беседчика», я совершенно не знал, о чем говорить. Зато теперь всего на расстоянии вытянутой руки видел те лица и глаза, которые рисовались мне в дороге. И взгляды те же — скептические, равнодушные, заинтересованные, ждущие. Даже таких же двух сестер-близнецов в больших очках увидел. Господи, а эти откуда тут? Проморгался, надел очки — они. Сидят рядышком, а глаза строгие-строгие, словно судить пришли.
— Мне сказали, что у вас возникли ко мне вопросы, — с трудом заговорил я. — Это интересно, и я постараюсь ответить, если они не по математике, физике, химии, в которых я ничего не смыслю…
— А если по космосу? — дурашливо вскинулся один, видимо, из скептиков.
— По космосу можно. Он все-таки попроще, чем сегодняшний человек. В сегодняшней России…
На скептика дружно зашикали и так же дружно зашептались. Только сестры-близнецы сидели по-прежнему строго, почти не мигая за своими большими очками.
— Ну, пока вы формулируете свои вопросы, я рас скажу вам сказку. Абхазскую. Я ее очень люблю…
И куда это меня вдруг понесло? — удивился я сам себе. Это же старшеклассники, какие тут сказки!
— Про Курочку Рябу? — послышался все тот же теперь уже откровенно насмешливый голос.
— Нет, немного посложнее. Вот послушайте…
И я стал рассказывать.
Знающие люди говорят, что и сейчас еще на самом берегу моря стоит древний, заметно осевший в песок, почерневший от времени дом, мимо которого проходит редко посещаемая дорога. На пороге этого дома в любой день можно увидеть женщину, которая то ли отдыхает от своих трудов, то ли дремлет, то ли смотрит на дорогу и кого-то ждет.
Она очень стара. Ни она сама, ни окрестные жители уже не помнят, сколько ей лет. Говорят — много, а это на Кавказе значит больше ста лет. Иногда много-много больше.
Услышали о ней большие медицинские светила и решили узнать секреты ее долголетия. Приехали, стали выпытывать, а она, простая душа, и говорит:
— Некогда мне, уважаемые, умирать. Вот сын вернется, я полюбуюсь им и тогда уж умру.
Оказывается, и она когда-то была молодой, статной, красивой. И дом, в котором она жила у моря, был новый, светлый, построенный для счастья. И был у нее сынишка — веселый, любознательный, подвижный. Очень они любили друг друга.
Но как-то раз в один ласковый солнечный день к их дому с гор прилетела большая красивая бабочка. Мальчик побежал следом за нею, чтобы поймать и показать матери. Однако бабочка легко уворачивалась от него и вскоре опять свернула в свои горы. Мальчик — за ней. Все дальше и дальше, все выше и выше. Наконец бабочка порхнула над пропастью, а он полетел вниз.
Очнувшись, он увидел вокруг себя лишь мрачные каменные стены глубокого горного провала и высоко-высоко над собой крохотную капельку голубого неба.
И тут мальчику очень захотелось домой, к маме. Но выбраться отсюда было невозможно, и тогда он начал проламывать себе дорогу через камень к морю. Крепок был камень, очень крепок, но и крепость камня оказалась слабее силы его любви к матери. И он работал, ломал, раздвигал горы. Работал день, год, многие-многие годы, пока совсем не потерял счет времени и пройденному пути.
Наконец, однажды он сдвинул последний камень и увидел за ним свет. Вышел из своего тоннеля и оказался на берегу моря. Неподалеку, заметно осев в песок, стоял дом — старый, почерневший от времени, чужой. В памяти его остался совсем другой дом его детства — новый, родной, полный света и счастья.
Не узнал!
На пороге дома он увидел женщину. Старую, дряхлую, чужую. Она то ли отдыхала после своих трудов, то ли дремала, то ли глядела на дорогу и кого-то ждала.
Не узнал и ее!
А женщина встрепенулась на звук его шагов, открыла глаза и, увидев незнакомого дряхлого старца с белой бородой до пояса, закрыла опять. И он прошел мимо.
Не узнали мать и сын друг друга. Целую жизнь ждали встречи, пережили множество невзгод, а встретились — не узнали.
Дом их и сейчас все еще стоит на берегу моря. Женщина и сейчас все еще смотрит на дорогу. И никто не ведет счета ее годам…
Когда сказка кончилась, я не то чтобы спросил, а скорее просто вздохнул:
— Вот и сегодняшний писатель, ища встречу с душой своих современников, проламывает к ней свои невидимые тоннели. Но узнаем ли друг друга, когда встретимся? Не разойдемся ли чужими?
…Домой я добирался тем же путем, только возле одного небольшого сквера с фонтаном вышел передохнуть. Фонтан из-за слабого напора воды еле плескался в своей полупустой чаше. Разморенные теплом, что-то чуть слышно лепетали склоненные над скамьей клены. У самых ног, совсем не боясь человека, сновали воробьи.
Я сидел, слушал лепет воды и листьев, наблюдал за птицами и вспоминал прошедшую встречу. Все оказалось не так страшно, как мне рисовалось. Абхазская сказка словно сломала каменную стенку между нами. Нормальные ребята задавали вполне нормальные вопросы. Я отвечал. К месту оказалось вспомнить «Притчу о трех братьях» Мустая Карима и поучительную историю своего первого стихотворения о пастухе-фантазере. О близких мне литераторах, о новом журнале — даже чересчур увлекаясь. Коснулись, кажется, всего, что интересовало молодых, и я был приятно удивлен и обрадован тем, как это немало. Читают, читают и в наше время некоторые молодые пытливые ребята! И не просто читают, но и думают — наперекор всяким завозным вестернам, безродным фэнтэзи и пресловутой «свободной любви».
Уже поднимаясь, я поднял глаза и увидел перед собой двух удивительно похожих девочек в больших одинаковых очках. «Господи, а эти тут как!..»
— Извините, мы вас немножко проводили. Хотели спросить, а что вам лично больше всего дорого в литературе?
— То, что она существует.
— А что больше всего любите?
— Собирать грибы…
Мы снова уселись и опять говорили, говорили. И совсем не важно, что у меня были всего две слушательницы, ведь для жизни и будущего бесценен каждый хороший человек. А чтобы он состоялся, нужно прежде всего заметить его, помочь ему обрести достоинство и силу, не пожалеть для него лучшего, что есть в тебе самом.
Мы говорили о самых разных разностях, а вокруг шумел, рос, в трудах и исканиях обретал самого себя большой и дорогой моему сердцу город. Уфа — тоже моя родина. Здесь для чуткой памяти и неравнодушного глаза тоже есть свои первые тропинки, родники, радуги и горизонты. Свои обретения и потери, свои иллюзии и свое прозрение. Своя Земная Ось, вокруг которой вращается вся твоя жизнь и жизнь твоего народа.
Примечания
1
Поприще — расстояние в 2/3 километра.
(обратно)2
Фрагменты из этих древних текстов, получивших название «Влесовой книги», приводятся на современном языке в переводе, выполненном Н. В. Слатиным, на взгляд автора, наиболее профессиональном (Влесова книга. М. — Омск, 2003).
(обратно)3
Тьма — это десять тысяч. Две тьмы — двадцать тысяч.
(обратно)4
Ра — древнее название Волги.
(обратно)5
Ириане — вероятно, алане.
(обратно)6
Орий, Орей — то же, что и Арий.
(обратно)7
Стрибы — боги ветров.
(обратно)8
Бореи — северные ветры.
(обратно)9
Лаба — древнее славянское название реки Эльбы.
(обратно)10
Сканза — так славяне называли Скандинавию.
(обратно)11
Травич — месяц май по нынешнему календарю.
(обратно)12
Житнич, венич — июль, август по нынешнему календарю.
(обратно)13
Корчев — ныне город Керчь в Крыму.
(обратно)14
Семиречье — земля легендарного исхода славян в степи между современной рекой Волгой и Карпатами. В нынешнем восточном Казахстане.
(обратно)15
Сенич — по современному календарю месяц июнь.
(обратно)16
Фарсийское море — так называли Каспийское море.
(обратно)17
Баснь — сказка.
(обратно)18
Птица Матерь Всех, Матерь Всех Слава (Всеслава) — мифическое существо в образе птицы (Сурьи? Даждьбога?), вдохновляющее русов на борьбу.
(обратно)19
Славный — здесь: славянин.
(обратно)20
Обапол — с обеих сторон.
(обратно)21
Посолонь — по ходу солнца.
(обратно)22
Ряд — договор, соглашение.
(обратно)23
Мизгирь — паук.
(обратно)24
Хети — по-современному хетты.
(обратно)25
Существует поныне на территории Словении.
(обратно)26
Река Лаба (Эльба) была в то время границей между германским и славянским мирами.
(обратно)27
Так скромно наши историки именуют то, что у других европейцев считалось королевствами.
(обратно)28
Подробнее о балтийских славянах см.: Прозоров Л. Варяжская Русь. М, 2010.
(обратно)29
Земунь — значит Земная. Олицетворение родящей и кормящей земли, через которую произошли славяне. У собратьев их по ведической вере индусов до сих пор корова почитается священным животным.
(обратно)30
Германское море — ныне Северное море.
(обратно)31
Факты о нахождении «Влесовой книги» в России и за рубежом почерпнуты из публикаций А. Асова, С. Ляшевского, Н. Слатина и других ее исследователей и популяризаторов.
(обратно)32
Именно нарядника, правителя, а не «порядка», как было неверно переведено иными поздними летописцами и тысячи раз повторено потом в качестве забавного анекдота.
(обратно)33
Зернич, овсенич — сентябрь и октябрь по современному календарю
(обратно)34
Студич — месяц декабрь по современному календарю.
(обратно)35
Ледич, лютич, белояр — месяцы январь, февраль и март по современному календарю.
(обратно)36
Просич — месяц ноябрь по современному календарю.
(обратно)37
Татьба — разбой.
(обратно)38
Пря — суд.
(обратно)39
По-видимому, имеется в виду исход из Семиречья «за тысячу триста лет до Германареха».
(обратно)40
Царь Вавилона Набопаласар (Набуапалусур) (626–604 г. до н. э.).
(обратно)41
Гнесь — преступление, неправое дело.
(обратно)42
Скифы — дикари, варвары… Это точка зрения кичливых ромеев. Но не от скифов ли они сами переняли верховую езду на лошади, умение изготавливать сливочное масло, те же штаны, обувь и многое другое?
(обратно)43
Яма — царь подземного царства мертвых.
(обратно)44
Корчийница — кузница.
(обратно)45
Вспомним: с таким же недоверием и неприятием в свое время было встречено и «Слово о полку Игореве». А теперь это жемчужина русской культуры.
(обратно)46
Речь о знаменитой Аскольдовой могиле.
(обратно)47
Жаля и Карина — сестры Скорби, божества похоронного обряда.
(обратно)48
Комонебранец — конный воин (от слов комонь — конь и брань — битва, бой).
(обратно)49
Так, под строкой, написана вся «Влесова книга». Как и тексты санскрита, что также свидетельствует о древнем родстве индоариев и славян.
(обратно)50
Объем «Влесовой книги» в восемь раз превышает объем «Слова о полку Игореве».
(обратно)51
Прошу читателя извинить меня за столь обширную цитату. Наверное, в художественном контексте ее можно было бы изложить «своими словами». Но надо ли? Ведь это описание «Влесовой книги», сделанное последним видевшим ее и работавшим с ней.
(обратно)52
Существует версия, согласно которой в Брюсселе «Влесову книгу» из квартиры Ф. А. Изенбека изъяли спецслужбы гитлеровцев.
(обратно)53
Юнотка, унотка — девушка, то есть юная.
(обратно)54
Железо — имеется в виду оружие.
(обратно)55
Седава — так славяне называли Полярную звезду.
(обратно)56
Человечество в своей эволюции породило несколько типов человека. Началось с человека прямоходящего, его сменил человек разумный (хомо сапиенс), потом — человек потребляющий, человек советский (хомо советикус). Сегодня в условиях сплошных трагических катастроф и смутного будущего человечество все ощутимее нуждается в человеке веселом, ибо только оптимист имеет шанс выжить в эпоху природных, технических, социальных, военных и прочих катаклизмов.
Но вот вопрос: сумеет ли он использовать этот шанс? (Примечание автора)
(обратно)




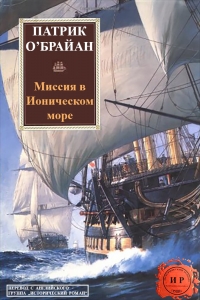
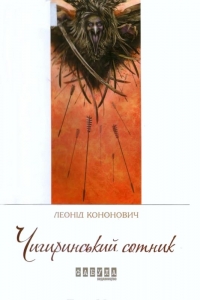
Комментарии к книге «И на земле и над землей», Роберт Васильевич Паль
Всего 0 комментариев